И. Н. Вирабов Андрей Вознесенский
СКОЛ ГЛАВЫ ШЕСТОЙ, случайно опередивший предисловие
— Вознесенский? Ну да, Андрюша был в меня влюблен. Вас это удивляет?
Марина Георгиевна, строгая учительница английского, уже в девяностых, в последние годы жизни, часто, секретничая с одной своей юной соседкой-ученицей, вспоминала выпускников 1951 года, тот самый десятый «Б», где учились и Вознесенский с Тарковским.
Глаза у Марины Георгиевны, надо заметить, были — сине-серые жемчужины. Неспроста тот самый класс прозвал ее любя — «красотка Маркарянц». Одноклассники, ставшие видными учеными, писателями и режиссерами, на удивление дружно вспоминали из всей своей 554-й московской школы именно ее — как свет в окошке. И ни для кого не было тайны: ближе всех к ней был школьник Андрей, который стал потом большим поэтом.
Странность только в том, что у самого Андрея Вознесенского нигде нет ни полслова про Марину Георгиевну. В конце пятидесятых появилось у него стихотворение про ученика и училку, которая сама в него — «по уши влюблена». Но при чем тут Марина Георгиевна? В стихотворении такие страсти — но там Елена Сергеевна, хотя и тоже «англичаночка»… Не скрыл ли Вознесенский тут «красотку Маркарянц»?
— Ну что вы, — твердо протестует сестра одноклассника, Марина Тарковская. — Их замечательная англичанка дружила с Вознесенским. Вернее, Андрей с ней дружил. Она знала и любила литературу, приносила стихи каких-то поэтов, не печатавшихся тогда, и как-то они очень сблизились. Но нет, какая романтика?! Когда Марина Георгиевна стала вести у них английский, ей было за тридцать, ему — четырнадцать-пятнадцать. Умная наставница и жаждущий открытий ученик — не более того. А Елена Сергеевна — лишь образ поэтический.
Вероятно, Марина Тарковская права. Но… поэты так непредсказуемы. Елена Сергеевна появляется и в мемуарной прозе Вознесенского, тут и там — совсем неожиданно. Пишет о битниках, вдруг пассаж про нее. Вспоминает учебу в Архитектурном — снова она. О Пастернаке говорит, а и тут Елена Сергеевна. Причем опять — вполне конкретная учительница английского. А других «англичанок» у них не было… И вот уже улыбается добрый школьный приятель поэта, Юрий Кочеврин:
— Ну какая Елена Сергеевна? Конечно, это Марина Георгиевна. Между прочим, Андрей Тарковский мне после школы рассказал однажды…
Тут может вылезти, как из поэмы Вознесенского «Авось», какой-нибудь неведомый Чин Икс: хи-хикс. Но что нам эти пошлые чины? К замечательной Марине Георгиевне и к тому, о чем могли шептаться одноклассники, мы еще вернемся.
Пока же стоит вспомнить Уильяма Вордсворта, на которого, бывало, ссылался Андрей Андреевич: про то, что родина поэтов — в их детстве. Оттуда все переплетения нитей жизни, которая «и есть поэзия». Так оно или нет, но на пороге выпускных экзаменов в большое плавание по жизни случились два события, имевшие самые серьезные последствия. Его, вопреки разнице в возрасте, принял, как юного друга, сам Борис Леонидович Пастернак. И это совпало — о, детские тайны! — с его загадочной «первой любовью».
Пастернак и любовь — два этих слова, как вдох и выдох, будут жизненно важны Вознесенскому всегда, до последнего дня. Музы будут порхать на метлах Маргаритами, шаландышаландышаланды обернутся ландышами, лысый череп вождя окажется пасхальным яичком, небо над головой поэта расчиркают грозы…
Вот тут — подкованный читатель будет ждать уж рифмы «Озы». Потому что вся жизнь поэта кругометом сложится вокруг Озы.
Но пока что — подростку четырнадцать лет и вся жизнь впереди, как сплошная игра воображения… «Борька — Любку, Чубук — двух Мил, / а он учителку полюбил!»
ПРЕДИСЛОВИЕ
В воротничке я — как рассыльный в кругу кривляк. Но по ночам я — пес России о двух крылах. А. ВознесенскийДоживет ли Вознесенский до шестидесяти?
Мёл тополиный снег, на дворе 22 июня 1962 года, в голове теплынь и во рту сушняк. В Иностранной комиссии Союза писателей СССР усталые советские и чехословацкие поэты спорили о сущности новой поэзии, ворвавшейся в жизнь. Долго ли протянет стихотворчество на метафорических опытах?
Слуцкий гнул свое. Ян Скацел покашливал вежливо. Щипачев ногой качал. Вознесенский? Как всегда, опаздывал. Стенограмма совещания все зафиксировала.
— И все-таки, — подбодрил присутствующих Борис Слуцкий. — Я хочу уточнить свою точку зрения на метафору. По-моему, метафорическое мышление — это в значительной степени возрастное понятие… Перед вами сидит Степан Петрович Щипачев, первые две книги которого наполнены метафорами и который к сорока годам отказался от этого. И так же, как всякое старение, это и радость, и несчастье… Мне представляется шестидесятилетний Вознесенский, убеленный сединой и украшенный лысиной, который будет писать уже совсем не так, как он пишет. Хотя мне нравится, как он пишет…
Слуцкий осекся, заметив тяжелую мысль на челе добрейшего Степана Петровича: тот, кажется, уловил в словах коллеги подвох. Ян Скацел попытался сгладить неловкость, вышло немного неуклюже, но чеху как гостю простительно:
— Что касается меня, то я не знаю, как будет писать Вознесенский в шестьдесят лет. Вы не совсем правы, когда говорите, что метафоричность частично проходит с возрастом и приобретается строгость…
Все, впрочем, знали, что Степан Петрович, шестидесятитрехлетний мэтр, создавший и «Любовью дорожить умейте…», и «Как повяжешь галстук, береги его…», — никакой не ретроград. И всё же радостно вздохнули, услышав его пылкое признание:
— У нас есть много людей, которые приходят в ярость, когда заходит речь об этих поэтах или об отдельных стихах. Но ведь это не мода, это естественный процесс… Я допускаю мысль, что у Вознесенского через какие-то годы будет более ясная, стройная форма… Но и сегодня я испытываю удовлетворение, что стою в одних шеренгах с молодыми поэтами. Они по-своему оплодотворяют мое не такое уж молодое сердце!
Кажется, как раз на слове «оплодотворяют» влетел Вознесенский. И с ходу, выяснив, что к чему, взял свое штрафное слово:
— Вряд ли меня Слуцкий увидит в шестьдесят лет, потому что в Италии очень точный гадальщик предсказал мне только полтора года жизни. А сегодня я был в издательстве «Советская Россия» — там висит стенная газета, в которой есть раздел «Технические ляпы», то есть опечатки. Так вот, там сообщается о таком факте: в этом году вышла книга Анатолия Софронова, она посвящается «Светлой памяти Андрея Новикова». Но весь тираж книги был отпечатан со словами «Светлой памяти Андрея Вознесенского». А вы говорите — до шестидесяти… Что же касается метафоры — я думаю, это не свойство возраста, а свойство времени. Сейчас самый талантливый поэт — это сидящая здесь Светлана Евсеева. И Белла Ахмадулина. И тут уж дело не в метафорах — но наш Пегас оседлан амазонками…
Реплика литературного критика товарища Андрея Туркова: «Это плагиат, про то, что „лучшие мужчины — женщины“, уже сказал Евгений Евтушенко!»
Вознесенский, подмигнув Евсеевой, парирует весело: «Ну что же! Правильная мысль Евтушенко…»
Завершение дискуссии тонет в радостном советско-чешском возбуждении. По логике тут должен прозвучать тост: «Ну, за метафору!» Но стенограмма деликатно обрывается.
Вознесенскому было тогда двадцать девять, гадания римские, конечно же, не сбылись, прожил Андрей Андреевич до 77 лет. Писать, как Степан Щипачев, так и не научился. Не только как Щипачев. Он вообще умел — только как Вознесенский. К счастью.
Кто-то заметил однажды, глядя на него, трудно болевшего последний десяток лет жизни: он, мол, не был никогда нормальным взрослым человеком, все время жил мальчишкой — и сразу стал вдруг старичком. Но Вознесенский изменился внешне, голос потерял, рука повисла плетью, болезнь отняла все силы, — а свежесть чувств и языка, и мыслей оставалась никакой не стариковской. Как так?
Он и за семьдесят, вспоминая свою оглушившую когда-то многих метафору про «чайку — плавки бога», мог написать задорно и лихо — куда там юношам:
Как палец, парус вылез. И море — в бигуди. И чайки смелый вырез у неба на груди.Что для Хрущева страшнее всего?
Все маршруты биографии Вознесенского ведут в лабиринты языка. Все подробности его жизни — в его стихах. Он конструировал, как архитектор, и повороты-перекрестки своей жизни, и авангардное свое стихотворчество. Известно, что Валентин Катаев еще в ранних шестидесятых назвал его язык — «депо метафор». В этом футуристическом депо Земля — арбуз, и потому «болтается в авоське меридианов и широт». И «по лицу проносятся очи, как буксующий мотоцикл». И глаза — «безнадежные карие вишни».
Шестидесятые — сумасшедшие годы: маразм крепчал, мир открывался восторженно, вера в идеалы казалась отчаянно свежей. В воздухе шестидесятых было всего вперемешку. Лужники, Политехнический, крамольная Таганка — голова кругом. Лица поэтов, прежде казавшиеся только мраморными, стали мальчишечьими, девчоночьими, живыми! Как ворожил — махал руками, отмеряя перепады интонаций, Вознесенский. И нараспев тянула ноты Ахмадулина. И гипнотическим казался Евтушенко. И трепетали от Рождественского. И млели под Булата Окуджаву. И еще Аксенов, и еще… Их сразу стало много. Потом показалось, что мало, «может быть, четверо». Да и то каждый сам по себе.
Забавный факт. В Госархиве литературы и искусства сохранились записки одного из участников той самой знаменитой встречи главы государства Никиты Хрущева с интеллигенцией 7–8 марта 1963 года — композитора Кара Караева. Тот тихо наблюдал за происходящим, рисовал каракули, царапал себе конспектик, для личного пользования. Композитор, судя по записям, относился к Вознесенскому с явной симпатией, а к его хулителям — очень скептически. Когда же вышел на трибуну молодой поэт и над ним запрыгал мячиком сидевший позади в президиуме Хрущев, Кара Караев записал себе: «Начал, как дурак — „я не член партии“…» Ну то есть, зачем гусей дразнить, соблюдай ритуал — как все умные люди. Кара Караев был прав: в смысле притворства Вознесенский никогда «умником» не был.
После хрущевской истерики Вознесенского неожиданно увез к себе Владимир Солоухин. Земляк, владимирский. Дружеские отношения — при всей несхожести их взглядов на жизнь и на творчество — Вознесенский сохранил с ним до последних дней.
Хотя «патриоты» всегда косились на Вознесенского: западник.
Хотя «западники» всегда косились: патриот.
А он — какой он есть — исповедовался стихами.
Среди тех, кто оказался рядом «после Хрущева», конечно, была она, Оза. Чем дело кончится? А тем, что Озу, Зою Богуславскую, поэт уведет из семьи и, что бы вокруг ни случалось, прожить без нее не сможет сорок с лишним лет.
В архиве футуриста Алексея Крученых сохранится экземпляр поэмы «Оза» с пометками Зои. Например, к девятой части: «Это мне очень нравится». Про те строчки, где — «знаешь, Зоя, теперь без трепа…», «сквозь соломинку белокурую ты дыхание мне дарила…».
Отчего капиллярным сосудикам больно?
Времена «застойные» — это годы брежневского рэпа, рока БГ и «соболезнований несоблазненным». Главное открытие этих лет — не сверхпопулярные «Юнона и Авось», не «Миллион алых роз» Вознесенского. Куда важнее оказался постулат поэта о возникновении чувства на земле: «Человека создал соблазн». Соблазн был — жить безотчетно, не озираясь пугливо по сторонам.
В эти годы случится и ворожба щедринской «Поэтории» — на сцене в такт дышали грудь Вознесенского и грудь самой Людмилы Зыкиной. Хотя, казалось бы, куда поэту с его кондициями.
Шестидесятники оставались (и остаются) любимы «в народе». Что же касается новых поколений поэтов, из них никак не выходило больше никаких плеяд, ярлыки «семидесятников» и «восьмидесятников» не приживались — да и приклеить оказалось не к чему. Зато тогда же поползли и тихие упреки к «успешным» шестидесятникам — за «идеалы», за любое «сотрудничество с властью», за дачи в Переделкине, ну и просто так, «за всё». В девяностых разве что иски не предъявят… А между тем Вознесенский останется человеком, не подписавшим ни одного публичного письма, о котором и вспомнить стыдно. Зато старался помогать — кому надо и кому не надо.
Любовная лирика семидесятых — все пронзительнее, иногда она становится душераздирающе безысходной. «Как божественно жить, как нелепо! / С неба хлопья намокшие шли. / Они были темнее, чем небо, / и светлели на фоне земли…» Загадочно, но вот что: самые откровенные строки у него вдруг наливаются гражданственностью, самая гражданственная лирика — превращается в страшно интимную. И в конечном счете всегда — без лукавства — остается одна любовь и боль: «Россия, я — твой капиллярный сосудик, / мне больно когда — тебе больно, Россия». Хоть триста раз запишите его в космополиты, но это у Вознесенского — от первой строчки до последней.
Его поэзия конца XX — начала XXI столетия остается самой неоцененной. Еще точнее — самой непрочитанной. Он писал, несмотря на болезнь, едва ли не больше обычного. Поклонники оставались по-прежнему, но все сильнее было ощущение неуслышанности. Страной и временем, впавшими в кому. «Ржет вся страна, / потеряв всю страну. / Я ж — только голос…» Собственно время всего лишь оправдывало давнее «чутье» поэта — это еще из шестидесятых: «чую Кучума!», грядущее новое варварство.
Вот, скажем, когда-то приходила новость из Парижа: Андрея Вознесенского назвали самым ярким поэтом столетия. В обычном для новых времен сообщении тоже мелькнуло вдруг его имя. Только контекст другой: колумнистка парижской «Либерасьон» Марсела Якуб вступила в связь с бывшим главой Международного валютного фонда Д. Стросс-Каном, тут же настрочила книжку «Красавица и чудовище», — не забыв известить его, что только ради этого и была вся «любовь». Сообщивший эту новость корреспондент оказался поклонником поэта, вот и застыл он, озадаченный циничной Марселой: как это у А. Вознесенского? — «Но есть порнография духа».
* * *
То в Вознесенском осуждали «формализм» антисоветский, а то, наоборот, вдруг приклеили ярлык «советский». Ему любят припоминать поэму «Лонжюмо». Знаменитая либералка Валерия Новодворская, почитая поэта, находила главным его грехом то, что поэма о Ленине прекрасна: ну что мешало — плохо написать?
Вознесенский, к чести поэта, не раз повторял: не отрекусь ни от одной своей строки. Даже если заблуждался — каждая была искренней, и честной. «Не буду зачеркивать бо́льшую часть своей жизни. Я при советской власти не каялся, когда у меня находили антисоветчину, и за советчину каяться не намерен. Меня ни та ни другая цензура не устраивает. Видеть в русском XX веке один ад или одну утопию — занятие пошлое. Когда тебя спросят, что ты сделал, — ссылок на время не примут».
Добрый болгарский приятель Вознесенского, поэт Любомир Левчев вспоминал, как они встретились впервые в кабинете Юрия Любимова на Таганке:
«Андрей, подписывая мне программку „Антимиров“, ошибся. Вместо XX века, которым он датировал свои автографы, написал на моей: „век XXI“. Сегодня, много лет спустя, понимаю: он не ошибся. Андрей — поэт XXI века.
В следующий раз, в Софии, мы встретились уже как друзья. Был устроен его вечер в престижном зале „Болгария“. Андрею пришло в голову украсить сцену самолетным крылом. Не без труда мы нашли совершенно новое, блестевшее, как серебро — нет, блестевшее, как его поэзия, — крыло военного истребителя. И с тех пор всегда лик Андрея мне видится на фоне крыла…»
Вознесенского не стыдно называть великим поэтом: это не фигура речи. Уже и поколения сменились одно за другим, а нет, пожалуй, ни одного человека, даже самого далекого от поэзии, но знакомого с русской речью, — чтобы он не вспомнил хоть одну его строку. Хотя бы и эти, из ленкомовской «Юноны», — «Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду». Или про «миллион алых роз».
Книг его в далекие шестидесятые было недостать — но и полвека спустя они все так же не залеживаются на полках. Восьмитомный семитомник (к пятому тому был добавлен том 5+) — кто не успел, тот опоздал.
Поэту посвятят еще многие диссертации, ученые труды. И в этой книге, безусловно, остались белые пятна, выпавшие страницы и целые главы из жизни поэта. Хорошо, если читатель увидит в ней осторожную попытку приоткрыть дверцу. Разгадать тайны времени, ловушки и ребусы, погрузиться в мифологию поэта. Дело-то увлекательное само по себе — и останется таковым еще для многих вдумчивых поколений. Не останутся же будущим поколениям одни лишь обломки самоварварства, — на это надеялся и сам Вознесенский.
Мне все же верится, Россия справится. Есть просьба, Господи, еще одна — пусть на обломках самоварварства не пишут наши имена.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1933–1951 ТЕБЯ ПАСТЕРНАК К ТЕЛЕФОНУ!
Пять загадочных событий
9 июля 1933 года. «Умная девка-демократка всегда в высшей степени вульгарна и нагла. Беги, беги от девок-демократок! Единственно, что бывает у них хорошо, — это тело и здоровье». (Из записных книжек поэта-обэриута Д. Хармса, едва вернувшегося из ссылки, к которой был приговорен за «особую поэтическую форму „зауми“ как способ зашифровки антисоветской агитации» — а чтоб не умничал.)
Апрель 1937 года. «Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось». (М. Булгаков. Театральный роман.)
1947 год. Глухой уголок Пенсильвании. Учитель Колдуэлл «отвернулся, и в тот же миг лодыжку ему пронзила стрела. Класс разразился смехом…». «Над стеной в несокрушимом синем небе неумолчно звучало односложное „я“». (Д. Апдайк. Кентавр.)
3 декабря 1948 года. На обсуждении оперы С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» в Театре оперы и балета им. Кирова критик Леонид Арнольдович Энтелис вдруг страшно прокричал: «Вы труп, товарищ Прокофьев!» Тот, кого критик принял за композитора, оказался хористом, правда, таким же лысым.
22 мая 1949 года. Первый министр обороны США и министр военно-морского флота Джеймс Винсент Форрестол выбросился из окна 16-го этажа военно-морского госпиталя с криком «Русские идут!». По улице ехала красная пожарная машина.
Из словарика школьника Вознесенского
Фикса — самое модное золотое украшение отчаянных парней, которое стало кличкой дворового авторитета.
Формализм — самое страшное обвинение, которым пользуются, когда обвинить не за что, а очень хочется.
Жопонька — самое ласковое слово, которым убаюкивают младенцев в московском бомбоубежище.
Апельсин — самый желанный дефицитный цитрус, который ест в эвакуации обворожительная соседка Мурка.
Химчистка — самая модная в послевоенной Москве новинка, которой пользуются продвинутые пользователи.
Глава первая ТЫ МОЙ РЕБЕНОК, МАМА
Активность солнца и родителей
В пятницу 12 мая 1933 года — XX век — с утра слегка припекло и окна разинули рты. Но пробежали тучки, воздух отсырел, от свежести стало прозрачно. В это самое время в роддоме, что в Лялином переулке Москвы, у Вознесенских, Андрея Николаевича и Антонины Сергеевны, родился второй ребенок. Дочке Наташе было уже три годика. Теперь у нее — брат.
А 77 лет спустя — уже в XXI веке — во вторник 1 июня 2010 года в своем домике по улице Павленко, в подмосковном поселке Переделкино, сын супругов Вознесенских скончается, прожив красивую и грешную жизнь поэта. Но тут не должно быть неясностей. Прежде чем уйти из жизни земной, сын инженера мостов и гидроэлектростанций, сам себе Архитекстор, честно предупредит: все дело не в обыденной смерти. Просто придет «пора возвращаться в Текст» — и он в него вернется.
Вышел из текста эпохи — и снова вошел.
Хотя в те майские дни тридцать третьего года супруги Вознесенские совсем — ну уж никак — подумать не могли, что в семье у них родился Архитекстор. Или Поэтарх. Или даже просто великий поэт. На их родительский любящий взгляд, малыш-губошлеп был, конечно, лучшим на свете — и все же конструктивно не отличался от многих других. Звуки-мумуки, не слепившиеся еще в слова, так же, как у всех остальных, слетали с губ малыша лепестками.
«Бобэоби пелись губы», — шептала над сыном Антонина Сергеевна и пожимала плечами: какие все-таки странные стихи у этого Велимира. Малыш морщил круглый лоб — такой неспокойный — и начинал горлопанить. Кулек с младенцем переплывал на руки бабе Мане, Марии Андреевне. Ежик, ежик, чудачок, сшил колючий пиджачок. Домовой свистит в свисток: побежали-ка, дружок, хоть на Запад, на Восток, хоть на Север, хоть на Юг — ежик должен сделать круг.
Ну чего, внучок, хулиганишь, что не так? Ну хорошо, пусть ежик бежит не по кругу, пусть по параболе.
Хотя нет, какие параболы, что он еще понимает? Мир вокруг младенца — облако неоформленных звуков и букв. До парабол-то ему еще расти и расти.
Справедливости ради надо признать: вопил, капризничал или тихо сопел не один новорожденный сынок Вознесенских. Как раз в ту пятилетку — возьмем условно с тридцать второго по тридцать седьмой — бесперебойно рождались едва ли не все будущие шестидесятники. Поэт Вознесенский объяснит стечение новорожденных обстоятельств: «Таланты рождаются плеядами». И сошлется на астрофизиков: не обошлось без «воздействия солнечной активности на биомассу». И на социологов: возможно, сказались и «общественные сдвиги». И на философов: это был сгусток «духовного ритма».
Солнце ли тому виной, революции или прочие ритмы, но как тут не сказать: да здравствуют родители будущих героев шестидесятничества, не терявшие зря ни дни, ни, что немаловажно, ночи!
Я памятник отцу, Андрею Николаевичу
Отец Вознесенского, Андрей Николаевич, носил шапку-пирожок, как у Пастернака. Конечно же это уже годы спустя. И поэт намеренно перемешает эти их шапки: «…нет, я спутал, это у отца была серая, а у него был черный каракуль». Цель этой путаницы одна — подчеркнуть степень важности обоих для поэта: ближе некуда.
А когда у Андрея Николаевича только-только родился сын, никаких пирожков он еще не носил. Ему было тридцать, за три года до того он получил диплом Ленинградского политеха. Антонине Сергеевне, матери поэта, было двадцать восемь, она уже «кончила два курса филфака и Брюсовские курсы». Было ли это благоразумным влиянием Антонины Сергеевны или не было, но к тому времени Андрей Николаевич явно забыл про свои юношеские метания и увлекся своей новой профессией, гидроэнергетикой.
Что за «юношеские метания», в двух словах напишет позже сын про отца:
«Мальчик „из хорошей семьи“, сын врача, внук священника, он, начитавшись романтических книжек, вступил в партию и шестнадцати лет во время Гражданской войны в течение полугода был секретарем райкома маленького городишки Киржача. Городок был тихий, никого не расстреливали. В партии были шесть мальчишек и двое взрослых. Но белые бы пришли — повесили. О таких школьниках писал Пастернак:
Те, что в партии, Смотрят орлами. Это в старших. А мы: Безнаказанно греку дерзим. Ставим парты к стене, На уроках играем в парламент И витаем в мечтах В нелегальном районе Грузин.Отец с юмором рассказывал, как они, школьники, на глазах у моргавшего учителя клали наган на парту».
Что тут скажешь — вечно с этими подростками беда. Судить их легко, не то что — пытаться понять. Они ведь впитывают все, что в воздухе носится, — часто наперекор семье. А в те годы в воздухе носилось всякое…
Очевидно, там, в Киржаче, родители Вознесенского и познакомились. Окончив школу и бросив игрушку-наган, Андрей Николаевич рванул вдруг в Питер учиться и с тех пор держался от политики подальше. «Дальше геологические изыскания. Проектирование гидростанций. Крупные гидростанции, „стройки коммунизма“, проектировала и строила организация НКВД во главе с генералом Жуком. Отцовский институт, штатский, проектировал станции поменьше. Но я помню, как мы ездили с ним в Грузию на Ингури-ГЭС. Помню, как отец опасался конкуренции могущественного Жука».
Ездил сын с отцом и на Куйбышевскую, и на Братскую ГЭС. Еще школьником. Щеголял «блатными» дворовыми словечками — за что выслушивал отцовские «морали». Хотя потом отец, надо сказать, серьезный начальник, профессор и доктор наук, никогда не попеняет сыну — за то, что пошел в поэты, за поэтические хулиганства, за высочайшие громы-молнии, на которые сын не раз нарвется. А ведь мог бы сын подумать — как это аукнется на отцовской пуританской госслужбе. Но что там — отец не попрекнул никогда. Казалось, что и проблем у него никаких — один лишь служебный рост. Но неспроста же сын напишет, когда похоронит отца, так зло, отчаянно, надрывно: «Юдоль его отмщу. / Счета его оплачиваю. / Врагов его казню. / Они с детьми своими / по тыще раз на дню / его повторят имя».
Двадцать послевоенных лет Андрей Николаевич возглавлял Гидроэнергопроект, в 1959 году стал замом председателя Совета по изучению производительных сил СССР. А 24 ноября 1967 года был образован Институт водных проблем РАН, первым директором которого стал отец Вознесенского.
Где тут, откуда было взяться сыну-поэту? Научные труды отца фундаментальны и звучат для поэтического уха ну почти что угрожающе: «Гидроэнергетические ресурсы мира и основные показатели оборудования зарубежных ГЭС». Или: «Топливно-энергетические ресурсы СССР». Или еще лаконичнее — «Гидроэнергетика СССР».
Он руководил серьезными работами по изучению перспектив использования важнейших рек страны, его награждали медалями и орденами: двумя — Ленина, двумя — Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета».
Но все это парадный послужной список — сын-то с детства запомнил совсем не то. Совсем не то было важнее и оставляло в памяти зарубки на всю жизнь. «С детства меня одинаково приворожили к себе мамины мусагетские томики стихов и стоящий рядом с ними синий отцовский технический справочник Хютте».
Цена за дореволюционное издание этого справочника для инженеров и механиков у букинистов в наши дни доходит, говорят, до 85 тысяч рублей. Факт, конечно, любопытный — но чем справочник мог приворожить будущего поэта? В 1936 году Хютте на русском был переиздан в шестнадцатый раз, и тут уж можно лишь гадать: какие фантазии могли родиться в голове у любознательного мальчика, открывавшего наугад раздел «Механика неупругих и упругих жидкостей»? Или — «Механика пластических деформаций»? А что за «Колебания упругих систем»? Или — «Силы давления между выпуклыми поверхностями»?
Сочетания пульсирующих слов и понятий оседали в том самом языковом багаже, который много лет спустя обернется у поэта целым «депо метафор».
Впрочем, у отца, проектировавшего гидросооружения, была еще и «внутренняя страсть — любовь к русской истории и искусству». Он собирал монографии о художниках, так что сын рос не только с Хютте в обнимку, но и с Врубелем, Рерихом, Серовым, Юоном. (И с Гойей, конечно, — но про это чуть позже.) «Он любил осенние сумерки Чехова, Чайковского, Левитана. Стройный, смуглый, шутливый, по-мужски сдержанный — отец таил под современной энергичностью ту застенчивую интеллигентность, которая складывалась в тиши российской провинции и в нынешнем ритме жизни почти утрачена».
В семидесятых годах Зоя Богуславская, невестка Андрея Николаевича, побывает у болгарской прорицательницы Ванги. Та вдруг скажет, что скоро кто-то заболеет тяжело в семье. Пройдет совсем немного времени — и станет известен страшный диагноз: у отца Вознесенского рак. Тогда сын напишет и покается «Отцу»: «Отец, мы видимся все реже-реже, / в годок — разок»; «Ты дал мне жизнь. / Теперь спасаешь Каспий, / как я бы заболел когда-нибудь». И потом еще не раз вспомнит, как был «преступно небрежен к нему».
В 1974 году отца не станет — и Вознесенский единственный раз в жизни обратится к верховному правителю «по личному вопросу»: «…написал Л. И. Брежневу письмо с просьбой похоронить отца на Новодевичьем. Без его разрешения это сделать было невозможно».
Тогда и строчки его стихов сложатся в литургическое: «Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу. / Я лоб его ношу и жребием своим / вмещаю ипостась, что не досталась кладбищу, — / Отец — Дух — Сын».
…А года не пройдет, как в 1975-м умрет бабушка, Мария Андреевна. Бабушка была поэту своей Ариной Родионовной, нет, ближе, потому что роднее. Ей было уже за девяносто.
Много лет Вознесенские отправляли детей на каникулы к ней с дедом в Киржач, у них жили какое-то время в начале войны — пока не эвакуировались в Зауралье. Дед запомнился внуку своими ульями — и как учил на речке корзины плести из лозы. После войны уже, когда не станет деда, Мария Андреевна переедет к дочке в Москву. Перебирая старые фотографии, Вознесенский напишет душещипательно просто: «Молодая Мария Андреевна / была статная — впрямь царевна. / А когда судьба поджимала, / губки ниточкой поджимала» (это из его «Дамы треф»).
Похороны бабушки он назовет «Похоронами цветов» — глаз резанет: «Крышкой прихлопнули, когда стали / заколачивать, / как книжную закладку, белый цветок». И уже за несколько лет до смерти своей — поэт вернется к тому же образу в книге «Возвратитесь в цветы».
В 1975-м Антонина Сергеевна, оставшаяся в квартире вот так сразу одна, ни мужа, ни матери, — у детей давно свое жилье, — переедет жить к дочери. Вознесенский опишет этот тяжелый «Обмен»: «Не до муз этим летом кромешным. / В доме — смерти, одна за другой. / Занимаюсь квартирообменом, / чтобы съехались мама с сестрой».
…Мать снимает пушинки от шали, и пушинки летят с пальтеца, чтоб дорогу по ним отыскали тени бабушки и отца.Антонина Сергеевна Вознесенская, урожденная Пастушихина, переживет мужа и мать на девять лет.
Интеллигентка в косынке Рабкрина
Мать Вознесенского родом из того самого Киржача Владимирской области. От нее у сына — что там Хютте с колебаниями упругих систем! — наследство иного рода: «Она привила мне вкус к Северянину, Ахматовой, Звягинцевой, Кузмину».
Или вот катаевский «Белеет парус одинокий»: «В серебристом переплете книга эта празднично и навеки, щемя неизвестностью, легла в день рождения на мою тумбочку, подаренная мамой — как и миллионам иных советских детств, и так же навеки в них осталась».
В поэзии сына Антонина Сергеевна будет присутствовать из года в год. Даже если стихи не специально о ней, диалог с ней, кажется, он никогда не прервет. Несмотря на все неимоверные фортели и коленкоры, которые он выпишет в своей поэтической жизни.
О матери, будто о своем отражении в зеркале, — «ее серые взоры», «лоб-одуванчик, полный любви». Хотя все же, чей у него лоб, в семье, очевидно, вопрос был спорный и до конца не решенный. Напишет же и про отца: «я лоб его ношу».
А мать у него всегда — «интеллигентка в косынке Рабкрина и ермоловская спина!».
Антонина Сергеевна, очевидно, старалась сына держать в какой-то строгости, — судя по всему, не очень ей это удавалось. «Наивно просила, / насмотревшись по телику: / „Чтоб тебя не убили, / сын, не езди в Америку“…» Какое там. Уже после Архитектурного института, в окололитературной мельнице пересудов, из воспоминаний сына донесутся опять отголоски материнских тревог и наставлений: «Мне рассказывали, что мой друг поэт мечтает, чтоб я вернулся в архитектуру. Этого же хотела бы моя мать, правда по иным причинам. Ей хочется для меня режима и уверенных потолков». Как бы не так — он будет строить жизнь по своему архитектурному плану.
Хотя любовь сыновняя останется непререкаемой, да он и разницы не будет видеть между матерью и Родиной, и тут не будет пафоса, лишь чистая любовь без примеси: «Любит Блока и Сирина, / режет рюмкой пельмени. / Есть другие России. / Но мне эта милее».
Получит свою квартиру на Котельнической набережной в 1965-м, вздохнет, прощаясь с родительским домом:
Матери сиротеют. Дети их покидают. Ты мой ребенок, мама, брошенный мой ребенок.У него всё в стихах. Даже серьезные семейные обсуждения мамы с дочерью — «оставить или не оставить?» — и те откликнутся в семьдесят втором году коротким восьмистишием «Говорит мама».
У сестры Натальи так и не появится детей, и это будет мучить ее всю жизнь. Она много лет будет заведовать отделением восстановительного лечения поликлиники № 3 ЦКБ РАН. Муж ее, Юрий Францевич Шульц, завкафедрой латыни Первого мединститута, скончается в 2006 году.
На сестре вечно, как и на многих дочках во многих семьях, будут заботы о родных, все будет не до себя: «Ради родителей, мужа, брата, etc, / Забыла сероглазые свои таланты / преступная моя сестра».
Вознесенский признается: «Жизнь мою опережает лунная любовь к сестре». Он уйдет из жизни раньше ее. Наташа на год переживет брата — будет тяжело болеть и скончается 6 апреля 2011-го.
Глава вторая ГОЙЯ, МУРКА, АПЕЛЬСИН
Имя как код судьбы
Сына назвали — Андрей. Почему родители выбрали ему имя отца? Про такие двойные имена-отчества существуют даже предрассудки, но родители Андрюши были от этого далеки. Можно сказать просто: наверное, очень любили друг друга и сына. Так бывает. Но имя, помимо того, что повторяло отцовское, вело еще и вглубь родословной, к загадочному прапрадеду Андрею Полисадову. «Эти святцы-поэмы / вслух слагала родня, / словно жемчуг семейный / завещав в имена».
Вышло, словом, Андрей Андреевич. Имя-отчество заводилось с дребезгом мотоциклетки: др-др. И с визгом срывалось с места — будто родился сын спидометры выжимать. Будто в имени-отчестве новорожденного зашифровали все будущие «очи как буксующие мотоциклы», «лихачек катастрофных», мотороллеры с крыльями. И бесконечные автомобильные катастрофы — в них поэт умудрится попадать регулярно.
Может, эти «др» — космические дыры? Их он обнаружит в скульптурах Генри Мура, приехав к нему в гости.
А к чему в его фамилии звон несется в Оз? В-Оз-несен-ский — так что и Оза в его жизни неспроста.
Хотя сама по себе фамилия Вознесенских — из тех распространенных фамилий, что выбирали себе часто семинаристы в поисках благозвучия. Как выбирали — на сей счет ходила шутливая поговорка: «По церквам, по цветам, по скотам, и аще восхощет его Преосвященство». Фамилия «Вознесенский» — «по церкви», названной в честь Вознесения, что отмечается на сороковой день после Пасхи.
Андрюша с детства будет искать эти коды имен, в которых «судьба просилась наружу, аукалась со словарем». В Ахматовой услышит закодированное «акмеизм». Марина Цветаева зашифровала себя в «море». А как ковано звучит «Владимир» Маяковского! И подытожит словами отца Павла Флоренского: «По имени и житие, по имени — житие, а не житие по имени». В человеческом имени, а поэта особенно, закодирована его будущая судьба.
В XXI веке под это подведут научную основу — Центр волновых технологий американского Орегона подтвердит (не подозревая того) давнишние догадки будетлянина Хлебникова: у каждой буквы своя частота вибрации, а потому имя позволяет подсознательно считывать информацию о человеке.
По крайней мере, теперь ясно, отчего Чехов не пожелал взглянуть на стихи поэта Гусочкина: «Что это за фамилия для лирического поэта — Гусочкин?!»
Имя Вознесенского вряд ли смутило бы Чехова.
Хотя у имени, предупреждал Флоренский, действуют «верхний» и «нижний» полюсы, божественное и дьявольское. Примерно о том же «верхнем» и «нижнем» скажет как-то и Вознесенский интервьюеру: «Включаешь себя, как в розетку штепсель, и… Пишешь слова, тебе диктуют, и всё тут. Кто знает: может, сверху, а может, снизу».
Дурочка, разуй глаза
В Киржаче у маминой родни Андрюша хорошо запомнил гармонику. А под нее — вот мальчишка, глаз-алмаз! — красивую продавщицу: перекисью крашена, брови синим наведены, чулки с черным швом (это после войны — трофейные!), «поддавшая, но в норме», свежую частушку кричит. Ох, хороша, чертовка.
Бабушка — это другое, это слова, как ласки, щеки, как сушеный инжир, корочка на топленом молоке, вздохи коровы в хлеву, соединенном с домом, печь, дыхание бревенчатых стен, зола — гусиным крылом, сирень о ставни трется кошачьи. Бабушка, Мария Андреевна Пастушихина, в девичестве Карабанова, рассказывала внуку всякое — как обычно это любят бабушки.
«Ее родители еще были крепостными Милославских. „Надо же!“ — думалось мне».
С крепостными какая-то нестыковка. В Киржаче жила еще бабкина родная сестра, Елизавета Андреевна, — и по рассказам дочери ее, Людмилы Савенковой, работавшей корреспондентом районной газеты, выходит немного иначе: отец Марии и Елизаветы, прадед Вознесенского по маминой линии, — из купеческой семьи и несколько раз избирался в Киржаче городским головой в конце XIX — начале XX века… Этому есть и документальные подтверждения. Хотя, понятно, что во времена послереволюционные нервировать рассказами о «купеческой семье» и «городском голове» вряд ли стоило. Возможно, потому у Марии Андреевны для внука была припасена классово корректная история про крепостных. Впрочем, одно могло не противоречить другому — если, скажем, речь шла не о родителях бабушки, а о предках чуть более дальних…
Об этих ли тонкостях думал в те годы глазастый мальчишка, приезжая на деревню к бабушке? О, эти стоп-кадры детских наблюдений, видения предпубертатного периода! Сколько раз они потом выплеснутся в строки поэта.
В семидесятых годах, начав свои поиски начал и концов родословной, вспомнит поэт и такую детскую киржачскую картинку. Чем пугала их «Тетка»? «Тетку в шубке знал весь городок. / Она в детстве нас пугала ссыльными. / Тетя крест носила и свисток, / чтобы вдруг ее не изнасиловали. / Годы шли. Ее не изнасиловали. / Не узнала, как свистит свисток! / И ее и шубы срок истек…»
А еще, перебирая альбомы с родней, наткнется на «Старую фотографию» — с «нигилисточкой, моей прапракузиночкой», у которой «вздрагивал, как белая кувшиночка, гимназический стоячий воротник». Чего тут больше, воображения поэта или взаправдашной истории, — ему будет важно другое. Сколько ни кричи ей: «Не готова к революции Россия. / Дурочка, разуй глаза. // „Я готова, — отвечаешь, — это главное“».
Хулиганство с теткою несвистнувшей. Жертвенность прапракузиночки, готовой на все ради идеи. Полуюродивые, полусвятые, «дурочки киржачские», лучики из детства.
Драгоценности в моем матрасике
Шестикомнатная коммуналка в Москве на Большой Серпуховке считалась малонаселенной. В одной комнате жили Вознесенские впятером с бабушкой. Мать, Антонина Сергеевна, «коммунальные ссоры утешала своей беззащитностью». Соседи их — «семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой Прасковьей». Семь человек из княжеской семьи Неклюдовых, не унижавшихся до произношения слова «сволочь», — они говорили: «св». С ними овчарка Багира. Инженер Ферапонтов с семьей. Пышная купеческая дочь. Разведенные муж с женой.
В этом мире Вознесенский «родился, был счастлив и иного не представлял».
Все так жили, даже… Как потом запишет в воспоминаниях Андрей Андреевич — даже Пастернак. В его коммуналке одна семья занимала даже ванную комнату! Отдельную двухкомнатную квартиру в Лаврушинском он получил только в тридцать шестом. Юный Вознесенский попадет к Борису Леонидовичу после войны, четырнадцатилетним…
Вспоминая о войне, Вознесенский расскажет про бомбоубежище, в котором скрывались от авианалетов они с матерью, бабушкой и сестрой. Андрюше, как самому маленькому, брали туда матрасик, в который были зашиты нехитрые семейные драгоценности — серебряные ложки, бабушкины часы и три золотых подстаканника. Позже, в эвакуации, все это обменяют на муку и картошку.
В их бомбоубежище укрывались семьи рабочих — «наш дом от завода Ильича». Многие в самом нарядном, даже с шубами бежали-прятались, хотя до холодов еще далеко, — боялись, что останутся ни с чем, если дом разбомбят. «Так на ренессансных картинах, посвященных темам Старого и Нового Завета, страдания одеваются в богатые одежды», — подметит годы спустя поэт.
«Распластанная мадонна с помятым от сна молодым лицом, со съехавшей лисьей горжеткой убаюкивает младенца, успокаивает, шепчет в него страстным, пронзительным нежным шепотом: „Спи, мой любимый, засранец мой… Спи, жопонька моя, спи“. Для меня слова эти звучат сказочно и нежно, как „царевич“ или „зоренька моя“».
Андрюша переглядывается с девчонкой из соседнего дома, прячущей запретного в бомбоубежище щенка. У знакомой бабушки Разиной привязан к ноге чемодан с висячим замком — хотя даже вор Чмур не позволял себе здесь никого обворовывать.
«Почему, — спросит себя Вознесенский когда-то потом, — эти подземелья вспоминаются сейчас как лучистые чертоги? Все люди и вещи будто очерчены, озарены святым ореолом, словно и не было счастливей дней.
Первым чувством наших едва начавшихся слепых жизней было ощущение, конечно не осознанное тогда, страшных народных страданий и света праведности народной судьбы и общности, причащенности к ней».
Ко мне, Джульбарс!
Война катилась к Москве. Вознесенские эвакуировались, как и десятки тысяч других московских семей. Отца командируют в блокадный Ленинград. Антонина Сергеевна с детьми — в Курган. Поселились в доме на улице Станционной, прямо рядом с вокзалом.
«В какую дыру забросила нас эвакуация», — скажет первоклассник Андрюша. «Но какая добрая это была дыра!» — добавит Андрей Андреевич потом с высоты прожитых лет.
В 2013 году на фасаде курганской школы № 30 появится мемориальная табличка с надписью о том, что здесь два года проучился Андрюша. Впишем в эту историю и случайно оказавшуюся здесь школьницу Н. Ризаеву: она, согласно отчетам местных газет, от лица одноклассников скажет пылко, с чувством, как всегда умели школьницы: «Вознесенский был учеником нашей школы, поэтому не интересоваться его творчеством мне было бы непростительно».
Знал бы Андрюша тогда, как будет увековечен, — вот бы он показал «гестаповцам», которых встретил однажды на пустыре по дороге из школы. Это были мальчишки — в гестаповцев они только играли, не по-детски приправляя речь перчеными словами. Партизанкой, сталинской лазутчицей, была собачонка, которую должны были вот-вот повесить, — если б не вмешался этот хилый столичный шкет. Собачонка была еще беззащитнее, чем он.
Голодный второклассник, воровавший подсолнухи и жевавший жмых, пожертвовал самым заветным своим сокровищем из портфеля — лупой. На нее мальчишки клюнули сразу — и пленницу обменяли.
Она стала Джульбой, а кем же еще? Кто из мальчишек тех лет не знал про знаменитого Джульбарса, чьи подвиги воспели даже газеты: боевой пес минно-разыскной службы обнаружил более семи тысяч мин и полторы сотни неразорвавшихся снарядов. (Тот же Джульбарс станет в 1945 году единственным за всю войну псом, награжденным настоящей медалью «За боевые заслуги».)
Андрюша верил, что они с Джульбой не расстанутся никогда. И даже когда пришло время возвращаться в Москву, родители (отец к тому времени уже был с ними) это пообещали. Но товарищ Баренбург запретил брать собаку. Ее должны были отправить грузовым вагоном вместе с лошадьми. «Измученный хозяйственник по фамилии Баренбург», матерившийся дискантом, опасался, что она лошадей покусает…
«Задыхаясь, я бежал от станции к дому… Передо мной, визжа от счастья, неслась Джульба, понимая, что бежит домой, но не чуя, что мы расстаемся».
Андрюша будет помнить о ней всю жизнь — как об истории первой любви и встрече с первым предательством. Много лет спустя он так и скажет: «предательство».
А тогда он напишет стихи:
Джульба, помнишь, когда в отчаянье, Проклиная Баренбурга что есть силы, Клялся тебе хозяин Не забыть тебя до могилы?Рассказ о Джульбе Вознесенский назовет «Первое стихотворение» — хотя это будет не совсем точно. О Джульбе все же не самое первое — в его тетрадке уже были другие детские опыты. И самый первый среди них про Бородино, «ревнивое подражание Лермонтову».
Скулы свело от счастья
Есть еще два очень важных эпизода в воспоминаниях Вознесенского о жизни в Кургане. Один из них — про первый в жизни апельсин. О, сытой черствости иных времен не дано понять его вкуса! Что апельсин теперь — как семечки. Тогда же он был — несбыточная невидаль. И дело не в одной лишь оранжевости и кисло-сладости — уже сам запах апельсина способен разбудить воображение и растревожить чувственность. Пусть даже скрытую в мальчишке до поры.
«Пухлые губы Мурки-соседки» явно беспокоили десятилетнего Андрюшу. Такое бывает с подростками. Не всякий потом припомнит все невинные подробности, кружившие незрелый ум. Но Вознесенский — припомнит. В красках и запахах.
Муркины губы «появлялись и исчезали из темноты, как в круглом зеркальце. После затяжки она мелко сплевывала, далеко цыкала сквозь зубы. От нее пахло цветочным мылом».
Крыльцо их деревянного курганского дома. Отмотавший срок Потапыч докуривает чинарик, обжигая губы. Сочувственные разговоры про новых «доходяг» из Ленинграда. Шостакович по радио из кабины «студебеккера», на котором к Мурке приезжал шофер из летной части. Даже пожар, когда горели соседи Чуркины, и в общей суете мальчишка — будущий поэт — успевает подметить, что «Мурка в огромной колючей шинели, наброшенной на заспанное голое тело, лупила в рельс металлической плюхой». (И «рельс плясал в ночном небе, выписывая гигантские безумные буквы».)
Но ярче этого всего — потрясение от Муркиного апельсина. Тут в воспоминании сливаются до полуобморока — ее коленки, губы, дольки, кожура и мякоть с белым поросячьим хвостиком. Мурке привез апельсин воздыхатель — их выдавали летчикам.
«Апельсин был закутан в специальную папиросную бумагу. Мурка развернула ее и разгладила на коленке. Коленка просвечивала сквозь белую бумагу, как ранее апельсин…
Мурка дочистила кожуру до донышка, где мякоть образует белый поросячий хвостик. Кожуру положила в карман ватника. Она ела апельсин, наверное, полчаса. Долька за долькой исчезали в красивой ненасытной Муркиной пасти. Когда осталось две дольки, она сказала мне: „На, школьник, попробуй“. И дала одну. Скулы свело от счастья».
От Гойи до Гойи
Но потом в их курганский дом приедет Гойя.
Про хозяина, Константина Харитоновича, машиниста-пенсионера, приютившего Вознесенских в Кургане, Андрюша запомнит: застенчивый, когда выпьет, он некогда увез у своего брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну, от брата в глуши они и скрывались.
Откуда-то привезут Антонине Сергеевне слух, что отец ранен. И вдруг… отец возвращается — «худющий, небритый, в черной гимнастерке с брезентовым рюкзаком».
Прослезились от счастья все — а хозяин, торжественный и смущенный, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала — «со спасеньицем». Отец водку выпил, сало отдал семье.
В рюкзаке у него оказались банка американской тушенки и книга неизвестного Андрюше художника под названием «Гойя». Первое, что увидит сын, открыв книгу, — расстрелянные, растерзанные, повешенные партизаны, цикл офортов «Бедствия войны», созданных Гойей под впечатлением от ужаса и хаоса оккупированной французами Испании 1808–1814 годов. Все то, о чем ежедневно слышал Андрей из черного картонного репродуктора на кухне.
Отец с этой книгой летел через линию фронта.
В странном имени Гойя для мальчишки слилось все воедино: гудки эвакуационных поездов, стоны сирен и бомб перед отъездом из Москвы, вой волков за околицей, стон соседки, получившей похоронку.
«Эта музыка памяти записалась в стихи». Стихотворение «Гойя» Вознесенский напишет в 1959 году. Стихотворений будет им написано еще много — но с именем поэта всегда, по всему миру, будет связано имя Гойя. Как для самого поэта в этом имени останутся навсегда — и голос страшной эпохи, и мальчишечий страх потерять отца.
В семидесятых Пикассо просит его прочитать «Гойю» — и, «поняв без перевода, гогочет вслед, как эхо: „Го-го-го!“».
Самый видный структуралист Юрий Лотман любил читать лекции о конструкции «Гойи» Вознесенского — в экстазе от тех же «го», фонем, рождающих «нечто новое по отношению к общесловарному, внеконтекстному значению составляющих стихотворение слов».
В 2010 году жизнь его закольцуется тем же Гойей. Зоя Богуславская расскажет, как он умирал у нее на руках в их переделкинском доме:
— Первого июня покормили его как обычно. Но ему становилось все хуже, он побелел на глазах. Реанимация едет, я спрашиваю: «Что с тобой?» — а он мне: «Да что ты, не отчаивайся. Я — Гойя»… И я ему: «Глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле нагое…»
Еще вечером накануне за забором, в доме-музее Пастернака, играли Шопена, тридцатого день смерти Бориса Леонидовича, Андрюша впервые не смог туда пойти… И он мне говорит: «Что за музыка играет?» Вы можете себе представить, какие у него мысли, я понимаю, что в его глупой башке соединилось, что вот день смерти Пастернака, и он умирает… Я ему говорю: «Да это там музыкальный вечер какой-то»… Я его столько раз выводила из этого состояния, и реанимация скоро приехала. Потом мне сказали, что ничего было сделать нельзя, мгновенно — полная интоксикация организма… У Андрея вдруг странно так окаменело лицо. Я никак не могла поверить…
Я — Гойя! Глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле нагое. Я — Горе. Я — голос войны, городов головни на снегу сорок первого года. Я — голод. Я — горло повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью голой… Я — Гойя! О, грозди возмездья! Взвил залпом на Запад — я пепел незваного гостя! И в мемориальное небо вбил крепкие звезды — как гвозди. Я — Гойя.* * *
В Москву из эвакуации Вознесенские вернулись, как только стало возможно, — еще до конца войны.
Глава третья ЧЬЯ ТЫ МАСКА, АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ?
Заколдованными кругами
От Киржача да Мурома голова у мальчишки неспроста кругом шла. Места колдовские, финно-угорское племя мурома (с ударением на последнем слоге) обитало здесь когда-то, но от него остались лишь названия непонятные — Ока, Велетьма. Было время, в здешних местах разбойничал сам Кузьма Рощин — о нем тут легенды остались. Чудеса и леший бродит, и русалка где надо сидит.
В хмурых здешних пейзажах даже местных «водит»: кружат полдня по лесу, а все вокруг одного и того же места. Сколько ни ходил кругами поэт Вознесенский, а все будет возвращать его к тому же: дому, семье, родословной. И неизбежно — к прапрадеду Полисадову с его удивительной историей.
И всякий раз это кого-нибудь вдруг будет раздражать. Из «Мозаики», первого сборника стихов Вознесенского, в последнюю минуту срочно вырежут страничку со стихотворением «Прадед». Вместо него спешно вклеят «Кассиршу» — но прадед останется в оглавлении.
В восьмидесятом, написав о прапрадеде — только вышел свежий номер «Нового мира» с поэмой, — Вознесенский едет в Муром. Примут его восторженно, корреспондентке «Муромского рабочего» поэт пообещает, что скоро приедет опять. Но не приедет. Почему? После встречи читателей с поэтом местные бойцы идеологического фронта с пылу с жару телеграфировали в ЦК: автор ходит по Благовещенскому монастырю, ищет могилу предка и демонстрирует религиозную близорукость.
Конечно, времена потом изменятся, те, кто письма писал, исчезнут или мимикрируют. Но Вознесенский в Муроме с тех пор не выступал. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что здесь не только кляузничали: как раз муромский краевед Александр Анатольевич Золотарев в то время больше всех помог Вознесенскому в поисках архивных материалов о прапрадеде. Вместе они побывали в Благовещенском монастыре — отсюда в поэме «Андрей Полисадов» строки: «„Ваш прах лежит второй за алтарем“, — сказал мне краевед Золотарев».
Камень с полустертой надписью «Алексий Полисадов» действительно второй в ряду надгробий у алтарной апсиды Благовещенского собора. Во внутренней росписи храма сохранилось и изображение отца Алексия, Андрея Полисадова: муромский художник П. И. Целебровский, расписывавший собор, запечатлел его «по-грузински царебровым» — «и тишайшее бешенство воли ощущалось в сжатых руках». Почему по-грузински? Потому что загадочная биография Полисадова ведет как раз в Грузию…
Многочисленные попытки описать историю Благовещенского монастыря, появившегося в XVI веке (на месте церквушки XI столетия), сведены в обширном труде иеродиакона Алексия (Новикова). Прежде чем перейти к истории Полисадова — лишь два любопытных штриха из монастырской истории. В 1945–1946 годах в Благовещенском храме служил вернувшийся с фронта с тяжелым ранением в позвоночник иеромонах Пимен (в миру С. М. Извеков; 1910–1990 гг.) — будущий Патриарх Московский и всея Руси. И еще — в числе других святынь именно здесь хранятся мощи князя Петра и княгини Февронии, тех самых, в честь которых в XXI веке придумают праздновать 8 июля православный «день влюбленных».
Как в 1882 году оказался настоятелем Благовещенского монастыря прапрадед поэта? Прослужит он в этом чине до самой смерти, до 1894 года. А судьба ведь и его тоже долго кругами водила.
Омут кавказских пленников
В списках заложников, вывезенных из Грузии после подавления генералом Ермоловым имеретинского восстания, есть и имя княжеского сына, в 1820 году доставленного шестилетним во Владимир.
Как тут не вспомнить лермонтовского Мцыри — тоже пленника имеретинского восстания: «он был, казалось, лет шести»? Параллель увлекательная — по крайней мере, ее стоит иметь в виду, помня, что Андрей Вознесенский с детских лет относился к Лермонтову трепетно.
Но есть еще один любопытный штрих у Вознесенского. Вслед за мучительным: «Чья ты маска, Андрей Полисадов?» — в поэме прозвучит такой риторический вопрос: «друг и враг шамхала Тарковского?» Собственно, интересен тут поэту не столько правитель небольшого феодального владения, окружавшего село Тарки на территории Дагестана до середины XIX века. Неизвестно, имел ли он отношение к прапрадеду. Куда важнее казалась внезапно всплывшая фамилия — Тарковский. Он же не просто известный режиссер, он еще и одноклассник Вознесенского. И хотя ближайшие предки Тарковского принадлежали уже к польско-украинскому православному шляхетству, в его семье бытовала и такая легенда — об их происхождении от младшего сына шамхала Тарковского, взятого в заложники Петром I во время Персидского похода.
И все это вдруг закручивается такой головокружительной воронкой — исторических былей, совпадений, необъясненных легенд и тайн. Лермонтов, Тарковский, Вознесенский. Ах эти поэтические омуты истории.
Конь бьет задом и передом
Вернемся во Владимир, к прапрадеду — грузинскому мальчишке. Шеф жандармов от кавалерии Леонтий Васильевич Дубельт лично следил за судьбой важной птицы — предка Вознесенского. Это тот самый умнейший Леонтий Васильевич, на счету которого объявление сумасшедшим Петра Чаадаева, разбор бумаг Пушкина после его гибели, отправка в ссылку (как и возвращение из нее) Михаила Лермонтова, арест и ссылка Михаила Салтыкова-Щедрина, аресты и следствие по делу Петрашевского, аресты Ивана Аксакова, Ивана Тургенева, Сергея Трубецкого… Значительное, словом, лицо занималось судьбой грузинского ребенка. И факт этот любопытен, даже если время стерло с него давнишний государственный смысл.
Во Владимире мальчика тут же усыновила семья сельского священника — и он стал Андреем Полисадовым. Имя выбрано не случайно: святой апостол Андрей Первозванный почитался покровителем и в России, и в Грузии. Сказания о нем есть и в грузинском, и древнерусском литературных памятниках — «Картлис Цховреба» и «Повести временных лет».
Во Владимирской духовной семинарии, куда отдадут мальчика, будет учиться и Иван Никитович Полисадов (он на девять лет младше Андрея). Видимо, родители его и усыновили Андрея Полисадова. Иван Никитович станет отцом Иоанном, проповедником Исаакиевского собора в Петербурге и духовником императора Александра II. Названый брат был близок с Андреем Полисадовым, сохранилась их переписка.
Хотя поначалу с братьями у поэта выйдет небольшая путаница. Закончив работу над поэмой, он расскажет в «Литературной газете» о своем предке и поставит ему в заслугу отказ сообщить жандармскому ротмистру содержание исповеди народовольца Каракозова, совершившего покушение на царя. Однако Андрей Полисадов к этой истории отношения не имел. У отца Иоанна был еще двоюродный брат, протоиерей Василий Полисадов. Как вспоминает Вадим Виноградов, правнук отца Иоанна, как раз Василий Полисадов активно помогал жандармам в каракозовском процессе 1866 года… Что же касается отца Иоанна, все оказалось сложнее. Накануне покушения на императора ему тоже исповедовались заговорщики — и его мучили страшные сомнения. Подчиниться Указу, обязывавшему священников сообщать о злых умыслах? Но как же ему, духовнику, потом сможет довериться император, если он вообще не чтит тайну исповеди?! В день покушения, скомкав службу, отец Иоанн бросился вслед за Александром II и в момент взрыва, по семейной легенде, «грудью защитил царя». При дворе об этом стало известно, к поступку отца Иоанна отнеслись с пониманием… Неточность же с Полисадовым, промелькнувшую лишь раз в «Литературке», Вознесенский потом, открывавший всё новые страницы жизни прапрадеда, не повторял.
В жизни Андрея Полисадова хватало своих невзгод и смут — хотя о многих можно лишь догадываться по его редким дошедшим признаниям. Праправнуку-поэту видится таинственная рука, то повышавшая, то повергавшая в опалу его предка. В «Провинциальном российском некрополе», составленном великим князем Николаем Михайловичем, имя его было обозначено в оглавлении, но вдруг исчезло со страниц — совсем как стихотворение «Прадед», вырезанное из книжки Вознесенского.
В предисловии к «Кругу поучений» (СПб., издание книготорговца И. Л. Тузова, 1885) Полисадов пишет о себе в третьем лице: «Тяжело рассказывать все бесчисленные клеветы, кляузы и гонения, тайно или явно воздвигнутые на человека. Человек дрожит над временем, как скупец над златом, а необходимость защищать собственную честь заставляет писать объяснение на лукаво и бессовестно выдуманный рапорт или донос».
И о неком доносчике: «Бог с ним! Пусть бичует меня. Опомнится авось и сам. Конь бьет и задом и передом, а дело идет своим чередом»… Что ж, и истории с доносчиками роднили прапрадеда с праправнуком.
Сохранился послужной список Андрея Полисадова, составленный в 1889 году. После семинарии он женился и служил священником в селе Шиморское. Но пять лет спустя жена его скончалась, оставив Полисадова с малолетней дочкой Марией (ее, прабабку поэта, Полисадов описывал как «сметливую, довольно образованную и очень пригожую»). Потом он учительствовал, обучал крестьянских детей. В 1867 году постригся в монахи с именем Алексий в Новоспасском Ставропигиальном монастыре. В 1882 году переведен во Владимирскую епархию и утвержден настоятелем Благовещенского монастыря в Муроме. Вскоре его возвели в архимандриты и назначили еще и благочинным Троицкого женского и Спасского монастырей. Здесь и завершится его жизненный путь 8 апреля 1894 года.
Графская семья Уваровых, с которой он был близок, увлечется археологией Кавказа, по их инициативе в Грузии отреставрируют храм Свети Цховели.
Вознесенский обнаружит и стихотворные опыты Полисадова, и его размышления о трехголосном древнеславянском песнопении, в котором прапрадеду слышалось эхо древних грузинских хоров. Между прочим, Полисадов еще покровительствовал Ивану Лаврову, изобретателю «гармонического звона в колокола», которому он придумал дивное имя: «самозвон».
Насколько крепок матюк
Вот ведь еще что интересно. Была в Полисадове удивительная чуткость к языку. Не просто чуткость — он занимался языком увлеченно. 16 февраля 1852 года получил даже «искреннюю благодарность» от Императорской Академии наук за составление Словаря областного наречия и разных оригинальных обычаев прихода Шиморское.
Не одни бомбометатели носились по просторам России, было и еще кое-что интересное в жизни. Энтузиасты вроде Полисадова отправляли свои труды по изучению «местных слов и выражений» Обществу любителей российской словесности, и среди двухсот тысяч слов, попавших в 1863–1866 годах в первое издание «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля, окажутся и 153 слова из словарика, составленного в селе Шиморское Полисадовым.
Смыслы владимирских словечек тех времен давно забыты, а звучат они сегодня — страшно подумать, с чем их мог бы рифмовать поэт. Что за буй? Что за кокуй? А что за зверь такой абуконь? Куда чего сулоть? Чем хороша маниха? И насколько крепок матюк? Вознесенского, между прочим, всегда волновали все футуристические раскопки в прошлом русского языка — так что вспомнить словечки прапрадеда тут совсем не лишне.
Означали они вовсе не то, что читатель сейчас мог подумать. Буй — называлась игра, что-то среднее между лаптой и бейсболом. Кокуй — просто кокошник. Абуконь — подводный камень у берега. Сулоть — значит, сплошь и рядом. Маниха — та, что манит и обнадеживает. А матюк — и того проще: стук от удара топором.
Прапрадеда, писал поэт, поражало еще и «сходство славянских слов с грузинскими: „птах“ аукался с грузинским „пхта“, „тьма“ (то есть десять тысяч) отзывалась „тма“, „лар“ — „ларец“. Суздальская речушка Кза серебряно бежала от грузинского слова „гза“, что означает „дорога“. Зевая, муромцы крестили рты так же, как это делали имеретинские крестьяне. А на второй день Пасхи на могилы здесь клали красные яйца — все возвращало к обычаям его края».
Услышь мя, женщина!
Вознесенский примеряет образ прапрадеда на себя — в поэме «Андрей Полисадов». У него всегда так: и Гойя, и Мерилин Монро, и Гоголь, и граф Резанов, все отчасти — Вознесенские. Каждое «не я» у него — вывернутое наизнанку «я».
И оттого в «Полисадове» мелькнут родные праправнуку лица — отец, возивший сына на Ингури-ГЭС, Борис Леонидович.
И вдруг появится прапрадеду неведомая муза: «Когда ты одета / лишь в запах сеновала, / то щедрее это / платьев Сен-Лорана».
И влечение свое горное, безотчетное оборвет вдруг Вознесенский вопросом в лоб: «Может, мне Каландадзе кузина?» Это про дивную Анну Каландадзе, грузинскую поэтессу, с которой дружили и которой посвящали нежные строки многие, не один Вознесенский, — про нее и Ахмадулина: «…но, Анна, клянитесь, клянитесь, / что прежде вы не были в хашной! / И Анна клялась и смеялась, / смеялась и клятву давала…» Возвращаясь к вопросу Вознесенского про Каландадзе — так после хашной все друг другу немножко кузины.
Зачем все же Вознесенскому эта поэма, о чем она? Образ прапрадеда у него слит с образом собора, открытие прапрадеда становится открытием себя — со своим вечным с детства вопросом: «Зачем второй раз жить? А первый раз зачем?»
Ответ его тут как молитва, в которой чередуются равноправно: «Господи, услышь меня, услышь мя, Господи!»; «Женщина, услышь меня, услышь мя, женщина»…
Молитва эта, с ее отчаянием и соблазнами, неожиданно откликается эхом в тех же Кавказских горах — у средневекового армянского поэта Григора Нарекаци, известного своей «Книгой скорбных песнопений»: «Я обращаю сбивчивую речь / К тебе, Господь, не в суетности праздной, / А чтоб в огне отчаяния сжечь / Овладевающие мной соблазны».
И по губам потерявшего к концу жизни голос Вознесенского можно будет прочесть: «Я стою без голоса, / в неволю отданный, / родина, услышь меня, / услышь мя, родина!»
Господь, женщина, родина. Услышат?
Пробелы древа
Составить внятную родословную, древо генеалогии, окажется совсем непросто. Хотя Вознесенский старался — белые пятна все равно остались. Имена разлетелись, унесенные ветром. О чем-то недоговорили родители, по крайней мере в довоенные времена, многого лучше было вслух не вспоминать — и детей на всякий случай от подробностей берегли.
У дочери Полисадова, Марии Андреевны, была дочь Елизавета. Кто был ее отцом и, соответственно, прадедом по этой линии — Вознесенскому узнать не удалось. Елизавета вышла замуж за Николая Петровича Вознесенского, сына священника из Суздальского уезда Петра Федоровича Вознесенского и жены его Анны. У Николая Петровича было шестеро братьев и сестер. Многие, включая самого деда поэта, Николая Петровича, были врачами. Медики и священники — это отцовские ветви.
В Москве поэт общался с троюродной сестрой, Натальей Игоревной Вознесенской, — ее дед, Владимир Петрович, был родным братом Николая Петровича. Сестра была намного моложе, потому, видимо, поэт звал ее ласково «Наталочка, моя племяшка». Между прочим, тоже врач.
Во Владимире он познакомится с другой троюродной сестрой — Лидией Дмитриевной, которая вскоре переберется к мужу-англичанину в Лондон. У всех у них свои черновики-родословные, но с теми же пробелами: новых тайн, увы, Вознесенскому они не откроют.
Глава четвертая ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЧЕТЫРНАДЦАТИ
О, эти дворы Замоскворечья!
В тринадцать лет Андрей Вознесенский чуть не утонул.
Случилось все в 1946 году на реке Упа в поселке Одоеве, знаменитом своими филимоновскими игрушками — были такие когда-то да, похоже, сплыли, — а также обширным некогда хозяйством плодосовхоза. Это на границе Тульской и Калужской областей, часах в четырех езды от Москвы на машине. Что занесло сюда Вознесенского — теперь можно только гадать. Возможно, приехал к кому-то с родителями или со школой, скажем, на уборку яблок.
Поскольку мальчик был благополучно спасен, случай этот не зафиксировали милицейские хроники. Да и свидетели нигде никак не проявились: откуда ж им было знать, что спасенный — не просто пацан из столицы, а персона, которая еще очень даже пригодится русской поэзии?!
Но сам спасенный запомнил хорошо: «…инженер плодосовхоза в Одоеве спас меня, уже захлебнувшегося и потерявшего сознание в водовороте. Я так вцепился ему в запястье, что остался круговой синяк». Спасибо безымянному инженеру-герою!
Это первое из целой череды жутчайших происшествий, которые будут преследовать Вознесенского всю жизнь. Нельзя сказать, что он отличался богатырской крепостью тела — напротив, Андрюша в детские и юные годы был скорее тонок и щупл. Зато самолюбив и с норовом, и ершист с ранних лет — это правда. И плавать, кстати, научился после той истории очень хорошо.
В конце войны Вознесенские вернулись в свою коммуналку в Замоскворечье, недалеко от Большой Серпуховки, в 4-м Щипковском переулке. Квартира — в надстройке над корпусом, принадлежавшим бывшему заводу Михельсона, электромеханическому, тогда уже имени Ильича — там, между прочим, снаряды для «катюш» делали. А что касается двора — двор был вполне хулиганский, и о нем Андрей Андреевич будет вспоминать с неизменным элегическим «О».
Вот так, например: «О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жесточек, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа».
Или вот так: «О, эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: „Кто воспитал ваше детство помимо дома?“ — я бы ответил: „Двор и Пастернак“». Но встреча с Пастернаком еще впереди — и двор, между прочим, тоже как-то поспособствует их встрече.
Все счастливые дворы детства счастливы одинаково. А хулиганист каждый из них на свой лад. Задолго до того, еще в тридцать пятом, германский философ Мартин Хайдеггер рассуждал об «истоках художественного творения» — Андрюша тогда еще и знать его не знал. Шнобеля знал, Фиксу знал, Шка и Волыдю — «рыцарей малокозырок», авторитетов их подворотни. А Хайдеггера он тогда еще не знал — еще много, много лет пройдет, пока поэт не без гордости расскажет о своих встречах с ним: сомнительное прошлое философа не отменяло его гениальности…
Так вот, пока Андрюша с приятелями гонял консервные банки вместо мяча, Хайдеггер где-то там сидел и думал над вопросом: «Посредством чего стал и откуда пошел художник, ставши тем, что он есть?» У Вознесенского найдется свой ответ — и в его ответе будет непременно полное собрание дворовых хулиганов.
С золотыми коронками — «фиксами» — самые шикарные. С наколками, сделанными чернильным пером, — так, мелюзга. Среди последних — и сам Вознесенский. Наколки скоро смоются — зато останется в памяти воздух времени детства, из которого двадцатый век «на глазах превращается в Речь».
Где-то у бабушки в Киржаче торжествовало володимирское «о» — здесь оно безоговорочно капитулировало перед московским «а». Дома были отцовский справочник Хютте, мамин Серебряный век — во дворе вся правильность жизни ломалась блатными словечками, жаргон казался пропуском в другой, манящий мир. Неспроста, между прочим, Андрюшины дворовые истории, как взрослый ребенок, будет живо обсуждать с ним и сам Пастернак. Но это мы опять забегаем вперед…
«По новым желтым прохарям на братанах Д. можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной». Одноклассник Борис, воруя зачем-то из бочки карбид, зажег спичку — взрыв, крышкой «полщеки оторвало». Все это сливалось «с визгом „Рио-Риты“ из окон и стертой, соскальзывающей лещенковской „Муркой“, записанной на рентгенокостях».
Упражнялись в стрельбе через подкладку пальто в подъезде — найти оружие в послевоенные годы мальчишкам было несложно. Еще один аттракцион: открыв шахту лифта, обернув руки варежкой или тряпкой, скользили вниз с шестого этажа по стальному крученому тросу. «Никто не разбивался», — он добавит гордо. Небрежным тоном подростка, которому явно хотелось казаться в этом мире своим, отчаянным таким же.
Часто играли в «жосточку», что Вознесенский опишет в деталях: «Медную монету обвязывали тряпицей, перевязывали ниткой сверху, оставляя торчащий султанчик, — как завертывается в бумажку трюфель. „Жосточку“ подкидывали внутренней стороной ноги, „щечкой“. Она падала грязным грузиком вниз. Чемпион двора ухитрялся доходить до 160 раз. Он был кривоног и имел ступню, подвернутую вовнутрь. Мы ему завидовали».
Специальным, свернутым из проволоки крюком катали по двору железные обручи, а зимой, прицепившись проволокой к грузовику, скользили буксиром на коньках по ледяной мостовой до конца переулка. Перед трассой грузовик отпускали. Приводы в милицию за катание на трамвайных подножках почитались доблестью особой.
Ах детская душа — потемки! Кто знает, сколько раз Андрюша примерял на себя все подвиги дворовых смельчаков. Возможно, пробовал и сам… Но — увы или к счастью — приятели тех лет, как сговорившись, вспомнят потом, что был Вознесенский все же слишком замкнутым и воспитанным, чтобы ходить на «лихие дела».
Волыдю, высоченного сына завмага в кожаной шубе, «с налетом наглецы в глазах», Андрей считал приятелем. Сам-то он ходил в латаном-перелатаном пальтишке, давно превратившемся в курточку с хлястиком у лопаток. Купили ему наконец стеганую тяжелую шубу с собачьим колючим воротником — а стоило надеть ее в первый раз в школу, как шуба пропала. Как догадывался Андрей, тут не обошлось без Волыди — «он водился со старшими с Зацепы…». Все-таки дети завмагов тогда — как к концу века дети удачливых бизнесменов — с малых лет уже знали прекрасно, с кем стоит водиться и у кого что спереть.
Недолго, впрочем, горевал Андрюша по утраченной шубе. Скоро он найдет такое счастьище, рядом с которым шуба — тьфу! Бублик, выданный в школе, он продал у булочной на той самой Зацепе, помчался на толкучку у Кузнецкого — «до сих пор у меня отморожен нос и щека от свирепого ветра на Каменном мосту», — чтобы купить там чудесную марку. «О, зеленая, продолговатая марка Британской Гвинеи с зубчиками по краям, как присоски гусениц! Что за пути напророчили мне зубчатые грезы детства?»
Школьные бублики шли, как неведомая тогда валюта: еще за один такой сосед Феодосий Демьянович заклеил Андрею прохудившуюся камеру мяча. На смену консервным банкам пришли первые настоящие футбольные мячи — и у него такой, конечно, появился. Не всякая семья тогда могла себе это позволить — но нельзя и сказать, что Вознесенские жили хуже соседей, отец занимал солидные должности, достаток худо-бедно в семье был. Позже Вознесенский вспомнит в стихах про встречу с бывшим одноклассником, который «бросил школу — шофером стал»: «Шел с мячом я, юный бездельник. / Белобрысый гудел, дуря. / Он сказал: „Пройдешь в академики — / возьмешь меня в шофера“». Сказал — вроде как поддел. Так поддевать будут еще не раз и самого поэта, и многих из его шестидесятнических товарищей: ну, понятно, «золотая молодежь». И сказать, что они будут совсем уж не правы, нельзя.
Андрюше хватит по жизни сполна и «своих самосвалов», и своих «неразгруженных кузовов»: цена славы высока. Среди всех дворовых хулиганов он окажется самым отчаянным. Не в полетах вниз по тросу лифта — в полетах вверх, в завихрения поэзии.
Вратарь Андрей Тарковский
«Иногда сквозь двор проходил Андрей Тарковский, мой товарищ по классу. Мы знали, что он сын писателя, но не знали, что сын замечательного поэта и сын будущего отца знаменитого режиссера. Семья их бедствовала. Он где-то раздобыл оранжевый пиджак с рукавами не по росту и зеленую широкополую шляпу. Так появился первый стиляга в нашем дворе. Он был единственным цветным пятном в серой гамме тех будней».
В другой раз, вспоминая товарища, Вознесенский уберет шляпу и зелеными окажутся штаны одноклассника. Позже, спустя много лет после школы, они с Тарковским будто поменяются «прикидами»: тот станет одеваться сдержаннее, у Вознесенского, напротив, появятся шейные платки, яркие свитера и пиджаки.
Они со школы еще — вроде близки друг другу, но каждый слишком был сам по себе. Однако общего у них было больше, и не только в том, что у обоих были любимые сестры и оба вечно будут изживать свои вины перед родными и близкими — в творчестве.
Фамилия Тарковского неспроста промелькнет в «Андрее Полисадове». Ему, стиляге своего детства, посвятит Вознесенский в начале шестидесятых «Рок-н-ролл», где «ревет музыка скандальная, труба пляшет, как питон». В семьдесят девятом, когда Тарковский перенесет сердечный приступ, похоронит мать и соберется на съемки в Италию, не зная, что уже не вернется, — Вознесенский напишет «Белый свитер» (другое название — «Тарковский на воротах»). Эпизод из той же дворовой жизни, когда урка дворовый лупит грязным мячом по белому свитеру вратаря, будет лишь поводом сказать о власти тьмы — «да вы же убьете его, суки!» — и что всему вопреки «бывшие белые ноги и руки / летят, как Андреевский крест». Тарковский скончается в 1987-м, и, кстати, на надгробном памятнике, сделанном Эрнстом Неизвестным, появится надпись: «Человеку, который увидел ангела».
При всей их внешней несхожести, у двух Андреев, детей войны, неожиданно много близкого и общего в ощущении жизни, эмоциональном ее восприятии. Ну вот всего лишь беглая цепочка случайных, кажется, но сопряженных внутренне пересечений.
…Вознесенский вспоминал, как они с сестрой и мамой бегут по меже, он шелушит горсть овсяных зерен, в небе появляется «мессер», дает несколько очередей по лесу… «Мать столкнула меня и сестренку в канаву, а сама, зажав глаза ладонью, на фоне стремительного неба замерла в беззащитном своем ситцевом, синем, сшитом бабушкой сарафане».
И у Тарковского в сценарии «Зеркала» — такой же акварелью: «Изредка, откинув упавшую на глаза прядь волос, она смотрела на ребят, как когда-то смотрела на нас с сестрой… Я старался увидеть ее глаза и, когда она повернулась, в ее взгляде, каким она посмотрела на ребят, была такая неистребимая готовность защищать и спасать, что я невольно опустил голову».
А загадочные строки из «Озы» Вознесенского (1964) будто аукнутся у Стругацких в «Пикнике на обочине» (1972) и у Тарковского в «Сталкере» (1979): «Я знаю, что люди состоят из частиц, как радуга из светящихся пылинок или фразы из букв. Стоит изменить порядок, и наш смысл меняется. Говорили ей — не ходи в зону! А она…»
В оценке «Андрея Рублева» Тарковского вдруг сойдутся и госчиновники, и противоположный им Солженицын: автор в угоду художественному мифу жертвует исторической точностью, средневековый инок превращен в рефлексирующего интеллигента XX века. А Тарковский, вспоминают, чуть не снял татарских всадников на фоне высоковольтных ЛЭП с «Беломором» в зубах, — ему важнее было общее для всех столетий «сгорание человека во имя овладевшей им идеи…».
Сколько раз вот так же Вознесенский будет отбиваться от упреков в искажении деталей — и с «Мастерами», строившими Василия Блаженного, и с Мерилин Монро, и еще, и еще.
…Кстати, и одним из мест, где Тарковский будет снимать «Рублева», станет тот же близкий сердцу Вознесенского Владимир.
«Как ни встретимся — идет в химчистку» Рассказ Марины Тарковской, сестры режиссера
— Андрея Вознесенского я помню уже старшеклассником. Брата перевели в их десятый «Б» — у него часто были конфликты с учителями, а в десятом классе классный руководитель, географ Федор Федорович Титов, стал всеми силами добиваться, чтобы брат вылетел из школы. Тогда его спасла историчка Фаина Израилевна Фурманова, классрук 10-го «Б». Говорили, что она была женой Дмитрия Фурманова, комиссара чапаевской дивизии, — наверное, так и было. Она все время ходила в черном пиджаке, была решительной женщиной — взяла Тарковского под свою ответственность. Так они оказались с Вознесенским в одном классе.
Это была мужская 554-я школа Замоскворецкого района. Мы, девочки, ходили в женскую школу, носили форму — коричневое платье, черный и белый праздничный фартуки. А мальчишки были без формы, ходили, кто в чем, — форма появилась, я уж не помню, кажется, при Хрущеве.
На фоне нашего Андрея Вознесенский казался мне тихим таким, положительным. Они сильно дружили после школы, как раз на почве интереса к поэзии. В их компании был еще такой замечательный человек, Юра Кочеврин, Юрий Бенцианович, сейчас он доктор экономических наук, долгое время работал в Академии наук. Потом мой брат женился, мама снимала им с Ирмой Рауш квартиру в Ляпинке — квартальчике неподалеку, его называли так по имени купца Ляпина, который там построил благотворительные общежития для бедных женщин, студенток, двухэтажные дома барачного типа… Может, они с Вознесенским встречались и тогда — но у каждого к тому времени было полно своих забот…
А в школьные годы мы с братом жили в 1-м Щипковском, а Вознесенский — через один дом, параллельно, на 4-м Щипковском. Там жили и другие одноклассники, Алик Макеев, Жерар Артурович — Жирик Тер-Овакимян, тоже писавший стихи. Помню одно его стихотворение про какую-то Инессу, там повторялись строчки: «Спасибо за то, что ты существуешь на свете». Когда у Вознесенского вышла первая книга, Жирик ее раскритиковал, приводя в пример, как рассказывал Юра Кочеврин, не самые удачные стихи какого-то поэта.
У Андрея с родителями была комната в коммуналке, а у Юры — он жил через дорогу у своего дяди-архитектора — уже отдельная квартира. В их домах были все удобства, кругом печное отопление, — а там центральное отопление и газ. Не то что у нас. Родителей Вознесенского я не видела, знала, что отец его был инженером. Они часто собирались у Юры…
Вообще в их классе были очень интересные ребята, они в те времена пытались издавать журнал «Зеркало». Но там был, помню, Юра Безелянский, а Вознесенский в этом не участвовал… Где-то у меня даже есть фото, смешное такое, — Андрей танцует с одним из одноклассников, Славой Петровым. Они там танцевали на переменах — танго, фокстрот… Вообще интересные ребята, всё вокруг в те годы казалось темно, мрачно и невесело, а они были все яркими, интересовались всем.
Правда, они однажды очень расстроили своего классного руководителя. Вознесенский рассказывал мне, что Фурманова, жившая очень бедно, принесла из дома, чтобы в классе было уютнее, цветок в горшке и стеклянный графин. Но кто-то тут же бросил в этот графин с водой мел — она была очень разочарована.
* * *
А еще у них была замечательная англичанка, Марина Георгиевна, которую они все любили. Но особенно она дружила с Вознесенским. Вернее, Вознесенский с ней дружил… Одним словом, она приносила ему каких-то поэтов, не печатавшихся тогда, по-моему, и Пастернака, которым все увлекались, — не случайно Андрей со своими первыми стихами к нему и отправился.
Его стихотворение про футбол и моего брата я включила в свою книгу воспоминаний «Осколки зеркала». Спасибо ему за это — но Тарковский же был для меня совсем другой. Действительно, был белый свитер, бумажный, из бумажных ниток, не какой-то там шикарный, шерстяной, простой такой советский трикотаж. Но это избивание его мячом — понимаю, что поэту нужно было подчеркнуть противостояние шпаны и хлипкого интеллигента. Но наш Андрей умел за себя постоять и подраться и на мяч бросался самоотверженно. И конечно не позволил бы так над собой издеваться. Это, по-моему, поэтическое преувеличение.
Он в своих воспоминаниях и про меня написал: мол, она ко мне прибегала и я писал ее портрет. А я всего-то один раз пришла, причем очень неохотно, потому что очень не любила все эти штуки, портреты. Я вообще очень была застенчивая… Портрет, кажется, так и не получился — по крайней мере я его не видела. А он написал еще стихи, которые я тогда же и затеряла, не придавая этому значения. Помню только, там были такие строчки: «Я пишу твой портрет, за окном синева…» Не помню уже, что-то там — «…из такого слепил алебастра».
Потом мы как-то еще где-то встречались, гуляли, но не могу сказать, что у нас была какая-то близкая дружба… И потом он совсем как-то отошел, могли встретиться на каких-то вечерах разве что. Или просто по-соседски, ну вот идешь — Андрей. Куда идешь? В химчистку. Это был, боюсь напутать, где-то пятьдесят шестой год… Как ни встретишь его — в химчистку. Он с юности любил всякие нововведения, новшества — а тогда как раз только что они появились в Москве… Я почему об этом говорю: в его характере было такое, даже в быту, ему очень нравилось все новое, я уж не говорю о поэзии… Потом, помню, встретились — он говорил, что познакомился с такой женщиной, у нее такие перстни прекрасные… Видимо, это когда он познакомился с Ахмадулиной.
А на школе сейчас две доски — что там учился Андрей Тарковский и Александр Мень (он был двумя годами младше). Школу надстроили, покрасили — это же был типовой проект по всей Москве, четырехэтажные кирпичные школы. Сейчас, правда, у нее другой номер…
Где «пороша», там и «Яроша»
Неизвестно, откуда в ранних стихах Вознесенского появился некий собирательный «сосед Букашкин», который «в кальсонах цвета промокашки». Но в квартире по соседству с ним жил сын сапожника Виктор Ярош — его поэт назовет «первым служителем муз», с которым его свела судьба.
До войны он напечатался в газете «Литература и искусство» и теперь продолжал писать под Есенина, рифмуя «пороша» и «Яроша» (с ударением на втором слоге для рифмы, смекнул юный Вознесенский). Ярошу надо отдать должное: он заворожил мальчишку Фетом, Тютчевым, Полонским, Федором Глинкой и Есениным. Он был «из числа безвестных бескорыстных рыцарей российской поэзии, их жизни нескладны, но озарены несбыточным».
Однако Ярош недолюбливал Пастернака. Сходил на его вечер в Политехнический и удивлялся: «Люди не понимают, что им действительно нужно любить». Вот потому-то… «на эстраде он кумир». А как-то приходит юный Вознесенский — сосед протягивает ему свежий номер газеты «Правда»: «Гляди-ка — Пастернака напечатали».
И пятиклассник Андрейка залпом прочитал до конца, потрясенный первой же строфой: «В зеленом зареве салюта…» Сосед же продолжал ворчать: «Мудрит все, мудрит — не может по-простому».
Вознесенский выбежал не попрощавшись — и перестал ходить к нему.
А потом на чердак, вечное место сборищ его с друзьями, одноклассник Жирик принес первую для Вознесенского зеленую книгу Пастернака.
Глава пятая НЕСЕТСЯ В ПОВЕРЬЯ ВЕРСТАК ПОД МОСКВОЙ
Почему позвонил Пастернак
За окном был дождь, даже ливень — это Вознесенский точно запомнил. Он просидел до утра над книжкой Пастернака, которую принес друг Жирик. Не мог оторваться, как под гипнозом. Шум и перестук воды за окном. «И возникающий в форточной раме / Дух сквозняка, задувающий пламя, / Свечка за свечкой явственно вслух: / Фук. Фук. Фук. Фук».
В «Вальсе с чертовщиной» послышалось вдруг: «„Этого бора вкусный цукат, к шапок разбору…“ — „Бор, бор“».
И в «Спекторском» опять: «„И целым бором ели, свесив брови, / Брели на полузанесенный дом…“ — „Бор, бор“».
Сквозь строки проступало имя: Борис.
В ту ли ночь услышал это Андрюша или чуть позже — важно, что услышал от-чет-ли-во. К утру он твердо знал, что должен написать ему. Взял тетрадку в линеечку и вывел что-то вроде: «Милый Борис Леонидович! Я очень уважаю Ваше творчество…»
Шел 1947 год. Ждал ли он ответа, тем более так скоро? У Андрюши был уже опыт, про который он потом никогда и не вспоминал: однажды он, мечтая о литературном поприще, написал прямо в секретариат Союза писателей СССР, лично товарищу генеральному секретарю Союза Александру Фадееву. Но на то письмо никто ничего отвечать и не собирался. А Пастернак — кто бы мог подумать? — позвонил вдруг, почти сразу же.
Ни о чем не подозревавшие родители, вспоминал потом Вознесенский, обомлели: «Тебя Пастернак к телефону!» Фразу эту Андрей Андреевич назовет поворотной в своей судьбе. И тетрадку с первыми стихами, которую он прислал тогда Пастернаку, Борис Леонидович, кстати, сохранит — она и сейчас находится в его архиве.
Потрясение от первой встречи — в квартире на Лаврушинском — нищий простор кабинета, аскеза во всем, оплывшая вязаная кофта. Первое чувство: ужас и обожание: «Я встретился с гением». От Пастернака он несся, обняв охапку рукописей, машинописную, только что законченную, первую часть романа «Доктор Живаго» и зеленую тетрадь стихов, сброшюрованную шелковым шнурком.
С этого дня встречаться они будут часто. Мальчишке Пастернак доверит самые сокровенные свои мысли и сердечные тайны. Почему? Почему он все-таки тогда позвонил? Писем Пастернак получал множество, графоманов — юных и не очень — хватало во все времена, отвечать он им не любил. Но тут — какое-то чутье, что ли. Вознесенский объяснит это так: «Он был одинок в те годы, отвержен, изнемог от травли, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину? Его тянуло к детству».
Андрюша быстро стал настоящим другом этого «вечного подростка». И участником всех его домашних застолий — а какие это были застолья, как скрупулезно готовились к ним каждый раз всей семьей! Здесь юный друг поэта лично познакомился с актером Борисом Ливановым, чтецом Дмитрием Журавлевым, режиссером Рубеном Симоновым, рассказчиком Ираклием Андрониковым, писателем Всеволодом Ивановым, пианистами Генрихом Нейгаузом, Святославом Рихтером. Однажды за столом рядом сидела Анна Ахматова. Правда, когда Пастернак предложил проводить ее, Андрюша сделал вид, что замешкался, и уступил эту честь Славе Рихтеру…
Понятно, что эта компания не была похожа на шпану, знакомую мальчишке по щипковским дворам. Да и по сравнению с серьезными отцовскими гидросооружениями и даже сердечной маминой родней с володимирскими колокольнями — шестикласснику Андрюше открылся совсем иной, новый мир.
Как они понимали друг друга? «Пастернак был человеком монолога, говорил вещи, которые трудно было сразу понять, поскольку у него все время прыгали ассоциации. Поэтому я просто открывал рот и слушал. Что-то, конечно, понимал, но и отставал очень сильно. Он был тогда в опале, ему не с кем было общаться, и он все выплескивал на меня».
Стихи Пастернака юный Вознесенский заучивал наизусть и шпарил страницами. В современной поэзии для школьника существовал теперь только «он — и остальные». Хотя Пастернак, чтивший Заболоцкого, спасший (в бытность свою членом правления Союза писателей, еще до войны) от разноса «Страну Муравию» Твардовского, понемногу отучал Вознесенского от школьного нигилизма.
Однажды, еще в том же Лаврушинском, Пастернак познакомил юного друга с грузинским поэтом Симоном Чиковани и попросил Андрюшу читать стихи.
На звон трамваев, одурев, облокотились облака.Пастернаку нравилось, что облака — облокотились. Симону Ивановичу — строка, в которой мелькнула девушка и где был «к облакам мольбою вскинутый балкон».
Вознесенский запомнит это, как свое первое публичное обсуждение.
А вскоре Андрей приведет родителей в ужас, отказавшись отмечать свой день рождения и принимать подарки: день этот траурный и вообще жизнь не сложилась. Это он, сам признавался, собезьянничал: Пастернак тоже не признавал своих дней рождения, считая их датами траура.
Это были его университеты, подарок судьбы. Конечно, он жадно учился — поначалу просто впитывая в себя все, как губка. Но и Пастернак находил в этом общении что-то очень важное для себя — неспроста же поэт напишет позже Андрею из больницы: «Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя». А свой фотопортрет, грубо подретушированный и подаренный ему Андреем, Пастернак радостно повесит в своем кабинете — он так и висит там по сей день.
Ученик у него так и останется один, и верный, — Вознесенский. «Несется в поверья / верстак под Москвой. / А я подмастерье / в его мастерской», — напишет ученик, когда у него прорежется свой голос.
Тройка за Лермонтова
Собственно с литераторшами Вознесенскому в школе не везло. В письмах, которые он писал еще шестиклассником родителям, — отцу часто приходилось участвовать в строительстве гидрообъектов по всей стране и, если мама отправлялась с ним, Андрюшу с сестрой Натальей оставляли на бабушку, Марию Андреевну, — так вот в этих письмах он, друживший уже с самим Пастернаком, просто изумляется учительнице литературы:
«За лермонтовское сочинение получил „тройку“. Оказалось несколько ошибок (я и Наташа пропустили и как-то не заметили), а главное — все перечеркнуто красным карандашом и подписано: „Не понятно“. Например, „разряженная тишина эпохи“ (в которой звучал голос Лермонтова). „Что это значит?“ И вывод: „Влияние декадентов“. Это она, учительница, мне сказала после уроков. Очень неприятно, что ко всему она приплетает этих декадентов. Я после уроков зашел к ней и сказал, что декадентов я не люблю, и даже если это и было, то давно прошло. Она всё: „Ты этих декадентов брось! Они такие, сякие!“».
Следующее письмо родителям — через месяц — о том, как он встретился с Борисом Леонидовичем в Доме ученых, после лекции Ираклия Андроникова, главного и увлекательнейшего рассказчика о жизни и творчестве Лермонтова:
«Он <Пастернак> говорил, что у него масса статей о Шекспире, Шопене, Лермонтове. Я рассказал ему про „тройку“ за сочинение о Лермонтове, про „разряженную тишину“ и т. д. Потом пошли домой пешком к метро. Говорили-говорили, и вдруг догоняет нас группа, девушки и взрослые: „Борис Леонидович, извините, мы к вам. Выражаем восхищение вами“. Он поблагодарил, обрадовался. Когда они ушли, я сказал: „Вот видите, не я один!“ Но он расстроился. Сказал, что <…> он страшно одинок. Потом об одиночестве в искусстве, о жертвах. Страшно было глядеть со стороны. Дождь… Растрепанная фигура машет руками, очень громко, взволнованно, навзрыд говорит. Обитые края шляпы, поношенный макинтош, кашне развевается на ветру. Все оглядываются, удивляются. Он говорит, что в иностранных антологиях первое место отводится Пушкину, а дальше по количеству стихов идет Пастернак».
К слову, Лермонтову посвятил Пастернак свою лучшую книгу «Сестра моя — жизнь», и любил он Лермонтова «как ребенка, вырвавшегося из-под опеки взрослых». Со всеми его страстями — а какие это были страсти! Как раз Ираклий Андроников любил рассказывать о тайне некой Н. Ф. И. — Натальи Федоровны Ивановой, которой юный Лермонтов посвятил три десятка стихотворений, объяснив избраннице угрюмо, что она крадет его у Поэзии и могла бы ценить свое счастье: «…мой ангел, ты со мною не умрешь». Вот так и Вознесенский будет потом всю жизнь разрываться между земным чувством и тем, что диктуют поэту небеса.
Что же до учителей литературы — если с ними Вознесенскому и не везло, то в школе все же была у него родная душа, и о ней далее — отдельная история. Пока же скажем только, что говорить о литературе в школе Андрей будет скорее с любимой учительницей английского языка… Ах, с этими школьными менторами юных дарований лучше ухо держать востро.
Вот сослали Лермонтова на Кавказ за стихи — и суровая его бабка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, первым делом обвинила учителя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе!»
А Пушкин? Уже умирая — вздыхает… по кому? По однокашнику, а также по директору Лицея, Василию Федоровичу: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать». Малиновского тоже можно упрекнуть — вот до чего довел поэта автор «Записки об освобождении рабов», проповедник «лицейского духа».
Вознесенский вспомнит свою англичанку не раз — и в воспоминаниях о Пастернаке, между прочим, тоже.
Скульптор Зоя Масленникова, два года работавшая над портретом Пастернака, запишет позже, как Борис Леонидович рассказывал про школьные годы Вознесенского:
«На выпускном экзамене по литературе его попросили прочесть на выбор стихотворение советского поэта. Он прочел мои стихи. Это было вызовом. Но все-таки ему поставили пятерку. <…> Он советовался со мной, куда ему поступить, и я отговорил его идти в Литературный институт. Он поступил в Архитектурный. Он одаренный поэт, стихи его написаны под напором, его захлестывает материал, и он не успевает сказать всего, что хочет, от этой недоговоренности создается энергия и стремительность ритма. Он стал архитектором и начал печататься».
Ставил ли он мне голос?
Подростки встречаются разные, но в чем они все одинаковы — с ними фальшивить трудно, не проведешь. Не скажут ничего, поймут, даже если ты ошибаешься, — лишь бы не врал, будь ты хоть трижды великий.
Чем пленил Пастернак подростка — совершенной доверительностью. В словах и жестах, во всем — касалось это работы или сердечной смуты. Борис Леонидович не был святым, он мог быть неправ, бывал и противоречив — он для Андрюши, для Андрея Андреевича, стал с тех пор навсегда не критерием «истины на все случаи жизни», а единицей измерения искренности: во все, что делаешь и говоришь, — надо верить. Можно заблуждаться, можно жить иллюзиями, обстоятельства жизни могут заставить поэта чего-то не сделать и не сказать — но ничто не заставит слукавить. Если сам не захочет.
Можно ли сказать конкретнее: в чем все-таки — уроки Пастернака? Вознесенского об этом спрашивали часто, ответ его всегда был прост: «Ставил ли он мне голос? Он просто говорил, что ему нравится и почему».
Отношения Пастернака с властью никогда не были односложны. Так же непросто они сложатся у Вознесенского. Естественно, до Андрея не раз долетали отголоски окололитературных пересудов об «особом отношении» Сталина к Пастернаку, об истории с арестом Мандельштама. История известная, многократно пересказанная. Сталин тогда, после ареста, лично позвонил Пастернаку, допытываясь: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело же не в этом…» — «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» — «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку.
Укоряли Бориса Леонидовича этой историей чаще, чем пытались понять. Отчего у Пастернака и времена «оттепели» вызовут лишь горькую иронию: разумеется, куда уж «страшному и жестокому Сталину» против «нынешней возвышенности и блеска»? А отчего много лет спустя, когда «перестройка» сменит в очередной раз «страшное и жестокое» прошлое возвышенностью и блеском нового «шкурного аршина», тот же пастернаковский скепсис будет сквозить уже в строках Вознесенского: «…нельзя сваливать все на тупость тоталитаризма. Окололитературное болото, средняя арифметическая серость были совершенно искренни. Они мстили гению»? Сказано это и про Пастернака, и отчасти уже про себя… Потому что верность предназначению поэта — слагать текст эпохи из слов о жизни и смерти — останется важным уроком для Андрюши на времена принудительного единомыслия, принудительного всякомыслия или принудительного пустомыслия. На все, одним словом, времена.
Тени сердечных тайн Пастернака, в которые тоже скоро оказался посвящен Андрюша, не могли не волновать подростка: он чувствовал себя соучастником, воображение его рисовало — да чего только не рисует воображение подростков! А сколько муз потом выплывет из этого воображения в реальную явь! «Доктор Живаго», напишет Вознесенский, создан «методом метафорической автобиографии» — и вся его собственная поэзия станет, кажется, такой метафорической автобиографией. Тени Маргарит будут скользить над Фаустом — и, отсылая к Пастернаку, он будет писать о себе: «На суде, в раю или в аду, / скажет он, когда придут истцы: / „Я любил двух женщин как одну, / хоть они совсем не близнецы“». И возвращаясь к Пастернаку в последние годы жизни — опять, как о себе самом: поэт соединяет несоединимых Зину, Люсю и «не помню имени».
Держава рухнет треснувшею льдиною. ПОЭТ — ЭТО РАСПЛАТА ЗА НЕСОЕ ДИНИМОЕ.Чему научился мальчик у Бориса Леонидовича? Запирать красоту в темном тереме стихотворения, продиктованного небом. Дело было не только в точности образа, а еще и в «дыхании, напряжении времени, сверхзадаче» — в том, что Пастернак называл «сила».
Хорошая мальчишеская смелость
Однажды после военных летних лагерей Вознесенский, уже студент Архитектурного института, принесет Пастернаку новые стихи, еще одну тетрадь. Пастернак одобрит в них «раскованность и образность», но добавит, что «включил бы их в свой сборник». Похвалил? Вознесенский вспомнит свое состояние тогда: «Я просиял. Сам Пастернак взял бы их! А пришел домой — решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом пошли „Гойя“ и другие, уже мои».
— Борис Леонидович, сегодня в «Литературной газете» стихи Вознесенского, — с этим известием придет в пятьдесят восьмом году к Пастернаку скульптор Зоя Масленникова. — Я вам принесла, хотите посмотреть?
— Да, спасибо.
Она опишет в воспоминаниях, как Пастернак читает, опершись о стол руками, согнута спина, выступают лопатки. «Прочитав, говорит: „Хорошие стихи. Он мне их показывал. <…> Андрюша очень способный. И в нем есть хорошая мальчишеская смелость. Он может занять одно из первых мест в литературе“».
Потом читает вслух несколько строк и опять: «Правда, хорошо? Спасибо, что вы мне показали газету. Я сегодня как раз пойду звонить по телефону, заодно позвоню Андрюше и поздравлю его — мальчику будет приятно. Он что-то значит в моем существовании, он какая-то спица в колеснице моей судьбы».
А все начиналось в сорок седьмом — в том самом году, когда они познакомились.
Знал ли Пастернак, что знакомство их совпало с «первой любовью» школьника Вознесенского?
Глава шестая ЗАГАДКА ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ
Дорогая Марина Георгиевна
Вознесенский окончил московскую школу № 554 в пятьдесят первом с серебряной медалью. С английским у него было отлично.
Сорок с лишним лет спустя, в 1993-м, бывшая его учительница английского Марина Георгиевна, к тому времени уже «Отличник народного просвещения СССР» (был такой знак отличия), частенько чаевничала с соседкой-десятиклассницей Машей Шаровой, у которой на носу были выпускные экзамены. Марина Георгиевна помогала ей с английским, причем бесплатно, это был принцип — денег с учеников, даже при полном своем безденежье в девяностые, не брала. Прожила до конца жизни, 1995-го, в коммуналке с принципами.
— Как она умела кивнуть головой, как говорила, передать невозможно, столько в интонациях полутонов и оттенков, — вспоминает Маша Шарова, теперь уже научный сотрудник Института экономики РАН. — Общаться Марине Георгиевне было не с кем, жила она в одиночестве — вот глупая была, не записывала ее рассказы, она же «человек-эпоха». Эпоха, она же не только в судьбах великих, а и в тех, без кого и великие биографии могли сложиться немножечко по-другому.
Словом, Марина Георгиевна была отдельная штучка, не как все. Странно: англичанку школьники считали самой строгой — но из восторгов их можно сшить бухарский халат. Отчего, почему?
Вот как писал об этом один из однокашников Вознесенского — журналист, писатель Юрий Безелянский: «Она приносила в школу своим любимым ученикам редкие или запретные тогда книги, например Анну Ахматову. Устраивала литературные семинары — однажды по ее совету я выступил с докладом о творчестве Байрона. Шел 1949 год, и надо было иметь определенную смелость говорить не о Фадееве или Шолохове, а именно о лорде Байроне…»
Следом — признание другого одноклассника, Юрия Кочеврина, доктора экономических наук, до самой пенсии служившего в Российской академии наук: «Такое бывает редко — чтобы учитель и внутренне содержателен, и умел так себя поставить, что на занятиях все как шелковые. Она и держалась немного в стороне от остальных учителей… Поразительно, как сумела она увлечь нас поэзией Эдгара По, Китса, Шелли. До сих пор помню какие-то стихи, которые мы тогда с ней разучивали. И это, кстати, нас в те годы сблизило с Вознесенским — любовь к английской поэзии. Конечно, и я тоже очень любил Марину Георгиевну…»
Почему же у любимого ученика, Вознесенского, о ней ни слова? Через семь лет после школы, в 1958-м, Вознесенский написал загадочное стихотворение «Елена Сергеевна». Вроде бы не про Марину Георгиевну. Опубликовано оно было в «Мозаике», первом сборнике поэта, вышедшем в 1960 году. Последняя строчка была вычеркнута цензурой: оборвали на «Ленку сшибли, как птицу влет…». Убрали — «Елена Сергеевна водку пьет».
В те же годы, вспоминал Андрей Андреевич, как-то 1 сентября, в День учителя, он прочел в вечернем телеэфире невинные стихи «Елена Сергеевна» о безумном романе ученика и учительницы английского. «ЦК был в ярости. Потом меня клеймили с экрана. Учительская общественность клокотала. Меня запретили давать по телевизору».
«Борька — Любку, Чубук — двух Мил, / а он учителку полюбил! / Елена Сергеевна, ах, она… / (Ленка по уши влюблена!)». Понятно, отчего клокотали непорочные учителя. Они и в самом стихотворении вместе с родителями влюбленного юнца дружно расправляются с потерявшей голову Еленой Сергеевной:
Педсоветы сидят: «Учтите, Вы советский никак учитель! На Смоленской вас вместе видели…» Как возмездье, грядут родители. Ленка-хищница, Ленка-мразь, Ты ребенка втоптала в грязь!Надо заметить: сюжеты со школьными «романами» увлекали многих — особенно киношников. В пятидесятых, когда Вознесенский написал «Елену Сергеевну», Марлен Хуциев снял «Весну на Заречной улице» — про любовь учительницы Татьяны Сергеевны и ее ученика Савченко. Фильм, уступивший в прокате лишь итальянским «Утраченным грезам», получил первый приз на Московском фестивале молодежи и студентов 1957 года. В шестидесятых появится картина Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника», где бывшая ученица, уже став учительницей Натальей Сергеевной, по-прежнему влюблена в своего учителя Илью Семеновича. В семидесятых в «Большой перемене» Алексея Коренева ученица четыре серии подряд сохнет по классруку Нестору Петровичу. А в восьмидесятых появляется «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова. Случайно ли совпало имя? Вряд ли. Но это будет новое время, никакой любви, и учительнице, будто сбежавшей из стихотворения Вознесенского, совсем другой, циничный школьник объяснит, как его «мужские достоинства целиком зависят от ее женственности».
У Вознесенского все было не так. Хотел бы он, чтобы в Елене Сергеевне совсем никак нельзя было узнать Марину Георгиевну, — зашифровал бы получше. Но нет же. Хотя, конечно, героиня стихотворения и учительница Марина Георгиевна — все-таки не одно и то же.
Так что за тайну открыл Андрей Тарковский однокласснику поэта, Юрию Кочеврину (помните, о ней шла речь в самом начале книги)?
Первая любовь
Все то, о чем могли секретничать одноклассники, рассказал и сам Вознесенский, тут и придумывать нечего. Читаем. «Мне 14 лет».
Пастернак дал почитать юному другу новые стихи, в том числе «Осень», где — «Ты так же сбрасываешь платье, / Как роща сбрасывает листья, / Когда ты падаешь в объятье / В халате с шелковою кистью». За этими строчками Пастернака, понимал уже тогда школьник, явно скользила тень Ольги Ивинской. И утром Борис Леонидович звонит, обеспокоенный ревнивыми упреками жены, Зинаиды Николаевны: не чересчур ли откровенно для школьника?
А что же школьник? Раздумья, на которые навел его звонок Пастернака, столь откровенны и эмоциональны, что пересказывать их грех:
«Я чувствовал себя его сообщником. У меня тогда уже была тайная жизнь.
Знакомство с ним совпало с моей первой любовью.
Она была учительницей английского в нашей школе. Роман наш начался внезапно и обвально. Жила она в общежитии на Ордынке. Мы целовались на ночных зимних лавочках, из-под которых выныривали вездесущие третьеклассники и радостно вопили: „Здравствуйте, Елена Сергеевна!“
А как сердце обмирало при молчании в телефонной трубке!
Фантазерка, в прошлом натурщица у Герасимова, что нашла она в неопытном школьнике?
Ты опоздал на десять лет, Но все-таки тебя мне надо, —читала она мне (Ахматову. — И. В.). И распускала черные косы.
В ней был неосознанный протест против ненавидимого порядка жизни — эти перехватывающие дух свидания в темной учительской, любовь казалась нам нашей революцией. Родители были в ужасе, а мы читали с ней „Джаз“ Казарновского, ее бывшего приятеля, сгинувшего в лагере. Она притаскивала мне старые номера „Красной нови“, которые выбрасывались из школьной библиотеки. Загадочный мир маячил за ней. „Уходить раз и навсегда“ — это было ее уроком.
Ей одной я доверил свое знакомство с Пастернаком, дал почитать рукопись „Доктора Живаго“. Она подтрунивала над длинными именами-отчествами героев, дразнила меня якобы непониманием. Может быть, она ревновала?
Красивый авантюризм был в ее характере. Она привила мне вкус к риску и театральности жизни. Она стала моей второй тайной жизнью. Первой тайной жизнью был Пастернак.
Как среда обитания поэту необходима тайная жизнь, тайная свобода. Без нее нет поэта».
Так был ли в школе скандал? Возможно, школьному руководству было просто не до того. Поэт вспоминал про спившихся директоров своей школы, крутивших поочередно любовь с заведующей методкабинетом, роковой брюнеткой, проходившей по делам о их растратах. И все же, если история была — и не выплыла наружу… Можно предположить что угодно: например, каким-то образом родители Андрея — папа все-таки руководил серьезным институтом — вовремя «погасили» огонь, оберегая сына от неприятностей. Или — вероятнее всего — в воображении пылкого юноши, в угоду поэту, было больше желаемого, чем действительного: опасные связи, запретные двери…
Кстати, в стихотворении Вознесенский отправил «сбитую влет» Елену Сергеевну в Алма-Ату. Почему именно туда? Может, выбор случаен, а может, неспроста упоминается в его рассказе приятель Елены Сергеевны/Марины Георгиевны, поэт Юрий Казарновский. Тот спился и сгинул после Соловков как раз в середине 1950-х в той самой Алма-Ате. Кто знает. Хотя совпадения, учит сам Вознесенский, случайными не бывают.
В шестьдесят пятом у него вдруг появится такой же странный «Эскиз поэмы»: «Меня не ищи. Ты узнаешь от матери, / что я уехала в Алма-Ату. / Со следующей женщиной будь повнимательней. / Не проморгай ее, женщину ту». Опять Алма-Ата. Случайность или нет — гадать не будем.
И все же: «первая любовь», «вторая после Пастернака тайна». Слова поэта так многозначительны.
От ИФЛИ к Аннабел Ли
Одноклассники Вознесенского уверяют, что Марина Георгиевна училась в ИФЛИ — Институте философии, литературы и истории, просуществовавшем с тридцатых годов по сорок первый. Сама Марина Георгиевна говорила соседке Маше Шаровой про свою учебу на Высших государственных литературных курсах Моспрофобра — в просторечии «брюсовских»: они появились в 1925–1929 годах взамен прихлопнутого Худлитинститута, организованного после революции поэтом Валерием Брюсовым. На этих курсах и мать Вознесенского, Антонина Сергеевна, училась. Курсы закрыли — но некоторые студенты доучивались в ИФЛИ, появившемся через несколько лет.
Вспоминая про ИФЛИ, нередко рифмуют вольнодумный «лицейский дух» с «ифлийским духом», в котором кто-то увидел и предвестие «шестидесятников». Надо только учитывать, что это «вольнодумство», равно как и пушкинское, не несло в себе лишь один узкий смысл, который в него стали вкладывать позже. Прокричать в тридцать седьмом во время демонстрации на Красной площади «Да здравствует Пастернак!» (известно такое) было весело, но не страшно — Пастернак тогда не был в опале. Врагами государства эти вольнодумцы не были — просто искреннее, чем предписывалось, верили в высокие идеалы, под знаком которых Советское государство рождалось. У одних эта вера принимала самые пошлые формы, помогавшие карьерному росту. Другие запомнились поэтическими устремлениями: хотели, по словам ифлийца Давида Самойлова, стать «очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся предыдущее поколение».
Дело не в том, училась в ИФЛИ Марина Георгиевна или нет, — послевоенный московский воздух сам по себе казался «ифлийским», напитанным пафосом и сомнением, — этим воздухом и школьники дышали, в этом воздухе росли Вознесенский, Тарковский и их одноклассники.
ИФЛИ, не ИФЛИ — а Марина Георгиевна рассказывала им про вечную любовь Эдгара По к своей Аннабел Ли. И Вознесенский вспомнит это тоже много лет спустя:
«„Аннабел Ли, Аннабел Ли“, — бубнили мои товарищи по классу, завороженные непонятностью дальних созвучий, а может быть, неосознанно влюбленные в губы произносящей их нашей англичанки»…
Ах эти губы англичанки, ах, Аннабел Ли.
Где просвещения дух, там, как известно, и чудны открытия.
Рассказ Марии Шаровой, соседки и ученицы «Елены Сергеевны»
— Звали ее на самом деле Амалия-Марина, через дефис. Но она эту Амалию не признавала, ни в коем случае, никакой Амалии. Год рождения, она говорила, 1910-й, а на надгробии написано почему-то — 1909. Умерла она четвертого апреля 1995 года.
Мы общались, когда ей было уже за восемьдесят — жили с ней в одном подъезде. Дни рождения свои она не отмечала, да и Новый год переносила с трудом, кому приятно встречать его в одиночестве. Сначала она помогала мне с английским, в девяносто третьем я как раз заканчивала школу. Потом приходила просто так… Темненькая такая, невысокого роста, худенькая, с седыми уже волосами, зато когда начинала рассказывать — такие огромные сияющие глаза!
Жалею, что я ничего не записывала. Она, сколько ее помню, никогда не сидела со старушками на лавочках, зато, случись что-нибудь, — тут как тут, бросалась в середину любой драки. Такая — «кто, если не я». И, как ни странно, все разбегались, мало ли чего ждать от странной бабуськи. Ничего не боялась, и у нее такой характер, видимо, был с молодости.
Она же и с мужем своим познакомилась на пожаре: увидела — пожар, кинулась что-то спасать. Владелец спасенного ею добра в благодарность повел ее, как была, с обгорелыми рукавами, в ресторан «Метрополя». Отец «погорельца», ставшего ее мужем, служил во французском посольстве, и позже, в начале тридцатых, оба они уехали во Францию. А она осталась. Даже фамилии его не знаю… Детей у них не было, больше замуж она не выходила, прожила одна.
Родители ее жили на Арбате, отец-армянин когда-то учился в Духовной академии в Эчмиадзине, но в конечном счете стал историком, преподавал в Москве, в университете. Мама из деревни, с четырьмя классами церковно-приходской школы, набожная очень. Однажды, как раз когда должна была родиться Марина Георгиевна, кто-то донес на отца, допускавшего какие-то вольнодумные речи на лекциях. Дело кончилось тем, что его, как подстрекателя, сослали в Домбровские рудники, в Польшу. Так что дочь родилась, когда отец уже сидел. И пока его не было, мама ничего лучше не придумала, как отправить малышку к своей сестре в город Козлов, который сейчас Мичуринск. Имя назвала — Марина, но тетка с мужем записали в церковных книгах: Амалия-Марина, чтоб красивей было.
Отпустили отца, кстати, после поручительства польского писателя Генрика Сенкевича, получившего в те годы как раз Нобелевскую премию. Так что в их семье Сенкевич очень почитался, мама всегда молилась за его здоровье.
Еще одно воспоминание из детства — в комнате лежала книга Лермонтова с картинками. И папа всегда говорил — читайте, но прежде чем берете книгу — руки помойте.
После революции жили они голодно и плохо, и вдруг нэп, на Арбате появился Торгсин — ну, тот самый, в котором у Булгакова Коровьев с Бегемотом безобразничали, — там какое-то изобилие, а денег-то дома нет. И они с братом, втайне от родителей, снесли все, что было из драгметаллов, — оклады от маминых икон, золотые оправы от отцовых очков. Очень радовались, что принесли домой гору продуктов. Но папа их радость не разделил…
В школе были сплошные политинформации, так что папа занимался с ней сам. Потом ходила на Высшие государственные литературные курсы, «брюсовские». Помню, она так ярко и образно рассказывала про Маяковского, что у меня не было и тени сомнений в том, что она его видела. Маяковский приходил на лекции, засучивал рукава и начинал спорить, — все его лекции сводились к бесконечным спорам с аудиторией.
Потом она вспоминала, что у них с курса ребят посадили — после убийства Кирова в декабре 1934-го: они где-то катались на лодке, кто-то сказал, что Киров погиб не случайно — и всех в итоге забрали. Она даже читала стихи этих ребят, но я их, к сожалению, не помню… К тому времени, кстати, курсы были закрыты, зато появился ИФЛИ, так что, может быть, она действительно училась там. Готовили их, она говорила, на военных переводчиков.
Однажды по комсомольской путевке ее послали на три месяца в шахты, «шефствовать» над шестнадцатью зэками, реальными уголовниками. Ей удалось с ними поладить, и ее оставили в шахтах на год. У нее с тех пор на всю жизнь осталась астма. Зато когда в девяностых годах на телевидении появилась передача «В нашу гавань заходили корабли», где звучали в том числе и блатные мотивы, — она смеялась: о, эту песню я знаю! Когда началась война, она просилась на фронт — ее не взяли по здоровью, но отправили в школу для малолетних преступников. Чтобы найти с ними общий язык, она полгода читала им одни только сказки… Первый педагогический опыт.
Она очень дружила с семьей актера Ивана Михайловича Москвина, возглавившего МХАТ после смерти Немировича-Данченко. В годы войны, уезжая с театром в эвакуацию, Москвин оставил ей ключи присматривать за квартирой. Из того же Мичуринска, где жила ее тетка, был у нее друг — художник Александр Михайлович Герасимов, возглавивший до войны Союз художников, а после — Академию художеств СССР. Она и позировала ему, и, скажем, подбирала для него в архивах материалы по Петру Первому, и задолго, кстати, до появления скульптуры Михаила Шемякина в Петропавловской крепости говорила, что части тела у Петра очень непропорциональны. Но главное, благодаря Герасимову у нее был доступ к архивам, в том числе и закрытым.
Она знала столько наизусть одной Ахматовой — стихи возникали у нее по любому случаю. Ближе всего ей был Серебряный век. В те годы, когда у нее учились Тарковский с Вознесенским, она увлекалась скандинавскими писателями, — и потом она с удовольствием находила эти «скандинавские» мотивы в «Жертвоприношении», «Ностальгии», «Зеркале». Хотя больше всего ценила у Тарковского «Андрея Рублева».
В том, что Вознесенский поступил в Архитектурный, уверяла, была и ее заслуга, — не зря, мол, столько таскала их по усадьбам Москвы, которые очень хорошо знала. Но разговоров о поэзии Вознесенского она избегала. Что-то в воспоминаниях о школе ее тяготило… Сейчас в том здании, где была 554-я мужская школа Москворецкого района, вальдорфская школа № 1060.
Миф о Маргарите
Остается еще вопрос: почему в пятьдесят восьмом году Вознесенский выберет для Марины Георгиевны именно это имя — Елена Сергеевна? Случаен ли шифр? Вряд ли.
Тут можно говорить, пожалуй, об одном из самых загадочных литературных мифов XX столетия, «мифе о Елене Сергеевне». При всей условности сравнения — примерно так же до середины XIX века в русском культурном сознании витал «миф о Нине».
Между прочим, автор блестящего исследования «мифа о Нине», Александр Борисович Пеньковский, создавал его как раз в годы работы во Владимирском университете, в тех самых краях, откуда есть пошли Вознесенские — это так, еще одно совпадение к слову. Его интересовало, отчего в золотую эпоху русской литературы поэтов преследовал образ роковой женщины-вамп. Она появляется в поэме Баратынского «Бал», она выглядывает вдруг из подтекста двух великих произведений — «Маскарада» Лермонтова и «Евгения Онегина» Пушкина. Ну, та самая Клеопатра Невы, Нина Воронская, севшая рядом с Татьяной Лариной и не сумевшая «мраморной красою затмить соседку».
С Еленой Сергеевной, вдовой Михаила Булгакова, Вознесенский познакомился задолго до того, как в 1967 году был наконец опубликован роман «Мастер и Маргарита». Легенды о книге, однажды сожженной, переписанной и не издававшейся больше двух десятков лет, кружили в литературных московских кругах и волновали умы. Как и сама история Елены Сергеевны Шкловской, ушедшей от блестящего генерала к «неудачливому» литератору — знакомство их и окажется потом встречей Мастера и Маргариты. Образы булгаковские вылезали отовсюду, Вознесенскому кажется, что телефонный звонок Сталина Пастернаку после ареста Мандельштама, «вероятно, и дал импульс Булгакову к „Мастеру и Маргарите“, к линии Мастера и Воланда».
Елена Сергеевна — Маргарита — казалась идеальным образом роковой красавицы. «Боги, боги мои! — пульсировали строки из романа Булгакова. — Что же нужно было этой женщине?! Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек, что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно».
Случайно ли, по наитию, но юный Вознесенский увидел такой роковой Еленой Сергеевной любимую школьную учительницу. Кстати, известно, что и одноклассник его Тарковский мечтал о «Мастере и Маргарите», думал снять Маргариту Терехову в главной роли…
Но Еленой Сергеевной от Вознесенского дело не ограничилось.
В 1967 году фантаст Кир Булычев на 35 лет заводит цикл рассказов про обитателей и неземных пришельцев города Великий Гусляр, вдохновленный знакомой библиотекаршей из Великого Устюга, — и в книгах Булычева она остается под своим именем — Елена Сергеевна Кастельская. В «Марсианском зелье» Елену Сергеевну, как ту самую Маргариту чудесным кремом, искушают омолаживающим эликсиром: «Елена Сергеевна старалась остаться на сугубо научной почве, обойтись без чудес и сомнительных марсиан. Но было страшно».
В 1979 году Людмила Разумовская пишет пьесу «Дорогая Елена Сергеевна», по которой позже снимет фильм Эльдар Рязанов. У героини ее, идейной «газетной передовицы в юбке», как у всякой Елены Сергеевны, тоже непростая личная история: «Ах как хорошо быть влюбленным!.. К сожалению, у меня так ничего и не вышло».
Миф продолжается, играя новыми оттенками. И вот уже модель Елена Сергеевна Щапова, расставшись с мужем-писателем Эдуардом Лимоновым, вдохновляет его на книгу «Это я — Эдичка». Ее менее известным ответом бывшему супругу стало сочинение под названием «Это я — Елена». Теперь уже вдова графа де Карли, эта Елена Сергеевна охотно рассказывает, кому она отказала, а кому нет. Вспоминает про знакомство с Лилей Брик. И как когда-то сама писала стихи (вместе с Генрихом Сапгиром входила в литобъединение «Конкрет»): «В кругу ловили скользких дам охотники на жен прохладных…»
Время меняет образ Елены Сергеевны, круги расходятся, пересекаясь вновь и вновь.
Роковые женщины, Елены Сергеевны XX века. Твердые в своих принципах или своей беспринципности. Одинокие, загадочные и земные одновременно. И все стали музами своих поэтов.
Думал об этом Вознесенский или нет — но его тайная Марина Георгиевна попала в поэтическую бездну мифа. Собственно, тут, на просторе мифологии, она действительно уже не та прекрасная учительница английского Марина Георгиевна, а готовая к полетам роковая Елена Сергеевна.
В 1998 году по Москве прошел ураган, сваливший множество деревьев и надгробий на Новодевичьем. Вознесенский поедет туда, проберется к могиле родителей. А потом появится его поэма «Гуру урагана», в которой оживают Новодевичьи тени из прошлого, друзья и обидчики, грешные и святые, Фурцева и Уланова, Маршак и Асеев, все те, кого кружило вихрем по жизни вокруг Вознесенского. И среди теней — «нежнейшее чье колено / вылазит сквозь трещину? / Помилуй Боже, Елена… Я знал эту женщину». Кто эта Елена? Может, вдова Булгакова? Может, Елена Тагер, открывшая когда-то Вознесенскому рукописи Марины Цветаевой. Может, кто-то еще. У этой тени могут быть черты многих Елен. Так безгранично раздвигались пространства и в «Мастере и Маргарите»… И откуда-то вечно слышится шепот Мандельштама: «Греки сбондили Елену / По волнам, / Ну, а мне — соленой пеной по губам…»
К тому времени, когда случился ураган, прошло три года, как не стало и той Елены Сергеевны, которая Марина Георгиевна. Поклонимся славной учительнице английского Марине Георгиевне, вдохновившей Андрюшу, — и отправимся дальше.
О спасибо моя учительница за твою высоту лучистую как сквозь первый ночной снежок я затверживал твой урок…ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 1951–1960 ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ
Пять загадочных событий
26 июля 1951 года. Первая берестяная грамота из Неревского раскопа под Новгородом. В грамоте № 531 (начало XIII века) новгородка Анна просит брата проучить злодея Коснятина, который за долги обзывает ее (сестру) с дочкой по-всякому: «назовало еси сьстроу коуровою и доцере блядею». Бывали грамоты и ядреней.
Октябрь 1954 года. Нобелевская премия Эрнесту Хемингуэю за повесть «Старик и море». Через четыре года он предложит свой дом на Кубе в подарок нобелевскому лауреату 1958 года Борису Пастернаку, если того выставят из СССР.
18 июня 1955 года. Организатор «тайного притона с пьянкой и совращением девушек» Георгий Александров снят с должности министра культуры СССР (официально — за упущения в работе) и отправлен сотрудником в Институт философии Белорусской академии наук. Причастность к скандалу актрисы Аллы Ларионовой и балерины Софьи Головкиной опровергнута. Александров и его «соучастник» академик Еголин скоро умерли от сердечных приступов. Другой «соучастник» профессор Кружков стал директором Института истории искусств.
13 мая 1956 года. «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии… Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных…» (Из предсмертной записки Александра Фадеева, застрелившегося на даче в Переделкине.)
28 ноября 1956 года. «Порядочная девушка не наденет такую вещь!» — кинокритики о купальнике бикини, в котором появилась изнемогавшая от желаний в этом лживом мире Жюльетт, героиня Брижит Бардо, в фильме Роже Вадима «И Бог создал женщину». Полиция американского Далласа запрещает смотреть это кино неграм: возбудятся и будут безобразничать.
Из словарика студента МАРХИ
Фишка — самая простая фигурка для чьей-то игры, альтернатива которой одна: самому стать игроком. Кто мы, фишки или великие?
Челка пчелочкой — самый необязательный, но пикантный элемент девчачьей прически. Помнишь полечку, челка пчелочкой?
Формализм — самое страшное заклятие партийных вуду, применяемое в сочетании с формалином и фимиамом для запугивания непослушных детей и поэтов.
Горилла краснозадая — самый пожароопасный вид пожирателя дипломных работ, открывающийся тому, кто смотрит с улицы на горящие окна.
Бульдик — самое московское (не питерское!) дворовое словечко, обозначающее «булыжник»: устанешь бульдики разбрасывать — будешь «на щеке твоей душной — „Андрюшкой“».
Поэтические сборники Андрея Вознесенского
Мозаика. Владимир: Книжное издательство, 1960. Парабола. М.: Советский писатель, 1960.
Глава первая ОЙ, ГОРИМ!
Юность, феникс, дурочка
Пятидесятые для Вознесенского начнутся с «архи». Архиважный вопрос, между прочим: куда поступать? Андрюша решил все задолго до окончания школы: в Архитектурный. Целый год, с пятидесятого, исправно занимался на подготовительных курсах.
Все-таки резонно было думать, что он выберет Литинститут. Но… и родители были двумя руками за МАРХИ: поэтические перспективы сына — дело туманное, а тут профессия достойная, и творческая вполне. Борис Леонидович тоже одобрил этот выбор: поэтом можно стать без специального диплома, зато отравиться окололитературной средой можно запросто. А зачем это — раньше времени?
К тому же Архитектурный был Пастернаку по-своему дорог. В самом здании института находился прежде отцовский ВХУТЕМАС. Здесь преподавал конструкции брат Пастернака, Александр Леонидович, — четверть века, до пятьдесят пятого года. И, опережая события, заметим: даже мастерская, в которую уже дипломником попадет Вознесенский, окажется — строго по Пастернаку — именно «в том крыле, где рабфак» и «где наверху мастерская отца».
Та самая мастерская, которая сгорит.
Пожар! Какие, к черту, хронологии? Несемся, перепрыгнув быстренько туда, в то майское утро 1957 года, когда дипломник Вознесенский с полутораметровым подрамником на плече подходит к Трубной… Потом он восстановит этот день в своем эссе «Путеводитель к сборнику „Дубовый лист виолончельный“», подробно прошагав с читателем опять от дома к институту:
«…Но почему навстречу вам из институтских ворот выезжает пожарная машина? Двор заполнен возбужденными сокурсниками. Они сообщают вам, что ночью пожар уничтожил вашу мастерскую и все дипломные проекты. Годы архитектуры кончились. Начались годы стихов».
Вот ведь: случившийся «Пожар в Архитектурном институте» стал знаком, вехой. Этот самый «Пожар» Вознесенский будет звонко и бесшабашно читать со сцены Политехнического в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича» — шокируя сравнением горящих окон с краснозадыми гориллами. Хотя это потом, потом, когда окажется, что выпускник МАРХИ — новое имя в поэзии. Причем от имени этого — Андрей Вознесенский — аудитории и стадионы внезапно посходят с ума.
Это потом, а пока, майским утром пятьдесят седьмого, —
Бутылью керосиновой взвилось пять лет и зим… Кариночка Красильникова, ой! горим! Прощай, архитектура! Пылайте широко, коровники в амурах, райкомы в рококо! О юность, феникс, дурочка, весь в пламени диплом! Ты машешь красной юбочкой и дразнишь язычком…Были еще варианты стихотворения, вместо «райкомов» — то подцензурные «райклубы», то «сберкассы». С этим неясностей нет. Непонятно другое: кто эта Кариночка Красильникова? Что делает девушка на пожаре?
Нечасто поэты называют своих героинь их настоящими именами — а Кариночка Красильникова из «Пожара в Архитектурном» самая что ни на есть настоящая: пять лет была однокурсницей Андрея Вознесенского и не подозревала, что он поэт и что ей предстоит навсегда попасть в переплеты русской поэзии.
Вот что расскажет Кариночка Красильникова, Карина Николаевна, через 56 лет после того пожара, майским утром 2013-го…
Красная юбочка Рассказ Кариночки Красильниковой
— Мы поступили в институт в пятьдесят первом году. Группа у нас была такая, многие с войны, из провинции… И Андрюша, конечно, худенький-худенький, шейка длинная-длинная, — выделялся на общем фоне своей интеллигентностью. Мы дружили, особенно на первых курсах — он, Костя Невлер и я, и нас называли эстетами. Он действительно был эстет. Правда, очень неаккуратно ходил на занятия. Я-то была всегда отличница, никогда не опаздывала, а он…
Помню, как-то мы сидели на семинаре, он, как всегда, опоздал, ему сделали замечание, а он сел рядом со мной и говорит: а знаешь, где я был? У Бориса Пастернака — и туда приезжала Анна Ахматова. У меня глаза из орбит вылезли, представляете, что это такое — пятьдесят второй год, Анна Ахматова, которую только что разругали, раскритиковали в партийной печати, никто не знал, что с ней, — а он ее видел, стихи читал… Что ни говори, он жил где-то в других сферах. Я это чувствовала.
Нет, для однокурсников он не был человеком «не от мира сего». Он был молодец, умел ладить со всеми, даже с самыми кондовыми ребятами. Но был вроде бы с нами — но и как-то не с нами, понимаете?
Помню, на семинаре по эстетике преподаватель задает вопрос, а он вдруг встает и… начинает отвечать со стихов Бальмонта:
Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, Из сочных гроздий венки свивать. Хочу упиться роскошным телом, Хочу одежды с тебя сорвать!Все обалдели. Это было так неожиданно и… экстравагантно. «Хочу я зноя атласной груди, / мы два желанья в одно сольем».
Педагог, кстати, оказался умным и, помню, поставил Андрею хорошую отметку.
Институт-то у нас всегда был такой непростой, многие одевались броско. Но он знал меру. Не было в нем стремления как-то так выпендриться. Конечно, отец его был на солидной должности, руководил Гидропроектом, наверное, были какие-то «возможности». Но Андрей, поверьте, никогда ими не пользовался. Ну я могу, конечно, вспомнить какие-то тогдашние глупости. Скажем, приходит к нам как-то Орлов Георгий Михайлович, академик, председатель Союза советских архитекторов, и Андрей мне шепчет: «Ну, папа-то мой поглавнее будет», — но это только мне и просто в шутку… Или после какого-то курса мальчики были в военных лагерях на сборах в Нахабине, и Илье Былинкину, другу Бори Мессерера, стоптавшему ноги, не разрешили снять сапоги. А Андрея отпустили на несколько дней домой, и мальчики тогда ворчали: конечно, Вознесенскому можно… Больше ничего такого и не вспоминается — а это все такая ерунда. К нему все очень хорошо относились.
Проектов его я почему-то не помню — кроме дипломного, как раз того самого, о котором «Пожар в Архитектурном». Пять лет мы учились в одной группе, а на шестом курсе нас разделили по направлениям — «жилищное и общественное строительство», «промышленное здание» и «градостроительство». Андрей пошел на «промышленное», возможно, из-за руководителя — очень известного архитектора Леонида Павлова. И вот они сдружились, и у них очень хорошая идея возникла — что-то вроде американского музея Гуггенхайма… Пожар, если честно, оказался ему тогда очень кстати: он затянул с дипломом, а после такого ЧП им дали еще два месяца. А я к тому времени уже защитилась — и помогала ему… Но диплом у Андрея действительно был очень хорош.
Наверное, странно, но лично я в студенческие времена не знала, что он пишет стихи. Наташа Головина была большой приятельницей и ему, и мне, — она уверяла, что знала. Ну, сказать-то и я могла, потом же многие стали говорить, что давно все знали.
После института Андрея распределили куда-то в Прибалтику, раньше ведь после вуза работали по направлениям. Но где-то через полгода мы с ним встретились в метро — он объяснил, что оставаться там больше не может. А я же из такой семьи, архитектурной, — найди, говорит, мне место, чтобы я мог работать не целый день, а когда мне удобно. Я засмеялась, где ж такое найти… Потом, было время, он приходил к нам домой, читал уже свои стихи. Поначалу тогда все мы смотрели на это с недоумением, спросила как-то: ну как же ты — бросил работу, стихи стихами, а жить на что? Он посмеялся — ну ты же мне не помогла найти подходящее место… А потом началось — Политехнический, имя его зазвенело. Он часто звал однокурсников, за мной как-то заезжал, я уже родила дочку и надолго уйти не могла…
«Пожар в Архитектурном», конечно, было не первое его стихотворение, но считают, что с этого началось его восхождение. Я у него там машу красной юбочкой — потом часто все припоминали мне эту красную юбочку. Конечно, удивило, что он прямо называет меня там и по имени, и по фамилии, — но я-то как раз в то время больше всех и была рядом с ним, помогала с дипломом. Он даже мне подарил потом книжку с надписью — «Кариночке Красильниковой, которая сделала мне карьеру». Я смеялась — как я могла сделать ему карьеру?
А между прочим, моя мама — умница, сразу почувствовала и не раз говорила мне: обрати на этого мальчика внимание. Это еще мама ничего о стихах не знала… Но романа у нас не было никакого — хотя нас всегда подозревали в этом.
В шестьдесят третьем я год провела на Кубе — а у него как раз случились все эти неприятности с Хрущевым. Потом как-то пришла на его вечер, он меня увидел и объявляет: «А вот сидит Кариночка Красильникова, сейчас я ей прочитаю стихи»… Подошла по окончании, он разоткровенничался: где ты была, я тебя разыскивал, у меня были такие неприятности. Но теперь, говорит, уже поздно. Потом я прочитала его поэму «Оза» и поняла, что уже действительно поздно. Он уже был увлечен Зоей Богуславской и для него уже, по-моему, ничего другого не существовало.
Как-то встретились еще на «Юноне и Авось» — он опять пошутил, мол, это, конечно, мне посвящено — у меня же первый муж был испанец, Марио, тоже в Архитектурном учился…
В шестьдесят шестом году, когда случилось страшное землетрясение в Ташкенте, Андрей прилетал туда, стихи писал. А наш институт, самый крупный в Союзе по строительству жилых и общественных зданий, очень много там построил, я получила тогда премию Совмина СССР. Потом занималась Севером долго, защитила диссертацию, работала до семьдесят первого года… Теперь уже не работаю. Я ведь уже прабабушка, чем очень горжусь. Правнучке уже три года.
Теперь уже и Наташи Головиной нет… Андрея я видела последний раз в ЦДЛ, кажется, вручали премию «Триумф», я подошла к Зое, говорю, здрасьте, я Кариночка Красильникова. Она — знаю-знаю, пойдемте к Андрею. Он сидел такой грустный, замученный своей болезнью, расспрашивал про всех, с какой-то не присущей ему сентиментальностью. И шел такими мелкими шагами… Грустно, что Андрюша рановато и так тяжело ушел из жизни.
Не успели оглянуться, как все пролетело. У нас, знаете, нянечка была, все говорила: ах, какая я старинная. Не старая, а старинная.
«Ночь» Наташи Головиной
Бывает у людей ощущение — будто время вокруг них тухлое. А в студенческие годы Вознесенского была такая умственная эпидемия — на дворе Эпоха! В лохмотьях ярлыков и амнистий, обманчивая, счастливая — аж жуть. Все чавкало, хлюпало и летело — в самую оттепель.
Про оттепель, бывало, сочиняли разное. Но принято считать, что Федор Тютчев, тот самый, который всем советовал: «молчи, скрывайся и таи», — вот именно он первым произнес слово «оттепель» в общественном смысле. В феврале (2 марта по новому стилю) 1855 года Николай I умер — а уже 8 апреля Иван Аксаков написал отцу, Сергею Аксакову: «Вот вам слово Ф. Тютчева о современном положении: он называет его оттепелью… Вообще положение какое-то странное, все в недоумении, никто не прочен, никто не знает настоящего пути, которым хочет идти правительство». И Вера Сергеевна, дочь Аксакова, тогда же, 10 апреля, записала в дневнике: «Все чувствуют, что делается как-то легче в отношении духа… Тютчев Ф. И. прекрасно назвал настоящее время оттепелью. Именно так. Но что последует за оттепелью?»
Теперь же, сотню лет спустя, теплое это название — «Оттепель» — запетляло от повести Ильи Эренбурга, вышедшей в 1954-м, в майском номере журнала «Знамя». Забавные вопросы обсуждали в повести герои. Есть ли у честного агронома моральное право — влюбиться в кокетку, ветреницу, да еще и жену приятеля? В чем тут духовный интерес? Раз умен и талантлив — значит, можешь заняться интимом, забыв про идейные рамки?
Нехитро вроде бы, наивно — талант и «право», любовь и «лево». А читателей вдруг пробрало, за живое задело. Эпохе хотелось простых земных радостей, хотелось бесстрашно оттаять. Мерещилось всякое.
В эти самые времена дипломнику Вознесенскому, вспомнившему, какие в их «Мастерских на Трубной» в начале века размещались веселые заведения, вдруг привидится:
Я взираю, онемев, на лекало — мне районный монумент кажет ноженьку лукаво!Вернемся наконец в пятьдесят первый год. Вознесенский поступает в Архитектурный, главный экзамен по рисунку. Рядом с ним крепыш Саша Рабинович, они познакомились на подготовительных курсах, — тот не прошел в прошлом году, учился в Строительном, рисовал «крепче» и много советовал. Но… «Каковы были мое удивление и стыд, когда в списках прошедших экзамен я увидел свое имя и не увидел его. Причина была, конечно, в его фамилии».
Их пути еще будут пересекаться — то у Хуциева в «Заставе Ильича», то в квартирке на 2-й Фрунзенской, где узким кругом отметят свадьбу Высоцкого с Мариной Влади. Саша к тому времени станет известным кинорежиссером Александром Миттой (пришлось взять фамилию родственника матери). В том, что когда-то не приняли в МАРХИ Рабиновича, не было вины юного Вознесенского, грехи эпохи не его вина, что он Гекубе, что ему Гекуба, — но он стыдился.
Факт, конечно, мимолетный и незначительный. Но, если вдуматься, может, не умел бы стыдиться, — не оказался бы в первом ряду русской поэзии? Нет, не сразу, конечно, пока-то он просто студент. Смешной такой, тоненький, губы выпячены, хохолок. Художник Борис Мессерер, учившийся в том же МАРХИ курсом старше, вот никак не мог совместить два образа: вихрастого мальчишки, которого встречал в институте, и автора стихов, которые к концу их студенчества стали понемногу, все чаще и чаще звучать кругом.
В 1955-м целых полгода в Музее им. Пушкина представляли шедевры Дрезденской галереи — прежде чем вернуть их в ГДР. Рембрандт, Кранах, Вермеер. «Блудный сын», «Тайная вечеря». «Мировая живопись и с нею духовная мощь ее понятий одновременно распахнулись сотням тысяч москвичей», — напишет Вознесенский. И тут же, заметив любимицу широких масс, «Сикстинскую Мадонну»: «Никогда, наверное, „Мадонна“ не видела такой толпы. „Сикстинка“ соперничала с масс-культурой. Вместе с нею прелестная „Шоколадница“ с подносиком, выпорхнув из пастели, на клеенках и репродукциях обежала города и веси нашей страны. „Пьяный силён!“ — восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки. Под картиной было написано: „Пьяный Силен“».
Странное время для архитектуры. Ошарашенные студенты осваивали флорентийский Ренессанс, слагая дивные «коровники в амурах, райкомы в рококо». Автозавод студента Вознесенского смахивал на палаццо Питти. В компрессорном цехе было нечто от капеллы Пицци.
Недобрым словом поминая ионики — архитектурный микроэлемент яйцеобразной формы ионического и коринфского стиля, — на чертеже карниза нужно было уместить три тысячи этих «каторжных, лукавых яичек», — не забудет Вознесенский и доцента Хрипунова, который проверял эти ионики, ища оплошности злорадно.
И тут пора вспомнить про Наташу Головину. Трудившемуся над головой Давида в рисовальном зале однокурснику Наташа Головина, как величайшую ценность, подарит репродукцию фрагмента микеланджеловской «Ночи». Фото много лет провисит у него под стеклом в родительской квартире. Потом он повесит в своей мастерской ее отчаянный карандашный рисунок, «густой вызывавший стыд». Молитвенное и земное вечно будет сшибаться, высекая искры, в его стихах и подробностях жизни.
К Микеланджело Вознесенский будет возвращаться не раз. Молотки создателей Василия Блаженного из «Мастеров», первой поэмы Вознесенского, «стучали в такт сердечной мышце» великого итальянца, писавшего в том же 1550 году свои сонеты. Взявшись годы спустя за их перевод, он объяснит: «…мое юношеское увлечение догнало меня, воротилось, превратясь в строки переводимых мною стихов».
Имя однокурсницы внезапно всплывет из подтекста, когда Вознесенский, завороженный красной церковью Григория Неокесарийского при Полянке, напомнит печальную историю Андрея Савинова — духовника Алексея Михайловича, обвенчавшего царя с Натальей Кирилловной Нарышкиной. С Савиновым потом расправились, умер он в далекой ссылке. Храм чаровал поэта и этой историей, озаренной земными соблазнами, и сочными именами мастеров-строителей — Карпа Губы, Ивана Кузнечика, Семена Полубеса. И складывались строчки — про Нарышкину? про Головину? про ту и другую, и какую-то третью? Смыслы, как и имена, вечно наплывают у Вознесенского один на другой:
Я понял тайну зодчего, Портрет его нахальный, И, опустивши очи, Шепчу тебе: «Наталья…»А в XXI веке, уже на склоне лет, он напишет «Памяти Наташи Головиной». «Дружили как в кавалерии. / Врагов посылали на… / Учила меня акварелить / Наташа Головина».
Про смыв кистей и слив страстей. «Когда мы в Никольском-Урюпине / обнимались под сериал, / доцент Хрипунов, похрюкивая, / хрусть томную потирал».
И отчаянное на прощание: «Была ты скуласта, банзаиста. / Я гол и тощ, как горбыль. / Любил ли тебя? Не знаю. / Оказывается — любил. / Мы были с тобою в паре. / Потом я пошел один».
Но это аж полвека спустя. А пока еще хрюкает доцент Хрипунов, еще моются кисти, еще смотрит со стены «Ночь»…
Друг, не пой мне песню о Сталине
Однажды студента Вознесенского исключали из комсомола. Он, редактор курсовой стенгазеты, написал статью о художнике Матиссе — импрессионистов тогда как раз выставили в Музее им. Пушкина. Как это было — вспоминает поэт:
«„О Ма́тиссе?!“ — кричал возмущенный прибывший в институт секретарь райкома.
По правде сказать, преступление мое было не только в импрессионистах. Посреди всей газеты сверкал золотой трубач, и из его трубы вылетали ноты: „До-ре-ми-до-ре-до!“ Именно так отвечали надоевшим слушателям джазисты той поры — „А иди ты на!..“
В группе у нас был фронтовик Валера, который играл на баяне. Чистый, наивный, заикаясь от контузии, он пришел в партком и расшифровал значение наших нот. Он считал, что партия должна знать это изречение. И кроме этого в газете было достаточно грехов.
А когда членам партии прочитали письмо, разоблачающее Сталина, Валера вышел бледный и, заикаясь, прошептал нам, беспартийным: „Я Его Имя на пушке танка написал, а он блядью оказался…“».
Сталин умер 5 марта 1953 года. Центр Москвы был перекрыт, с шестого по девятое прощались с генералиссимусом страны. Студентам Архитектурного выдали пропуска — иначе в институт, расположенный в центре, не попасть. Девятнадцатилетний Вознесенский с однокурсниками пробирался по крышам, на Пушкинской спрыгивали в толпу, шли вместе со всеми — прощаться.
«Внутри Колонного зала меня поразило обилие знамен, венков, мундиров. Среди них совсем незаметно лежало сухонькое тело. Топорща усы, он лежал на спинке, подобно жуку, скрестившему лапки на груди. Есть такая порода жуков — „притворяшка-вор“, который прикидывается умершим, а потом — как прыгнет!»
Еще студентом Вознесенский, пытаясь что-то понять, напишет ясные, горькие строки: «Не надо околичностей, / не надо чушь молоть. / Мы — дети культа личности, / мы кровь его и плоть»… «Мы не подозревали, / какая шла игра»… «Мы — сброшенные листья, / мы музыка оков. / Мы мужество амнистий / и сорванных замков»…
Чуть позже — «Друг, не пой мне песню про Сталина», где «торжественно над страною, / словно птица хищной красы, / плыли с красною бахромою / государственные усы».
Уже после института появятся те самые «Немые в магазине», которые всех возмутят то крамолой и дерзостью, то (изменилась конъюнктура), напротив, чрезмерной лояльностью к основам государства. «Кассирша, осклабясь, / косилась на солнце / и ленинский абрис / искала в полсотне. / Но не было Ленина. / Всё было фальшью… / Была бакалея. / В ней люди и фарши».
Тогда ведь Ленин был анти-Сталиным, объяснит Вознесенский, когда в иные времена его станут пытать: отчего не откажется от таких своих строк? «Тогда это было искренне и шло с небес. Вот этот ритм, который там есть, и все это… Поэт должен разделять иллюзии своего народа. Здесь я шел за Пастернаком. Он встретился у гроба Ленина с Мандельштамом. Оба пришли туда не для того, чтобы плюнуть в него, а чтобы проститься…»
Пастернаку нравились его стихи «Мы дети культа личности». И отношение Бориса Леонидовича и к «проклятому прошлому», и к оттепели пятидесятых было далеко не простым. Да, Вознесенский слышал от него: «Раньше нами правил безумец и убийца, а теперь — дурак и свинья».
Но просто переклеить ярлыки с одного на другого — не дойдешь до сути. Пастернак мог позволить себе обратиться к «жестокому и страшному Сталину» лично. К Хрущеву — ни за что. Однажды уговорили — Пастернак письмо ему написал, но так и не отправил. Как общаться с тем, чье историческое высказывание озвучил глава КГБ Семичастный: «Даже свинья не гадит там, где ест, в отличие от Пастернака»?
Написал лишь завотделом культуры ЦК Поликарпову, тому самому, которому Сталин сказал знаменитое: «В настоящий момент у меня нет для тебя других писателей: хочешь работать, — работай с этими».
Из письма Пастернака 16 января 1959 года Д. А. Поликарпову: «…страшный и жестокий Сталин не считал ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государь и великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам. Но, разумеется, куда же им всем против нынешней возвышенности и блеска… Повторяю, писать могу только Вам, потому что полон уважения только к Вам и выше оно не распространяется».
Знал про это и Вознесенский: границы в отношениях поэта с властью жизнь будет смещать не раз, и эти уроки Пастернака ему еще пригодятся.
Между пожарами
Придет время, и «Пожар в Архитектурном» аукнется Вознесенскому развязным фельетоном в журнале «Звезда» (1961. № 1) — «Лженерончик». Автор — Н. Назаренко. Печатали его, думая, что это смешно, потому что остроумно. Читать его теперь смешно, потому что глупость невероятная. У каждой эпохи — своя глупость.
«…B учебном заведении, где он считался студентом, возник пожар. Что сделал Лженерончик? Тушить бросился? Ничуть не бывало. Он схватил арфу, стал в позу и радостно запел. Он любовался „краснозадой гориллой“ не вполне бескорыстно. А, между прочим, в надежде, что она сожрет его плохие отметки.
— На фоне пожара моя неповторимая личность выглядит особенно оригинально. Даже вроде философа выглядит. „Айда в кино!“ И расхлябанной походкой двинулся в сторону ближайшего кинотеатра».
С Вознесенским-поэтом всегда будет так. Любили — до безумия. Ненавидели — истерически. А Вознесенский еще напишет и про другие пожары. Жизнь пролетит — от пожара к пожару.
Век начался пожарами влюбленного Маяковского — «Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца».
Пожар середины века — «в Архитектурном» — полыхал надеждами.
Пожар «Конца столетия» Вознесенского — болью: «Что нами срублено на шару, / Расщеплено в дрова вражды, / К нам возвращается пожарами / — Воды! <…> / Сгорайте, осы Персефоны, / Не пролетев и полпути! / Не лето — Лета пересохла. / Другой России не найти».
Ау, где ты, Кариночка Красильникова, красная юбочка, — ой, горим!
Глава вторая МАГИЧЕСКАЯ БУКОВКА
Я оставила Вас с Цветаевой наедине
Москва пестрела умонастроениями. Коммуналки, подворотни и целые ведомства размывало акварелями свежих чувств.
В 1955-м министра Георгия Александрова, руководившего советской культурой лишь год, сняли за излишнюю пылкость к актрисам и балеринам. Следом на всякий случай сменили верхушку Большого театра: шуры-муры, амуры, психеи. Не помогло.
В это самое время в чеканную партийную печать прокралось зыбкое словечко «искренность». Понятие, конечно, туманное, легко употребимое в любых мистификациях любых времен, — но звучало, казалось, ново и даже чувственно.
Через год, в пятьдесят шестом, Хрущеву придется разоблачить бесчувственного Сталина. Потом пособников, также бесчувственных. В столице тут же по рукам пойдут куплеты «блаженного» поэта Николая Глазкова, придумавшего слово «самиздат»: «И все-таки велик наш Сталин, / Чудесный подвиг им свершен. / Ему я очень благодарен. / За что? За то, что умер он!»
Поэтическую чувственность скоро станут внушать и машинам — реабилитированные кибернетики немедленно заставят их писать стихи. В пятьдесят седьмом авторы научно-популярной книги «Быстрее мысли» (Н. Кобринский и В. Пекелис) проиллюстрируют способности машины выданными ею строками: «Ночь кажется чернее кошки черной, / Но очертания луны / уже начали плавиться в небесах». Много лет спустя выяснится, что стихи на самом деле перевел с английского некий математик, приятель авторов. Но критики всерьез обсуждали плюсы и минусы машинной поэзии — «черная кошка» пробежит еще в дискуссии о физиках и лириках.
Пора бы, впрочем, вернуться в МАРХИ. Чем в этой атмосфере сложной чувственной сгущенки занят студент Вознесенский? Акварелью. Учитель, Владимир Георгиевич Бехтеев, следит из-за спины, «как на ватмане расплывается „по-сырому“ мастерски составленный им натюрморт из ананасов, апельсинов и синего с золотом фарфора: „Гармонию не забывайте! Если в левом углу у вас синий, то он должен быть компонентом во всем. Синий вкрапливайте. Не забывайте гамму“».
Бехтеев мало того что бывший царский офицер (увел жену у полкового командира, заметит мимолетно поэт), так еще и как художник — импрессионист. Это, впрочем, не мешало студенту Вознесенскому оценить поэтично воспетые Бехтеевым в акварелях «грациозные смычковые ноги скаковых лошадей и шеи красавиц». Но и это не главное, что заставляло Андрея Андреевича тепло вспоминать об учителе.
Бехтеев познакомил юного студента с Еленой Ефимовной Тагер, давней знакомой Марины Ивановны Цветаевой. Когда-то, в первой же беседе с Андрюшей, Пастернак «обратил» ученика к Цветаевой, вспомнив ее «Версты» в одном ряду с «Пеплом» Андрея Белого. Книг Цветаевой было не найти, их и не издавали, а бережливая Елена Ефимовна хранила множество цветаевских рукописей.
Много лет спустя, году в семидесятом, Тагер вспомнит их первую встречу в письме Вознесенскому:
«Дорогой Андрюша!
Это было давно, очень давно, еще на моей той квартире, на Кисельном. Лет 17 тому назад.
Вы, знавший поэзию Пастернака, совсем не знали Цветаевой. Пришли ко мне за ней.
В маленькой нашей комнатке на громадный отцовский стол я положила все, что у меня было Цветаевой… Было всего много, и „После России“, и поэмы — много.
Я Вас оставила с ней наедине. При себе с Вами не было даже карандаша, Вы ничего не списали. Но Вы постигли ее… За тем же огромным столом, в той комнатушке — у нас работала Марина. И однажды оставила тетрадь… Боже, какая тетрадь! Поиски рифм столбцами. Со заметами, сколько сделано: „мизерно, ушло“… И еще заметы о том, что делает поэт. Не смею приводить по памяти. Если приведется, дам Вам посмотреть.
Сейчас, уезжая (я в „Сенеже“, доме творчества художников), передала на хранение в архив Ленинской библиотеки рукописи Цветаевой и Пастернака».
А вот что запомнилось Вознесенскому:
«Меня помещали в закуток комнатки, отгороженный занавескою. Там я проводил заповедные часы. Переписывать, а тем более уносить домой не разрешалось. Так я впервые прочел и затвердил наизусть „Поэму Горы“ и „Крысолов“.
Это была не машинопись, а страницы, заполненные мелким четким цветаевским почерком, — буковки стояли прямо, без наклона вправо, плотные, как нитка черного жемчуга, и каждая, как жемчужина, стояла отдельно.
Магически мерцали крохотные „ц“…»
Разве мог не заметить Андрей Андреевич, как платье слетало у Цветаевой с плеч: «задумалась, загляделась, а оно — скользнуло и вот — кружком как пес у моих ног: жизнь». Скользнуло, как листки календаря, череда мимолетностей, осень, сменившая лето. Разве мог не вспомнить тут же пастернаковское: «Ты также сбрасываешь платье, / Как роща сбрасывает листья»?
Кроме рукописей, вспомнит Вознесенский, у Тагер были еще бусы Цветаевой… Вероятно, вспомнит, потому что с бусами Цветаевой связаны разные были-небыли. Были бусы, подаренные ею Софии Парнок. Были бусы, о которых рассказал в своей книге «Лиля Брик. Жизнь» Василий Катанян:
«В свое время… Лиля подарила крупные коралловые бусы Елене Тагер. Когда Марина Ивановна Цветаева увидела их, она стала просить Тагер отдать эти бусы ей, уж очень понравились. Каждый раз, как встречала ее, так и просила. „Я не могу, — отвечала та, — мне их подарила Лиля Юрьевна“. — „Так попросите ее, чтобы она разрешила вам отдать эти бусы мне!“ Та, помявшись, спросила Лилю. И Лиля, несколько обескураженная, что ее подарок хотят передарить, все же разрешила, учитывая, что кораллы будет носить Цветаева, которой этого так хочется. Тагер отдала их Марине Ивановне, а та на следующий же день… их продала! „Ну, не может быть!“ — „Как так не может быть, когда Тагер сама, каясь, сказала об этом Лиле. И очень на Марину похоже“. И как реагировала Лиля? Она сказала: „Бедная! Представляю, как она нуждалась“».
Есть еще история, которую рассказывала знакомым Тагер, — связана она с Пастернаком и Цветаевой. Однажды звонит ей Борис Леонидович. Говорит, что в Москву из эмиграции вернулась Марина Ивановна, позвала его приехать. Он было собрался, но встретил вдруг Каверина с писателем, имя которого Тагер забыла, — и те говорят, чтобы Пастернак ни в коем случае не ехал, это опасно. И он не поехал. Тагер назвала это «трусостью», высказала все Пастернаку по телефону, а потом опомнилась и стала корить себя: вдруг это в самом деле опасно — видеться с Цветаевой? Вдруг с Пастернаком из-за этого случится что-нибудь ужасное, и она всегда будет чувствовать себя виноватой?
Ну не странно ли: так вдруг волноваться о великом Пастернаке, — а великая Цветаева что же? Все-таки первая реакция Елены Ефимовны кажется естественнее. Но судить-рядить, глядя сквозь пуленепробиваемую толщу времени, — легко, понять труднее. Да, у Елены Тагер могли быть причины в сердцах наброситься на Бориса Пастернака, а потом изводиться переживаниями. Но тут всё закручено улиткой.
«Обязательно приходите. Очень прошу помочь» — это из записочки Марины Цветаевой мужу Елены Ефимовны, Евгению Тагеру. Они познакомились в декабре 1939-го в Доме творчества в Голицыне. Тагер был молод, темноглаз. Цветаевой уже за сорок. Он — ординарный литературовед. Она — уже именитый поэт. Арестованы ее муж Сергей Эфрон и дочь Ариадна. Цветаева, отдельная от всех, искала точки опоры в мире, и Тагер стал внезапно объектом ее страсти. Ему она посвятит одно из нежнейших своих стихотворений:
Двух — жарче меха! рук — жарче пуха! Круг — вкруг головы. Но и под мехом — неги, под пухом Гаги — дрогнете вы!Проводив Тагера из Голицына, Цветаева написала в январе 1940-го иступленно: «Ушел — не ем: / Пуст — хлеба вкус. / Всё — мел, / За чем ни потянусь …»
Елена Ефимовна относилась к этому чувству с пониманием. И даже частенько, с тем же пониманием, уезжала по своим искусствоведческим делам, оставляя Марину Ивановну с мужем наедине.
Но в тот — условленный — день Евгений Тагер не пришел. Цветаева изольет душу писательнице Людмиле Веприцкой в письме: «…обожглась на Тагере. Старая дура».
Была ли Елена Тагер виной тому, что ее муж обманул ожидания Цветаевой? Трудно сказать, как и упрекать ее в этом. Но такой поворот сюжета отчасти объясняет ситуацию: отчего Елена Ефимовна, поддавшись порыву — обвинить Пастернака в том, что не пошел к Цветаевой, — тут же спохватывается и переживает даже больше за Бориса Леонидовича, нежели за Марину Ивановну. Возможно, эти хитросплетения страстей, сочувствий, симпатий, предательств, в которых нам не разобраться, и стали спустя много лет причиной холодного отношения к Тагерам вернувшейся из заключения дочери Цветаевой, Ариадны Эфрон. Да, признавала она, Тагеры много делают для сбережения памяти о Марине Цветаевой, но общаться с ними не любила.
Пастернак с Цветаевой после той истории все же встретился, хотя помочь ей толком ничем не смог. С Тагер он тоже какое-то время не общался. Но по какой-то другой причине. Однажды пианистка Мария Юдина спросила у нее: «Да, я слышала, что вы многие годы были отлучены от дома Бориса Леонидовича. За что это было?» — «За красоту», — загадочно ответит ей Елена Ефимовна (Назаров Я. С. Наброски о М. В. Юдиной).
«За красоту», — повторит однажды Вознесенский, правда, по другому случаю. В 1960 году, став в одночасье безумно знаменитым, он поздравит ее с 8 Марта открыткой с «Подсолнухами» Ван Гога: «Милая Елена Ефимовна!.. Среди моей эстрады, пены, визга, вкуса этого — Вы — единственное, что меня спасает. Спасет ли — не знаю. Спасибо Вам за это, за все, за красоту, за истинность. Андрей».
И Елена Ефимовна будет всегда внимательна к поэту. В 1974-м, узнав о смерти Андрея Николаевича, отца Вознесенского, напишет ему трогательные строчки:
«Дорогой Андрюша! <…> Одна моя знакомая, седая женщина, уже сама имеющая внуков, похоронив свою старушку-мать, обронила: „Вот только сейчас кончилось мое детство“. Пока человек может произнести слово „мама“ — он защищен, его детство длится. Оберегайте свое детство. Может, в этом есть спасительность утешения.
И еще. Ваши создания — Ваши дети. Но всякому созидателю (Вам ли этого не знать!) обязательно сопутствуют тернии. Но ведь не только тернии, но и радости. Желаю Вам на все сил. Я с Вами в Ваш траурный час.
Е. Тагер».
Вознесенский умел не забывать малейшие жесты добра. И Елене Ефимовне оставался благодарен — за то «посредничество» в его юные годы между ним и Цветаевой.
Ева цвета и глазухо
В отрывках из дневников 1940-х годов Сергея Наровчатова, опубликованных «Новым миром», был эпизод: Наровчатов навестил в Ленинграде поэта Александра Прокофьева и записал, как тот стихи его похвалил, но — «как обычно, попрекал Цветаевой, которую почему-то считает моей учительницей». От Цветаевой Наровчатов тихо отползает: слыть ее учеником в годы, когда имя Марины Ивановны не произносилось вовсе, — многим казалось честью сомнительной.
Вознесенский бросается в море Цветаевой радостно — студенческие годы для него были временем жадных и ярких открытий. Кто-то станет потом укорять Вознесенского, выискивая в его поэзии отзвуки — Цветаевой, Пастернака, Маяковского или Хлебникова: нахватался, мол. Чего в этих косых взглядах на Вознесенского окажется больше: нежелания вчитаться-вслушаться, непонимания сути и ткани поэзии или просто желания пнуть «выскочку»? Возможно, и того, и другого, и третьего — что само по себе печально. А между тем всегда поэты связаны с предшественниками — каждый по-своему, не бывают они «ниоткуда». Вот, к слову, что сказал поэт Виктор Соснора, отвечая на анкету «Литературной газеты»: «В поэтике влияние Цветаевой я вижу у Вознесенского и Бродского. Потому что влияние может быть только на крупных поэтов. А подражание… поставим здесь три точки».
Второго января 1998 года, в 7 утра, известный исследователь Достоевского Юрий Карякин пройдет по переделкинским улочкам, к почтовому ящику у ворот дома Андрея Андреевича. Что привело его сюда в такую рань? Пока другие отходили от новогодничества, Карякин перечитывал «Гойю» Вознесенского. Под утро решил поделиться пришедшими мыслями.
«Потрясающе: тут вольно или невольно, осознанно или неосознанно ощущение, желание, требование — слышать, слушать. Тут ГЛАЗА нет. Глаз выклеван. <…> Никто не услышал так точно — и не передал нам так точно — Гойю звуком. Никто его так не открыл нашему УХУ, уху нашей души, уху нашего сердца.
Парфен — князю Мышкину: „Я голосу твоему верю…“».
Конечно, Вознесенский был такому подарку рад. В ответ он отправляет только вышедшую книжку «Casino Россия», нарисовав на ней большое ухо, в мочке которого — глаз и точка зрачка. Глазухо. «Юре, чтобы глаз не глох, а ухо не слепло».
А в этом, между прочим, и Цветаевой слышится отсвет. Так хотелось когда-то ей — краски слышать, как мысли и звуки видеть: «Голос из темноты — луч»; «Мысль у меня в мозгу — вроде чертежа». Одного не бывает без другого, сразу — всё: «Никогда не наслаждаюсь только глазом, только слухом».
Она говорила: «В воинах мне мешает война, в моряках — море, в священниках — Бог, в любовниках — любовь». Если продолжить этот ряд — и в звуках мешали звуки, и в красках мешали краски, в красном красное, в черном черное. Все, что кажется очевидным, все, что вроде бы на поверхности, — лишь прячет суть.
В «Поэме Конца» про бок, прижатый тесно к любимому: «он — ухо, и он же — эхо». Ухо и эхо — две стороны единой сути.
Как у Пастернака каждая тетрадка имела свой цвет, так и Цветаева старательно обозначает их цвета: вот зебра — зеленая с черным, вот черная с белой наклейкой, черная без наклейки, рыжая, а вот последняя без цвета — толстая, клеенчатая, трепаная. И все, что связано с любовью, у Цветаевой всегда — ятаган, огонь — но всегда черно-белое: «…Но, всех перелюбя, / Быть может, я в тот черный день / Очнусь — белей тебя!» И единственный, кому верна Цветаева, кто верен (она-то знает) ей — Пушкин. И он у нее всегда — «негр». А вставшая на пути Цветаевой к Пушкину внучка поэта, г-жа Розенмайер, «белобрысая — белорыбица — альбиноска, страшно-постная и скучная».
У Вознесенского пятидесятых будут — «фонтаны форелей, цветастая грубость». Позже он найдет цветы, своей строгостью куда более близкие заповедности цветаевских чувств:
«Лесная крапива дает сильные лиловые цветы, размером похожие на фиалки. Они растут столбцами, как гиацинты, вокруг стеблей. <…> Они напоминают угрюмство молодой Цветаевой. Потом она гибла от быта, мыла посуду, имела колючий нрав, но цвела упрямо и заповедно. Люблю эти цветы…»
После первых гроз красиво фиолетово цветет некрещеная крапива — розы северных широт…И в позднем Вознесенском мрачном «Пеньковом венце» (1992) засветится ее безнадежное «ц»: «В стране, где царевичей резали, / Где лучший поэт повис, / Где „Ц“, словно палец Цезаря, / Указывает вниз… / …Мы поняли, что случится, / Лишь нынче, полвека спустя, / Россия — самоубийца, / Успеем ли снять с гвоздя?»
Червяк через щель, человек — по параболе
В один день со Сталиным умер Сергей Прокофьев. Простились с ним тихо, — не отвлекая население от главных похорон. Многие еще помнили, как незадолго до того композитора, вроде бы обласканного властью, клеймили за формализм.
Так или иначе, Вознесенский вспомнит, как именно в студенческие годы был впечатлен новизной прокофьевской музыки. Не стоит забывать и о влиянии Пастернака, в доме которого великие пианисты и скрипачи так часто исполняли великую музыку, — юный Вознесенский был обречен погружаться в эти миры. Три запомнившихся Вознесенскому кубических апельсина над снежной спячкой (понятно, из «Любви к трем апельсинам») явно откликнутся позже стихотворными треугольными грушами — и в формализме, как когда-то композитора, немедленно уличат и поэта! На балет «Ромео и Джульетта» он ходил шесть раз — «добыв билетик у колонн Большого, а то и на прорыв, столбенел… стиснутый на 2-м или 3-м ярусе поклонниками Улановой, ожидая конвульсивных тактов смерти Тибальда — страшный прокофьевский кайф».
Нейгауз, напишет позже поэт, считал, что в Прокофьеве 90 процентов музыканта, 10 процентов человека. Но эти 10 процентов ценнее, «человечнее», чем у иного все 100. И эта непременная совместность «человечного» с «гениальным» — тоже один из уроков, усвоенных студентом Архитектурного.
В числе институтских своих учителей Вознесенский будет вспоминать прежде всего Леонида Николаевича Павлова — находя в его станции метро «Нагатинская» отражение «белых и палевых очарованных очертаний Покрова на Нерли». В колокольне рядом с этой, родной сердцу поэта, церковью Павлов провел ночь в июле 1945 года. За два рассветных часа церковь изменилась от сумеречно-серой, голубой, смущенно розовой до ровного желтого света. «„Это как женщина, все познавшая“, — взволнованно рассказывал Павлов, воровски пряча свой голубой взор, теперь понятно, откуда похищенный. Потом она стала белой», — писал в эссе «Дыры» Вознесенский.
Так у Вознесенского промелькнет однажды в белом переднике вагонная «Проводница»: «И в этом стираном переднике — / как будто церковь из воды — / есть отражение неведомой / и затонувшей чистоты. <…> / Когда-нибудь проезжий деятель / Покров увидит на Нерли. / Поймет, чему он был свидетель… / Тебя составы унесли».
Павлов был руководителем дипломного проекта Вознесенского. «Второй магической точкой» был для него Иван Леонидов, «сын тверского лесничего, зодчий суперсовременных решений», Хлебников архитектуры.
«Проект моей строительной выставки, — вспомнит выпускник МАРХИ, — представлял собой конструктивную спираль и зал с вантовым перекрытием, что не вязалось с ампирным и неоренессансным стилем тех лет. Чтобы быть эстетически свободнее, я перешел для диплома с жилищно-общественного факультета на промышленный, к Мовчану. Нас было таких трое на курсе — Дима Айрапетов и Стасик Белов искали новых решений. Белов и привел меня к Леонидову.
Он нарисовал некое подобие ящерицы или питона с заглотанными кроликом и козленком, где на километровом пространстве объемы павильонов свободно переливались один в другой. Все было перекрыто одной эластичной пленкой. Пространство ползло, отдуваясь, то надувая, то втягивая живот. Это была архитектура „без архитектуры“, без архитектурщины, нежесткое, свободное решение, аматериальная материя».
Среди архитектурных пристрастий и открытий Вознесенского — Константин Мельников, чья выставка промелькнула в Доме архитектора. Тогда же Вознесенский написал стихи о том, как «торопил топорища русский конструктивизм» и «обезумевший Мельников стойкой небо подпер».
Мельников, слагавший поэзию из объемов, у Вознесенского перекликается с Аполлинером и Симеоном Полоцким, слагавшими в разные эпохи фигурные стихи из слов.
Имя француза-архитектора Ле Корбюзье продвинутые граждане в пятидесятые повторяли с придыханием. И Вознесенский, не подозревавший, что спустя несколько лет встретится с ним, найдет у Корбюзье созвучные мысли о том, что пейзаж должен подчиняться архитектуре, как холм Акрополя — Парфенону, как ландшафты Нерли — маленькому храму Покрова.
Решительно всё в архитектуре перекликалось с поэзией, как и в поэзии — с архитектурой. Барочные оды Державина. Ампирная усадьба Фета. И лесенки, и площадной размах Маяковского. Математические расчеты будетлянина Хлебникова. Связывал или нет Вознесенский с ней свое профессиональное будущее, — но способу мышления, художественному и конструктивному, он учился в годы Архитектурного.
Кажется, все его будущее — жизнь и творчество — выйдет таким внезапным и ярким, потому что сконструировано все будет правильно и надежно. От него, хрупкого, губастого, совсем мальчишки, потребуется всего лишь —! — дерзость, упрямство и смелость, чтобы следовать своему отдельному архитектурному плану жизни. Откуда силы возьмутся? — вопрос.
Нет, многие, конечно, пытались выстраивать жизнь по графикам и расписаниям. Писатель Гюнтер Грасс удивит однажды Вознесенского своей педантичностью: ежедневно «два часа секса, с четырех до шести». Галантных забав Андрей Андреевич не был чужд никогда, — но конструктивные особенности его жизненного плана были все же немного иного свойства, скорее стратегического, нежели тактического.
Я со скамьи студенческой мечтаю, чтобы зданья ракетой стоступенчатой взвивались в мирозданье!«Параболическая баллада» определяет траекторию: «Идут к своим правдам, по-разному храбро, / Червяк — через щель, человек — по параболе».
Внезапны плоскости стихов и жизни. Горизонтальны мышцы подстреленного зайца. Бритва плывет — «вертикальная, как рыбка». Полночный Рихтер прилетит горизонтальным ангелом. Орущему Хрущеву Вознесенский попытается внушить свою мысль о поколениях горизонтальных и вертикальных. Системы координат поэта и вождя окажутся несовместимы.
Вернувшись из Прибалтики, куда его распределили после института, он мыкался в поисках заработка. Знакомые мужа его сестры Натальи устроили Вознесенскому аудиенцию у поэта Давида Самойлова, набившего руку на доходных переводах с языков народов СССР. Самойлов обрисовал гостю четкие перспективы: «Переводите с одного языка, скажем, с киргизского. Лет через десять вы будете известны как специалист по киргизской поэзии. Потом вас примут в Союз писателей. В литературу входят медленно, десятилетиями».
Вознесенский, заикаясь от смущения и наглости, выпалил: «У меня нет столько времени. Через год я буду самым знаменитым поэтом России».
Самойлов долго смеялся, рассказывал всем про наглеца и позже написал в воспоминаниях язвительное: «Один Андрей Вознесенский пришел ко мне за два года до славы…»
Спустя несколько лет, выступая с Самойловым на поэтическом вечере, Вознесенский извинится: «Дэзик, ведь я вам обещал. Что же мне оставалось делать?»
…Однажды попутчик в поезде Москва — Ленинград спросит Вознесенского строго: «Ну вот вы, так сказать, властитель дум сегодняшней молодежи, куда зовете, что мыслите о нашей действительности?»
Тот ответит: «Я и не собираюсь быть властителем дум. Поэт — властитель чувств».
Собеседник скис. И немедленно выпил.
Глава третья ДЕВКАМ ЮБКИ ЗАГОЛЯЙ!
Утомленные фестивалем
Лето 1957 года было ошеломительным.
Третьего июля взяли курс на ликвидацию коммуналок. Еще немного, и страна захрустит новым словом: «хрущёвка». Еще немного, и план «посемейного благоустройства жилья» коснется семьи Вознесенских: десяти лет не пройдет с этого самого третьего июля, как они расселятся в отдельных квартирах. Пока же вера в обещанное чудо сама по себе вдохновляла.
А через двадцать пять дней, 28 июля, в Москве случится Всемирный фестиваль молодежи и студентов — тридцать четыре тысячи пришельцев со всего закрытого прежде мира посыпались по улицам, сливаясь с москвичами в экстазе братаний. Шершавые кинохроники тех лет до сих пор светлы от излучаемой любви.
Да что там любовь, эхо дозволенности было таким, что даже в фильме «Девушка с гитарой», вышедшем год спустя, покусились на святое: товарищ Свиристинская, она же Фаина Раневская, издевательски пародирует — кого! — борцов с формализмом в искусстве. О, говорит она юному дарованию, готовившемуся к фестивалю, вот вы тут декорации меняете — так вот это формализм. А когда вы, девушка, переодеваетесь — это импрессионизм. Очаровательный эпизод — и смешной, главное.
Любили и смеялись — в открытую. Потом вспоминали — будто во сне.
Небольшое отступление по поводу воспоминаний. Вот есть у Юрия Трифонова рассказ про то, как он приехал в городок под Римом, в котором был счастлив 18 лет назад. Теперь, узнав, что 18 лет назад в траттории Пистаментуччиа его под видом зайчатины кормили жареными кошками, он спрашивает себя: но ведь было действительно вкусно, красиво, шум в голове и ощущение счастья, и ему было тогда тридцать пять, он бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами. Что важнее: теперешнее его знание того, что зайчатина была ложной — или тогдашнее ощущение полноценности жизни и счастья?
Многие из очевидцев того фестиваля предпочли бы второе. Кто-то из них много лет спустя вдруг споткнется на трифоновской фразе: «Жизнь — постепенная пропажа ошеломительного».
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей, гуляй! Гуляй! Девкам юбки заголяй!Это «Мастера» Вознесенского — их через год напечатает «Литературка». В те две недели он пропадал в фестивальных гущах, он писал про фестивальные кущи. Ему было двадцать четыре, в кармане поскрипывал свежий диплом, он был отчаянно лих. Не испугаешь формализмом.
Можно бы, конечно, заметить, что и полвека спустя жизнь Вознесенский будет ощущать как непропавшее ошеломительное, — но всему свое время. А тогда, в середине пятидесятых, он много и часто общался с одним из бывших одноклассников, Юрой Кочевриным. Вот что много лет спустя вспомнит тот — уже доктор экономических наук и пенсионер.
Может, и Лермонтова наголо? Рассказ Юрия Кочеврина, друга детства и одноклассника
— Когда начался фестиваль пятьдесят седьмого года, Андрей был уже выпускником. Но зачем-то пристроился к институтской добровольной комсомольской бригаде, ездившей в ночные рейды: они наблюдали за общественным порядком…
Я не понял сначала, зачем это ему вдруг? В школе он довольно поздно вступил в комсомол, и то только потому, что без этого были бы сложности с поступлением в институт. В классе не хотели сначала его принимать — мол, совершенно не активен ни в каком общественном смысле. Потом в институте чуть не исключили из комсомола. А тут вдруг — рейды.
Притом он же был довольно щупленький, не атлет. Мама, Антонина Сергеевна, как я замечал тогда и как понял потом, очень старалась как-то оградить его от излишнего вульгарного воздействия окружающей среды. Я же очень хорошо помню, как бывал у них дома.
Моя родственница, Галя Чернопятова, училась в одном классе с его сестрой Наташей, и вот однажды они договорились, и мы с Галей пришли к ним в гости. Тот первый визит мне очень запомнился, я вдруг попал в атмосферу культуры начала XX века. У них была даже гостиная — большая редкость. Слово «старомодный» не подходило, но какая-то печать изысканности во всем была очевидна. Всё это, конечно, была заслуга его матери, она была очень интересная женщина. И ко мне относилась очень тепло. Хотя я тоже жил в условиях достаточно комфортных, у приемных родителей, буквально напротив двора, где стоял их дом, на Большой Серпуховской… Еще что меня тогда сразу заворожило: как он читал стихи. Имя Пастернака мне тогда еще было незнакомо, и вот он стал читать. По-моему, «Метель»: «В посаде, куда ни одна нога / Не ступала, лишь ворожеи да вьюги / Ступала нога, в бесноватой округе, / Где и то, как убитые, спят снега…»
И вот, понимаете, этот мальчик, как мне казалось, такой рафинированный эстет, погруженный в эстетику Серебряного века, чуждый низким сторонам жизни, — вдруг он рассказывает мне, как они с дружинниками отгоняли и вылавливали мужиков, повадившихся подсматривать в окна женских бань. Это было очень забавно: ну какой из тебя дружинник?
А тогда же на самом деле девушки московские будто обезумели, готовы были не то что подружиться, но и отдаться любому иностранцу во время фестиваля. Это было что-то невероятное. Наплыв такого огромного количества людей совершенно другого стиля поведения, другого цвета кожи, иначе одетых, иначе говорящих, — все это производило именно на девушек впечатление чудовищно неотразимое.
Но потом, когда он показал мне стихи, все прояснилось — зачем ему хотелось увидеть все своими глазами. У него же в тетрадке остался целый цикл, связанный с фестивалем. В стихах, как будто лирических, было новое ощущение ритма, найденное им еще раньше. И вот — он читал: «Их ловят в городе, / Им лбы сбривают… / Эх, бедовая судьба девчачья. / Снявши голову, по волосам не плачут»… Помню, были еще строчки: «Ах, как глубоко нападал снег. / Ночное небо — как потный негр. / Будь я девчонкой, ушел бы в поле / и негритенка принес в подоле». По-моему, эти строчки он потом убрал, не публиковал нигде. А стихотворение «Фестиваль молодежи» начиналось так:
Пляска затылков, блузок, грудей — это в Бутырках бреют блядей. Амбивалентно добро и зло — может, и Лермонтова наголо?Многие из моих знакомых и друзей в те годы мечтали о некой поэтической карьере, но тогда я и правда почувствовал: за этими стихами у Андрея было другое — вхождение в поэтическую жизнь.
Школу мы кончили в пятьдесят первом, одно время практически не общались. Андрей поступил в Архитектурный, я хотел на филологический или философский факультет, но в силу ряда обстоятельств мне это было недоступно, и в результате я оказался в Экономическом институте, который потом объединили с Плехановским. А потом, где-то с 1955 года, стали общаться, и довольно часто. Начало оттепели, жизнь молодежная в Москве просто бурлила, и это помогало нашему общению. Помню, Андрей приносил мне главы из «Живаго», четвертые экземпляры на машинке, зачастую с правкой самого Пастернака. Мы бесконечно с ним это обсуждали.
Тот же пятьдесят седьмой год, в космос отправили первую собаку Лайку, не планируя ее возвращение. Помню стихотворение Андрея: «Здесь пугало на огороде (в опубликованном варианте — „Здесь Чайльд-Гарольды огородные“. — И. В.) / На страх воронам и ворам. / Здесь вместо радио юродивый / Врет по утрам и вечерам (в опубликованном — „Дает прогнозы по утрам“. — И. В.)». Стихотворение он назвал «Таёжное». И я помню еще «выпавшее» из него четверостишие: «А по ночам летят зарницы / На станционные огни. / И воют псы — им, видно, снится, / Что мчатся в спутниках они».
Помню, он мне прочитал еще — «Лежат велосипеды / В лесу, в росе. / В березовых просветах / Блестит шоссе»… Потом он посвятит это стихотворение поэту Виктору Бокову.
Да, где-то между пятьдесят шестым и седьмым годами у него был, как мне показалось, очень бурный роман, причем очень неожиданный. Некая журналистка, то ли испанка, то ли кубинка, Лили Геррера… У него были строчки, помню: «Лили Геррера у всех на устах. А на моих — губы ее».
К тому времени уже давно публиковался Евтушенко — но они были совершенно разными. Андрей выпадал из тогдашнего контекста, был отдельным в поэзии сразу. Кому-то казался чудовищным. Так первые символисты пугали многих в конце XIX века, так скандально появился Маяковский. Было ясно, что Вознесенский нашел что-то свое, свою тональность. И я ему сразу сказал, всё, Андрей, всё, ты пишешь прекрасные стихи. После фестиваля ему нужно было определяться — но выбор уже был сделан. В пятьдесят восьмом году он пришел однажды счастливый: принес альманах «День поэзии», там весь синклит советских поэтов, и среди них — вот, пожалуйста, Вознесенский — страница 26. «Репортаж с открытия ГЭС» кончается так — «И сверкают, как слитки, / лица крепких ребят / белозубой улыбкой / в миллиард киловатт».
В альманахе был опубликован и его «Первый лед», между прочим, — замечательное, по-моему, лирическое стихотворение, правда, изуродованное эстрадными певцами. У него было лучше: «Мерзнет девочка в автомате, / Прячет в зябкое пальтецо / Всё в слезах и губной помаде / Перемазанное лицо»…
Хотя я всю жизнь был такой желчный — помню, что-то такое сказал о его «Мастерах»… В пятьдесят девятом, по-моему, мы еще пару раз виделись, а потом семья его переехала с Серпуховки в центр. И я переехал тогда же. У него был мой рабочий телефон, но — он уже попал в такой бурный круговорот успеха. Признание было таким громким. Одна из последних наших встреч была в старом Доме актера, — он выступал вместе с Евтушенко. Искренне так говорил, что рад меня видеть. Но у него просто начиналась совсем другая жизнь… Потом, годы спустя, я бывал на его вечерах, но не подходил, старался, чтобы он меня не замечал.
Пахнет яблоком снежок
Сексуальная революция, о которой так долго мечтали импрессионисты, волюнтаристы, вейсманисты-морганисты и прочие формалисты, свершилась в какие-то две фестивальные недели.
Нельзя утверждать, что значение фестиваля для страны было прямо-таки судьбоносно — но что-то, ах, всколыхнуло атмосферу. В СССР усищи сбриты, колючее сменилось обнаженно-лысым. И, будто неспроста, на дальних стапелях уже прицелились в пучины космоса ракеты. И физики ласкали синхрофазотроны. И юная ватага лириков уже тянулась к юбкам официоза, к ночнушкам пафоса, затертого до дыр, — о, где там прячутся коленки? Ну и всякое прочее.
Что касается новых муз, их и искать не надо было. Сами прыгали, как из бани, хлоп, в сугроб. Сочно, смачно. «Прямо с пылу, прямо с жару — / ну и ну! / Слабовато Ренуару / до таких сибирских „ню“!»
Чувство было юно, глаз был свеж и незамылен.
Вознесенский съездил в Ригу, куда был направлен после института, и скоро вернулся. Выбор свой он сделал: поэзия победила архитектуру.
Откуда что взялось в деликатном и щуплом Андрюше — бесшабашная смелость, хулиганство метафор?! Таким его увидели, таким он выскакивал на сцену. Хотя тогда казалось, что он не один, что их — плеяда! Заводские дворцы культуры, институтские аудитории, окололитературные бомонды завоевывали весело и легко — отряд свежих имен казался неразлучным: Вознесенский вместе с Евтушенко, Ахмадулиной, Окуджавой, Рождественским.
Вечера и встречи с поэтами — не хуже джаза и рок-н-ролла — стали последним писком моды. В 1958-м в Москве появится памятник Маяковскому, и поэты выльются на площадь, а впереди у них будут еще стадионы.
Вознесенский носится по редакциям, берется за переводы, заводит новые знакомства, едет в Грузию, едет в Сибирь — по заданиям редакций, комсомольским командировкам, петь трудовые порывы. Но… трудовые порывы у него заплясали метафорами, заиграли чувственностью. И героини такие… Героини ведь и сами не знают, что они лирические, пока их не встретит поэт. Но как поэту без них?
Был, кстати, с Пастернаком случай еще до войны, в 1934-м — Первый Всесоюзный съезд советских писателей приветствовали метростроевцы и метростроевки. Одна вышла с тяжеленным отбойным молотком — и Пастернак инстинктивно из президиума кинулся помочь, снять тяжесть с девичьего плечика. Она ни в какую, молоток ей полагается по композиции! И Пастернак с трибуны признается: «Когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю… мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была мне сестрой?!»
Отсутствие сестер притупляет у поэтов чувствительность. Сестры, они же музы. И с конца пятидесятых, с самых ранних стихов, у Вознесенского закружатся сестры-музы — да и странно было бы без них! Критики сразу поджали губы. Литературные генералы насупились. Это — музы, это — сестры? Легкомысленные какие-то…
Вот музы Вознесенского на «Даче детства»: «За проказы, неприличности / и бесстыжие глаза, / за расстегнутые лифчики — / за-за!» Да и с чего бы ему быть против «неприличностей» — вся мировая музейная живопись ими пестрела, все художественные альбомы, которые бережно хранили родители!
Вот в подмосковной «Последней электричке» — «…черты спитые, / на блузке видит взгляд / всю дактилоскопию / малаховских ребят». Но поэту и она — «чище Беатриче».
Вот «Песня Офелии», чьи дела — как сажа бела, «уж лучше б на площадь в чем мать родила…».
Тогда это казалось непонятно — и нервировало, и притягивало страшно. Стихи Вознесенского и тогда, и всегда — настолько исповедальны, что и читатели и литсобратья замучаются гадать: кто же эти музы, кто же вдохновлял поэта?
Тут мы притормозим. Нам, видно, не избежать напоминания о Пушкине, о часто цитируемом письме его Вяземскому — зачем тот жалеет о потере «Записок» Байрона: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc. <…> Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Эту мысль повторит по-своему Вознесенский много лет спустя, — адресуя ее праздным гонителям Евтушенко: «Может, и есть, за что его корить, — но не вам же».
Не стоит забывать об этом и теперь, вникая в биографию самого Вознесенского.
Но чему так рад литературовед и архивист, нашедший, скажем, имя неизвестной музы Пушкина или Лермонтова? Рад тому, что приоткрыл еще одну страницу поэтической истории, обнаружил еще один источник вдохновения. И тайну отраженного поэтом космоса. Вознесенский знал эту грань — и сам, вспоминая великих, с которыми сведет его жизнь, никогда не забывал о их музах. Какие ни были — они вдохновляли поэтов, а значит, заслуживают отношения внимательного. Это тоже — помнить надо.
Кто эта «журналистка Лили Геррера», о которой вспомнил бывший одноклассник поэта? Следы ее теряются в тумане времени. Очевидно, это мимолетная и вовсе не единственная из загадок юного Вознесенского. А что за муза скрыта в его прелестном «польском цикле» конца пятидесятых — начала шестидесятых? Поэтесса Инна Лиснянская вспоминала, как летом 1959-го после посиделок на чьей-то квартире, когда в первый раз записали песни Булата Окуджавы на магнитофон, поздно вечером Вознесенский пригласил их с Булатом «к одной знакомой польской журналистке». По дороге заскочили в гостиницу «Украина» за тортом и шампанским. Может, тогда и написались эти строки: «Ах, сыграй мне, Булат, полечку… / Помнишь полечку, челку пчелочкой?»
Следы неведомой польской музы (или, скорее, муз) встречаются тут и там. Анатолий Гладилин заметил на сей счет: «Не знаю, я плохо уже помню, вроде приехала делегация, в которой были две милые польки, но… Андрюша всегда был темнила — и потом, с польками всегда у всех что-нибудь было».
С конца пятидесятых Вознесенский был дружен с Верой Дравич, которая работала секретарем секции поэтов в Московском отделении Союза писателей. Хотя, собственно, Дравич она станет в 1963-м, когда выйдет замуж за поляка Анджея Дравича и уедет в Варшаву. А в 1959-м Вознесенский вполне мог еще признаваться: «Я брожу с тобой, Верка, Вега…» И обсуждать с ней едва ли не самый мучительный для него (как и для многих шестидесятников) вопрос: «Кто мы — фишки или великие? / Гениальность в крови планеты. / Нету „физиков“, нету „лириков“ — / Лилипуты или поэты!»
Но была еще таинственная А. Л. С ней-то и связана изящная история с сиренью, о которой напомнит Евтушенко даже в 2010 году, прощаясь с Вознесенским стихами: «Не стало поэта, который / послал из Нью-Йорка на „боинге“ / Любимой однажды дурманящую сирень».
Евтушенко слегка напутал: не на «боинге» и не из Нью-Йорка, но что сирень была и, можно не сомневаться, дурманящая — это точно. Собственно, об этом сказано самим Вознесенским — в стихах «Сирень „Москва — Варшава“».
Подлинный адресат тут надежно зашифрован, стихи посвящены Расулу Гамзатову. Гордость дагестанской литературы, певец Кавказа согласился передать цветы от Вознесенского варшавской музе, не подозревая, что тот притащит в купе целый куст сирени. Гамзатов крякнул, но махнул рукой: «Свезем». Потом «таможник ахнул, забыв устав» — при виде куста сирени, занявшего полкупе. Гамзатову, конечно, не позавидуешь — зато Вознесенский был счастлив: «Ах чувство чуда, седьмое чувство!»
Так что за чудо?
Следом за сиренью полетит «Новогоднее письмо в Варшаву» — едва ли не самое воздушное в его сборнике «Треугольная груша» — неведомой А. Л.:
…А у меня окно распахнуто в высотный город словно в сад и снег антоновкою пахнет и хлопья в воздухе висят они не движутся не падают ждут не шелохнутся легки внимательные как лампады или как летом табаки они немножечко качнутся когда их ноженькой коснутся одетой в польский сапожок… Пахнет яблоком снежок.Тут ждет нас любопытное открытие: в 1962 году варшавское издательство Iskry выпустит сборник Вознесенского «Парабола» — к его изданию окажется причастна… А. Л.
Итак, она звалась Алисией Лисецкой. Тоненькая, красивая, светлые волосы с пробором. Почти ровесница, на два года старше Андрея Вознесенского. Они переписывались, по словам Зои Богуславской, и переписка их была сродни переписке Пастернака с двоюродной сестрой Ольгой Фрейденберг. «Страшно рад нашему единодушью, сложившемуся в разных городах, без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положеньях», — писал ей в 1933 году Борис Леонидович. Дает ли это представление о «единодушье» Вознесенского с Лисецкой? Ну, отчего бы и нет, «когда их ноженькой коснутся, одетой в польский сапожок».
Алисия Лисецкая была заместителем главного редактора польской «Новы культуры». «Энергичная журналистка», как писали про нее, в 1961 году предложит наградить премией за лучшую книгу года писателя Я. Бохэньского и его роман о временах Цезаря — «Божественный Юлий». Но чуткие польские руководители уловили в книге подозрительные намеки: с чего это автор так въедливо анализирует механизмы абсолютной власти? Лисецкую, словом, из журнала уберут. Алисия не утихомирится, призовет к переизбранию всей верхушки Союза польских литераторов: у советских коллег, скажет, при всей цензуре свободы больше, чем у польских писателей. И еще ее будут волновать — «всё уменьшающаяся возможность для откровенной и принципиальной дискуссии о литературе, культуре, культурной политике… фальшивая политика дискриминации и отталкивания близких нам идейно партийных писателей и марксистских публицистов».
К чему, казалось бы, всё это в романтической истории? Были сирень, снежок — и на тебе, «идейно близкие писатели», «дискриминация». Но мы поставим галочку: занятный штрих к тому, как власти создавали «диссидентов». Лисецкую запишут в «группу ревизионистски настроенных писателей», и из журналистки муза Вознесенского преобразится в «одну из ярчайших фигур оппозиции», в 1969-м уедет в Лондон, а вернется из эмиграции в Варшаву лишь в 1985 году.
Но и разгадкой А. Л. польские ребусы молодого поэта не исчерпываются. Много лет спустя в эссе «Люблю Лорку» Вознесенский расскажет, как однажды, после выступления в Чикаго, где «полтора миллиона поляков», он оказался в комнатке у знакомой польки, чьи «родители эмигрировали перед войной в Аргентину». Она читает Лорку, поджав ноги на тахте, и в лиловом свете «кажется сама сиренью с поникшими трепетными плечами». Ох уж эта сирень!
Кто эта любительница Лорки — можно догадаться из того, что расскажет Зоя Богуславская:
— Ее звали Югне Карвелис. Она была гражданской женой Хулио Кортасара. Семья ее бежала из Литвы при Пилсудском (бывший революционер, известный крайне националистскими взглядами, возглавлял правительство Польши с 1918 по 1930 год; при нем поляками был захвачен Вильнюс, провозглашена «Срединная Литва» и установлен диктаторский режим «санации, оздоровления». — И. В.), ее в шестилетнем возрасте оставили в Париже с родственниками. Так что для нас она была уже парижанка. Югне дружила почти со всеми нашими, была нашей всеобщей подружкой. У нас вообще как-то так получалось с Андреем, что мы, независимо друг от друга, любили и дружили с одними и теми же людьми. И я ее любила несказанно.
Она была ведущим редактором в издательстве «Галлимар». Главное, ослепительно интересной женщиной. Была блондинкой и любила выпить. Такой как бы антипод Марины Влади, которая была тоже коммунисткой. Югне знала множество языков, кроме русского, правда. Обожала Фиделя Кастро и Че Гевару. Страшно любила латиноамериканскую литературу, которая тогда была в моде, от Льосы, Борхеса и Кортасара до Маркеса. Первая книга в Париже у Андрея вышла в «Галлимаре». Она, как и Арагон с Эльзой Триоле, принимала участие в каждой русской книге, у них в издательстве была серия русской литературы, и у меня тоже первый перевод был сделан в «Галлимаре». У меня единственной, кстати, тогда оказалась очень большая запись интервью с Хулио Кортасаром. В ее доме мы встречали Новый год, были и елки, и всё. Кортасар был мужчина несказанной красоты. Помню, как в какой-то праздник он спускается по лестнице в маске вампира — все дети пугались, а потом столько восторгов! Он был громадная личность, которого все любили, просто киногерой.
В Париже у них с Югне была квартира, был и общий ребенок. Было столько любви!
Дрожишь, как будто рюмочка
Еще и первой публикации не было — а Вознесенского уже с головокружительной скоростью узнала Москва, прежде всего студенческая, юная и, как непременно сказали бы в новом веке, светская. Интеллигентская внешность не выдавала в Андрее знойного покорителя девичьих сердец. Однако начинал читать стихи — в своей странной манере, с перепадами ритмов, перекатами звуков — и девушки трепетали.
Полвека спустя одна из тех девушек, Лия Музыкант, расскажет в интернет-журнале «Мастерская» («Встречи с Андреем Вознесенским», 2013), как это было, например, с ней. Она много лет проработала врачом в Институте травматологии и ортопедии, в Институте хирургии им. Вишневского, а тогда, в пятидесятые годы, о которых вспоминает, только-только окончила биофак университета и жила в коммуналке на улице Горького. Друзья у девушки были непростые, со связями, из Интуриста, из прокуратуры, легко могли позволить себе красную, черную икру, копченые колбасы. «Всё это, — пишет она, — свободно продавалось в магазинах в раннюю „хрущевскую эпоху“». Однажды ее знакомый, следователь Юра Прокофьев, решил украсить компанию необыкновенным гостем и пообещал привести поэта-архитектора. Тот оказался «невысоким парнем в темном плаще и выглядел студентом».
«„Андрей Вознесенский, — представил мне его Юра, — поэт, бард и вообще — хороший парень“. Андрей крепко пожал мне руку. „Ты его не оставляй, он никого из нас не знает, без тебя мы накроем стол“, — заявил мне Прокофьев. „Ах, если так“ — я пошла с Андреем в нашу „парадную“ комнату… Мы уместились с Андреем в одном кресле. Андрей начал рассказывать о себе: окончил в этом году Архитектурный институт, работает в проектной конторе „Рога и копыта“ — шутил он, пишет стихи, выступает в молодежных клубах.
У него был приятный баритон и красивые синие глаза. Он взял меня за руку: „Давайте убежим от них, пойдемте гулять!“ Я бы с удовольствием ушла с Андреем, но как бросить гостей? К тому же Юра открыл дверь: „Парочка, к столу!“ Началось застолье… Но мне казалось, что Андрей скучает. Почему? Вот не вписывался он в эту „интеллигентную“ компанию с малоприличными анекдотами и хвастливыми рассказами о заграничных поездках. А когда Юра Прокофьев стал рассказывать еврейский анекдот, нажимая на акцент, Андрей резко прервал его: „Вот это не надо, это глупо и не смешно“. Юра явно обиделся: „Ну, тогда читай свои стихи, будет смешно — все схватятся за животики“. Я думала, Андрей откажется, но он встал, поднял руку и стал читать…»
Улица Горького — наш Бродвей! Там коктейль-холл — как гремучий змей!Скоро, впрочем, гости завели патефон, пошли танцы-шманцы-обжиманцы. Поэт танцевать отказался и утащил-таки даму гулять. На Пушкинской площади было пустынно. «Андрей взял меня за руку: „Ну вот, мы сидим с тобой на скамеечке, держимся за ручки, как школьники-старшеклассники. А мы даже не студенты — работаем, самостоятельные люди. Что же, давай целоваться“… Как-то насмешливо это у него прозвучало (или мне так показалось). Я обиделась: „В первое же знакомство? Нет, лучше смотреть на звезды“. И вдруг неожиданно вспомнила стихи В. Маяковского: „Если бы я / поэтом не был, / Я б / стал бы /звездочетом“…».
Вознесенский игриво порадовался за Маяковского, позвал девушку «в клуб МГУ на Ленинских горах в эту среду в 6 вечера. Будет вечер молодых поэтов». Девушка не пришла, звонить ей он не стал — мало ли таких девушек на свете. А она увидела его в следующий раз через много лет в Политехническом: он был по-прежнему «худощавый, коротко подстриженный — ну почти такой же, как 10 лет назад на улице Горького».
Пожалуй, девушка и не узнала, что у Вознесенского тогда появилось стихотворение «Вечеринка». Про парочку, сбежавшую с вечеринки: «Может, ветром их сдуло? / Посреди кутежа два пустующих стула… / <…> Водою талою — / ищи-свищи! / Сбежали, бросив к дьяволу / приличья и плащи! <…> / Так убегает молодость / из-под опек, / и так весною поросли / пускаются в побег!»
Мало ли бывает в молодости вечеринок — и мало ли с кем поэт сбегал, и так ли уж это важно?
Евтушенко уже успел развестись с Ахмадулиной, все вокруг были женаты — Окуджава, Рождественский. И Вознесенского, бывало, пытали: когда женится? Андрей Андреич гордо отвечал: «Никогда. Поэту не надо жениться». Или отшучивался — женится, мол, на одной, другие обидятся… Но стихотворение «Свадьба» все же написал, в те же пятидесятые.
«Свадьба» была у Пастернака — он рассказывал Андрею, как среди ночи в Переделкине разбудил его «говорок частушки»: «Прямо к спящим на кровать / Ворвался с пирушки…»
В «Свадьбе» у Заболоцкого «Огромный дом, виляя задом, / Летит в пространство бытия».
«Свадьбы» Евтушенко напомнили тогда про дни военные, когда «не пляшется, но не плясать — нельзя».
У них своя «Свадьба», а у Вознесенского — своя. Будто фотовспышкой выхвачена из мрака одна лишь невеста:
И ты в прозрачной юбочке, юна, бела, дрожишь, как будто рюмочка на краешке стола.Метафора, между прочим. Легкий штрих — и космос смысла. Невесту-рюмочку захочешь — не забудешь.
Глава четвертая НЕ ТУГА МОШНА, ДА РУКА МОЩНА
Куль голландский
Сидели на сцене Политехнического. Поочередно читали стихи. Аудитория ломилась, зал трещал по швам. Так целую неделю, день за днем. Однообразия, впрочем, не было — случались и веселые казусы.
Слева от Вознесенского с букетом на коленях, по сценарию, Борис Слуцкий. Подошла очередь выступать, и — вот как потом рассказывал Андрей Андреевич («Латы и флейта»):
«Я уверенно вышел и начал читать из „Мастеров“:
Купец галантный — куль голландский.Так вот, я четко произнес „х… голландский“. Зал онемел. Любой профессионал продолжал бы как ни в чем не бывало. Но я растерялся от эффекта. И поправился: „Извините, то есть куль…“ Рев, стон восхищенного зала не давал мне читать минут пять. Потом я продолжал чтение и триумфально сел на место. Лики моих коллег были невозмутимы, как будто ничего не произошло.
Рядом на стуле из букета торчали красные уши и бровь Слуцкого.
— Андрей, — обратился он ко мне, выбравшись из букета.
— Что, Борис Абрамович?
— Вы знаете, что вы сказали?
— Что, Борис Абрамович?
— Вы сказали слово „х…“ (я впервые слышал из его уст этот термин).
— Не может быть!
Он посмотрел на меня как на больного.
— Андрей, прошу вас, больше никогда не читайте стихов. Вы всегда будете оговариваться…
На следующий день я увидел толпу, склонившуюся над магнитофоном: „Произнес или не произнес?“».
Зоя Богуславская, Оза, много лет спустя заверит: да нет, вообще-то в жизни Андрей совсем не был «матершинником», разве что в стихах иногда могло проскочить… Вот и в этой истории — оговорочка, хулиганство словесное, «пощечина общественному вкусу», все это озорство, казалось, раскрепощает язык и ломает стереотипы — что «положено», а что «не положено».
А первый раз Вознесенский читал свою первую поэму «Мастера» в гостях у «статной красавицы с прямым пробором и туго уложенными на затылке косами», дочери сослуживца Андрея Николаевича, его отца. Там же оказался могучий, обаятельный поэт, автор очерков «Владимирские проселки», практически земляк — к тому же член редколлегии «Литературной газеты» («Соло земли»).
«Приносите, — сказал Андрею солидно так Владимир Солоухин. — Опубликуем». И оказался человеком слова: в январе 1959 года «Литературка» напечатала «Мастеров».
Несколько стихотворений Вознесенского к тому времени, до появления поэмы, уже были опубликованы. Но именно эта «напечатанная чудом» поэма, напишет однажды Асееву поэт Соснора, была как внезапный «удар бомбы по всей советской поэтике. Соответственно, как штыки, встали громоотводы, миллионы штук — от „серых кардиналов“ до „трудящихся“, — все обрушилось на Вознесенского. Я уж не говорю о поэтах, эти, как всегда, шли в теневом авангарде, создавая вокруг „Мастеров“ истерику. Даже Слуцкий, тогда самый знаменитый поэт и любитель молодых» (Звезда. 1998. № 7).
Только ворвался — и страсти разгорелись костром. Пугали формализмом. Шпыняли недобитым футуризмом. Постаревшие соратники Маяковского вынуждены были высказаться. В 1960-м Николай Асеев напишет в поддержку нового дарования статью «Как быть с Вознесенским?» (Литературная газета. 1962. Август). Еще раньше на Третьем съезде писателей СССР выступит Семен Кирсанов:
«Вот недавно появился совсем молодой поэт Вознесенский. Напечатал он всего четыре или пять стихотворений. Да, они не похожи на стихи Александра Трифоновича Твардовского, которого мы все почитаем и чтим. Стихи Вознесенского своеобразны и по-своему ярки… „Литературная газета“ поместила заметку „…И по мастерству!“, где говорится о формалистических стихах Кирсанова и молодого поэта Вознесенского. Зачем это делать, зачем сразу лепить ярлык? Зачем пятнать молодого поэта ранними грехами Кирсанова? Ведь он еще только ищет свой почерк, не надо его немедленно исправлять, а то он так исправится, что станет похожим на всех, и его перестанут замечать. Научиться писать ярко почти невозможно, а переучить писать серо — очень легко».
Чем так раззадорили литературных критиков «Мастера»? Поэма ходила по рукам, восторженные читатели заучивали ее и цитировали. Читателю следовало объяснить, что он заблуждается: зачем так восторгаться молодым поэтом, когда есть поэты посолиднее? Но чем старательнее объясняли — тем интереснее казался читателям новый поэт.
Поэма «Мастера» состояла из семи глав с реквиемом и посвящениями. Критики оттачивали свое мастерство на обсуждении поэмы. Станислава Рассадина бросало в дрожь от Вознесенского. У поэта, уверял он, «раздвоение личности»: «Таланту Вознесенского приходится преодолевать его же рассудочность» — под которой критик подразумевал отсутствие подлинного чувства (Литературная газета. 1960. 8 октября).
Льва Аннинского удивлял и пафос, и тон критиков, желавших непременно «развенчать», «разоблачить», «уничтожить» молодого поэта (Знамя. 1961. № 9). Но и его задел тот факт, что поэма посвящена — «Вам, Микеланджело, Барма, Дант!». Перечислив, сколько еще выявлено в стихах Вознесенского имен и названий, — от Рубенса до Мурильо, от Явы до Мессины, — Аннинский вливается в общий хор: «При всем уважении к эрудиции Вознесенского, мы отнюдь не склонны ставить знак равенства между эрудицией и поэзией».
Заметим — особенно всех взбудоражил Рубенс. Отчего критики так нервничали именно из-за Рубенса? Читатель, бывавший в Эрмитаже и видевший его пышных красавиц, возможно, критиков поймет. Красота необъятная — вот что такое Рубенс. Критики будто не стихи читали, а что-то этакое себе воображали. В них даже ревность просыпалась: молод еще поэт, чтобы красотищу Рубенса, как надо, охватить.
У Вознесенского Рубенс упомянут и в «Балладе работы», и в «Тбилисских базарах». Будущий либерал Рассадин, как уже сказано, был просто вне себя. В тон ему, аж через 12 лет, выскажется поэт Василий Федоров, представлявший как раз консервативное крыло литературы: «В стихах Андрея Вознесенского перед нами явная „гиена“, не имеющая никакого отношения к Рубенсу!»
И с «Мастерами» — Федоров призывает к бдительности: «необходимо обратить особое внимание на искажение истории!» (Москва. 1971. № 11). Тут поразительно — единодушие. Борцам с формализмом вторил бывший «лагерник», будущий эмигрант поэт Наум Коржавин, с тем же жаром обличавший в Вознесенском «модернизм», мешающий «свободе творческой личности» (Литература и жизнь. 1961. № 7). Будущий диссидент Андрей Синявский в соавторстве с Андреем Меньшутиным корит поэта за «нескрываемый пафос самоутверждения, желание обратить на себя взгляды публики» (Новый мир. 1961. № 1). Бенедикт Сарнов, развенчивая Вознесенского, открыл даже дискуссию с самим собой: в «Литературке» он писал про поэта под собственным именем, в «Московском комсомольце» оппонировал себе под псевдонимом «Ст. Бенедиктов». Эту игру разоблачил тогда Игорь Кобзев, сам, впрочем, развлекавшийся сатирическими куплетами о молодых поэтах.
Тарарам перетекал в трампампам, критическая кадриль исполнялась самозабвенно — к этим танцам мы еще вернемся. Пока же заметим, при всем уважении, — зубодробительная внятность критиков сводилась к одной мысли: ну что же это делается, почему читатели от Вознесенского без ума?
В начале восьмидесятых Юнна Мориц напишет «Перечитывая Вознесенского» (Юность. 1981. № 5). Перечитывая Мориц, хочется ее цитировать и цитировать — все выше приведенные недоумения критиков ею были легко и изящно развеяны:
«Андрей Вознесенский стал известным поэтом в тот день, когда „Литературная газета“ напечатала его молодую поэму „Мастера“, сразу всеми прочитанную и принятую не на уровне учтивых похвал и дежурных рецензий с их клеточным разбором, а восторженно и восхищенно.
Свобода и напор этой вещи, написанной двадцатипятилетним Андреем Вознесенским, были наэлектризованы, намагничены током страстей, живописью и ритмом, дерзкой прямотой и лукавой бравадой, острым чутьем настроений своего поколения, злобы ночи и злобы дня. Вознесенский предстал в „Мастерах“ как дитя райка (во всех значениях слова): раёшный стих, раёшный ящик с передвижными картинами давней и сиюминутной истории, острота, наглядность и живость райка, и — автор, вбежавший на сцену поэзии с вечно юной галерки, которая тоже — раёк.
Краткое сообщение крайней важности: „Художник первородный — / всегда трибун. В нем дух переворота / и вечно — бунт“.
Раёшная звуковая роспись — всем телом: „На колу не мочало — человека мотало!“, „Не туга мошна, да рука мощна!“, „Он деревни мутит. Он царевне свистит“, „Чтоб царя сторожил. Чтоб народ страшил“.
Никакой чопорности, никакой пелены поэтических привычек, зато чудесная зрячесть к „подробностям“, вроде снега и солнца, которые молодой Вознесенский не раскрашивает, а рассверкивает, озорничая стихом:
Эх, на синих, на глазурных да на огненных санях… Купола горят глазуньями на распахнутых снегах. Ах! — Только губы на губах! Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси. По соборной, по собольей, по оборванной Руси — эх, еси — только ноги уноси!Двадцать два года назад можно было в один день стать известным поэтом, напечатав поэму „Мастера“. И сейчас можно. Если написать. В двадцать пять лет. И быть Вознесенским».
Отчего же так ополчились критики? Юнна Мориц на этот вопрос ответит:
«С точки зрения ссылок на вечность, законы которой якобы известны критикам, Вознесенский весьма уязвим, он умеет дразнить блюстителей правил поэтического движения, и это он тоже делает энергично:
Дорогие литсобратья! Как я счастлив оттого, что средь общей благодати меня кроют одного. Как овечка черной шерсти, я не зря живу свой век — оттеняю совершенство безукоризненных коллег.Или в ответ дерзит напоказ, что совершенно естественно психологически:
Когда по Пушкину кручинились миряне, что в нем не чувствуют былого волшебства, он думал: „Милые, кумир не умирает. В вас юность умерла!“Если поэта можно без конца обсуждать, значит, нет к нему равнодушия и его присутствие конкретно связано с нашим сознанием и волнует, влияет, влечет».
Кто Вознесенский для самой Юнны Мориц? «Дитя райка, НТР, книжного бума, века мировых стандартов и мировой отчужденности, века всемирных контактов и межпланетных полетов, материального и духовного сверхбогатства и сверхбедности, кризисов общественных и личных сознаний, поисков самодостаточности и гуманизма в скоротечно гибнущих недрах земной природы».
Вернемся тем не менее к поэме.
О чем все-таки поэма «Мастера»? О вечном: старое уходит огрызаясь — новое наступает веселясь. Зачин истории (рассказанной в поэме) — сказочный: «Жил-был царь. / У царя был двор». Однако: «Хвор царь, хром царь, / а у самых хором ходит вор и бунтарь». И перед царем у него — преимущество: «Не туга мошна, / да рука мощна!» И он не только «деревни мутит» — «он царевне свистит». Стукнул жезлом царь — и велел государь, чтоб на площади главной «храм стоял семиглавый — семиглавый дракон». Что за ересь — дракон? А «чтоб царя сторожил, / чтоб народ страшил». За дело взялись семеро смелых, сильных лихих мастеров — и возвели храм такой дерзкой красоты, что боярин, уходящая натура, ахнул, углядев в красе баламутство, крамолу. А веселых мастеров красота — дело рук их — воодушевила: «Семь городов, антихристы, задумали они». Дело не удалось («Тюремные стены. / И нем рассвет»), зато последователь появился:
Врете, сволочи, будут города! Над ширью вселенской в лесах золотых я, Вознесенский, воздвигну их!Как говорится, сказка ложь, да в ней намек — государям и генсекам с президентами урок. Новое все равно придет, сколь драконов ни выставляй. Но и прошлое не громи «до основанья» — не превращай храмы в драконов, не погань — срикошетит в тебя.
Откуда такая в авторе самоуверенность? А оттуда: от свободы внутренней, молодости, раззудись, плечо, веры, надежды, любви. Слушай поэта, читатель, другие обманут — поэт не соврет. Если он поэт.
Сам по себе сюжет поэмы не нов. Читатели внимательные помнили с тридцатых годов «Зодчих» Дмитрия Кедрина, повествовавшего о строителях храма, «безвестных владимирских зодчих», которых ослепили — чтобы не смогли построить где-нибудь лучше. У Кедрина стих ровен и напевен — у Вознесенского строка пульсирует, краски поют, звуки ослепляют.
Об этом зоркий Юрий Лотман писал: в «Мастерах» сам звукоряд несет в себе смыслы и значим. Видный ученый-структуралист ищет корни поэтики Вознесенского в глуби веков. В XVII веке — у Симеона Полоцкого («Философ в худых ризах обычно хождаше, / Ему же во двор царский нужда нека бяше»), В XVIII — у Василия Тредиаковского («Виделось мне, кабы тая / В моих прекрасная дева / Умре руках вся нагая, / Не чиня ни мала зева»). Так, по цепочке, Лотман дойдет до Маяковского, Цветаевой, Хлебникова, до футуристов с их новыми ритмами.
Вокруг мастеров-футуристов Вознесенский ходил кругами. Их будетлянские храмы завораживали не его одного. Давид Самойлов, увлеченный Велимиром Хлебниковым, записал себе однажды в дневничок заклинание: «Велимир, помоги!»
В конце пятидесятых Вознесенский познакомился с Алексеем Крученых, автором футуристического «дыр бул щыл убешщур». Пастернак, писал он, предостерегал от этого знакомства: Крученых, Кручка — тот еще тип, со странностями, стихи давно забросил, квартира как лавка старьевщика. Зато у него Андрей мог найти что угодно. На какую сумму вам Хлебникова? — хрясть, ровно настолько Кручка отрежет кусок рукописи ножницами.
В стихах у Хлебникова река шумела «служебным долгом», а море давало «белью отпущенье в грехах». Фразы уводили в шаманские бездны: «Организму вымысла нужна среда правды». Или так вот — «Мировая революция требует мировой совести».
Автора «Мастеров» назовут чуть позже «последним футуристом XX века». Когда-то Хлебников обещал: «Я господу ночей готов сказать: „Братишка!“, и Млечный Путь погладить по головке». Было в этом что-то родственное обещанию входившего в поэзию Вознесенского — строить храмы «над ширью вселенской».
«Знамя» и «Юность». А «Новый мир»?
Впервые стихи Вознесенского опубликовала «Литературная газета» — 1 февраля 1958 года была напечатана «Земля». «Мы любили босыми ступать по земле, / по мягкой, дымящейся, милой земле». И дальше: «Мне турок — земляк. И монгол, и поляк. / Земляк по мозолям, по миру — земляк»…
Это был дебют. Самое первое. Потом стихи его понемногу, осторожно пошли по другим газетам. По толстым журналам.
Как все начинающие авторы, он ходил по редакциям. Часто помогала и подсказывала ему тогда подруга Пастернака Ольга Ивинская. Встречали молодое дарование — где как. Позже он расскажет про один такой забавный визит.
«Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает — этакая радушная туша, бегемотина. Смотрит влюбленно.
— Вы сын?
— Да, но…
— Никаких „но“. Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын…
— Да, но…
— Никаких „но“. Мы даем ваши стихи в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века, словечки современные — ну вот, например, вы пишете „кариатиды…“ Поздравляю.
(Как я потом понял, он принял меня за сына Н. А. Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)
— …То есть как не сын? Как однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Приносите чушь всякую вредную. Не позволим. А я все думал — как у такого отца, вернее, не отца… Какого еще чаю?»
Для тех, кто не понял. Однофамильца, Николая Алексеевича Вознесенского, прочили в конце сороковых едва ли не в «преемники» Сталину. Борьба за близость к власти — штука чреватая. В 1949 году того Вознесенского приурочили к «ленинградскому делу», сняли со всех постов, осудили как заговорщика и расстреляли. А через пять лет, в 1954-м, реабилитировали.
Писатель Анатолий Гладилин в те годы работал в «Комсомольской правде» — он тоже вспомнит, как впервые встретил в редакции Андрея, с которым потом был дружен многие годы:
«Он принес, конечно же, стихи, и я первый тогда напечатал его в „Комсомолке“ в пятьдесят девятом. Стихотворение называлось „Сердце“. Вообще повезло, что мы с ним встретились, потому что работал я там недолго… Дальше начался стремительный взлет Вознесенского, а до него на слуху были Евтушенко и Рождественский… Булат тогда еще только-только начинал. Помню, я жил тогда в центре, недалеко от ЦДЛ, и многие тогда бывали у меня. Странно, но молодых поэтов чаще других, кажется, печатал тогда журнал „Знамя“. Редактором там был товарищ Кожевников, не самый, мягко скажем, прогрессивный. Тем не менее тот же Кожевников напечатал стихи Андрея о Политехническом, пропустив там такие строчки: „Ура, студенческая шарага! / А ну, шарахни / по совмещанам свои затрещины! / Как нам Ошанины мешали встретиться!“… После этого был скандал, и „Ошанина“ пришлось убрать. Кожевников вряд ли мог пропустить это случайно. Думаю, у него просто были какие-то свои счеты с автором „Гимна демократической молодежи“, который тогда всюду пели. А тут такой случай — удобно заехать Ошанину руками Вознесенского…»
Много лет спустя, в семидесятых, Вадим Кожевников подпишет письмо против Солженицына и Сахарова, и вспоминать о нем что-то хорошее будет уже не принято. Но Вознесенский добро помнил:
«Журнал „Знамя“ и тогда был лучшим журналом поэзии. Либеральный „Новый мир“ лидировал в прозе и общественной мысли, но из-за угрюмой настороженности великого Твардовского отдел поэзии там был слабым.
О редакторе Вадиме Кожевникове сейчас говорится много дурного. Скажу об ином. Высокий атлет с римским бронзовым профилем, он был яркой фигурой литературного процесса. Под маской ортодокса таилась единственная страсть — любовь к литературе. Был он крикун. Не слушал собеседника и высоким сильным дискантом кричал высокие слова. Видно надеясь, что его услышат в Кремле, или не доверяя ветхим прослушивающим аппаратам. Потом, накричавшись, он застенчиво улыбался вам, как бы извиняясь.
Именно он единственный опубликовал стихи Бориса Пастернака из романа „Доктор Живаго“ и предварил появление романа объявлением о нем. Нежные отношения связывали его с Ольгой Ивинской, музой Бориса Леонидовича.
Замом себе он взял рафинированного интеллигента Бориса Леонтьевича Сучкова. Тот прошел ГУЛАГ как шпион всех разведок, чьи иностранные языки он знал. Тонкими губами он дегустировал поэзию. Но порой паника охватывала его, как, например, было с моими строчками, невинными абсолютно: „посадочная площадка“. Это было об актрисе, но он увидел здесь политику и бледнел от ужаса.
— Вы правы, конечно, но зачем гусей дразнить? — говорил он мне, и заменил в „Осени в Сигулде“ „гениальность“ на „прозрение“.
„Знамя“ напечатало моего „Гойю“. Эта публикация явилась шоком для официоза. На собрании редакторов всемогущий завотделом ЦК по идеологии Д. А. Поликарпов заклеймил эти стихи. Кожевников встал, закричал на него, пытался защитить меня. С „Гойи“ началась моя судьба как поэта. Первая ругательная статья „Разговор с поэтом Андреем Вознесенским“ в „Комсомолке“ громила „Гойю“. Следом появились статьи запугавшего всех Грибачева и испуганного Ошанина. Для них формализм был явлением, схожим с вейсманизмом и морганизмом. Он казался опаснее политических ошибок — люди полуграмотные и суеверные, они боялись мистики и словесных заговоров. С тех пор самые усердные из официальных критиков набрасываются на все мои публикации, что только усиливает, может быть, прилив читательского интереса.
Кожевников не испугался и напечатал „Треугольную грушу“. Там были строчки:
Люблю я критиков моих. На шее одного из них, благоуханна и гола, сияет антиголова!..…Я пытался доказать, что это не о Хрущеве, что я имел в виду своих ругателей Прокофьева и Грибачева, чье портретное сходство навеяло мне такой образ. Но это лишь усугубило мою „вину“… По всей стране были расклеены плакаты, где мухинские рабочий и колхозница выметали грязный сор — шпионов, диверсантов, хулиганов и книжку с названием „Треугольная груша“.
Так что судьба моя переплелась с судьбой журнала „Знамя“ и лучшие вещи тех лет — „Париж без рифм“, „Монолог Мерлин“, „Осень в Сигулде“ и другие были напечатаны именно здесь. Правда, „Озу“ они не напечатали. Но это не их вина. Видно, возможности были ограничены».
Кроме «Знамени» — была еще «Юность», где был Валентин Катаев. Собственно, с Катаева «Юность» и началась, и скоро вокруг самовара, купленного самим редактором (натуральный, на сосновых шишках и углях!), привыкла собираться поэтическая молодежь. Многие считают, и не безосновательно, что по своему влиянию в отечественной журналистике фигура редактора «Юности» была сопоставима с фигурой редактора «Нового мира» Твардовского…
В семидесятых Катаев напишет искрометное предисловие к книге Вознесенского «Тень звука». Андрей Андреевич стыдливо вычеркнул некоторые комплименты в свой адрес. Катаев ухмыльнулся: «Ну, не хотите быть названным гениальным — ваше дело…»
Стоит все-таки напомнить, привести здесь кусочек спелой прозы — из той статьи Валентина Катаева о Вознесенском:
«Он вошел в сени, как всегда, в короткой курточке и меховой шапке, осыпанной снежинками, которая придавала его несколько удлиненному юному русскому лицу со странно внимательными, настороженными глазами вид еще более русский, может быть даже древнеславянский. Отдаленно он напоминал рынду, но без секиры.
Пока он снимал меховые перчатки, из-за его спины показалась Оза, тоже осыпанная снегом.
Я хотел закрыть за ней дверь, откуда тянуло по ногам холодом, но Вознесенский протянул ко мне беззащитно обнаженные, узкие ладони.
— Не закрывайте, — умоляюще прошептал он, — там есть еще… Извините, я вас не предупредил. Но там — еще…
И в дверную щель, расширив ее до размеров необходимости, скользя по старой клеенке и по войлоку, вплотную один за другим стали проникать тепло одетые подмосковные гости — мужчины и женщины, — в одну минуту переполнив крошечную прихожую и затем застенчиво распространившись дальше по всей квартире.
— Я думал, что их будет три-четыре, — шепотом извинился Вознесенский, — а их, оказывается, пять-шесть.
— Или даже семнадцать-восемнадцать, — уточнил я.
— Я не виноват. Они сами.
Понятно. Они разнюхали, что он идет ко мне читать новые стихи, и примкнули. Таким образом, он появился вместе со всей случайной аудиторией. Это чем-то напоминало едущую по городу в жаркий день бочку с квасом, за которой бодрым шагом поспевает очередь жаждущих с бидонами в руках.
Гора шуб навалена под лестницей.
И вот он стоит в углу возле двери, прямой, неподвижный, на первый взгляд совсем юный, — сама скромность, — но сквозь эту мнимую скромность настойчиво просвечивает пугающая дерзость.
Выросший мальчик с пальчик, пробирочка со светящимся реактивом адской крепости. Артюр Рембо, написанный Рублевым.
Он читает новую поэму, потом старые стихи, потом вообще все, что помнит, потом все то, что полузабыл. Иногда его хорошо слышно, иногда звук уходит и остается одно лишь изображение, и тогда нужно читать самому по его шевелящимся, побелевшим губам.
Его аудитория не шелохнется. Все замерли, устремив глаза на поэта, и читают по его губам пропавшие в эфире строки. Здесь писатели, поэты, студенты, драматурги, актриса, несколько журналистов, знакомые знакомых и незнакомые незнакомых, неизвестные молодые люди — юноши и девушки в темно-серых пуловерах, два физика, шлифовальщик с автозавода — и даже один критик-антагонист, имеющий репутацию рубахи-парня и правдивого малого, то есть брехун, какого свет не производил…»
В этой самой статье («Вознесенский», опубликованной в сборнике «Разное» в 1970 году) Катаев вспомнит еще, как Юрий Олеша мечтал написать книгу «Депо метафор». И удивится: вот же, стихи Вознесенского — и есть «депо метафор». И в метафоре его не просто украшение, а множество значений и смыслов.
…А, между прочим, в «Новом мире» стихотворение Вознесенского «На открытии Куйбышевской ГЭС» все-таки было опубликовано — в одиннадцатом номере за 1958 год. Правда, это было тогда, когда «Новым миром» руководил Константин Симонов. А при Александре Твардовском — ни в какую. Гладилин вспоминает, что он «на километр не подпустил» Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко, Окуджаву, Рождественского, Мориц. Семен Липкин в своих «Встречах с Твардовским» называет среди отвергнутых Марию Петровых и Бродского. Почему?
Софья Караганова, редактор отдела поэзии журнала при Твардовском, вспомнит позже (Вопросы литературы. 1996. № 3): «Предлагаю напечатать стихотворение Вознесенского „Роща“, А. Т. пишет на рукописи: „Первую половину стихотворения можно понять и принять, но дальше я уже ничего не понимаю. Почему я должен предполагать, что читатель поймет и будет доволен?“»…
Прервем Караганову ненадолго — чтобы напомнить строки из «Рощи» Вознесенского: «Не трожь человека, деревце, / костра в нем не разводи. / И так в нем такое делается — / Боже, не приведи! / Не бей человека, птица, / еще не открыт отстрел. / Круги твои — ниже, тише. / Неведомое — острей…»
Вот что пишет дальше бывший «новомирский» редактор отдела поэзии:
«…Вознесенский становится все более известным, стихи в „Новый мир“ приносит, но все отвергается. „Это — от лукавого“, — говорил А. Т. Защищаю Вознесенского: „Я в него верю“. Цитирую, пусть перефразируя, Пастернака: „В конце пути впаду, как в ересь, в неслыханную простоту!“ А. Т. засмеялся: „Вот тогда мы его и будем печатать, а пока пусть печатают другие“.
Как-то я с огорчением сказала Александру Трифоновичу:
— „Новый мир“ напечатал Вознесенского, когда он еще никому не был известен. Он талантлив, сейчас знаменит, а мы его не печатаем.
— Ну, это уж совсем не резон. Сказали бы — талантлив, а его не печатают, тут уж…
И действительно, когда Вознесенского перестали печатать (полтора или два года совсем не печатали: „подписант“), предложенные им журналу стихи были без промедления подписаны в набор Твардовским… Не знаю ни одного случая, когда бы А. Т. публично — устно или в печати — выступил с критикой поэта, стихи которого он сам не принимал».
К слову: упоминание «подписант» у Карагановой — это о подписи Вознесенского под письмом в защиту Солженицына и Сахарова. Или в защиту Синявского и Даниэля. Это будет позже. Вознесенский будет всегда среди «подписантов» писем, которые совестно не подписать. Ни под одним подлым письмом его подписи не будет никогда.
А про журналы… Уже в наши времена он ностальгически вспомнит то, с чего когда-то все начиналось: «Толстые журналы совсем загнулись… Взгляните на стиль новых журналов, родившихся в последнее время. Это не джинсовая „Юность“, рожденная оттепелью. Они отпечатаны блистательно, с идеальным вкусом, как каталоги галерей или музеев. Все они в лаковых туфлях…»
В конце пятидесятых с лаковыми туфлями была напряженка. Не то чтобы туфли не волновали, просто многие — вот дурман в головах! — наивно думали: важнее, чтобы стихи были — блеск.
Будто стихи для жизни интереснее, чем туфли. Ха-ха-ха.
Глава пятая УХО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
Нету «физиков», нету «лириков»
Всякая случайность неслучайна по-своему — и вот, пожалуйста. На одном и том же писательском заседании в сентябре одного и того же 1960 года в члены Союза писателей СССР приняты и начинающий поэт Андрей Вознесенский, и автор книги «Леонид Леонов» Зоя Богуславская.
Мог ли Вознесенский, как честный человек, после этого не жениться на Богуславской?! Ответ на этот вопрос впереди, уже скоро. А пока…
— Разбудил меня Андрюша и чуть не плача прошептал: «Опять весь номер облевали», — рассказывал Булат Окуджава со смехом. Он, опытный в гостиничной жизни, посоветовал Вознесенскому заплатить горничной, и все осталось тайной.
Что это было? А был декабрь 1959-го. Было важное писательское совещание в Ленинграде, на которое впервые позвали начинающего поэта Вознесенского. Но рассказ о том, что происходило на совещании, требует предыстории.
За несколько месяцев до того, 2 сентября 1959 года, писатель Илья Эренбург ответил через «Комсомольскую правду» студентке пединститута Нине. Измучилась Нина с инженером Юрием — только начнет поэта Блока читать, он ей: не ложись, говорит, поперек научного прогресса!
Э, Ниночка, да ваш Юрий подцепил где-то душевную целину, — примерно так поставил диагноз доктор Эренбург. Рецепт его был прекрасен и трогателен: развивать гармонию в личности пациента. Удалось ли Нине излечить этим способом друга Юрия, истории неизвестно.
Но 11 октября на подмогу инженеру Юрию подтянулась тяжелая артиллерия — инженер-подполковник Игорь Полетаев из НИИ Главного артиллерийского управления Минобороны (он же автор книжки «Сигнал» — об основах кибернетики): какая ж тут болезнь? научные горизонты — вот поэзия идей и разума, а вы вздыхаете, ах, Блок! ах, Бах!
Тут же поэт Борис Слуцкий — ба-бах. «Литературка» опубликовала его программное: «Что-то физики в почете. / Что-то лирики в загоне. / Дело не в сухом расчете, / Дело в мировом законе».
Вот тогда-то, в декабре 1959-го, в Ленинграде и созывается Всесоюзное совещание для поэтической дискуссии: не хоронит ли товарищ Слуцкий поэзию, не сдает ли позиции? На это самое совещание и позвали Вознесенского — начинающему поэту надо набираться ума-разума.
Дирижировали дискуссией важные литературные вельможи: Леонид Соболев и Александр Прокофьев, будущий ругатель Вознесенского. От молодежи выступал Евгений Евтушенко. Павел Антокольский заклинал: Девятая симфония Бетховена и «Медный всадник» Пушкина круче космических ракет и рефракторов Пулкова! Как мы могли, как мы могли — сдаться без боя людям с логарифмическими линейками?
Польза, видимо, во всем этом была: инженеры и ученые в те годы стали чуть не самыми пылкими поэтолюбами. Познания в литературной области у технарей стали признаком хорошего тона. Но чего не хватало иногда зубодробительным дискуссиям — хоть капли юмора и самоиронии.
Напряжение снимали после официальной части. Дебютант Вознесенский был впечатлен:
«Совещание пило страшно. В мой номер набивались поклонники и молодые поэты. Они облевали весь номер. Меня, как рассадника, решили выгнать с совещания. Соболев был страшен и велик в гневе. Булат пошел, поручился за меня и уговорил их пощадить молодое дарование. В полночь вбежал ко мне поэт Аквелев. Он читал стихи, остался ночевать. А утром…»
Утром, как мы уже знаем, его опять выручил Окуджава. Да, тяжела была участь литераторов — особенно в дни таких вот ответственных совещаний. Впрочем, и по существу вопроса Андрюше в те дни тоже было что сказать. Для него важнее дележки на физиков-лириков вопрос — стоишь ты в жизни чего-нибудь или нет:
Кто мы — фишки или великие? Гениальность в крови планеты. Нету «физиков», нету «лириков» — лилипуты или поэты!В самом деле, куда масштабнее спора «физики или лирики» — альтернатива «лилипуты или поэты». Вот в 1958-м похоронены добитые лилипутами Зощенко и Заболоцкий. Вот только что лилипуты топтали Пастернака. Вот триста ученых обратились с просьбой избавить науку от лилипутского мистификатора Трофима Лысенко — им поначалу уступили. Вот недобитые генетики приподняли головы. Вот реабилитированные кибернетики и прикладные лингвисты зашелестели… Все это ненадолго: и Лысенко лилипуты вернут, и кибернетиков поставят на место, и с Пастернаком не придут проститься.
А героям (особенно героиням) Вознесенского все равно всегда будет на лилипутов плевать. Хоть и жизнь у них вечно бедовая, и страсти физико-лирические, на грани фола: «Эх, чечеточка, / сударыня-барыня! / Одна девчоночка — / Четыре парня. / Четыре чуда, четыре счастья, / Хоть разорвись — / Разорвись на части. / Кончена учеба. / Пути легли / Во все четыре / Конца земли».
Героини выпрыгнут из его «Сибирского блокнота», как из той самой истории про Пастернака и метростроевку с отбойным молотком: «Ты куда, попрыгунья, / С молотком на боку? / Ты работала в ГУМе, / Ты махнула в тайгу».
Как в шекспировских актах — «Лес». «Развалины». «Ров». Героини в палатках. Перекройка миров.«Разврат эстрадных читок»
Аудитории ждали поэтов. Расхожее заблуждение — будто поэтические вечера на эстрадах были изобретением и основным занятием исключительно Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной, Рождественского да Окуджавы. Это совсем не так: «эстрадниками» вдруг сделались все — вечера проводили и кондовики, и мастодонты, и осуждавшие, и отсидевшие, и просто юнцы. Любые вечера на любых площадках шли на ура — дорвался народ до поэзии.
Другое дело, что при всем этом общем возбуждении самый ажиотаж был именно там, где появлялись Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Окуджава, Рождественский. Это, конечно, было остальным обидно.
На одном из вечеров среди поэтов на сцене не оказалось Евтушенко и Вознесенского — завалили записками из зала: где они? почему? Как вспоминают очевидцы, Ярослав Смеляков решил внести ясность: да что же это такое! в московской секции триста поэтов, и каждый считает, что пишет лучше других… Пауза. Ну, по крайней мере, не хуже.
Смех в зале. Сцена скуксилась.
Как-то в Театре эстрады Семен Кирсанов прочел стихи, которые писал 30 лет назад. Все разинули рты. Раз так, Кирсанов прочел еще и написанное 40 лет назад… Потом вышел Вознесенский и сразу честно признался, что он не соперник Семену Исааковичу — нет у него ничего тридцати-сорокалетней давности. Молодежь в зале оценила шутку, бывший футурист Кирсанов уловил иронию.
Вот это безумно кружило головы публике — радость общения: где еще узнаешь, увидишь, какие искры пробегают между поэтами, как относятся они друг к другу, о чем на самом деле думают. Тоска в читателях давно созрела — по слову живому: к тому же стихи звучали с эстрады чаще без купюр, со строчками, исчезнувшими в напечатанных текстах. Где такое было услышать читателям?
Как-то Анна Ахматова отмахнулась — и Лидия Чуковская записала, похоже, не скрывая злорадства: что про этих Вознесенских говорить, это ж «эстрадники».
Кто только не повторит потом: вот как Анна Андреевна сказала.
Однажды Ахматова мнение изменила, возможно, ненадолго, — диссиденты Лев Копелев и Раиса Орлова вспомнят в своих «Встречах» с Анной Ахматовой другие ее слова, сказанные после поездки в Италию (где Анне Андреевне пришлось выступать перед большой аудиторией): «Я раньше всё осуждала „эстрадников“ — Евтушенко, Вознесенского. Но оказывается, это не так уж плохо, когда тысячи людей приходят, чтобы слушать стихи».
Вот загадка: почему те слова Ахматовой будут вспоминать, а эти — нет? Есть и такое мнение: а если Копелев с Орловой интерпретировали ее высказывание по-своему? А если нет? Конечно, споры тут бессмысленны: отношение Ахматовой к «эстрадникам» не было восторженным. Но сама вероятность таких вот сентиментальных перепадов в ее настроении — любопытна.
В 1930-х Пастернак записал: «Году в двадцать втором я был пристыжен сибаритской доступностью победы эстрадной. Достаточно было появиться на трибуне, чтобы вызвать рукоплесканья. Я почувствовал, что стою перед возможностью нарождения какой-то второй жизни, отвратительной по дешевизне ее блеска, фальшивой и искусственной».
Кто-то, наткнувшись на эту цитату, кинется стыдить ею ученика Пастернака. Видимо, по неосведомленности.
Где-то в сороковых послевоенных годах Пастернак провел свой литературный вечер. Потом еще и еще, читал переводы, стихи, в том числе и ненапечатанные, — пока эти вечера не прикрыли. Сын Пастернака, Евгений Борисович, вспомнит, как поэта, отвергавшего прежде «разврат эстрадных читок», теперь стало восхищать общение с аудиторией. Как он специально или невзначай забывал какие-то строки — и зал подсказывал… Ну просто как «эстрадник» какой-то.
Все же загадка: почему, вспоминая одно — всегда будут «забывать» другое? Сведение мелких счетов, возня литературных лагерей, «идеологические» причины?
Ответы напрашиваются — но к чему нам эти дискомфорты. На носу шестидесятые, всё для поэта Вознесенского только начинается, популярность растет как на дрожжах.
Чем он брал аудитории? В 2013 году на церемонии вручения первой премии «Парабола» (имени Андрея Вознесенского) Олег Павлович Табаков вдруг не сдержится и передразнит молодого Андрея Андреевича: голос — дзынь, руки — влет. Передразнит Табаков смешно — и сам себе объяснит: образы цепляли необычностью, обаяние было бешеное.
Гипноз? Особенность дикции? Может, есть научное объяснение этого феномена? В XXI веке обратились бы к шаманам нейролингвистического программирования. Тогда же этим заинтересовались теоретики художественной декламации. В РГАЛИ сохранились наброски к исследованию поэтессы и переводчицы Фейги Коган «Проблема авторского исполнения поэтов». Черновики эти по-своему хранят атмосферу тех лет:
«Б. Ахмадулина. Музыкальный голос. Не вполне вразумительная дикция. При очном слушании мешает и манерность поэтессы, и дикционная скороговорка… При слушании по радио манерность пропадает, темп исполнения дает возможность не только слушать, но и слышать.
А. Вознесенский. При всей неупорядоченности и даже произвольности, стихи впечатляют высокой поэтической культурой. Из особенностей исполнения характерны запевания, во имя чего стихи произносятся иногда по словам: „Слава / вам, / Варвары / всех / времен“.
Интересно чрезмерное увлечение звуком, например, в стихотворении „Осень“: „Утиных крыльев переплеск“. В стихотворении „Гойя“ своего рода звуковая одержимость…
Евг. Евтушенко. Великолепное доходчивое чтение и разнообразие приемов — выразительная смена темпов, тембров и силы голоса, неожиданные паузы, душевные голосовые замирания. Волнующие задыхания голоса.
Б. Окуджава. Когда-то пел с гитарой. Гитара, говорит теперь, ему надоела. Его отличает общая напевность исполнения („Как я сидел в кресле царя“). Изохронность (разновременность) исполнения (шуточное стихотворение на смерть Пушкина, где есть строки „Умереть тоже надо уметь“). Метризованность чтения, скандирование („О красках“).
Б. Слуцкий. Любопытен говор (а не типичное для большинства поэтов пение или запевание) под Маяковского и обязательные (почему-то) паузы после каждого слова. То, что у Вознесенского органично и музыкально, у Б. Слуцкого производит досадное впечатление — теряются именно главные слова».
Неупорядоченные или невразумительные — но голоса этих детей войны, поколения «оттепели», возвращали поэзии значение общественного явления.
Имена Вознесенского и Евтушенко в те годы часто рядом: не просто друзья — соратники! Колоритные, яркие — сравнивать, сталкивать их одно удовольствие. Спустя время всех увлечет игра «помири двух поэтов». А пока — нет повода, пока все впереди.
Но оба будут помнить, как ехали однажды туманным утром в «Аннушке» с больными головами, и слесари трамвайного депо, узнав их, переставят имена: Вознесенского назовут Женькой, Евтушенко — Андрюшей. И позже Вознесенский вздохнет о тех временах, о себе тогдашнем, о тогдашнем Евтушенко (эссе «Поэт и площадь»):
«На днях я распахнул створки первого тома его собрания сочинений и вновь ощутил этот, до печенок продирающий, жадный, нетерпеливый озон надежд, душевный порыв страны, дроглую капель на Сущевской, наше волнение перед Политехническим, медноволосую Беллу, вспомнил и остро пожалел об общем воздухе, об общем возрасте, о вечерах „на пару“, о юной дружбе с ним — с неуверенным еще в себе и дерзостно верящим в свою звезду юношей с азартно сведенными до точек глазами, тонкими белыми губами, осанкой трибуна и беззащитной шеей подростка…
…Без его гигантской энергии не было бы многих поэтических чтений. Он увлекал не только зрителей, но и администраторов. Героини его лирических плакатов щемяще дрогнут на ветру, как мартовские вербные веточки. Его жанровый диапазон бескраен — от лирики, эпики до политического романса.
Тысячи знакомых и незнакомых называют его — „Женя“. Его молниеносный галстук мелькает одновременно в десятке редакций, клубов, вернисажей. Он поистине чувствует себя заводом, вырабатывающим счастье. Если сложить тиражи всех его публикаций, они, наверное, покроют площадь Маяковского.
Лучшие его, щемяще искренние стихи — „Смеялись люди за спиной“, „Москва-Товарная“, „Баллада о лотосе“, „Со мною вот что происходит“ и еще, еще, все те, что вобрали дыхание времени. Читал он эти стихи распахнуто, люди светлели, слыша их, будто сами их только что написали.
Мы были братьями по аудитории.
Когда-то на вечере в Московском университете Илью Эренбурга спросили о Евтушенко и обо мне. Усталый мэтр, тончайший дегустатор мировой поэзии, горько усмехнулся: „Что у них общего?“ И ответил притчей: „Однажды разбойники поймали двух путников. Сначала одного, потом другого. И привязали их вместе к одному дереву одной веревкой. Так вот, общее у них — это одно и то же дерево, та же веревка и те же разбойники“.
К сожалению, разбойники до сих пор существуют».
…Книголюб Э. Казанджан, завсегдатай поэтических вечеров той поры, аж в 2008 году вспомнит в журнале «Вопросы литературы» такой эпизодик. Евтушенко объявляет со сцены стихотворение «На фабрике „Скороход“». Пауза. «Тонко-артистично изображая легкое смущение, он произносит: „Это стихотворение… я посвятил поэту… которого очень люблю… Андрею Вознесенскому“. Шквал оваций, восторг, Евтушенко, показалось, даже растерялся: не ожидал от своих поклонников такой бурной реакции на одно лишь упоминание собрата-поэта…»
Впрочем, измерять, кого восторженнее встречали, — дело пустое: армия поклонников тогда не желала разделять их, как бы ни были они непохожи. А посвящениями поэты в конце 1950-х действительно обменялись. Как вспоминал Вознесенский, сами выбрали друг у друга стихотворения. Евтушенко посвятил ему приглянувшуюся «Фабрику „Скороход“». А «Баллада работы» Вознесенского — теперь адресовалась Евтушенко. Стихотворения сложились в диалог о плате за призвание поэтов.
Автор «Фабрики» напоминает своей красотке-героине: «Одевайся. Танцуй. Ты права. / Только помни, что в строй вставшие / прикрывали в смертельном бою / твои строгие сестры старшие / своей строгостью юность свою…»
В «Балладе работы» — у Петра I «обнаженные идеалы бугрились, как стеганые одеяла». Шансы царя и художника уравнивает в правах ремесло. Без вдохновения не родить им «Савских и Саский».
А без Савских и Саский — что за жизнь?
Что с вами, синий свитерок?
Нежное отношение к Белле Ахмадулиной сохранилось у Вознесенского с самого знакомства до последних дней жизни — и в этом была у них взаимность всегда. В пятидесятых Белла была женой Евтушенко, жизнь семейная у них складывалась бурно, супруги обменивались трогательными, нежнейшими и печальнейшими лирическими посланиями. Расходились и сходились, а однажды разошлись и не сошлись. Они были «на виду», с удовольствием вплетали подробности своей жизни в стихотворные мотивы, так что их семейные драмы не были для окружающих тайной.
Нет никаких оснований полагать, что одно из лучших стихотворений Вознесенского тех лет, написанное в 1958 году, имело непосредственное отношение к печальной истории, о которой потом многократно сокрушался Евтушенко… Что за история? По словам Евгения Александровича, из-за своего эгоизма он заставил Беллу сделать аборт. «И как будто оно опустело, / погруженное в забытье, / это детское тонкое тело, / это хрупкое тело твое» — это Евтушенко. «А ты проходишь по перрону, / закрыв лицо воротником, / и тлеющую папиросу / в снегу кончаешь каблуком» — это ответ непростившей Беллы.
Совпало или нет, — да сколько женщин могло примерить на себя эти строки! — Вознесенский пишет проникновенное: «Сидишь беременная, бледная. / Как ты переменилась, бедная. // Сидишь, одергиваешь платьице, / и плачется тебе, и плачется…»
За что нас только бабы балуют, и губы, падая, дают, и выбегают за шлагбаумы, и от вагонов отстают?Тут «бабам» не один поэт сочувствует, весь круглый свет: «…как понимает их планета / своим огромным животом»!
Тогда же, впрочем, написано и стихотворение, у которого есть прямое посвящение Б. А.: «Дали девочке искру. / Не ириску, а искру… / <…>В папироске сгорает искорка. / И девчонка смеется искоса».
И прямо по свежим следам вдруг те же образы — ириска, девочка — промелькнут в рассказике Евтушенко «Куриный бог» (девочка подарит на счастье пляжнику камушек с дырочкой, а когда он помчится к далекой возлюбленной, дежурный по аэропорту вручит ему на удачу ириску). Странно было бы делать вид, что и это совпадение — случайность. Зигзаги вспыхивающих искр и искорок рассекали дружеский треугольник поэтов — Беллы, Жени и Андрея. Но к ним мы еще вернемся.
А здесь заметим другое. Это вот «девочка смеется искоса». Музы, порхающие вокруг Вознесенского, неуловимо схожи друг с другом, все такие «раскосые». Это не имеет отношения к «косоглазию», как ни настаивали бы толковые словари. Если это «зрачки киноактрисы» — то непременно «косят, как кисточки у рыси». В миндалевидных глазах этих муз, Маргарит на метлах, всегда что-то колдовское, всегда свои омуты, ворожба и колдовство. У Пикассо, вспомнит как-то Вознесенский, была своя теория — чем шире расставлены глаза, тем человек талантливее. Это не по науке, конечно. Скорее — поэзия…
Тут самое время вспомнить про Татьяну Самойлову, с ней Вознесенский познакомился как раз в те годы. «Самая скромная и очаровательная актриса» в Каннах 1958 года объясняла, что ее «чуть раскосые» глаза — «от мамы, польской еврейки». Как можно было не влюбиться тогда в Самойлову с ее нездешним взглядом!
Французы дали Самойловой премию «Апельсиновое дерево». И тот самый глазастый Пикассо нареза́л вокруг нее круги: какой типаж, какое чудо!
Поэт напишет о ней в 1962 году на страницах «Литературной газеты», в очерке «Мы — май», посвященном весне поэзии и чувств. «Она — как ящерка, нырнувшая в себя». Ломкая и щемяще смущенная собой.
Сама же красавица с несправедливо сложившейся биографией так расскажет о себе и Вознесенском в конце 90-х: «Мы были молодыми и любили друг друга чисто символически, встречались, читали стихи, говорили о Маяковском, Лиле Брик, о Майе Плисецкой, просто общались. Ведь Андрюша очень хороший, отзывчивый, общительный человек. И вот, кстати, удивительная вещь: до сих пор люблю и перечитываю стихи Цветаевой, но на сцене читать их не решаюсь. А Вознесенского — не боюсь».
Ах, молодость. К тому же слава, голова кругом и всё как в тумане. «Как бы башкой не обменяться! / Так женщина — от губ едва, / двоясь и что-то воскрешая, / уж не любимая — вдова, / еще твоя, уже — чужая…»
Зоя Богуславская расскажет много лет спустя: они с Андреем еще числились друзьями, он был сильно увлечен Самойловой. Ехали втроем с какой-то вечеринки. Андрей попросил притормозить, Таня вышла и ушла одна. Богуславская была потрясена: как можно отпустить ее одну, ночью?! «Такие вещи долго разрушали мою возможность влюбиться в Андрея. Они мне вообще были непонятны. Как и очень многое в его поведении. Понимание пришло много позже…» («Story». 2014).
Музы, поклонницы, восторги аудиторий, выпады критиков, амброзии и отравы, «друзья? ох, эти яго доморощенные!» — каких только штрихов и красок не добавляет юность портретам художников.
* * *
Но тут обстоятельства вынуждают нас вернуться к дискуссии о «физиках и лириках». К тому самому разливанному совещанию литераторов. Среди молодых поэтов была и Римма Казакова. О чем они с Вознесенским болтали-разговаривали тогда в Ленинграде? Не только о стихах. Однажды она расскажет со страниц газеты «Московский комсомолец», что ей больше всего запомнилось:
«Шел 59-й год, Ленинград. Сначала он спросил: „Чтой-то ты все со стариками ходишь?“ А потом, то ли всерьез, то ли в шутку предложил: „Выходи за меня замуж, у меня трехкомнатная квартира“… Но я мыслями тогда уже была на Дальнем Востоке (там у нее вышла первая книжка. — И. В.), я понимала, что мне нужно туда. У того же Вознесенского есть строки про Гогена: „Чтоб в Лувр королевский попасть не с Монмартра, он дал кругаля через Яву с Суматрой“. А я уехала на Дальний Восток и уж оттуда — в Москву».
Однако еще до этого случился эпизод — он скорее про чувства юной Казаковой к Вознесенскому. Идет писательский съезд, она гуляет как-то по Москве с Даниилом Граниным:
«Он хорошо ко мне относится, протащил меня, молодую девку, на писательский съезд. И вдруг вижу на стенде „Литгазету“ со стихами Вознесенского. И как легкое головокружение, как тошнота к горлу подступает — у меня возникает непреодолимое желание немедленно ответить Андрею.
Я говорю Гранину: „Вы меня извините, я пойду домой“. Он изумляется: что случилось? Но я убегаю и сажусь писать стихи. Так появилось стихотворение „Подмастерье“, которое я посвятила Вознесенскому. Оказалось, что для меня стихи важнее, чем всё: чем роскошный мужик, который идет рядом, чем съезд писателей».
«Ты возьми меня в ученицы, / В подмастерья возьми, Зима», — написала тогда Казакова. Впечатленная Вознесенскими строками: «Несется в поверья / верстак под Москвой. / А я подмастерье / в его мастерской». Стихотворение у Вознесенского называлось «Русские поэты»: «И пули свистели, / как в дыры кларнетов, / в пробитые головы / лучших поэтов». А если не пуля? «Не пуля, так сплетня / их в гроб уложила». Пусть его мастер из тех, кого «пленумы судят», — но, если идти в подмастерья, так только к Нему. Лиха беда начало.
Между прочим, после того шутливого Вознесенского предложения о замужестве хабаровские критики, обнаружив в ее стихах новую чувственность, сочли, что «даже ранняя Ахматова писала о любви целомудреннее». Хотя Казакова-то клялась, что «была невинная девочка, только открывала для себя, что такое любовь».
Вот удивительные все-таки люди, эти поэты: только девушка вообразит себе что-то воздушное: ах, что это было? Ну что-что. Гражданский манифест. А вы что подумали?
Но стоит девушке собраться и губки поджать — поэт возьмет ее врасплох: «Вы, третья с краю, / с копной на лбу, / я вас не знаю. / Я вас люблю!»
Он будет падать, выкидывать финты «меж сплетен, патоки и суеты». В начале шестидесятых он будет прощаться с Сигулдой, с юностью, с Политехническим. У поэта будет новая пора.
Однажды, в 2013 году, Политехнический закроют на долгий ремонт. Перед самым закрытием «Политеатр» будет читать в большой аудитории Вознесенского и Ахмадулину. И к ним прислушивалось — магически — ухо Политехнического. Ура, галерка! Будто полвека не пролетело — все друг у друга на головах. Как шашлыки, дымятся джемперы и пиджаки.
В восьмом ряду, слева, с самого краю, пристроится Вениамин Смехов — сколько раз ему самому доводилось читать Вознесенского с этой сцены! И сидящие рядом услышат его полушепот: «Все-таки какая удивительная аура у этого зала»…
Что с вами, синий свитерок? В глазах тревожный ветерок…Глава шестая ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ
«Капа была святая»
Первая книга стихов Вознесенского, напомним, появилась во Владимире в январе 1960 года: «Мозаика».
К тому времени почти все близкие ему молодые поэты своими первыми сборниками уже обзавелись. При всем дружелюбии присматривали друг за другом все ревностно. У Евтушенко в 1952 году появились «Разведчики грядущего», к шестидесятому, как из пулемета, вышло уже пять книг. В 1955-м у Рождественского — «Флаги весны». Первую «Лирику» Окуджавы издали в 1956-м в Калуге. Слуцкий дождался первой книжки лишь в сорок лет: его «Память» вышла в 1957-м. Годом позже — «Ближние страны» 38-летнего Самойлова.
Уже вслед за Вознесенским — в 1961-м — издала первую книгу «Мыс Желания» Юнна Мориц. Еще через год появилась «Струна» Ахмадулиной. И «Женщина под яблоней» Светланы Евсеевой — ее в те годы, к слову, Вознесенский всякий раз упоминал как одно из самых ярких молодых дарований. Позже Евсеева, обменявшись трогательными стихотворными посланиями с Давидом Самойловым, исчезла с московских поэтических горизонтов, уехав в Минск насовсем.
Почему Вознесенского, вдруг ставшего известным, модным, ругаемым и любимым, издали во Владимире? Город, конечно, не чужой Вознесенскому, навевал поэту воспоминания о детстве, но дело было совсем не в том. Дело в Капе. Во Владимире была Капа. Если угодно, Капитолина Леонидовна Афанасьева — главный редактор Владимирского книжного издательства.
«Капа была святая, — напишет потом про нее Вознесенский. — Стройная, бледная, резкая, она носила суровое полотняное платье. Правое угловатое плечо ее было ниже от портфеля. Она курила „Беломор“ и высоко носила русую косу, уложенную вокруг головы венециановским венчиком. У нее был талант чутья».
Как-то в ресторане московского Центрального дома литераторов с Вознесенским познакомилась милая парочка — Николай и Дуня Тарасенко. Он — художник Владимирского драмтеатра, она — преподаватель литературы в пединституте. Слово за слово — вспомнили про Капу. А что, приезжай, познакомим, глядишь, поможет с изданием. А что если вечер в институте организовать? Договорились, и Вознесенский отправился во Владимир. Дальше — все случилось неожиданно скоро и просто. Выступление, как обычно, прошло на ура, а потом: «…меня нашла редактор Капа Афанасьева и предложила издаться».
Первому встречному Капа такое не предложила бы ни за что: она была девушка разборчивая во всех отношениях. И с принципами — потому биография вся в зигзагах. Приехала в Москву из иркутского села Култук, поступила в тот самый МАРХИ, который позже прошел Вознесенский, — но через год ушла, потому что завкафедрой графики проходу не давал. Окончила полиграфический, в 1951 году ее направили во Владимир, где она стала главным редактором и много лет руководила издательством. Пока не издала «Мозаику»…
«Она открыла многих владимирских поэтов. Быт не приставал к ней, — не уставал рассказывать Вознесенский. — В ней просвечивала тень тургеневских женщин и Анны Достоевской. На таких, как она, держится русская литература… Но когда вышла „Мозаика“, грянул гром».
Книгу Вознесенского включили в издательский план. Обком интересовался: какое отношение московский поэт имеет к Владимирскому издательству. Вспоминать прапрадеда поэта, владимирского архимандрита Андрея Полисадова, не стоило. Сослалась Капа на то, что в годы войны Вознесенские были в эвакуации в Киржаче.
«Вы были влюблены в него?» — спросит у Капы много лет спустя журналист «Комсомолки» Татьяна Филиппова. «Да нет…» — задумчиво ответит она. И вспомнит, как позже встретила однажды в центре Владимира Вознесенского — тот выходил из ресторана «с кем-то из местных пиитов». В деталях: «На мне было пальто колоколом, шляпа с вуалеткой, черные ажурные перчатки и, несмотря на глубокую осень, туфли на тонких каблуках. Андрей выхватил из-под мышки спутника зеленую папку, бросил на землю и опустился коленом на папку передо мной». Конечно, романтично. Но Капу и впрямь было за что благодарить.
«Мозаика» вышла тиражом пять тысяч экземпляров. В оглавлении значилось стихотворение «Прадед». Но — бдительность: он что, решил воспеть архимандрита?! Тираж вернули из магазинов, работники издательства вручную вырезали страницу 31 и вклеивали стихотворение «Кассирша». Потом решили, что лучше в продажу книгу не возвращать, отправить на макулатуру. Объяснили не мудрствуя: вклейка в книжке слишком бросается в глаза…
Что было на самом деле? Капитолину Афанасьеву вызвали на совещание к министру культуры РСФСР Алексею Попову. Обсуждали постыдную выходку Дальневосточного издательства: в книге о Фадееве написали, что он застрелился через подушку (как было на самом деле), а не умер от сердечного приступа (как сообщалось официально). Потом вдруг Попов заметил Капу — и переключился на нее: какое-то козявочное издательство во Владимире издает какого-то Вознесенского! Что это за бесконечные «я» — «я парень с Калужской, я явно не промах»? Зачем в стихах «беременная» и почему она «бледная»? Какие такие «пельмени слипшихся век»?
Вознесенский пересказывал потом с ее слов, расставляя свои акценты: «Сановный хам, министр культуры Попов, собрав совещание, орал на нее. Обвинения сейчас кажутся смехотворными. Например, употребление слов „беременная“, „лбы“ квалифицировалось как порнография и подрыв основ. Министр „шил политику“. Капа, тихая Капа прервала его, встала и в испуганной тишине произнесла вдохновенную речь в защиту поэзии. И, не докончив, выскочила из зала. Потом несколько часов у нее была истерика».
Директор издательства Мацкевич за «Мозаику» получил строгий выговор, Афанасьеву затаскали по обкому, цепляясь теперь ко всему. Перевели в главные инженеры типографии. Потом до пенсии она работала в издательском отделе Политехнического института.
А часть тиража «Мозаики» тогда все же разлетелась. После запрета книжку, стоившую один рубль, скоро стали продавать с рук за тридцать.
Вознесенский постоянно давал о себе знать, слал телеграммы: «Сегодня читаю только для тебя». Как-то передал с поездом мешок апельсинов: Капе пришлось тащить его с вокзала в ночи, ворчала, но, конечно, это было приятно. Подарил ей хрустальную вазу в серебряной оправе — она гордилась: самый дорогой подарок.
В 1978 году во Владимире прозвучит «Поэтория» Родиона Щедрина — на стихи Вознесенского. Капа встречала их, Щедрин был с Плисецкой, Вознесенский с Богуславской. В переполненном зале — к восторгу и удивлению собравшихся, не знавших ничего о Капе, — Вознесенский кинется к ней с букетом. Потом напишет, как со сцены Людмила Зыкина поклонилась Капе. А та не удержится и съязвит: «На самом деле она просто уронила листочки с текстом, нагнулась поднять…»
Время обошлось с ней несправедливо — усталость и обиды копились. Выловила фразу Вознесенского в «Новом мире»: «Капа, прости меня». Истолковала неожиданно: «Это было прощание». Добрые люди тоже старались: в начале девяностых некий владимирский литератор с фамилией Пастернак однажды явится к Вознесенскому, тот примет гостя радушно, попросит отвезти Капе пальто, она же бедствует. Тот откажется — она же гордая! — отвезти не отвезет, но, вернувшись во Владимир, тут же иронически расскажет, вот, мол, барские замашки. Может, лучше бы не злословил, а отвез пальто — оно наверняка было нужнее?
Вознесенский приедет еще однажды в Суздаль на встречу с читателями. Позвонит ей: приедешь или мне заехать во Владимир? Она пообещала. Зная, что она действительно живет впроголодь, он пришлет денег. Ее это оскорбит: при чем тут деньги? Дала брату на дрова, купила сыру и вина. И не поехала.
Восьмидесятилетняя Капа ушла из жизни в 2003 году. Для Вознесенского она так и осталась: «святая».
Через пару месяцев после «Мозаики» в Москве выйдет сборник «Парабола», и его точно так же моментально кинутся изымать. То, что попадет на прилавки, сметут сразу. Позже в сборниках Вознесенского стихи пятидесятых годов объединятся в один цикл — «Мозаика — Парабола»…
Фокстроты критиков
Однажды в пятьдесят восьмом году Борис Пастернак шел куда-то с Лидией Чуковской. Нобелевский лауреат — на грани нервного срыва, травля автора «Доктора Живаго» была в разгаре. Борис Леонидович странно косился на кусты и канаву: никого нет, а кажется, что кто-то смотрит. «Упырь?» — спросила спутница.
Пастернак не первый и не последний: упыри и за Блоком ходили прежде, и за Вознесенским после. У каждого поэта они свои. С годами, умудренный, Андрей Андреевич запишет: «Упыря можно узнать по тухлому взгляду. От его взгляда киснет молоко и увядают молодые поэты».
Сразу же вслед за «Мозаикой» и «Параболой» понеслись вокруг Вознесенского хороводы споров и криков. Читатели восторженно трубили в медные трубы, критики спешили прихлопнуть его медным тазом. Топ-топ, цок-цок, такие свистопляски. Нелепое, злобное вперемешку со здравым, площадная брань с партийным окриком вприпрыжку, добрая шпилька, недобрая лесть — полвека спустя все сливается, не разберешь! А ничего страшного: танцы как танцы. Проследим за этим дробненьким воображаемым фокстротом, сохраняя верность цитат.
Рецензент П. Петров (владимирская газета «Призыв»), перекрикивая: «А все-таки, когда читаешь „Мозаику“, сразу видишь, что поэт не из тех, кто…» (шепчет что-то партнеру, тот прыскает и зыркает по сторонам).
Критик А. Елкин («Комсомольская правда»): «…Неконтролируемая ядерная лавина?.. „Кудахтанье жен“ и „дерьмо академий“? Нужно было как-то раскрыть содержание этих понятий…»
Поэт Н. Коржавин («Литературная газета»), подмигивая: «Известно только то, что он противник браков по расчету и умеет об этом говорить красиво! „И ты в прозрачной юбочке, / Юна, бела, / Дрожишь, как будто рюмочка, / На краешке стола“… Конкретно ли это? Нет, расплывчато!»
Поэт Л. Ошанин (журнал «Знамя»): «С Вознесенским — редчайший случай… „Одна девчоночка — / Четыре парня…“ Здесь по отдельности многое спорно: … а вместе удивительно обаятельно и свежо».
Критики Андрей Меньшутин и Андрей Синявский («Новый мир»), хором: «Да-да, тема, конечно, улавливается. Но она потеснена ритмическим и словесным перебором!»
Публицист Ю. Верченко («Комсомольская правда»), кусая губы: «В его „Последней электричке“ нетрудно уловить черты Муськи из стихотворения Евтушенко… Два молодых поэта встретились у одной и той же грязи и не осудили, а воспели ее… Любуются мещанскими страстями!»
Поэт С. Маршак («Новый мир»), подсовывая коллеге валидол: «Но к женщине, которую избивают в стихах Вознесенского, мы не чувствуем… сострадания, потому что… видим только ее ноги, бьющиеся в потолок машины, „как белые прожектора“».
Рецензент П. Петров («Призыв»): «…Неужели в современной России, даже на месте древней Суздальской Руси, не разглядел он ничего, кроме тетки в кальсонах, снегов и святых?»
Критик К. Лисовский (журнал «Сибирские огни»): «А где мог увидеть автор „белых рыбин“ величиной с турбины? Самая крупная рыба в сибирских реках — осетр, но он никогда не был белым!»
Критик Л. Аннинский («Знамя»), разводя руками: «Ну, тут надо долго объясняться по поводу свойств поэзии вообще и отличия ее от учебников рыбоводства…»
Критик Б. Сарнов («Литературная газета»): «„А вот у него созвучия — „И, точно тенор — анемоны, / Я анонимки получал“…“ Почему анемоны, а не астры, например? Ах да: „анемоны — анонимки…“ И сразу хочется оборвать, как Станиславский актера…»
Поэт И. Кобзев («Литература и жизнь»): «…Но нам тоже хочется оборвать увлекшегося критика: „Погодите, товарищ, вы еще — не Станиславский!“ Анемоны — анонимки — это необходимые краски!»
Поэт Э. Асадов (Собрание сочинений в трех томах), передразнивая Вознесенского: «К оригинальности я рвался с юности, / Пленён помадами, шелками-юбочками… / Картины Рубенса, клаксоны „форда“…»
Критик Л. Аннинский («Знамя»), перебивая: «…Рубенс — это хорошо, а вот „брюхо“ Рубенса, болтающееся „мохнатой брюквой“ — это уже на любителя».
Критик С. Рассадин («Литературная газета»): «Но, конечно, Вознесенский имел право увидеть Рубенса таким — словно бы сошедшим из своих „Вакханалий“…»
Критик К. Зелинский («Литературная газета»): «…Враг скажет: это пропаганда. Друг скажет: это правдиво, как исповедь. Но это не то и не другое. Это дыхание новой поэзии, нового восприятия мира».
Поэт А. Передреев («Октябрь»), плюется: «Самый „коварный“ его прием — ошарашивающая метафора!.. Читая Вознесенского, я вспоминаю нищего, который, войдя в вагон трамвая, начинает дико… выть с неподвижно-перекошенным ртом!»
Поэт С. Наровчатов («Литературная газета»), в ужасе: «Нельзя же так! Это уже оскорбления, а не литературная критика…»
Поэт А. Прокофьев (встреча Н. С. Хрущева с писателями), наступая коллеге на ногу: «Да, но я тоже не могу понять Вознесенского и поэтому протестую. Такой безыдейности наша литература не терпела и терпеть не может!»
Поэт Н. Асеев («Литературная газета»), не сдержавшись: «Вознесенский не сразу дошел и до меня в своих первых стихах. Виноват был не он. Я просто не умел еще читать новый почерк… ключа к его мелодиям тогда еще не нашел».
Поэт Д. Самойлов («Перебирая наши даты». Мемуары): «Вознесенский — шаман!.. У него броня под пиджаком, он имитирует незащищенность!»
Критик С. Рассадин («Литературная газета»), страстно кружа партнера: «Откуда же это „раздвоение“ личности?.. Впрочем, будем надеяться, Андрей Вознесенский сейчас приготовился сделать решающий шаг, разделяющий понятие „талант“ и „поэт“…»
Тут, прерывая вымышленный фокстрот (с невымышленными речевками) коллег и критиков, на эстраду должен бы прыгнуть Вознесенский, декламируя бойко: «Где вы, богатырские упыри, перед которыми содрогались восхищенные народы? Нет, не тот пошел упырь… Кто следующий на повестке ночи?» (Повесть «О»).
Свисаю с вагонной площадки
Голова шла кругом, признается как-то потом Вознесенский. Конечно, молодость, конечно, ощущение, что все вокруг буквально «с нас началось». Публика ловит каждое слово — ее восторги пьянят. Критики цепляют — то «пугают формализмом», то видят в Вознесенском «скрытое посконное начало». Он и сам их задирает азартно. Споры, крики, пересуды несутся, смеша или пугая, — но звякая хрустально, как у него «по Суздалю, по Суздалю / сосулек, смальт — / авоською с посудою / несется март».
Вознесенский реагировал на критиков азартно, как на слонов в посудной лавке, и раззадоривал читателей, восторженно следивших за перепалками поэта и ретроградов. Как было не любить им поэта, не желавшего улечься в трафареты?
Что еще важно: при всей настороженности поэтов старших поколений — без их внимания и поддержки вряд ли смогла бы вся «плеяда поэтов 1960-х» вот так вдруг ворваться в большую литературу. При том что старшие так же грызлись между собой, как потом перегрызутся новобранцы-шестидесятники, — и поди еще разберись, кто тут дружил и дружит с кем против кого и почему.
Так, неожиданно появляется фигура Степана Щипачева. Он руководил тогда писательской организацией Москвы и благодаря ему молодые дарования начали вдруг принимать в Союз писателей без привычных преград. Ну что, казалось бы, могло быть общего у него с Вознесенским? Талантливых и юных было много, однако вот же — Щипачев отнесся к Андрею как-то внимательнее. И тот еще вспомнит благодарно: «В бытность мою начинающим поэтом, узнав, что я маюсь в городе аллергией, не зная меня лично, Степан Петрович нашел меня и поселил в пустующей своей даче, под каким-то предлогом съехав в Москву. Кто бы еще совершил такое? Целую зиму я прожил на его мансарде среди книжных полок, бытового аскетизма, душевной опрятности, тщетно пытаясь понять натуру седого певца светлых строк, застенчиво и внутренне одинокого романтика… Он давал почитать мне дневниковую северянинскую поэму „Колокола собора чувств“, упоенное воспоминание „короля поэтов“ — с Маяковским по Крыму, — полное бурной иронии и любовных куролесов. Он восхищался названием».
«Осень», одно из лучших стихотворений «Мозаики — Параболы», Вознесенский посвятит Щипачеву. Здесь строки его вдруг — прозрачны, будто автор вовсе и не «формалист». (Вот ведь умеет же, когда захочет.) Как восхищался Вознесенский «тициановской золотой строфой» пастернаковской «Осени»! И если что роднит «Осень» Пастернака с «Осенью» юного Вознесенского, — это как раз легкость дыхания.
Утиных крыльев переплеск. И на тропинках заповедных последних паутинок блеск, последних спиц велосипедных.Такое здесь все волнующее — озябшая женщина, что мужа к ужину не ждет, губы жарко шепчут, это растерянное «ее я за плечи возьму — я сам не знаю что к чему…».
А за окошком в юном инее лежат поля из алюминия. По ним — черны, по ним — седы, до железнодорожной линии протянутся мои следы.К слову, — похоже, эти «поля из алюминия» в 1980-х годах аукнутся в песне Виктора Цоя «алюминиевыми огурцами на брезентовом поле».
* * *
Тут в нашем повествовании неожиданно всплывает эпизод, рассказанный однажды Вознесенским («Тебя Пастернак к телефону!»).
На похороны Бориса Леонидовича он добирался в машине Александра Межирова с попутчицей Майей Луговской. Они не просто подвезли — а терпеливо подождали возле переделкинского «Голубого Дуная», пивного ларька у станции, когда Андрей вернется.
Майю Луговскую Вознесенский знал, и факт их знакомства любопытен сам по себе. Однажды Андрей «отвозил по просьбе Пастернака экземпляр „Доктора Живаго“ от Андроникова к Луговскому» — тогда они и познакомились. Поэт Владимир Луговской скончался от сердечного приступа за три года до ухода Бориса Леонидовича, в 1957 году. Жена Луговского, теперь уже вдова, была инженером-гидрологом, но посвятила себя литературе. Прозу она подписывала настоящим именем — Елена Быкова, а для стихов взяла имя Майя Луговская.
Так вот, красавица Елена, она же Майя, хорошо знала другую красавицу, Елену Сергеевну Булгакову. Еще при жизни Булгакова у Луговского начался с Еленой Сергеевной многолетний роман, неизданного «Мастера и Маргариту» он знал чуть не наизусть и своей влюбленностью в героев этой книги заразил Майю. Вполне возможно, что именно она познакомила Вознесенского с Еленой Сергеевной, роковой Маргаритой (о романе Булгакова «Мастер и Маргарита» перешептывались в литкругах задолго до его публикации). В те времена у Вознесенского и появилось стихотворение «Дорогая Елена Сергеевна» (о котором шла речь выше, в шестой главе первой части).
Майя Луговская, подобно Маргарите, и сама слыла ведьмой, «доброй ведьмой», как называли ее знакомые, любила гадать, предсказывать. Сердце покойного мужа, Луговского, она похоронила в Крыму, у Ялты, под заветным черным камнем. И собственную смерть окутает завесой тайны: в 1993-м она покончит с собой, удалившись в глухую лесную чащу.
Знакомство с Майей Луговской — мимолетный эпизод в биографии Вознесенского и вместе с тем штрих к пониманию молодого поэта. Сколько еще таких «добрых ведьм» встретится в его жизни! Загадочные, таинственные, демонические истории волновали всегда его поэтическое воображение.
* * *
22 декабря 1960 года Вознесенский подписывает на «Мосфильме» сценарный договор: предполагается снять фильм по его поэме «Бой!», в которой «якутка сына без отца родила. Он рано пошел, он кричал, как удод, он весил четыре кило восемьсот…».
Поэму как раз относили к «не самым удачным», сам Вознесенский умел спокойно признавать свои «промахи» — а у кого их не бывало? Включая в свои сборники что-то «из раннего», он как-то обходил этот «Бой!», оставлявший ощущение «нерожденной поэмы». Однако киношники вполне могли бы оценить сюжет — спустя каких-нибудь полвека он вполне потянул бы на триллер не хуже голливудских. Во всяком случае, любопытно заглянуть в его заявку.
«Заявка на сценарий
Хочу предложить Вам сценарий по моей поэме „БОЙ!“. В основу положен реальный случай, произошедший недавно в Сибири. Дикая трагедия, разыгравшаяся в таежной глуши, показывает страшную силу религиозных предрассудков.
Родившийся мальчик был отнят у матери шаманами и превращен в „черта“, бога-покровителя скота, и воспитывался среди скота, перенял их повадки, нравы, речь, его пытались лишить всего человеческого. Геологическая партия, пришедшая в эти места, вырывает ребенка из рук изуверов.
В сценарии большое место будет занимать жизнь строительства крупной гидроэлектростанции, на которую привозят „мальчика-черта“.
Сложная психологическая линия юного героя показывает постепенное превращение полузвереныша в Человека, борьбу за его душу, сознание.
В картине большое место займут образы геолога Андрея, врача Зои, бывшего заключенного „Биты“ и т. д.
Уверен, что этот антирелигиозный фильм будет иметь большое политическое значение.
Андрей Вознесенский».
Про «антирелигиозный фильм» и «политическое значение» — конечно, ритуальный реверанс для того, чтобы пробить кино в инстанциях. А вот что любопытно, так это опять неслучайные случайности: имена героев чудесным образом — Андрей и Зоя. Через год согласно договору сценарий Вознесенский не сдаст, «Мосфильм» тихо прикроет проект. Поэта унесет ветром в другую сторону — свалится поездка в Америку, откроются антимиры…
Кое-что, правда, от нерожденного фильма останется: Андрей + Зоя. Всего-то несколько лет — и имена соединятся. Как задумывалось. Но не в кино.
* * *
Чуть позже Вознесенский напишет «Осень в Сигулде». Переделкинский сосед Андрея Андреевича, поэт и журналист Олег Хлебников назовет его «Памятником» Вознесенского — и неспроста. Стихотворение вспоминают всегда, говоря о «раннем» Вознесенском. «Свисаю с вагонной площадки, прощайте…»
«Осень в Сигулде» была его прощанием с пятидесятыми, юностью, эпохой. Пройдет полвека, уйдет из жизни поэт — и стихотворение будет читаться, как прощание со всем, что было и ушло, но что по-прежнему тепло и дорого. «Как ящик с аккордеона, а музыку — унесли». Строки сбиваются, слетая на едином выдохе, — разлука ведь навсегда, надо все сказать, чего не успел, а хотел. А если не сказать, то хоть «побыть бы не словом, не бульдиком, / еще на щеке твоей душной — / „Андрюшкой“…».
Но женщина мчится по склонам, как огненный лист за вагоном… Спасите!Глава седьмая НЕСЛИ НЕ ХОРОНИТЬ — НЕСЛИ КОРОНОВАТЬ
«Его больше нигде не было»
А теперь вернемся к неожиданно всплывшему эпизоду и расскажем все по порядку. Итак, 2 июня 1960 года «москвич» Александра Межирова, поэта, супермена и бильярдного короля, рассекал Москву, летя в Переделкино. В шикарном авто два пассажира — Андрей Вознесенский и Майя Луговская. Ехали на похороны. Андрей — в растрепанных чувствах, потом он вспомнит: «Видя мое состояние, они относились ко мне как к больному».
Межиров вдруг остановился у пристанционной переделкинской забегаловки «Голубой Дунай»: дальше не поеду, тут кругом наблюдают, номера машин записывают, а я член партии. «Это он, боевой офицер, прошедший фронт, не боявшийся Синявинских высот, — он испугался?» — удивится Вознесенский. И в сердцах добавит позже про Межирова: не зря, мол, «мама моя не переносила его за разносную статью против меня в „Комсомолке“, из-за которой он, по его словам, получил переиздание своей книги. Что, вероятно, было его фантазией. Увы, это балансирование на грани реальности привело его к темной истории, когда он уехал, оставив на снегу случайно сбитого им насмерть актера…».
Андрей побежал в пастернаковский дом. Межиров и Майя Луговская остались ждать его до конца похорон у пивной на станции.
Хоронили Бориса Леонидовича Пастернака (а для тех, кто кругом наблюдал, как сказал Межиров, и записывал номера машин, — хоронили автора «Доктора Живаго», изданного тайно за рубежом в 1957-м и через год получившего за этот роман громкую Нобелевскую премию).
Все случилось скоротечно. Какая все-таки слабая конституция у поэтов. Всего-то пару лет его называли: а) овцой («паршивая овца»); б) лягушкой («лягушка в болоте»); в) свиньей («даже свинья не гадит там, где ест»). Всего-то и произнесли легендарное «Пастернака не читал, но осуждаю»: а) слесарь-механик 2-го часового завода т. Сучатов; б) экскаваторщик Федор Васильцов; в) секретарь Союза писателей СССР Анатолий Софронов. Всего-то из Союза писателей исключили.
Инфаркты у Пастернака уже бывали, новые стрессы обернулись новыми болезнями. 6 апреля 1960 года поставили диагноз: отложение солей. 1 мая стало хуже. 9 мая профессор Фогельсон обнаружил обширный инфаркт. 22 мая брат Елены Тагер, Иосиф Львович, главный рентгенолог «Кремлевки», привез в Переделкино передвижной аппарат и по снимку определил: рак легкого и метастазы в обоих легких. 30 мая Пастернак умер. «Литературная газета» сообщила между делом на последней странице: «Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с. г. на 71-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного». О времени и месте похорон не сообщили нигде.
Но люди на похороны собрались. Все вспоминают: много. В служебной записке отдела культуры ЦК КПСС от 4 июня подсчитано: «около 500 человек, в том числе 150–200 престарелых людей, очевидно, из числа старой интеллигенции; примерно столько же было молодежи, в том числе небольшая группа студентов художественных учебных заведений, Литинститута и МГУ. Из видных писателей и деятелей искусств на похоронах присутствовали К. Паустовский, Б. Ливанов, С. Бирман».
Подмастерье Андрей, высаженный Межировым, бежит к дому мастера Бориса Леонидовича. Вполне отчетливо осознавая: похороны поэта — веха. Конец пятидесятым: сколько для страны в них было смертельного счастья, сколько жизнелюбивой жути! А что там, за перевалом?
* * *
Через все 1950-е протянулась цепочка по-своему знаковых писательских похорон. Удивительно или нет, но каждые из этих похорон по-своему отразили пошлую и лицемерную, корыстную и трусливую среду обитания, загонявшую поэтов в гроб.
В самом начале десятилетия, 7 января 1951 года, хоронили Андрея Платонова. «Украшение похорон, Твардовский, присутствие которого льстило всем, — записал в дневнике Нагибин, — то ли изображая пытливого художника, то ли от крайней неинтеллигентности, которой всё внове, с задумчивым уважением разглядывал безвкусные статуэтки на могилах вокруг… Наглядевшись на эти самые пристойные, какие только могут быть, похороны, я дал себе слово никогда не умирать».
24 июля 1958 года хоронили Михаила Зощенко. Некий писатель Лев Борисов произнес пространную речь о том, что Зощенко был патриотом: другой на его месте изменил бы родине, а он — не изменил. Поэт Александр Прокофьев запротестовал, над гробом развели дискуссию: был ли Зощенко предателем родины? Вдова кричала: «Михаил Михайлович всегда говорил мне, что пишет для народа!» На Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде хоронить его запретили, увезли в Сестрорецк, где он жил в последнее время на даче.
17 октября 1958 года на похоронах Николая Заболоцкого выступил Борис Слуцкий: «Наша многострадальная литература понесла тяжелую утрату». За непростительную дерзость — что за «многострадальная»! — по словам Окуджавы, партийного Слуцкого потом прорабатывали коллеги. А Заболоцкому, чудом уцелевшему в лагерях, чудом вернувшему свой поэтический дар и умершему в линялой пижамке, портной уже после смерти принес долгожданный черный костюм — в нем поэта положили в гроб.
Был еще и Александр Фадеев, застрелившийся 13 мая 1956 года. Совсем недавно он обличал безыдейный формализм Пастернака, легко включался в травлю любого, на кого карта ляжет. И вдруг — три года его не подпускают к Хрущеву, и в этой мировоззренческой катастрофе перед ним всплывает в зеркале — и собственный загубленный талант, и пейзаж после битвы: «литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных». Застрелиться и не жить.
А может быть, нелепицы и морок пошлости — лишь неизбежный атрибут, сопровождающий и оттеняющий любые подлинно высокие трагедии? Писал же Горький после похорон Чехова своей первой жене Екатерине Пешковой: всю жизнь боролся с мещанством, а доставили покойного из Ялты в вагоне «для перевозки устриц» и место для могилы нашли — рядом с г-жой О. Кукареткиной. Отчего захотелось Горькому «выть, реветь, драться от негодования, от злобы».
* * *
…Но вот Вознесенский уже подходит к знакомому дому. Толпа напирает на штакетник. «Играл Рихтер, потом Юдина. Я прошел в дом. Столовая, в которой стоял гроб, была пуста. Помню, подошла Тагер, что-то сказала. Потом Грибанов рассказывал Дэзику Самойлову: „Андрюша Вознесенский сидел на крыльце и плакал“».
Сорок лет спустя, в эссе «Улисс улиц» Вознесенский вспомнит похороны поэта: «Галич пел о палачах из Союза писателей: „Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку“. Но что вспоминать? Возьмите справочник Союза писателей — ведь тогда голосовал единогласно зал, при одной воздержавшейся. Нужно вспомнить тех, кто не испугался и пришел поклониться гению. Немного их было. В. Асмус, К. Паустовский, В. Боков, А. Гладков, Ю. Даниэль, Вяч. Иванов, В. Каверин, В. Корнилов, Н. Коржавин, И. Нонешвили, Б. Окуджава, Г. Поженян, А. Синявский, И. Эренбург…»
Все писательские расправы друг над другом начинались (и начинаются) с этого «поименно вспомним всех», кто «не с нами». По Вознесенскому, неплохо бы про тех, кто «с нами», кто не подличал, не забывать — положительной энергии в мире прибудет.
А кроме того — Вознесенский вынужден перечислять подробно: те, кого он видел на похоронах, видели и его. Ему же потом предъявят обвинения…
После похорон Бориса Пастернака пройдет совсем немного времени — и соревнование открещивавшихся от поэта плавно сменится ревностными спорами за близость к великому имени усопшего. Присутствие Вознесенского в биографии Пастернака многих будет нервировать: почему он? за что ему? а был ли мальчик? Начнут с каким-то нелепым упорством доказывать, что «мальчика не было», — по пунктам:
а) неблагодарный, не приехал на похороны, зато кичится: подмастерье, ученик;
б) да он вообще исчез в годы, когда Пастернака травили;
в) а еще стихотворение про Толстого выдает за посвящение Пастернаку (о чем речь ниже).
Тут главное — даже не само по себе вранье, а мотивы, где всего понемногу — глупости, ревности, зависти.
Вознесенский остался у дома Пастернака, не пошел на кладбище. Объяснил потом все сложностью нахлынувших чувств: «Его там не было. Его больше нигде не было». «Помню ощущение страшной пустоты, охватившее в его даче, до отказа наполненной людьми…»
Кто-то нашел такое объяснение неубедительным. Что тут скажешь? Сестра Бориса Леонидовича, Жозефина, рассказала однажды Вознесенскому в письме, как юному Пастернаку родители поставили на стол лампу с розовым абажуром. «„Не могу же я писать при розовом абажуре!“ — воскликнул он возмущенно, и купил зеленый». Тут тоже дело в ощущениях. Поэты вообще ощущениями живут. В чем надо убеждать того, кто может счесть отказ от розового в пользу зеленого подозрительным?
Художник жил, лохмат…
Тридцатого мая 1987 года, спустя двадцать семь лет, в Москве пройдут первые Пастернаковские чтения — сразу после того, как Борису Леонидовичу вернут звание члена Союза писателей (посмертно). «Доктора Живаго» напечатает впервые на родине через год «Новый мир». А эти чтения откроет Вознесенский — как председатель комиссии по литературному наследию Пастернака.
Выступила Татьяна Иванова, вдова драматурга Всеволода Иванова. Злорадно объявила, что Вознесенского вовсе не было на похоронах. Все в недоумении. Дело запахло скандалом. Давид Самойлов записал в дневнике: «Возн<есенский> крутит пальцем у виска… Выступаю я… Говорю, что Вознесенский был на похоронах».
Следом вышла Лидия Чуковская. Рассказала про то, что муза Пастернака Ольга Ивинская — особа «раскрашенная, усмешливая, приветливая, фальшивая». Устроители чтений рады, что Ивинская не пришла — и тут избежали конфуза… Кстати, говорила Чуковская не вдруг и неспроста. Вознесенский писал, как на похоронах Пастернака заметил Ивинскую: «метнулась Ольга, обнял ее». Он вообще признавался, почему с какого-то момента «стал реже бывать на Большой даче»: это после того, как Борис Леонидович познакомил его с Ольгой. Андрюше, красневшему при встречах с женой поэта, Зинаидой Николаевной, стало казаться: «…все подозревают меня в тайной связи с разлучницей. Как и все вокруг О<льги>, я был влюблен в нее. В ней были богема быта, безоглядность риска, за что она и расплатилась лагерем. Но все „грехи“ ее искуплены стихами из романа, озаренными ею».
Несомненно, и этой своей «солидарной» с Борисом Леонидовичем нежностью к Ивинской насолил Вознесенский переделкинским соседкам Пастернаков: недолюбливали они его старательно. Татьяна Иванова в книге своих воспоминаний подчеркивает, как в самый разгар скандала вокруг пастернаковской Нобелевской премии «Борис Леонидович грустно шутил: „Андрей, должно быть, эмигрировал на другую планету“». И все — больше об Андрее она от Пастернака не захотела услышать ничего. С легкой руки Лидии Чуковской все узнают, что Анна Ахматова никогда двух добрых слов не сказала про Вознесенского — лишь зло назвала «эстрадником» и поморщилась. Дневники ведь — отражения своих хозяев: как Чуковская расставила акценты в «Записках об Анне Ахматовой», так оно и осталось.
Акценты вообще — вещь интересная. На тех же Пастернаковских чтениях выступил и писатель Вениамин Каверин — и осудил Бориса Слуцкого за то, что тот осудил Пастернака на собрании московских писателей. Многие, глядя на то, как Слуцкий казнил себя сам, любили поговорить об этом, добивая его. Александр Межиров жирно живописал особое рвение Слуцкого, осуждавшего автора «Доктора Живаго». Давид Самойлов вступался за друга-соперника, разъясняя: он лишь убедил себя в том, что, сдав Пастернака, мы спасем поэтический цех. Но обилие слов скорее топило собрата, приподнимая и отделяя от него ораторов.
Тему на чтениях подхватил Евтушенко: он часто любил рассказывать, как студенты Литинститута Панкратов и Харабаров пришли к Пастернаку за разрешением подписать письмо против него. Пастернак разрешил, они, взявшись за руки, вприпрыжку побежали по дорожке. И Евтушенко повторил фразу Бориса Леонидовича: «Бедняги, они даже не догадываются, что поэзия не прощает предательства».
Любопытный штрих — никто никогда не вспомнит, ну хотя бы правды ради, что тот же Иван Харабаров выступил на похоронах Пастернака — когда другие не решались. Тоже — вопрос акцентов.
Но ведь в жизни было все не так односложно. Даже за сутки до загадочной, внезапной смерти Харабарова в 1969-м все они вместе, дружно — Белла, Женя и Андрей — будут гулять у Ивана на дне рождения. Белла Ахатовна, кстати, своих друзей-однокурсников вспоминала едва ли не с нежностью. Когда-то Харабаров посвящал ей реверансы: «Позволь мне смотреть доверчиво / на тебя с утра до вечера…»: «Белочка моя ласковая, / маленькая таежница». Неизвестно, кому посвящал свои нежности Панкратов: «Когда по небу бродят возгласы, / Земля наполнена духами, / И мы летим с тобой по воздуху, / И грудь — на полное дыханье!» Но Ахмадулина отвечала приветливо: «И люб мне был поэт Панкратов / с надменной робостью его». Вряд ли такие любезности были приятны ревнивому Евтушенко, который и букеты от поклонников, подаренные Белле, скармливал переделкинским козам. Но ведь и ревностью одной — всего не объяснишь. Сколько тут было, в этих переплетениях, — от принципов, а сколько — от простительных человеческих слабостей?
Были — идеалы. Были — искренние принципы. Но все сложнее, всего понемножку… Ну кто анализирует свои поступки и душевные порывы — когда невольно или вольно, желая лучшего, стирает ближнего в порошок? Все вроде бы правда — но дело в оттенках, интонациях, акцентах…
В мемуарах все отчаянно смелы, все героические жертвы или же идейные борцы. Но в жизни не бывает только черного и только белого. Бывает и соленое. Но вышло так: одним и впрямь «поэзия не простила предательства», на слабости других смотрела сквозь пальцы. Потом менялось время — и менялись роли.
Отчего так часто склоняли именно Слуцкого? Реже — Леонида Мартынова. Отчего не вспоминали, скажем, Владимира Дудинцева: только что осуждали его самого за роман «Не хлебом единым» — а тут он моментально «выразил желание выступить на предстоящем общем собрании писателей Москвы с осуждением Пастернака» (из записки Московского горкома КПСС от 30 октября 1958 года). Или Твардовского, который ни единым словом не поддержал Пастернака (заболел), спасшего когда-то от нападок его «Страну Муравию»? Или Корнея Чуковского, поспешившего поздравить соседа с Нобелевской премией, за что потом реабилитировался с трибуны его сын, Николай Чуковский (тоже писатель): «Он <Пастернак> сорвал с себя забрало и открыто признал себя нашим врагом. Так поступим же с ним так, как мы поступаем с врагами»? Считавшийся другом Николай Тихонов (за него Борис Леонидович вступался, когда над тем сгущались тучи в 1930-е годы) председательствовал на писательском заседании, исключавшем Пастернака из Союза писателей…
Всегда ли сам Пастернак в своей жизни поступал «героически»? Да нет, конечно, и от других не требовал исключительной готовности к самопожертвованию. Написал записку коллегам: «Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит». Черту предательства не переступите, то есть. Переступили.
Записку признали «возмутительной по наглости и цинизму».
Акценты, акценты. Прибавят ли кому-нибудь «славы и счастья» попытки взвесить, на сколько тянет чье-то «отступничество» от Пастернака? Вряд ли. Но с годами вопрос «близости к Пастернаку» стал в литературном обиходе вопросом реноме, героической татуировкой литератора: оттого и близость Вознесенского к Борису Леонидовичу — неоспоримая — кого-то раздражала.
Вознесенский был единственным, с кем захотел увидеться перед смертью Слуцкий. Разговоров в больничной палате не получилось, скорее помолчали, посмотрели глаза в глаза, потом тот отвернулся к стене, и все. Ему посвятил Вознесенский «Часы посещения»: «Всем дававший помощь, / а сам беспомощный, / как шагал уверенно в ресторан!.. / То, что нам казалось / железобетонищем, / оказалось коркою / свежих ран…»
Лежит дух мужчины на казенной простыне, внутренняя рана — чем он был, оказывается… Ему фрукты носят, как прощенья просят. Он отказывается.Конечно, писал Вознесенский, необъективность многих к Слуцкому легко объяснить вот так: «Разве может быть объективен поэт к поэту!» Но Андрей Андреевич не забывал и другого: Слуцкий «защитил меня статьей, когда на меня грубо напали за стихи „Похороны Гоголя“. Помню, как-то пришел с яркой идеей: „Давайте, напишем реквиемы друг про друга. Пока мы еще живы“».
О своих встречах с Пастернаком вспоминали — каждый по-своему — и Евгений Евтушенко, и Белла Ахмадулина. Евтушенко в 1959 году, по просьбе Союза писателей, сопровождал итальянского профессора Анжело Марию Риппелино, пожелавшего съездить непременно на дачу к Борису Леонидовичу. Евгений Александрович читал ему свои стихи. «Пастернак поцеловал меня. Я до сих пор помню аромат этого поцелуя». (Заметим мимоходом, ничуть не желая злословить: судя по воспоминаниям Евтушенко, целовал его каждый крупный поэт, встречавшийся на жизненном пути.) У Ахмадулиной — все при встрече с Пастернаком случилось наоборот. Она написала «Памяти Бориса Пастернака» — стихи с вкраплениями воспоминаний о том, как случайно встретилась в пятьдесят девятом году с поэтом, перед которым немела, — в сумерках, в Переделкине. Пастернак узнал ее, спросил: «Вам не холодно?» — позвал: приходите к нам завтра. Она была юна и не посмела — как прикоснуться к божеству?
Андрею Вознесенскому вовсе не нужно было доказывать свою близость к Пастернаку: это было фактом их биографии. Раздражавшим кого-то — но фактом. Зафиксированным, кстати, и в секретных донесениях КГБ.
Из записки Комитета госбезопасности при СМ СССР о выявлении связей Б. Л. Пастернака с советскими и зарубежными гражданами:
«16.02.1959
Особая папка. Совершенно секретно. ЦК КПСС.
Докладываю, что органами госбезопасности выявлены следующие связи Пастернака из числа советских граждан: писатель Чуковский К. И., писатель Иванов В. В., музыкант Нейгауз Г. Г., народный артист СССР Ливанов Б. Н., поэт Вознесенский А., редактор Гослитиздата Банников Н. В., ранее работал в Отделе печати МИДа СССР, переводчица Ивинская О. В., работает по договорам, является сожительницей Пастернака. 8 февраля, в связи с днем рождения Пастернака, его навестили дочь композитора Скрябина, вдова композитора Прокофьева, пианист Рихтер с женой и жена народного артиста СССР Ливанова…
Председатель Комитета госбезопасности А. Шелепин».
* * *
В 1957 году был издан «Фауст» Гёте в переводе Пастернака. На книге, подаренной им Вознесенскому, надпись: «Второе января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, — большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас — Ваш Б. Пастернак».
Первый раз он подарил Андрюше свою книгу ровно за десять лет до этого, в январе 1947 года.
Любопытны уже упоминавшиеся воспоминания Зои Масленниковой, работавшей над скульптурным портретом Бориса Пастернака в 1958 году, — они прямо контрастируют с тем, что вспоминали Татьяна Иванова и Лидия Чуковская. Кому что хотелось запомнить…
«— Борис Леонидович, сегодня в „Литературной газете“ стихи Вознесенского. Я вам принесла, хотите посмотреть?
— Да, спасибо. <…>
Прочитав, говорит:
— Хорошие стихи. Он мне их показывал. Он недавно вернулся из удачной поездки на Кавказ. В Тбилиси он завязал связи с грузинскими поэтами, стал их переводить.
— Да. На вечере итальянских поэтов он читал хороший перевод стихотворения Нонешвили „Со всеми и со всем вдвоем“.
Борис Леонидович улыбнулся.
— У этого перевода забавная история.
— Какая? Стихи на деле написал Вознесенский, а перевел их на грузинский Нонешвили?
— Почти угадали. Я вам расскажу, но вы никому не говорите, а то выйдут неприятности. Они оба сговорились написать на одну тему по стихотворению. Написали совсем самостоятельно. У Андрюши получилось хорошее стихотворение, а у Нонешвили хуже. Тогда и возникла мысль сделать перевод, и Нонешвили подогнал свои стихи под Андрюшины. А потом эти стихи имели шумный успех. Андрюша очень способный. И в нем есть хорошая мальчишеская смелость. Он может занять одно из первых мест в литературе».
Вознесенский вспоминал, как навещал Пастернака в Боткинской больнице, принес ему как-то «Сагу о Форсайтах» Голсуорси.
«Он добросовестно прочитал и пошутил, возвращая: „Пока читаешь его, можно было свою книгу написать…“
Он написал мне из Боткинской: „Я — в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой неожиданности и Вашему торжеству… Так все это мне близко…“»
Тогда же, в больнице, он подарил свое фото: «Андрюше Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радостность которых не мешала мне чувствовать мои мучения…»
Наверное, в последних словах можно увидеть и мягкий упрек, и грустную иронию. Наверное, Борису Леонидовичу было бы приятнее, если бы Андрюша появлялся чаще — но отношения его к Вознесенскому это никак не меняло.
В ноябре 1960 года, уже после похорон Пастернака, в «Литературе и жизни» появилось стихотворение Андрея Вознесенского «Кроны и корни». Выпуск журнала был целиком посвящен Льву Толстому. Стихи вполне вписывались в контекст, но читались по следам недавнего прощания с Пастернаком — вполне отчетливо. Позже Вознесенский объяснит, что «замаскироваться» пришлось по понятным причинам: имя Пастернака в печати оставалось недопустимым. Кто-то попытается неуклюже уличить Вознесенского — дескать, к Пастернаку стихи отношения не имеют, вот же написано: «Художник жил, лохмат…» — тут явно торчит толстовская борода. Стоит ли вчитываться в эти нелепицы? Лучше читать сами стихи. «Несли не хоронить, / Несли короновать. / Седее, чем гранит, / Как бронза — красноват, / Дымясь локомотивом, / Художник жил, лохмат, / Ему лопаты были / Божественней лампад!»
Зияет дом его. Пустые этажи. В столовой никого. В округе — ни души. ……………………… Леса роняют кроны. Но мощно под землей Ворочаются корни Корявой пятерней.* * *
В Переделкине Вознесенский жил с конца шестидесятых.
В домике, который ему достался, как вспоминал поэт, прежде жили дети «крупного советского литературного генерала, детского писателя по совместительству» (речь, по словам Зои Богуславской, идет о Сергее Баруздине). Дети «прожгли там пол, готовя прямо в помещении шашлык. От дачи они отказались, половина ее досталась пролетарскому поэту-футуристу Василию Казину, глубокому старику, а две комнаты без кухни — нам. И я сразу туда уехал. Перед смертью Казин свои комнаты передал нам. Он написал, что Вознесенский — хороший поэт и что ему невмоготу было смотреть, как мы ютимся».
А позже Вознесенскому предложили перебраться на бывшую дачу писателя Константина Федина, и он перебрался туда не раздумывая. Вознесенский стал соседом Пастернака. Здесь он прожил до самого последнего дня. Судьба.
Глава восьмая АНДРЕЙ И ДЕД
Из разговоров с Еленой Леонидовной Пастернак, внучкой поэта (Переделкино, сентябрь 2013)
В чем Андрея нельзя упрекать. «Я знаю, что Андрея упрекали — вот, когда у учителя случилась беда, он исчез. Но… Пастернака в свое время тоже сильно упрекали в том, что он не помог Марине Ивановне Цветаевой, когда она вернулась. Когда у нее не было дома, всю семью арестовали, и с ней случилась вся эта ужасная история. Он ведь действительно ей не помог. Хотя я прекрасно помню его письма, я помню, как он хотел вот эту верхнюю веранду отдать Цветаевой с сыном, чтобы она тут жила. Вот он хотел. Вот он не отговорил ее от эвакуации. Вот он сделал массу, как он потом говорил, роковых шагов, которых мог бы не делать.
Я не знаю, можно ли обвинить человека в том, что он в тяжелое время не ведет себя героически. Ну да, наверное, Андрей не совершал героических поступков во время скандала с Нобелевской премией. Это правда — но я бы никогда не стала (и другим не советую) придумывать интерпретации и легко соглашаться с тем, что „ему не хватило мужества“, чего-то там еще не хватило.
На самом деле какое-то „охлаждение“ между ними началось все-таки до того, как произошел знаменитый скандал. Даже не охлаждение — сильное увлечение Андрея собственной жизнью. И соответственно меньшая увлеченность в те годы жизнью здешней, переделкинской, пастернаковской. Не забывайте, когда они познакомились, Андрей был школьником, потом студентом, он рос, у него была своя жизнь. Он ведь не ассистент, он вполне самостоятельный человек. Понимаете, Андрей довольно рано начал жить своей бурной жизнью со всеми вытекающими отсюда последствиями. Рано стал выезжать, рано выступать, собирать огромные толпы поклонников, он был очень занят собой, своими заботами, это естественно.
Да, героизма в трудный для Бориса Леонидовича период у Андрея не было, но и какой бы то ни было низости, нерешительности — тоже. Просто — вот так сложилось.
Во всяком случае, для меня важно, что мой папа и вся наша семья, живые свидетели того, что происходило в те дни, — никогда не думали обвинять Андрея, не упрекали его ни в чем. Он был и оставался ближайшим нашему дому человеком. Это важно. Да и как можно обвинять человека в том, что он не жертвует своей жизнью из-за жизни другого?»
Почему Пастернак выбрал его. «Борис Леонидович для Андрея не был учителем в обыденном понимании этого слова. Есть поэты, которые с возрастом приобретают менторские черты, они любят учить-поучать, преподают в Литинституте или имеют какой-то кружок молодых поэтов вокруг себя — Ахматова, например, этим известна. Дед это терпеть не мог, всегда зверел, когда трепали ему нервы и обращались с просьбами: нельзя научить писать, нельзя давать никаких советов — это только отнимает жизненную энергию.
Андрей стал единственным исключением. Почему?
Есть вещи необъяснимые, все склоняются к тому, что рационально объяснить это невозможно. Почему именно на этого маленького мальчика он обратил именно такое внимание — даже сам звонил ему! Я думаю, он просто увидел в этом мальчике подлинный талант. Такое вот сочетание объяснимого и необъяснимого.
Что же касается „соревнования за близость к Пастернаку“, — нет, ну, тут говорить нечего, он любил только Андрея, и этим все сказано. Многие были — таланты. Но тут — те самые совпадения характеров, которые дед уловил. Хотя, казалось бы, Андрей был тихий, скромный, застенчивый. Мальчик с тонкой шейкой, на первый взгляд совсем не такой харизматичный и решительный, как, например, Евтушенко… Но это только на первый взгляд».
В чем дед с Андреем совпадали. «Пастернак никогда не был склонен к какой-то практической мистике. Но к различным совпадениям относился с огромным вниманием, тревогой — и это видно в романе „Доктор Живаго“, там очень много совпадений. Даже есть такое выражение у интеллигентных людей — „феномен Живаго“. Это когда люди совпадают во времени и пространстве, но не знают об этом, — что в результате и становится основополагающим для сюжета моментом.
Вот к таким совпадениям он был очень неравнодушен — менее в том, что касается чисел, а больше к „времени и месту“. В этом, может быть, тоже было совпадение характеров Вознесенского и Пастернака. Они были заточены на совпадения — в жизни и в работе, это совершенно точно.
Скрябин похвалил юного Пастернака — и он решил бросить музыку. Пастернак похвалил стихи Вознесенского: взял бы в свою книгу — и он студентом на два года бросил писать стихи… В этом нет никакой логики. Пастернак прямо пишет — я загадал, если Скрябин скажет мне так-то и так-то, это будет означать, что мне надо бросать музыку. И Андрей тоже загадал — он об этом говорил. Абсолютная алогичность, мистичность: тебе говорят хорошо, а ты принимаешь обратное решение. Потому что ты уже загадал — если скажут так, то надо бросать. Здесь тоже абсолютное стопроцентное совпадение, именно на уровне характера, на уровне их мистицизма. Они очень любили „загадывать“, практиковали это. Это, можно сказать, такая мистика, чисто бытовая, повседневная».
Чему учил Пастернак. «Советы по поводу личной жизни дед ему все-таки давал: говорил, что, пока поэт влюбляется, он работает, как поэт. Причем не платонически, а реально, надо иметь подлинные любовные отношения — тогда и поэтический дар не исчезнет.
Андрей и в семьдесят лет говорил мне, что помнит заветы Пастернака.
Я когда-то делала документальный фильм про Андрея, к его 75-летию. Он уже плохо говорил, но был вполне в форме. Режиссером была Татьяна Архипцова, я — автором сценария. Позвонила Андрею Андреевичу — вы не будете против? Говорит, нет, конечно, имя Пастернака для меня очень много значит, так что снимай. Потом встречаюсь с Зоей Борисовной в ЦДЛ, и она спокойно говорит: Лен, да ради бога, я всегда знала, и когда начинала с ним жить, что он поэт, он будет влюбляться, если не будет — не сможет работать. У него были подружки, остались хорошие отношения с ними, я к этому отношусь абсолютно спокойно. Дело не в этих романтических сторонах его биографии — фильм все-таки был не об этом. Просто Андрей не то чтобы повторял за дедом, он воспринимал как должное все, что от него исходит. Конечно, для Андрея Пастернак был учителем и в жизни, и в работе — это совершенно точно.
Я знала Андрея прекрасно, читаю его, понимая, с чем или кем связан этот цикл. Хорошо помню его молодым, я присматривалась к жизни, к нему, к взрослым, как он бродил, гулял, писал, — очень хорошо это помню и очень люблю раннего Вознесенского».
Просто не закрывалась калитка. «Совершенно невероятное совпадение — то, что мы соседствуем в Переделкине много лет. Андрей и после смерти деда все равно был членом нашей семьи, всегда был с нами, рядом, в горьких датах, в радостных, все время. Между нашими дачами была калитка, которая никогда не закрывалась. И это не просто добрососедские отношения. Я-то вообще его помню столько, сколько себя, — для меня он всегда был равным моей жизни, с нуля и до последнего его дня.
Андрей всегда говорил: я живу всю жизнь рядом с Пастернаком. Первое, что он слышал, — играет ли рояль у Пастернака, есть ли гости, хорошее ли настроение, плохое ли, — это уже было привычкой».
Елена Ефимовна была «насильник». «Ничего удивительного в том, что Елена Ефимовна Тагер радостно показывала юному Андрею рукописи Цветаевой. Поскольку она сыграла огромную роль и в моем воспитании, я прекрасно представляю себе, как она могла общаться с Вознесенским.
Она человек из разряда — „таких нет и не будет“. Абсолютно сумасшедшая. И выглядела, как городская сумасшедшая, всегда. Но мои старшие родственники очень ее любили, потому что она была невероятно щедра, делилась всем, что знала или имела. Муж ее, Евгений Борисович Тагер, был крупным литературоведом, но очень скромным человеком. Он в молодости очень много общался с Цветаевой, когда она вернулась из эмиграции.
У Елены Ефимовны было очень много рукописей, писем, — она даже мне подарила рукописную сказку, которую написала Цветаева про их детство с Алей. Она, ко всему прочему, была „насильник“ — если что-то знала, то ей надо было непременно внедрить это в сознание другого человека. Она могла гулять полтора-два часа и всю прогулку очень громко читать стихи. Ни о какой Цветаевой в те времена, когда была маленькой я, а тем более когда был маленьким Андрей, речи идти не могло. Все знали и передавали изустно, была изустная традиция, — и Елена Тагер ее мощнейший носитель».
Табу. «К имени Ольги Ивинской как-то спокойней относится семья Евгения Борисовича, старшего сына Пастернака. При моем папе, Леониде Борисовиче, нельзя было говорить ни слова, никогда. Для моего отца она была олицетворением позора. Моя бабушка, Зинаида Николаевна, не относилась к увлечениям деда спокойно. Под конец жизни она уже хотела, чтоб он просто ее отпустил, потому что ей было стыдно, плохо. И моему папе было очень обидно за мать. Это такое библейское чувство обиды за свое первородное что-то. Не то чтобы я могла сказать что-то плохо — просто это чувство табуированности мне передалось по наследству: „в этом доме о ней не говорят“. При том, что я читала и ее книгу, и книгу ее дочери. Я вообще все читаю, нахожу и ложь, и бесценные материалы».
Фельтринелли и тонкие связи. «Я очень хорошо знаю и люблю Инге Фельтринелли, вдову итальянского издателя „Доктора Живаго“, она уникальная женщина. И она очень много помнит об Андрее, обожает рассказывать, как он за нею ухаживал, эту историю с апельсинами… Конечно, для Андрея, когда он знакомился с этим кланом, самым главным было — это тот самый издатель, который издал в Италии „Доктора Живаго“ Бориса Леонидовича. Все сплетено действительно. Андрей был связан с Фельтринелли, от которых мы были отрезаны, потому что он был выездным, а мы нет. Совершенно очевидно, что Фельтринелли платили нашей семье меньше, чем должны были бы. Но ждать, что Андрей решит эти проблемы, было бы странно. Он был свободен, все, что делал для нас, — по доброй воле, и этого было достаточно.
Понимаете, у нас такая связь с этой семьей, что мы никогда ни в чем друг друга не упрекали. Было очевидно, что Андрей живет гораздо шире и богаче, чем мы, Андрей выезжал, Андрей великий поэт, а вся наша жизнь была в этом доме, мы занимались только им.
Но зато, когда нас стали в начале восьмидесятых годов отсюда выселять, — он очень нам помогал. Писал письма, бился вместе с нами, с моей мамой, Натальей Анисимовной, за этот дом, за пастернаковское наследие. И он всегда был практически единственным человеком, на которого мы могли положиться полностью».
Идеальные соседи. «Вознесенский знал всех, кто так или иначе был связан с Пастернаком и жил за рубежом, и всех издателей, и друзей, и, уж конечно, родственников. При этом не было такого — Андрей приехал из-за границы и привез нам весточку, письмо, подарок от наших родственников. Это очень важно понять — он был человеком совершенно, стопроцентно свободным, и мы это всегда принимали. Хочешь — приходи, не хочешь — не приходи. Хочешь — расскажи правду, не хочешь — не рассказывай. И это было залогом наших очень добрых отношений. Кто бы что ни говорил, но с его четырнадцати лет до его смерти с нашим домом у него были, я бы сказала, просто идеальные отношения.
Если он хотел привести кого-то из своих близких, показать дом — это можно было всегда. Устроить прием — пожалуйста. Мог месяцами не появляться. У нас возникали общие бытовые проблемы, мы их всегда вместе решали. У него даже как-то была такая идея — я уже была взрослой — приходит как-то и говорит: давай заведем собаку, чтобы она охраняла два участка».
Бесконечные риски. «На его дачу, бывало, покушались какие-то маниакальные типы — он будто притягивал их к себе. А мы, случалось, бывали даже поняты́ми. Близость иногда приобретает такие забавно-трагические формы. Даже территориально мы ближе всех. Если что, сразу бежим…
А самая жуткая история — она как-то особенно врезалась в память. В ней сплошные аллегории, символы и метафоры. Идет один по полю, на него бросается стая бездомных одичалых, озверевших собак и рвет его, и помочь некому.
Еще немного, и эти собаки загрызли бы его насмерть. Он как-то отбился, дошел до дома. Весь окровавленный. Хотя, говорят, кто-то все-таки прибежал ему на помощь… Я видела его через некоторое время — на нем живого места не было.
Это самая жуткая история из всех, что с ним происходили, — а он, знаете, не раз был на грани смерти, с ним случались страшнейшие вещи. Последняя авария, среди бела дня в тихом Переделкине, была такая… Потом эта история с самолетом — когда он опоздал, а самолет разбился. И так было все время.
Вот я сейчас как-то суммирую это в памяти и понимаю, что это особенность его биографии — бесконечные риски. Он ведь, в отличие от других своих литсобратьев, излишеств никогда не допускал. Никогда не курил, я никогда не видела его пьяным. Он не был авантюристом, гулякой, все эти истории в аксеновском духе, гульба советских диссидентских поэтов — это совершенно не про него. И тем не менее ему выпало столько страшнейших испытаний».
Мистические настроения. «Он все-таки был еще таким мистически настроенным человеком. Упал в Крыму, сломал руку — это Таня Лаврова что-то там нашептала, заговорила. Хотя никакая мистика совершенно с ним внешне не вязалась.
Здесь, кстати, полное несовпадение с моим дедом. Борис Леонидович был очень благополучным, с ним никогда ничего не случалось. Судьба как будто берегла его для этой истории с Нобелевской премией, последующей скоротечной болезнью и смертью. Андрей же, сколько я его помню, с детства — Андрей в больнице, Андрей попал в аварию, Андрей сломал то, сломал это, самолеты, собаки. Поэтому и когда он начал болеть в конце жизни — увидели в этом следствие всех его катастроф. У него же ничего такого в наследственности и близко не было».
«Ведь я ж к бабе еду». «Я помню очень забавный эпизод — ну очень забавный. У Андрея, кстати, было великолепное чувство юмора — он мог без мимики, без одесского конферанса сказать такое…
Все происходит здесь, у ворот их дачи. Зима страшная, огромные сугробы. А я возвращаюсь по улице сверху вниз, иду одна. Вижу буксует такси возле их дома. Страшно буксует, чем больше газует, тем все глубже и глубже зарывается. В общем, безвыходная ситуация. А выезжать надо по дороге, идущей сильно вверх, что ухудшает ситуацию.
Вижу, что в машине сидит таксер, рядом Андрей. А это было уже начало болезни, он уже был дискоординирован, говорил хрипло, его водили под руку, уже близок был к тяжелой фазе, но еще держался на ногах. Я понимаю, что должна помочь как-то. Останавливаюсь: что случилось? — Да вот, завяз. Я говорю, ну, давайте я помогу. Таксер мне: да чем вы поможете! А уже темный вечер, Переделкино абсолютно слепое и глухое. Говорю, давайте сяду за руль, а вы меня вытолкаете.
Сажусь за руль, в общем, кое-как враскачку мы эту машину вытолкали. И Андрей сидит рядом, и говорит: „Спасибо тебе, дорогая, что ты мне помогла. Ведь я ж к бабе еду…“
Это, конечно грубо, но это настолько типично… Я посмеялась: Андрей, ну, раз к бабе, — я тебя хоть на руках отнесу, да это ж святое дело!
Вот „я к бабе еду“ — в этом весь он. Ему уже за семьдесят, толком не ходит, хрипит, завяз в снегу, но все равно — он может!
Если б в нем не билась эта жилка, эта жажда жизни, он бы, возможно, умер гораздо раньше».
Первое и последнее. «Он полюбил Пастернака через чтение стихов — это была чистая любовь, в самом высоком смысле слова. Он знал других, читал, но это было просто чтение поэтов, в этом не было ничего личного. Я вообще думаю, что Андрей любил немногих в жизни. Он был все-таки очень отдельным человеком — по сути. Он не был человеком компании. У него не было таких сильных родственных чувств, хотя у него была сестра, он из хорошей семьи. Он был очень привязан к Зое — и всегда один, в каком-то космическом смысле.
Первое мое воспоминание о нем — он идет один по улице.
Последнее мое воспоминание о нем — он опять идет один по улице. Здесь, по нашей заснеженной улице Павленко».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 1961–1970 СТАКАН СИНЕВЫ — БЕЗ СТАКАНА
Пять загадочных событий
23 января 1961 года. Две четырехмегатонные ядерные бомбы сброшены бомбардировщиком В-52 над американским городом Голдсборо. Одна упала в поле у пригорода Фаро, другая на лугу у шоссе Биг-Дэддис. Одна из бомб едва не взорвалась, из четырех предохранителей один все же сработал. (Из сообщения лондонской The Gardian, опубликовавшей засекреченные материалы полвека спустя.)
30 апреля 1961 года. Сам на себе провел операцию по поводу острого аппендицита советский врач-хирург Леонид Рогозов на станции Новолазаревская в Антарктиде. Метеоролог с механиком подсвечивали настольной лампой. Лежа с полунаклоном на левый бок врач вырезал аппендикс, глядя в зеркало, на ощупь, без перчаток, за 1 час 45 минут. Через семь дней снял швы.
21 октября 1961 года. «Пентагоновские волки в космос бросили иголки!» 480 миллионов мелких медных иголок (1,78 сантиметра, диаметр 18 микрон) разбросали в космосе США из спецконтейнеров спутника «Мидас». Американские «академики Лысенко», авторы проекта West Ford, хотели улучшить с их помощью радиосвязь. Без толку. Половина бесхозных иголок летает до сих пор.
3 июля 1965 года. «Нью-Йорк таймс» сообщила о «демократической революции» в Москве. В ЦПКиО им. Горького прошел конкурс-фестиваль итальянской песни Cantagiro. Жюри занизило оценку юной звезде рок-н-ролла Рите Павоне, исполнившей хит Lui («Он»). Публика свистела и топала, пока жюри не присудило Рите победу.
25–31 марта 1969 года. «Мир волосам!» и «Мир постели!» — лозунги, под которыми лежали на брачном ложе перед телекамерами в номере амстердамского отеля «Хилтон» молодожены Джон Леннон и Йоко Оно. Не получив въездной визы в США, Джон и Йоко повторили акцию в канадском Монреале (с 26 мая по 6 июня): голые и счастливые спели Give Peace A Chance.
Из словарика поэта:
Осенебри и человолки — самая неразрывная парочка: одни воспаряют, другие приземляют, друг без друга им никак.
Километроминута — самая неуловимая единица измерения поэтов, летящих со скоростью света; алкотестер ее не фиксирует — гаишники злятся.
Лесалка — самая большая любительница мини среди всех русалок; она же — экстрасекретарша лесных совминов.
Проливная женщина — самая привлекательная, когда льется джаз и текут обожания или проклятия, у кого как.
Скрымтымным — самая необходимая для смысла жизни штуковина. Кто не поймет, что это, тому кранты.
Поэтические сборники Андрея Вознесенского:
40 лирических отступлений из поэмы «Треугольная груша». М.: Советский писатель, 1962.
Антимиры. М.: Молодая гвардия, 1964.
Ахиллесово сердце. М.: Художественная литература, 1966.
Тень звука. М.: Молодая гвардия, 1970.
Глава первая ПОЧЕМУ ГРУШИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ
Ищешь Индию — найдешь Америку!
Ах, как весело собирать чемодан, когда знаешь, что этот чемодан полетит с тобой на край света. Да что там — за край! Вознесенский в Америку летит. Мама, Антонина Сергеевна, как все мамы, конечно, испереживалась: кто знает, как оно там, в этих антимирах?
Неспокойно в мире — аж в груди теснит. Войну пережили, Сталина похоронили, в воздухе задрожало странное чувство, что до близкого чуда — одной ногой подать. Еще немного, и одной ногой все там будем. Догоним и перегоним. А все же в груди теснит. Нервы, что ли, обожжены?
Ясно же — во всех концах земного шара наступлению всечеловеческого чуда давно что-то мешало. Западу мешал Восток, Востоку — Запад. Буржуям — пролетарии, пролетариям — буржуи. Левым — правые, правым — левые. Ханжам — распутники, распутникам — ханжи. Зэкам — надсмотрщики, надсмотрщикам — зэки. Кепкам — шляпы, шляпам — кепки. Общественной собственности — собственность частная, и наоборот. Рынкам — Госпланы, Госпланам — рынки. Личностям мешали госаппарата, госаппаратам — личности. Там великие депрессии, тут великие репрессии. Война опять же: одни нажились, другие костьми легли. Если бы карту после войны перекроили не так, а эдак. Если бы… Каши из этих «если бы» на все человечество может хватить.
Мама, Антонина Сергеевна, вздыхает: присядем на дорожку. Ну все, пора.
Шестидесятые покачивались айсбергом. Беременный томительной тоской XX век несся за чудом веселым Титаником. Америка делала ясные знаки, что ей для явления чуда мешают Советы. Но и Советам тоже Америка как кость в горле. В том, что чудо уже на носу, сомнений не было, вопрос лишь в том, кто у кого уведет его из-под носа.
Любопытство и страх — главные движущие силы истории — притягивали и отталкивали друг от друга два полюса мира. Советы моргали на Америку своими футуристическими узрюлями, Америка таращила на Советы свои.
Что за «узрюли» — успеем разобраться, пока Андрей несется в Шереметьево, на самолет. Дивное это словечко откопал у Пушкина старенький футурист Крученых, автор неизъяснимых «дыр бул щыл». Вознесенский, как помним, частенько бывал у этого рака-отшельника — так вот когда-то Крученых, полушутя-полувсерьез извлекал из «Евгения Онегина» строки, подтверждающие его каламбурную «теорию сдвигов». Разрывы и слияния звуков в стихотворной строке прячут тайные смыслы — вот и в пушкинском «узрю ли русской Терпсихоры…» скрыты «узрюли», то есть глаза, глазули. Обманка такая. Написано одно — а слышишь другое. Для 1960-х, эпохи иллюзий, перевертышей и нескладушек, эта обманка в самый раз. Кройка и шитье нового мира требуют свежести языка, хирургии метафор, еще немного, и Вознесенский прямо назовет себя футуристом, так что многозначные «узрюли» нам не помешают. Полвека спустя все будут думать, что про эту эпоху уже все ясно, — ан нет. Шестидесятые — эпоха сдвинутого смысла: протри узрюли, всяк сюда входящий.
Идет 1961 год, в Нью-Йорк так запросто не слетаешь, а тут — целый десант советских культуртрегеров, и под присмотр идейно зрелым литераторам включили в группу незрелый молодняк — Вознесенского с Евтушенко. Не без проблем: пришлось помыкаться по выездным комиссиям (они просуществуют до начала 1990-х) — поездки в капстраны полагались только после поездок в соцстраны, сразу к капиталистам обычно не выпускали.
Что за багаж предчувствий вез с собой в неизвестность Андрей Андреич? Точно известно одно. За своими открытиями Америки русские поэты и писатели отправлялись в XX веке регулярно, как на госэкзамены — и важна им была Америка прежде всего как навязчивая идея, как предмет соответствия-несоответствия великой русской мечте о справедливости жизни и слезинке ребенка. Да что там, как раз с Пушкина все началось: поэт, за порог России ни разу не выпущенный, улучил минуту написать о книге переводчика, прожившего 30 лет среди американских индейцев. Статья «Джон Теннер» за подписью The Reviewer появилась в 1836 году в «Современнике»: «С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих». Что удивляло Пушкина в этих Штатах — «всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)».
* * *
С тех самых пор, после Пушкина, кто ни брался писать про Америку, — все примеряли ее к России, будто взвешивая: «страсть к довольству» против «возвышающего душу». Или — или. Спустя полтора столетия будет казаться определенно — куда качнется стрелка, туда и покатится мир. Слетал в Америку: ну, что там у нас на весах?
Много лет спустя Вознесенский вспомнит первое свое заокеанское впечатление, как вспышку: «Это был шок: Америка меня ошеломила, потрясла». Свое объяснение таким эмоциям найдет позже и Зоя Богуславская: «Тот, кто не бывал в США, не поймет, какой шок испытываешь, впервые попав в эту страну. Меня не так сильно поразили витрины, комфорт сервиса, богатство оформления улиц, как полная раскованность людей в беседе со мной, свобода поведения, но главное — восприятие собственной жизни, успешность которой, они уверены, зависит исключительно от них самих».
В 1906 году шокирован был добравшийся туда эмигрант Максим Горький. Уже известного и гонимого в своей стране писателя встречали в «Нью-Ёрке» (так у Горького) тысячные толпы — но ровно через 48 часов те же толпы принялись освистывать его за несоблюдение приличий: прибыл не с женой Екатериной Пешковой, а с актрисой Марией Андреевой. Гостиницы отказались их принимать, жилье нашли с трудом. Это отрезвляло. «Но в Америке думают только о том, как делать деньги», — выдал Горький один за другим красноречивые очерки вроде «Города Желтого дьявола» и «Царства скуки».
В 1922-м Америка шокирует Сергея Есенина, приехавшего с женой-американкой-балериной Изадорой (так у Есенина) Дункан. «Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов».
«Зрение мое переломилось». Прежде чем пустить к себе, американцы поэта допросили и взяли письменную клятву «не петь „Интернационал“». Но и без «Интернационала» Есенина легко провоцировали на скандалы, так что на Изадоре трещали платья, все вокруг мерещились, бывало, спьяну «жидами», и поэта стали шельмовать «большевиком и антисемитом». Во Франции злорадно прошипели Мережковский с Гиппиус: «Дункан и Есенина выпроводили из Америки из-за пьяных кухонных скандалов и драк между собой». Да, вздохнул Есенин в «Железном Миргороде», есть тут «сила железобетона, громада зданий», — но они как-то «стеснили мозг американца и сузили его зрение». И «Страна негодяев» туда же: «Места нет здесь мечтам и химерам, / Отшумела тех лет пора. / Все курьеры, курьеры, курьеры, / Маклера, маклера, маклера». Так или иначе, вскоре после Америки Есенин расстался и с Изадорой.
В 1925 году Владимира Маяковского САСШ (они же США) шокируют Бруклинским мостом, соединяющим в Нью-Йорке Бруклин с Манхэттеном. «Расчет суровый гаек и стали» — и «поезда с дребезжаньем ползут, как будто в буфет убирают посуду». Но с моста еще прыгают безработные — Маяковский напишет: «прямо в Гудзон», но на самом деле под мостом пролив Ист-Ривер. Неточность не принципиальна. Поэт был рассеян и отвлекался: «Мы целуем — / беззаконно! — / над Гудзоном / ваших длинноногих жен». Кончилось тем, что Маяковский уехал, а его подруга Элли Джонс родила ему дочь Хелен Патрисию, то есть Елену Владимировну. Но в «Моем открытии Америки» у поэта — речь не про это, а про «футуризм голой техники», который надо обуздать «во имя интересов человечества».
О том, как Маяковский демонстрировал американские достижения, рассказывал Борису Мессереру отец, Асаф Михайлович, знаменитый балетный танцовщик: «…достал свой знаменитый плоский металлический стаканчик, наполнил его вином и вылил на брюки. После чего стряхнул винную лужу с брюк и, удостоверившись, что на брюках не осталось никакого следа, сказал: „Вот Америка! Вот это там здорово делают“».
Странные футуристические чудо-штаны — это, видимо, как раз «дедушки» джинсов, завоевавших мир к концу столетия.
Загадка: что все же больше взволновало Маяковского за океаном? Штанища — вестники райских потребительских кущ? Или это вот его признание, читавшееся в 1960-х уже как пророчество: «Может статься, что Соединенные Штаты сообща станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела»? Из последнего, между прочим, вытекала и ясность поэтической задачи: «…в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки». Любопытно, конечно, что сказал бы Маяковский, знай он, что в «далекой борьбе» победят «штаны», — но это мы забегаем далеко вперед, а всему свое время. К тому же, справедливости ради, надо признать: не в одних штанах дело. Такой же фокус, что и Маяковский, проделал однажды Роберт Рождественский, — но вылил он вино не на штаны, а на белый пиджак Вознесенского, привезенный из той же Америки. Пиджак не подкачал.
В 1935 году там еще колесили Ильф и Петров, потом напишут Сталину, как приспособить американские преимущества к советским недостаткам, — но слегка переусердствуют. Их «Одноэтажную Америку» не станут переиздавать до 1961-го — как раз того самого года, когда в Нью-Йорк впервые отправится Вознесенский.
Автопортрет мой, реторта неона
Самолет приземлил его в нью-йоркском Айдлвайльде. Именем тридцать пятого президента США аэропорт назовут два года спустя — после гибели Джона Кеннеди. Прозрачная невесомость махины аэропорта встретила выпускника Архитектурного — какие там коровники в амурах! — овеществленной грезой футуристов мира. Подбирая слова, Вознесенский позже ошарашит читателей именно таким, адекватным восторгу футуриста, росчерком пера: «Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот — / аэропорт!»… Это прозвучит внезапно и вызывающе ярко, строчки будут цепляться и запоминаться сами собой — а потому покажутся возмутительными: как это можно? Мальчишка исчо — к аэропортам свои портреты примерять! Даже Ахмадулина ахнет: «Оторопев, он свой автопортрет / сравнил с аэропортом — это глупость».
А «глупости» тут никакой — картинка отчетлива. Взгляд сквозь стекло аэропорта и есть «автопортрет» — отражение лица и всего, что позади, сливается с потоком жизни впереди, за стеклом. Вот примерно как на картине «Бар в Фоли-Бержер» Эдуарда Мане: мужчина смотрит на девушку за стойкой, видя одновременно ее и что у нее за спиной, и в отражении зеркала — себя и все, что за спиной у него. Нечто похожее видит в отражении «на толще чуждого стекла» в берлинском кафе желто-серый, полуседой Владислав Ходасевич: «И, проникая в жизнь чужую, / вдруг с отвращеньем узнаю / отрубленную, неживую, / ночную голову мою». Правда, взгляд Вознесенского, в отличие от ходасевичевой безнадеги, — иной, он бодр, он видит будущее, «где нет дураков / и вокзалов-тортов — / одни поэты и аэропорты!».
Стонет в аквариумном стекле Небо, приваренное к земле.С кем Вознесенский, открывающий Америку, вступает в диалог — подчеркнуто и сразу, — это Маяковский. «Как глупый художник / в мадонну музея / вонзает глаз свой, / влюблен и остр, / так я, / с поднебесья, / в звезды усеян, / смотрю / на Нью-Йорк / сквозь Бруклинский мост» — это у Маяковского. Мост, потрясший когда-то Владим-Владимировича, — дело прошлое. У Вознесенского уже: «Бруклин — дурак, твердокаменный черт. / Памятник эры — / Аэропорт». Вот где — «преодоленье несущих конструкций» и «вместо каменных истуканов / стынет стакан синевы — / без стакана»!
Откуда этот образ ослепительно-независимой синевы, можно было только гадать: придет же такое в голову. Но нереальность метафоры вполне доступна воображению. Скажем, все домохозяйки в шестидесятые при стирке непременно пользовались «синькой»: порошок из крахмала с берлинской лазурью (или индигокармином) разводили в стакане — эту синеву добавляли при полоскании белья — и оно волшебно становилось белоснежнее белого. Что может быть общего у этого стакана нью-йоркской синевы — скажем, с березами в Ингури? А в аэропорту у Вознесенского «брезжат дюралевые витражи, / точно рентгеновский снимок души». И в родных березах то же зеркало души: «Люблю их невесомость, / их высочайший строй, / проверяю совесть / белой чистотой».
* * *
Однако пора. Поэтов (как и писателей), прибывших из Советской страны, уже везут по стране Американской. Встречи, виды, застольный френдшип. Перед поездкой их предупреждали: подсунут буржуазные соблазны — прочь бегите. На дворе пусть и холодная, но война, ни шагу поодиночке, без руководства делегации в контакты не вступать. Иначе… Ну, непонятно, что иначе, — но чтобы ни-ни, и не думайте. А как было не думать? Вознесенскому, например, еще и тридцати не было, — самый возраст думать и все такое прочее.
«В Канзасе к нам с Андреем Вознесенским, — расскажет в 2006 году новосибирской газете „Честное слово“ Евгений Евтушенко, — подошли две девушки, у них на груди были значки с Фиделем Кастро, и это нас с ними сразу объединило. Еще они обе изучали испанский язык, что тоже помогло общению. По-английски я знал тогда только три слова: „Вэр из стриптиз?“ А по-испански худо-бедно объяснились… Одна из девушек так мне понравилась, что я решил плюнуть на все запреты — будь что будет. Мы с ней сбежали в Сан-Франциско и несколько дней были безумно счастливы».
Куда девались Вознесенский (прекрасно, кстати, владевший английским) и вторая девушка, Евгений Александрович умолчал — и мы гадать не будем. Главное, что кто-то же подсказал поэтам ответ на их почти гамлетовское: «Вэр из стриптиз?» Едва ли не у каждого советского туриста, попадавшего в логово капсистемы, была эта тайная цель: пробраться к «красным фонарям». Но одно дело обыватель — с его жалким мещанским любопытством. Совсем иное — поэты! Пучины бездн, фонтаны поэтических гормонов, блэк энд уайт, вода и камень — вот для чего поэту «красный фонарь»! И потому — «на женщин глаза отлетали, / как будто затворы». Вознесенский «спускался в Бродвей, / как идут под водой с аквалангом». И вот уже в «Стриптизе» у него «проливная пляшет женщина под джаз»:
«Вы Америка?» — спрошу, как идиот. Она сядет, папироску разомнет «Мальчик, — скажет, — ах, какой у вас акцент! Закажите мне мартини и абсент».Поэт Уильям Джей Смит, взявшись за перевод, выскажет Вознесенскому сомнение: не заказывают, мол, мартини с абсентом, не сочетаются напитки. Венички Ерофеева не было тогда на этого Смита, коктейля «Слеза комсомолки» Смит не пробовал! Малопьющий Вознесенский оставит, как есть, — и правильно. Мало ли в жизни несочетаемого?
В Штатах тогда обнаружилось и кое-что помимо стриптиза. Марши мира ходили по улицам, сам Мартин Лютер Кинг в них ходил, добиваясь, чтобы расисты перестали в неграх видеть негров. Много лет спустя борьба, в которой Мартин Лютер Кинг был главным фигурантом, приведет как раз к обратному: слово «негр» окончательно признают неприличным, и это назовут победой политкорректности. Впрочем, сам негритянский борец за мир об этой перетасовке понятий не узнает — это же все в далеком будущем. А в те времена, как заметит герой Джонни Деппа в голливудском фильме «Ромовый дневник», Америка и в этом видела «русскую угрозу»: «Вот вам факты. 75,6 процента негров контролируется Москвой!» Знал бы об этом Вознесенский — его-то шокируют апокалиптические негры, играющие рок-н-ролл и джаз. Каждый сам по себе — отдельная и яркая метафора: «негр рыж — как затменье солнца» или «туз пик — негритос в манишке». Да что там, поэт и себя самого ощущает негром: «Мы — негры, мы — поэты, / в нас плещутся планеты».
Когда нас бьют ногами — пинают небосвод. У вас под сапогами Вселенная орет!Надо ли теперь политкорректно исправлять «поэты» на «афропоэты»? Оставим сей вопрос как риторический. Нелепыми вопросами Вознесенского и без того изводили. Американские стихи войдут в его сборник «Треугольная груша», изданный через год, в 1962-м. Почему груша треугольная? — набросятся на автора всерьез. А у груши вполне конкретный визуальный прообраз: светильники в нью-йоркском метро были — как «плод трапециевидный».
Полное название сборника на самом деле — «40 лирических отступлений из поэмы „Треугольная груша“». Почему отступления и где сама поэма? А потому что в «лирических отступлениях» поэты чаще всего и прячут все самое важное, чего нельзя не сказать. К чему несуществующая поэма, если главное сказано и без нее? «Короную Емельку, / открываю, сопя, / в Америке — Америку, / в себе — себя». Считайте поэта Пугачевым-самозванцем, но он открывает свою Америку.
У Есенина в «Черном человеке» — «голова моя машет ушами, как крыльями птица». У Вознесенского — «под брандспойтом шоссе мои уши кружились, как мельницы». Естественно, молодому поэту тут же поставят на вид: были уже — уши-пропеллеры. Мог он спрятать уши, обойтись без них? Безусловно — если бы хотел. Но Вознесенскому казалось важным сохранить эти отсылы, явные и скрытые, к предшественникам. Пафосно говоря — заявить о себе, как продолжателе неразрывной русской поэтической традиции XX века. Без всяких двусмысленностей.
Эта связь подчеркивалась сразу — начиная с обложки «Треугольной груши».
В первой книге Вознесенского, «Мозаике», был графический портрет поэта, выполненный молодым Ильей Глазуновым. Обложку «Треугольной груши» оформлял уже Владимир Медведев — в духе авангарда 1920-х годов: художник взял за образец футуристический плакат Эля Лисицкого «Клином красных бей белых», составленный из острого треугольника, круга и букв.
Над этой книгой Вознесенского сломает голову литературный чин, поэт Александр Прокофьев: «Поразбивали строчки лесенкой / и удивляют белый свет, / а нет ни песни и ни песенки, / простого даже ладу нет!»; «А впрочем, что я? Многих слушаю / и сам, что думаю, скажу. / Зачем над „Треугольной грушею“, /ломая голову, сижу?»
Чуть позже Прокофьев прокричит на ухо Хрущеву: «Я не могу понять Вознесенского и поэтому протестую!» Было: не читал, но осуждаю. Стало: не могу понять, но протестую.
Хотя, если честно… Было еще одно обстоятельство, нервировавшее коллег еще со времен Маяковского. Платили поэтам за строчку. Соответственно, за строчку, разбитую лесенкой, на две-три-четыре ступеньки, платили в два-три-четыре раза больше! Как это, в сущности, понятно! Да и книга смотрелась в два-три-четыре раза толще. Найдется ли что-то обиднее солидного сборника тощего автора — для солидного автора тоненькой книжки?
Обидно, но кто же признается вслух? На этот случай есть известные приемы. Знакомый зуд осиных гнезд — литсобратья и критики будут топать ногами: не потерпим такой безыдейности! Это будет нелепо, потому что как раз «идейностью» поэзия Вознесенского в те годы была озарена. «Особенно усердствовал против меня, — вспомнит потом Вознесенский, — поэт Андрей Малышко, под гогот предложивший мне самому свои треугольные груши… околачивать, согласно соленой присказке».
* * *
Тут из темени 1960-х вылезает рука подкравшегося критика Станислава Рассадина. Поэт Вознесенский был тощ, не ухватишься, — но и критик сноровист: быстренько пощекотал, потом ущипнул — проказник! — и топ-топ-топ обратно в темень своего хитромыслия. Уже из 1990-х годов донесется его бормотание: «Его пощекочешь — заплачет, ущипнешь — засмеется! Скорее же, просто останется безучастно-бесчувственным, потому что весь из синтетики! А вот „Женька“… от щекотки смеется, от боли плачет!»
Критик Рассадин — автор термина «шестидесятники» — собственно в 1960-е был увлечен изобличением исключительно тех самых шестидесятников: Вознесенского да Евтушенко. Когда придут иные времена, он объяснит все драматическими обстоятельствами истории: «Цензура, ужесточаясь, пресекала поползновения смеяться над вельможными графоманами, Софроновым или Исаевым, суперничтожного Фирсова и того не давали тронуть». Зато (удивительно, заметим, совпадая во взглядах и мыслях с теми же «вельможными» и «суперничтожными») «я мог ругать Евтушенко и Вознесенского, что я часто делал с большим удовольствием, поскольку это соответствовало моим взглядам». В чем состояло удовольствие — критик еще раз уточнит в 1990-е, говоря уже о Евтушенко. Уточнение туманное, но замечательное: «Мне, видите ли, казалось, что он, почти мой ровесник, ну, всего-то двумя годами старше, успевает высказать то, чем я в своей полуинтеллигентской рефлексии только начинаю заболевать, — и, понятно, поспешив, торопится это опошлить».
Отчего Рассадин холоден к Вознесенскому (хотя вынужден признать: «одареннейшему»), но снисходителен к Евтушенко? Объяснение сентиментальное: Рассадина «по контрасту постоянно смущало поразительное благодушие Евтушенко к своему закоренелому ругателю. „Здравствуй, любимый враг!“ — с этим возгласом он однажды бросился мне на шею, находясь в состоянии расслабленно-подогретом».
Вознесенский на шею Рассадину не бросился, вот беда. В девяностых Вознесенский только подивится тому, как те самые критики, абсолютно совпадавшие (переживали, конечно, — но совпадали) с генеральной конъюнктурой былых времен, так же совпадут и с веянием новым, сразу оказавшись в ярых либералах.
* * *
Были (и есть) критики неумные, были (и есть) умные — всё как в жизни. Спор критиков с поэтами легко переходил на личности. Никто ангелом не был. И Вознесенский тоже: одним мог казаться подозрительным скромником, другим — зазнавшимся мальчишкой, мог увлекаться, заблуждаться, глупость какую-то выкинуть — ну кто прожил жизнь, не совершая глупостей? Скажем, Илья Глазунов вспоминал, как они познакомились в юности. «Любимый ученик Пастернака», — представился ему Андрей. Ну действительно как-то нелепо. Но важно все-таки другое: чего в Вознесенском никогда не было — непорядочности. Это если «про личности».
Тогда, в 1960-е, читатели не очень-то критиков слушали, стадионы были переполнены, книги расходились влет. Прислушаются в 1990-е, когда разочарованной стране захочется найти виновников утраченных иллюзий — тут как раз и придутся кстати «шестидесятники недобитые». Тот же Рассадин однажды даже обмолвится: «Вероятно, следует повиниться: переругал». Не то чтобы критик сожалел — это фигура речи. Увы, чем нередко подкреплялась мысль критическая — так это умением походя бросить легкую тень. Скажем, вставить при случае: а вот поэта Слуцкого возмутило, что Вознесенский взял рекомендации для вступления в Союз писателей не у него, а у Маршака и одного из своих «ругателей» Грибачева (читай: расчетлив!). Или: а вот Окуджава лично ему, критику, еще в пятьдесят девятом говорил, что Вознесенский как лошадь из цирка — на нем не попашешь (читай: какая искусственность!). Всё у критика как бы между прочим — пощекотал, щипнул, и в сторонку.
Ужель и тут — те самые узрюли, что вместо глаз? Ну да, не стоит даже сомневаться. Сказать и Слуцкий, и Окуджава могли всякое, неведомо где, в каком настроении, при каких обстоятельствах. И что из этого? Мог критик вспомнить и другие эпизоды — про тех же Слуцкого и Окуджаву. Например, такие. Единственным из коллег, кого захотел увидеть умирающий в больнице Слуцкий, напомним, оказался Вознесенский. Среди самых близких, провожавших Окуджаву на операцию в Париж (никто не знал, что провожали навсегда) — тоже Вознесенский. Почему же не критик? Проводив Окуджаву, Вознесенский с Ахмадулиной вспоминали, как извели поэта корявые упреки девяностых — за «комиссаров в пыльных шлемах». А миф о «вине» шестидесятников, настойчиво вложенный в головы в 1990-е годы, буквально по пунктам, — успешно сформулирован, вот парадокс, вполне официальной критикой 1960-х. Той самой критикой, авангард которой составляли будущие застрельщики как бы либеральной мысли конца XX столетия.
* * *
Мы увлеклись — кому-то может показаться, что шестидесятые годы отличала страшная угрюмость. А все как раз наоборот. Шестидесятые пританцовывали.
В 1960 году из Ливерпуля послышались первые звуки «Битлз». Please, please те — три года спустя выйдет первый альбом. В ООН Никита Хрущев перебил кого-то репликой: «Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала» — в этом, конечно, было мало дипломатии, зато сколько поэзии! Написал же Эренбург в «Литературке»: «Пришло время стихов».
И Ахматова о том же: «По-моему, сейчас в нашей поэзии очень большой подъем. В течение полувека в России было три-четыре стихотворных подъема: в десятые — двенадцатые годы, или во время Отечественной войны, — но такого высокого уровня поэзии, как сейчас, думаю, не было никогда…» Слова Ахматовой цитировал в своем эссе «Поход эпигонов» Варлам Шаламов — страшно возмущаясь. Но Анна Андреевна успокоит его тем, что сразу спохватится (опять же, чтобы не подумали — «эстрадников» приветствует): «Не уровень поэзии высок, а небывало велик интерес к стихам».
И вот уже в двухтысячных вспоминает в Интернете студент 1960-х, некий зеленоградский блогер Вышневецкий (Вышень) — как, скинувшись со стипендий, купили в конце шестидесятых новый альбом «Битлз», собрались в общаге «у Юрки Коркина», владельца единственной стереосистемы, — и в самые божественные минуты, мешая слушать «битлов», случайная «кукла-блондинка» стала шуршать фольгой от шоколада. «Юра уменьшился вдвое, а я, чуть не сделав царапину на драгоценном виниловом пласте, остановил все это очарование и, подражая Вознесенскому, т. е. чуть подвывая и время от времени стукая себя воображаемой записной книжкой по бедру в акцентированных разворотах смысла и размера, прочел милой деточке лекцию… Детка решила, что это ее, леди, так развлекают, и дала мне почувствовать вкус шоколада липким поцелуем, чтобы подразнить Юру. Что? Разумеется, она была блондинка»…
К чему здесь эта цитата? — спросит читатель. Отвечаем читателю нелюбопытному: ни к чему. А любопытного зацепит вот эта деталь: с чего бы вдруг у «битломанов» шестидесятых «на автомате» жесты, мимика и дикция поэта Вознесенского?
* * *
И тут — не ждали? — подоспела параллель.
На сломе двух десятилетий, в конце шестидесятых, Джон Леннон напишет письмо критику Джону Хойленду, а Андрей Вознесенский через пару лет — критику Адольфу Урбану.
Критик Хойленд вывел из себя ливерпульского «шестидесятника» Леннона, сравнив «битловский» протест… ну, не с «эстрадничеством», а с популярной тогда у англичан мыльной оперой «Дневник миссис Дейл». 10 января 1969 года Леннон ответил открытым письмом в одном из леворадикальных журналов Black Dwarf («Черный карлик»).
Заведующий отделом критики журнала «Звезда» Адольф Урбан, не оставлявший без внимания ни единого шага в творчестве поэта, «ангела в кепарике», обратится к Вознесенскому с открытым письмом, красноречиво назвав его: «Кризис остроты». Вознесенский тут же ответит отповедью, которую озаглавил «Структура гармонии». Диалог их, нервически-вежливый, опубликуют апрельские «Вопросы литературы» в 1973 году.
Конечно же, две эти переписки ничего общего друг с другом не имеют. Но — интонации, но — ощущение себя и мира… «Шестидесятники» всех стран, похоже, соединились.
Из письма Дж. Леннона критику Дж. Хойленду:
«Дорогой Джон, твое письмо не просто высокомерно. Ты кем себя считаешь? Что ты вообще понимаешь? По-твоему выходит, что я согласен с существующей системой, а ты — нет… Существующая система так и не смогла превратить нас в сборище „развеселых пареньков“, дорогой Джон; МЫ СМОГЛИ заняться тем, чем занимаемся и поныне. Я был там, а ты — нет…<…>
Возможно, ты прав насчет того, почему до сих пор на меня не наезжали — я ведь у них, как и у тебя, давно „под колпаком“. Ну что же, я тебе скажу — я конфликтовал всю жизнь с одними и теми же людьми, я знаю, они все еще ненавидят меня. Сейчас уже все равно — вот только масштабы поменялись…
Слушай парень, я не был/не являюсь твоим оппонентом. Чем занудствовать по поводу Beatles или Stones, взгляни шире, подумай о мире, в котором мы живем, Джон, и спроси себя: почему? А потом — приходи и присоединяйся к нам.
С любовью, Джон Леннон
P. S. Ты сломаешь — а я построю».
Из ответа А. Вознесенского критику А. Урбану:
«Дорогой Адольф Адольфович!.. Вы „вынуждаете“ меня, „оставив на время стихи“, поговорить с Вами на Вашем языке… Я предпочел бы, чтобы Вы, оставив на время статьи, заговорили со мной стихами. На моем языке. Но это, видно, в следующий раз… Я рад, Адольф Адольфович, что Вы давно верите в меня. Но не будем так уж строги к тем поклонникам, которые, приняв меня за певца поролона, разочаровались во мне, поняв, что я не сумел воспеть тринитрооксигидронатроэлон…
Вы спрашиваете, что за „банальные истины“ я исповедую по Главному вопросу?.. Я думаю, Вы скоро поймете, что к поэзии неприменимы школьные эволюционные термины, вроде Ваших: „шаг вперед“, „отменяя или прибавляя“, „являются поправкой“ и т. д. и т. п. <…> Вообще зря Вы, следуя моде, обижаете метафору. <…>
…Так хотелось бы, Адольф Адольфович, чтобы лишь в фантастической игре ума поэта был ужас существования и ложь прикидывалась правдой, а хаос гармонией! И если бы музыка боролась лишь с непочтительными тупицами!..
Но не будем тужить и трусить. Авось все удастся!
С искренним уважением, Ваш Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
<…> Р. P. S. …Когда цитируете стихи, не выпрямляйте их строк… Стихам больно, они живые, у них ломаются суставы. Будьте бережнее. Прошу Вас».
Я баба слабая, я разве слажу?
Однажды — а именно 6 июля 1996 года — Вознесенский придет в лондонскую студию Би-би-си, на программу радиожурналиста Севы Новгородцева «Севаоборот». И кто-то из гостей программы, давний поклонник поэта, вспомнит забавный эпизод из шестидесятых, как раз в те дни, когда Вознесенский вернулся из Америки. Вот что расскажет в радиоэфире очевидец, побывавший на одном из поэтических вечеров в большой аудитории Политехнического:
«Поэты сидели на сцене у стены. Пришла очередь Вознесенского — он вышел. Невероятно серьезно достал из кармана какую-то бумажку и сказал: „Вот тут пришла записка: ‘Вознесенский и Евтушенко, расскажите, как вы ездили по Америке’… Ну, товарищи, это была большая, серьезная поездка, рассказывать долго. Но я сейчас расскажу один эпизод, который произошел в Нью-Йорке. Ну вы, товарищи, понимаете, нас предупреждали, что в этой поездке могут быть провокации. В Нью-Йорке всех поселили на седьмом этаже, а мы с Евтушенко были в одном номере на пятом, — и мы поняли, что вот тут-то и надо ждать провокаций, и мы не ошиблись.
В два часа, когда мы крепко спали, раздался сильный стук в дверь и кто-то — по-русски, правда, но с акцентом, — закричал: ‘Евтушенко, Вознесенский, вставайте, надо поговорить!’ Мы из-под одеял ответили, что мы, русские поэты, готовы говорить и о поэзии, и о жизни, и о любви — но только в дневное время. „Женька, сволочь, я с тобой в одном классе учился“, — сказал голос из-за двери. „Ни с кем я в одном классе не учился“, — ответил жестко сонный Евтушенко. Поругавшись еще некоторое время, голос исчез.
Но сон исчез, — рассказывал со сцены Андрей Андреевич, — мы полежали еще пару часов, потом осторожно подошли к двери: кажется, нету никого. Быстро оделись и пошли на седьмой этаж, разбудили руководителя группы и рассказали ему о случившемся. Молодцы, сказал руководитель делегации, правильно вели себя в данной сложной обстановке.
Наутро, правда, в номер к нам вломился солист ансамбля народного танца Игоря Моисеева — Сергей Цветков, который был настолько пьян, что у него даже акцент появился… Как видите, все же провокация имела место!..“
Вы не представляете, — Вознесенский рассказывал! с такой иронией — какой рев раздался в зале. Все ревели от смеха. Когда немного улеглось, Вознесенский добавил: „Самое-то главное, что потом выяснилось — Сергей Цветков действительно учился в одном классе с Евтушенко“. И все опять попадали со стульев».
* * *
За умение шутить Вознесенского аудитории обожали. Но людям серьезным такое чувство юмора чаще казалось неуместным. Вот даже Римма Казакова — помнила же, как и предложение выйти замуж обернулось шуткой, — написала в «Литгазете» в июле 1962 года («Что и „как“»), услышав стихотворение «Бьют женщину»: «Здорово написано! Лихо! И вместе с тем возникает чувство неловкости. Я восхищаюсь великолепными поэтическими деталями стихотворения, восхищаюсь поэтом, а женщину-то бьют!.. „Баловать“ в литературе весело и мило, но когда художник „балует“, он подчас, сам того не замечая, переключает внимание с предмета разговора на свою собственную персону, а его поэзия из-за этой диспропорции, искажения поэтической задачи, становится мельче».
Ну да, у Вознесенского всё и всегда в стихах — соткано из нервов «собственной персоны», все через собственное «я», до самоистязания. Иногда это вызывает даже недоумение. Но за это как раз Вознесенского и любили — за искренность…
Вернемся к заграницам. В шестидесятые Вознесенский побывает еще не раз — и в Америке, и в Италии, и во Франции, и в Англии, и в ФРГ, не говоря о Польше и Болгарии. Сначала молодого поэта отправляли за рубеж, чтобы освежить представление о лицах советской литературы. Потом спохватились — а не пускать уже было сложно: популярность Вознесенского и на Западе оказалась нежданно-негаданно такой, что тронь его здесь — заграничные друзья его тут же отзывались эхом… Были, впрочем, и другие объяснения. Так, колоритная Валерия Новодворская, защитница демократии от всего на свете, поэта любила — но стыдить будет политически, со всем набором штампов либеральной конъюнктуры XXI века: «Почему ему все это позволяют? А плата внесена. Во-первых, в США поэта шокировала слежка со стороны ФБР (про слежку со стороны КГБ он ничего не написал). „В Америке, пропахшей мраком, / камелией и аммиаком, / пыхтя, как будто тягачи, / за мною ходят стукачи. <…> / Пусти, красавчик Квазимодо, /душа болит, кровоточа, / от пристальных очей „Свободы“ / и нежных взоров стукача“. Стыдно».
И дальше, по накатанной, — ее резюме: «Никогда еще искренность поэта не приносила столько бед».
Ну да, мысль не нова и не сложна: поэт излишне искренний всегда вредит партийной и корпоративной догме: коммунистической и антикоммунистической, любой, будь эта догма трижды либеральна или антилиберальна. Любое отклонение, пусть даже очевидное, от «правды», нарисованной в уме догматика, — беда.
В сборнике «Треугольная груша» стихотворение называлось «Вынужденное отступление». За него поэта не раз попрекнут в новом веке: да как он мог! Увидел мрак, разврат и аммиак в Америке! Какие «стукачи»? Откуда? Если бы они и были — то ж стукачи демократические! А значит, полезные!
В XXI веке маленький Эдик Сноуден, знаток американских стукачей, доведись ему прочитать эти пассажи, мог бы долго смеяться. Даже его малюсеньких усилий однажды хватит, чтобы мир усвоил очевидное: все поголовно уже давно «под колпаком». И оруэлловский «Большой Брат» — оказывается, совсем не то, что все когда-то думали.
Но это когда еще будет.
* * *
В том же сборнике Вознесенского, рядом со «стукачами», — «Лобная баллада». Там у царя «по лицу проносятся очи, как буксующий мотоцикл», там он целует в уста Анхен, которой только что отсекли голову, потому что его «любовница — контрразведчица англо-шведско-немецко-греческая». В стихах нет никакого буквального соответствия подробностям трагической любви Петра Первого к немке Анне Монс. Собственно, и Петр по имени не назван, лишь имя Анхен — отзвук той истории (но на самом деле голову немке не рубили). Здесь Вознесенский — о другом.
Эта самая Анхен, оставшаяся «брусничной кровиночкой» на державных устах, — совсем скоро обернется у поэта кинозвездой Мерилин Монро, мотоциклисткой Натальей Андросовой… Но и в «Лобной балладе» уже сказано — устами отрубленной головы: «Баба я, / вот и вся провинность, / государства мои в устах».
В дни строительства и пожара до малюсенькой ли любви? Ты целуешь меня, Держава, твои губы в моей крови.Вот это уже совсем другое дело! Эти строчки — при таком-то утилитарно-партийном подходе к поэзии — можно пришпилить и к кровавому режиму, и к любой злобе дня. Что же касается запахов аммиака в Америке — это лишнее, это конформизм, постыдное сотрудничество с коммунистическим режимом.
В России ведь не первое столетие, со времен Радищева и Новикова, как ни меняй царей с вождями, пульсирует одна корпоративно-прогрессивная мысль: кто не назвал режим «кровавым», тот ретроград и лапотник. Цари кровавы, пролетарские вожди кровавы. И в этом была своя правда. Но ведь толкуют о «патриотизме» вечно: или — или. «Патриотизм» революционно-либерального разлива запрещает видеть очевидное — что и мир вокруг не менее ущербен. «Патриотизм» на почвенный манер, напротив, — вечно сводится к идее, что весь мир существует лишь для того, чтобы топить нас в крови. Те и другие «патриоты» по-своему суровы и угрюмы, на зависть феликс-эдмундовичам всех времен и народов. Возможны ли третьи?
Вознесенский позволил себе не уложиться ни в тот, ни в другой трафарет. Верный футуристической идее, он наивно полагал, что время дает новый шанс построить государство справедливости и любви к своему народу. Поэт помогает своей стране, расшатывая загончик соцреализма, в который не втискивался отдельно взятый человек во всем неподконтрольно-интимном многообразии.
* * *
Время будило воображение. Веселый и страшный башмак Хрущева пролетал над Америкой. Над Советской страной фаллически вздыбилась большая кукурузина. К девкам, по преданиям тех лет, ночами приходила тень какого-то Егора Кузина. Кто не помнит — знаменитая была частушка: «Не ходите, девки, замуж / За Егора Кузина. / У Егора Кузина — / Большая кукурузина».
Сверхдержавы ракетами мерились, космосом бредили, шпионов ловили. Мир колобродил и мял ковыль.
Поэту, кажется, всего-то оставалось пристроить в этом путаном мире непережеванных госмашинами человечков с их малюсенькими Любовями. Госмашины тоже колебались: нужен ли им этот человечек? — и делали, кажется, все, чтобы поэты поскорее расстались с иллюзией, будто «наше дело общее». К концу 1960-х все так и случится. Виной ли тому интриги идеологов, подбиравшихся к власти, злобная склочность литературной среды, просто чья-то недальновидность или глупость, но — иллюзия растает.
Беззащитная муза — вот кто останется главной героиней этого десятилетия Вознесенского.
* * *
Пятого августа 1962 года в Америке скончалась Мерилин Монро, тридцатишестилетнее волоокое земное божество. Вознесенский помнил ее голо-головокружительные позы на громадных нью-йоркских автобусах и небоскребах. Советским зрителям Мерилин покажут впервые лишь через четыре года — на экраны выпустят фильм «В джазе только девушки». Но на смерть актрисы сразу же откликнулся главный советский киножурнал.
Из некролога памяти Мерилин Монро (Советский экран. 1962. № 19):
«Узнав о ее смерти, Лукино Висконти сказал: „Мир американского кино убил Мэрилин (так в журнале. — И. В.) Монро. В течение последних лет своей жизни она играла роль его жертвы“. <…> В последнем интервью, опубликованном журналом „Лайф“ за несколько дней до трагической развязки, Мэрилин говорила: „Я не смотрю на себя, как на товар, но уверена, что многие считают меня товаром, в том числе одна фирма, которую я не назову. Актер — это не машина, сколько бы ни утверждали обратное“.
Именно поэтому ее нервы не выдержали борьбы, которая оказалась слишком неравной. Жестокие законы капиталистической кинопромышленности сломили силы актрисы…»
Тогда же Андрей Вознесенский напишет свой «Монолог Мерлин Монро». Именно так: не Мерилин, а Мерлин. Как слышалось и повторялось ее имя, так и написалось. И в последних прижизненных изданиях в стихотворении останется так: Мерлин. И это правильно. Требовал же Вэн Клайберн до последнего, чтобы его звали, как в прежние советские годы — Ваном Клиберном, и точка. Вот так же именем «Мерлин Монро» дышала эпоха. У Вознесенского вышли стихи невыносимо пронзительные — так выходит, когда «невыносимо самоубийство, но жить гораздо невыносимей», когда «самоубийство — бороться с дрянью, / самоубийство — мириться с ними, / невыносимо, когда бездарен, / когда талантлив — невыносимей». Когда убивают тебя изо дня в день — продажность, конъюнктура, карьера. Когда режиссеры жизни этой — «одни подонки».
Я Мерлин, Мерлин. Я героиня Самоубийства и героина. Кому горят мои георгины?Было это самоубийство или убийство — гадания и полвека спустя ответа не дадут. То дело сведется к политическим козням братьев Кеннеди, любовников Мерилин, то в одной из последних версий медсестра случайно ввела секс-идолу смертельную дозу нембутала. Но у Вознесенского не про то даже — ему важнее понять, как обстоятельства жизни вытравляют в человеке чистоту «синевы без стакана». Не оставляя выхода. Он как-то объяснит тем, кто не понял, — отчего стихи не соответствуют меняющимся версиям смерти Мерилин: «Вообще эти стихи — обо мне… „Невыносимо — самоубийство“, — это был стон о нашей жизни».
Невыносимо горят на синем Твои прощальные апельсины… Я баба слабая. Я разве слажу? Уж лучше — сразу!Любопытный штрих, между прочим. Нембутал, от которого вроде бы скончалась Монро, примет позже и Лиля Брик, покончившая с жизнью самоубийством. Роковая муза Маяковского, которая у Вознесенского в парижских стихах «на мосту лежит». К истории его отношений с Лилей Юрьевной мы еще вернемся. А пока продолжим по порядку.
«Я баба слабая» — это про Мерилин, разбившую столько видавших виды сердец? Ну-ну. В девяностых годах сыну Хрущева, Сергею Никитичу, перебравшемуся жить в Америку, сосед покажет газетку, знаменитую в тех местах небылицами. «И вот он там вычитал, — посмеется Сергей Никитич, — будто Хрущев каждую неделю тайно летал во Флориду к Монро на свидания. Я рассмеялся: „Ну ты представляешь, чтобы в ‘холодную войну’ Хрущев посещал Флориду тайно?“» (Бульвар Гордона. 2009).
Между прочим, сам Никита Сергеевич, встретившись в 1960 году в Америке с актерами из фильма «Канкан», фотографировался с красоткой Ширли Маклейн — и устоял! Та специально задирала юбку «чуть не выше головы», фотографы аж визжали. Ширли, конечно, не Мерилин, но главное, Хрущев был — орел! «Нам это было, конечно, непривычно, — сказал Никита Сергеевич, стирая капли пота с макушки, — неприлично казалось, но я подумал — ну и ладно! Ну и пусть!»
Неизвестно, шевельнулось что-то в Хрущеве рядом с Ширли Маклейн или нет, но в чем он был несгибаем: шуры-муры — шаг к измене Родине.
Вознесенский, надо сказать, в этом пункте совсем не совпадал с партийной линией. Музы вдохновляют поэта — поэт вдохновляет Родину: не логично разве? «Бабы слабые» — они выше (бывает, и шире) границ и политических систем. И в этом смысле Мерилин — такая же русская баба, как Нина Хрущева. А праправнучка Николая I, королева Арбата тех лет, — такая же американская баба, как Мерилин. Та же тоска в глазах… Впрочем, праправнучка — это история особая, причем мотоциклетная.
* * *
К мотоциклам Андрей Андреевич был явно неравнодушен. В «Треугольной груше» не только очи у царя напоминают колеса мотоцикла. В «Гитаре» муза то «была смирней, / чем в таинстве дикарь… <…> / а то как в реве цирка, / вся не в своем уме — / горящим мотоциклом / носилась по стене!»
О ком это? «Среди ночных фигур / ты губы морщишь едко, / к ним, как бикфордов шнур, / крадется сигаретка».
Мотор ревет и в «Отступлении о частной собственности»: «А была она милая, / с фаюмским сиянием глаз. / Мотоциклы вела, / в них вонзалась и гнулась она, / как стрела в разъяренном, ревущем боку кабана!» Наконец, в «Мотогонках по вертикальной стене», прямо посвященных Наталье Андросовой в 1960 году:
Заворачивая, манежа, Свищет женщина по манежу! Краги — красные, как клешни. Губы крашеные — грешны. Мчит торпедой горизонтальною, Хризантему заткнув за талию!В стихах есть некоторые детали их знакомства: «Я к ней вламываюсь в антракте. / „Научи, — говорю, — / горизонту…“ / А она молчит, амазонка. / А она головой качает. / А ее еще трек качает. / А глаза полны такой — / горизонтальною / тоской!» Позже Вознесенский расскажет подробнее (Огонек. 1996. № 35):
«Мы познакомились с Наташей… благодаря Александру Межирову. Он, человек чрезвычайно склонный к мистификации и приукрашиванию действительности, взахлеб рассказывал о некой прекрасной мотогонщице, гоняющей по стене в парке Горького. Признаться, долгое время я не „покупался“ на его восторженные рассказы, так как был уверен, что он преувеличивает и редкую красоту женщины, и необычайную эффектную зрелищность аттракциона. Но в конце концов стало интересно, и я отправился в парк.
То, что увидел, просто потрясло мое воображение. Витиеватость и превосходная степень Сашиных слов в сравнении с действительностью превратились в ничто. После выступления я прошел за кулисы, где нас друг другу представили.
Наташа — потрясающая женщина. Природа ее щедро одарила не только физическим совершенством богини, но и чрезвычайным благородством и редким чувством юмора. Очень тонко она чувствовала поэзию, всегда держала в машине сборник стихов своего любимого поэта Бориса Пастернака. Кстати, гоняя по стене, обычно читала про себя стихи, знала их множество…»
Мотогонщица и сама про себя знала, что чудо как хороша: «Да, остается признать факт. Я была в молодости не дурна: высокого роста, почти всегда носила брюки и краги (высокие ботинки), предпочитала строгий английский стиль. Правда, в глаза-то никто не заявлял, что я, мол, королева Арбата, но вслед эти слова частенько доносились. Я не обижалась». Обижаться было бы странно — учитывая, что Наталья Николаевна действительно царских кровей. Наталья с братом Кириллом чудесным образом оставались единственными в СССР потомками Романовых по мужской линии. Прапрадед ее — Николай I. Отец, князь Александр Искандер, сын великого князя Николая Константиновича, вступившего в морганатический брак с Надеждой Дрейер, скрылся за границей, повоевав после революции за «белых». Дед Николай Константинович, приветствовавший Керенского в 1917-м, был расстрелян два года спустя. Мать, Ольга Розовская, спасла себя и детей вторым замужеством: служащий по финансовой части Николай Андросов дал детям свою фамилию и отчество. Наталья Александровна Искандер стала Натальей Николаевной Андросовой. Спортсменкой-комсомолкой-и-просто-красавицей. Сталина видела — на физкультурном параде плыла мимо, застыв в какой-то композиции. Жили они бедно, старались не отсвечивать, о царской фамилии Наталье рассказали мамины подруги много лет спустя. И тут в ее жизни появились мотоциклы.
До войны в Парке культуры им. Горького появился аттракцион: американцы Боб Кару, Дикси Дер и Китти О’Нель носились по вертикальной стене на мотоциклах. В 1936 году их выпроводили из страны, как подозрительных иностранцев. Восстановить номер взялся сын фокусника Орнальди: претенденток ему в партнерши было много — выбрали Наталью. В годы войны, пока аттракцион был закрыт, она работала шофером грузовика. После Победы — опять начались гонки в «бочке». Не слезала с мотоцикла до 1967-го, когда ей исполнилось пятьдесят, была мастером спорта. Единственного мужа, трагически погибшего на съемках фильма «Всё начинается с дороги» кинорежиссера Николая Владимировича Досталя, похоронила в 1959 году. Многочисленные жуткие травмы обернулись для нее костылями.
Она успела побывать в Ницце на могиле отца. В июле 1998-го встретилась с родственниками на перезахоронении останков Николая II и его семьи в Петербурге. Встреча оставила странное чувство: Его Высочество Николай Романович, тоже праправнук Николая I, поцеловал ее трижды — и больше ни один из Романовых к ней близко не подошел. Общаться не пожелали, хотя принадлежность ее к царскому роду не оспаривали. То ли гордые очень, недоумевала потом Наталья Искандер-Андросова-Романовская, то ли беспокоятся о правах на наследство, то ли боятся, что бедная русская родственница попросит чего-нибудь. В июле 1999 года ее похоронили на Ваганьковском кладбище, недалеко от брата и матери.
Судьба мотогонщицы сложилась ярко, больно. Она могла бы царственно невзлюбить свою страну и свой народ — а ничего подобного, любовь и оптимизм оставались с нею всегда. Юрий Нагибин, друживший с ней, посвятил княжне-мотогонщице главу в книге «Срочная командировка, или Дорогая Маргарет Тэтчер». Ее сделал героиней повести «Две ночи» (там она Лена-мотогонщица) Юрий Казаков, приятель и сосед: «Она была богиня, мотогонщица и амазонка. Все ребята с Арбата и из переулков знали ее красный с никелем „Индиан-Скаут“…»
Знакомство с Натальей Андросовой, заметил Вознесенский, было непродолжительным, но оставило «самые восторженные воспоминания». Вспоминал он тем не менее как-то осторожно. Стихи, посвященные ей, были куда свободнее, там страсть была. Там злодей Сингичанц, цирковой администратор, красавицу изводил — а уж отпор давать она умела. Потом же у поэта появились разные причины сдерживать эмоции. Одна из самых неприятных связана со странным персонажем — Алеком Флегоном (прежде — Олегом Флегонтом).
В 1966 году Вознесенский выступал в Оксфорде. За пару дней до того он отказался подписать договор с издателем Флегоном, и теперь тот явился на вечер с магнитофоном, чтобы записать не опубликованные еще стихи. Андрей Андреевич после выступления подошел к Флегону, вытащил из магнитофона кассету и положил себе в карман. Поэта разыскала полиция: сошлись на том, что голос, принадлежащий Вознесенскому, будет в записи стерт, а кассета, принадлежащая Флегону, возвращена.
Позже Окуджава напечатает рассказ о том, как в Германии Флегон напился и жаловался Булату, «что он родился в рязанской деревне, что его фамилия Флегонтов, что он служит в советской разведке, что его никто не понимает». А в том 1966-м, по следам скандала с Вознесенским, Флегон в отместку издал в Лондоне пиратский сборник его стихов под названием «Мой любовный дневник». В предисловии к сборнику, легшему на стол советским властям как раз к 50-летию празднования Великого Октября, он прежде всего объяснял, что Вознесенский — «символ борьбы против коммунистического строя», антисоветский поэт, пишущий «о любви к людям, а не к партии и объектам пятилетки». Мысль Новодворской, кстати, прозвучит и у Флегона: «Каждая его поэма — это или удар по режиму, или чаевые для того, чтобы власти прикрыли свои глаза». Как странно иногда у некоторых мысли сходятся!
Но вспомнили мы Флегона в связи с Натальей Андросовой. В чем тут связь? А вот в чем. Беда Флегона была в том, что он не только провокатор, а еще и страшная бездарь — судя по его предисловию. Вот небольшая цитата: «…Когда же Вознесенский встретил впервые мастера спорта Н. Андросову, он тут же смекнул, что спорт бывает разный. Зачем красивой женщине быть в вертикальном положении, когда многие предпочитали бы ее в горизонтальном…» И так далее. Пошляк Флегон, видимо, млел от сладострастия, сочиняя байки о любовных похождениях Вознесенского.
С Флегоном, заметим, однажды и Солженицын судился из-за «пиратского» издания — и дело выиграл. Флегон и ему «отомстил» — издал в 1981 году пасквиль «Вокруг Солженицына».
Впрочем, стихи Вознесенского о мотогонщице отзовутся эхом не только у Флегона. Чуть раньше Эдвард Радзинский создал пьесу «104 страницы про любовь», в 1968-м Георгий Натансон снимет по ней фильм «Еще раз про любовь». В самом его начале некий нелепый поэт читает «Мотогонки по вертикальной стенке в Огайо». Стихотворный текст вполне в партийном духе представлял собой нарочито неталантливую карикатуру на Вознесенского. Зритель не мог не согласиться с героем картины (его играл Александр Лазарев), укорявшим героиню Татьяны Дорониной, поклонницу поэта: «Кстати, стихи были довольно дрянные. Вам всегда нравятся дрянные стихи?» Ну да, кто спорит, дрянные. Только автором этих стихов был не Вознесенский, а Радзинский. Следите за руками.
* * *
Вознесенскому попадался на улицах плакат, где могучий труженик с метлой выметал всякий сор, мешавший строить новый мир. Среди сора на первом плане виднелась книга «Треугольная груша».
Кем заменили бы пролетария на этом плакате в новые времена? Ну, скажем, банковским клерком, прагматично выметающим из своих умственных активов любые груши, которые не скушать. Что это у поэта — синева? Бесполезную синеву, пожалуй, заберите. А вот полезный стаканчик, пожалуй, оставьте.
«Живет у нас сосед Букашкин, / в кальсонах цвета промокашки». Но грудь у него в новом веке уже колесом.
Глава вторая ДЫМИЛСЯ САРТР НА СКОВОРОДКЕ
Кто первый поэт?
Париж, как известно, делают из ажурных клошаров, журчащих кафешантанов, жужжащих каштанов и жареных шершеляфамов. Голубки Пикассо хорошо идут с мармеладными монмартрами и пигалями. А если добавить марципановый женеманжпасисжур от Кисы Воробьянинова, — воображаемый Париж и вовсе готов, как торт.
Всегда велик риск прилететь в этот Париж своих пленительных фантазий, — а он отлучился куда-то. Но чаще наоборот: Париж всамделишный на месте — зато ты как во сне. В шестидесятые годы XX века такое могло случиться со всяким: прозаические граждане казались впечатлительными, как булгаковская Аннушка, разлившая масло, — что уж говорить о поэтах!
«Превосходно, жаль только, что — неправда», — то ли произнесла, то ли подумала (но мысль записала) Белла, наблюдая промельки Парижа в окна отеля. Она была впервые за границей. Впрочем, поэт Белла Ахмадулина быстро заметила: «Опровергая подозрение в нереальности, утром в номер подавали кофе с круассанами, Эйфелева башня и Триумфальная арка были литературны, но вполне достоверны».
А дело было в номере у Вознесенского. Ноябрьские сумерки, утверждает поэт, настаивались, как чай. За круглым столом ронял голову Александр Твардовский, прятавшийся от руководителя делегации Алексея Суркова, прятавшего от него бутылки, в которых прятались спасительные напитки. Стихи выручавших его молодых поэтов были Твардовскому неблизки, к своему «Новому миру» он их не подпускал, но поговорить — любил. Тем более в таких конспиративных обстоятельствах. Вот, впрочем, как развивались события в тот загадочный парижский вечер. Вспоминает хозяин номера, Андрей Вознесенский:
«В отдалении, у стены, на темно-зеленой тахте полувозлежит медноволосая юная женщина, надежда русской поэзии. Ее оранжевая челка спадала на глаза подобно прядкам пуделя.
Угасающий луч света озаряет белую тарелку на столе с останками апельсина. Женщина приоткрывает левый глаз и, напряженно щупая почву, начинает: „Александр Трифонович, подайте-ка мне апельсин. — И уже смело: — Закусить“.
Трифонович протрезвел от такой наглости. Он вытаращил глаза, очумело огляделся, потом, что-то сообразив, усмехнулся. Он встал; его грузная фигура обрела грацию; он взял тарелку с апельсином, на левую руку по-лакейски повесил полотенце и изящно подошел к тахте.
„Многоуважаемая сударыня, — он назвал женщину по имени и отчеству. — Вы должны быть счастливы, что первый поэт России преподносит Вам апельсин. Закусить“.
Вы попались, Александр Трифонович! Едва тарелка коснулась тахты, второй карий глаз лукаво приоткрылся: „Это вы должны быть счастливы, Александр Трифонович, что вы преподнесли апельсин первому поэту России. Закусить“.
И тут я, давясь от смеха, подаю голос: „А первый поэт России спокойно смотрит на эту пикировку“».
К чему, казалось бы, вся эта мальчишеская заносчивость? Вознесенский сразу же объясняет: «Поэт — всегда или первый, или никакой».
Кто с этим поспорит, тот ни черта не стоит.
Есть, впрочем, и другие свидетельские показания. Вот как Белла Ахмадулина вспоминает тот же эпизод — у нее исчезли подробности чайного вечера, нет ни Андрея, ни отеля, остался лишь торжественный Александр Трифонович: «Твардовский неизменно называл меня: Изабелла Ахатовна, выговаривая мое паспортное имя как некий заморский чин. Однажды, опустившись передо мной на колено, он важно-шутливо провозгласил: „Первый поэт республики у ваших ног“. Я отозвалась: „А вы все это называете республикой?“».
Неизвестно, обмолвился ли Твардовский где-то хоть словом об этой коллизии. В его рабочих тетрадях 1960-х годов записи о парижской поездке сухи: «От поездки в Париж осталось изо всей колготы обычное тягостное чувство несвободы, беспомощности в огромном городе, где редкую вывеску разберешь по догадке». А если что и зацепило — так только то, что они с Робертом Рождественским слишком бросались в глаза своими пыжиковыми шапками на фоне тамошней осенней теплыни.
Поэты в своих воспоминаниях всегда — как шахматисты. Разыгрывают этюды, одновременно обнажая и пряча в них свои загадки. В нюансах главное. Впрочем, какие загадки могли быть в том их споре: кто в поэзии первый? Был ноябрь 1965 года (мы опять забежали вперед).
К этому времени Вознесенский уже вполне освоился в Париже. Первый раз он прилетел туда через год после Америки, в 1962 году. Не только в Париж, побывал и в Риме. Потом еще через год. Писательские делегации энергично носились по загранице, расширяя сознание мира советской литературой. Без молодых литераторов никак было невозможно: да, их популярность нервировала, дерзость настораживала, но зато зарубежный читатель мог ясно увидеть: советская литература идет в ногу со временем, а в чем-то и опережает. Голоса у нее такие вот по-детски звонкие. Лица такие вот светлые и открытые. В разные страны отправляли, заметим, не одного Вознесенского — и Аксенова, и Соснору, и Евтушенко, и Рождественского, и кого-то еще. Не у всех, конечно, складывалось все таким вихрем, как у Андрея. Это не фигура речи. Выступления его действительно сразу вызвали ажиотаж, газеты отслеживали каждый шаг, круг знакомств расширялся сам собой стремительно. А какие это были знакомства, какие имена!
* * *
Всякий советский писатель знал: Париж — это непременное пересечение с гордостью французской литературы Луи Арагоном, а также с его супругой Эльзой Триоле. Арагон, сюрреалист, перекрестившийся в коммуниста, со времен своего стихотворного сборника «Ура, Урал!» значился верным другом СССР, а Эльза — верная сестра Лили Брик. Обойти их не мог и Вознесенский — да и с чего бы вдруг? Ревнивая муза Маяковского, Лиля Юрьевна, чутко держала молодые дарования в поле зрения и Вознесенского приметила давно. Тот поначалу от нее ускользал, но едва вышла «Треугольная груша» — жив, курилка-футуризм! — Брик немедленно позвонила сама, и Андрюша был пригрет на ее груди. Примерно так — «пригрела!» — лет через тридцать, уже после смерти Лили Юрьевны, расценят это знакомство ее наследники, нелепейшим образом рассорившись с поэтом. (Он и сам, конечно, был хорош.) Но об истории дружбы Лили Брик с Вознесенским, закруглившейся весьма странно, — речь впереди. Пока же — поэт, получив от Лили Юрьевны напутствия, знакомится с ее парижской сестрой, Эльзой Юрьевной.
Что поражало в Эльзе Триоле? Глаза. Арагона они возбуждали: «В глубинах глаз твоих, где я блаженство пью, / все миллиарды звезд купаются, как в море». Заклятый друг Арагона, сподвижник сюрреалистической юности Андре Бретон этого не понимал: для него Эльза была «прямой противоположностью женщины». Но и полвека спустя в фильме Озона «8 женщин» старушка Даниэль Дарье промурлычет сентиментальный романс на стихи Арагона: «Счастливой любви не бывает», Il n’y a pas d’amour heureux. Эльза держала Арагона в руках, как ее сестра Лиля гипнотизировала Маяковского и Родченко, как пять сестер Синяковых притягивали Пастернака, Хлебникова и Асеева. Гипнозом Эльзы продиктован Шкловскому роман «ZOO, или Письма не о любви». Футуристические музы нервных десятых-двадцатых годов, вплетенные в роковые судьбы поэтов, и в шестидесятые, уже состарившиеся, и много лет спустя останутся загадками, которых не объяснит никакое множество приклеенных им бирок и ярлычков.
В семидесятом году, узнав о смерти Триоле, Вознесенский написал стихи: «Она летит среди тоски / над городом торжеств и святок. / Косою стянуты виски, / как будто маленький ухватик…»
Глаза страдальчески сухи… И вечность стегана, как ватник.Лиля Юрьевна, услышав эти строчки, всполошилась: «Андрюша! Как вы разгадали секрет Эльзы?! Ведь у нее с детства была сухость глаз. Глаза без влаги. Она по несколько раз в день должна была закапывать капли». Вознесенский этого не знал и сослался на силу небесную: «Тот, кто диктовал мне стихи, видимо, знал».
Эльза Юрьевна с Арагоном помогали Андрею с первыми поэтическими вечерами в Париже. Ко всему прочему, Триоле переводила его стихи, готовила обширную антологию советской поэзии на французском, и в ней молодому поэту отводилось достойное место. Но — Париж огромен, литературная жизнь в Париже, как и в Москве, как и всюду, отличалась склочностью враждующих лагерей, — среди новых именитых знакомцев поэта, естественно, оказались и неприятели Луи с Эльзой. Их это настораживало. А то и обижало.
* * *
Один из вечеров Андрея Вознесенского — в парижском театрике «Вье Коломбье» — стал историческим для Парижа. Впервые за многие годы в одном зале оказались «два великих врага и гениальных поэта, два былых друга — Бретон и Арагон. Троцкист и сталинист, — вспомнит Андрей Андреевич. — В темном зале было два водоворота, как в омуте. Если арагоновцы хлопали, то бретонцы — враждебно хранили молчание, и наоборот. Зал был похож на электробритву с двумя плавающими ножами».
Вознесенский однажды улетел, даже не попрощавшись с Эльзой и Арагоном. Не специально, так вышло, не успел. «Мои встречи с Пьером Эммануэлем, Жаном Полем Сартром и Анри Мишо не могли не раздражать хозяев, пригласивших нас». Мудрая Лиля Юрьевна посоветовала срочно смягчить ситуацию покаянным письмом. Вознесенский тут же написал:
«Милая Эльза Юрьевна, я хочу благодарить Вас за все, что было во Франции. Я весь полон Парижем, пишу, пишу. Когда я улетел, впопыхах я не послал обещанных строчек к пластинке. Вместе с Клодом, В. Катаняном, С. Кирсановым — мы наколдовали этот текст.
У Руара есть мои прозаические переводы — пересказы стихов. Умоляю — чтобы был напечатан Ваш „Аэропорт“!
Привет и моя любовь Арагону, скоро выйдет мой сборник с посвященной ему „Быть женщиной“.
До свидания.
Обнимаю, люблю Вас,
Андрей Вознесенский».
У него уже были «Бьют женщину», «Бьет женщина», но за рифмовавшимся с ними названием — «Быть женщиной» — все же скрывался некий подвох, смутивший Лилю Брик: услышав эти стихи, она попросила: «Знаете, Андрюша, лучше их не печатайте пока. Потом, когда-нибудь…» Хотя что могло смутить в них Арагона, который пустится на склоне лет во все тяжкие? «Быть женщиною — быть антимужчиной. / Быть женщиною — быть антимашиной. / Быть с женщиной — тяжел как жернова. / Будь женщиной, родившийся мужчиной, / спустивший на ботфорты кружева!» Но обижать Лилю Юрьевну Вознесенский никак не хотел — напечатал, как и просила, те стихи лишь много лет спустя.
* * *
А в январе 1963 года французский критик, коммунист Клод Фриу обратился якобы с жалобой в Союз писателей СССР. Клод был близок Арагонам и Лиле Брик, много лет потом приятельствовал и с Вознесенским. Однако в архивах сохранился любопытный «Отчет Л. Зониной о беседе в Иностранной комиссии СП СССР с французским критиком Клодом Фриу о поездке делегации советских писателей (А. А. Вознесенский, В. П. Некрасов, К. Г. Паустовский) во Францию».
Судя по этому документу, у Клода, похоже, пытались выудить компромат на писателей, вернувшихся из Парижа. К тому же беседа в Иностранной комиссии проходила незадолго до знаменитой встречи Хрущева с интеллигенцией (встреча эта, о которой речь впереди, состоится в марте), и литначальники, видимо, готовили «досье» для вождя. Кроме того, неизвестно, что и как на самом деле говорил Клод (его высказывания не цитируются), но в «Отчете» фигурируют чугунные формулировки:
«Французский критик коммунист Клод Фриу, активно занимавшийся советской литературой, посетил Иностранную комиссию 21.1.63 и беседовал с А. Сурковым, И. Огородниковой и Л. Зониной. К. Фриу выразил недовольство французских друзей тем, что группа советских писателей (Паустовский, Некрасов, Вознесенский) уделяла мало внимания друзьям, находясь постоянно в руках МИД Франции…»
Далее в «Отчете» подробно описаны нарочитые «неточности», которые всплыли в рассказе французского гостя: Вознесенский якобы предпочел вечеру в зале «Мютюалите» маленький зал в «Вье Коломбье» («куда по пригласительным билетам не могли попасть простые, малоимущие французские студенты!»). Фриу объяснил какие-то оргсложности тем, что «Арагона не было в Париже»…
«В итоге беседы была достигнута договоренность с К. Фриу, что, вернувшись в Париж, он обсудит с друзьями список имен советских писателей, которых хотели бы видеть во Франции». Надо понимать — не только Вознесенского с Некрасовым.
Но здравый смысл парижских товарищей оказался сильнее обид: выступления Вознесенского вызвали как раз самый большой ажиотаж, так что противиться приездам поэта им было явно не с руки.
Тут стоит прислушаться к словам Зои Богуславской, которые весьма важны для понимания того времени:
— Вот прочитает кто-то про Клода Фриу — и вообразит себе невесть что. А Клод Фриу, уже постаревший, полуослепший, в 2014 году, между прочим, перевел двадцать шесть стихотворений Вознесенского. Он и его жена, профессор Сорбонны Ирен Сокологорская, очень много сделали для того, чтобы французы узнали поэзию Андрея Андреевича. И дело даже не только в Вознесенском. Этот круг французов, активно занимавшихся в те годы русской словесностью, — был ценнейший слой людей, внедрявших в европейскую культуру нашу литературу, начиная от классики XIX века до современности. Никогда никакая Франция не знала прежде и не узнала бы, кто такие Тендряков, Солоухин… Ну, может быть, чуть-чуть уже знали Солженицына. Это было время какого-то взаимного восхищения. Половину из наших французских друзей составляли коммунисты — но коммунисты тогда были самой прогрессивной частью интеллигенции во Франции. Это сейчас все кажется иначе. И если Арагон был коммунист, то его человеческие, эстетические ценности были разительно шире наших сегодняшних представлений о коммунистах, которые якобы несут миру одно зло. Тогдашняя Россия воспринималась частью Европы, и ни у кого по этому поводу не возникало никаких сомнений — во многом благодаря этому подвижническому и довольно массовому движению в сторону русской литературы, русской интеллигенции и не только интеллигенции. Эти люди, энтузиасты во многом, искренне искали диалога с нами, от поэзии до разговоров о смысле жизни и будущем человечества. Если про это забыть — никогда не понять ни того времени, ни тех людей.
* * *
В отношениях Брик, Триоле и Арагона с Вознесенским было слишком много сложных оттенков. «К Эльзе я относился трепетно, хоть она человечески и проигрывала по сравнению со своей кареглазой сестрой». Но куда интереснее был для Вознесенского Арагон. Ни ироничным взглядом на его «безумства», ни упреками в «сталинизме» интерес его не исчерпывался. Просто, пожалуй, именно с Парижа — не с Америки даже — понимание мира, ощущение себя в этом мире стало у Вознесенского бешено усложняться. В 1982 году поэт прилетит на похороны Луи Арагона: сюрреалист он или коммунист — а провожать его, несмотря на холодный октябрь, выйдет вся Франция. На трибуну поднимутся и лидер французской компартии Жорж Марше, и премьер-министр республики Моруа, и певица Жюльетт Греко. И Андрей Вознесенский. «Хоронили Арагона на площади, как и надо хоронить великих поэтов. Неважно, как называется эта парижская площадь, в этот утренний час она была площадью Арагона. Десять тысяч людских голов, десять тысяч судеб пришли поклониться поэту — кто из европейских писателей знавал такое?» К слову — уже после смерти самого Вознесенского, через тридцать лет после ухода Арагона, парижане назовут одну из площадей столицы именем Луи Арагона. Удивительные люди французы — поэта превозносили и освистывали, газета «Монд» в день похорон дала шапку: «Безумец века», но… Что отметит Вознесенский: «Но каждый француз, даже самый ругатель, просветлев, скажет, что Арагон — поэт нации, недосягаемый гений стихии слова».
Как ни крути, выходит, что поэт — это важнее сиюминутных корыстей, суеты современников. «Народ грехи прощает за стихи, грехи большие за стихи большие». Нам не дано узнать, какие именно грехи имел в виду Вознесенский, когда писал эти строки. Но под ними подписался бы любой футурист. Все, что он произносил в стихах, — было спроецировано на него самого. Конечно, он и сам, как Арагон, как и любой большой поэт, совсем не был безгрешен. Но вот поэт он был — большой.
Место не занимать
Судьба плеяды основателей сюрреализма чем-то схожа с судьбой шестидесятников: может, в этом есть закономерность жизни всех плеяд XX века? В 1924 году бывший дадаист Арагон с Андре Бретоном и Филиппом Супо основал движение сюрреалистов. Пройдет немного времени — и бывшие друзья станут, враждуя, выяснять, кто из них первый, кто второй. Их антибуржуазность уживалась со снобизмом, «они сочетали в себе одновременно вольнодумство и ханжество, — напишет Жан-Поль Креспель в книге „Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху“. — Они ходили в дырявых ботинках, но носили гетры, монокли и трости. Они не гнушались случайными связями — но верили в страстную, безумную любовь. Они презирали деньги, чтобы оставаться вне социальной иерархии, и в то же время разинув рот восторгались пышностью дома де Ноай (богатый дом маркизы-поэтессы Анны де Ноай в первой трети XX века был центром светского Парижа. — И. В.) и мчались на приемы… Не случайно вся история сюрреализма — это череда взаимных нападок, оскорблений, исключений, чудовищной подозрительности, вечной любви-ненависти друг к другу». Не странно ли — эти наблюдения о бывших сюрреалистах во многом совпадают с тем, чем позже попрекнут и плеяду шестидесятников.
В сущности, идеал манифеста о сюрреалистической революции был абсолютно схож с шестидесятническим поэтическим идеалом возврата к чистому, незамутненному Ленину, к истинной революции, утверждающей право на свободу во всем — от любви до поэзии. В этом было много чудачества, утопий и иллюзий — но они и враждуя сохраняли в себе этот мальчишечий задор до последних дней. Арагон часами мог читать вслух друзьям «Одиннадцать тысяч палок» — запредельное изложение всех необузданных фантазий Аполлинера. Бретон с порога встречал Вознесенского вопросом: «Что на что похоже — биде на гитару или гитара на биде?» («Я вежливо ответил: „Конечно, гитара на биде“. Похожий на волшебную жабу, мэтр театрально обнял меня и признал истинным поэтом, ибо связь метафоры идет от низшего к возвышенному»). Сартр с женой, Симоной де Бовуар, водили Вознесенского по злачным местам, открывая Париж с изнанки. Конечно, Вознесенский знал и эротический рассказ «Лоно Ирены» (буквальный перевод названия куда экстремальнее — но пощадим чувства читателя) — Арагон от него отрекался, хотя рукописи не оставляли сомнений в авторстве. Зато это и объясняет, почему танцовщика-трансвестита из кабаре, эту очевидную диковину для поэта, в стихотворении Вознесенского зовут именно Иреной: «Здесь кремы и пудры — / как кнопки от пульта. / Звезда кабаре, / современная ультра, / упарится парень (жмет туфелька, стерва!), / а дело есть дело, / и тело есть тело! / Ирена мозоль/ деловито потаскивает…»
Куда неожиданнее другое пересечение с той же «Иреной» — в женских портретах, выглядывающих из чувственных атмосфер авангарда двадцатых годов. Пересечение, по-видимому, совершенно непроизвольное: тем любопытнее, что совпало.
У страстного Арагона в Ирене было много всего — «и еще что-то, чего нельзя определить словами, таящее в себе какую-то неясную опасность, какая-то всепобеждающая чувственность с примесью пьянящей вульгарности… Она каталась в этих словах, как в поту. Обезумев, она вся истекает ими. Да, любовь Ирены — это нечто…».
У страстного Вознесенского так же много всего — в Лиле Юрьевне Брик: «Была ли она святой? Отнюдь! Дионисийка. Порой в ней поблескивала аномальная искра того, „что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья“. Именно за это и любил ее самоубийца. Их „амур труа“ стало мифом столетия».
«Язык замочной скважины прищелкнул совсем как человеческий язык». Мог ли Вознесенский после одной даже этой метафоры не любить в Арагоне поэта? «Я виделся с ним не раз, и в его седом палаццо на рю де Варенн, и на Монмартре, и в Москве, и в предутреннем кафе с алой певицей, и на поэтических вечерах. От частоты встреч он как-то приблизился. Между ним и вами вечно существовала дистанция, как стекло охраняло живописный шедевр».
Над кроватью Триоле с Арагоном висел «иконостас» из фотографий Маяковского, Асеева, Бурлюка и других футуристов. Там же, прямо над головой, шутейная табличка на русском: «Место не занимать». Прощаясь с Арагоном, та же «Монд» напечатала стихи Вознесенского:
Безумный аристократ, бескрайна твоя кровать. Прибит в головах плакат: «Место не занимать». И две твои пятерни, еще не соединены, впиваются в простыню, как в клавиши пианист. Какую музыку ты нащупал, прикрыв глаза? Свободно место твое. Свобода — место твое.Прощаясь с Арагоном, Вознесенский произнесет и печальный для мира, погружавшегося в пучину прагматизма, прогноз: «Стихийное безумство покидает нас. Это страшно. Мир погибнет без поэтического безумства».
Сюрреализмы в жизни самого Вознесенского, кажется, и случатся еще — во спасение безнадежного мира, больного нехваткой поэтических безумств.
* * *
Чем же закончился писательский вояж в Париж 1965-го? Антология советской поэзии, изданная усилиями Эльзы Триоле, шла нарасхват — и с авторами, прибывшими самолично к французским читателям, искали знакомства.
Как и ожидалось, торжественное выступление советских поэтов прошло невероятно успешно. Еще громче — отдельный вечер Вознесенского с Ахмадулиной.
Эльза Юрьевна отчего-то не скрывала своей неприязни к Белле. Даже во время выступления — несмотря на аплодисменты — перебивала ее. Потом, уже дома у Арагонов, Семен Кирсанов попытался сгладить неловкость, предложив Ахмадулиной прочитать ее посвящение Пастернаку. Но и это Триоле не одобрила: как стихи, так и Пастернака. Несколько смягчилась она лишь тогда, когда молодая гостья «похвалила ее перевод „Путешествия на край ночи“ Луи Селина, тогда мало известный».
Наконец, Триоле и Арагон пригласили Беллу с Андреем в зал «Олимпия» на концерт популярного певца Джонни Холидея. Предстоящий культпоход обсудили с коллегами. И тут Ахмадулина в очерке «Среди долины ровныя…» припоминает «экспансивную даму русского происхождения», постоянно мелькавшую рядом с ними и любившую тискать Твардовского, восклицая «Наш Трифоныч!» («от чего он страдальчески уклонялся»). Кто была эта дама? Видимо, Белла Ахатовна имела в виду Ольгу Андрееву-Карлайл, внучку Леонида Андреева. Как раз тогда, одновременно с приездом советских писателей, она открыла в парижской галерее Кати Грановой свою персональную выставку рисунков и живописи. Прежде она жила в Париже, теперь приехала уже из Америки.
Без лирического отступления не обойтись. Писатель Леонид Андреев балансировал между декадентством и реализмом, между «Баргамотом и Гараськой», «Жизнью человека» и «Иудой Искариотом». Умер в Финляндии через два года после революции, которую воспринял как национальную трагедию. Написал роман «Дневник Сатаны» — о торжестве зла в мире. Однако еще до 1917-го его оценил Горький, и, вспомнив ту давнюю «индульгенцию» от главного пролетарского писателя, в 1956 году власти разрешили перезахоронить Андреева на родине — место нашлось даже на Волковом кладбище в Ленинграде. Его стали наконец издавать, а внучке позволили приезжать.
Вознесенского познакомил с Ольгой еще Корней Чуковский, помнивший ее деда. Но встречалась она не только с автором «Мойдодыра», но и с автором «Одного дня Ивана Денисовича». Так что объясним был интерес ее к «Трифонычу», опубликовавшему повесть Солженицына. Как и ко всем, кто имел отношение к Александру Исаевичу: чуть позже, пару лет спустя, ее отец, Вадим Леонидович, поможет Солженицыну вывезти тайком на Запад рукопись «Архипелага ГУЛАГ». Андреева-Карлайл переводила на английский «В круге первом» и «Архипелаг», способствовала изданию произведений Солженицына. Правда, писатель останется ею недоволен и все это выльется в конфликт — об этом Ольга Вадимовна позже расскажет подробно Зое Богуславской, но это уже другая история… Здесь же нужно заметить: Вознесенскому Ольга (почти что его ровесница, на три года старше) совсем не казалась, как Ахмадулиной, «экспансивной дамой». У него она, напротив, «изысканная парижанка». Про нее стихи Вознесенского — «Олененок». «Плачу по-русски, смеюсь по-французски…». «Как несуразно в парижских альковах — / „Ольга“ — как мокрая ветка ольховая!»… Вслед за Триоде, издавшей сборник советских поэтов на французском, Андреева-Карлайл в 1968 году издаст в Америке первую серьезную антологию русской поэзии XX века — «Поэты на перекрестках».
Однако вернемся в Париж 1965-го. Ахмадулина вспомнила Ольгу Андрееву неспроста. Поэты поэтами, а женщины женщинами: неисповедимы закоулки их самолюбия. «Она объявила мне, — язвительно напишет Белла („Среди долины ровныя…“), — что появиться в театре „Олимпия“ без шубы — неприлично и позорно для нас и наших пригласителей. Обрядив меня в свое норковое манто и атласные перчатки, она строго напутствовала меня: „Не вздумай проговориться, что манто — не твое“».
Дальше — сцена в концертном зале: «С пронзительной женственностью оглядев меня, Эльза Юрьевна тут же спросила: „Это манто вы купили в Париже?“ — „Это не мое манто“, — простодушно ответила я, о чем, неодобрительным шепотом, было доложено Арагону».
В Москве Ахмадулина должна была передать небольшую посылку от сестры Лиле Юрьевне Брик. «Было очень холодно, и моя приятельница закутала меня в свой каракуль. „Это манто вы купили в Париже?“ — незамедлительно спросила Лиля Юрьевна. Ответ был тот же. Сразу зазвонил телефон из Парижа, и в возбужденной беседе сестер слово „манто“ было легко узнаваемо».
* * *
«Лили Брик на мосту лежит, / разутюженная машинами. / Под подошвами, под резинами, / как монетка, зрачок блестит!» «Маяковский в Париже» Вознесенского посвящен уличному художнику, изобразившему поэта с возлюбленной на парижском мосту. С этого стихотворения часто начинал свои выступления Андрей Андреевич.
Из Парижа он приезжал гудящим от замыслов.
Поэт Олег Чухонцев с улыбкой вспомнил, как когда-то расхаживали они со Слуцким и Вознесенским во дворе Союза писателей вокруг памятника Льву Толстому, обсуждая последние новости. «Андрей недавно вернулся из Парижа, был полон впечатлений… и, услышав мои восторги (по поводу опубликованных в журнале „Москва“ стихов Ходасевича из „Европейской ночи“), заявил весьма решительно: „Я напишу лучше“. Я только хмыкнул, а Слуцкий, действительно как дядька, мягко развел нас, переведя разговор на другую тему» (Знамя. 2012. № 1).
Лучше ли, хуже — но стихи Вознесенского о Маяковском в Париже врезались в память яркой метафорой:
Притаился закат внизу, полоснувши по небосводу красным следом от самолета, точно бритвою по лицу!Во мне как в спектре живут семь «я»
В Париже Вознесенский раздавал интервью направо и налево. Лиля Брик позвонила поэту Асееву и сообщила между прочим: «Коленька, у Андрюши такой успех, он в интервью о русской поэзии рассказывает, поэтов перечисляет…» Асеев интересуется, на каком же месте в этом перечне он. «А вас тут нет».
Напомним, что в 1962 году, когда критики распалились вокруг «Треугольной груши» донельзя, как раз Асеев выступил в «Литературке» со значительной статьей — «Как быть с Вознесенским?». Акценты он расставил весомо: «Андрей Вознесенский перешагнул рубеж „уменья“ писать стихи и одолел высоту „творенья“ стихов. Это уже взлет в стратосферу искусства…» Разумеется, звонок Лили Юрьевны не мог не задеть Асеева. Вознесенский попытался объясниться: мол, перечислил многих, французский журналист не всех упомянул. «Вы ведь визировали!» — вскрикнул Асеев. Но он и не визировал.
И в 1964-м, сразу вслед за скандальной историей с орущим Хрущевым, в «Правде» появится своевременный отклик Асеева, осудившего Вознесенского, «который знакомую поэтессу ставит рядом с Лермонтовым». Однажды он еще позвонил Вознесенскому — «но мама бросила трубку».
«Больше мы не виделись».
* * *
Шум вокруг «Треугольной груши» выплеснулся и за границу. Жан Поль Сартр, приехавший в Москву, вдруг пожелал съездить в старинную библиотеку имени Пушкина, что возле Елоховской (тогда — Бауманской) площади. На чтение-обсуждение новой книги поэта Вознесенского. «Выступавшая на обсуждении учительница, — расскажет позже Андрей Андреевич в эссе „Зуб разума“, — клеймила мои стихи за употребление никому не понятных слов — „акваланг“, „транзистор“, „стихарь“ и за неуважительность к генералиссимусу. Молодая аудитория снесла ее хохотом. Сартр наклонился ко мне и шепнул: „Вы, наверное, наняли ее для такой филиппики“».
Сартр вглядывался в лица студентов, «вытаращив глаза». Потом в интервью он признается, что это обсуждение потрясло его больше всего в Москве. Хотя он побывал и в Лужниках, где Ахмадулина, Вознесенский, Слуцкий выступали уже перед 14-тысячной аудиторией. В библиотеке он видел лица крупным планом — на стадионе поражал масштаб. «Наверное, поэзия — это то, во что обратилась молитва русского человека», — скажет Сартр. Что интересно — почти слово в слово ту же мысль произнесет и Артур Миллер. Происходящее не укладывалось в головах иностранных гостей: зачем эти тысячи собираются — слушать стихи? Словом, загадки русской души.
Сартр ездил по Москве с женой, Симоной де Бовуар («в плотно уложенных буклях»), и Еленой Зониной, уже упоминавшейся как «Л. Зонина». Настоящее ее имя, по паспорту, — Ленина. Она была переводчицей, секретарем Эренбурга, наконец, загадочной «m-me Z», которой Сартр посвятил одну из лучших своих книг — «Слова». Сартр встречался с ней, приезжая в СССР, ей разрешалось выезжать за рубеж раз в три года. Когда они познакомились, ей было за сорок, у нее росла дочь. Неопубликованная их переписка длилась десять лет — Зонину давно причислили к многочисленной «семье» Сартра. Особой премудрости в их семейных отношениях не было. Жан Поль, едва женившись, сразу заключил с Симоной «Манифест любви», по условиям которого они были вольны, как птицы, а «семья» их легко обрастала «родственниками» с обоих сторон. Строго говоря, Сартр не был в этом первооткрывателем. Примерно в те же тридцатые годы, когда Сартр с Симоной скрепили манифестом свой союз, советский физик Ландау, будущий нобелевский лауреат, заключил со своей возлюбленной Корой такой же «Брачный пакт о ненападении». Суть была та же — личная свобода, о границах которой не могли помыслить даже пролетарии всех стран.
Сартр и Симона завораживали многих. В Париже появились «экзистенциалистские кафе» с непременным черным потолком, усиливавшим в посетителях модное чувство «тоски», «абсурда» или «тошноты» (навеянные философской работой Сартра «Бытие и ничто» — с экзистенциальной концепцией человеческой жизни как абсурда, и его романом «Тошнота»). «В Сартре была жадность к ощущениям, — напишет Вознесенский в своем „Зубе разума“. — В Париже он показывал мне „Париж без оболочек“, водил в „Альказар“, на стриптиз юношей, превращенных в девиц. В антракте потащил за кулисы, где напудренные парни с пышными бюстами заигрывали с гостями. Пахло мужским спортивным потом. У Симоны дрожали ноздри… Я возил их в Коломенское, где зодчий применил принципы „скрыто-открытой красоты“. Великая колокольня до последней секунды заслонена силуэтом ворот и, неожиданно появляясь, ошеломляет вас. Этот же прием применен в японских храмах. Сам того не зная, Сартр перекликался с русской поэзией. „Поэзия — это когда выигрывает тот, кто проигрывает“, — не слышится ли за этими словами Сартра пастернаковское „и пораженья от победы ты сам не должен отличать“?»
Над миром витали образы сартровского понятия «ничто». Ничто есть сам человек. «Я», вынужденное каждое мгновение восстанавливать себя своим выбором. В книге «Бытие и ничто» Сартр объяснял это на примере картежника Достоевского: ничто — это переживания человека, который накануне твердо решил не играть, но теперь, когда ничто не мешает ему снова вступить в игру, прошлое решение не имеет значения, и ему опять, каждый новый миг, надо решать и убеждать себя заново.
У Томаса Стернза Элиота это превращается в непереводимый каламбур: poetry makes nothing happen. To ли «ничто осуществляется в поэзии», то ли «поэзия ничего не осуществляет». У группы «Битлз» в «Желтой подводной лодке» появляется из ниоткуда, исчезает в никуда человечек-ничто-и-нигде, Nowhere Man. У Вознесенского в стихах, посвященных Сартру, своя игра слов: здесь и напоминание о пикантной «семье» француза, и череда ежеминутно сменяющих друг друга «я» («ничто»):
Я — семья во мне как в спектре живут семь «я» невыносимых как семь зверей а самый синий свистит в свирель! А весной мне снится что я — восьмой!Читатели — напротив, без сартровской премудрости, чаще слышали в этих семи «я» нехитрое напоминание о здоровой, крепкой, счастливой и, как в кино, большой семье.
В «Париже без рифм», где «Париж скребут. Париж парадят», обнажая «мир без оболочек, порочных схем и стен барочных», у Вознесенского «дымился Сартр на сковородке».
А Сартр, наш милый Сартр, задумчив, как кузнечик кроткий… …………………………… Молчит кузнечик на листке с безумной мукой на лице.«„Ну какой же Сартр кузнечик? — удивился И. Г. Эренбург. — Кузнечик легкий, грациозный, а Сартр похож скорее на жабу“. — „Вы видели лицо кузнечика? Его лицо — точная копия сюрреалистического лица Сартра“, — защищался я. Через неделю, разглядев у Брема голову кузнечика, Илья Григорьевич сказал: „Вы правы“. А в страшный для нас Новый год после хрущевского разгона интеллигенции Эренбург прислал мне телеграмму: „Желаю Вам в новом году резвиться на лугу со всеми кузнечиками мира“», — вспоминал Вознесенский.
Встречи его с Сартром завершатся внезапно — «глупым разрывом». В 1964 году Сартр отказался от присужденной ему Нобелевской премии. За несколько лет до того Сартра обошел другой экзистенциалист, Альбер Камю — в своей нобелевской речи он восторгался Пастернаком. Теперь же Сартр обвинил Шведскую академию в политиканстве и «походя напал на Пастернака. Это вызвало ликование в стане наших ретроградов, до тех пор клеймивших Сартра». И на обеде в ЦДЛ Вознесенский запальчиво наговорил французу дерзостей: «Вы ничего не понимаете в наших делах. Зачем вы оскорбили Пастернака? Ведь все знают, что вы отказались от премии из-за Камю». Жест Сартра по отношению к премии был «антибуржуазным», но уж никак не конъюнктурным. Много лет спустя Андрей Андреевич покается: «Я был не прав в своей мальчишеской грубости».
Больше они с Сартром не общались.
* * *
Тогда же, в шестидесятых, Вознесенский встретился с кумиром юности. Кумира звали просто: Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Некоторые, впрочем, сокращают его имя до Пабло Пикассо.
Пикассо влетел в шестидесятые в одних шортах, с голым торсом, лысым на своей голубке, созданной единым взмахом еще к Московскому фестивалю молодежи и студентов. В Советском Союзе каждый знал, что он чудак — зато антифашист, и его «Герника» есть приговор нацизму. В самом конце 1960-х страна подхватила бессмысленную, но привязчивую песенку ВИА «Веселые ребята» про сон, после которого «остался у меня на память от тебя портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо». И кто бы спорил: страстные женщины Пикассо незабываемы — когда подрагивают в зябком голубом периоде, дробятся в битом зеркале кубизма или нарочито примитивны.
Сомнение у поклонников вызывало лишь то, как все же правильнее говорить: Пика́ссо или Пикассо́? Кухни раскалывались надвое, разгадка не укладывалась в головы: ну как же так, не может быть, чтобы и так, и этак было правильно. В этом была какая-то раздвоенность.
Вознесенский помнил его по фильму Анри Жоржа Клузо «Таинство Пикассо», привезенному в Москву сразу после Каннского фестиваля (спецприз жюри!). Художник прямо перед камерой создавал и уничтожал на стекле одну за другой 15 картин — замысел от первого эскиза усложнялся, насыщался цветом, переосмыслялся на глазах. Клузо загнал бешенство Пикассо в жесткие рамки, ограничив во времени. «Замирая, — вспоминал Вознесенский, — мы смотрели на экран, где полуголый мэтр фломастером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал ли я, сидя в темной аудитории, что через несколько лет буду читать свои стихи Пикассо, буду гостить в его мастерской, спать в его кровати и что напророчат мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей?»
— Жаклин, Жаклин, погляди, кто явился к нам! — завопил Пикассо в шутовском ужасе, вращая стрекозиными глазами. И, ерничая, добавил, поддевая гостя: — Ну-ка, включи ТВ. Наверное, его уже показывают. Смотри, какой он снег привез.
Жаклин Рок было 27 лет, когда она вышла замуж за 79-летнего Пикассо. Одна из прежних его возлюбленных повесилась, другая осталась в психиатрической клинике. Но возлюбленных у художника было много, и некоторые остались живы. Все-таки по Вознесенскому, «если следовать звездной классификации, Пикассо был „белой дырой“». Оптимистической и победоносной. «Классическими „черными дырами“ были Блок, Лермонтов, Шопен, „белыми“ — Шекспир и Эйзенштейн». Пикассо казался Вознесенскому «белой дырой», доведенной до абсолюта.
Первая их встреча в 1963-м началась под Первый концерт Чайковского, приближавшийся из-под дверей. Пикассо не давал опомниться гостю — тащил в подвал-мастерскую, оглушал вопросами, перебивал, просил прочитать «Гойю» по-русски и отзывался громким эхом: «Го-го-го!» «Бешеный колобок» — назвал поэт свое эссе о художнике. Пикассо жадно проглатывал все, не притормаживая ни на секунду. А как там слушали стихи в Париже? Странно, они же не умеют слушать стихи.
Что же касается Жаклин, она была смугла, «в упругом зеленом платье». Она была всюду, рядом носился гончий пес Кабул, и «в доме пахло любовью». И ночь в доме у Пикассо была непроглядно загадочна. «Вдруг вы видите, как пустые шлепанцы сами без ног скачками шмыгают в ванную. Под дверью загорается свет. Шумит вода». Что это было?
Пикассо скончался в воскресенье 8 апреля 1973 года: 91-летний художник работал до трех ночи, а утром не встал. Легенду о последних словах художника, произнесенных накануне во время застолья, поведал журналу «Тайм» адвокат Пикассо. Тогда же, в 1973-м, легенда стала песней Пола Маккартни в альбоме «Band On The Run» — «Последние слова Пикассо»: Drink То Me, Drink То My Health, You Know I Can’t Drink Any More (Выпейте за меня, выпейте за мое здоровье, вы знаете — я больше пить не могу).
Что же касается Жаклин… Вознесенский сообщит телеграфно: «Отношения с Жаклин сохранились. Я дважды приезжал погостить к ней в Антиб. Будто надеялся встретить там Пикассо… Она становилась все неадекватнее. Наркотики уже не спасали… Потом разнесла себе лицо выстрелом из пистолета». Это случится 15 октября 1986 года.
За несколько лет до того Вознесенский вспомнит о загадочных визитах к Пикассо в «Яблокопаде», зашифровав в этих стихах, кажется, всех своих муз. А в 2010-м, за несколько месяцев до смерти Андрея Андреевича, большая выставка Пикассо откроется в Москве, в Музее им. Пушкина. Тут, между прочим, уже автор «Ночи упаданья яблок», Белла Ахмадулина, промолвит подплывшему журналисту: «Надо иметь такую тупость, такую замкнутость головы и души, чтобы как-то специально отрекаться от влияния Пикассо».
Да, но позвольте: означают ли что-нибудь эти внезапные схождения падающих яблок — на фоне Пикассо? Или они случайны? Гадания на этот счет — чуть позже.
Завершим главу цитатой из воспоминаний поэтессы Татьяны Бек («Творчество — это отрочество»):
«Год, наверное, 1963-й… Мне (все повторяется) четырнадцать лет, и мы с одноклассниками ходим попеременно то в „гудящую раковину гиганта — ухо Политехнического“, то в гигантский зал Лужников… О, счастье, о, морок! На обратном пути Ахмадулина с Вознесенским, которые только что шаманили на просцениуме, поднимаются по кривым, по весенним ступенькам в троллейбус № 15, и мы все скопом едем до метро „Спортивная“. Можно исподтишка разглядеть поближе доброе, и странное, и некичливое лицо моего (о!) поэта. „Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот…“»
Глава третья ИТАЛЬЯНКА С МИНОЮ «ПОДУМАЕШЬ!»
Как наивен террорист-миллиардер
Неизвестный позвонил в парижский номер Вознесенского и приглушенным голосом сообщил, что прибывший синьор Фельтринелли хотел бы встретиться. Если, конечно, синьор Вознесенский не возражает.
В одно мгновение перед мысленным взором синьора Вознесенского пронеслись «торжествующие рожи номенклатуры», неминуемая расплата в Москве, — «этот мерзавец еще тайно встречался с самим Фельтринелли». Логичнее было отказаться. Он согласился.
За углом отеля ждал черный лимузин с занавешенными стеклами. Итальянец со «змеиной улыбкой», не уронив ни слова, распахнул перед поэтом дверь, и… Что готовил ему режиссер этого триллера? Машина рванула резко — куда?
Фельтринелли звали Джанджакомо — и вряд ли ему могло прийти в голову, что какой-нибудь русский читатель вдруг услышит в его итальянском имени непонятно откуда всплывшее созвучие с кочевым народом «джан». А это самое племя из повести «Джан» Андрея Платонова (джан у него, согласно туркменским поверьям, — душа, которая ищет счастья) будто специально для Фельтринелли и было создано! Этот народ «джан» терпеливо ждет у Платонова, когда Назар Чагатаев, герой с высшим инженерным образованием, начнет осуществлять всеобщее счастье жизни. Так ведь и Фельтринелли того всей силой страсти желал — всемирного счастья, без которого сердцу стыдно. Он ведь для того и в коммунисты пошел. Для того и от них, неповоротливых, рванул к «красным бригадам», радикалам, террористам, хоть к черту, — так не терпелось спасти всемирный «джан».
Правда, платоновский Чагатаев шел спасать свой народ «джан» совсем натощак. Джанджакомо мог обходиться без такой крайности. Он был миллиардером.
Но мы отвлеклись. Черный лимузин уже привез поэта Вознесенского куда-то… То ли на загородную виллу, то ли в конспиративную квартиру — он потом и не вспомнит. Голова шла кругом: первая поездка в Париж, ажиотаж вокруг его выступлений, посвященные ему полосы «Фигаро», «Франс суар», «Монд». Теперь еще — «шпионские страсти» с Фельтринелли… А вот и он, кстати. Входит стремительно, долговязый, слегка сутулится, как теннисист. Усы свисают, как гусеницы-землемеры. Серый костюм… Ой! А у них брюки одного фасона.
Весь Париж в брюках без манжетов — а у Фельтринелли с Вознесенским брюки с манжетами. Надо же. Заметили. Посмеялись. И… как-то быстро понравились друг другу. Чем? «Он азартно играл взрывателя мировых устоев, я играл кумира московских стадионов». В нем «решительность скрывала наив мальчишества», «авантюризм азарта». Так Андрей и сам такой.
Фельтринелли был тем самым издателем пастернаковского «Доктора Живаго», что по ночам, говорили, пробирается в Страну Советов тенью и пьет честную сладкую кровь из товарищей Хрущева, Суслова, Суркова и лично слесаря Сучатова. Нет-нет, сам Фельтринелли в этом никогда не признается! Он и товарища Пальмиро Тольятти уверял, что вся фантасмагория вокруг «Живаго» Пастернака и его Нобелевской премии необъяснима с точки зрения здравого смысла, простой человеческой логики и даже советских госинтересов. Конечно, бизнес есть бизнес, и старина Фельтринелли своей издательской выгоды не упустит, но записывать его, идейного борца с империалистической проказой, в «дирижеры мирового антисоветизма» — это идиотизм. Это из тех самых сказочных идиотизмов, которые никакими дивидендами не окупятся. Ни дивидендами Хрущева, срубившего Молотова — Кагановича. Ни дивидендами Брежнева, завалившего Хрущева. Ни прибытком кардинала Суслова, сковырнувшего идеолога Ильичева. Ни приварком писателей, топчущих друг друга ради мягкого места в искусстве. Ни даже премией слесаря Сучатова и экскаваторщика Васильцова (не читающих, но осуждающих).
Вознесенский вспоминал свои разговоры с Фельтринелли («Усы „Землемер“»): «О „Живаго“ он много не говорил. Только раз удивленно и брезгливо усы Джанджакомо поморщились, рассказав, как Сурков, „эта гиена в сиропе“, приезжал якобы от Пастернака и требовал от его имени остановить печатание. Подозревал ли он, романтично влюбленный в социализм, что „Доктор Живаго“ станет главной идейной пробоиной, от которой потонет Советская Империя? Под давлением Хрущева он перестал быть членом итальянской компартии, пошел левее, стал субсидировать европейский терроризм и „красные бригады“. Вот чем обернулись близорукие антилитературные интриги наших властей».
Да, но чего хотел Джанджакомо от Вознесенского? Издатель он смекалистый, не заметить парижский успех поэта не мог, так что сразу предложил Вознесенскому пожизненный контракт на мировые права. Опыта у Андрея не было никакого. «Советские законы запрещали прямые контакты с издателями. А тут денежный договор! Почти вербовка!» Однако молодое дарование решило не тушеваться — помня и перипетии Пастернака с этими договорами. Вознесенский согласился передать ему права, но только на издания в Италии. От предложенного гонорара чуть не поперхнулся, но запросил ровно в десять раз больше. Наличными. «О чеках я тогда и не подозревал, а счет в банке для советских властей звучал почти как „связь с ЦРУ“».
Фельтринелли вздохнул и согласился. Но за деньгами надо было ехать в Италию. Как? Советским гражданам полагалось обращаться в посольства за визой только через Москву, через Выездную комиссию. Вознесенский тут же отправился в итальянское консульство и через три дня был в Милане. Джанджакомо принимал его в своем палаццо на виа Андегари, рассказывал о своем богатом архиве революционной мысли с письмами Маркса и Бакунина. Делился идеей: вот бы организовать такой остров, где собирались бы на месяц-другой интеллектуалы со всего мира пообщаться, поспорить, позагорать. Вознесенский восхищался. Из десятка названий для книги, пишет он, Фельтринелли приглянулось «Скрибо коме амо» (пишу, как люблю).
Теперь перед Вознесенским стояла другая проблема. Через неделю кончалась выездная виза — возвращаться с деньгами было нельзя, значит, их надо потратить. Вознесенский решил: гулять так гулять. И стал транжирить деньги — все равно скорее всего в Европу больше не выпустят. «Я дарил знакомым шубы и драгоценности…» Потом, уже в Москве, Эренбург поделится с друзьями недоумением: непонятно, откуда у Вознесенского на обратном пути вдруг набралось так много багажа? Позже поэт признается: «Со стыдом вспоминаю купеческие безумства тех дней, когда я сжигал фельтринеллиевский гонорар». Не менее безумно было тогда и рассказывать всем о «приключении» с Фельтринелли. Впрочем, кому надо — и без того всё знали.
* * *
Зачитывался ли Вознесенский детективами, мы не знаем. Но историю своего знакомства с Джанджакомо Фельтринелли он описал почти в детективном жанре — окутав все густым туманом. Нашпиговал сюжет черными лимузинами и секретными перелетами из Парижа в Милан. Наверное, и это было. Однако о великой тайне переговоров поэта с издателем знали все прилетевшие с ним из поездки коллеги-писатели. Не стоит забывать и то, что эссе поэта (с описанием знакомства) — дело литературное: факты верны, а сюжет мог загулять сам по себе, сместив хронологию, стерев ненужные детали.
В 1962 году Вознесенский летал в Италию и вполне официально — с очередной делегацией. И вот, к примеру, Твардовский 19 марта того же года в своей итальянской записной книжке (опубликована в журнале «Вестник Европы», 2006, № 17) ревниво, хотя и резонно досадует: «Спрос на Евтушенку, Вознесенского, Казакова (интервью, портрет на страницу), Аксенова определяется исключительно нашей критикой этих авторов — браним, пугаемся, видим тут бог весть какую опасность — дай-подай. Вышел том Евтушенко, Вознесенского сватает Фортинелли (Твардовский исказил фамилию издателя случайно, а может, и нет. — И. В.), предлагает аванс…»
Твардовского скорее задевает то, что в нем самом за границей видят лишь «прогрессистского редактора», «автора речи на XXII съезде КПСС», — но отнюдь не автора знаменитого «Василия Теркина» и поэмы «За далью даль». Однако факт остается фактом: все знают, всех нервирует аванс Фельтринелли…
Возможно, это и объясняет — откуда в истории знакомства с Фельтринелли у Вознесенского столько тумана.
А впрочем, с Фельтринелли и в самом деле все было непросто.
* * *
Спустя несколько лет, в апреле 1971 года, в Гамбурге убьют боливийского консула Квинтанилью. На месте преступления найдут пистолет, зарегистрированный на имя Фельтринелли. Джанджакомо скажет: потерял давным-давно. Про этого Квинтанилью знали, что он выследил и зверски убил Че Гевару. Когда-то в Боливии он допрашивал и Фельтринелли, прилетевшего туда и тут же арестованного вместе с его боевой подругой Сибиллой Мелегой… К концу 1960-х Фельтринелли был возбужден «точными сведениями» о том, что «госпереворот готовят в Италии ЦРУ, НАТО и крупные промышленники», для чего в стране стали появляться боевые полуфашистские отряды. В ответ Джанджакомо приступил к созданию боевых групп партизанского действия, ГАП. Не исключено, кстати, что эти сведения Фельтринелли взял не совсем с потолка. Позже премьер-министр Андреотти расскажет, что у НАТО и впрямь имелся «план демократического возрождения» Италии (Stay Behind), предполагавший некоторую «дестабилизацию» ситуации, за которой последует неотвратимая помощь союзников извне. Но это действительно «кстати» — просто из нового века любопытно наблюдать, как по давешним лекалам все кроится в истории.
А 15 марта 1972 года под Миланом, в местечке Сеграте под мачтой линии электропередач нашли бородача с оторванной ногой. В бородаче опознали «Освальдо» — это была подпольная кличка миллиардера. Бомба с часовым механизмом взорвалась у издателя в руках, когда он пытался взорвать линию электропередач. Сообщника так и не нашли.
Вознесенский узнал о гибели Джанджакомо в Австралии. Тут же полетел в Италию, не дожидаясь визы. В самолете записал строчки: «Фельтринелли, гробанули Фельтринелли — / как наивен террорист-миллиардер! / Как загадочно усы его темнели, / словно гусеница-землемер…» Что заставило поэта вот так вдруг срочно бросить все и помчаться в Милан сломя голову? Наверное, и дружеские чувства. И ощущение шекспировского нерва всей трагической судьбы Джанджакомо.
В Милане будет кому встретить и помочь Вознесенскому со срочной визой. Да-да, мы ведь чуть не забыли рассказать про «ангела палаццо». В последние годы Джанджакомо был увлечен и революцией, и подругой Сибиллой. Но с женой он не разводился, у них рос сын, и после гибели мужа Инге Фельтринелли-Шёнталь приняла все дела процветающего издательства. Андрей вспоминал первую встречу с ней — еще в тот самый давний приезд в Милан — и будто легким перышком гусиным по бумаге выводилось само: «Инга тогда носила оранжевые одежды, шикарно скроенные из дешевых тканей. Как сумасшедший световой зайчик поставангарда, она озаряла дом. Ее энергетика электризовала интерьеры. Дверные ручки искрило при прикосновении к ней».
Итальянка с миною «Подумаешь!»… Черт нас познакомил или Бог? Шрамики у пальцев на подушечках, скользкие, как шелковый шнурок…* * *
Тут повествование должно бы завихриться, ибо читателя надо немедленно перенести за океан, где в апельсиновом пожаре сгорит нью-йоркская гостиница «Челси». Но всем известно, что служенье муз не терпит суеты, так что апельсины будут все-таки томиться на медленном огне до конца этой главы, когда и прояснится: какие апельсины? что за пожар? Пока же, по дороге к «Челси», Вознесенского ждут и битники, и знаменитый Артур Миллер.
Лежу бухой и эпохальный
Артур Миллер, по словам Соломона Волкова, недоуменно пожимал плечами: «Не понимаю, как власти это позволяют Андрею? Ведь в Советском Союзе запрещают и романы, и пьесы, и фильмы. Откуда такая либеральность по отношению к стихам?» И отвечал сам себе: «Наверное, это такая древняя русская традиция — поэт в роли шамана, прорицателя, к голосу которого надо прислушиваться?»
Эдуард Лимонов, молодой еще, не просто недоумевал — аж распирало его, но по другому поводу. В 1978 году на какой-то вечеринке, среди знаменитостей, встретился ему Андрей Вознесенский — за одним столом с Артуром Миллером, бывшим мужем Мерилин Монро! И Лимонов, постеснявшись (!) сидевшей рядом с Миллером новой жены, «темнолицей фотографши», не спросил того, что хотел и что казалось интереснее всего: «Какая она была, Мерилин? Руки, ноги, мягкая, твердая? Как стонала?» Потом ругал себя, а между строк у него будто читался упрек — тому же Вознесенскому, который был с Миллером на дружеской ноге: ну а он-то почему не спросил? Не может же быть, чтобы было неинтересно?
Во-первых, не факт, что не спрашивал — хотя письменных тому свидетельств и нет. Во-вторых, Миллер охотно говорил о Мерилин — когда, скажем, его расспрашивала Зоя, жена Вознесенского. Она, конечно, спрашивала о другом. Речь шла скорее о надломах, а не о порывах Мерилин, но от психологических ее травм раздумья вели Богуславскую к истории о том, как в детстве актрису изнасиловал отчим. В-третьих, жили шестидесятники на виду у всех и смело экспериментировали в сферах расширения интимных границ своих личностей, — но спасительная ирония, оттенявшая любой их пафос, не давала свалиться в банальную пошлость.
Наконец, что касается Миллера, стоит заметить: Андрей и Зоя нежно относились к Артуру и его жене Инге Морат, и это было взаимно. Может, как раз оттого, что были близки во взглядах на идиотское устройство мира. Детям середины века вдруг открылась беспощадная ясность будущего: человечество смертно. «Еще не финал, но возможность». Не каждый в отдельности, что понятно, а именно все человечество. Что будет, когда исчерпаются все земные ресурсы? Механический конец цивилизации. Ни памяти, ни апокалипсиса («он все-таки духовен»), ничего. Возможно, неспроста и то, что в середине века, рассуждал Вознесенский, «организм планеты как защитную реакцию выделяет духовную энергию — поэзию, музыку, как надежду и спасение».
В 1950-х Артур Миллер ощутил на себе «прелести» маккартизма: Америка охотилась за коммунистическими ведьмами. Голливуд, а следом и вся страна принялась составлять «черные списки» и стучать друг на друга. Среди активистов этого движения были и мультяшник Дисней, и глава Гильдии киноактеров, будущий президент Рональд Рейган. Происходящее вокруг аукнулось драмой Артура Миллера «Суровое испытание» — о судебном процессе XVII века над «салемскими ведьмами» в Массачусетсе. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности немедленно вызвала Миллера на допрос. Назвать имена коллег, сочувствовавших коммунистам, Артур отказался… После такого вот допроса из Америки сбежал навсегда Бертольт Брехт. В 1960-х шума вокруг Комиссии будет меньше (ее прикроют в 1975 году) — законопослушная страна приучилась свободно выражать свои мысли, просто не болтая всякое лишнее. В СССР давно умели свободно помалкивать, просто болтая всякое лишнее на кухнях. Так что Миллеру с Вознесенским всегда было что свободно обсудить. Между прочим, лишь для того, чтобы повидаться и поговорить с Андреем, однажды Артур и Инга шесть часов, меняясь за рулем, неслись из Нью-Йорка в Монреаль. Вознесенского не хотели выпускать из страны, лишь по приглашению премьер-министра Трюдо разрешили десятидневную поездку в Канаду. И Миллер с женой примчались туда просто «ободрить, узнать, как жив; узнать новости о стране, о друзьях. Такое не забывается».
При этом надо заметить: и для Миллера, и для Вознесенского наличие идиотов в их странах абсолютно не исключало естественного понятия любви к Родине. Вознесенский не отречется от этой своей любви и в дни совершенного отчаяния, и тогда, когда признаваться в этом чувстве станет вдруг для кого-то немодно и как-то стыдно. Так и Миллер: «Он многое объяснил мне в Америке. Когда меня пригласили в Белый дом, Артур несколько часов терпеливо растолковывал мне смысл власти: „Отцы нашей демократии, создатели Декларации были глубоко образованными людьми, блестяще знали латынь, римское право“». Миллер, как и многие из заграничных друзей Вознесенского, через много лет, когда развалится СССР, будет недоумевать: что за радость — плясать на обломках своей страны?
В конце шестидесятых Вознесенский побывал на бродвейской премьере миллеровской «Цены»: «Пьеса брала за кишки сюжетом. Женщина в Америке дистанционно заболевает от разгула погромов в Германии. Эта дистанционная совесть — alter ego Артура. Так же сквозь пространство он чувствует Россию, болеет ею через Чехова, через „Современник“, ставивший его вещи, через МХАТ. Не случайно ART-THEATRE — почти анаграмма его имени ARTHUR, а дочка Ребекка, живописец и сама кинорежиссер, играет чеховскую героиню».
Инга Морат сделала несколько фотоальбомов, в том числе вместе с мужем альбом «В России». Рядом с портретами Бродского, Аксенова, Корина, Н. Мандельштам, Вознесенского в книге был помещен и портрет министра культуры Фурцевой, на котором виднелись все ее морщинки. Ярость Фурцевой была столь сильна, что фотоальбом Инги был запрещен, пьесы Миллера убраны из всех репертуаров. Что произошло? Инга выдала государственную тайну!.. Миллер напишет предисловие к американскому изданию «Ностальгии по настоящему» Вознесенского. Когда в России наконец издадут мемуары Артура, предисловие к ним напишет Андрей.
В «Русском альбоме» Инга опубликовала давние письма Вознесенского. Письма как раз того времени, когда разгорелся скандал вокруг открытого письма поэта в газету «Правда» и его стихотворения «Стыд» (о нем мы поговорим отдельно). Ключевым упреком в адрес Вознесенского тогда было: «ЦРУ обожает вас!» Вот в те самые дни Андрей и писал Артуру Миллеру, его жене Инге Морат и их дочке Ребекке:
«Москва, 1967.
Дорогие, дорогие Инга, Артур и секси Ребекка!
Спасибо за ваши телеграммы и письма, за ваши попытки помочь — всем, всем спасибо. Не тревожьтесь за меня. Хотя мое положение не назвать блестящим — за меня не волнуйтесь. Мне кажется, мне слишком долго везло. И мне странно, что все это случилось только сейчас, а не гораздо раньше.
Странные они люди. Они не пустили меня поехать на выступление в Линкольн Центр и в Лондон, повсюду — даже в Болгарию… Но они не в силах не разрешить мне писать стихи, это уж поверьте!
Но довольно о них, fuck их всех!
Каковы ваши планы? С завтрашнего дня меня не будет в Москве до середины августа. Напишите мне ваше расписание, и я сразу приеду, если вы вдруг появитесь в Москве или в любом другом нашем городе. Так хочется вас видеть. Сердечный привет.
Андрей».
* * *
В 1965 году, едва познакомившись, Миллер настоятельно рекомендовал Вознесенскому в Нью-Йорке отель «Челси». Там Артур останавливался сам, и там же кучковалась «антибуржуазная» культурная элита. Выбор этого отеля был как выбор жизненной позиции: здесь ты, как в бункере у битников. Вон и Аллен Гинзберг здесь ошивается. Клёво!
«Наверное, это самый несуразный отель в мире, — вспоминал Вознесенский. — Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решетками галерей — даже, кажется, угольной гарью попахивает. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат… Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Лидер рок-группы „Секс пистоле“ здесь или зарезал, или был зарезан своей любовницей. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги… В лифте поднимаются к себе режиссеры подпольного кино, звезды протеста, бритый под ноль бакунинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси».
Время мало что изменило в «Челси». Пыли здесь — может, еще со времен, когда сюда ступила нога Вознесенского, что-то осталось. Мемориальные таблички у входа напоминают о выдающихся безумцах, выживавших здесь прежде.
Аллен Гинзберг — из числа тех безумцев, теперь уже признанный гуру американской культуры, выдающийся, значительный, культовый и прочая, прочая, прочая. За честь почитали сыграть с ним на одной сцене — и Боб Дилан, и Пол Маккартни. Писатель Курт Воннегут на похоронах Гинзберга воздаст ему: «В 1973 году мы вместе были приняты в члены Американского института искусств и литературы… Аллена номинально приняли как поэта, но на самом деле он стал всемирно известен благодаря своей чистоте и любви, которую он излучал весь, с головы до ног».
Ходили в друзьях у Аллена и русские поэты — и Евтушенко, и Соснора. В завещании Гинзберг специально выделил Вознесенского. Адвокат после смерти главного битника передал Андрею Андреевичу очки Аллена с розовыми стеклышками. Было в Гинзберге что-то раёшное, скоморошечье, безрассудное, как в давних Вознесенских «Мастерах» — ну, вспомним хотя бы это вот: «пей, гуляй, девкам юбки заголяй». Гм, ну ладно, пусть не девкам. Вознесенский относился к Гинзбергу — сошлемся еще раз на Соломона Волкова — «ласково, хотя и подсмеивался над его неистовой „голубизной“». В воспоминаниях Андрея Андреевича изрядное число страниц отводится Аллену — и неспроста.
Неистовость Гинзберга и правда была чаще всего настолько бескомпромиссной — и в творчестве, и в чем-то житейском — что воспринимать его бывало непросто. Кому-то помогала снисходительность, кому-то ирония. Скажем, выступая со своей поэмой «Америка», Аллен непременно сообщал, что это — его реквием по умершей матери-коммунистке, пострадавшей от кровавого маккартистского режима (хотя это маловероятно — в те годы Наоми Гинзберг уже была безнадежно психически больна). Скорбный текст, бывало, озадачивал непродвинутых слушателей. К примеру, образом «длинной черной бороды вокруг вагины». Отец Гинзберга был в шоке, но сын не вычеркнул ни слова: «Что же тут стыдного — это всего лишь архетип, всплывающий в сознании ребенка, когда он видит обнаженными родителей».
Озадачивал Гинзберг, тогда еще не признанный классиком, не только своего отца — но и многих коллег, не склонных к эпатажу такого рода. Да, американцев могла смутить и манера чтения Вознесенского. Здешние поэты, как правило, читали стихи занудно и монотонно. Вознесенский, изящный и тихий, на сцене вдруг преображался, голос, руки — все вдруг взлетало, ходило ходуном, рубило, прорезало воздух. Ошарашенная публика сдавалась без сопротивления. И сам по себе феномен этот был любопытен американцам.
Случай же с Гинзбергом иной — он нарушал каноны приличий, всех без разбору, и делал это осознанно — ибо ничто не должно мешать его личной свободе. А этот феномен был любопытен молодым советским поэтам, мечтавшим улизнуть от партконтроля. И одни, и вторые открывали что-то новое для себя. И Вознесенский лихо закручивал в «Нью-Йоркских значках»: «Обожаю Гринвич Виллидж / в саркастических значках! / Это кто мохнатый вылез, / как мошна в ночных очках? / Это Ален, Ален, Ален! / Над смертельным карнавалом, / Ален, выскочи в исподнем! / Бог — ирония сегодня».
Хулиганы? Хулиганы. Лучше сунуть пальцы в рот, чем закиснуть куликами буржуазовых болот!А вот что Вознесенский вспоминал про себя, Америку и Гинзберга:
«Первый мой вечер за океаном состоялся в Нью-Йорке в „Таун-холле“. Это вообще был первый вечер русского поэта в американском театре, как таким же первым был вечер в парижском „Вье Коломбье“, таким же первым был вечер на Томском стадионе и в рижских Лужниках. Это никакой не плюс и не минус, просто так случилось — кому-то суждено начинать…
Председательствовал Роберт Лоуэлл. Переводы читали Оден, Кьюниц, Билл Смит… Они сидели на сцене. В зале я заметил поблескивающие очечки Аллена Гинсберга (поэт предпочитал писать его фамилию через „с“. — И. В.).
— Аллен, вали сюда на сцену, — пригласил я по беспардонной московской привычке. Заминка. Поэты на сцене посовещались, как хоккеисты, и выслали ко мне делегата.
— Андрей, если он вылезет на сцену, тогда мы все уйдем.
— Ну, что же, если его не пустят на сцену — я уйду. Я же его уже пригласил.
Ситуацию спас Аллен. Он подошел к сцене, по-буддийски сложил ладони, поклонился, поблагодарил.
— Из зала лучше тебя слушать — не со спины.
И, усмехнувшись, сел на место.
Я был потрясен. Неужели и у них так же, как у нас, ревность и противостояние? Но увы, если б это только касалось противоречий между университетской и битнической поэзией.
Полуграмотные охранители, и туземные, и наши, эпатированные непереводимыми терминами „fuck“ и „shit“, введенными поэтом в тексты, не хотят замечать, как в глубинах гинсбергского бунтарского сленгового, сильно ритмизированного духовного стиха просвечивает классическая культура У. Блейка, его Бога, Э. А. По, Эзры Паунда… Сейчас, когда он носит смокинг (правда, как он оправдывается, купленный по скидке), за ним стоят стихия нынешней речи, современность. Из русской поэзии он знает не только Мандельштама, но и Клюева. (Правда, большинство битников интересуются лишь загадкой отношений Клюева и Есенина)…»
Откуда взялось слово «битник»? Имя движению дала фраза Керуака: «This is a beat generation» («Это — разбитое поколение»). Хотя Керуак, автор книги «В дороге», говорят, имел в виду не «разбитость», а нечто близкое «beautitude» — блаженству. И не надо путать «beatnik» и «beat» — это совсем разные вещи! Гинзберг уверял, что слово «битник» появилось впервые в колонке сплетен San Francisco Chronicle в апреле 1958 года: журналист Херб Кейн написал, что «битник» — это как «спутник», так же «за пределами этого мира». Керуак, впрочем, предпочитал слово «хипстер», происходившее от «hip» (ляжка). А что касается «истоков» битничества, Гинзберг, помимо Уолта Уитмена, Эзры Паунда, Уильяма Карлоса Уильямса и французских сюрреалистов, поминал добрым словом и «старую традицию русского авангарда — Есенина, Маяковского». Да, и еще он начитался Достоевского и любил представлять себя князем Мышкиным.
Гинзберг сочинял мантры: в 1966 году — для магического прекращения вьетнамской войны, через три года — для изгнания духов из Пентагона. Менять мир думал психоделически. Вот отчего в новом веке, много лет спустя, станет всюду шамански читать его «Сутру подсолнуха» небезызвестный Натан Дубовицкий, автор книги «Околоноля»? А, видно, оттого что духи разные никак недоизгонятся.
Вознесенского привлекала в Аллене еще и человеческая отзывчивость, готовность помочь, кому трудно. Виктора Соснору, прилетевшего на операцию к здешним глазникам, приютил Гинзберг. «Помню, в Лондоне, — вспоминал Вознесенский, — во время знаменитого чтения в „Альберт-холле“, первого мирового съезда поэтов, советский посол запретил мне читать стихи. Тогда Аллен читал мои стихи вместо меня. А я молча сидел на сцене. В другой раз, когда меня уж очень дома прижали, он пошел пикетировать советскую миссию ООН в Нью-Йорке с плакатом: „Дайте выездную визу Вознесенскому“».
К концу жизни (Аллен Гинзберг скончался 5 апреля 1997 года), когда мир вдруг перевернулся и стал непохож на тот, прежний, нотки растерянности промелькнут и в словах этого психа и бунтаря: «Мы были заинтересованы в изменении культуры, а не в воздействии на политику, надеясь, что за культурными переменами последуют политические. Может, это было ошибкой, потому что нынешняя Америка во многом хуже, чем когда-либо».
Вместе с Вознесенским Гинзберг выступал по всему миру, помимо американских городов, в Мельбурне, Париже, Берлине, Сеуле, Риме, Амстердаме… Последний совместный вечер в Нью-Йорке они провели в 1990-х в пользу пакистанских беженцев. Аллен пел «Джессорскую дорогу». Вознесенский перевел ее. «Горе прет по Джессорской дороге, / испражненьями отороченной. / Миллионы младенцев в корчах, / миллионы без хлебной корочки… / А в красивом моем Нью-Йорке, / как сочельниковская елка, / миллионы колбас в витринах, / перламутровые осетрины…» Тогда, в девяностых, Вознесенский запишет, как крик души: «Боже мой, неужели это написано не сегодня и не о нашей стране?»
В Москве устроить его вечер не удавалось. Времена менялись, но Вознесенский не находил нового объяснения, — как прежде российские ретрограды всегда были солидарны с американскими в отношении политики и слова «fuck». Гинзберг картинно падал на могилу Маяковского, но это никого не впечатляло. Когда российский ПЕН-клуб наконец добыл средства и договорился о его вечере в Москве, пришла весть о смерти Гинзберга. Андрею Андреевичу, вместо того чтобы встречать друга в аэропорту, пришлось писать реквием по Аллену.
Не выдерживает печень. Время — изверг. Расстаемся, брат мой певчий, амен, Гинсберг.* * *
Однажды Гинзберг рассказал в «Пари ревю» о том, как в первые дни знакомства накормил Вознесенского неким аналогом ЛСД. Тот не подозревал, чем дело обернется: «молодой был, все хотелось познать». Вдруг откроется нечто? Открылось, что без помощи врачей не обойтись.
Вознесенский, кажется, как вспомнит про это, так вздрогнет, потому пишет сдержанно: «Двое суток я находился в состоянии „хай“, но воспроизвести видения оказалось невозможным. Вывел меня из этого состояния лишь поэтический вечер, на котором в виде эксперимента меня заставили читать. Микрофон мне совали в пасть, как грушу медицинского зонда. Врачи, обследовавшие меня после, констатировали, что рефлекс чтения оказался сильнее химического гипноза. Это меня вывело».
Однако урок был небесполезен. Поэт со знанием дела мог заверить всех: «Увы, никому не удалось создать сильного художественного произведения под действием ЛСД, например. Все вещи, вызывающие восторг у подколотого творца во время создания, при беспощадном свете дня оказывались слабыми».
Придя в себя, Вознесенский написал свой «Монолог битника» — как манифест: «Лежу бухой и эпохальный. / Постигаю Мичиган. / <…> Политика? К чему валандаться? / Цивилизация душна».
Мы — битники. Среди хулы мы — как звереныши, волчата. Скандалы, точно кандалы, За нами с лязгом волочатся. Когда магнитофоны ржут, с опухшим носом скомороха, Вы думали — я шут? Я — суд! Я — Страшный суд. Молись, эпоха!Аукнутся Вознесенскому эти битники, и очень скоро. Но есть еще одна любопытная подробность тех дней. Возможно, как раз тот самый психоделический опыт поэта и вдохновил одну из обитательниц отеля «Челси» на экстравагантную идею. Ширли Кларк, только что (в 1962 году) выступившая инициатором свободолюбивого манифеста «Нового американского кино», загорелась немедленно снять фильм о Вознесенском и… Тимоти Лири.
Про Лири как раз известно, что его зашифровали «Битлз» в своей знаменитой «Come Together» (то ли «пойдем», то ли «торкнемся» вместе). Снимать Вознесенского рядом с этим «гуру ЛСД» было, прямо скажем, как-то чересчур. Но Ширли была увлечена — этот русский поэт такой чудной и такой милый!
Художница Джойс Виланд, помогавшая тогда Ширли, рассказывала потом (в книге Айрис Ноуэлл «Джойс Виланд: жизнь в искусстве», изданной в Торонто в 2001 году): два дня проторчали у дома Лири в ожидании Андрея, тот не появился; что-то пытались снять в «Челси», а кончилось тем, что на вечере в Village Theater, том самом, где Вознесенский выступал вместе с ведущими американскими поэтами, — он вылил воду прямо в их камеру…
Терпение Ширли лопнуло, фильм не случился. Может быть, к слову, и жаль: в сердцах Ширли Кларк отправилась тогда снимать 20-минутный фильм «Роберт Фрост: Полюбовный спор с миром» — и этот ее фильм в 1964 году победил на фестивале в Сан-Франциско и получил премию «Оскар».
* * *
Несколько отвлечемся. Во избежание кривотолков не будем стыдливо обходить общеизвестный факт: Аллен Гинзберг был человеком не вполне традиционной ориентации. По словам Соломона Волкова, Вознесенский над «голубизной» того посмеивался, считая это его личным делом.
Сам же Вознесенский вспоминал эпизод, когда Гинзберг, будучи в Москве, посетил Театр на Таганке и привел там в бешенство композитора Таривердиева своими странными, скажем так, прикосновениями. Потом, когда Вознесенский стал пытать Аллена: зачем, мол, ты выкидывал такие фортели? — тот смотрел непонимающе. Не помнил ничего — из-за наркотиков.
Известна и еще одна красноречивая история из тех неполиткорректных времен. Рассказал ее поэт Петр Вегин поэтессе Ладе Одинцовой (которую в шестидесятых принимали в Союз писателей по рекомендации Вознесенского) — а она пересказала эту историю в своей книге «Писательство как миссия» (Прага: Art-Impuls, 2010):
«…Якобы вошел вместе с Вознесенским в лифт сопляк лет восемнадцати, изловчился и, улучив удобный момент, почти незаметно прикоснулся к его ягодице. Но молодежный Кумир все-таки ощутил нежное прикосновение, взбесился и начал тузить сопляка в лифте, словно парнишка тот был футбольным мячом. Когда лифт опустился вниз, Вознесенский схватил сопляка за шиворот, вышвырнул из лифта вон и в гневе спросил:
— Ну, что, пидар, понял ли, как полагается вести себя с порядочным человеком?
— Да я не пидар вовсе, — заголосил сопляк, — я карманник!
Вознесенский хлопнул себя по заднему карману, обнаружил полувытащенный кошелек, засунул обратно и с облегченным вздохом вымолвил:
— Ну, тогда прости, я ошибся».
Вот ведь смешные были времена: лучше признаться, что ты вор, — только бы, прости господи, не приняли сами знаете за кого. Не то что нынешнее племя. А впрочем, мы и впрямь отвлеклись.
* * *
Аллен Гинзберг организовал первый фестиваль хиппи. В 1965-м в городке Селма разогнали с пальбой демонстрантов, требовавших равных избирательных прав чернокожим, были убитые. Селма — знаковое место для битников: здесь Керуак когда-то встретил девушку, которая стала мексиканкой Терри в его книге «В дороге». В 1967-м, в разгар войны во Вьетнаме, мирная армия хиппи оглушала Пентагон шаманским «Ом-м-м» вперемешку с лозунгом Make love, not war! — «Займитесь любовью, а не войной!».
Позже этот лозунг споет Леннон в песне «Mind Games»: «I want you to make love, not war, I know you’ve heard it before». У Вознесенского это прозвучит даже раньше, чем у Леннона, в шестьдесят пятом, в «Нью-йоркских значках».
Ну чертовски же хотелось любви.
Это Селма, Селма, Селма агитирующей шельмой подмигнула и — во двор: «Мэйк лав, нот уор!»Апельсины, апельсины
Какой он на вкус, апельсин? Вознесенский помнил Курган, эвакуацию, дом, где жили они с мамой и сестрой, паровозные гудки, соседку Мурку с ее ухажером из летного городка. И дольку апельсина, которой поделилась когда-то Мурка.
Апельсин был существом несбыточным, в нем сразу все — вкус, запах, цвет — могло свести с ума. У какого советского жителя ни спроси, нашлась бы в шестидесятые годы своя чудесная история о сошествии апельсина на землю. «Евдощук снял тулуп, потом расстегнул ватник, и мы заметили, что у него под рубашкой с правой стороны вроде бы женская грудь. Мы раскрыли рты, а он запустил руку за пазуху и вынул апельсин. Это был большой, огромный апельсин, величиной с приличную детскую голову. Он был бугрист, оранжев и словно светился. Евдощук поднял его над головой и поддерживал снизу кончиками пальцев, и он висел прямо под горбылем нашей палатки, как солнце». Этот Евдощук — из повести «Апельсины из Марокко». Василий Аксенов написал ее в том самом шестьдесят втором году, когда Вознесенский «нелегально» рванул из Парижа в Рим к Джанджакомо Фельтринелли, когда встретился там с Инге Фельтринелли-Шенталь — и она была вся в чем-то оранжевом, как апельсин.
Какая между всеми этими событиями связь? Да что толку гадать — все равно дальше сюжет перескакивает в Нью-Йорк, в тот самый «Челси»… И Вознесенский рассказывает свою головокружительную историю про апельсины. Кто она, героиня этого его рассказа? Разгадывали по-всякому. Кого только не называли. А всё не то. Поэт слегка запутывал следы: многие музы узнают себя в одних и тех же стихотворных образах. Но в этой истории реальная героиня была. Пересказывать «Апельсины, апельсины…» нелепо — теряется и вкус, и цвет. Вот несколько фрагментов, дающих представление о том происшествии в «Челси»:
«Обитатели отеля помнили мою историю. Для них это была история поэта, его мгновенной славы. Он приехал из медвежьей снежной страны, разоренной войной и строительством социализма.
<…> Известный драматург, уехав на месяц, поселил его в своем трехкомнатном номере в „Челси“. Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.
Началась мода на него. <…> У него кружилась голова.
Эта европейка была одним из доказательств его головокружения. <…> Это был небесный роман.
Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. <…> Ее черная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно щурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. <…> Ей шел оранжевый. Он звал ее подпольной кличкой Апельсин.
<…> В тот день он получил первый аванс за книгу. „Прибарахлюсь, — тоскливо думал он, возвращаясь в отель. — Куплю тачку. Домой гостинцев привезу“.
В отеле его ждала телеграмма: „Прилетаю ночью тчк апельсин“. У него бешено заколотилось сердце. Он лег на диван, дремал. Потом пошел во фруктовую лавку, которых много вокруг „Челси“. <…>
— Мне надо с собой апельсинов.
— Сколько? — презрительно промычал буйвол.
— Четыре тыщи.
<…> В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашел еще в две. Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы „Челси“, вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.
Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в черном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.
Он открыл ей со спутанной прической, в расстегнутой, полузаправленной рубахе. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. <…> У него кто-то есть!
<…> Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась. Она остолбенела. <…> Пол горел у нее под ногами. Она решила, что рехнулась. Она поплыла.
Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. <…> Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чертовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал свечи <…>.
Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза — и под тобой поплывет пылающий твой единственный неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую ванную, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим.
<…> Он едва успел подхватить ее.
— Клинический тип, — успела сказать она. — Что ты творишь! Обожаю тебя…
Через пару дней невозмутимые рабочие перестилали войлок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кандинского, беспечные обитатели „Челси“ уплетали оставшиеся апельсины, а Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к обычаям других народов: „Русский дизайн“».
Из разговора с Инге Фельтринелли (Московский «Метрополь», май, 2013)
На Инге оранжевый пиджак. Ей восемьдесят три, она приветлива и элегантна. Она расспрашивает, как найти на Новодевичьем кладбище могилу Андрея Вознесенского. В тот же день действительно поехала, нашла.
А пока — показывает пачку привезенных фотографий, на которых она, Вознесенский, знакомые и друзья. «Вот это Андрей в моем доме в Милане. Вот мой сын Карло, ему тут лет двадцать. Это Аллен Гинзберг. А это Лоуренс Ферлингетти, создавший City Books — большой книжный магазин поколения „битников“ в Сан-Франциско. Он был первым издателем Гинзберга… Ага, а вот Эдуардо Сангвинетти, блистательный поэт, Андрей его очень любил. Эдуардо был замечательным переводчиком с греческого. Его приглашали на фестивали поэзии в Роттердам, Стокгольм, по всему миру… Это мы или в Риме, или в Нью-Йорке… Посмотрите еще — Андрей с Фернандой Пивано, подругой Хемингуэя, переводчицей Гинзберга…»
«ЧЕЛСИ». «Ну, конечно, я помню, как приехала в отель „Челси“ — и весь пол ковром устилали апельсины. Как в сказке… Только русский поэт мог устроить такое безумство… Ну, вы же понимаете, я просто дружила с Андреем, как с поэтом… Что же касается апельсинов — в те времена в СССР с ними была напряженка, они казались роскошью, тем более зимой. А в Нью-Йорк их везут из Флориды, их там полно, как в России яблок… Нет, все-таки Андрей был человеком уникальным…»
МУЖСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. «У меня вообще нет особой философии на этот счет. Всегда всё по-разному. Но в мужчине, конечно, всегда прежде всего идет ум, интеллект. Голова, а все остальное потом».
ВСТРЕЧИ. «Дружба с Андреем оказалась длиною в жизнь. Начиная с 1962 года в Милане. Потом в Москве он познакомил меня с Лили Брик — она была очень стара, но оставалась фантастической. У меня сохранилась подаренная ею керамическая масленка. Общались с женой Константина Симонова — Ларисой Садовой, с Майей Плисецкой и Родионом Щедриным. И с Евтушенко тоже, — мы же издали тогда в Италии „Антологию молодых советских поэтов“. Они были такими революционными в шестидесятых…
В Москве мы с Андреем увиделись в последний раз в 1990 году, когда меня пригласили на празднование столетия Пастернака. Мы прилетели вместе с Артуром Миллером и его женой Ингой Морат, моей близкой подругой и замечательным фотографом. По пути на торжественный вечер в Большом театре встретили вдруг Адама Михника, писателя, главного редактора польской „Газеты Выборчей“ — тот потерял приглашение. Тогда я взяла его под руку, строго посмотрела на охранников у входа и сказала: „Пропустите, это мой жених“. И нас пропустили. Тогда мы все вместе общались с Андреем.
Еще раз я встретила его с женой Зоей на книжной ярмарке в Париже в 2005 году, он уже был очень болен. Раньше ведь Андрей очень любил Париж и часто приезжал, у него там было много друзей. И его там любили. Хотя где только его не любили, и в Италии, и в Испании, и в Америке. Он ведь был для мира таким обаятельным „лицом России“».
РАЗГОВОРЫ. «Пастернак и его „Доктор Живаго“ изменили в мире многие представления об СССР. Но что больше всего потрясло в том скандале меня — любому Кеннеди или Рузвельту было по большому счету плевать, что там пишут в книжках, книжки ничего не решают. А в Советском Союзе правительство искренне опасалось книги. Понимаете, неважно, Пастернак это или кто-то другой, книга сама по себе имела огромное значение, на умы влияла!
Андрей искренне хотел изменить свою страну, сделать менее консервативной, хотел, чтобы изменилась партия, культурная политика, чтобы могло свободно существовать новое искусство. Наконец, чтобы узнали о „бит“-поколении, Аллене Гинзберге. Он искренне верил, что все это в принципе возможно. Хотя марихуану Андрей не курил. Он вообще не курил».
УТОПИЯ. «Почему сегодня миру так не хватает таких ярких личностей, как Андрей? Не только поэзии — миру вообще.
Вот после войны, когда в Италии возникла компартия, она была символом интеллектуального сопротивления фашизму, она дарила мечту. Это и сейчас самая крупная на Западе компартия, только мечты не осталось. В шестидесятых многие интеллектуалы, как и мой муж Джанджакомо, оставили партию, потому что были более левыми, мечтали о культурном возрождении Италии.
Время вообще было очень запутанным и насыщенным. Столько дружб завязывалось, столько было открытий, моей библией был „Второй пол“ Симоны де Бовуар. Но я и сейчас не изменилась. Я все та же. Левая, свободная и либеральная. Не верю в догмы и партии.
Теперь мир резко ушел вправо, к обществу сплошного потребления. Упрекать в этом героев шестидесятых годов нелепо: теперешний мир — прямая противоположность тому, о котором тогда мечтали. Все партии, включая ту же компартию, стали очень прагматичными. Идеи обесценились, все свелось к одним деньгам.
С распадом Советского Союза и объединением Германии мир расстался с надеждой, что коммунизм поможет изменить мир. Но жить одним потреблением — это тоже путь в никуда. Молодежи необходима мечта, утопия. Звучит, конечно, пафосно, но миру явно нужны новые харизматичные личности. Такие, как Андрей Вознесенский в шестидесятые годы. По крайней мере, в западном мире сейчас их нет…»
* * *
В семидесятых годах история с апельсинами у Вознесенского сплелась в стихи. Назывались они так же — «Апельсины, апельсины…». «Самого его на бомбе подорвали — / вечный мальчик, террорист, миллионер… / Как доверчиво усы его свисали, / точно гусеница-землемер!»…
В 2005-м, вручая Пастернаковскую премию сыну Инге, Карло Фельтринелли, написавшему книгу об отце, Вознесенский прочтет «Виртуальное вручение»: «Я вручаю Пастернаковскую премию / мертвому собрату своему, / Бог нас ввел в одно стихотворение, / женщину любили мы — одну…»
Как поэт с чудовищною мукой, никакой не красный бригадир, он мою протянутую руку каменной десницей прихватил. Он стоит, вдев фонари как запонки, олигарх, поэт, бойскаут, шалопай. Говорю ему: «Прости, Джан Джакомо!» Умоляю: «Только не прощай!» Разоржаться мировой жеребщине, не поняв понятье «апельсин»! Тайный смысл аппассионатной женщины, тая, отлетит, необъясним…* * *
Год 1962-й, Париж. Вознесенский лихорадочно транжирит тайный гонорар, полученный от Джанджакомо Фельтринелли.
«Эренбург, боясь прослушки телефона, вывел меня из отеля на улицу: „Что вы, с ума сошли? Ведь вам придется возвращаться! Вы знаете, что в Москве вам готовится?!“ Меня вусмерть поили. Уезжая из отеля, я забыл в беспамятстве работу Пикассо, подаренную им мне. Я вспомнил о ней в самолете.
В Москве мне было не до Пикассо.
Расплата потрясала надо мной кулаками сбесившегося Хрущева.
Читал ли вождь в моем досье о преступных отношениях с Фельтринелли? Не знаю. В погромных статьях это не упоминалось. Может быть, именно потому, что это могло быть одной из главных причин. Хотя кто их поймет?»
Глава четвертая ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ ФОРТЕПЬЯНО!
Мы посылаем их на Хуциева
Слякоть была, вот что. Снежные лужи. И 6, и 7 марта. Василий Аксенов вот запомнил, что носки выше башмаков промокли напрочь. Снег все валил и таял, таял и валил, так что дошлепать до Хрущева в Кремль с сухими носками было совсем никак. Циклон. На головах тоже — шапки кисли и плыли. У Андрюши, между прочим, ондатровая (да и папа профессор!), а молодежь шла все больше в кроликах сереньких. Вот подметил же это писатель, хотя снег, конечно, перед глазами чиркал и рябил.
Через пару часов в голубом Свердловском купольном зале Кремля лично глава партии и правительства Никита Сергеевич Хрущев вдруг злобно прокричит поэту Вознесенскому с тоненькой шейкой: «Сколько вам лет, сколько?!» Молоко, мол, на губах не обсохло. С чего, к чему? Ситуация казалась нелепой и почти что необъяснимой.
Но теперь-то, узнав от Аксенова про Андрюшину ондатру, можно смело утверждать, что дело было в шапке. Вспомните секретную классификацию писателей, открытую Войновичем: выдающимся полагались пыжиковые, значительным — ондатровые, пожиже — из сурка, кролика и прочей живности. Теперь понятно? Хрущев, конечно же, орал неспроста. Андрюша был поэт начинающий, ондатра на его голове не соответствовала выслуге лет. Старшие поэты за эту ондатру годами пристраивались к штыку, строчечка к строчечке, — а он р-раз, и нате вам. Обидно это старшим. Вот она, тлетворная ондатра диверсии, ползучая ондатра разорванных поколений! Еще немного — и сопляки-поэты на святое покусятся, на пыжики! Как старику Хрущеву было не разволноваться.
В том, что случится 6–7 марта 1963 года на встрече Хрущева с творческой интеллигенцией, настолько мало здравого смысла, что даже безумная шапка сошла бы за разумное объяснение. Но оставим эти курьезы и поспешим за Вознесенским — он уже успел добраться до самых Спасских ворот.
* * *
Собрание намечалось большое, серьезное: 600 приглашенных. Родители Андрея радовались и гордились: сына впервые пригласили на солидное мероприятие государственной значимости прямо в Кремль. Отец настаивал на калошах, сын сдался, на зависть Аксенову с его мокрыми носками.
Собственно, чего ждал Вознесенский от этой встречи с Хрущевым? Ну, если поверить еще раз Аксенову, у поэта в голове были одни метафоры и мысли о Нэлке (похожей на Белку — в аксеновском романе «Таинственная страсть» все герои узнаваемы, но прикрыты прозвищами): «Почему ее не приглашают мудаки?.. Если бы она была здесь, вот с ней я бы все-таки обязательно скучковался. Сидели бы рядом, я бы иногда притрагивался к ее незабываемому колену».
Ну, коленки — это правильно, без красивых коленок — какая жизнь? Однако в те как раз дни и без коленок хватало поводов призадуматься. Предыдущую встречу с Хрущевым Вознесенский пропустил: как раз ездил по Франции с Виктором Некрасовым и Константином Паустовским. А накануне нынешнего совещания, в феврале, писатели ловили эманации власти. «Известия», возглавляемые зятем Хрущева Алексеем Аджубеем, будто вешки для загона расставляли.
Паустовский заглянул к Чуковскому со свежими новостями: «Читали — насчет Ермишки?» Это он про шумную февральскую статью «Необходимость спора», в которой мемуары Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» громил сам Владимир Ермилов. Тот самый, про которого Маяковский даже в посмертной записке не забыл: «Жаль, с Ермиловым не доругался». Изящная мысль Эренбурга заворачивалась в том смысле, что подлинные аристократы духа лучше с голоду опухнут, чем продадутся рынку: идея коммунизма дарит им нечто более ценное — поэтическое мироощущение бытия. Тут бы пролетарскому критику радоваться — но Ермилов бился в падучей: а с чего это Эренбург возносит модернизм в революционном искусстве? И это после того, как товарищ Хрущев на выставке в Манеже ясно указал, что все модернисты — «пидарасы»?!
Еще громче выстрелил Мэлор Стуруа: статьей «Турист с тросточкой» он убивал двух зайцев — и режиссера Марлена Хуциева с его «Заставой Ильича», и восторгавшегося фильмом Виктора Некрасова (начиная с этой злобной отповеди писателя-фронтовика будут травить, пока не вытолкнут в эмиграцию).
Тот же «яркий и всесильный» главный редактор «Известий» опубликовал и свое открытое письмо, обличающее стихи Андрея Вознесенского в «Юности». Звоночки неспроста — но все же истолковывать их как-то однозначно никто не спешил. Казалось, Никита Сергеевич все время намеренно путал следы. Только что, в конце 1962 года, сам Хрущев, вопреки сомневавшемуся окружению, санкционировал публикацию «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире» — и на каждом совещании старался демонстрировать Солженицыну свои знаки внимания. Но одновременно возбуждается вдруг из-за возникшей стихотворной перепалки: Николай Грибачев врезал молодым самонадеянным поэтам («Нет, мальчики»), Роберт Рождественский дал отпор («Да, мальчики»).
Разносит в пух и прах модернизмы художников в Манеже — но в Пушкинском музее спокойно открывается большая выставка кубиста Фернана Леже. Утверждает составленный Сусловым «черный список» фильмов, из которого в последний момент чудом убрали «Девять дней одного года» Михаила Ромма. Собирается разогнать к чертям Союз кинематографистов. Ромма, конфликтовавшего с литературными генералами Грибачевым и Кочетовым (одновременно занимающим ответственные посты в центральных парторганах), уже гонят из ВГИКа и со всех проектов — но после его с Чухраем резкого выступления перед Хрущевым все переворачивается, и Союз кинематографистов оставляют, и Ромма милуют. Трудно было в этих хаотических импровизациях уловить какую-то последовательность мысли. Ромм тогда и написал в сердцах («Четыре встречи с Н. С. Хрущевым»): «Нет, вы подумайте: накануне Секретариат ЦК запретил, я сказал несколько слов, несколько слов добавил Чухрай, и он решил — оставить! Я подумал: вот так решаются дела! Вот так закрылся союз по доносу Грибачева или кого-нибудь еще. Вот так остался. Да не Грибачева. Ильичев союз — не любил. Один закрыл, другой открыл… Вы знаете, даже радости от этого не было».
Путались и битые аппаратчики. Министр Фурцева радостно выделила дополнительные средства Хуциеву — специально, чтобы в «Заставе Ильича» пересняли и расширили эпизод с молодыми поэтами в Политехническом. А потом окажется — этот эпизод больше всего и раздражает. До 1965 года Хуциев будет кромсать фильм, переименовывать — «Мне двадцать лет». После этого вот совещания в Кремле 1963 года на Московском фестивале дадут главный приз фильму Федерико Феллини «Восемь с половиной», и уже вслед за русскими (!) наградят картину «Оскарами». И на фоне вот этого — пещерные вопли Хрущева в адрес Хуциева: «И вы хотите, чтобы мы поверили в правдивость эпизода, когда отец не знает, что ответить сыну на вопрос „как жить?“». Речь шла об эпизоде, где герой фильма встречается с тенью погибшего на фронте отца и спрашивает: «Как жить?» Отец отвечает вопросом: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать четыре». — «А мне двадцать один…» Ответ, казалось бы, прост: своим умом жить. Но крику поднял разъяренный (чем?) Хрущев, крику! Чем все это можно было объяснить?
* * *
В те дни, 6–7 марта 1963 года, Вознесенский шел в Кремль, имея совершенно ясное объяснение всем этих хрущевским странностям: «Я считал, что Хрущева обманывают и что ему можно все объяснить. Он оставался нашей надеждой». До той самой минуты, пока не встал на трибуне перед микрофоном, Андрей повторял: «Я шел рассказать ему о положении в литературе, надеясь, что он все поймет».
И тут вот очень важно понять: Андрей ведь был совсем не одинок — это потом вдруг там и сям повылезают герои, у которых и иллюзий-то никаких отроду не бывало, нет-нет, меланхолические Якушкины сложат песни, как сотрясали основы и стучали кулаком: цыц, мол, Хрущев. Но если по-честному, тогда иллюзии были у многих — и иллюзии эти были прекрасны, потому что были все они про веру-надежду-любовь-к-своей-Родине… Вот и Ромм про то же думал перед совещанием: «Надо вам сказать, что как раз я до этого времени принадлежал к числу поклонников Хрущева. Меня даже называли „хрущевцем“». Если что и смущало Ромма, так это когда Хрущев вдруг ляпнет, например: «Идеи Маркса — это, конечно, хорошо, но ежели их смазать свиным салом, то будет еще лучше». Как это смазать идеи салом? — думал кинорежиссер… Да что там, даже художник Жутовский — уже после той дикой сцены в Манеже, когда Хрущев не мог выговорить: Жутковский, что ли? — так вот и после того Борис Жутовский объяснял, что все было подстроено, Хрущева явно подставляли, но все равно он был — «хабальё, конечно, но живой, а не монстр…».
Вознесенский скажет потом об эстетических различиях Хрущева и его усатого предшественника: «Сталин был сакральным шоумейкером эры печати и радио. Он не являлся публике. Хрущев же был шоуменом эпохи ТВ, визуальной эры. Один башмак в ООН чего стоит! Не ведая сам, он был учеником сюрреалистов, их хэппенингов».
Что ни говори, а — «Хрущев восхищает меня как стилист».
И Вознесенский же — скажем, забегая вперед — интуитивно, невзначай, подберет вдруг еще один ключик к загадке Хрущева. Неожиданный. Однако весьма занятный. Прежде чем мы войдем наконец в Свердловский зал — рассмотрим, что имел в виду Вознесенский: возможно, именно это прольет некоторый свет на безумство, случившееся на совещании.
Присматриваясь позже к фотографии, на которой орущий Никита Сергеевич навис над тоненьким поэтом, Вознесенский обнаружит: взмах кулака вождя точно совпадает с жестом человека, дергающего ручку сливного бачка над унитазом. Случайно ли? Общеизвестно, что политика в принципе — дело не вполне чистое. Любая власть в любые времена в любой стране имеет свои темные стороны. Заслугой Хрущева можно признать тот факт, что он изнанку власти по простоте своей произвольно приоткрыл. Что же открылось там, с изнанки?
Вот любопытная (или не очень) блицхроника — по воспоминаниям самих участников. Первую встречу с интеллигенцией в 1957 году Хрущев открывает в подмосковном Семеновском: столы ломятся от крепких напитков и яств. «Вот, покушайте, пожалуйста, а уж потом поговорим». Гудели страшно, потом он страшно топал на поэтессу Маргариту Алигер, выбивал из Константина Симонова пережитки сталинизма. Следующий раз, в 1962-м, в Доме приемов на Ленинских горах, столы были не хуже — но без спиртного. «Покушайте, пожалуйста, а потом поговорим». Общение было демократичным на всех уровнях. В перерыве кинорежиссера Александра Алова чуть не снес у писсуара все тот же Хрущев: спешил.
Дальше — встреча с художниками. Что, среди прочего, волнует Хрущева? «Возьмите мне лист картона и вырежьте там дыру. Если эту дыру наложить на автопортрет этого Жутковского… и спросить вас, это какая часть тела человека изображена, то девяносто пять процентов ошибется. Кто скажет „лицо“, а кто скажет другое. Потому что сходство с этим другим полное».
Еще натуралистичнее — про скульптуры Эрнста Неизвестного: «Вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака, и оттуда, из стульчака взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из стульчака. Вот что такое ваше искусство… товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите!»
Удивительная интуиция! Знал Хрущев или нет, но его угол зрения на искусство зеркально отразится в истории от Жаклин Кеннеди, открывшей много лет спустя Вознесенскому по дружбе забавную тайну из прошлого: в хрущевский унитаз в Америке спецслужбы вмонтировали специальный улавливатель — чтобы по анализам изучить особенности характера высокого советского гостя.
А что кричал Хрущев американскому послу Гарриману по поводу «берлинского вопроса»: «Снимите штаны с Эйзенхауэра, сзади посмотрите на него. Вы увидите — Германия пополам разделена. А посмотрите спереди, посмотрите, она никогда не поднимется!»
Что интересно: встреча с творческой интеллигенцией, на которую позвали Вознесенского, проходила совсем не за столом, как прежние. Но Хрущев сразу извинился. «Покушаете в перерыве, там все готово». Неужто не напомнил про туалет? Напомнил сразу же. Никита Сергеевич попросил удалиться всех «добровольных осведомителей иностранных агентств»: «Я понимаю: вам неудобно так сразу встать и объявиться, так вы во время перерыва, пока все мы в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь…»
Тут мы, пожалуй, остановимся. Чем продиктовано такое внимание Хрущева к туалетной теме, — нам не объяснить. Пожалуй, подсказать тут мог бы что-то лишь Махатма Ганди. Тот точно знал: все зло человечества от неправильного питания, нарушающего пищеварение и искажающего мировосприятие.
Казалось бы: где Никита Хрущев, а где Махатма Ганди. А вот поди ж ты…
* * *
«Черный ящик моей памяти, — напишет Вознесенский в „Голубом зале Кремля“, — захрипел, разразился непотребной бранью, заплевался. Из него выскочил злобный целлулоидный болванчик. Замахал кулачками.
Ах, если бы все это осталось виртуальной реальностью…
Трибуна для выступающих стояла спиной к столу президиума, почти впритык и чуть ниже этого стола, за которым возвышались Хрущев, Брежнев, Суслов, Косыгин, Подгорный, Козлов (тогдашний фаворит, каратель Новочеркасска), Полянский, Ильичев…»
В черном ящике памяти сменится много разных событий, за спиной поэта будут всплывать бесконечные тени, но, вспоминая то 7 марта 1963-го сквозь «марлю времени», Вознесенский напишет оптимистически:
Когда нас душат новые циники, наследнички, нынешние ЦК, мы посылаем их на Хуциева! Пока работаем на века!Но кто же за меня заплатит?
В Свердловском зале все сидели вперемешку. Не было такого: здесь — молодежь, а здесь — старики. Хотя межпоколенческий сыр-бор, начиная от хуциевской «Заставы Ильича» и стихотворных перепалок — «Нет, мальчики», «Да, мальчики», — закручивался вокруг альтернативы: зарвавшийся молодняк надо поставить на место.
Котел неторопливо закипал, главное событие этой встречи приближалось. Но Вознесенский еще ни о чем не подозревал. Хотя нет, какие-то смутные сомнения все же были. Все чаще в речах выступающих стало вдруг проскальзывать его имя. Ну, если дойдет до дела, он просто выйдет и все объяснит. Ведь не может же быть, чтобы Хрущев не понял?
Вознесенский думал о своих горизонталях и вертикалях. Поколение складывается не горизонтально, не механически по возрастному признаку. Он, кажется, сто раз пытался уже объяснить: «Современно все, что талантливо. Андрей Рублев значительно ближе нам сейчас, чем тот же сидящий в ресторане поэт Фирсов, который вроде бы даже по возрасту моложе, но его можно приравнять к нашим прабабушкам…»
Вот, кстати, в Америке только что, в шестьдесят первом, вышел фильм «Завтрак у Тиффани». Там, помнится, милашка Одри Хепберн щебетала: «Представь себе, он задолжал кому-то семьсот тысяч долларов. Ты когда-нибудь видел человека, который должен семьсот тысяч? Сорок три доллара — это да, это я понимаю»… Отчего у этих девушек вечно на уме денежные счеты? У Вознесенского в Ялте тоже случилась история, так он даже оставил запись в книге отзывов Дома творчества писателей: «…я узнал, что живет в Ялте Яницкая, бывшая машинистка Маяковского. Тот остался должен ей 3 руб. Так и не расплатился. Я отдал Елене Ришардовне долг и написал стихи: „Записка Е. Яницкой, бывшей машинистке Маяковского“… „Вам Маяковский что-то должен. / Я отдаю. / Вы извините — он не дожил. / Определяет жизнь мою / платить за Лермонтова, Лорку / по нескончаемому долгу. / Наш долг страшен и протяжен / кроваво-красным платежом“…»
Благодарю, отцы и прадеды. Крутись, эпохи колесо… Но кто же за меня заплатит, за все расплатится, за все?По вертикали Маяковский и есть современник Вознесенского, это же понятно. Вознесенский посмотрел по сторонам. Гм…
* * *
Тем временем выступающие бодро сменяли друг друга. В «Четырех встречах с Н. С. Хрущевым» Михаил Ромм описывал происходящее так: «Эренбург молчал, остальные молчали, а говорили только вот те — грибачевы и софроновы и иже с ними. Благодарили партию и правительство за то, что в искусстве, наконец, наводится порядок и что со всеми этими бандитами (абстракционистами и молодыми поэтами) наконец-то расправляются. Кто-то сказал: мы где в Европе ни бывали, всюду находили следы поездок этих молодых людей, которые утюжат весь мир. Утюжат и всюду болтают невесть что, и наносят нам вред… Старцы рубали на котлеты более молодых».
Что еще запомнилось Ромму — «фигура Ильичева (секретаря ЦК по идеологии), который все время кивал на каждую реплику Хрущева, потирал руки, беспрерывно кланялся, смотрел на него снизу, хихикал и поддакивал. Очень такое странное впечатление было, как будто он его подзуживал, подзуживал, подзуживал. И поддакивал, довольный необыкновенно, прямо сияющий».
Композитор из солнечного Азербайджана, Кара Караев, затерявшийся где-то в зале, скучал под сладкий лепет выступающих мандолин и лениво царапал каракули на листочке. Конспектик его был каким-то легкомысленным — ну так для себя же. Исчеркал все какими-то рисунками, три раза вывел крупно имя Хренникова — «Тихон». Рядом с опасным словом «додекафония». Тут же опальные надписи: «Застава Ильича» и «Ахмадулина». Конспектик коротенький, записи лаконичны. И обрываются они на Вознесенском. До него Караев успел накорябать немного — но записи любопытны:
«У Сталина это было, и мы берем это на вооружение (борьба с формализмом) — (Хрущев). Но в тюрьму сажать за формализм мы не будем».
«Под видом борьбы с культом личности нельзя вести дело на подрыв самого общества».
«Грибачев: нельзя судить о литературе с собственной точки зрения — это вкусовщина. Видимо, никто не имеет право на свое мнение? так получается у Грибачева. Сводит счеты с Щипачевым. Изгадил Ромма».
«Дейнека: молол чепуху — но сказал, что не все необычное еще формализм».
«Евтушенко: абсолютно патриотичная речь. Очень нужна борьба и с ревизионизмом, и с догматизмом».
«Ильичев: Мы все хвалили Сталина, но мы верили и писали, а вы, Эренбург, — не верили и хвалили. Это разные вещи».
«А. Прокофьев. Нечестно цитирует стихи Вознесенского, произвольно приводя подобранные отрывки. Голословно обвиняет его в формализме. Обвиняет Евтушенко в самодовольстве и самолюбовании и зазнайстве. В основном выступление посвящено полемике с Вознесенским и Рождественским. Все злобно и общо. Конечно, приводит стихи Вознесенского как отрицательные, а как положительные — читает Маяковского. А почему бы ему не прочесть свои стихи? Видимо, стыдно».
«Хрущев. Критикует Эренбурга. „Горе от ума“ в Малом театре и картина „Застава Ильича“ перекликаются. Сейчас Хуциев хочет сказать, что отцы не являются наставниками своих детей, как Грибоедов в свое время».
«Шолохов. Мы с вами, товарищи президиум. Говорил 2 минуты».
«Р. Рождественский: проблемы отцов и детей — выдуманная проблема. Читает стихи: „Мы виноваты…“ (Хрущев — с кем бороться, за что бороться — вы не договариваете)».
«Неизвестный: скульптор должен стремиться к высокой идее. Может быть, будет день, когда меня назовут помощником партии. Сейчас я тружусь: это единственное, что я могу сделать, чтобы быть с страной, партией и народом. (Хрущев: надо критикой не уничтожать, а помогать)».
Наконец, короткие записи о Ванде Василевской и следом — об Андрее Вознесенском: «Начал как дурак… я не член партии. Получил единодушное осуждение». Дальше все нервно зачеркнуто и тщательно заштриховано. Записи обрываются: композитор почуял, дело пахнет керосином.
Ромм назвал эти два выступления «ключевыми». Ванда Василевская, жена драматурга Александра Корнейчука, «сделала такой аккуратный партийный донос в очень благородной форме… Ей польские партийные товарищи с возмущением сообщили, что Вознесенский и Аксенов давали интервью в Польше, и на вопрос, как они относятся к старшим поколениям в литературе, Вознесенский-де ответил, что не делит литературу по горизонтали, на поколения, а делит ее по вертикали; для него Пушкин, Лермонтов и Маяковский — современники и относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам, он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. Ну, и из-за этого разгорелся грандиозный скандал».
Вот тут и взвился Хрущев, и в Свердловском зале случилась главная заварушка дня. Да что там дня. Потом ведь окажется — заварушка знаковая для целой эпохи.
За Василевской должен был выступить художник Дмитрий Налбандян (портретист всех вождей), но Хрущев его отодвинул и предложил немедленно заслушать присутствующего Вознесенского.
«Ну-с, вот, вышел Вознесенский, — напишет Ромм. — Ну, тут начался гвоздь программы. Я даже затрудняюсь как-то рассказать, что тут произошло».
Пора передать слово самому Андрею Андреевичу. Стенограмма этого совещания сама по себе — выдающееся произведение сюрреализма. Как и история о поисках этой стенограммы через несколько десятилетий. Историю эту, вместе с текстом самой стенограммы, читатель найдет далее в специальной главе. А пока расскажем о происходящем вкратце.
Андрей вышел к трибуне, успел произнести: «Как и мой любимый поэт, мой учитель, Владимир Маяковский, я — не член Коммунистической партии. Но и как…» Фразу завершить не дали. Вот что ему запомнилось:
«Едва я, волнуясь, начал выступление, как меня сзади из президиума кто-то стал перебивать. Я не обернулся и продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев: „Господин Вознесенский!“ Я попросил не прерывать и пытался продолжать говорить. „Господин Вознесенский, — взревело, — вон из нашей страны, вон!“
…Когда же зал, главным образом номенклатурный, с вкраплениями интеллигенции, зааплодировал этому реву, заскандировал: „Позор! Вон из страны!“ (по отношению ко мне, конечно), — я счел зал своим главным врагом и надеялся побороть его по стадионной привычке… И вдруг, оглянувшись, увидел невменяемого, вопящего Премьера… „За что?! Или он рехнулся? Может, пьян?“ — пронеслось в голове… В ополоумевшей от крика массе зала мелькнуло обескураженное лицо О. Ефремова, взметенные бровки Ю. Завадского. Помню бледные скулы А. Тарковского и Э. Неизвестного. Они были подавлены.
…Все-таки я прорвался через всеобщий ор и сказал, что прочитаю стихи. Тут я задел рукавом стакан, он покатился по трибуне. Я его поднял и держал в руках. Запомнились грани с узором крестиками кремлевского хрустального стаканчика…»
Вознесенский хотел прочитать «Секвойю Ленина»: в той первой своей американской поездке он побывал в Парке секвой, что в калифорнийских Кордильерах. Гигантские деревья там названы в честь Вашингтона, Линкольна, Рузвельта, Эдисона. И вдруг — обнаружилась среди них и табличка: «Секвойя Ленина». Какой скандал — не диверсанты ли подбросили ее бдительной Америке? Секвойя беседует с поэтом, как Эйфелева башня с Маяковским. Но… прочитал Вознесенский вместо «Секвойи Ленина» — «Я в Шушенском». О времени, —
…когда по траурным трибунам самодержавно и чугунно, стуча, взбирались сапоги! В них струйкой липкой и опасной стекали красные лампасы…Стихи Премьеру не понравились. И руками поэт размахивал подозрительно: может, вождем себя возомнил? Скромнее надо быть, скромнее… — «он, видимо, назло залу или машинально назвал вдруг меня „товарищ Вознесенский“». А может быть, «понял, что перебрал»?
Кто-то похлопал стихам Вознесенского — и сюр продолжился. Того, кто хлопал, вызвали на сцену. Кто такой? Художник Илларион Голицын, график, ученик Фаворского. Не «абстракцист» ли? Да нет же, самый что ни на есть реалист. Ну вышел, так говори что-нибудь! А он не знает, что говорить.
— Может, я вам стихи почитаю?
— Какие стихи?
— Маяковского…
С кем-то в зале случилась истерика. Нервы не выдержали. Нервных быстренько придушили. Хрущев взмок. Рубашка прилипла. А тут этот — и опять с Маяковским. Убрали Голицына.
«Третьей жертвой Голубого (Свердловского. — И. В.) зала, — вспомнит потом Вознесенский, — был Василий Аксенов. У него было время сгруппироваться. Вождь хрипел: „Вы что, за отца нам мстите?“ Танк пер на соловья асфальта, писателя, определившего время, еще безусого, с наивными пухлыми губами. Но не сломавшегося…»
Еще одна реприза показалась важной Михаилу Ромму. Хрущев вдруг сказал: «Вы что, думаете, мы арестовывать разучились?»
А потом вспомнил про Эренбурга: где Эренбург?! Оказалось, в тот самый момент, когда Хрущев орал на Вознесенского и зал восторженно ревел, Эренбург не выдержал и ушел.
Хрущев только крякнул.
* * *
Что это? Был ли какой-нибудь смысл в произошедшем? А что сказал бы об этом товарищ Махатма Ганди? Может, Никита Сергеевич съел что-то не то? Конечно, будет много всяких толкований. И Аджубей расскажет когда-нибудь о сложной паутине интриг, о Суслове — опутавшем, о Брежневе — подставившем Хрущева… Много всякой правды будет сказано. Что же касается самого Вознесенского, он обнаружит в своем внезапном конфликте с Хрущевым смысл исторический:
«Так или иначе, впервые в истории в лицо русскому поэту была публично брошена угроза быть выгнанным из страны. Думаю, на моей судьбе случайно поставлена точка в традиционных отношениях „Поэт и Царь“. Дальше судьбы поэзии и власти пошли параллельно, не пересекаясь. И слава Богу!»
Эренбург, по словам Вознесенского, спрашивал у него: «Как вы это вынесли? У любого в вашей ситуации мог бы быть шок, инфаркт. Нервы непредсказуемы. Можно было бы запросить пощады, упасть на колени, и это было бы простительно».
Самое удивительное было в том, как легко озверел и готов был разорвать его зал. Такое странное, жестокое возбуждение, заметил Ромм, описано Толстым в «Войне и мире» — там, где Ростопчин призывает побить купеческого сына, и толпа сначала не решается, а потом все больше заражает друг друга жестокостью… Совещание завершилось как в тумане. Вознесенский помнит, как прошел сквозь вкусно кушавшую толпу, — но вокруг него «сразу образовывалось пустое место, недавние приятели отводили глаза, испарялись»… Примерно с такими же ощущениями уходил Хуциев, и единственным, кто вдруг подошел к режиссеру, оказался Солженицын… Аксенов рисует в романе, как дружно вышли они на Красную площадь с Вознесенским и Тарковским. Вознесенский вспоминает, как вышел один. И вдруг «кто-то положил мне лапищу на плечо. Оглянувшись, я узнал Солоухина. Мы не были с ним близки, но он подошел: „Пойдем ко мне. Чайку попьем. Зальем беду“. Он почти силой увлек меня, не оставляя одного, всю ночь занимал своим собранием икон, пытаясь заговорить нервы. Дома у него были только маслины. Наливая стопки, приговаривал: „Ведь это вся мощь страны стояла за ним — все ракеты, космос, армия. Все это на тебя обрушилось. А ты, былиночка, выстоял. Ну, ничего“…»
Со временем в воспоминаниях об этом дне у многих станут появляться тихие нюансы. Василий Аксенов с нежной ехидцей — «странно дернулся на трибуне», «на грани обморока» — посочувствует интеллигентному профессорскому сыну в своем романе «Таинственная страсть». А в романе «Ожог» Василий Павлович попросту объединит себя с Вознесенским в одного писателя Пантелея, «словоблуда с декадентской отмычкой», который клянется петь своим медовым баритоном с дорогим Кукитой Кусеевичем.
В 2013 уже году, беседуя с Соломоном Волковым в трехсерийной телепередаче, вздохнет Евгений Евтушенко: ну да, конечно, я-то мог и стукнуть кулаком на Хрущева, а Вознесенский не мог. К чему это он? Вроде ничего этакого не сказал, но Вознесенского слегка оттер в сторонку. Была у шестидесятников такая болезнь, безобидная в сущности, — вечно считаться, кто из них «первей». Может, и не болезнь, а так, детская любовь к эффектным жестам. Ну вроде той, о которой писал матери, объясняя свои поступки, Александр Блок: «Кую биографию». И это «стукнул кулаком, а он не мог» — из той же оперы: «кую биографию». Хотя, казалось бы, у каждого давно уж биография по-своему достойна уважения.
И все же любопытства ради — что там было с этим «кулаком по столу»? В одном из интервью (украинская газета «Бульвар Гордона». 2007. 24 июля) Евтушенко рассказал подробнее. Речь шла о второй большой встрече Хрущева с деятелями литературы и искусства 17 декабря 1962 года — той, которую Вознесенский пропустил. Евтушенко рассказывает, как Никита Сергеевич грозился выгнать Эрнста Неизвестного из страны.
«Будучи убежденным, что разумный консенсус возможен всегда, я сказал: „Никита Сергеевич, как вы можете повышать голос на воевавшего в штрафном батальоне фронтовика, у которого 12 ранений?.. Допустим даже, он в чем-то не прав, но если что-то ему не удается в искусстве — подскажите, поправьте: он поймет и учтет“.
Хрущев рявкнул: „A-а! Горбатого могила исправит!“ Налился кровью, побагровел и стукнул кулаком по столу…
Тогда я тоже стукнул кулаком по столу, сказал: „Нет, Никита Сергеевич, прошло, — и надеюсь, навсегда! — время, когда людей исправляли могилами“».
После чего Евтушенко читает стихи и Хрущев назло «крикунам» аплодирует. Тут же к Евтушенко, «путаясь ногами в бархатных портьерах, которые отгораживали стол президиума, полез» знаменитый детский поэт. А Евтушенко, перенервничав, «заявил Хрущеву: „На выставке есть очень плохие картины, ваши портреты — почему вы на них внимания не обращаете? Вы там то с колхозниками, то с рабочими — эти услужливые художники изображают вас, Никита Сергеевич, простите, как идиота“».
После чего Хрущев, тяжело переживавший это, звонит ему аж из Югославии, приглашает в Кремль на Новый год. И там уже подходит помощник, просит: мол, Хрущев к вам подойдет, «только вы уж встаньте, Евгений Александрович, уважьте его… Человек все-таки старше вас…». И Хрущев подходит, и шепчет: держись поближе ко мне, чтобы не заклевали, мол.
Забавно сравнить этот эпизод со стенограммой той встречи. Евтушенко начинает речь с ритуальной благодарности руководителям за предоставленную возможность. И с ходу читает стихи об антисемитизме.
Хрущев: «Товарищ Евтушенко, это стихотворение здесь не к месту».
Евтушенко: «Уважаемый Никита Сергеевич… мы все знаем, что никто не сделал больше вас по ликвидации последствий культа личности Сталина, и мы все очень благодарны вам за это. Но остался один вопрос… об антисемитизме».
Хрущев: «Это не вопрос».
Евтушенко: «Это вопрос, Никита Сергеевич, и этого нельзя отрицать, так же, как нельзя замалчивать… Хотелось бы сказать несколько слов об абстрактной живописи и наших художниках. Я считаю, что неправильно поступили молодые художники, организовав подпольно выставку и пригласив на нее иностранных корреспондентов. Это было сделано непродуманно и должно получить всеобщее осуждение. Нельзя также допустить, чтобы наши художники продавали свои творения за границу. Это лишь наносит удар нашему престижу, нашему искусству. Но я хочу сказать, что к абстрактному течению в нашем искусстве надо относиться с большей терпимостью… Я убежден, что формалистические тенденции будут со временем исправлены».
Хрущев: «Горбатого могила исправит!»
Евтушенко: «Никита Сергеевич, прошли те времена, когда у нас горбатого исправляли только могилой. Есть ведь и другие пути. Я считаю, что лучший путь — это путь терпимости и такта…»
Хрущев: «Я не верю, что вам лично нравится абстрактное искусство».
Евтушенко: «Никита Сергеевич, абстракционизм абстракционизму рознь!!! Важно, чтобы это не было шарлатанством. Я не допускаю, что может возникнуть такая ситуация, когда невозможно передать новейшие веяния нашей эпохи старой манерой письма. <…> Я не могу допустить, что вам понравилась нарисованная безвкусно картина „Хрущев среди рабочих“! Последний период моей жизни связан с Кубой… (Далее следует рассказ о кубинских абстракционистах, помогающих революции.) <…> Благодарю за внимание».
Стенограмма как-то сразу сдувает пафос: нет ни брошенного вождю «идиота», ни пламенных подробностей о ранах Неизвестного. Нет ни малейшего повода укорить в чем-нибудь Евтушенко — «героический» шлейф, который появляется в воспоминаниях, простителен и объясним. Ну да, в стенограмме нет и тени страха и трепета вождя: встанет ли перед ним поэт, не обзовет ли еще как-нибудь, не стукнет ли, наконец…
Увы, и противопоставление оказывается тут совершенно вынужденным: его использовал зачем-то сам Евгений Александрович… Как вышло, так и вышло. Вознесенский часто возвращался к этой истории с Хрущевым. Ни разу не попытавшись как-то щечки, что ли, подрумянить на своем портрете.
Не то чтобы Вознесенский был какой-то святой. Наверное, просто нужды в этом не было. История сама за себя говорила.
«Увы, ничего геройского я тогда не чувствовал. Был шок безысходности».
А ведь мог бы бритвой и полоснуть
Однажды, уже в начале XXI века, к Вознесенскому придет Никита Хрущев, внук Никиты Сергеевича. Попросит ту самую фотографию, где глава государства орет на молодого поэта, — для издававшегося многотомника воспоминаний деда. Наследники Хрущева к тому времени переберутся жить в Америку…
«История шуткует», — скажет Вознесенский.
…После задушевного ночного разговора с Солоухиным Андрюша вернулся домой, в небольшую четырехкомнатную квартирку, и молча свалился в своей комнатушке (с отдельным выходом на лестницу) лицом к стене. Родители и сестра, ждавшие до утра, пребывали в трауре, не понимая, что произошло. Семья у Вознесенского, по словам Аксенова, была «идеальная и к тому же умудрившаяся прожить три десятилетия в стороне от „компетентных органов“». Были у них в разных поколениях инженеры, учителя, ученые, доктора, — а тут вдруг поэт, да еще футурист! Андрюшу дома боготворили. И неожиданно такое… Слухи ползли всякие. Чего ждать дальше — домашние не понимали совсем. Да никто не понимал. «Сознание отупело. Пришла депрессия. Впрочем, я был молод тогда — оклемался».
Но тогда, между прочим, прозвучал и первый звоночек, который, может быть, в последние годы жизни скажется тяжелой болезнью Андрея Андреевича. Кто мог знать об этом в шестьдесят третьем? Кто из нас знает, что нас ждет, — пока мы молоды и полны сил?
Вознесенский признается лишь много лет спустя, что с ним происходило втайне от всех: «Меня мучили страшные приступы болезни, схожей с морской и взлетной… <…> В воспаленном мозгу проносилось какое-то видение Хрущева с поднятыми кулаками. Видение вопило: „Вон! Вон!“ — вздымало на меня кулаки, грозило изгнать. <…> Я боялся, что об этом узнают, мне было стыдно, что меня будут жалеть. Внезапно, без объяснения я уходил со сборищ, не дочитав, прерывал выступления. Я перестал есть. Многие мои поступки того времени объясняются боязнью этих приступов. Жизнь моя стала двойной — уверенность и заносчивость на людях и мучительные спазмы в одиночестве. Через пару лет недуг сам собой прекратился, оставшись лишь в спазмах стихотворных строк…»
Писатель Анатолий Приставкин вспоминал, как Андрей на какое-то время стал загнанно сторониться всех, даже стихи читать опасался. По стране между тем пошла кампания: искали и клеймили «своих Вознесенских». Худо пришлось тогда, помнил Андрей Андреевич, многим молодым поэтам: украинцу Ивану Драчу, казаху Олжасу Сулейменову… Новосибирский печатный орган обкома партии на первой странице опубликовал стихотворный отклик на отповедь Хрущева Вознесенскому. Называлось это «Есть такая партия у нас!». Первая строчка: «Эту речь я ждал давно с волненьем»… И дальше — про то, что «поэзии, народу верной, не нужны, как накипь или ржавь, формалистский бред хлыщей манерных, пошлость Вознесенских, Окуджав».
После хрущевского ора прошло большое писательское собрание и в Большом зале ЦДЛ. «Я сказал только несколько слов, две фразы, что не буду каяться и что я не забуду слов Хрущева. „Правда“ наврала потом, вписав „не забуду добрых слов Никиты Сергеевича“. Это еще более издевательски прозвучало — все знали, какой „добрый“ это был ор»… — вспоминал поэт.
Но тогда, на том же собрании, чуть было не встал вопрос об исключении Вознесенского из Союза писателей. Зал требовал. Собрание вел Георгий Марков, и он, по словам Зои Богуславской, при всей своей кряжистой консервативности, тянул время, пытаясь смягчить крикунов, которые требовали немедленно проголосовать. В последнюю минуту Вознесенский написал что-то вроде: «Прошу дать мне время осмыслить произошедшее». Записку передали Маркову, и тот призвал одобрить: пусть пока поосмысляет, не будем спешить… Да, но имя Зои в этой истории звучит уже совсем неспроста. Вознесенский хорошо это запомнил:
«В центре фойе, в кругу литклассиков, среди серых пиджаков врезалось в память весеннее салатно-зеленое платье Зои Богуславской, молодого критика и начинающего прозаика. Рядом что-то вещал Лебедев. Заметив меня, она развернулась и демонстративно на весь зал поздоровалась. Подошла. Заговорила. Номенклатура обиженно выделяла адреналин. В этом поступке, рискованном для ее судьбы, озонно проступила чистота и красота ее характера. Странно, вроде гонимым был я, но именно ее хотелось спасти, вытащить из круга вурдалаков».
Орет судилища орда. Я прокаженным был, казалось. И только женщина одна подошла, не отказалась. Живу меж темени и луж, и черепов, как Верещагин. И женщина, как желтый луч, мою дорогу освещает.«Тяжелей всего было видеть не торжествующие рожи врагов в зале, а ускользающие улыбки приятелей в фойе во время перерыва, прячущих глаза, будто не узнающих тебя». Не дождавшись окончания судилища, Вознесенский тогда выскочил из зала, как из энергетического поля злобы… Но Вознесенский не был бы Вознесенским, если бы, исполнясь пафоса и значительности, не умел вдруг подмигнуть и улыбнуться. В темноте за портьерой перед дверьми наткнулся на плачущую официантку Тамарку. «Я думал, что она скажет по-бабьи: „Я хотела, чтобы тебя простили, чтобы ты повинился, чтобы все обошлось, чтобы ты снова ходил к нам в ЦДЛ“. А она: „Я боялась, что ты не выдержишь и покаешься… Держись, Андрюша!“» Покаянные арии, согласно ритуалу, пришлось исполнить многим. Аксенов во искупление неведомых грехов опубликовал в газете «Правда» статью «Ответственность». Смущенно объяснял потом: дело в том, что журнал «Юность» затравили «как форпост всех этих битников и „пидарасов“». «Все вздыхали, поднимали глаза к потолку, разводили руками — надо спасать журнал!» Как? Принимая позу некоего раскаяния. Писали ту статью, по словам Аксенова, чуть не всей редакцией. Марлену Хуциеву по поводу «Заставы Ильича» не оставалось ничего, как клясться: «Приложу все силы, чтобы преодолеть ошибки картины». Эрнст Неизвестный подтверждал, что для художников «марксистско-ленинское мировоззрение — самое целостное из всех».
Атмосфера тех дней легко узнаваема в стихотворении «Сквозь строй», которое Вознесенский, отправленный вскоре на воинские сборы во Львов (о них мы еще расскажем), посвятит… Тарасу Шевченко. «Спиной он чувствует удары. / Правофланговый бьет удало. / Друзей усердных слышит глас: / „Прости, старик, не мы — так нас“…»
«Все ваши боли вымещая, эпохой сплющенных калек, люблю вас, люди, и прощаю. Тебя я не прощаю, век. Я верю — в будущем, потом…» ……………………………… Удар. В лицо сапог. Подъем.Через полтора года, в октябре 1964-го, заклятые друзья по ЦК отправят самого Хрущева на пенсию. «Удар. В лицо сапог. Подъем». На пенсии он прочитает «Доктора Живаго» Бориса Пастернака и грустно скажет зятю Аджубею: вот дураки, чего не напечатали? Ведь «ничего бы не случилось…». Вознесенскому тоже передадут его сожаления о том, что так вышло.
Андрей мучился этим феноменом Хрущева: слишком горьким оказался перелом эпохи. В чем было дело? Система виновата? Память Хрущева о своем соучастии в кровавых расправах тяготила? «Черное затмение»? Льстецы и хитрецы переиграли? Как в одном человеке сочетались и добрые надежды 1960-х, и мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, и купецкое самодурство? Вот был монарх Николай I. Странный император, много сделал для своей державы. Но остался в истории своими отношениями с Пушкиным. То же Хрущев. Выпустил людей из концлагерей, вытащил народ из подвалов и коммуналок, но и закрыл десять тысяч церквей. И, увы, в историю войдет как человек, по чьему приказу травили Пастернака. «Бог и Россия ему этого не прощают», — напишет поэт.
Через год, в апреле 1964-го, Вознесенский отказался подписать редакционное поздравление «Юности» Хрущеву по случаю его 70-летия, который еще и помыслить не мог о своей отставке. «Это относилось к моему пониманию достоинства», — позже скажет поэт.
А если предположить, что действительно выгнали бы Вознесенского из страны? Неужто не шевельнулась у него мысль — ведь был уже за границей, и понравилось?! Или потом, позже: почему, даже если жизнь подталкивала, мысль о загранице Вознесенский отметал? «Потому что, — простодушно ответит он в жестоких 1990-х, как когда-то Хрущеву, — я не могу жить вне России, не могу. Понимаете, это тяжелый, серьезный вопрос, сейчас можно жить где угодно, и никто тебя не упрекнет. И ты сам себя не упрекнешь. Но тогда это был выбор, ты становился политическим эмигрантом. Это тяжелая судьба. Главное, здесь я могу писать, благодаря этой ауре, исходящей из нас. Поэтому я живу здесь».
А если бы стакан, покатившийся тогда по трибуне, упал и разбился? «Глядишь, не останови я этот стаканчик, упади он, разбейся на весь зал — очнулся бы Премьер от припадка, обстановка бы разрядилась, прибежали бы прислужники осколки заметать, кампания сорвалась бы, ни проработочных собраний, ни всесоюзного ора, процесс развития культуры пошел бы по-иному… Но стаканчик уцелел. Случай?»
В 2002 году, когда чудом обнаружится едва не уничтоженная аудиозапись того самого совещания, Вознесенский напишет, медленно прокручивая время вспять — «Чат исторический», «Чат лунной рэпсодии»…
Голосина, здравствуй, голосина! Пленку в Пензе обнаружил перст судьбы. Надо мной, над беспартийною Россией воет лысый шар «уйди-уйди!».И снова вечная спасительница-муза пролетит в стихах на рояле верхом: «Без меня тут парьтесь! /Нет, я не пьяная… / ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ ФОРТЕПЬЯНО!»
Тогда же, в двухтысячных, подводя итоги, Вознесенский предъявит счет главному идеологу, готовившему Хрущева к шоу. Леониду Федоровичу Ильичеву — его «Загадка ЛФИ»:
Засунув руки в брючные патрубы, будто катая ядра возбуждения для, Вы мне сказали про солдат Партии: «Нужна в хозяйстве и грязная метла!» Сейчас всё кажется сентиментальщиной, чудно́: Вы были главным эпохи подметальщиком, я — выметаемое дерьмо…От всех нервотрепок Андрей решил сбежать. Куда-нибудь. С год скитался по стране. То в Прибалтике, то в Сибири. Домой не звонил, «боясь прослушки». Потом в Москве прошел слух, что Андрей покончил с собой. Антонине Сергеевне, маме поэта, полгода не знавшей, где он и что с ним, позвонил Генри Шапиро, журналист «Юнайтед Пресс»: «Правда, что ваш сын покончил с собой?»
Мама с трубкой в руках сползла на пол без чувств.
Кто-то скажет скептически: весь этот скандал оказался Вознесенскому лишь на руку: когда правительство ругает — народ сильнее любит. Ну да, конечно, — только вины Вознесенского в этом нет. «Душа моя приобретала экзистенциальный опыт, общий со страной и в чем-то индивидуальный, что, согласно Бердяеву, и способствует созданию личности».
А образ Хрущева — даже зная, что вся истерика была отрепетирована, чтобы напугать интеллигенцию, — Вознесенский сохранит для себя как светлый, едва ли не святочный. И будет уверять, что зла давно не держит.
При этом Вознесенский вспомнит почему-то милый, добрый анекдот про дедушку Ленина в Разливе — когда он бритву точил и брился, и видит — мальчик ходит маленький. И вот Ильич побрился, кисточку вымыл, опять бритву точит-точит да поглядывает…
А ведь мог бы, — рассказала пионерам Крупская, — бритвой и полоснуть!
Глава пятая И ЕЗЖАЙТЕ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ СТЕНОГРАММА
Из истории «секретных материалов»
Разыскать подлинные аудиозаписи встречи Никиты Хрущева с творческой интеллигенцией 6–7 марта 1963 года удалось журналисту (теперь и драматургу) Дмитрию Минченку. Поиски тянулись с 1999 года. В феврале 2002-го журнал «Огонек» впервые опубликовал фрагменты найденного. Вся запись — это 16 часов непрерывного хрущевского крика. В этой главе — увлекательный (не оторвешься) фрагмент стенограммы: от начала до конца выступление Вознесенского, включая случайно «попавшего под лошадь» художника Голицына, которого приняли за писателя Аксенова. Как нашлись эти «секретные материалы» — рассказывает Дмитрий Минченок:
— Считалось, что никаких документальных источников тех встреч не сохранилось. Робкие попытки что-то найти заканчивались неудачей. Но Андрей Вознесенский, с участием которого я готовил телепередачу, сказал мне: «Их где-то прячут. Ищите».
Легко сказать. Во всех бывших партийных и непартийных архивах мне отвечали: «Такой пленки нет». Один из бывших сотрудников Архива президента авторитетно заявил, что пленку стерли сразу после начала перестройки. «Зачем?» — удивился я. «Компромат на партию», — пожал тот плечами. «А некоторые слышали ее недавно», — блефуя, сказал я. «Никто не мог ее слышать», — попался на удочку архивный работник. «Почему?» — «Потому что ее никогда и никому не показывали».
Наконец в Центре хранения современной документации обобщили, что нашли не сами интересующие меня материалы, а ссылку на них. Чуть позже пленки нашлись в Пензенском филиале. Но получить их невозможно: у архива нет денег на доставку пленки в Москву. Уладили это с помощью редакции. Наконец десять коробок со «спецпленками» прибыли в Москву. Меня вызывают в архив, ведут в кабинет с допотопными магнитофонами. Магнитные ленты на старых гэдээровских бобинах записаны на скорости девятнадцать метров в секунду. Оказывается, до меня их ни разу не раскрывали… А знаете, чем все закончилось? Уже после публикации в «Огоньке» пленки собирались уничтожить «за ненадобностью». Однако… Коротко говоря, эти подлинные пленки теперь хранятся у меня. Десять бобин, на каждой отмечены фамилии выступавших и дата.
Стенограмма 7 марта 1963 г.
(После выступления Ванды Василевской, обнаружившей идеологически вредные высказывания в интервью, которые дали польским журналистам поэт Вознесенский и писатель Аксенов.)
Хрущев: А может быть, если здесь есть товарищ Вознесенский, его попросить выступить?
(Голос: «Да, товарищ Вознесенский записан в прениях».
Голос: «Вот он идет».
Долгая пауза.)
Вознесенский: Эта трибуна очень высокая для меня и поэтому я буду говорить о самом… главном… для меня. Как и мой любимый поэт, мой учитель, Владимир Маяковский, я — не член Коммунистической партии. Но и как…
Хрущев (перебивает): Это не доблесть!..
Вознесенский: Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич…
Хрущев (перебивает): Это не доблесть. Почему вы афишируеваете, что вы не член партии? А я горжусь тем, что я — член партии, и умру членом партии!
(Бурные аплодисменты и крики: «Долой, долой его!»)
Хрущев (передразнивая): «Я — не — член — пар — ти — и».
Вознесенский: Никита Сергеевич!
Хрущев: Вызов даете? Сотрем! Сотрем! Бороться, так бороться. Мы можем бороться.
(Голоса: «Долой его, долой. Он не член!»)
Вознесенский: Никита Сергеевич!
Хрущев: Мы можем бороться! У нас есть порох!
(Крики из зала: «Долой его с трибуны!»)
Хрущев: Вы представляете наш народ, или вы позорите наш народ? (Стучит по столу.) Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов! Не могу! (Аплодисменты.) Я не могу слушать агентов. Вы скажете, что я зажимаю?.. Скажете, я — Первый секретарь? Председатель Союза? Нет! Прежде всего, я — человек, я — гражданин Советского Союза! Я — рабочий своего класса, я — друг своего народа, я боец его и буду бороться против всякой нечисти!!!
(Из зала Вознесенскому: «Паразит-т-т-т!!!»)
Хрущев: Мы создали условия возможные, но это не значит, что мы создали условия для пропаганды антисоветчины! Мы не создаем, и никогда не дадим врагам воли. Никогда! Никогда! (Аплодисменты.) Ишь ты какой, понимаете! «Я не член партии!» Ишь ты какой! Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, вы — член партии. Только не той партии, в которой я состою! (Бурные аплодисменты. Крики: «Долой!») Товарищи, идет вопрос борьбы исторической, поэтому здесь, знаете, либерализму нет места, гос-по-дин Вознесенский!
Вознесенский: Э-э-э, Никита Сергеевич, простите, я…
Хрущев: Можете как угодно говорить. Здесь вот еще агенты стоят. Вон два молодых человека, довольно скептически смотрят. И когда аплодировали Вознесенскому (Хрущев путается, имея в виду выступавшего ранее и читавшего стихи Рождественского), они носы воткнули тоже. Кто они такие, я не знаю?
(Голоса из зала: «Где? Где?»)
Хрущев: Вот там два. Один очкастый, другой без очков сидит. (Показывает в сторону сидящих рядом с Василием Аксеновым художников Павла Никонова и Иллариона Голицына, один в красном свитере, другой в красной рубашке. Крик из зала: «Они с ним заодно!»)
Ильичев (Хрущеву): Это Аксенов…
Вознесенский (спокойно): Никита Сергеевич, простите, я написал свое выступление, и я недоговорил — вот здесь написано у меня — дайте мне договорить фразу… Как и мой любимый поэт, я не член Коммунистической партии, но, как и Владимир Маяковский, я не представляю своей жизни, своей поэзии, всей своей жизни, каждого своего слова без коммунизма.
Хрущев: Ложь.
Вознесенский: Это не ложь.
Хрущев: Ложь, ложь, ложь!!! Все, что рассказала Ванда Львовна, а это вы сказали — это клевета на партию. Не может сын клеветать на свою мать, не может. (Продолжительные аплодисменты.) Вы хотите нас убаюкать…
Вознесенский: Нет!
Хрущев: …что вы, так сказать, беспартийный на партийной позиции стоите.
Вознесенский: Да!
Хрущев: Нет! Довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы! (Продолжительные аплодисменты.) Мы не те, которые были в клубе Петефи, а мы те, которые помогали венграм разгромить эту банду.
(Крики: «Правильно!» Бурные аплодисменты.)
Вознесенский: Э-э… Никита Сергеевич, то, что я сказал… это правда. И это подтверждается каждым моим написанным словом…
Хрущев (прерывает): Не по словам судим, а по делам! А ваши дела говорят об антипартийщине. Об антисоветчине говорят. Поэтому вы не являетесь нашим другом.
Вознесенский: Никита Сергеевич, у меня антисоветского нет…
Хрущев: А то, что Ванда Львовна сказала, это что — советское?
Вознесенский: Когда… Я скажу про это интервью сейчас. Когда польский журналист спросил меня о поколениях, он ждал, что я буду говорить, что наше поколение плюет на поколение отцов, что оно противопоставляет себя всей советской литературе. Я сказал… Я сказал, что нет поколений возрастных, которые противостоят одно другому… А есть поколения… Я сказал, как горизонтальные слои — один идет за другим, но не противостоят друг другу… В каждом поколении есть люди замечательные. Есть люди революционные. (Стучит рукой по трибуне, задавая ритм, чтобы не сбиться.) И в каждом поколении есть минимум плохого, минимум такого реакционного… Поэтому я сказал, что для меня важно не вот это разделение на поколения, как говорят сейчас на Западе…
Хрущев (прерывает): Поскромнее бы вы были бы там, вы б сказали этому польскому журналисту: «Дорогой друг, у нас есть более опытные люди, которые могут сказать…» А вы начинаете определять, понимаете ли. Молоко еще не обсохло. (Аплодисменты.) Ишь ты какой, понимаете. Он поучать будет.
Вознесенский (тихо): Да.
Хрущев: Обожди еще. Мы еще переучим вас! И спасибо скажете!
(Голос из зала: «Маяковского приплел… Он и Пастернака называл в интервью…»)
Вознесенский (на реплику из зала): Маяковского я всегда называю, и в этом случае, своим учителем.
Хрущев (прерывает): А это бывает, бывает, другой раз… так сказать, для фона. Ишь ты, какой Пастернак выискался. Хотите? Мы предложили Пастернаку, чтоб он уехал… Он не захотел. Хотите завтра получить паспорт? Можете сегодня получить. И езжайте, к чертовой бабушке. Посмотрите! Поезжайте туда. Поезжайте в Париж, освещайте…
Вознесенский: Никита Сергеевич…
Хрущев (не слушает): Поезжайте, поезжайте туда!!! (Аплодисменты.) Хотите получить сегодня паспорт? Мы вам дадим. Сейчас же! Я скажу. Я это имею право сделать! И уезжайте!
Вознесенский: Я русский человек…
Хрущев (продолжая заводиться): Не все русские — те, кто родились на русской земле! Многие родились на чужой, другой земле, но стали более русскими, чем вы — русский! (Аплодисменты.) Ишь ты какой, понимаете! Думают, что Сталин умер, так вы, значит… Вы — рабы! Вы — ра-бы! Потому что если б вы не были рабы, вы бы по-другому себя вели. Как ваш вдохновитель Эренбург говорит, что со сжатым ртом, сидел, молчал, понимаете ли! А как Сталин умер, он разболтался. Нет, господа, не будет этого! (Долгие аплодисменты.) Не будет!.. Сейчас мы посмотрим на товарища Вознесенского, на его поведение, и послушаем тех молодых людей.
(Крики из зала: «Правильно!»)
Хрущев (тычет пальцем в зал): Вот вы, смотрите, и вы смотрите, очкастый… Вот я не знаю, кто они такие. Мы вас послушаем. Ну-ка, идите сюда. Вот один, вот другой рядом сидит.
Ильичев: Аксенов рядом сидит.
Хрущев: А тот кто?
Ильичев: Это Голицын, художник.
Хрущев: Вот и Голицына давайте сюда. Мы были знакомы с вашим однофамильцем. Пожалуйста. После Вознесенского.
Художник Корин (из зала, в адрес Голицына): Вы посмотрите на их внешний вид. Стыдно! Как они оделись?! Называется, пришли в Кремль. Как вам не совестно? Как индюки одеты… в красные рубашки.
Хрущев (Вознесенскому): Ну, пожалуйста!
Вознесенский: Никита Сергеевич, для меня страшно то, что сейчас я услышал. Для… Я повторяю: я не представляю своей жизни без Советского Союза. (Отбивает рукой ритм по трибуне.) Я не представляю своей жизни…
Хрущев: Или с нами, или против нас!
Ильичев: Правильно, правильно, правильно!
Хрущев: Другого пути у нас нет. Мы хотим знать, кто с нами, кто против нас. (Аплодисменты.) Никакой оттепели! Или лето, или мороз.
(Голоса из зала: «Правильно! Никакой оттепели!»)
Вознесенский: Никита Сергеевич, у меня были… Я чувствую, особенно сейчас. У меня были нервные срывы, как и во время этого польского интервью. Мое содержание — мои стихи. В каждом своем стихотворении… Никита Сергеевич, разрешите, я прочитаю свои стихи.
Ильичев: Это ваше содержание…
(Крики из зала: «Правильно, правильно… это его содержание…»)
Вознесенский: Мое содержание — мои стихи.
(Крики из зала: «Врет! Знаем мы ваши стихи! Читали! Врет! Долой! Не надо!»)
Вознесенский: В каждом своем стихотворении…
(Крики из зала: «Не надо!»)
Вознесенский (оборачивается к президиуму): Никита Сергеевич, разрешите, я прочитаю мое стихотворение. Американские стихи «Секвойя Ленина».
(Голоса из зала: «Ишь ты, американские!»)
Хрущев (в зал): Товарищи, давайте… Мы — люди разных поколений, давайте и гнев свой выразим, но давайте и послушаем… Знаете, нет людей безнадежных… Я прожил… уже скоро семьдесят лет будет. Я видел людей. Возьмите, к примеру, Шульгина, товарищи. Шульгин. Монархист. Лидер монархистов. А теперь, теперь он… конечно, не коммунист, — и славу богу, что он не коммунист… (В зале подхихикивают) Потому что он не может быть коммунистом. Но что он, так сказать, проявляет патриотизьм, это… это факт. И поэтому, когда он выступил со своими статьями, — я был в Америке, и в это время там были напечатаны его статьи, — на него плевались те, кто раньше питались его соками. Так что, знаете, это такие жернова, которые перетирают в муку, знаете, гранит. Или стирают, или люди шлифуются и крепнут, и становятся в ряды хороших людей. Поэтому вот — молодой человек, его надо, так сказать, призвать к порядку, сказать, и, если есть возможность… А если не будет возможности, то мы не опоздаем никогда — сделать то, что нужно в интересах нашей страны. Давайте, товарищи, проявлять и трезвость ума, и такт. Нам надо не увеличивать тех, кто был бы против нас, а уменьшать. Но не уговаривать… Я думаю… Ну, сколько вам, товарищ Вознесенский? Лет вам сколько?
Вознесенский (что-то шепчет).
Хрущев: Сколько вам, товарищ Вознесенский?
Вознесенский (тихо): Двадц…
Хрущев: А-а?
Вознесенский: Э-э…
Хрущев (раздраженно): Лет вам сколько?
Вознесенский: Двадцать девять.
Хрущев: Ну, это… во внуки мне, так сказать… Ну, вы не обижайтесь, что я так говорю. Потому что некоторые скажут, — вот как Рождественский говорил, что он, мол, опоздал родиться. Знаете, кто когда рождается — не от того зависит, кто рождается. Это от папаши и мамаши. И здесь никакого упрека нет. Но, родившись, стать под знамя своих отцов, — это уже, так сказать, проявление ума родителей. И… сыновей. (Значительно.) Сыновей! Вот об этом идет речь. Поэтому, если так говорить, я товарищу Рождественскому — а товарищ Рождественский на лучших позициях стоит, товарищи, чем товарищ Вознесенский, — но и он тоже, так сказать, увлекся. Полемика, понимаете. Мы сами драчуны были, помним, дрались. В полемике он вчера скатился на такое, что вот, мол, молодежь электростанции строит. И на земле, и под землей, и в космосе — везде молодежь. Что, это ваша молодежь? Вы что, начинаете драться за эту молодежь между собой и Грибачевым? Нет, извините, эта молодежь — партии. Это ее капитал. (Слова тонут в аплодисментах. Голос Ильичева: «Это вы хорошо его, хорошо!») Поэтому не трогайте нашу молодежь! Не ведите дуэли из-за нее, потому что тогда вы попадете под тяжелые жернова! Под жернова партии, потому что партия никому не даст права, и всегда «будеть» бороться за то, что она представляет и старое, и среднее, и молодое поколение! И больше никто! (Оглушительные аплодисменты. Хрущев снова замечает Голицына, который не хлопает.) …Вы будете иметь возможность выступить после товарища Вознесенского. Пожалуйста, товарищ Вознесенский.
(Тишина.)
Вознесенский (волнуясь): Ленин… это… мои… программные стихи. (В зале шумок. Вместо обещанной «Секвойи Ленина» читает «Я в Шушенском».)…
Я — в Шушенском, в лесу слоняюсь, такая глушь в лесах моих! Я думаю, что гениальность переселяется в других. <…>(Кашель в зале.)
<…> Он строил, светел и двужилен, страну в такие холода. Не говорите: «Если бы жил он…» Вот если б умер — что тогда? <…>(Голос из президиума: «Что он читает?»)
<…> И как ему сейчас торжественно И как раскованно — сиять, Указывая щедрым жестом На потрясенных марсиан!(Тишина. Только Голицын и кто-то еще хлопают Вознесенскому. Голос из президиума: «Не знает Ленина!» Голоса: «Плохо», «Совсем плохо».)
Хрущев (назидательно): Товарищ Вознесенский, вам поможет только одно сейчас. Скромность ваша. (Голоса в зале: «Правильно!») Скромность. Если вы перестанете думать, что вы — родился гений.
Вознесенский: Я не думаю так.
Хрущев: Нет, вы думаете. Вот если вы только проявите скромность, тогда все будет в порядке. Вам вскружили голову. Талант, родился прынц. Все леса, так сказать, шумят: «Родился прынц». Да знаете, сколько таких, как вы, у нас — я не знаю, сколько, надо спросить, — в сутки, рождается? (Хохот в зале.) И если вы будете себя одним из рожденных считать, тогда вы будете приспосабливаться к массе, к обществу. Вы будете считать, что вы член общества. Равный среди равных. А вы родились и уже сразу руку подняли — хотите указать путь человечеству. Не выйдет! Не выйдет! Старики — люди цепкие. Они, знаете, не сдаются просто так, потому что они люди тертые. Я в двадцать девять лет, знаете, уже занимал положение, чувствовал ответственность за страну, за нашу партию. А вы? Вам двадцать девять. Вы и молодой, и вы старый. Когда мне было двадцать девять лет… Это Гражданская война кончилась… Я был на рабфаке… Нет, уже не на рабфаке, я уже работал на партийной работе. Я уже стариком себя чувствовал. А вы все время чувствуете свою безответственность, будто вы ходите в панталонах коротких. Нет, вы уже в штанах, и поэтому отвечайте! Отвечайте, как полноправный гражданин нашей страны, и мы с вас спрашиваем и требуем. И требуем! А не хотите с нами идти в ногу — получите паспорт, уходите. Мы в тюрьму вас не посылаем. Пожалуйста, вам нравится Запад? По-жа-луй-ста. На дорогу! Паспорт в зубы! Границы открыты.
Вознесенский (тихо): Никита Сергеевич…
Хрущев: По-жа-луй-ста!
Вознесенский (тихо): Я сейчас работаю (сбивает стакан от волнения, тот катится по трибуне) и буду продолжать по-новому еще работать… И я прошу дать мне возможность…
Хрущев (перебивает): Двадцать миллионов наш народ потерял в войне с Германией! Мы миллионы потеряли в первую войну! Миллионы рабочий класс и крестьянство положили в борьбе против самодержавия! А вы хотите нас сейчас учить, каким путем идти? Вы берете Ленина, не понимая Ленина. (Голоса из зала: «Правильно!») А ленинский путь тот, которым идет партия! И народ за партией. (Аплодисменты.) Почему вы не идете в ногу? Почему? (Аплодисменты.) Если вы хотите идти, я прямо говорю, — по команде, в ногу, с партией, с народом! Мы приветствуем каждого солдата. Но учитесь хорошо стрелять, хорошо распознавать врага, с тем чтобы промаха не давать, а не по своим стрелять. (Голоса: «Правильно!») А вы по своим всё стреляете! (Голос: «Браво!») В этом ваша слабость… Пожалуйста, товарищ Вознесенский. Имейте в виду… (Перегибается с трибуны и протягивает руку.) Я вам руку подаю и хочу, чтобы вы были солдатом нашей партии.
(Оглушительные аплодисменты.)
Вознесенский (тихо): Да-да… Я не буду говорить слов. Моя работа все покажет… Нечего говорить слова (все тише и тише)… своими делами…
Хрущев: Поддержать.
(Бурные аплодисменты Хрущеву. Вознесенский уходит.)
Ильичев: Ну что, к следующему?
Хрущев: Кто?
Ильичев: Вы хотели тех двоих.
Хрущев: Давайте их сюда. Где они?
Ильичев: Это художник Голицын.
Хрущев: Голицын, из тех самых?
Голицын (становится к трибуне): Товарищи, я хлопал Вознесенскому, потому что люблю его стихи. И я не агент, и никогда агентом не буду ничьим. Я — советский человек. Мой брат и сестра воспитаны советской школой и институтами.
Хрущев: Вы воспитаны на хлебах советских и горбом рабочего класса. Это мы знаем. А вот служите кому? Я не знаю.
Голицын: Я служу советскому народу и Советской стране. И никому больше служить не буду, никогда не собирался и не собираюсь.
Хрущев: А кто судья?
Голицын: Мои работы… Мои работы вы можете посмотреть, и проверить, кому я служу на самом деле. Мало кто знает, что я делаю… У меня сложнее другое. (Собирается с духом.) Дело в том, что мой отец погиб в тюрьме… (Зал затих.)… Но он реабилитирован. (Вздох облегчения в зале.)
Хрущев: К сожалению, тысячи погибли, это вы знаете, товарищ Го-ли-цын? Это не дает права… Вот я уже говорил в реплике: Якир. Я его знал, Якира. И когда его присудили к расстрелу и вывели на расстрел… Он на допросах говорил: «Ошибка, враги какие-то, провокаторы завелись в партии, ввели в заблуждение Сталина»… И перед расстрелом, хотя он знал, что Сталин решал по его смерти, он крикнул: «Ошибка. Да здравствует Сталин!» Вот это коммунист был. Он знал, что его расстреляют. Но он был член партии. И верил, что после его смерти разберутся и оправдают его… А вы из-за отца мстите, что ли, нам?
Голицын: Да я не мщу. Кто мстит, кто мстит?
Хрущев (миролюбиво): Ну тогда, пожалуйста.
Голицын: О господи, дело в том… Я не знаю, мне трудно сейчас говорить. Я не поэт, но может быть… Хотите, я прочту вам стихи Маяковского?
Хрущев (испуганно): Нет!!! (Гул возмущения в зале.) Раз нечего сказать, нечего и говорить.
Голицын: Нет…
Хрущев: Мы хотели бы, товарищ Голицын, я также и к вам обращаюсь, молодой человек, вы, видимо, одаренный, — становитесь в ряды нашей партии. Я вам не сую партийный билет в карман, боже упаси. Нет, не так. У нас вот Андрей Николаевич Туполев беспартийный, но дай бог, чтобы другие члены партии столько бы делали для нашей партии.
Голицын: И я советский человек. И они будут советскими людьми. Почему возник этот вопрос? Я совершенно не понимаю.
Хрущев: А вы подумайте сами, почему этот вопрос возник. Это вы должны отгадать и ответить!
Голицын: Это потому, что я хлопал Вознесенскому?
Хрущев: Неправильный ответ! Вы знаете, мы и сами можем хлопать кому надо. И кому не надо не хлопаем. Нет, это ничего. Не в этом дело. А почему? Вот вы подумайте. Подумайте. Если правильно придумаете, будет хорошо.
(Голоса из зала: «Так ему и надо!»)
Голицын (в недоумении): Я могу работать?
Хрущев: Обязательно работать. Работают все. У нас кто не работает, тот не ест. Идите… (Аксенову.) Пожалуйста.
(К трибуне выходит Василий Аксенов.)
Аксенов: Дорогой Никита Сергеевич! Дорогие товарищи! Я хочу на своем примере показать, насколько крепки связи с поколением наших отцов, насколько мы не стараемся поставить себя…
Хрущев (перебивая): О чем эти связи говорят? Вы что клевещете на нашу страну? Вы чей хлеб едите? Кто работал, когда вы учились? Ваш отец репрессирован. Это мы знаем, и мы оплакиваем его.
Аксенов: Нет, он жив… Он член партии…
Хрущев: Репрессирован, но реабилитирован… Товарищ Аксенов! Борьба у нас идет не на жизнь, а на смерть… (Аплодисменты.) Вы индивидуально, видимо, честный человек. Мы не дадим империализму, чтобы здесь разрастались, понимаете, семена, заброшенные им. Нет!.. (Бурные аплодисменты.)
Аксенов: Никита Сергеевич! Понимаете, я не хотел говорить о своем отце, не хотел говорить о своей семье, но я должен сказать то, что я встретился с ними сейчас, то, что они живы, то, что у нас восстановилась семья, и всему этому мы обязаны именно вам…
Хрущев: Не плюйте тогда в колодец, из которого кушаете! Элементарное правило!.. (Крики из зала: «Правильно!»)
Аксенов: Я по образованию врач. И начал литературную работу, когда мне было, в общем, мало лет, и возможно, у меня были какие-то ошибки и существуют. Но я говорю совершенно честно и совершенно искренне, я не думаю, что кто-нибудь будет сомневаться в моих словах… что я думаю только о том, чтобы приносить пользу Советской стране и советскому народу.
Хрущев: То, что вы говорите, так это, слушайте, и Пастернак говорит, что он говорил так же… Вопрос в том, чтобы служить родине. Это и враги наши говорят. Так что, какой родине?
Аксенов: Коммунистической родине, конечно…
(Хрущев, утомившись, машет рукой и объявляет перерыв.)
Глава шестая МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?
Ты их всех хлебал большою ложкой
Хрущев Хрущевым, депрессуха депрессухой, а все ж таки природа гнула свое — как и велел календарь. Злополучная встреча деятелей культуры с партийной бетономешалкой была в марте? В марте. А значит — хочешь не хочешь, весна пришла. Хотя тут и надо бы поиграть желваками: от-те-пель кон-чи-лась, на-сту-пи-ли за-мо-роз-ки.
Весна в том шестьдесят третьем году и впрямь была холодной. С погодой творилось не пойми что: до середины апреля морозы прыгали аж до минус пятнадцати. Старожилы и не припоминали такого. Грешили на космонавтов.
От лица космонавтов выступил Юрий Гагарин. Опять-таки по поручению старожилов, но других — партийно-писательских хитрованов, игравших в свою большую аппаратную игру. Не очень понимая, что к чему, Гагарин и в газете, и на совещании молодых писателей озвучил чьи-то мысли: изменения климата — дело рук поэтической молодежи. «Позор! Непростительная безответственность!» Но эти слова космонавта как-то звякнули, брякнулись льдышками: хрусть. Одна его знаменитая улыбка и осталась. Улыбка Гагарина плыла, как чешира, сама по себе — она-то была совсем ни при чем. Ах, сама Джина Лоллобриджида прилетала строить глазки этой улыбке.
В мае весна все равно приплыла — неказистая, но, как полагается, в талых прожилках, с просыпающимися запахами. Может, не стоило и «оттепель» так скоро отпевать? К августу Хрущев назло «старожилам» опять вдруг выкинет фортель, позволив напечатать Твардовскому «Теркина на том свете». А как можно такое печатать, если «оттепель» отменяется?! «Не спеши с догадкой плоской, / Точно критик-грамотей, / Всюду слышать отголоски / Недозволенных идей. / И с его лихой ухваткой / Подводить издалека — / От ущерба и упадка / Прямо к мельнице врага. / И вздувать такие страсти / Из запаса бабьих снов, / Что грозят Советской власти / Потрясением основ».
Это как же понимать? И Грибачев с Сурковым, и Суслов с Ильичевым, да что там, и сам Хрущев с его вчерашними воплями, — все они вместе «из запаса бабьих снов»? Чудны дела твои, Господи.
Ну, словом, пока что весна, на деревьях почки лопаются, в лужах лягушки чешутся. Такую вот весну писатель Юрий Нагибин описал в дневнике своем желчном — отправился на рыбалку, а наткнулся на «двухэтажную» лягушку: «Приглядевшись, я обнаружил, что это две лягушки, слившиеся в акте любви… Казалось, он сцапал ее за титьки, головой прижался к ее плечу — поза, любимая Сомовым. Они то замирали, то принимались скакать, в лад отпихиваясь ножками… Это было так… бесстыдно, что мысленно я дал себе слово никогда больше не жить с женщинами. Насколько прекраснее и чище раздельная любовь рыб. О весне наговорено много красивостей, а весна — самое разнузданное время года, сплошное совокупление людей, животных, насекомых, деревьев, цветов… Гигантский бардак. Но красиво!»
Сразу скажем: что касается клятвы Нагибина насчет женщин, то слова своего он не сдержал. И не он один, кстати. Куда денешься: весна. У Юрия Казакова — его незаслуженно полузабудут полвека спустя — тогда, в начале шестидесятых, что ни история, то «весной на меня наваливается странная какая-то тоска». В рассказе «Вон бежит собака!» попутчица просится в палатку к герою, а он будто оглох и просьбу не услышал, а на третий день спохватился: «Ай-яй-яй! Как же это, а? Ну и сволочь же я, ай-яй-яй!» И больно бил себя кулаком по коленке. Вот что весна с людьми делала.
Думаете, Андрюша Вознесенский весны не замечает? Так и убивается после криков Хрущева, уткнувшись носом в стену? Это вы зря. Хотя от Москвы старается быть подальше. Вон он уже на Куршской косе, в прибалтийском поселке Нида, оттуда рукой подать до станции кольцевания птиц. Журавли прилетели — а они чем-то с поэтами схожи, участь у них двойная: «на небесах — земная, а на земле — небесная». И тех и других пытаются «окольцевать». Орнитолог машет руками над узкой журавлихой, попавшей в сеть: «…как бы ты ни металась, / впилась браслетка змейкой, / привкус того металла / песни твои изменит»… Не смертельно же, летай пока. «С неразличимой нитью, / будто бы змей ребячий / будешь кричать над Нидой, / пристальной и рыбачьей» («Жизнь моя кочевая…» с посвящением Э. Межелайтису).
Да, и лягушки тут же, двухэтажные в честь весны. Но у Вознесенского и они в «Монологе биолога» — подопытные, как и журавли: «Вчера мы спаривали лягушек». «Сжимались празднично два чутких чуда». Но тут биолог вводит пинцеты, вонзает кусачки, манипулируя нежными чувствами. Вроде из лучших побуждений, для блага и прогресса — но выходит, что «растут распады из чувств влекущих». Отсюда и — «Закаты мира. / Века. Народы. / Лягухи милые, / мои уроды».
* * *
Нет, из головы-то все равно не выходит: какая же бессмыслица кругом. Чего все-таки хотят эти манипуляторы? Ну вот от него конкретно, от поэта Андрея Вознесенского, молодого да раннего? Их волнует высшая идея справедливого устройства жизни? Вот Хрущев наорал на него: за идею, ради общечеловеческого блага? Ну да, ну да. Слышали, знаем. На Эрика Неизвестного тоже орали. И кто больше всех подзуживал и радовался? История интересная.
В 1959 году Неизвестный, героический художник-фронтовик, победил во Всесоюзном конкурсе на создание монумента Победы, который задумали ставить на Поклонной горе. А что было потом? Потом проект вдруг завалил проигравший в конкурсе всесильный Вучетич. Скульптор-генерал предложил было младшему лейтенанту сотрудничество, как сказали бы в иные времена — «в долю войти». Неизвестный отказался — и тогда в его мастерскую ворвалась группа учеников Вучетича, кто-то даже с ножичком. Ну что против них этот инвалид — он же с фронта еще весь раненый-перераненный? Правда, готовили его к фронту в самом суровом училище — Первом Туркестанском, готовили специально к выживанию в пустыне, степи, да в любых условиях. Руки-то помнят. В общем, плачевно кончилась та история. Скульптор раскидал непрошеных гостей, кому-то руку сломал, те позорно бежали. Завели было дело — но быстро закрыли: во-первых, какая-то неприглядная тень этой истории падала на именитого Вучетича. А во-вторых — какие претензии к скульптору-лейтенанту, в одиночку совладавшему с целой чуть ли не армией неприятелей?
Слышал Андрюша эту историю. Ну и что, кто больше всех радовался теперешним крикам Хрущева — на молодых художников и поэтов? Тени тех самых «генералов» за спинами и маячили. Какая идея! Их простые делишки волновали. Проверьте, откуда бронза выделяется для работы этого «известного Неизвестного», нет ли тут финансовых нарушений?! — орал, прислушавшись к шепоткам, Хрущев. «Генералов» в этом шуме вокруг наплывающей молодежи беспокоили, извините, собственные зады. Кресла, преференции, земные блага. Но говорил же, говорил Вознесенский — про горизонтальные и вертикальные связи в поколениях: и «генералы» были разные, и «лейтенанты». Тот же маститый Николай Тихонов — с его помощью в 1961-м вышла первая книга стихов Юнны Мориц «Мыс желания». Но уже через год, после ее стихотворения «Памяти Тициана Табидзе» (репрессированного в тридцатых годах поэта), — другие «генералы» надолго запишут Мориц в «черные списки», в «невыездные»… Вот говорили же Андрюше: занимался бы своей архитектурой, зачем было идти в поэты — если тебя не хотят слышать? Может, и правда зря? Ответ как-то сам собой сформулировался в те дни:
Можно и не быть поэтом, Но нельзя терпеть, пойми, Как кричит полоска света, Прищемленная дверьми!В марте 1961-го прошел пленум московской писательской организации, на котором много говорили о поддержке молодой поэзии. Казалось, вот-вот услышат. Эмоции перехлестывали. Одно из бурных писательских собраний в малом зале ЦДЛ, до встречи с Хрущевым, вспомнит много лет спустя Кирилл Ковальджи в книге «Моя мозаика, или По следам кентавра»: «Идет какое-то обсуждение, председательствует молдавский поэт Андрей Лупан. После Евтушенко выступает Алексей Сурков и обрушивается на него с демагогической партийной критикой. Тогда за ним без спроса выскакивает на трибуну Вознесенский, дает сдачи Суркову — дескать, люди смертны, и вы умрете, товарищ Сурков, — а поэзия останется, она, а не ваши нападки на нее…»
Нагло, конечно, с вызовом. Перехлестывали, подставлялись, кто-то видел и слышал в этом их «головокружение от успехов». Ну хорошо, считайте «выскочкой». Но как можно было не слышать вот эту, например, любовью к родной земле пронизанную ноту Вознесенского: «Гляжу я, ночной прохожий, / На лунный круглый стог. / Он сверху прикрыт рогожей — / Чтоб дождичком не промок. / И так же сквозь дождик плещущий / Космического сентября, / Накинув Россию / На плечи, / Поеживается земля»?!
А Хрущев — ну не оглох же, не ослеп? Думаете, одни Лужники да Политехнический слышали Вознесенского и его товарищей тех лет? Да нет же! Это полвека спустя всех будут уверять, что страна была (да и есть) страной глухих, немых и слепых идиотов. А люди, жившие в те времена, были, как и полвека спустя, и чистыми, и нечистыми, и всякими. Наивнее и контрастнее — пожалуй. Пошло и глупо умиляться, но еще пошлее и глупее ненавидеть страну своего, какое ни есть, прошлого. Вокруг этого ведь и в шестидесятые шел сыр-бор — и слышать шестидесятников не хотели. И полвека спустя — забегая вперед — будет тот же сыр-бор, и «виновными» за все опять окажутся… те же самые, как ни странно, шестидесятники. Впрочем, это — потом.
А пока им письма такие вот пишут читатели по простоте:
«Андрей!
Я люблю Ваши произведения, я ужасный их поклонник. Я не пропустил почти ни одного стихотворения, напечатанного Вами в журналах „Юность“ и „Октябрь“ с 1959 года. А вот книг Ваших я не видел. Их невозможно найти. Особенно солдату, служащему в Приморском гарнизоне, в деревушке.
Очень прошу Вас, рассчитывая на великодушие Андрея Вознесенского, вышлите мне, пожалуйста, одну из Ваших книг с Вашим автографом.
С уважением к конструктивизму в архитектуре,
Петр Железнов.
7 июля.
Мой адрес: Приморье, Унаши, в/ч 83 266-л».
* * *
Фильм «Поет Ив Монтан» в Советском Союзе знали все наизусть. Симона Синьоре порхала в популярном на всю страну фильме «Путь в высшее общество». Юная красотка Татьяна Лаврова, она же Леля, в роммовских «Девяти днях одного года» разрывалась между одержимым экспериментатором-ядерщиком Гусевым и физиком-теоретиком Куликовым. То есть между Баталовым и Смоктуновским. Лаврова спрашивала у режиссера: так кого же любит ее героиня — того или этого? Мудрый Ромм отвечал: деточка, можно любить двоих. «Хорошо», — безропотно соглашалась Лаврова… Кому-то это не нравилось, кого-то возмущало. Но даже эти витиеватости жизни, казалось, тоже можно понять и принять. Вот ведь, помним, бросалась на грудь Хрущеву в Америке красотка Ширли Маклейн, юбку задирала выше колен — фотографии есть! И что Хрущев? А ничего, ухмыльнулся, почесался, вздохнул, рядом все ж таки Нина Петровна.
То есть не чужда и ему свежесть чувств человеческих? Разрывался Хрущев, как героиня Лавровой. Вчера вдруг кинулся громить «Заставу Ильича». Завтра неимоверным усилием партийной воли, зажмурившись, позволит наградить на Московском кинофестивале главным призом Феллини с его хитроумными и пикантными «Восемью с половиной». А так, чтобы, как у Ромма, «любить двоих» — ни у Хрущева, ни у всей страны не выходило. Кого-то надо непременно затоптать, а иначе никак.
В сентябре 1962-го на пленуме Союза писателей был триумф старика Щипачева и поддержанных им молодых литераторов. Самому Грибачеву «заехали»! И вроде бы их услышали! Про то, что «московские молодые писатели — это не интеллигентные хлюпики, не рефлексирующие типы, а здоровые русские ребята», которые пишут про насущные проблемы, поддерживают мужественный курс к ленинским нормам общественной жизни, «и вообще, товарищи, кто это там отрицает кровную связь поколений? Кто?». Партийный аппарат, вспоминает те дни в своих мемуарах «Улица генералов…» Анатолий Гладилин, был в ознобе: надвигается новая партийная чистка? смена поколений? идут другие хозяева мира? Ощущение нереальности происходящего — вот что врезалось в память Гладилину: «Молодые хором твердили: „Все, процесс не обратим“. Даже Боря Балтер, уж, казалось бы, стреляный волк, войну окончил в чине майора, знал жизнь, и тот уверенно повторял: „Им обратно не повернуть“…»
И было на том пленуме еще кое-что, чего Гладилин не помнит. А «кое-что» между тем — судьбоносное. Для Вознесенского и еще одной привлекательной литераторши. Той самой, что была принята в Союз писателей одновременно с Андреем Андреевичем. Звали ее — Зоя Богуславская, и вот чем тот пленум запомнился ей:
«Тогда был пик „оттепели“, нас всех повыбирали в правление Московской писательской организации, там были Гладилин, Аксенов, Вознесенский, Евтушенко… Так вот, на этом пленуме была полемика такая, страшная драка. А до того я разразилась статьей в „Литературной газете“ — о повести Бориса Балтера „До свидания, мальчики!“, ослепительной, пленительной совершенно. В ответ на грибачевское „Нет, мальчики“ и нападки на эту повесть, как сентиментальную, интеллигентскую и упадническую. Тогда было много разных терминов, которыми уничтожали нормальную литературу факта, литературу правды. Грибачев, Кочетов — все они были нашими идеологическими противниками.
И вдруг Вознесенский, выступая на этом пленуме, говорит: „Нам нужны такие критики, как Зоя Богуславская…“ Про меня никто никогда ничего такого не говорил, никогда мое имя не произносилось с такой высокой трибуны, да еще устами человека, любое слово которого ловили тогда тысячи поклонников (я уж не говорю о множестве девиц, сходивших от него с ума и бегавших за ним). Мне было очень неловко слышать эти слова о себе — но я, конечно, была тронута до глубины души. На меня это произвело тогда впечатление ошеломляющее!»
Всего-то полгода пройдет, и 3 апреля 1963-го, после очередного писательского пленума, «Правда» напечатает письмо Аксенова под заголовком «Ответственность»: «На пленуме прозвучала суровая критика неправильного поведения и легкомыслия, проявленного Е. Евтушенко, А. Вознесенским и мной… Еще легкомысленней было бы думать, что сегодня можно ограничиться признанием своих ошибок. Это было бы не по-коммунистически, не по-писательски… Я считаю, эта критика была правильной». Сорок лет спустя в романе «Кесарево свечение» Аксенов вставит свои стихи — о том же: «Оттепель, март, шестьдесят третий, / Сборище гадов за стенкой Кремля, / Там где гуляли опричников плети, / Ныне хрущевские речи гремят… / Ржут прототипы подонков цековских / С партбилетами на грудях…»
Время редко сохраняет оттенки, оставляя лишь трафарет: черное — белое. А без оттенков — вряд ли что поймешь и почувствуешь. Аксенов так же размашисто проведет черту перелома «шестидесятничества» — связав это с годом шестьдесят восьмым и танками в Чехословакии. Но «переломы» у каждого были свои. И эволюция (не революция!) поэта и гражданина Вознесенского — мировоззренческая, метафизическая — началась как раз тогда, с хрущевского марта 1963-го. В каком-то смысле — спасибо товарищу Хрущеву. Вознесенский никогда не придет к черно-белому пониманию истории и мира вокруг, у него все окажется сложнее и тоньше. Тем и интереснее.
* * *
«С моей точки зрения, — поделится Богуславская в документальном фильме „Андрей и Зоя“ (2010 год), — Андрей Андреевич тогда был еще совершенно желторотый. Поэт, который взмыл в начале шестидесятых, — уже в Париже был на главной сцене, уже общался с Пикассо, Артуром Миллером и семьей Кеннеди. Уже ощутил себя избранником, поэтом мира, кумиром — и вдруг такая порка. Причем Хрущев это сделал прилюдно. Он и сам спохватился — ну, ладно, работайте, вот вам моя рука, — когда увидел этот ревущий от злобы зал и этого тоненького поэта с длинной шеей, кадыком и ребрышками напросвет. Ну и чего после этого нависшего генсека с кулаками было ждать Андрею Андреевичу?
Когда мы поженились (об этом, читатель, речь у нас еще впереди. — И. В.), он же был абсолютно инфантильным, он не только ничего не знал по дому, он жил в своем достаточно рафинированном мире, знал про „дюралевые шасси“, „синхрофазотроны“ и осень в Сигулде… „Крамолы“ никакой он не писал, крамола в его понимании вообще — это все, что против свободы. По большому счету, у него не было друзей. Ближайшего друга, в обыденном понимании, такого, кому душу излить, никогда не было. Вот у меня были друзья, а одним из свойств его как поэта было именно одиночество. Был он — и другие. Были Булат, Женя, Роберт и Белла, было единомыслие — как оселок, на котором зиждились их отношения.
После крика Хрущева ему все сочувствовали, но… он же ни с кем никогда и не делился. Может, потому и получилось так — я уже была месяцев пять возле него, как поверенная, как друг, — и вот, он как бы прислонился… Это был очень трудный период. Но нам все равно казалось, жизнь прекрасна».
Вознесенский скажет в одном из интервью уже в двухтысячные — о выдохшейся «оттепели»:
— Я думаю, ее бы никто не смог прикрыть, если бы она развивалась. Но она именно выдохлась, что понимают немногие — это было видно тогда, изнутри. Антисталинский посыл закончился довольно рано, чтобы дальше идти, нужно было опираться на что-то более серьезное, чем социализм с человеческим лицом, — или на очень сильный, совершенно бесстрашный индивидуализм, или на религию. У меня, как почти у всех, был серьезный кризис взросления, но он случился раньше «официального» конца «оттепели», задолго до таких ее громких вех, как процесс Синявского и Даниэля или танки в Праге. Думаю, это был год шестьдесят четвертый. Выход был — в религиозную традицию, в литургические интонации, но это не столько моя заслуга, сколько генетическая память, которая подсказала их. Вознесенские — священнический род… Мне кажется, я после «оттепели» писал интересней. Хотя и в «Мозаике» особенно стыдиться было нечего.
* * *
Да, весна.
Да, «графоманы Москвы» судят строго — но их «ядра пусты точно кольца от ножниц» («Графоманы Москвы…»).
Да, он посвящает другу В. Аксенову «Морозный ипподром»: «Ты думаешь, Вася, мы на них ставим? / Они, кобылы, поставили на нас».
Да, свистят и улюлюкают.
Но кто свистит? Свисток считает, что он свистит. Сержант считает, что он свистит. Закон считает, что он свистит. Планета кружится в свистке горошиной, но в чьей свистульке?..Да, «Хохочут лошади. / Их стоны жутки: „Давай, очкарик! Нажми! Бодрей!“».
Да, язык бюрократа «проштемпелеван лиловыми чернилами, будто мясо на рынке». Языки клеветников — «как перцы, фаршированные пакостями» («Языки»).
Да, по тротуарам летят фигуры, вцепившиеся зубами в облачка пара изо рта — и «у некоторых на облачках, как в комиксах, были написаны мысли и афоризмы» («Языки»).
А все равно — весна. И где-то в Крыму все равно цветет миндаль. И все равно — «солнце за морскую линию / удаляется, дурачась, / своей нижней половиною / вылезая в Гондурасах» («Морская песенка»).
И «пускай судачат про твои паденья-взлеты» — от этой качки помогает «Морская песенка» поэта:
Страшись, художник, подлипал и страхов ложных. Работай. Ты их всех хлебал большою ложкой!На спинку божия коровка легла с коричневым брюшком
Еще одно событие начала шестидесятых, затертое потом и будто бы ушедшее в тень — но тем не менее значительное. Обсуждали его бурно, и у многих как-то засело оно в головах. Такие события поэтов часто цепляют сильно. Зацепило и Вознесенского. 2 июля 1961 года Эрнест Хемингуэй покончил с жизнью выстрелом в голову из инкрустированной серебром двустволки «Ричардсон» 12-го калибра.
Мир, облепленный портретами брутального бородача, вздрогнул. Как же так, кумир, Ham-and-eggs, никакая не ветчина, а натуральный Хэм с яйцами — и вдруг? Впрочем, кажется, уже назавтра Хэма стали быстро низвергать с былых высот: спецслужбы рьяно выволакивали любое дерьмо о писателе, в унисон спецслужбам тонко морщились эстеты: «фи». Почему «фи»? Ну… если вы не понимаете, почему «фи», так о чем же с вами говорить?
Юрий Трифонов тогда, наслушавшись, признался: «Я слышал много пренебрежительных и иронических замечаний о Хемингуэе у нас в стране и на Западе, видел насмешливые улыбки снобов. „Неужели вам нравится Хемингуэй?“ Я должен был конфузиться и чувствовать себя старомодным и недостаточно интеллектуальным, польстившимся на ширпотреб. Но я не конфузился».
Любопытную запись тогда же оставил в своем дневнике Жорж Сименон, уставший от «глупостей, которые пишут в газетах по поводу самоубийства Хемингуэя». Папаша комиссара Мегрэ вспомнил, что за год до Эрнеста умер Блэз Сандрар, писатель и поэт, вдохновлявший сюрреалистов. Сименона поразило вот что: оба они, Сандрар с Хемингуэем, были схожи характерами, яркими поворотами биографий, оба воспевали в своих романах «грубые радости и благородство бесстрашного мужчины». Обоих жизнь поставила перед выбором. Хемингуэй выбрал пулю. Сандрар «не только не покончил с собой — он прожил многие годы, больной, парализованный, ожесточенно борясь с болезнью, и, говорят, отказался от всех лекарств, которые могли бы утешить его страдания, с тем чтобы до конца иметь ясную голову». Сименон уверен, «никто не мог бы сказать, какое из двух решений более оправданно»… Опять придется забежать вперед — но очень скоро в горячей голове Вознесенского мелькнет вдруг мысль о «выборе Хемингуэя». А много лет спустя он разделит мучительный «выбор Сандрара». Кто это мог знать тогда? Может, только поэтам и дано — предчувствовать?
В августе 1965-го журнал Atlantic Monthly впервые опубликует посмертно две поэмы Хемингуэя. И короткую историю их появления — от последней жены писателя, Мэри. Почему за них вдруг жадно ухватится Андрей Андреевич? Уже в сентябрьском номере журнала «Иностранная литература», а следом и в «Литературке» — пулей — поэмы Хемингуэя появятся в переводах Вознесенского. Своеобразие его переводов когда-то заставило улыбнуться Пастернака: в них Вознесенского бывало больше, чем автора в первоисточнике. С Хемингуэем случилось то же. Но главное, что казалось самым важным Вознесенскому, — сохранился нерв поэм, в переводе ставших циклом стихотворений.
Конечно, Вознесенский помнил, что Хемингуэй как раз одним из первых поддержал когда-то Пастернака в безумной сваре вокруг его Нобелевской премии. Это понятно. Но что все-таки за нерв? Поэмы написаны в 1944-м, когда Хемингуэй добрался из Гаваны в Лондон, где успел встретить Мэри Уэлш (она и станет его последней женой), после чего отправился воевать в составе отряда французских партизан. Поэмы ей и посвящались. Одна поэма течет к другой, как туман вытекает к свету. Как одинокий человек, бредущий сквозь войну и мрак непонимания — к обретенной любви.
Тоскуется. Небрит я и колюч. Соперничая с электрочасами, я сторожу неслышное касанье. Я неспроста оставил в двери ключ. Двенадцать скоро. Время для ворья. Но ты вбежишь, прошедшим огороша. Неожидаемо тихоголоса, ты просто спросишь: «Можно? Это я».На «Военную тетрадь» Хемингуэя в переводах Вознесенского наткнулся режиссер Театра им. Ленинского комсомола Анатолий Гинзбург. Он позвонил композитору Микаэлу Таривердиеву, предложил написать музыку к этим стихам для будущего спектакля «Прощай, оружие!». Таривердиев позже расскажет в книге «Я просто живу»: стихи потрясли его настолько, что музыку он сочинил за неделю, на одном дыхании — ему казалось, что весь этот кошмар происходит с ним, не бывавшим никогда на войне, будто это он лежит раненый в окопе, это он идет с ротой убивать других, это его прокалывают штыком, и возможно ли, убивая других, оставаться человеком, несущим в себе любовь?
Первым исполнителем таривердиевских зонгов в спектакле «Прощай, оружие!» был Армен Джигарханян. Когда он из театра ушел, исполнять их доверили совсем молоденькому Коле Караченцову. Тому самому, кто станет на многие годы бессменным ленкомовским графом Резановым в «Юноне и Авось». Но встреча с Вознесенским у него пока впереди — до нее еще лет десять. А Таривердиев в студии Всесоюзного радио записал и отдельно свой цикл песен-монологов «Прощай, оружие!». «Я пытался, — объяснит он, — сделать высокую поэзию более доступной. Так стали появляться эти мои странные циклы. Не песни. Но и не романсы. Эстетика третьего направления».
У Вознесенского были свои причины обратиться к Хемингуэю: полоса такая в жизни была, пограничная, между войной и любовью. Отчего они у поэта все время рядом? Оттого что обе — как оголенный провод. Кого ударит — того наповал.
* * *
А 14 апреля 1964 года в мастерскую Эрнста Неизвестного забежит Динка. И коснется гипсовой модели мизинцем с облупившимся маникюром… Та самая Динка, Мухина, возлюбленная скульптора, мать его дочери Оли. Та самая Динка — из «Реквиема в двух шагах с эпилогом», написанного Вознесенским тоже по следам хрущевских эпопей.
С Неизвестным — удивительное дело. Настолько они с Вознесенским разные, и биографиями своими, и характерами, и настолько совпадают в ощущении человеческого микрокосмоса. Бывший фронтовик Неизвестный — скульптор с тремя выбитыми ребрами и межпозвоночными дисками, разорванной диафрагмой, шрамами и контузией, получивший заключение врачей о полной нетрудоспособности и необходимости опеки. И поэт Вознесенский — уже за тридцать перевалило, а все кажется, юноша с тонкой шеей, мама вот очень волнуется, поклонницы от Лужников до города Парижа и аж за океан, а самое серьезное ранение нанесено тем самым криком Хрущева, который до сих пор в ушах.
Ничего же общего.
Но вдруг у Вознесенского: «На спинку божия коровка / легла с коричневым брюшком, / как чашка красная в горошек, / налита стынущим чайком. / Предсмертно или понарошке? / Но к небу, точно пар от чая, / душа ее бежит отчаянно».
Но вдруг у Неизвестного: «Для меня война — это отдельно стоящее дерево, или сооружение, или бруствер, или вдруг божья коровка, которая по траве перед твоим носом ползет».
В 1976 году скульптора, ничем не оскорбившего свою страну, а только пролившего кровь за нее, все-таки вынудят уехать навсегда. Дина с дочкой Олей с ним не поедут. В Америке рядом с ним окажется жена Аня. А Энди Уорхол произнесет знаменитую фразу: «Хрущев — средний политик эпохи Эрнста Неизвестного».
Но и это все еще впереди. А пока Вознесенский пишет о том самом рукопашном бое, когда лейтенант 45-го десантного полка 860-й гвардейской десантной дивизии Второго Украинского фронта Эрнст Неизвестный «одним из первых поднялся в атаку, будучи ранен» (из наградного листа). Наградили его орденом Красной Звезды посмертно — а он выжил и орден четверть века спустя получил.
А вот если бы правильное искусство освоил, не был бы «неизвестный», а был бы «известный», — каламбурил пухлый Никита Сергеич. «Неизвестный — реквием в двух шагах с эпилогом» — назвал стихотворение щуплый Вознесенский.
Дыхание сбивается, в висках стучит вопрос: что может заставить человека жертвовать единственной жизнью? Он же по сути просто «божья коровка». Лейтенантик, который мог бы залечь на дно окопа, переждать — а он прет зачем-то против «четырехмиллионнопятьсотсорокасемитысячвосемьсотдвацатитрехквадратнокилометрового чудища». Прет — понимая, что столького в жизни может уже не узнать, не увидеть. Зачем? Действительно, зачем добровольно шел умирать тот лейтенант, божья коровка? Через каких-нибудь полвека читатель будет тоньше и ученее, каламбурчики будут почище хрущевских. И он, тот далекий читатель, вдруг поймает себя на том, что ему чужд и непонятен этот пафос: это что, понарошку, разве на следующем уровне этой игры не добавят герою несколько жизней?
Но лейтенант Неизвестный, но поэт Вознесенский всегда будут знать, что — не зря. Что останутся и через полвека те, кто все же поймет — зачем этот треск переломанных ребер, эта боль перебитых позвонков, эти клочья дыхания с кровью.
…в отличие от зверей, — способность к самопожертвованию единственна у людей. Единственная Россия, единственная моя, единственное спасибо, что ты избрала меня.Про любовь все это было, про любовь.
Не пафосную совсем, а естественную. Была весна.
Поэт Вознесенский продирался к любви, как умел.
Как умел только он — у каждого это по-своему. Два шага к любви. Большой и настоящей. Без этого поэты — не поэты. Даже если…
Даже если — никакой надежды, никакого намека на «оттепель», только мороз по коже и т. д.
Я — киж, а ты — кижиха
«…A близость наступила в квартире, которую мы сняли в Ялте на улице Чехова. Холод был неимоверный. Мои первые ощущения любви были связаны исключительно с холодом. Потому что надо было все-таки раздеваться, а было очень, очень холодно», — шутит Зоя Богуславская в фильме «Андрей и Зоя».
* * *
«Дверь открылась без стука, и тут же порог перешагнула волшебная Фоска, — так воображал себе эту сцену в романе „Таинственная страсть“ Василий Аксенов, подразумевая под Фоской или Софкой Зою, а под дверью — дверь в комнате поэта Андрея в дубнинской гостинице. — Сбросив платье, которое, словно животное ласка, легло рядом с отчаявшимся пиджаком, она прыгнула в постель. И сквозь объятия зашептала: „Мой любимый, мой мальчик, какой ты милый, какой ты храбрый, какой ты герой, какой ты гений, теперь давай немного помолчим, вернее, я немного помолчу, а ты камлай немного надо мной!“ Он оглаживал ее белокурый шлем волос, трогал уши, сгибался, чуть не ломаясь, чтобы поцеловать в глаза, и бормотал: „Фоска, Фоска, мы дети Босха. Софка, Софка, где твоя подковка?“ Ей все казалось, что она плывет под поверхностью бухты, потом продувает трубку, выныривает и продолжает повторять заклинание, похожее на осетинское имя: „Какой-ты, какой-ты, какой-ты…“ А он ее вытаскивает из бухты и тащит поближе к себе, чтобы не утонула, и тащит снова и снова, а она бормочет ему в ухо: „Какой ты мощный, какой ты немолодых дам мучитель…“»
Вот ведь что творили.
Но тут — переведем дыхание и выдвинем решительный протест. Выше приведенная сентиментальная цитата не имеет никакой научной ценности! Эмпиреями науку не перебьешь! Имеются ли у романиста по данному факту документальные свидетельства, свечки, факты?
— Бог мой, ну кто от Аксенова ждет фактов? — воскликнет по этому поводу подозреваемый Вознесенский. — Он всех нас сделал героями эпической поэмы. В «Илиаде» что, много фактографии? Совпадает общий каркас: ахейцы брали Трою… Но история написания «Озы», которую я и сейчас считаю лучшей своей вещью в шестидесятые, — там вполне точно изложена, просто это точность не дословная, не биографическая. Он же не мемуары писал. Это дошедший до нас взрыв любви. Вот как звезда взрывается, ее уже нет, а взрыв виден. Совершенно целебная проза, излечивающая.
Подозреваемая Богуславская также начисто отрицает свою вину: да, было — но не в Дубне. Ну… «Дубна — это наша как бы крестная мать с Андреем».
Вещдоки? Имеется лишь кресло, переданное местной жительницей Инной Кухтиной на хранение заместительнице директора дубнинского Дворца культуры «Мир» Любови Орелович, занимавшейся устройством музея. Но все показания свидетельницы сводятся к тому, что в этом самом кресле сидел поэт, приехавший как-то среди ночи вместе с Зоей и Владимиром Высоцким. Последний громко пел до утра. Ничего более подозрительного соседи в ту дивную бессонную ночь не услышали, так что жалоб не поступало.
Дело можно было бы считать закрытым — если бы последствия его не растянулись на всю оставшуюся жизнь Андрея и Зои. Собственно, читателю и предстоит еще вникать в это дело до последней страницы книги. Пока же — вернемся в Дубну.
Вознесенский часто говорил о том, что в шестидесятые годы постоянный круг его общения чаще составляли «так называемые технари», физики Дубны, Новосибирска, Крымской обсерватории. Чем они оказались интересны поэту? «Советские принцы пятидесятых, ядерщики и прочие оборонщики, — рассуждал Вознесенский (Собеседник. 2010. 10 марта), — купались в государственной любви, были элитой в греческом смысле — культуру знали, за поэзией следили, жили пусть в закрытых, но теплицах… Но потом они поняли, что служат дьяволу, из них и сформировалось диссидентское движение — физикам же больше присуща умственная дисциплина, гуманитарий разбросан, „пугливое воображенье“. Сахаров потому и стал его вождем, что — физик, другая организация ума и другая степень надежности. Потом по-разному у всех сложилось, кто-то уехал, кто-то разочаровался, но в общем я не видел в жизни лучшей среды…»
Зоя Богуславская вспоминает первую поездку в Дубну вместе с Андреем — в шестьдесят третьем. Как раз тогда сама она задумывала повесть о юных физиках «…и завтра». Повесть ее будет опубликована в 1967-м. А вот как Зоя Богуславская рассказывает о том, что происходило четырьмя годами раньше:
«Вскоре после того писательского пленума, где Вознесенский поддержал меня, как критика, — он вдруг говорит мне: „Поедешь со мной? Меня приглашают в Дубну прочитать лекцию“. У меня в голове повернулся винтик, я подумала: „А-а, вот тут-то я и сделаю оселок для моей повести ‘…и завтра’“. В этом смысле Дубна была мне очень кстати. Ему-то надо было что-то другое, он уже тогда относился ко мне несколько иначе, чем я к нему. А мне надо бы завязать знакомства там, в Дубне — повесть ведь я задумала о своих современниках, о физиках.
Я согласилась поехать с Вознесенским от бюро пропаганды художественной литературы: „Бог с вами, я подготовлю вступительное слово к вечеру Вознесенского в Дубне“… Есть фотография с того вечера — он наклоняется ко мне и что-то спрашивает. А он спрашивал все время: „Чё для тебя прочитать?“… Все в Дубне было очень платонически и никакими там физическими отношениями не кончилось. Но, конечно, если все же говорить о начале нашего романа, то началось все в Дубне.
Он бегал тогда за мной как зарезанный. У меня хранятся сотни его сексуальных телеграмм, которые я никому не показываю. Но у меня тогда были совсем другие пристрастия… Ну поэт, ну сегодня у него один предмет обожания, завтра розы, послезавтра телега переехала, еще что-то, — как я могу поэту верить? Да мне и не хотелось — он моложе, у меня семья и ребенок.
Поймите же, очень крепкая была семья — а он оттуда меня уводил. И решающим стал тот момент с причалом…
Значит, дело было так. Я увидела, что есть путешествие по Волго-Балту, открытие, первый туристический круиз, — и меня туда понесло. И я взяла с собой сына Леньку, которому было лет восемь. И вот мы поплыли. Останавливались в потрясающих русских городах. На каком-то этапе вдруг у трапа ко мне подходит то ли радист, то ли заместитель капитана, и говорит мне, вручая огромадный букет: „Вы Зоя Богуславская?“ — „Я“.
И потом на каждой остановке радиорубка передавала по всему теплоходу: телеграмма Озе Богуславской, телеграмма Зое Богуславской, телеграмма леди Богуславской… Он меня засветил, мне и выйти из каюты уже было неловко, настолько это была тотальная атака. Я была уже накалена до крайней степени, и когда мы сошли в Петрозаводске, вдруг в конце причала, в глубоком далеке вижу фигуру Вознесенского…
Оказывается, он сутки уже ждал — думал, я увижу, оценю и растаю. Но я сказала: „Прошу тебя, не преследуй меня больше, ты меня компрометируешь“. И что-то еще в том же роде, очень злое. Он развернулся, побелев как полотно, и сказал: „Я больше никогда не буду тебя преследовать“. И ушел.
Мы отплываем обратно, а у меня на душе — ну что же я сделала, обидела, ну какая я сволочь… Испереживалась. Тут мы подплываем к пункту Вознесенск — и я посылаю телеграмму ему домой, его маме, на Красносельскую, 45–45. Пишу так: „Хожу по Вознесенскому городу, любуюсь Вознесенскими улицами, райком Вознесенска принимает членские взносы, на углу продают веники Вознесенского — рубль штука“. Такая оливковая ветка примирения.
Когда я вернулась, я была уверена, что меня ждут. И я уже ищу глазами на причале — но никого кроме моей семьи нет. Мне говорят, ну чего ты ждешь, садимся. А я оглядываюсь. Но его нет. И домой пришла — никаких звонков. Так надолго он пропал впервые. Но… нет и нет.
На какой-то день звонит его мама, Антонина Сергеевна: „Зоечка, а вы не знаете, где Андрей, он, как уехал, так ни разу не позвонил“… И тут я начала паниковать: мало ли что могло случиться. Тогда, думаю, и наступил перелом — я поняла, что теряю, могу совсем потерять его. Все-таки я была очень противная по отношению к мужчинам… И вот — он звонит и говорит: „Милая, я жив, не беспокойся, но я никогда не буду стоять в очереди за…“ Он назвал тогда не Бориса, моего мужа, а другого мужчину, и небезосновательно. Ну, ладно. А на следующий день он позвонил: „Милая, я буду стоять в очереди за кем угодно, только не гони меня“… И тут во мне что-то сломалось. Во мне вообще силен мотив сострадания и вины.
Мы стали встречаться… А близость у нас с ним наступила много времени спустя в Ялте, где было очень холодно… Помните, в „Озе“: „Выйду ли к парку, в море ль плыву — / туфелек пара стоит на полу. / Левая к правой набок припала, / их не поправят — времени мало. / В мире не топлено, в мире ни зги, / вы еще теплые, только с ноги…“
И вот тогда, перед возвращением в Москву, Андрей Андреевич сказал: „Напиши заявление о разводе“. И я в Ялте под его диктовку написала: „В связи с тем, что у меня образовалась другая семья, прошу развести нас“.
Но когда я прилетела, меня встретил совершенно другой мир ощущений. Там я была под ураганом гибельности этой страсти Андрея — а тут мне Борис говорит: „Ты пойми, это поэт, завтра ты перестанешь быть его музой, все это преходяще и несерьезно, ты уходишь из семьи, с которой столько связано, у нас ребенок, я тебя люблю, что ты творишь со своей жизнью“… И наконец Борис сказал мне следующее: „Знаешь, я взрослее тебя, ты совершаешь безумный поступок, ломаешь все. Я тебя прошу, ровно через год, — а мы сидели с ним в ресторане, он посмотрел на часы, какое число, время, — давай через год встретимся здесь же. И ты спрячешь свое самолюбие, свой свободный характер, и мы вернемся к прежней жизни. Потому что я уверен, что не будет у вас ничего хорошего, ты не выдержишь больше года“. Я пообещала. Откуда я знала, как все сложится? Он же был прав. Но… вместо одного года — после того разговора с Борисом прошло 45 лет…»
* * *
Не всегда воспоминания муз бывают точны. Но что касается воспоминаний жен — это, конечно, святое. Все переживания Вознесенского тех лет — в его стихах. В «Киж-озере»: «Мы — Кижи, / Я — киж, / а ты — кижиха. / Ни души. / И все наши пожитки — / Ты, да я, / да простенький плащишко, / да два прошлых, / чтобы распроститься!..»
Мы чужи наветам и наушникам, те Кижи решат твое замужество, надоело прятаться и мучиться… ……………………… Завтра эта женщина оставит дом, семью и стены запалит. Вы, Кижи, кружитесь скорбной стаей. Сердце ее тайное болит.За «кижихой» — обжигающее «Замерли»: «Заведи мне ладони за плечи, / обойми, / только губы дыхнут об мои, / только море за спинами плещет…»
Наши спины — как лунные раковины, что замкнулись за нами сейчас. Мы заслушаемся, прислонясь. Мы — как формула жизни двоякая. На ветру мировых клоунад заслоняем своими плечами возникающее меж нами — как ладонями пламя хранят… …………………………… … А пока нажимай, заваруха, на скорлупы упругие спин! Это нас прижимает друг к другу. Спим.Зоя, — кричу я, — Зоя!
В октябре 1964 года журнал «Молодая гвардия», а следом «Литературная газета» опубликовали поэму «Оза». Поэма оказалась оглушительной. По шуму восторгов, и одновременно — злобной реакции на нее. Что объяснялось отчасти и тем, что в виртуальном Зазеркалье «Озы» узнавали себя многие «сидельцы ЦДЛ».
«Поэма породила тьму пародий и разгромных статей, — писал сам Вознесенский в эссе „Деревянный ангелок“. — А наш мэтр, В. П. Катаев, сказал, что „Оза“ натолкнула его на создание его „новой прозы“». Подзаголовком к поэме значилось: «Тетрадь, найденная в тумбочке дубнинской гостиницы». В публикации указаны города, где Вознесенский поэму писал: Дубна — Одесса.
Но прежде, чем о существовании «Озы» узнали читатели, случилось нечто странное. Лучше, если об этом расскажет сам поэт. Это история о том, как ему «спас жизнь» главный редактор журнала «Молодая гвардия» Анатолий Никонов. Сам Никонов, впрочем, об этом, кажется, и не подозревал — они с Вознесенским «не близки ни в жизни, ни в литературе» и чаще обходили друг друга стороной. Однако — что было, то было:
«Неудавшиеся самоубийства часто вызывают юмор, это — тоже.
Судьба моя неслась с устрашающим ускорением. Я запутался. Никто не хотел печатать мою поэму „Оза“. Я считал ее самой серьезной моей вещью. Опустошенному после написания, мне казалось, что я больше ничего не напишу. Я понял, что пора кончать.
Близкие знают, что я никогда не жалуюсь (разве листу бумаги), не плачусь друзьям и подругам в жилетку, не изливаюсь, не имею привычки делиться на бабский манер. Бестактно навязывать свои беды другому, у всех наверняка хватает своих.
Но тут подступил край. Непроглядная, затягивающая дыра казалась единственным выходом.
Я попробовал собраться с мыслями. Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующие отправления организма тоже. Меня, в ту пору молодого поэта, устраивала только дырка в черепе.
Я написал два предсмертных письма. Одно адресовалось Генсеку КПСС. Я писал, что больше не буду мешать строительству социализма, что я добровольно ухожу, но прошу опубликовать мое последнее произведение. Второе письмо обращалось к незнакомому мне Президенту Кеннеди. Смысл был тот же. Копии я дал на хранение знакомой.
Я заклеил два конверта-завещания и пошел к Саше Межирову, у которого был немецкий, вороной пистолет.
Саша — фантазер, мистификатор, виртуальный реалист, но пистолет я сам видел, он сладко оттягивал мне ладонь…
„Дайте мне его на три часа, — объяснил я убедительно. — Меня шантажирует банда. Хочу попугать“.
Знаменитые стопроцентно правдивые глаза уставились сквозь меня, что-то смекнули и вздохнули: „Вчера Леля нашла его и выбросила в пруд. Слетайте в Тбилиси к Нонешвили. Там за триста рэ можно купить“.
Два дня я занимал деньги. Наутро перед отлетом мне вдруг позвонили от Н<иконова>: „Старик, нам нужно поднять подписку. У тебя есть сенсация?“ Сенсация у меня была.
В редакции попросили убрать только одну строку. У меня за спиной стояла Вечность. Я спокойно отказался. Бывший при этом Солоухин, который знал ситуацию, крякнул, но промолчал. Напечатали.
Держа свежий номер журнала или потом, заплывая в утренней реке, я думал, каким я мог быть кретином тогда — не увидеть столького, не узнать, не встретить утром тебя, не написать этой вот строки.
И с каким смехом и недоумением прочитали бы мои письма высокие адресаты. Если бы получили. „Мы не зря считали, что он шиз, и поэма его об этом говорит. Смешно эту галиматью печатать“, — позабавились бы в первом случае. Ну, а американцы — только бы пожали плечами… Ах, эти страдания виртуального Вертера…»
Курьез? Можно отнестись к этой истории как угодно. Кому-то покажется, что есть в этом некая «поза». А с колокольни нового столетия кто-то еще и позавидует: надо же, какой пиар-ход… Ах, если бы только знали в те времена, что такое «пиар». И если бы тогда — Вознесенский носился с этой историей. Но вспомнил он ее десятилетия спустя. Какой же смысл сочинять про себя курьезы задним числом?
На самом деле все могло быть серьезнее. Пожалуй, со времен Есенина (если, конечно, он сам покончил с собой), Маяковского, Цветаевой самоубийства стали обрастать самурайским ореолом поэтической жертвенности. «Точка в конце пути» — как поэтический жест. Поэты — люди нервные, воображение богатое. Жест неестественный, безрассудный — но всегда нетрудно подкрепить его логическим объяснением.
«…Вчера разнесся слух, что Евтушенко застрелился. А почему бы и нет? Система, убившая Мандельштама, Гумилёва, Короленко, Добычина, Мирского, Цветаеву, Бенедикта Лившица, замучившая Белинкова, очень легко может довести Евтушенко до самоубийства», — записал 12 апреля 1969 года в дневнике Корней Чуковский. Сам Евтушенко, кстати, напоминал, что слухи о его самоубийстве расползались и в шестьдесят третьем.
К началу XXI столетия действительно случится череда самоубийств поэтов. Мир, правда, изменится настолько, что такой выход из жизни станет для некоторых поэтов едва ли не единственным шансом — чтобы узнали, услышали, оценили. При загадочных обстоятельствах утонет в Москве-реке Илья Тюрин, покончит с собой Борис Рыжий, чуть позже аж в Эквадоре застрелится Андрей Ширяев. Самоубийство каждого обернется чудовищным открытием: ба, так он — настоящий поэт. А если поэт, по словам Александра Блока, вносит в мир гармонию, объединяя мир созвучиями и образами, рифмуя его с собой, — то каждый такой добровольный исход лишь умножает хаос…
Так что метания Вознесенского, при всем этом юношеском позерстве, — совсем не так нелепы и курьезны, как кажется. В головы поэтам не влезешь — а по молодости лет не все находят выходы из лабиринтов чувств и мыслей. И счастье, что все обошлось.
…А что за шорох там в кустах? Все тот же критик — с книжкой. Швыряет, топчет. Ага, говорит, попробовал на себе — усижу над Вознесенским хоть пять минут? И одной минутки не усидел! После этого не говорите мне, будто на стадионы ходят «читатели стихов» — там одни слушатели, зрители, любители кощунства, «Оз» и выкрутас! Да, и вот еще. Что касается той самой «Озы» (оглядываясь по сторонам), знающие люди говорят, что в нескольких фрагментах поэмы — имеются свидетельства психических аномалий. Ну вот что это — вы читали:
«„Зоя, — кричу я, — Зоя!..“ / Но она не слышит. Она ничего не / понимает. // Может, ее называют Оза?»
Доктора! Доктора! Человек голову совсем потерял!
Глава седьмая А НА ФИГА?
Вся твоя маскировка — 30 метров озона
«Долгое время над моим письменным столом висел портрет Андрея Вознесенского, — вздохнет полвека спустя нижегородская поклонница поэта Татьяна Шестерова, трогательно вспоминая молодость своей жизни. — Мне он помогал сосредоточиться, привести свои мысли в порядок. Так, во всяком случае, мне казалось…
До сих пор я берегу „рукописное издание“ поэмы „Оза“, которое мне подарила моя московская подружка. Я нигде не могла достать в нашем городе этой поэмы, чтобы хотя бы ее почитать, и моя подруга переписала ее и прислала мне в подарок. Об „Озе“ было много разговоров, прочитавшие поэму свысока поглядывали на нас, невежд, и бесконечно цитировали поэму. „А не махнуть ли мне на море? — вопрошали начитанные интеллектуалы, с усмешкой наблюдая наши удивленные взгляды и поясняя, — глава седьмая, ‘Оза’ Вознесенского“. Да, есть в поэме такая короткая, из одной фразы, глава. И есть глава о цинике и подонке черном вороне с синими очами, которого герой встретил „в час прилива возле чайной“.
Когда я начала читать „Озу“, то поняла, что лучше о любви сейчас, в век автоматики, кибернетики и тотального дефицита, не скажешь… Как сказал Марк Захаров, главный режиссер „Ленкома“, „его стихи мне душу выворачивают, сводят с ума“. Так вот для меня и сейчас — кажется, они даже стали глубже и звучат по-новому» (Нижегородская правда. 2010. Июнь).
* * *
«Оза» казалась ни на что не похожей, и это было возмутительно. Или прелестно. Кому как.
Если же искать что-то близкое по интонациям, то можно услышать в «Озе» вдруг туманное эхо «Любовной песни Дж. Альфреда Пруфрока» — прелестного стихотворения Томаса Стернза Элиота. С душными гостиными, где «дамы тяжело беседуют о Микеланджело», с русалками, что «космы волн хотели расчесать». Во всяком случае, совершенно точно известно, что среди поэтов, интересовавших в эти годы Вознесенского, Элиот значился в первых рядах. Встретиться с ним, правда, Андрей Андреевич, как ни хотел, — не сумел: Элиот скончался в январе 1965-го. Сам факт любопытен — речь здесь о круге интересов, о пересечениях и отражениях на уровне небесных сфер. Не о «заимствованиях», которыми — подтаскивая за уши все, что можно, — старались уязвить Вознесенского те коллеги и критики, которые питали к поэту одну, но пламенно-злобную страсть.
Что за Оза? Объяснение, как правило, одно — и непонятное совершенно: Оза — это перевернутое имя Зоя. Но «Зоя» наоборот — по буквам: Яоз. Зато, если повторять слитно: Зоязоязоязоязоязоя… — звуки образуют электрическую цепь, из зуммера которой вдруг возникнет отчетливо «Оза».
Есть в поэме ясный сюжет? Женщина стоит у циклотрона. С этого заверчивается все — и события перетекают из реальных в воображаемые и обратно. Экспериментщик верит, что роботы отменят потребность в чувствах. На тетрадке (найденной в тумбочке) чей-то почерк: «Автор — абстрактист!» Писатели озабочены бутербродом с красной икрой: он ползет в невидимом поэте, как красный джемпер в лифте. (Безобразие, а их килькой кормят!) Разница между экспериментщиком и окружением Озы в ресторане «Берлин» невелика — и то и другое исключает подлинность чувства. Зоя ускользает и в циклотроне, и в банальном застолье. «Восторженно чужая, как подарок в целлофане».
Строки то хрустальны, то перебиты гротесковой прозой, и сквозь это всё пробиваются литургически: «Аве, Оза. Ночь или жилье, / псы ли воют, слизывая слезы, / слушаю дыхание Твое. / Аве, Оза…»
В самом поэте — два «я». Одно обращено, как к заступнице чистой любви: «Матерь Владимирская, единственная, / первой молитвой — молитвой последнею — / я умоляю…» Второе «я» свисает пьяно с потолка вниз головой, как полотенце: «Дай мне погрузиться в твое озеро».
«Озу» раздирали на цитаты, находя в ней множество волшебных строк.
«А может, милый друг, мы впрямь сентиментальны? / И душу удалят, как вредные миндалины? / Ужели и хорей, серебряный флейтист, / погибнет, как форель погибла у плотин?»
«Ты мне снишься под утро, / как ты, милая, снишься!.. <…> / ты летишь Подмосковьем, / хороша до озноба, / вся твоя маскировка — / 30 метров озона!»
«Когда беды меня окуривали, / я, как в воду, нырял под Ригу, / сквозь соломинку белокурую / ты дыхание мне дарила».
Или это: «Мир — не хлам для аукциона. / Я — Андрей, а не имярек. / Все прогрессы — реакционны, / если рушится человек».
* * *
Скольких еще толкователей и стихогрызов ждет поэма — оставим ее им. А здесь — вместо ученого анализа — лишь семь любопытных моментов, связанных с «Озой».
1. ЗОНА. «Говорили ей, — не ходи в зону! а она… „Зоя, — кричу я, — Зоя!..“ Но она не слышит. Она ничего не понимает. Может, ее называют Оза?»…
И дальше: о прошлом Зоя говорит с поэтом в будущем времени, зато о будущем — в настоящем… А в механическом мозгу Экспериментщика на пороге «зоны» сидит идея — «разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы… Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!»… При этом — никто вокруг ничего необычного не замечает.
Тень этой Вознесенской «зоны» вырастет вдруг в 1972 году у Стругацких в «Пикнике на обочине», из которого Тарковский сделает фильм «Сталкер». И диалоги героев, идущих в Зону за исполнением своих тайных желаний, — вряд ли случайно — перекликаются с «Озой» отчетливо. Вот несколько реплик из этих диалогов, в которых читателю не составит труда услышать это эхо «Озы». Эхо идей и страстей эпохи.
«Писатель. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать! Они только жр-р-ут!»
«Сталкер. Эта труба страшное место! Самое страшное… в Зоне! У нас его называют „мясорубкой“, но это хуже любой мясорубки! Сколько людей здесь погибло!»
«Писатель. Кто вам сказал, что здесь действительно желания исполняются? Вы видели хоть одного человека, который здесь был бы осчастливлен? Да и вообще, кто вам рассказал про Зону?»
«Сталкер. Это ведь единственное… единственное место, куда можно прийти, если надеяться больше не на что. Ведь вы же пришли! Зачем вы уничтожаете веру?!»
«Писатель. Вуаля! Перед нами новое изобретение Профессора! Прибор для исследования человеческих душ! Душемер!»
«Профессор. Это всего-навсего бомба. Двадцать килотонн».
«Профессор. А вы представляете, что будет, когда в эту самую Комнату поверят все? И когда они все кинутся сюда?.. Этакие благодетели рода человеческого! И не за деньгами, не за вдохновением, а мир переделывать! <…> А военные перевороты, а мафия в правительствах — не ваши ли это клиенты? А лазеры, а все эти сверхбактерии, вся эта гнусная мерзость, до поры до времени спрятанная в сейфах?»
«Писатель. Вот еще… эксперимент. Эксперименты, факты, истина в последней инстанции… Все это чья-то идиотская выдумка… Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — еще рана. Душу вложишь, сердце свое вложишь — сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души — жрут мерзость… И все они клубятся вокруг — журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют: „Давай! Давай!..“»
2. СЮРРЕАЛИЗМ. Описания портретов и интерьеров в зоне циклотрона и в ресторанном застолье явно отсылают читателя к сюрреалистическим формам Дали, Магритта, Мура.
Нос у мужчины «вставлен внутрь, точно полый чехол кинжала. Неумещающийся кончик торчал из затылка».
«У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога. „Счастливчик, — утешали его. — Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно“».
3. ИСТОРИЯ ВСПЯТЬ. Короткий фрагмент, где, согласно теории обратного возраста человечества, оно идет от старости к молодости, — напоминает о сюжетном ходе, на котором выстроен рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Загадочная история Бенджамина Баттона», написанный в 1922 году и экранизированный Дэвидом Финчером в 2008-м.
Картинка у Вознесенского демонстрирует возможности создания 3D-эффекта в поэзии (задолго до его появления в кино): все неслось обратно, «баобабы на глазах, худея, превращались в прутики саженцев — обратно! Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев прожженную дырочку на рубашке, юркнула в ствол маузера 4-03986, а тот, свернувшись улиткой, нырнул в ящик стола»…
4. ЗАГАДКА ЗЕРКАЛА. «Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения в ресторане „Берлин“. Зеркало там на потолке. Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечами».
Красиво, конечно. Но эти странные зеркала из «Озы» заставляют вспомнить вдруг о неразгаданном секрете китайских «волшебных зеркал». В 1086 году китайский ученый Шень Гуа в своих «Раздумьях об озере снов» записал: «Есть зеркала, пропускающие свет, на задней стороне которых нанесено около двадцати старинных иероглифов, не поддающихся расшифровке. Эти иероглифы проступают на лицевой стороне и отражаются на стене комнаты, где находится зеркало. Все они схожи между собой, все очень древние, и все пропускают свет».
Отражающая поверхность «волшебных зеркал» была выпуклой, отливалась из светлой бронзы и покрывалась ртутной амальгамой. Внешне от обычного не отличишь — но под солнечными лучами бронза вдруг становилась прозрачной и в зеркале вдруг проступали узоры и знаки, находившиеся на обратной стороне. Ходили туманные слухи о секретных исследованиях китайских зеркал, проводившихся как американцами, так и русскими — математиком Андреем Ершовым, будущим академиком, работавшим с 1961 года в Новосибирском институте программирования и информатики. Исследовали их якобы и в Ленинградском электромеханическом институте под руководством Жореса Алферова, будущего лауреата Нобелевской премии. Возможно, так и было — но сведений об этом никаких: засекретили, дескать. А может, просто ни до чего не докопались. Зато точно известно, что Жорес Алферов занимался разработками в области использования солнечной энергии, всевозможными фотопреобразователями. И не раз уверял, что солнечная энергетика куда перспективнее атомной. Кто знает, что он прочитал на обратной стороне китайских зеркал?
5. НА ПОЛЯХ. В архиве футуриста Алексея Крученых хранится экземпляр «Озы» с несколькими пометками героини поэмы, Зои Богуславской.
Вот мой приятель-лирик: к нему забежала горничная… Утром вздохнула горестно, — мол, так и не поговорили!После этих строк — рукою Зои записано: «А всё же погорели…» Гм, кого она имела в виду? Тут мы ставим многоточие.
6. ВЫПАВШАЯ ГЛАВА. В первой журнальной публикации «Озы» была глава из шести строф, выпавшая из последующих публикаций. В ней были такие, например, строки:
Голова ли от ветра кружится? Или память клубком раскручивается? Будто крутится радиолой Марш бравурный и одиозный. Ты не пой, пластинка, про Сталина…7. ВОРОН. Самая знаменитая глава поэмы — шестая — импровизация на тему стихотворения Эдгара Аллана По The Raven («Nevermore», «Ворон»), опубликованного 29 января 1845 года в газете «New York Evening Mirror». Переводов на русский язык много, точнее — больше двух десятков. Наиболее известным и близким оригиналу считается «Ворон» Константина Бальмонта (1894).
Тень «Ворона» промелькнет у Вознесенского и в стихах последних лет жизни. В «Море»: «„Nevermore“ — над Венерой кричит ворон. „More еще, еще more“ — отвечает мое море». И в «Заверещании» — «Я вернусь спиралью Архимедовой: ворона или Гамаюн?»
Вознесенский часто читал эту главу «Озы» на своих вечерах. Рефрен в ней — «А на фига?!» — звучал двусмысленно. В аудиториях же и вовсе слышали его не так, как написано. Немногих это коробило. Строчки эти продолжают дразнить, поблескивая уже из золотого фонда русской поэзии XX века.
В час отлива возле чайной я лежал в ночи печальной, говорил друзьям об Озе и величье бытия, но внезапно черный ворон примешался к разговорам, вспыхнув синими очами, он сказал: «А на фига?!» Я вскричал: «Мне жаль вас, птица, человеком вам родиться б, счастье высшее — трудиться, полпланеты раскроя…» Он сказал: «А на фига?!» «Будешь ты — великий ментор, бог машин, экспериментов, будешь бронзой монументов знаменит во все края…» Он сказал: «А на фига?!» «Уничтожив олигархов, ты настроишь агрегатов, демократией заменишь короля и холуя…» Он сказал: «А на фига?!» Я сказал: «А хочешь — будешь спать в заброшенной избушке, утром пальчики девичьи будут класть на губы вишни, глушь такая, что не слышна ни хвала и ни хула…» Он ответил: «Всё — мура, раб стандарта, царь природы, ты свободен без свободы, ты летишь в автомашине, но машина — без руля… Оза, Роза ли, стервоза — как скучны метаморфозы, в ящик рано или поздно… Жизнь была — а на фига?!» Как сказать ему, подонку, что живем не чтоб подохнуть — чтоб губами тронуть чудо поцелуя и ручья! Чудо жить — необъяснимо. Кто не жил — что спорить с ними?! Можно бы — да на фига?Заведи мне ладони за плечи
Зоя Богуславская (в фильме «Андрей и Зоя»):
«Свадьбы не было. В 1964 году мы просто поехали в загс на Девятой Парковой и стали мужем и женой. Потом уже все узнали. Но поначалу никто не верил. Одна из четырех моих ближайших подруг держала пари с другой, что мы с Андрюшей никогда не поженимся. Даже когда вторая сказала, что видела паспорт со штемпелем, — она и то не поверила: нет, ты сочиняешь.
Белла Ахмадулина, когда мы еще не были официально женаты, приехала в Дом творчества в Переделкино и повесила мне на шею свой крестик опаловый. Это был такой жест — она опустилась на колени, сняла крестик и сказала: „Он тебя выбрал…“ Они с Беллой очень дружили, долгий, долгий период, и это было сродни влюбленности.
Мы с Андреем оба родились в Москве, даже в одном роддоме, как выяснилось много позже. Проезжаем как-то по Лялиному переулку, я говорю: „Андрюша, смотри, вот тут я родилась“. А он — „да ладно, и я здесь родился“. С разрывом в некоторое количество лет.
Мама Андрея, Антонина Сергеевна, не приняла меня — это была просто трагедия их семьи, когда он решил жениться на мне. Он сказал: ну, я люблю, не могу без нее жить. И мама его сказала: „Любовь — не татарское иго“… Но он был настолько вовлечен в свою страсть, что все подчинял ей»…
Андрей Вознесенский:
«Всяко было — и дождь и радуги, / горизонт мне являл немилость. / Изменяли друзья злорадно. / Сам себе надоел, зараза. / Только ты не переменилась».
А концерт мой прощальный помнишь? Ты сквозь рев их мне шла на помощь. Если жив я назло всем слухам, в том вина твоя иль заслуга. («Оза»)Зоя Богуславская:
«…У меня ведь была очень благополучная семья, у нас была машина, Борис был ученым, конструктором вычислительных машин, лауреатом Сталинской премии. А я ушла к человеку, которого грозился выгнать из Советского Союза Хрущев, у которого не было за душой ни своей квартиры, ни копейки, совершенно ничего. Из-за него и меня-то потом стали задвигать, и довольно сильно.
Первое время, что мы сбежались, мы жили на мою зарплату, довольно скромную. Мы долго были бездомные, у нас не было квартиры, и эта наша пора совпала с бурным ростом свиданий по чужим квартирам, снятым комнатам. Правда, до подъездов мы не доходили все-таки, мы были молодая интеллигенция. В то время владелец квартиры был, как в компании — человек, умеющий играть на гитаре. Он сразу обрастал друзьями и знакомыми, и все готовы были выручить друг друга, если что».
Андрей Вознесенский:
«Ну что за город, глухой как чушки, / где прячут чувства? / Позорно пузо растить чинуше — / но почему же, / когда мы рядом, когда нам здорово — / что ж тут позорного? / Опасно с кафедр нести напраслину — / что ж в нас опасного?..»
Поджечь обои? вспороть картины? об стены треснуть сервиз, съезжая?.. «Не трожь тарелку — она чужая». («Мы — кочевые»)Зоя Богуславская:
«…Наконец, когда все уже узнали, что мы вместе, Андрей Андреевич написал заявление в Союз писателей на получение квартиры. Это было в порядке вещей, никаких платных, кооперативных квартир не было. И вот он написал, что у нас образовалась семья и мы хотели бы получить хоть какую-то плохонькую квартиру. Нас поставили на очередь. И тут нам вдруг помог Михалков, который был во главе Московской писательской организации. Про него говорили всякое: царедворец, всегда возле генсеков. Но я с ним столкнулась и поняла, что он, во-первых, интеллигент (и жена его, Наталья Кончаловская, была исключительной аристократкой духа). А во-вторых, он сам талантлив и всегда понимал, что такое талант. Одним словом, эта наша квартира появилась благодаря его внутреннему чувству справедливости: не оставлять же этих двоих без крыши над головой.
И вот однажды мне звонит Андрей: „Ты стоишь или сидишь?“ — „Ну, могу сесть“. — „У меня ордер на квартиру!“ И он везет меня в этот дом. Поднимаемся, нажимаем на звонок, открывает такой дядечка, не буду называть, он академик другой республики. Мы говорим: вот у нас ордер на квартиру. И слышим в ответ: вон отсюда! Ну как же, у нас ордер. Да какой ордер, кто вы такие, шпана какая-то! И он сказал, что не освободит эту жилплощадь, пока ему власть не предоставит в этом же доме 5-комнатную квартиру. Наше новоселье затормозилось на полгода.
Войдя наконец в эту квартиру, мы увидели крысами изъеденные батареи. Это была не квартира, а какое-то овощехранилище или подвал. Нам она казалась громадной, хотя жилая площадь ее всего метров 40 с чем-то, трехкомнатная небольшая квартирка. Мы попадали из своих съемных квартир в дом, где живут Твардовский, Паустовский, Роман Кармен с женой Майей, которая стала на наших глазах Аксеновой. В этом же доме я бывала у Улановой. Это был дом творческой интеллигенции».
Заметим на полях:
Согласно справке паспортного стола, Андрей Вознесенский прописался в «сталинской высотке» — доме на Котельнической набережной, 1/15–25 февраля 1966 года.
Через три года, кстати, в феврале 1969-го, в этом же доме поселился Евгений Евтушенко — он жил здесь до января 1979 года.
Позже, в 1990-м, вернув отнятое прежде гражданство, здесь предоставили квартиру «возвращенцу» Василию Аксенову — прямо под квартирой Вознесенского. Позже, в 2006-м, Аксенов напишет роман «Москва Ква-Ква», где найдут свое место и байки о том, что в этом доме было секретное убежище, в котором умер Сталин, и авантюрные истории с любовными треугольниками, и буги-вуги «золотой молодежи» из этого же дома, и другие буйные фантасмагории.
Зоя Богуславская:
«…Тут у нас перебывали все, кто смыкался вокруг нашего романа, вызвавшего так много пересудов. И звонили нам сюда бесконечно: ему про меня, мне про него. На меня нападали, вокруг него же осталось столько голодных девиц с открытыми ртами, думавших, что вот ходит холостой, а тут вдруг — увела. Да что, да кто… Я сказала как-то: милая, на что вы тратите свое время? Вокруг в жизни столько интересного — а вы тратите время на то, чтобы сказать какую-то гадость. И положила трубку.
Все-таки тогдашняя богема, при всей ее раскрепощенности, — она была нравственнее нынешней. Во-первых, никто никого не предавал. Во-вторых, если кого-то полосовали, преследовали, все смыкались, не боялись вступиться друг за друга, даже если знали, на что шли. Это была артистическая богема, не обычная. И свобода была — в нашем образе жизни, поведении, свобода одеваться, как угодно, есть или не есть что угодно, верить или не верить, любить или не любить… У нас были „звездочки“, знаете? Игра „звездочки“. Приходят все, ложатся „звездочками“, выключают свет — кто на кого попадет. Много такого было. Хотя я ни разу в этом не участвовала. Я очень хорошо к этому относилась — но это не мое. По части секса — у меня было не так много мужчин, но только те, кого я любила. Сначала любовь — а потом „это“ может быть, а может не быть. А не то что вот — дотронулась и, ах! Нет.
А у Андрея Андреевича такое было. Прикосновение, глаза вот видят красоту — и все… Я вам скажу еще, это была пора, когда жутко быстро менялись жены и любовницы. В одно мгновение. Вот вчера еще, предположим, у Золотухина была жена Нина Шацкая, а завтра она стала женой Лени Филатова. Ну и так же — была женой Михаила Луконина, стала Галей Евтушенко. Такое время было. Это знаете, как Серебряный век, в 10-е, 20-е годы они же тоже все менялись — это считалось одним из признаков свободы…
Но вот все „поменялись“, кроме нас с Андреем. Таких крепких семейных уз не оказалось ни у кого. У Андрея Андреевича этот брак был первым и единственным. Он оказался верным… как человек. Любовь, романы — это было другое. Было много женщин, которые его очень любили, в том числе и звездных. Ну, как вам сказать, при мне у него были серьезные, гласности подлежащие отношения ну три раза за 45 лет. Это была какая-то увлеченность, но всегда связанная с поэзией».
Андрей Вознесенский:
«Нас любят жены, / в чулках узорных, / они — русалки. / Ах, сколько сеток / в рыбачьих зонах / мы прокусали! / В банкетах пресных / нас хвалят гости, / мы нежно кротки. / Но наши песни / вонзятся костью / в чужие глотки!» («Бар „Рыбарска хижа“», посвященный Божидару Божилову).
Зоя Богуславская:
«…Когда мы с ним поехали в первый раз за границу в Болгарию, и там он исчезал… Ну, как-то странно — за границей, ты одна, все интересуются, где твой муж бегает. Он тогда, я помню, однажды вернулся из какого-то парка и сказал: „Я тебе скажу на всю оставшуюся жизнь. Я никогда не могу ни предать, ни изменить (это он так думал) — но ты знай одно, ревновать ты меня будешь только к стихам…“»
Андрей Вознесенский (эссе «Full pizazz»):
«…Ha пляже писательского дома творчества царил Божидар Божилов — долговязый болгарский поэт и гаер. Он забавлял публику новеньким немецким шумовым пистолетом.
„Болгарская рулетка“, — объявил он и приставил дуло к твоему обнаженному животу. „Ну, розыгрыш“, — восхитились вокруг. Ты смутилась.
Раздался выстрел. Ты согнулась пополам. Все ржали. Оказалось, что шумовые пистолеты заряжаются парафиновым шариком, который, как мы пробовали после, пробивает тонкую доску скамейки. Шарик пробил кожу живота и запутался в подкожных связках.
„У человека должно быть два пупка, как два глаза“, — не сдавался весельчак. Я не убил его тогда, так как надо было, не теряя ни секунды, везти тебя в госпиталь.
Сзади на почтительном расстоянии ныл Божилов и протягивал мне пистолет: „На! Стреляй в мою жену. В порядке обмена“».
Заметим на полях:
Парафиновая пуля из игрушечного пистолета болгарского поэта на самом деле пробила бедро и доставила много неприятностей. Все это случилось накануне творческого вечера Вознесенского в Софии. Самого Божилова от всевозможных санкций болгарского Союза писателей спасло лишь заступничество самой пострадавшей и Вознесенского. Но это было не единственное неприятное происшествие в жизни Зои.
С Богуславской с самого детства случались вещи, требовавшие немалых жизненных сил. Она такой и оказалась — сильной. В эвакуации в Томске девятиклассницей работала ночной медсестрой в госпитале для тяжелораненых. Одноклассники-мальчишки ушли на войну, вернулись лишь двое — калеками. Долго не могла простить себе, что не попрощалась, поссорившись из-за какой-то глупости, с одноклассником Леней…
Надо выступить на соревнованиях конькобежцев? Она готова. Как, впрочем, и за волейболисток, и за пловчих. После войны окончила ГИТИС, защитила кандидатскую по искусствоведению. Стала одной из первых москвичек, севших за руль автомобиля, — постовые немели и брали под козырек. После книги «Леонид Леонов» стала членом Союза писателей. Работала в газете, редактору, повысившему голос на нее после какого-то обзора, заявила: «Не нравится — увольняйте, только не надо на меня кричать». Спектакль по ее пьесе «Контакт» во МХАТе запретили. Первое интервью с Брижит Бардо в советской печати будет взято ею. Она будет писать о Юрии Любимове, Олеге Табакове, Олеге Меньшикове, Лайзе Минелли, Михаиле Барышникове… — и дружить с ними. В Америке снимут телефильм по ее «Американкам». Самолет, в котором она будет лететь, едва не разобьется и спасется чудом. В Каннах на пешеходной дорожке у самого Дворца фестивалей, где предстоял показ фильма «Юнона и Авось», Богуславскую собьет юный мотоциклист. В лондонском «Хилтоне» в первую же ночь объявят срочную эвакуацию в связи со звонком о заложенной бомбе.
В 1960-е годы по ее инициативе появится Ассоциация женщин-писательниц — сначала в Москве, потом, став международной, — в Париже. В 1990-х войдет вместе с Вознесенским в исполком Русского ПЕН-центра, по ее проекту будет учреждена Независимая премия «Триумф». Когда уйдет из жизни Вознесенский — учредит вместе с сыном Леонидом (совладельцем Яндекса и Озон. ру) Фонд и премию имени Андрея Вознесенского — «Парабола»…
Конечно, все это еще далеко впереди — но и тогда, в шестидесятых, и позже трудно было понять: когда она все успевает? Но вот же — успевает…
Зоя Богуславская:
«…Понимаете, вот он влюблялся в какой-то объект женский, получал свое, и потом это переставало его интересовать. Нет, я не прощала этого никогда. Я говорила: мне это совершенно не нужно, и не удерживала его ни одной секунды — и поэтому он считал недопустимым, чтоб такой ценой… Чтобы Зои не было. Хорошо — когда есть Зоя… Я уходила один раз в жизни на два или три месяца. Он не мог меня найти. Я пряталась. Когда я вижу, что меня уже не обожествляют, — мне это не надо. А я не осталась одна никогда, я не имею в виду секс. И вот эти три месяца я была в Шестом объединении кинематографистов во главе с Аловым, Наумовым, там и Тарковский, и Швейцер были. И они все были за меня, говорили, какое счастье, что его власть над тобой кончилась.
Женщина в судьбе поэта вообще имела решающее значение. Равное количество женщин сгубило их. Равное количество вело себя отвратительно, чем подвигало их на очень крупную и хорошую поэзию. Одни жены (и таких меньшинство) — помогающие творить, понимающие, что муж гений, пишущие, печатающие и собирающие архивы… Другая разновидность жен, прямо противоположная, — богема, измены, флирт, когда они доводят своего гения до состояния ярости. Как у Ахматовой — я очень люблю это стихотворение: „А, ты думал — я тоже такая, / Что можно забыть меня, / И что брошусь, моля и рыдая, / Под копыта гнедого коня…“
Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом Окаянной души не коснусь, Но клянусь тебе ангельским садом, Чудотворной иконой клянусь И ночей наших пламенным чадом — Я к тебе никогда не вернусь.Вот это другая разновидность — самоутверждающихся через протест, хулиганство, эпатаж и так далее. Таких очень много… Есть и третья разновидность жен — это жены, тоже являющиеся личностями: тот же Алексей Герман и Светлана Кармалита, например. А самый гениальный слой — это жены-сообщницы: они, кроме всего прочего, знают неблаговидные очень его тайны, и это его держит при ней, потому что она же расскажет…
Нет, я никогда не жалела о прошлой жизни. У меня вообще фатальное отношение к жизни — что суждено, то все будет. Вот думаю, интересно, как же я кончу… Эмоции? Они часто захлестывают. Никто же не знает, что со мной происходит ночью. Какая железная, я плачу чаще, чем смеюсь, ровно в 10 раз — это просто невидимые слезы. Не знаю, как определить вещество, из которого я сделана. Не воск. Приводной ремень какой-то».
Андрей Вознесенский:
«В страшные для меня дни травли ты прилетела на пару часов в Новосибирск, после этого сама ослепла на месяц».
(До поездки Вознесенского в Новосибирск в 1967 году мы доберемся в следующих главах. Пока же скажем, что прилетала туда к нему жена Зоя — и история эта связана с ней. «Ослепла»? Мистика или нет — но тут удивительно совпадение. В 1925 году Владимир Маяковский изливал душу американской подруге Элли Джонс — она родит поэту дочь Эллен Патрисию — утверждая, будто бы расстался с Брик окончательно, и «Лили пыталась покончить с собой, приняв лекарство, от которого на какое-то время ослепла».)
Зоя Богуславская:
«…Мы проходили через все трудности без паники. Вот когда было это все с Хрущевым, у него была депрессия, рвота, которую не могли остановить. Но мы никогда не воспринимали время, как плохое. Всякое было, и усиление заморозков, мы через все проходили, но такая плотность дружбы, единения и любви — это было важнее.
А квартиру эту мы очень полюбили, она была обжита, обмолена уже таким количеством воспоминаний, людей, дружб, застолий. У нас побывали Артур Миллер, Курт Воннегут, Стэнли Кьюниц, Джей Смит, очень крупный поэт… Самый громкий сюжет — это был визит Эдварда Кеннеди, младшего брата американского президента. У него было три пожелания — попасть в московское метро, побывать в гостях у Вознесенского и съездить в Тбилиси. Тогда они приехали к нам — Кеннеди с женой Джоан и детьми. Выпили много. А когда они уехали, мы вдруг увидели, что Джоан забыла сумку, в которой всё — чековые книжки, наличные, косметика — я еще удивилась, что она у нее такая неприбранная. В сумку пришлось заглянуть „на всякий случай“. А потом пришлось звонить в посольство, договариваться. Встретились с сотрудником посольства в Пассаже на Неглинке, передали сумку хозяйке».
Андрей Вознесенский («Всенародный Володя»):
«…Мы жили рядом с Таганкой, пока аллергия не выгнала меня из города. Там, на Котельнической, мы встречали Новый год под его <Высоцкого> гитару. Володя Высоцкий был с Люсей Абрамовой.
Заходите, читатель, ищите стул, а то располагайтесь на полу. Хватайте объятые паром картофелины и ускользающие жирные ломти селедки. Наливайте что Бог послал! Пахнет хвоей, разомлевшей от свечек. Эту елку неожиданно пару дней назад завез Владимир с какими-то из своих полууголовных персонажей. Гости, сметя все со стола — никто не был богат тогда, — жаждут пищи духовной.
Будущий Воланд, а пока Веня Смехов, каламбурит в тосте. Когда сквозь года я вглядываюсь в эти силуэты, на них набегают гости других ночей той квартиры, и уже не разобрать, кто в какой раз забредал.
Вот Олег Табаков с ядовитой усмешкой на капризном личике купидона еще только прищуривается к своим великим ролям в „Обыкновенной истории“ и „Обломове“. Он — Моцарт плеяды, рожденной „Современником“.
Тяжелая дума, как недуг, тяготит голову Юрия Трифонова с опущенными ноздрями и губами, как у ассирийского буйвола. Увы, он уже не забредет к нам больше, летописец тягот, темных времен и быта, асфальтовой Москвы.
Читает Белла. Читая, она так высоко закидывает свой хрустальный подбородок, что не видно ни губ, ни лица, все лицо оказывается в тени, видна только беззащитно открытая шея с пульсирующим неземным знобящим звуком судорожного дыхания.
Снежинки, залетая, таяли на плечах головокружительно красивой Людмилы Максаковой.
Безбородый Боря Хмельницкий, Бемби, как его звали тогда, что-то травит безусому еще Валерию Золотухину. Тот похохатывает, как откашливается, будто горло прочищает перед своей бескрайней песней „Ой, мороз, мороз…“.
И каждый выпукло светится, оттененный бездной судьбы за спиной.
В проем двери, затягивая, глядела великая тьма колодца двора. Двор пел голосом Высоцкого.
Когда он рванул струну, дрожь пробежала. Он пел „Эх, раз, еще раз…“, потом „Коней“. Он пел хрипло и эпохально:
„Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее“…»
Аве, Оза
Признание ленинградки Натальи Курапцевой на личном сайте runova08.ru — спустя полвека, в апреле 2011 года:
«Когда ведутся разговоры о Советском Союзе, плох он был или хорош… Честно говоря, я даже этого не понимаю. В моей стране не было Хрущева, Брежнева, Суслова и иже с ними. Моя страна состояла из Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы, Евтушенко, Левитанского, фильма Марлена Хуциева „Мне двадцать лет“. В моей стране выходил журнал „Юность“, где всегда были стихи кого-то из них. История моей страны начиналась с Пушкина, а в мои годы были свои поэты, созвучные времени, в котором мы жили. И происходило все это в Советском Союзе, а не на Луне или во Франции.
Когда мне было 19 лет, в Ленинграде состоялся творческий вечер Вознесенского в Большом концертном зале „Октябрьский“. Там был весь Ленинград. И я тоже была там. А где я могла еще быть?
Да, стихи было недостать. Первая книжка „Мозаика“ оказалась у меня в руках то ли на вечер, то ли на ночь — так бывало обычно. И стихи переписывались от руки — в тетрадь, на листок бумаги, чтобы потом перепечатать на машинке. И у меня со школьных лет хранится большой альбом, куда я собственной рукой, школьной ручкой с голубыми чернилами переписала поэму „Оза“. Этой поэмой в мои 16 лет мне был привит иммунитет от каких бы то ни было идеологических маразмов.
Аве, Оза. Ночь или жилье, псы ли воют, слизывая слезы, слушаю дыхание Твое. Аве, Оза… Оробело, как вступают в озеро, разве знал я, циник и паяц, что любовь — великая боязнь? Аве, Оза…Эти строки не просто запали в сердце — они, словно золотой нитью, выткали саму ткань моей зарождающейся души. Да, моя душа выткана — по основе — стихами Вознесенского. „Оза“ была выучена наизусть — навсегда.
…Пару лет назад ко мне пришел сын и сказал: „Мама, а Вознесенский — очень классный поэт, мы с Виталиком его открыли“. Специально я ничего не делала… Сейчас ему 25 лет, он закончил философский факультет, работает в музее истории религии и занимается музыкой. У нас есть несовпадения по отношению к чему-то или кому-то, но вместе мы составляем довольно сильный интеллектуальный синтез. Пусть даже не такой, как в 1960-х годах, — но мы ведь живем в другом времени. Сын — идеалист он по природе, ровно такой же как я.
Не надо думать, что всё — зря».
Глава восьмая АНТИМИРЫ? — МУРА!
Все богини как поганки перед бабами с Таганки
Год 1961-й. «Живет у нас сосед Букашкин, / в кальсонах цвета промокашки. / Но, как воздушные шары, / над ним горят Антимиры! /И в них, магический как демон, / Вселенной правит, возлежит / Антибукашкин, академик, / И щупает Лоллобриджид».
Но грезятся Антибукашкину Виденья цвета промокашки.Год 1964-й. «Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы… Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не приткнула поверхность в районе Австралийской низменности. Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!» (А. Вознесенский. «Оза»).
Год 2011-й. Документальный фильм российского режиссера Виктора Косаковского «Да здравствуют антиподы!» открывает Венецианский кинофестиваль. Прежде такой чести удостаивались лишь игровые фильмы. Героями картины стали «букашкины» и «антибукашкины», находящиеся в одно и то же время друг у друга «над головой» — в точках, строго противоположных относительно центра планеты.
Год 2013-й. «Лет десять назад я попал в один пустынный уголок Южной Америки. Сумерки, тишина, рыбак на мостике, леска уходит в неподвижную воду. Я мысленно продлил леску до центра Земли и задумался — куда она выйдет в другом полушарии? В Буэнос-Айресе купил географический атлас. На „том конце“ оказался Шанхай, самый шумный город мира. Мой сын, начинающий китаист, полетел туда и нашел по координатам нужное место. Там стояла женщина и продавала рыбу» документалист Виктор Косаковский — «Российской газете»).
* * *
Новый сборник стихов Вознесенского «Антимиры» появился в 1964 году. Воспроизведя спустя полвека фантазии поэта, в поисках мест-антиподов режиссер Косаковский обнаружит, что Эйфелева башня не проткнет Австралию. Что Россия почти вся попадает на океан, лишь окрестности Байкала ложатся на хвостик Южной Америки, мыс Горн. «Антимиры» в картине сложат в четыре пары: Россия — Чили, Аргентина — Китай, Гавайи — Ботсвана, Новая Зеландия — Испания.
Но самое неожиданное: открыть точки взаимопритяжения Земли в фильме поможет, совсем по Вознесенскому, язык непроизвольных метафор. Снимали каких-то селянок в Ботсване, но в кадр вплыл слон, и — фактура его кожи, цвет и рисунок, вдруг точно повторилась в застывшей лаве на Гавайях. В Новой Зеландии случайно сняли выбросившегося на берег кита, «люди-букашки, — скажет режиссер, вовсе не имея в виду Вознесенских букашкиных, просто совпало вдруг, — пять дней пытались сдвинуть кита, чтобы похоронить». А на «месте-антиподе» близ Мадрида обнаружится длинный гладкий валун, в точности похожий на кита.
«…Знакомый лектор мне вчера / сказал: „Антимиры? Мура!..“ // Я сплю, ворочаюсь спросонок. / Наверно, прав научный хмырь».
Мой кот, как радиоприемник, зеленым глазом ловит мир.Что же получается? А вот что — «научный хмырь», «знакомый лектор» опровергнут опытно-метафорическим путем фильма «Да здравствуют антиподы!». Так что правда на стороне поэта. «Есть соль земли. / Есть сор земли. / Но сохнет сокол без змеи».
На каждого «букашкина» всегда есть свой «антибукашкин». Можно найти их по географическим координатам внешнего мира. А можно внутри себя: мало ли сколько «букашек» в каждом…
Великая все-таки вещь метафора! Из «зрительной метафоры», между прочим, и выросли стиль режиссера Юрия Любимова и целый «антимир» гениальной Таганки. Какая связь между «Антимирами» Вознесенского и поэтическим театром Любимова? А вот окажется — непосредственная. С «Антимиров» по-настоящему и началось сумасшествие, которое войдет и в театральную историю, и просто в историю нашей страны — отдельной строчкой.
Как раз в тот самый год, когда вышла четвертая книжка стихов Вознесенского, на Таганской площади случился переворот. Отправили в отставку Александра Плотникова, руководившего Театром драмы и комедии, в который зрителей калачом не могли заманить. С января главрежем стал вахтанговец Юрий Любимов. Он привел своих учеников из Щукинского училища и первым делом перенес на сцену их дипломный спектакль, брехтовского «Доброго человека из Сезуана». А потом, в один прекрасный день…
Вот что рассказывал про это Вознесенский («Таганка — антитюрьма»): «Когда Таганка, как театр, еще зарождалась… ко мне на Елоховскую приехали темногривый создатель ее — Юрий Петрович Любимов и завлит Элла Левина. Он еще не был великим режиссером, но уже чувствовал свое предназначение, нетерпеливо поигрывал под курткой плечами гимнаста, привыкшего крутить „солнце“ на турнике. На него опасливо косились в коридорах власти. Гости предложили мне стать автором нового театра… Идея приглашающих была: устроим ваш вечер „Поэт и театр“, будет скандал, и публика узнает путь к театру».
* * *
Почему Любимов отправился к Вознесенскому? А вовсе не случайно. Юрий Петрович расскажет позже (Новые известия. 2010. 2 июня): «Нас познакомил Пастернак. Я спросил у Бориса Леонидовича, мол, к кому из молодых поэтов мне следует присмотреться и прочитать внимательно. Он сказал — к Андрюше Вознесенскому. Я, конечно же, прочитал. Так началась наша с ним дружба. Но был еще и Николай Эрдман, который обращал внимание: „Приглядитесь, какие у Вознесенского очень сложные и выстроенные стихи. Даже странно, что эта власть их печатает“. Видимо, власть ничего в великих стихах не понимала».
История о том, как Пастернак познакомил Андрюшу с Любимовым еще в 1956 году, замечательна сама по себе. «Однажды Борис Леонидович взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру „Ромео и Джульетты“ в его переводе. Я сидел рядом, справа от него… Джульеттой была Л. В. Целиковская, Ромео — Ю. П. Любимов, вахтанговский герой-любовник, тогда еще не помышлявший о будущем театре на Таганке. Сцена озарялась чувством, их роман, о котором говорила вся Москва, завершился свадьбой… Вдруг шпага Ромео ломается, и — о чудо! — конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с Пастернаком общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю. Мой кумир смеется…» («Тебя Пастернак к телефону!»).
К этому Вознесенский добавит однажды: «Судьба постоянно шлет нам вести, нужно только уметь их слышать».
И через много лет, уже в новом, XXI столетии, после стольких кунштюков судьбы, выпавших на долю Любимова и его театра, Юрий Петрович будет говорить о Вознесенском как о своем друге: «У нас была одна компания… А в ту пору были компании, которые поддерживали друг друга. И постороннему втиснуться в эту компанию было очень сложно. Это сейчас людей объединяют только деньги, больше ничего. Причем не только в России, так стало во многих странах… В то время, конечно, тоже неприятностей хватало (в особенности по отношению к нам — со стороны властей), но мы-то не были стадом баранов и старались быть свободными внутренне. Увы, те времена интереснее и богаче…»
Юрий Петрович приоткрывал Вознесенскому кое-какие тайны: свои поэтические опыты, например. Андрею Андреевичу запомнился один любимовский «шедевр», страшно зливший Целиковскую:
Была у меня девочка, как белая тарелочка. Очи — как очко. Не разбей ее…Вознесенский ответит стихами к одному из дней рождения режиссера: «Вы мне читаете, притворщик, / свои стихи в порядке бреда. / Вы режиссер, Юрий Петрович, / но я люблю Вас как поэта…»
То чувство страшно потерять, но не дождутся, чтобы где-то во мне зарезали Театр, а в вас угробили Поэта.Эта особая триада: режиссер — актеры — зрители — и называлась, по словам Вознесенского, Таганкой.
Все началось с двух сценических вечеров, именовавшихся в афише «Поэт и театр». Они плавно перетекли в спектакль «Антимиры», который пройдет более восьмисот раз. Дружба поэта с Таганкой продлилась на годы. В «Антимирах» Высоцкий впервые в жизни вышел на театральную сцену с гитарой.
Каждый сотый спектакль играли особо. «Помню, один из юбилейных „Антимиров“ пришелся на 3 февраля 1965 года, — напишет поэт. — Я вышел на сцену и сказал: „Сегодня у нас особо счастливый день“. Все захлопали. Я, подумав, пояснил залу: „Сегодня день рождения завлита Э. П. Левиной“. Наутро директора театра Н. Л. Дупака вызвали наверх, топали ножищами на него: „Как поэт мог позволить себе сказать про счастливый день?!“ Оказалось, что в этот день на Красной площади были похороны Ф. Г. Козлова, кровавого могущественнейшего временщика, второго лица в государстве».
Однажды Вознесенский оказался у Любимова одновременно с министром Фурцевой.
Юрий Петрович показывал Екатерине Алексеевне здание после ремонта:
«…ввел ее в свой кабинет и показал на только что оштукатуренные стены: „А здесь мы попросим расписываться известных людей“… Разрумянясь от шампанского, министр захлопала в сухие ладошки и обернулась ко мне: „Ну, поэт, начните! Напишите нам экспромт!“ Получив толстенный фломастер, я написал поперек стены: „Все богини — как поганки перед бабами с Таганки!“
У Ю. П. вспыхнули искры в глазах. Министр передернулась, молча развернулась и возмущенно удалилась. Надпись потом пытались смыть губкой, но она устояла».
— Вознесенский, так вышло, несколько раз был первым, — вспоминает актер Вениамин Смехов. — Во-первых, «Антимиры» — это было первое и навсегда любимое произведение. А во-вторых, его надпись на стене в кабинете Юрия Петровича тоже стала первой. Мы были свидетелями, как она появилась… А вторым, там же рядом, приписал Иннокентий Смоктуновский: «У-у-у, как всё ново»… Потом на стене появилось множество надписей. И Шостакович, и Рауль Кастро, и Александр Исаевич Солженицын, который расписался заметно для нас и абсолютно незаметно для «стукачей». Иногда Юрий Петрович показывал на нее пальцем и изображал бороду, — и все понимали, кто это расписался… Юткевич написал замечательное откровение про военное прошлое: они с Юрием Петровичем и Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем во время войны во фронтовом ансамбле НКВД готовили литературно-художественные антифашистские обозрения с выездами на фронт. Авторами тех обозрений были Николай Эрдман с Михаилом Вольпиным, бывшие «враги народа», — такая вот страна чудес. И Сергей Юткевич после спектакля «Десять дней, которые потрясли мир» написал: «Не зря мы с тобой 8 лет плясали в органах!» Некоторые морщились, но нам это казалось весело и хорошо…
В 1969 году запретят спектакль «Кузькин» по повести Бориса Можаева «Живой» (уже опубликованной «Новым миром»). Обсуждение проходило в обстановке строгой секретности. В зал не пустили даже композитора, Эдисона Денисова. Вход был «строжайше запрещен — будто шла речь о водородной бомбе, а не о спектакле». Фурцева кричала. Вознесенский все же как-то пробрался в зал и выступил в защиту спектакля. Министр культуры оборвала его: «Кто это, Вознесенский? Вы, молодой человек, уж сядьте и помолчите!»
Дело кончилось скандалом и запретом на двадцать лет. Хотя так-то, заметит Вознесенский, Фурцева была незлым человеком — эпоха была такова: все опасались, как бы чего не вышло.
Еще одно обсуждение вспоминает Смехов: в 1965 году играли поэтический спектакль «Павшие и живые» в Моссовете — как раз тогда Таганка ремонтировалась. Обсуждение, насколько помнит актер, было идиотским: «…партийных кураторов бросали на искусство именно потому, что они ничего не понимали в искусстве, как замечал великий артист Михаил Яншин, к нам „‘с помидоров’ бросают в театры“. И вот одна фраза Андрея достойна отдельной новеллы. Он вдруг сказал, наивно, как дитя: „Зачем же вы так на художника, ведь соловьи умирают на морозе…“ — „Что вы сказали?!“ — „Это — Маркс“. Очень трогательно звучала эта отмашка от идиотов: „Маркс“».
А потом снимут спектакль по Вознесенскому. Не «Антимиры» — второй: «Берегите ваши лица». Вот что писал поэт в «Таганке — антитюрьме»:
«Если „Кузькин“ был, наверное, самым смелым спектаклем Таганки, то „Берегите ваши лица“, второй наш спектакль, был самым красивым спектаклем-метафорой… Начинался спектакль заклинанием: „тьма-тьма-тьмать-мать“. Из тьмы застоя вдруг рождалась творческая жизнь — „мать“…
Почти год мы репетировали, не расставались. В. Высоцкий играл главную роль — Поэта. По его желанию мы вставили „Охоту на волков“ и еще одну его песню — „Ноты“, написанную для этого спектакля. „Лица“ прошли три раза. Потом их напрочь запретили. Меня уламывали снять „Волков“. Тогда якобы будет легче отстоять спектакль. Я, конечно, на это не мог пойти. Спектакль погиб. Любимов был отстранен от работы, а когда восстановлен, то над „Лицами“ остался висеть запрет».
Зоя Богуславская вспоминала этот спектакль: «Растянутое вдоль сцены зеркало, в котором отражались лица зрителей, над ним нотные линейки, где темными каплями сползали актеры, певшие о потере собственных лиц, о загнанном в тупик искусстве („Как школьница после аборта, / пустой и притихший весь, / люблю тоскою аортовою / мою нерожденную вещь“, „Убил я поэму, / убил не родивши, / к Харонам / хороним поэмы?“), — о чем уж тут было толковать?! Речь шла о фарисействе, лжи, двуличии общества и, увы, о нас, породивших это время».
Из дневника школьницы Ольги Ширяевой
Про школьницу шестидесятых, девятиклассницу Олю Ширяеву много лет спустя трогательно напишет, предваряя публикацию ее дневников на сайте театра, Валерий Золотухин. Она была верной поклонницей Таганки, здесь ее уже знали и любили все. Она много фотографировала и дарила фото любимым артистам. Мама ее работала в Институте русского языка АН СССР, она сама — окончила потом Институт иностранных языков, работала переводчицей. Отдельные страницы ее «таганских» дневников были опубликованы. Они сохранили и хронологию событий, и трогательные нюансы, и атмосферу… Приведем несколько фрагментов, в которых речь идет о поэте Вознесенском (сайт Театра на Таганке: taganka.theatre.ru). Сокращение В. В. у Ольги, как нетрудно понять, — это Владимир Высоцкий.
«20.01.65. Первое поэтическое представление „Поэт и театр“ в Театре на Таганке. В первом отделении читал стихи А. Вознесенский. Второе отделение — несколько укороченный вариант того, что стало потом „Антимирами“.
04.04.65. „Антимиры“. До сих пор „Антимиры“ шли как бы по просьбе публики. С апреля же становятся полноправным спектаклем в репертуаре театра (играются, как правило, ночами, после вечерних представлений).
12.12.65. Вечер А. Вознесенского в Комаудитории МГУ, с участием артистов Театра на Таганке (в том числе и В. В.). После вечера всей компанией перебираемся в ресторан ВТО отмечать. По-моему, по дороге в ресторан В. В. куда-то исчезал, но потом появился. Был единственным, кто не пил ни капли спиртного. Сказал, что по случаю возвращения Андрея из-за границы написал новую песню. Зоя Богуславская (жена Вознесенского) просила спеть, но он отказался, потому что она у него „еще вся на отдельных листочках, как стихи у Андрея“. К тому же и гитары не было.
У Зои появляется идея: отметить Старый Новый год с Андреем, В. В. и таганскими мальчиками у каких-то их знакомых.
Кстати, в зале МГУ было жарко, как в бане, от набившегося народа. Смехов снял свитер, а В. В. сказал, что снять не может, потому что у него татуировка. (Фотографируя его позже в роли Хлопуши раздетым по пояс, я никаких татуировок не заметила.)
04.01.66. Концерт Высоцкого в Институте русского языка АН СССР. Я предупредила Володю, что во всех случаях его попросят спеть „Нинку“, потому что Вознесенский говорил, что это его любимая песня. Володя сказал, что Андрей любит „Нейтральную полосу“, но я возразила, что он называл обе эти песни.
Высоцкого провели к маме в комнату, чтобы он мог раздеться, перевести дух и выпить кофе. Он <…> заинтересовался фотографией Вознесенского в военной форме, и мама сказала, что если он хочет, то у нас есть еще одна такая, переснятая мною. Володя поблагодарил и сказал обо мне какие-то хорошие слова.
16.01.66. Утренние „Антимиры“. После видела В. В., который заметил у меня французскую пластинку Вознесенского. Долго с умным видом читал, что на ней написано, и ничего не смог перевести. Я решила, что он по-французски — „ни в зуб“. Пригласил меня в МГУ на „вечер советских шансонье“ 19 января.
20.04.66. Сотые „Антимиры“ в Фонд Вьетнама.
06.05.66. Выступление с отрывками из „Антимиров“ (вряд ли без участия В. В.) на юбилейном номере „Юности“ в каком-то ДК.
01.06.66. В выходной день шли „Антимиры“ в пользу пострадавших от Ташкентского землетрясения. Ни один театр не работает столько бесплатно во всякие фонды. Ночью из Ташкента прилетел Вознесенский и неожиданно явился на спектакль. Читал свои новые стихи по этому поводу. Потом сказал, что здесь такой талантливый актер Володя Высоцкий просил его прочесть „Прощание с Политехническим“, что он и сделает. (Скорее всего, В. В. ни о чем не просил, но приятно, что именно он назван талантливым актером.)
Эти „Антимиры“ были дневными. Вечером играли „10 дней…“ для Московского горкома.
16.10.66. „Антимиры“ с В. В., на которых выступал Вознесенский.
Вечером — целевой „Галилей“. Я ходила за кулисы дарить свои фотографии актерам. В. В. особенно благодарил за „Оду сплетникам“ Вознесенского, его в ней еще никто не снимал.
В эти дни Вознесенский сопровождал Иду Шагал (дочь Марка Шагала. — И. В.). Ей очень понравился В. В., она сказала, что он не так прост, как кажется поначалу.
22.11.66. Маме позвонила Зоя Богуславская и пригласила пойти с ней на концерт В. В. (его вечера должны были проходить 23-го и 24-го в „Ромэне“ и 28-го в театре Пушкина). Зоя сообщила, что В. В. должен ей вечером перезвонить, чтобы уточнить детали.
Вечер планируется совместный с поэтессой И. Кашежевой.
23.11.66. Утром мама позвонила Зое. Та сказала, что В. В. ни вчера, ни сегодня не звонил, что совершенно необъяснимо, так как он сам ее приглашал. Перезвонив в театр завлитше, Зоя выяснила, что вчера все три вечера запретили.
24.11.66. Сегодня из маминого института позвонили Володе <Высоцкому>. Говорили ему разные хорошие слова. И о том, что когда у Вознесенского не хотели печатать „Озу“, то он приходил к нам ее читать. И что мы будем очень рады, если он снова придет в наш институт… Володя сказал: „Не надо, не надо меня утешать. То, что вы мне сейчас позвонили, доказывает, что вы хорошие люди. А вечера эти мне обещали разрешить“.
28.01.67. Ночные „Антимиры“. Я на них не была. В. В. не мог не участвовать, Вознесенский поздно вечером прилетел из Турина и прямо из аэропорта со всеми чемоданами ввалился в театр, когда спектакль уже заканчивался. Но на сцену вышел и публике читал.
29.01.67. Вечером — выступление Вознесенского в Комаудитории МГУ. В качестве зрителя, видимо, по приглашению четы Вознесенский — Богуславская, пришел В. В. Его посадили позади нас, в пятом ряду рядом с Зоей Богуславской. Зал приход В. В. встретил аплодисментами.
Вознесенский отчитал часа два, устал и вызвал В. В. на сцену. Тот спел „Оду сплетникам“ из „Антимиров“, а потом, по просьбе Андрея, — „Удар, удар…“ Зрители просили еще песен, но В. В. отказался, сказав, что сегодня — не его вечер.
23.06.67. Сегодня ночные „Антимиры“. Пришла загодя, чтобы не пропустить Высоцкого и показать ему письмо-протест Вознесенского. Андрею Андреевичу отказали в визе в Америку, где были уже объявлены его вечера, и от его имени заявили, что он болен и не может приехать. К моему изумлению, оказалось, что Володя уже в театре, только прилетел из Ленинграда. Увидел меня перед служебным входом и окликнул: „Олечка“, — пошел мне навстречу. Письмо Вознесенского он читал внимательно, с расспросами: когда написано? кому адресовано? чем вызвано? Я объяснила все, что знала. Письмо произвело на него сильное впечатление. Он сказал, что оно хорошо написано, хотя и есть в нем места, к которым могут придраться. Спросил, где сейчас находится Андрей, потому что сразу захотел ему позвонить, и, уже побежав было к телефону, остановился и иронично так спросил меня: „Как ты думаешь, это напечатают?“ — „Ну уж нет!“ И мы оба понимающе засмеялись. А вообще-то, я не думала, что он примет все так близко к сердцу. Вернулся он скоро, очевидно, не дозвонился.
15.06.67. Сотрудник „Советской культуры“ Саша ищет В. В., чтобы сфотографировать: в субботу о нем пойдет заметка. А Высоцкий — в Ленинграде. К сожалению, только сейчас узнала, что Вознесенский привез В. В. в подарок из-за рубежа голубую кепку.
19.09.67. Пошла в театр, чтобы между „Павшими…“ (Гитлера играл Губенко) и ночными „Антимирами“ поговорить с В. В. о Вознесенском. Он куда-то уходил, но минут за двадцать до начала „Антимиров“ вернулся. Я рассказала, что Вознесенского обвиняют в стремлении сбежать за границу, что у него кризис „неписания“, просила морально его поддержать — например, позвонить по телефону. В. В. выслушал очень серьезно и пообещал написать Андрею в Новосибирск, где тот тогда находился…»
Пошли мне, Господь, второго
Скандалы неслись за Таганкой — как за всем театром, так и за каждым по отдельности таганцем. О, сколько всего тянулось за Высоцким! Каких только слухов не было: то застрелился, то улетел и не вернулся, то еще что-то. Жили празднично и серо-буро-малиново. Как небожители-идеалисты, могли позволить себе невесть что. Осмелиться! И намекнуть! Поддеть! И самая нелепая нелепость заключалась в том, что и многие небожители — из власти — млели, слушая Высоцкого втихаря. Не вылезали как записные театралы из модной Таганки, мешаясь со зрителем смертным. Но потом влезали в пиджаки — и шли запрещать и травить.
Да-да, пусть себе страна слушает его в самопальных записях, пусть собираются «квартирники», пусть идут «неофициальные» концертики, пусть даже рассекает Высоцкий по Москве на первом «мерседесе» (второй такой только у Брежнева!). Про это все прекрасно знали. Но только чтобы без публичности. Главное — никакого шума. Почему так — песни о пошлости, глупости, обывательщине — почему же нельзя?
Ответа никто не знал. Идеология? Госинтересы? Да они тут были, по совести говоря, давно ни при чем. Ну про какого Маркса-Энгельса-Ленина думал тот, кто садился строчить донос или запрет, — разве что о личной карьере и бытовых привилегиях.
В семьдесят первом году, вспомнит как-то Андрей, ему «рассказывал Высоцкий, что он был приглашен на день рождения дочери высокопоставленного чиновника, которая была замужем за актером Театра на Таганке, Поставили запись песен Галича. В этот момент к дочери наведался ее родитель. Слушал, восхищался, плакал… А наутро позвонил в Союз писателей и дал команду: „Исключить!“». Если быть точным, то это был не день рождения, а свадьба Ивана Дыховичного, женившегося на Ольге Полянской (первым браком), дочери члена Политбюро ЦК КПСС. Кто мог подумать, что папа проявит бдительность?
За год до того у Высоцкого была своя свадьба — но в очень узком кругу. Приглашал он торжественно-иронически: «Имею честь пригласить вас на свадьбу, которая состоится 13 января 1970 года. Будут только свои». Вознесенский был вместе с Зоей: «В их квартирке на 2-й Фрунзенской набережной, снятой накануне и за один день превращенной Мариной в уютное жилище, кроме новобрачных, были только создатель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов, Людмила Целиковская, кинорежиссер Александр Митта с женой Лилей, испекшей роскошный пирог, актер МХАТа Сева Абдулов. Позже подъехал художник Зураб Церетели, который пригласил молодых в свадебное путешествие в Грузию, куда они и отбыли на следующий день. Володя был удивительно тихим в тот день, ничего не пригубил» («Таганка — антитюрьма»).
В жизни, по словам Вознесенского, «он был тих, добр к друзьям, деликатен, подчеркнуто незаметен в толпе». Зоя Богуславская вспоминает, как во времена, когда Андрея не печатали и они бедствовали, Высоцкий предлагал устроить чтения по частным квартирам — такими вечерами подкармливались многие. Ну нет, сказала тогда Зоя. Так продайте что-нибудь, посоветовал Высоцкий. Зоя вспомнила, что у них есть Библия с иллюстрациями Дали — таких изданий в мире было восемь экземпляров. Потом, правда, вздыхала — «выручили» они тогда за нее раз в десять меньше, чем она того стоила… Но главное, Высоцкий всегда был готов помочь. Когда у сына Зои, Лени Богуславского, случились неприятности с учебой, спас его как раз Владимир Семенович: приехал и выступил прямо в школе. В восторге были все и, главное, директор. Тучи над головой Леонида рассеялись. Правда, в тот вечер Высоцкий потерял где-то раритетную гитару, которую раздобыл специально Церетели — но Зураб сказал на это сокрушавшейся Зое: «Э, дай Бог, чтоб это было у тебя самым большим несчастьем».
Слава Высоцкого в конце шестидесятых росла как на дрожжах. Он держался подчеркнуто «антикумирно». Дело даже не в алкогольных и прочих пристрастиях. Вот Михаил Шемякин писал, что у друга Володи, этого рубахи-парня, была агорафобия — боязнь площадей. Близкие вспоминали, что Высоцкий мог быть весьма ранимым. На эстраде, на сцене или экране этого не видел никто: здесь он был лишь широк и мощен.
Отношения Вознесенского с Высоцким всегда были теплыми. Гадать о том, не было ли в их отношениях каких-то тайных обид, о чем до сих пор бытуют слухи, — пустое дело. Тот же Шемякин, к примеру, расскажет язвительно, как Высоцкий, получив от Бродского книжку с надписью: «Большому поэту», ликовал, а Вознесенский, дескать, на каком-то вечере «макнул» его при всех — подошел, руку положил на плечо и сказал: «Растешь!» Этого, мол, Высоцкий забыть не мог… Подобные рассказы выдают скорее тайные амбиции самих рассказчиков.
В подмосковной Дубне помнят и другие истории. Как, например, в гостиницу Вознесенскому «вечером после спектакля позвонил Высоцкий и сказал, что очень соскучился и едет на такси в Дубну… Вознесенский позвонил своим дубнинским знакомым и попросил принять их с Высоцким… После полуночи первыми появились жена Вознесенского Богуславская и друг Высоцкого (кажется, Кохановский)… Затем пришли Высоцкий с Вознесенским и их дубнинские друзья… Пел он часа два, а мы слушали его, как завороженные» (из воспоминаний Инны Кухтиной в дубнинской газете «Встреча»).
Сохранилась и запись выступления Высоцкого 22 января 1976 года в дубнинском ДК «Мир» Объединенного института ядерных исследований. Любопытно — что говорил перед аудиторией сам артист:
«…Примерно, наверное, лет девять с половиной тому назад вдруг мы решили поставить спектакль „Антимиры“. Спектакль этот очень известный. Хотели мы его сыграть всего один раз в Фонд Мира, но… И, причем, это было так: значит, мы играли минут сорок тексты Вознесенского… именно играли, они были поставлены Любимовым. А потом в конце выходил Вознесенский и читал свои стихи, и это было, уж конечно… просто ажиотаж невероятный… Ну, Вознесенский не может работать у нас в театре постоянно, он все время ездит: то на периферию, то за границу, и поэтому с ним сложно… А желающих было очень много… и мы решили играть его сами, и играем его до сих пор, уже девять лет, уже с ума сходим иногда от произнесения одних и тех же текстов, прекрасных поэтических текстов Вознесенского, замечательных стихов. Но, если сыграли мы уже восемьсот, по-моему, или семьсот с чем-то раз только в самом театре, а еще примерно столько же в концертах, то вы можете себе представить, что теперь, через девять лет, выходить на сцену, и, значит, играть „Рок-н-ролл“, „Бьют женщину“, „Бьет женщина“ с такой же страстью все труднее и труднее. Поэтому этот спектакль усовершенствуется и в него вводятся новые стихи, новые песни… Во-первых, жалко, чтобы он умирал из-за того, что стихи прекрасные, и это первый наш поэтический спектакль, а во-вторых, он нас кормит, этот спектакль. Мы его играем в десять часов вечера, вторым спектаклем, и это избавляет нас от лишних хлопот, а именно: от поездок, так как мы на хозрасчете и сами себя кормим. (Смех в зале, аплодисменты).
И я в связи с этим хотел вам показать… несколько новых стихотворений, которые Андрей специально дал читать мне… Мы поставили еще один поэтический спектакль по произведениям Андрея Вознесенского. Назывался он „Берегите ваши лица“… Я даже уверен, и знаю людей, которые видели этот спектакль, но потом он был отправлен на доработки, и мы его дорабатываем вот до сих пор, вот уже несколько лет. Значит, выйдет он или нет, я не знаю, и когда это будет… Надеюсь, что да, потому что он был прекрасен… И вот сейчас я вам хочу показать песню, которую Андрей Вознесенский, как он говорит, я не знаю, он, может быть, просто льстит, а просто, может быть, и на самом деле, которую он написал специально, чтобы я пел в этом спектакле. Называется она „Песня акына“. (Поет.) „Не славы и не коровы, не шаткой короны земной — пошли мне, Господь, второго, — чтоб вытянул петь со мной…“ (Аплодисменты.)…»
На эти стихи Вознесенского Высоцкий написал музыку. «Песня акына» стала настолько «его» песней, что он исполнял ее в каждом своем концерте. Не случайно тот же Михаил Шемякин, не разобравшись, вставил песню в собрание сочинений Владимира Высоцкого как его текст. (Шемякин составил и издал на свои деньги в 1988 году в Нью-Йорке трехтомник В. Высоцкого.)
В 1970 году у Высоцкого вдруг пошла горлом кровь, его вернули к жизни в реанимации. Спас его тогда знаменитый доктор-невролог Левон Бадалян.
«Мы все тогда были молоды, и стихи свои я назвал „Оптимистический реквием, посвященный Владимиру Высоцкому“, — напишет Вознесенский через десять лет после смерти артиста („Всенародный Володя“). — Страшно, как по-другому читается это сейчас.
Шел популярней, чем Пеле, с беспечной челкой на челе, носил гитару на плече, как пару нимбов… О златоустом блатаре рыдай, Россия! Какое время на дворе — таков мессия.Ему эти стихи нравились. Он показал их отцу. Когда русалка прилетала (Марина Влади. — И. В.), он просил меня читать ей их. Стихи эти долго не печатали. После того как „Высоцкий“ было заменено на „Владимир Семенов“, они вышли в „Дружбе народов“, но, конечно, цензура сняла строфу о „мессии“. Как Володя радовался публикации! Та же „Дружба народов“ первой рискнула дать его посмертную подборку стихов с моим предисловием.
На десятилетии Таганки, „червонце“, он спел мне в ответ со сцены:
От наших лиц остался профиль детский, Но первенец не сбит, как птица, влет. Привет тебе, Андрей, Андрей, Андрей Андреич Вознесенский. И пусть второго Бог тебе пошлет……В 1977 году я принес первую рукопись книги его стихов в издательство „Советский писатель“ Егору Исаеву, который тогда заведовал отделом поэзии. Тот рукопись принял, однако дирекция издательства стояла насмерть. Лишь одно стихотворение удалось все же пробить в сборник „День поэзии“. Знаю, что Володя обращался к поэтам-фронтовикам А. Межирову и Д. Самойлову, но, видно, им тоже ничего не удалось сделать. К тому же надо помнить, что в те годы и мои книги, и книги моих товарищей мучительно продирались сквозь железобетонные „нельзя“…
…Другие стихи, посвященные ему, увы, написались в день его смерти. Там я назвал его поэтом: „Не называйте его бардом. Он был поэтом…“ Ведь даже над гробом, даже друзья называли его бардом, не понимая, что он был великим поэтом. Стихи эти я отдал в журнал „Юность“. Но уже из верстки журнала их сняла цензура, сломав и задержав номер. Цензоры не могли перенести того, что подзаборного певца называют поэтом, да еще „всенародным Володей“. А ведь для них Всенародный Володя был один, который лежал в Мавзолее. Думал я, что делать, и решил пойти в „Комсомолку“. Тогдашний ее главный редактор, назовем его В. (Валерий Николаевич Ганичев. — И. В.), любил стихи и предложил мне следующую лихую аферу.
Тогда еще газета выходила по воскресеньям, номер делали в субботу, и цензура в ней была минимальная. Подписывал рядовой цензор. В. предложил мне поставить стихи в воскресный номер, мол, все начальство пьет на даче и ничего сделать не успеет, потом, правда, утром прочитает и придет в ярость, но к вечеру опять напьется и в понедельник ничего помнить не будет.
„Может, они сами пьют под Высоцкого“, — усмехнулся В.
Так по плану все и вышло. Только в понедельник секретарь ЦК по идеологии позвонил в газету и орал по вертушке. И в итоге В. был снят.
Так и после смерти поэт остался возмутителем».
* * *
Последний раз Вознесенский с Высоцким случайно встретились в самолете: летели из Сочи в Москву. Высоцкий возник внезапно — будто проник в самолет на лету через иллюминатор. Видимо, сидел у летчиков. Одет был в шелковую тенниску, не по осенней погоде. Пересадили кого-то — сел рядом с Андреем. Рассказал, что его обчистили в Сочи — главное, куртку с ключами от «мерседеса» и от квартиры с металлической дверью унесли… «Так что, может, переночуешь у нас, как раньше? Как же ты без ключей?» — «Ничего. Я позвонил. Меня встретят специалисты». В Москве его встретили четыре шкафа, «сразу видно — специалисты».
«Он отзвонил из открытой квартиры. Это был наш последний разговор».
Рекорды «Антимиров» Рассказ актера Вениамина Смехова (декабрь, 2013)
«Началось все с Щукинского училища. Нашими умами владел необыкновенный человек, профессор Павел Иванович Новицкий. Он все время обращал наше внимание на что-то новое в окружающей жизни. Привлек меня с однокурсницей Людой Максаковой к „Современнику“, родившемуся в 57-м году, — мы появились там вдвоем, самые юные. Тогда в гостинице „Советская“ отринутые от МХАТа выпускники во главе с Ефремовым вручную творили какие-то мимоходные декорации и… покоряли всю Москву своими замечательными спектаклями. Такое было время.
Замечательный Новицкий и в литературе вел нас — от Державина, Пушкина, Тютчева, Некрасова, Блока, Маяковского — к поэзии сегодняшней. К нам, третьекурсникам, в 58-м году он пригласил Евтушенко — уже очень известного тогда. Павел Иванович знал его еще как студента Литинститута (там Новицкий был проректором, пока не началась борьба с космополитизмом, — потом он стал завкафедрой в нашей Вахтанговской школе). Чуть позже мы с друзьями-однокурсниками, Сашей Белявским, Юрой Авшаровым, Сашей Биненбоймом (из них, увы, остался уже я один), услышали имя Вознесенского, открыли его поэму „Мастера“…
В 61-м году, когда я уже был актером Куйбышевского театра драмы и, приехав в Москву, навестил вместе с друзьями Новицкого, — он вдруг спросил: „Ну что, вы помните Вознесенского?“ Русский поэтический авангард и Маяковский были его пристрастием — думаю, поэтому и Вознесенский ему был очень важен. Тогда я ответил ему: „Да, у него какая-то очень сильная упругость стиха“ (представляете, мне было 22, а до сих пор помню — вот таков эгоизм находчивости). Новицкому понравилось: „Это очень удачное выражение“.
Упругий стих Вознесенского через некоторое время вернулся ко мне — уже в Театре драмы и комедии, который народ называл „Театр на Таганке“, а нам тогда начальство называть его так не разрешало… Мы репетировали „Десять дней, которые потрясли мир“ Джона Рида, Любимов корил нас всячески. А потом вдруг схватился за Вознесенского. 20 января 1965 года у нас уже прошел первый вечер, который назывался „Поэт и театр“. В афише значилось: в Фонд Мира — то есть играли бесплатно. В первом отделении были мы, во втором — Андрей Вознесенский.
…Сколько бы ни было перемен, туч, бурь и сплетен над головой нашего Юрия Петровича, он был абсолютно верен богу русского авангарда. Отсюда и его сыновняя преданность Николаю Эрдману, Михаилу Вольпину, ставшими главными членами худсовета. Без Эрдмана вообще не было бы такого театра. Там же, в худсовете, очень скоро возникли и Вознесенский, и Евтушенко.
* * *
Но я вернусь к вечеру „Поэт и театр“. Накануне Любимов призвал всех желающих подавать заявки на участие в этом вечере. В то же самое время завлит Левина повесила объявление о том, что завтра на первую репетицию вечера поэта Вознесенского вызываются… Дальше перечислялись — Золотухин, Высоцкий, Демидова, Ира Кузнецова, Хмельницкий, Васильев, и всё. Как же подавать заявки, если уже все решено? — сказал я Любимову. Нахамил, в общем. А он искренне удивился: как решено, кем решено? И в этот же день к списку была приписана карандашом моя фамилия.
Так я, решивший было уходить из театра в литераторы, потому что не сложилась актерская судьба, попал в число участников этого вечера, ставшего скоро спектаклем „Антимиры“. Попал — и вышел, уже ощущая себя актером Театра на Таганке. За это я на всю жизнь благодарен музе Андрея Андреевича Вознесенского.
Дальше были репетиции, был ошеломивший зрителей спектакль и сам Вознесенский, читавший свои стихи. Вечер „Поэт и театр“ открыл вступительным словом Любимов — о том, что великая драматургия всегда писалась поэтами, и только XX век лишил сцену поэзии, презренная проза восторжествовала, и что мы теперь хотим вернуть драматургии ее первоначало, — поэтому у нас Вознесенский. Потом Андрей говорил что-то о значении поэзии в театре и, помню, вдруг заметил: „Все поэты идут в театр, а вот — боком проходит Виктор Боков“. Опоздавший поэт Боков как раз в это время пробирался в зал, каким-то боком… Все тогда происходило так — лихо, весело, празднично.
Успех был потрясающий, и в начале февраля родился собственно спектакль „Антимиры“ — уже как репертуарный, как равноправный член коллектива спектаклей Театра на Таганке (их тогда было всего три).
На первом спектакле был Артур Миллер, и по окончании Вознесенский, полюбивший всех нас, но выделявший двух исполнителей его (и нашей) любимой поэмы „Оза“, позвал меня с Владимиром Высоцким в кабинет Юрия Любимова. Потом мы с Володей передразнивали, не зная английского языка, как Вознесенский разговаривал с гениальным Артуром Миллером — абсолютно по-русски, но слова были английские. Миллер его понимал. Он был восхищен спектаклем, ни слова не понимая по-русски, но, видимо, откликаясь на музыку этих конструктивистских текстов.
Во время того же спектакля, как я потом узнал, Константин Симонов и Алексей Арбузов нашептали Любимову про меня, что я хорошо читаю Вознесенского. После чего Любимов обратил на меня свое окончательное благосклонное внимание, и — еще раз спасибо Вознесенскому и этому спектаклю — я поверил в себя как в актера.
Надо напомнить еще о бытовавшей тогда полуглупой оппозиции „физики-лирики“. Вознесенский был человеком рационалистически-конструктивистским — и одновременно чувственным, праздничным, лирическим и неожиданным, в общем, в нем соединялось очень многое, что нам очень нравилось. И, конечно, физика и лирика в нем не сопротивлялись друг другу. К тому же Дубна, ОИЯИ, Объединенный институт ядерных исследований, тогда очень поддерживал и Таганку, и другие театры — Эфроса, „Современник“. Для нас очень долго это были самые близкие люди, членом худсовета был Георгий Николаевич Флеров, академик и друг нашего театра. И Боголюбов, и Капица, и Понтекорво — физики тянулись к нам, гениальные всемирные люди, а мы были пацанва. Вознесенскому тоже очень нравилось разговаривать с ними как со „своими“ — он же часто бывал в Дубне и „Оза“ его вышла оттуда…
* * *
Полвека спустя в Политеатре, придуманном Эдуардом Бояковым, появится мой спектакль „Память места“ — очень радостно будет читать в Политехническом Вознесенского и даже цитировать наш с Володей триумфальный эпизод из „Антимиров“: „В час отлива возле чайной…“ — и бессмертный Володин ответ — „а на фига?“. В знаменитом диалоге я изображал Вознесенского, а Володя — Ворона…
„Антимиры“ шли очень много лет. Завершились они в год смерти Высоцкого или через год, когда стало ясно, что все расползлось.
Поразительно, как Любимов угадал потребность самых высоких слоев умствующей интеллигенции, осмысленных граждан (чудное выражение Димы Пригова) страны. Эти осмысленные граждане до сего дня попадаются в дни моих гастролей или больших поездок в самых разных местах — и в России, и в Америке, Австралии, Германии, Израиле, Франции. Приходят с выцветшими программками, вот в шестьдесят каком-то году вы мне подписали, подпишите и сейчас. А программка пестрит подписями… В этом спектакле все были хороши — и Алла Демидова, которая „Мерилин Монро“, и Аида Чернова, замечательная пантомимистка, игравшая „Стриптиз“ (а читал его Валерий Золотухин). И Толя Васильев, и Сева Соболев. С Зиной Славиной мы триумфально читали „Париж без рифм“. (Режиссер Петр Фоменко был постановщиком у Любимова — и „Антимиры“, и „Павшие и живые“ во многом, к слову, своим успехом были обязаны ему.)
В „Антимирах“ торжествовало абсолютное безрассудство русского театра, который хочет прорваться куда-то туда, где его не ждали. Стихи магическим образом складывались в сюжет. „Знаешь ли, — сказал мне как-то мой друг, увы, покойный, прекраснейший артист и профессор Вахтанговской школы Юрий Авшаров, — а в этом спектакле есть герой. Казалось бы, все стихи разрозненны, но есть герой. Это — Время“… И еще Юра сказал, что не видел такого театра, чтобы люди так любили друг друга. Это не было правдой абсолютной. Но в белом пространстве подиума, куда усадил нас Любимов, мы так слушали каждого, кто выходил читать, что возникала общая сердечная соединенность.
* * *
Однажды Андрей, вернувшись из Парижа, прочитал в конце знаменитый „Политехнический“ (он обязательно должен был читать это стихотворение), а потом позвал нас с Володей к себе. Мы приехали, он подарил нам по диску — для тех времен это было изысканно и красиво: пластинки стихов Андрея, которые читал сам Андрей. Мне он написал какие-то милые слова, а Высоцкому — незабываемо коротко и сильно: „Володе — нерву века“. Абсолютно снайперски в точку.
Как-то мы были в гостях у Андрея и Зои на Новый год (шестьдесят седьмой) — в компании с Майей Плисецкой, Щедриным, Майей Туровской. Новый год хозяева совместили с новосельем — они въехали в квартиру академика Сидоренко, и Зоя была еще недовольна, в каком виде академик оставил квартиру. Я пришел со своей тогдашней женой, а Володя с одноклассником и другом Игорем Кохановским (его песню Володя блистательно исполнял). Откушав и отпив, мы слушали, как Андрей читал свои новые стихи. А после итальянского шампанского, которое принесла Майя, Володя исполнил „Письмо с сельхозвыставки“. Плисецкая начала смеяться на словах — „был в балете — мужики девок лапают, девки все как на подбор — в белых тапочках. Вот пишу, а слезы душат и капают: не давай себя хватать, моя лапочка!“… Тут Майя Плисецкая явила миру необыкновенные вокальные данные: она просто рыдала…
Это было время абсолютного торжества „Антимиров“, на которые даже самые умные физики и лирики ходили по три-четыре раза. А где-то через год Любимов сделал заказ Георгию Владимову и Андрею Вознесенскому. Блистательный Владимов начал было, но так и не написал пьесу, от которой осталось только название — но оно само по себе как пьеса: „А потом приехали пожарные“. Вознесенский тоже загорелся, даже рассказывал нам в узком кругу, что действие пьесы будет происходить в лифте, в котором люди застревают в Новый год.
Но у него тоже с пьесой не вышло — и лет через пять Любимов взялся за спектакль „Берегите ваши лица“, в котором стихи Вознесенского сближались с пантомимой, и называлось это „поэмимы“. Пантомимисты участвовали в этом блестящие — Юра Медведев, Валера Беляков и Аида Чернова. Мы, малая группа „Антимиров“, сидели на придуманных художником Стенбергом черных балках, подобно нотам на нотном стане. Это было очень красиво. Володя сидел выше других, как верхнее „Си“. Он исполнял стихи Андрея „Я в кризисе, душа нема…“ — что, конечно же, не могло не настораживать начальство. Весь спектакль был в жанре открытой репетиции. Любимов сидел посреди зала, говорил в микрофон, и в этом была и трогательная наивность недоигравшего в Вахтанговском театре актера, — но зрители ощущали, как повезло им присутствовать при рождении шедевра гениального режиссера.
В том же спектакле Володя придумал и очень здорово пел „Я изучил все ноты от и до“. А Юрий Петрович и Андрей предложили Володе спеть его „Охоту на волков“, зная, что это никогда в жизни не будет напечатано в нашей пораненной стране. Мы же пытались обмануть начальство, будто все критическое направлено в сторону Америки. Никто в зале в это не верил. Мы сыграли генеральную репетицию и, может быть, один спектакль. Было около двадцати американских профессоров, „Голос Америки“ откликнулся восторженно. И все. Потом спектакль запретили — оказалось, навсегда.
* * *
Однажды в легендарной Коммунистической аудитории Университета, где выступали Маяковский, Брюсов, Блок, должен был состояться вечер Вознесенского, на который он позвал нашу крошечную группу — Хмельницкого, Васильева, Высоцкого, Славину, Золотухина. Мы подходим к зданию, а войти не можем, толпа сумасшедшая. Когда наконец нас протащили в зал, выяснилось: во-первых, сломан микрофон, а во-вторых, хитрованы первокурсники с утра заняли все места и тем, кто пришел с билетами, сесть уже негде. Сидели на головах друг у друга, на полу, всюду.
А за кулисами стоял большой друг Вознесенского и Эдисона Денисова — композитор Луиджи Ноно, с опер которого в Ла Скала позже начнется победоносное турне Любимова и Боровского в их заграничный период. И вот красавец Джи-джи, как его называли Лили Юрьевна Брик и Андрей, посмотрел-посмотрел на весь этот бедлам и попросился „на воздух“. Мы вышли в коридор, и он объяснил, что́ его возмутило кроме духоты: всё, что читает Андрей, — уже опубликовано и присутствующие всё это знают! Ну понятно, если б вся эта давка случилась ради чего-то запрещенного и неизвестного. Просто хотят послушать Андрея? — так у него не бог весть какой оперный голос… Я спросил: а что, в Италии не бывает таких бурных аншлагов? Он задумался, потом сказал: ну, может, когда профсоюз за что-то борется…
А между тем кошмар в аудитории был такой, что Андрей боялся выходить, спрятался за кулисами, глядел большими глазами и говорил: дикари, передай им, что я выступать не буду. В Лужниках, в Политехническом всегда был какой-то порядок — а тут… К тому же микрофон сломан, он и за голос свой волновался. Я вышел, изобразил, что я говорю, на самом деле просто открывая рот. Все затихли — и я тихо-тихо сказал: вот если вы будете сидеть так, то при сломанном микрофоне, может быть, Вознесенский согласится… Наконец мы выступили с отрывками из „Антимиров“. И Андрей, к полному восхищению этой Комаудитории, еще долго читал стихи…
* * *
Дружба с Андреем продолжалась все время. Мы много раз пересекались и у Лили Юрьевны Брик… А в театре потом был еще спектакль по поэме Евтушенко „Под кожей статуи Свободы“. Я свидетель, как Андрей с Эрнстом Неизвестным хвалили Женю. Вознесенский и Евтушенко были на всех наших худсоветах, очень много боролись, когда хотели снести здание театра, чтобы расширить Большую Радищевскую. Тогда подействовал лишь последний аргумент: в этом здании вроде бы выступал Ленин.
„Антимиров“ было около восьмисот, а я сыграл из них подряд около семисот. Кто-то болел, ездил куда-то сниматься, только возле моей фамилии в скобочках на афише всегда стояла цифра. Поэтому я благодарно храню трогательные выпады в мой адрес. И Высоцкого, который писал: „Только Венька, нету слов, теперя старожил ‘Антимиров’“. И Вознесенского, который на каждом юбилее придумывал что-то такое: „Венька Смехов, ох, горазд, смог без смены триста раз“. Особенно ржали тогда два моих близких человека — Золотухин и Высоцкий.
* * *
В 2013 году я поставил спектакль в честь эпохи „Антимиров“ — „Нет лет“. По предложению Жени Евтушенко сделал композицию из его стихов, работал с молодыми актерами в родном театре, бесконечно возвращаясь к эпохе „Антимиров“. В спектакле Володя поет с экрана „Не славы и не коровы…“. Там и Андрей, и Женя, и Белла — они были когда-то для нас старшими, обожаемыми, с ними мы прошли то время. Но Андрей был первым, и про это есть у Беллы необыкновенное стихотворение, которое заканчивается: „да будем мы к друзьям пристрастны — терять их страшно, бог не приведи“. И Евгений Александрович писал на самом деле о том же: „Сизый мой брат, мы клевались полжизни, братство и крыльев и душ не ценя. Разве нельзя было нам положиться — мне на тебя, а тебе на меня?“ И чудесные слова Андрея из его прозы о молодом Жене, их братстве, его поэтической манере. Вот эта их перекличка тоже звучит в спектакле.
Всякое было, кто-то их сталкивал лбами, но потом они возвращались и пили рядом с нами, когда надо было нас защищать… А конкуренция, соревнование — это было предопределено их местоположением. У нас же парное мышление — за Пушкиным обязательно Лермонтов, Чехов — Толстой, Тургенев — Достоевский, Ахматова — Цветаева, Вознесенский — Евтушенко… Я слышал от Межирова, который общался с Бродским в Америке и вспоминал его слова: „Сегодняшние поэты — это хоровое исполнение сольной партии Иосифа Бродского“. Но… у меня вот зрение — плюс два, дальнозоркость. Это не обязательно очень хорошая черта, но я все время вижу волны повторов: вот не было Баратынского, изъяли Северянина из обихода, потом вернулись к Баратынскому, Северянину… Кто из них гений номер 1, кто номер 2 — это очень скучная материя, согласитесь. Каждый из них живет по своему божьему расписанию — разбираясь в их каверзах, неизбежно стоило бы вспомнить знаменитое письмо Пушкина Вяземскому о дневниках Байрона. Вознесенский, кстати, о том же писал однажды, обращаясь к тем, кто любит судить поэтов: конечно, Евтушенко есть в чем упрекнуть — но не вам же… Тем более, что мы были свидетелями того страшного горя, которое испытывал Женя в Доме литераторов, когда мы провожали Андрея. Мне тогда выпала страшная честь по просьбе Зоечки опередить министра культуры, открыть церемонию прощания и прочитать „Политехнический“ над гробом Андрея: „Нам жить недолго, суть не в овациях. Мы растворяемся в людских количествах…“
А публика на поэтических спектаклях и вечерах, между прочим, в последнее время стала опять молодежной — процентов на девяносто. Еще лет пять назад, если бы осмелились демонстрировать стихи Андрея Родионова, Полозковой, Фанайловой, — ничего бы не было, публика пришла бы пожилая.
Лица стали очень похожи на те, что были тогда, в шестидесятых. Но такого, как в Лужниках, наверное, больше не будет никогда.
Тогда важно было увидеть, услышать живой голос — а сейчас есть Интернет.
Фабула текущей жизни изменилась».
Глава девятая СКРЫМТЫМНЫМ
Уберите Ленина с денег!
Тридцать первого мая 1966 года у Алексея Елисеича, будетлянина, наконец случился юбилейный вечер в ЦДЛ. Вообще-то 80 лет ему исполнилось за три месяца до того, 21 февраля, — но хоть так. Дело затянулось, ибо требовало согласований с инстанциями.
Футурист Крученых за все свои «дыр бул щыл убешщур» еще до войны был зачислен в отряд «выразителей настроений наиболее разложившихся групп литературной богемы». С 1934 года его не печатали, да он и не сопротивлялся, бросил выкручивать руки словам, превратившись в книжного старьевщика. Квартира его Вознесенскому напоминала мышиную нору, заваленную всем, что Кручка (как звали футуриста) успел притащить отовсюду. Ну да, по словам Андрея Андреевича, «он прикидывался барыгой, воришкой, спекулянтом». Скажем, купить у него можно было рукописи Хлебникова на развес — просто отрезал кусок от листочка: вам на 50 копеек? на рубль?
Мария Андреевна еще, бабушка Вознесенского, губы поджимала, когда Крученых к ним заглядывал: прям подозрительный какой-то… Однако — футуристы бывшими не бывают, и Вознесенскому общение с ним казалось жутко любопытным. Кручка был ходячей памятью, будетлянским шаманом Серебряного века. Отметины «пощечин общественному вкусу» холодили его сизые щеки. Казалось бы, велика ли разница между его «дыр бул щыл» и булгаковским «абырвалг» — и одно, и второе было шифром эпохи, но первое от социальной жесткости второго отличала тайна поэтического жеста. Того самого, из которого сотворят себе кумира, навлекая на себя анафемы, шестидесятники.
Так что же наш Крученых? Вот же он — слезится, попрошайничает и вдруг, соблаговолив, берется зазывать в свою «Весну с угощеньицем» — и все меняется в его портрете. Ах, как вкусно описывает это Вознесенский — грех не процитировать.
«„Ю-юйца!“ — зачинает он, у вас слюнки текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашеные пасхальные яйца. „Хлюстра“, — прохрюкивает он вслед, подражая скользкому звону хрусталя. „Зухрр“, — не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, хрупает от засахаренной хурмы, орехов, зеленого рахат-лукума и прочих сладостей Востока, но главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сладострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончайшей бриллиантовой ноте: „Мизюнь, мизюнь!..“ Все в этом „мизюнь“ — и юные барышни с оттопыренным мизинчиком, церемонно берущие изюм из изящных вазочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгиря и Снегурочки, и, наконец, та самая щемящая нота российской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что отозвалась в Лике Мизиновой и в „Доме с мезонином“, — этот всей несбывшейся жизнью выдохнутый зов: „Мисюсь, где ты?“…»
На юбилей Алексей Елисеич брюки позаимствовал у кого-то: свои латаны-перелатаны. Пришли, конечно, те, кто футуристам был не чужд. Лиля Брик (девушка, говаривал Крученых, «из малинового варенья»). Чудак-поэт, бородатый Глазков Николай. Коллекционер и местами писатель Николай Харджиев. Филолог Виктор Дувакин (на днях буквально, 3 мая, выдворен коллегами с филфака МГУ за то, что выступил свидетелем защиты в процессе над Синявским с Даниэлем). И наконец: примчался Вознесенский — башмаки в пыли ташкентской, прямо на Кручкин бал с землетрясения. (Разговоров о случившейся беде тогда было много, слова «гастарбайтер» еще не знали, а потому всей Советской страной вздыхали, сочувствовали и спасали — своих.)
На сцене за большим столом восседал юбиляр в одиночестве. Вознесенский с места в карьер: «Я только что вернулся из Ташкента. Там земля рычала, как Крученых…» Не успел договорить — футуристический старикан вскочил, лицом играя трагифарс, и завопил: «Я в этом не виноват!»
А потом Крученых читал что-то тихим голосом: «Забыл повеситься. Лечу Америку». Когда-то говорили — заумь. А строчка классная — как телеграмма обольщенным простакам из будущего! Да и с Гумилёвым перекликается: «Вот девушка замуж за американца — / Зачем Колумб Америку открыл?»
Крученых после этого юбилея проживет еще два года. Проститься с ним придут немногие. Примчатся, едва не опоздав (как вспоминал Лимонов), и Лиля Юрьевна с Вознесенским.
* * *
На восьмидесятилетии Крученых в ЦДЛ Андрей Андреевич читал «Из Ташкентского репортажа». Неостывшие строки, как угли, были черны и кричали рефреном: «Помогите Ташкенту! / Озверевшим штакетником / вмята женщина в стенку. / Помогите Ташкенту!»
Землетрясение 26 апреля 1966 года разрушило весь центр узбекской столицы, «города в странной ладони пустыни». Дома, магазины, школы, поликлиники. Триста тысяч человек (78 тысяч семей) остались без крыши над головой.
От Пушкина осталось полпамятника. Чей-то ботинок раздавил детскую куклу. Инженер из российской глубинки прислал 80 рублей — помочь кому-нибудь. Затаился белый домик Ахматовой (где она жила в эвакуации). Дымятся развалины и шашлычные. Вознесенский все записывает, как раскадровку. «Сад над адом. / Скрижаль. / Вверх ногами мораль / колупатая. / „Продается рояль. / Новый. Вынос за счет покупателя“».
Сразу после начала землетрясения в Ташкент прилетели первые лица, Брежнев с Косыгиным. Только сели в кабинете узбекского руководителя Рашидова — опять тряхнуло, народ за окном голосит. Очевидец-чиновник расскажет потом, как байку: Брежнев обеспокоился — что кричат? Да ничего-ничего, говорят, это народ ликует: футболисты «Пахтакора» гол забили. Здание опять дернулось. Леонид Ильич повеселел даже: «Ну, Шараф Рашидович, у вас, я смотрю, никакого землетрясения тут нет. Просто голы очень часто забивают». Однако шутки шутками, а город заново отстроят всей страной — всего за три с половиной года.
Вознесенский прилетел в Узбекистан из Крыма, был там в обсерватории у друзей, услышал новость по радио — все бросил и рванул в Ташкент. Зачем-то по дороге в аэропорт купил себе белую рубашку. «Сейчас это смешно, — вспоминал он позже, — ну чем я мог помочь?.. Но тогда мы так жили. Поэт там, где плохо».
В Ташкенте сразу оброс друзьями — самбист Жора Арутюнян, калининградка Тамара-тамариск. «Город жил в палатках на улицах. Никто не спал. Палатки горели, как оранжевые абажуры. Пили легкое вино. Обнимались. Несмотря на ужас, было счастливое ощущение всеобщей общности. Никто не воровал. Зачем? В любой момент все может исчезнуть».
Что общего между Ташкентом и Флоренцией, «фосфоресцирующей домами»? Вскоре после землетрясения Вознесенский оказался в Италии — а там своя беда, разгребают завалы после страшного наводнения, 500 тысяч тонн жидкой грязи на улицах и в домах. Лица у спасателей, «ангелов грязи», были светлы.
Трагедии одинаково сплачивали всюду людей. Это застрянет в подкорке — и много позже, в новом веке, Вознесенский спросит риторически: «Почему же тогда беда дала ощущение общности, равенства со всем живущим, а сейчас беда разъединяет людей, делает зверьми?»
Что за ответ даст поэту новое время? Об этом позже. Хотя…
* * *
Бледно-зеленый кук-чойи уже томится в пиалах. Ох неспроста. Восток дело тонкое. Сейчас, читатель, будь готов: хозяин здешних мест Шараф Рашидович Рашидов ввернет в наш сюжет неожиданный зигзаг.
Вам, может быть, мурч-чой (чай с перцем) иль асалли мурч-чой (с перцем и медом)? Нет-нет, обычного зеленого, узбекского. Налили — ритуально сполоснули пиалу, налили — вылили обратно в чайник. Как говорят здесь, «лой-мой-чой»: первый чай — глина, второй не лучше, а вот третий — самое то.
Можно начинать «чой-пой», разговоры за чаем о том о сем. За тем и зван был Вознесенский к первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Рашидову: на чой-пой. Как только выступил Андрей в здешнем драмтеатре на своем вечере — так и позвал его сразу Шараф Рашидович.
«Поговорив о житье-бытье, с восточною властностью и вкрадчивостью внезапно, с улыбочкой, как бы вскользь, сказал: „А дали бы мне текст вашего стихотворения…“
— Какого стихотворения?
— Ну как какого? Которое вчера читали. Ну, о деньгах, чтобы, значит, Ленина — того… Дам товарищам почитать. Не волнуйтесь. Это для их внутреннего удовольствия, крамола, так сказать. И вы пока его больше не читайте, конечно…» (А. Вознесенский. «Ангелы грязи»).
Стихи эти прозвучали в Ташкенте не впервые. Напечатаны они нигде не были, но в «Антимирах» со сцены Таганки их уже Золотухин читал. И зал — как обухом по голове: «Я не знаю, как это сделать, / но, товарищи из ЦК, / уберите Ленина с денег, / так цена его высока!» Это кто, вот этот вот тонкошеий поэт указывает партийному руководству?!
Были у Вознесенского и прежде стихи про Ленина. Вроде бы логично было для партийных органов — приветствовать направление мысли поэта. Но сомнения пересиливали. Куда-то он не туда сворачивал. Вот прочитал он «Ленин в Шушенском» Хрущеву (на той самой злополучной встрече) — Хрущев прямо сказал: не то и не так. Была еще «Секвойя Ленина» — поэт и там с завихрениями: «…у каждого своя Секвойя, / мы Садим Совесть Словно Сад». Кто это «мы»? Мальчишка! А «Совесть» — при чем тут совесть? В поэме «Лонжюмо» опять туда же: «Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?» Теперь и вовсе замахнулся: уберите Ленина с денег — не марайте, мол, чистоту идеи, «цена высока»! Кто же это, на взгляд поэта, замарал у нас и совесть, и идею? Уж не на работников ли ЦК намекает?..
Рашидов, словом, волновался неспроста. Понятно, какого кук-чойя ему было надо. Почаевничали, предупредил поэта по-хорошему — и разошлись.
Однако дальше вышел конфуз. Стоило на минутку Рашидову от поэзии отвлечься (все же хватало суеты с новостройками в городе) — и ташкентский журнал «Заря Востока», посвятив третий номер 1967 года землетрясению, взял и опубликовал там «крамолу» Вознесенского. Да и весь номер вышел сомнительный. Ужо заметали анафемы! Редактора Славу Костырю со всей редколлегией уволили тут же. Хотя вслед за журналом стихи успела дать и «Литературка». Выходит, и в столице прозевали?
От Москвы до самых до окраин обкомы получили директиву насчет стихотворной «ленинианы» Вознесенского. Это был, конечно же, сюрреализм: стихи о чистоте коммунистической идеи — для компартии крамола! Они, что, все там дружно помешались? Или кое на ком, как говорится, «шапки горели»?
Удивительная история. Венчала ее жалоба председателя правления Госбанка СССР Алексея Посконова — прямиком в Политбюро — об антисоветском, опасном призыве поэта: «Выступая по внешнему виду на защиту величия В. И. Ленина, автор употребляет при этом непристойные двусмысленные выражения, которые являются оскорбительными»…
Патетическое воспоминание композитора Андрея Петрова
«Мне не было нужды идти на какое-то соглашательство с совестью, все гармонично складывалось… Споры всегда касались исключительно текстов. Например, я искренне написал к 100-летию Ленина „Патетическую поэму“ для певца, двух роялей и ударных, выбрал стихи Андрея Вознесенского и Пастернака. Пастернаковское „он был как выпад на рапире“ проскочило, а вот стихотворение Вознесенского „Уберите Ленина с денег“ вызвало, мягко говоря, сложную реакцию…»
Дополняет Наталия Петрова, жена композитора:
«Несколько исполнений „Поэмы“ — в Малом зале Филармонии, в Зале Академической капеллы, в Большом концертном зале „Октябрьский“ — прошли с большим успехом. Намечалось еще одно исполнение, но вместо него состоялось заседание бюро обкома партии, куда был приглашен и композитор.
Наши партийные идеологи были возмущены тем, что композитор использовал стихотворение Вознесенского „Уберите Ленина с денег!“… углядев в этом издевательство над образом вождя… Андрей был искренне расстроен. Ведь очень редко произведение на столь официозную тему вызывало такую взволнованную реакцию слушателей: …огромный зал „Октябрьский“ взрывался аплодисментами…
Впоследствии „Поэма“ исполнялась в Минске, Риге, Москве, но уже без этой части. Чтобы сохранить произведение, Андрею пришлось заменить „крамольные“ стихи Вознесенского „правильными“ стихами Маяковского. Однако после нескольких исполнений в новой редакции „Поэма“ больше не звучала. И подобных революционно-романтических порывов в творчестве Андрея Петрова больше уже не было».
Первым исполнителем «Патетической поэмы» Андрея Петрова стал певец Эдуард Хиль, и ему тоже было что вспомнить:
«Буквально перед самым моим выходом на сцену в Москве подошел какой-то человек, показал красные корочки и сказал: „Вот эту часть, на стихи Вознесенского, исполнять не надо“. Когда оркестр дошел до этой части оратории, я сказал: „Стоп“. После выступления прибежал Андрей Петров, спрашивает: „Что случилось? Почему ты не исполнил эту часть?“ Я рассказал ему про человека с красными корочками… В Ленинграде история повторилась, правда, пятую часть оратории запретили уже по звонку из обкома партии».
Главный звук столетия — «р-р-р»
Тут бы бросить нам эти купюры — дались они, право, — и двинуться вперед. Партийное недовольство дальше запретов не пошло — времена были иные, раздувать скандал из ничего не хотелось. Ну попробовал поэт, влез на территорию официоза. В смысле «конъюнктуры» вышло как-то совсем неудачно, одобрения от власти никакого, более того, вольнодумство обнаружили, на поэтических вечерах публика в этих стихах, замерев, слышала дерзкие вызовы даже. Много ли дивидендов собрал на этом Вознесенский? Ну да, столько — что к Ленину он с тех пор не обращался. Еще и потому, кстати, что многое будет меняться в его представлениях о себе как поэте, идеях, мирах, временах. С этой мукой самоискания он и будет жить до конца…
Но тут как раз, на «лениниане», и возникает затык, ни объехать, ни обойти. Природная аномалия. Известно: лебедь, рак и щука — антагонисты, то есть тянут в разные стороны. А в истории вокруг «Лонжюмо» и «Уберите Ленина с денег» — все наоборот. Факир был вечно пьян и фокус не удался. Лебедь, рак и щука терпеть друг друга не могут и в разные стороны тянут, но в мнениях совпадают, и все тут.
Можно ли было представить, что первым из поэтов совпал с партийной линией в оценке злополучных «ленинских» стихов Вознесенского гонимый и затравленный Иосиф Бродский? Да ни за что! Однако же совпал.
Чиновники выковыривали в Вознесенском «антисоветчину». У Бродского то же самое переименовано в «советчину». В 1970 году он сложит скептические стихи про «кифареда», призвавшего «Императора убрать / (на следующей строчке) с медных денег» («Post aetatem nostram»).
Будет еще забавная сценка: в 1979-м, уезжая из СССР, уже в аэропорту Юз Алешковский не найдет ничего значительнее, чем крикнуть на прощание провожающим: «Уберите Ленина с денег!» Но этот «прикол» из той же оперы. Новую американскую эмиграцию, облепившую Бродского, сплотит своя «партийная» дисциплина: никто не смей отклониться от генеральной линии мифологем и баек! На отношении к Вознесенскому это скажется в первую очередь.
В каком бреду могло привидеться, что с «западником» Бродским окажутся заединщиками писатели «патриотического фронта»? А они окажутся. Сольются в антивознесенском пафосе — и с советским банкиром, и с нобелевским «счастливчиком». Станислав Куняев напишет про всех шестидесятников оптом (себя он к ним не причисляет, хотя вышел из той же эпохи и по молодости даже рассказывал Вознесенскому, как зачитывался в студенческой общаге его поэмой «Мастера»): «Они могли как угодно дразнить партийных чиновников своим непослушанием, капризами поэтического нрава, оппозиционными жестами». Наблюдение, безусловно, справедливое. Это, надо заметить, и самих чиновников раздражало, и эмиграцию. Почему шестидесятники многое позволяли себе? А потому, по Куняеву, что каждый что-то написал про Ленина. Почему это так всех нервировало? Потому что все эти «Лонжюмо» (а что же еще!) легли «в основу их материального и литературного благополучия, в основу собраний сочинений и вояжей за границу, в основу их ранних Государственных и Ленинских премий».
Про Ленинские премии, видимо, сказано для большей экспрессии — поэтам-шестидесятникам их не давали. Впрочем, какая разница! Объяснение по-человечески понятное, даже трогательное.
А вслед за партаппаратом, Бродским, эмигрантами, «патриотами» поспешат и всякоразные «либералы». Друзья, прекрасен ваш союз: всех сплотит Вознесенский. И «радикалка» Новодворская, практически повторяя «патриота» Куняева, возложит вину на поэта, как на «главного идеолога», усмотрев, как помним, страшный грех в том, что «Лонжюмо» — талантливо. Писал бы бездарно — вопросов бы не было. Как он мог про «эту страну» написать так пронзительно:
Россия, любимая, с этим не шутят. Все боли твои — меня болью пронзили. Россия, я — твой капиллярный сосудик, мне больно когда — тебе больно, Россия.Каждый вроде бы говорил и говорит о своем — но все парадоксально совпадают. История удивительно ходит по кругу. Задачей сегодняшних поколений всякий раз становится — не оставить следа от вчерашних. А завтрашние спокойно перебьют сегодняшних и прольют слезу по вчерашним (для них уже позавчерашним).
Какой там «капиллярный сосудик» — пусть завтрашние и гадают. Как в самом «Лонжюмо» и прописано: «Ночной папироской / летят телецентры за Муром. / Есть много вопросов. / Давай с тобой, Время, покурим. / Прикинем итоги. / Светло и прощально / горящие годы, как крылья, летят за плечами».
Гадать: а вдруг все же «Лонжюмо» написано не совсем искренне? — можно до бесконечности. Вознесенский ответит однажды на вечный вопрос: «Тогда это было искренне… Поэт Олег Хлебников сказал как-то, что его учитель называл „Лонжюмо“ антисоветской вещью. Тогда ведь Ленин был анти-Сталиным…»
«Мы живем по циферблату, в котором отломана часовая стрелка, да и минутная тоже. Мы — люди с секундным суетным кругозором», — скажет еще Андрей Андреевич. Модно или немодно произносить слово «Ленин» — суть не в том. От слова можно отмахнуться. Но вопросы, которые тянутся за поэмой шлейфом, значительнее собственно поэмы! Отчего мы умудрились скомпрометировать великую мечту о переустройстве мира «по справедливости»? Возможны ли версии иные, нежели «социализм по-сталински»? Возможно ли такое мироустройство, при котором не гробятся великие иллюзии и не опустошается смысл жизни повальным грабежом?
Вознесенский улыбнется, вспоминая: молодой был, каша в голове, но разобраться — хотелось. А повторил бы он сейчас «Уберите Ленина с денег»? — зачем-то спросят у него в начале нового, XXI века, когда вождя и след с купюр давно простыл.
Ну да, ответит поэт, только «ленин» теперь пишется с маленькой буквы, а «Деньги» — с большой.
…«По гаснущим рельсам / бежит паровозик, / как будто сдвигают / застежку на / „молнии“».
* * *
«Мы движемся из тьмы, / как шорох кинолентин: / „Скажите, Ленин, мы — / каких Вы ждали, Ленин?!“. И дальше: „Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?“ / И Ленин отвечает. / На все вопросы отвечает Ленин».
Метафоры вплетаются в футуристическую вязь столетия. Оставим в покое тех, кто при имени революционного вождя бьется в конвульсиях. Проследим за стихотворческими играми.
Р-рас-катистое «р» у Вознесенского в поэме всплывает не-спр-р-роста. «Под распарившимся Парижем / Ленин / режется / в городки! / Раз! — распахнута рубашка, / раз! — прищуривался глаз, / раз! — и чурки вверх тормашками / (жалко, что не видит Саша!) — / рраз!»
Похоже звучало «р» у Маяковского в поэме «Владимир Ильич Ленин». Правда, его герой режется не в городки, а в шахматы, выводя «вчерашних пешек строй» — «рабочей — человечьей диктатурой / над тюремной / капиталовой турой». Финал поэмы Маяковского в 1924 году так и р-раскатывался: «Раз, / два, / три, — / пионеры мы!»; «Рабы, / разгибайте / спины и колени!»
Через год, в 1925-м, эхо этих р-раскатов — так судьба стучится в дверь — гр-ромыхнет вдр-руг у Марины Цветаевой в посвящении Пастернаку: «Рас-стояние: версты, мили… / Нас рас-ставили, рас-садили, / Чтобы тихо себя вели / По двум разным концам земли». И будто случайность — у Цветаевой опять всплывает игра, тот же призрак играющей людьми эпохи:
Который уж, ну который — март?! Разбили нас — как колоду карт!Ну что такое «р» — всего лишь буква, звук. А связывает вдруг поэтов узлами сухожилий, раскрывая в эпохе человеческое нутро. Уже после «Лонжюмо», в 1969 году футурист Семен Кирсанов откликнется прощальным «р» — стихотворением «В разрезе»: «Разрез по животу — живой разрез. / Рез — раз!» Все скажется у смертельно больного Кирсанова — «развод, разрыв, разлад, разрез».
Раз! — улей, топором разрубленный, Судороги обезглавленных и обескрыленных пчел. Раз− рушенный бомбардировкой дом, где изразцы висят в разрезе.Если бы не было в «Лонжюмо» поэзии — к чему были бы все пересуды? Нервирует имя вождя, сегодняшним представлениям о нем мешает новый пафос. Пусть не очень корректно, но все же: если бы в стихах этот «шорох кинолентин» двигался не к вождю, а, скажем, к дарам волхвов, любому другому знаку веры, идеала? Может, понятнее было бы, что весь вопрос как раз в наличии или отсутствии веры?
Важно напомнить: эти стихи естественно вписывались в контекст всей поэзии XX века, закрученной, заверченной вокруг идеи нового мироустройства. Идеи, между прочим, выношенной веками — и очень близкой русскому сознанию, тоскующему о всемирной справедливости. И еще не факт, что неудавшийся эксперимент станет последним в мировой истории.
* * *
В череду революционных портретов с начала XX века вглядывались крупнейшие из русских поэтов. Обаяние революции — загадочная тема века, и каждого она коснулась по-своему. От Блока с его «Двенадцатью»: и «в белом венчике из роз — / Впереди Исус Христос» — к Маяковскому с поэмой «Ленин» — до Твардовского: «Лысый, ростом невелик. / — Ленин, — просто отвечает. / — Ленин? — Тут и сел старик».
— Мое юношеское отношение к Ленину, — объяснял много раз Вознесенский, — копировало отношение к нему моего учителя и кумира Бориса Леонидовича Пастернака. Я Ленина не знал, он знал. Пастернак с Мандельштамом встретились у гроба Ленина, и пришли они туда не для того, чтобы плюнуть на этот гроб… Поэзия выражает мечты, иллюзии народа…
К слову, Алексей Дидуров, шеф «Рок-кабаре», вспоминал, что и Высоцкий в анкете на вопрос «Кто ваш любимый политический деятель?» — ответил: «Ленин».
Известно пастернаковское: «Он был как выпад на рапире». Известно брюсовское: «Кто был он? — Вождь, земной Вожатый Народных воль». У «крестьянского» Николая Клюева: «Есть в Ленине керженский дух, / Игуменский окрик в декретах». Стихи Есенина звучат сегодня едва ли не пророчеством (власть имущим не мешало бы вчитаться): «Монархия! Зловещий смрад! / Веками шли пиры за пиром, / и продал власть аристократ / промышленникам и банкирам. / Народ стонал, и в эту жуть / страна ждала кого-нибудь… / И он пришел».
Никита Струве подмечал, как менялась «политическая тональность» у Мандельштама в первые послереволюционные годы — и Ленин из «октябрьского временщика» перетекал в «народного вождя», который в слезах берет на себя «роковое бремя власти».
«Рыцари революции» гипнотизировали поэтов. Цветаева встретилась с Луначарским, наркомом просвещения, и очарованно писала Волошину: «Луначарский — всем говори! — чудесен. Настоящий рыцарь и человек». Большевичка Лариса Рейснер вызывала интерес у Блока и Варлама Шаламова. Мандельштам посвящал ей стихи: «Бреди же в глубь преданья, героиня. / Нет, этот путь не утомит ступни».
Если и великие поэты были здесь слепы — то важно, значит, понять: отчего?
За перевод стихов о Ленине, между прочим, брался и чтимый Вознесенским и Бродским англо-американский классик Уистен Хью Оден. В 1935 году его переводы читали на лондонской премьере фильма Дзиги Вертова «Три песни о Ленине» — кто-то услышал в них отзвуки религиозных медитаций.
Сам по себе призыв «Уберите Ленина с денег!» — тоже, между прочим, возник не на пустом месте. Мысль о цене, а точнее, бесценности идеи справедливости, звучала у многих — скажем, у Велимира Хлебникова: «Не за тем высока / воля правды у нас, / в соболях-рысаках / чтоб катались, глумясь». Еще ближе — редакционное заявление, которым открывался первый номер журнала «ЛЕФ» («Левый фронт») в 1924 году: «Мы настаиваем: Не штампуйте Ленина. Не печатайте его портретов на плакатах, на клеенках, на тарелках, на кружках, на портсигарах. Не бронзируйте Ленина».
* * *
В самом конце XX века Вознесенский вдруг вспомнит об отрывке, якобы выброшенном когда-то цензурой из «Лонжюмо». Сама по себе история, извлеченная поэтом как из рукава, напоминает скорее этакий постмодернистский жест. Во всяком случае, он забавно перекликался с Евтушенко, вдруг обнаружившим «пропавшую» главу из своей старой поэмы о Ленине «Казанский университет». Глава поразительно совпадала с новыми «перестроечными» взглядами на вождя, но автор уверял: так было изначально. Вознесенский умел быть ироничным по отношению и к другим, и — что немаловажно — к себе самому. Нет никаких оснований утверждать — и все-таки представляется очевидным, что это литературная мистификация, игра. Поэт повеселился — злобно дышащие критики тут как тут: ага, почуял новую конъюнктуру! Ну, пусть себе пыхтят, бедняги. А вот как хулиганисто, если не издевательски об этом расскажет сам Вознесенский:
«В „Лонжюмо“ была глава, которую категорически не хотели печатать. Тогда я позвонил секретарю ЦК по идеологии и сказал: „Что за дела? Не печатают ленинскую цитату!“ Трубка грозно прогромыхала: „Кто не печатает? Почему? А что, собственно, за цитата?“ И я прочитал ему эту главку. „Мы — утопленники Утопии. / Изучая ленинский текст, / выражение „двоежопие“ / мной прочитывается, / как тест. Вылезает из круглых скобок / перископный глаз, как циклоп. / Раздвоение душ прискорбно, / но страшней — раздвоение жоп“»…
…Но, увы, еще до потопа От рождения нам дана: Одна родина, одна жопа И, увы, одна голова.Трубка минуты две молчала — может, он осмысливал услышанное или просил секретаря найти нужную цитату? Наверное, так, потому что наконец трубка ответила: «Действительно, у Владимира Ильича встречается это слово — трижды, в разных стенограммах. Но читатели нас не поймут… Кстати, как там у вас: ‘Увы, одна голова’? „… Я услышал угрозу: то ли мне, то ли он о своей голове задумался“».
* * *
Зачем Вознесенский отправился из Парижа в городишко Лонжюмо? Ну да, конечно, — всю весну и лето 1911 года здесь конспирировалась первая «школа большевиков».
Но… было тут и кое-что еще поинтереснее. Конспиративная история!
Такие каламбурчики ценили все французы, знакомые Вознесенскому. Чистейшее l’amour a trois (любовь втроем) — и Арагона, и Сартра это очень воодушевляло.
«Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда тебя очень любила, — признавалась в письме своему Ильичу боевая русалка Инесса Арманд. — Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, и только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль… Тебя я в то время боялась пуще огня… А когда ты почему-либо заходил в комнату Н. К. (Надежды Константиновны Крупской, супруги. — И. В.), я сразу терялась и глупела… Только в Лонжюмо… я немного привыкла к тебе. Я так любила не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил…»
А вы о чем подумали? Ну чем, скажите, не поэма!
Почему Хайдеггер?
Четырнадцатого февраля 1967 года Вознесенский прибыл во Фрайбургский университет — выступить перед студентами и профессорами. В полумраке зала, на правом фланге первого ряда, поэт заметил сразу незнакомца — как-то лицо его «мерцало». Сидел крепко, как коренной зуб. Подозрительно поглядывал, как сияли вокруг «искусственные улыбки прогресса».
Впрочем, вечер только начался — и у нас есть время, чтобы ответить прямо сейчас на письмо трепещущей Инессы Арманд любимому учителю Владимиру Ильичу нежной эпистолой из другой переписки. Шел двадцать пятый год, 36-летний профессор — 19-летней студентке: «Когда буря бушует вокруг хижины, я или думаю о „нашей буре“ — я мысленно иду тихой тропинкой вдоль реки Ланн — или в моих грезах воскрешаю образ юной девушки, которая во время перерыва в первый раз приходит в мою рабочую комнату; она одета в плащ, шляпа глубоко надвинута на огромные тихие глаза; на все вопросы она сдержанно и робко дает краткий ответ. А потом я перемещаю этот образ на последний день семестра… И тогда впервые узнаю, что жизнь — это история».
Автора письма, профессора, звали Мартин Хайдеггер, студентку — Ханна Арендт. Буря страстей — дело житейское, но в их отношениях присутствует и тень жены профессора — Эльфриды. Подобно увлеченной партстроительством Надежде Константиновне, Эльфрида с головой окунулась в пропаганду здорового тела — здорового германского национального духа. Мартин безуспешно намекал ей: «…в твоих занятиях есть нечто, что мешает тебе воспринять полноту женственности». Ханна, напротив, даже годы спустя диссертацию — и ту посвятит любви (в понимании святого Августина). Но у XX века металлический привкус. «Буря» Хайдеггера и Ханны обретет трагический оттенок — «неарийка» бежит из Германии, ему до конца жизни будут припоминать номер его нацистского партбилета (312 589). Вступление в ряды национал-социалистов в 1933 году было связано напрямую с назначением Хайдеггера ректором Фрайбургского университета. В ректорах, впрочем, он не просидел и года — убрали, поскольку проводником государственной идеи философ оказался никудышным.
…Думаю, читателю уже ясно: тот самый коренной «зуб разума», сидевший на вечере Вознесенского, и был — Хайдеггер. Великий и проклятый мыслитель… Вечер поэзии будет иметь продолжение.
«После войны Ханна прислала Хайдеггеру открытку без подписи: „Я здесь“, — напишет в эссе о философе Вознесенский. — Они встретились. „Ханна нисколько не изменилась за 25 лет“, — сухо отметил Хайдеггер. Он был страстью ее жизни. Его портрет стоял на столе в Иерусалиме, где она писала о процессе Эйхмана. Она простила Хайдеггера. В дневнике она назвала его „последним великим романтиком“».
В том же 1967 году, когда Хайдеггер встретился с Вознесенским, к нему приехала и Ханна Арендт: после той встречи в пятьдесят втором они не виделись еще 15 лет. Ей было уже почти шестьдесят, ему под восемьдесят. Она приехала с мужем. И — что уж теперь — отношения с Эльфридой потеплели.
В университет на вечер Вознесенского примчался на «жуке-фольксвагене» из Мюнхена граф Подевилс, президент Баварской академии искусств. Он знал Андрея по Парижу, где работал прежде журналистом, и теперь они — уже познакомившись с Хайдеггером — все вместе отправились ужинать. Ничего особенного, ужин как ужин. Вознесенского лишь удивила в Хайдеггере «мелькнувшая вдруг какая-то пришибленность, коренастая насупленность, затравленная опаска общения с людьми. Видно, многое он перенес», — решил поэт.
Что еще запомнилось в этот вечер? Великая лобная кость. Острые рысьи бровки. Щетинка усов, похожая на щеточку для ногтей. Добротный костюм-тройка. Да, у него же был еще в биографии Марбург: Хайдеггер преподавал там когда-то в университете, где чуть раньше учился Борис Пастернак. Напряженные глаза понемногу теплеют от разговора и коньяка. «Я ищу в нем отсвет любви к его марбургской студентке, юной экзистенциалистке, неарийке Ханне Арендт, и трагедию разрыва с ней».
Хайдеггер пригласил поэта в гости. Теперь уже — спокойно побеседовать.
Философу необходимо было понять что-то важное в поэте. Поэту — в философе. Что?
* * *
Делиться впечатлениями о той встрече с кем-нибудь тогда, в конце 1960-х, было бы опрометчиво. Имя Хайдеггера могло вызвать неоднозначную реакцию не в одном лишь Советском Союзе, — во многих уголках Европы разговор о нем неизбежно сводился к щекотливой теме «философ-нацист». Подробности беседы с ним Вознесенский опубликует уже в 1990-х («Зуб разума») — когда миру явственно потребуется понять, куда он катится. Мир будет перекраиваться, под сурдинку кто-то набьет мошну, решит задачки суетного жизнеустройства — только смысл из происходящего все время будет ускользать. Глобальный, метафизический смысл бытия — он будто исчезнет.
В 1989 году Культурный фонд Гетти соберет в Будапеште литераторов для разговора о Востоке и Западе, между которыми разрушились барьеры: какими тектоническими последствиями это грозит миру? Соберется много узнаваемых в книжном мире персон.
Внимание Вознесенского привлечет вдруг неопознанный им «африканец в лиловой тоге» — он и завел там дискуссию о Хайдеггере. К разговору подтянутся швейцарский классик Фридрих Дюрренматт, немецкий издатель Михаэль Крюгер, польский поэт Чеслав Милош, французский писатель Ален Роб-Грийе, и южноафриканка Надин Гордимер, и американка Сюзен Зонтаг, и польский издатель Адам Михник.
* * *
«Почему я отправился к Хайдеггеру?» Вопрос, который поэт задавал сам себе еще тогда, в 1967-м. Объяснял по-разному. Так, скажем, попроще: «Я — москвич, но детство мое воспитало провинция Киржача и Кургана, потом я ходоком уходил искать смысл жизни в переделкинские пенаты Пастернака и провинциальный Франкфурт к Хайдеггеру…»
Ответ чуть более развернутый: «В половодье шестидесятых хотелось фундаментальной онтологической истины… В имени последнего германского гения магически хрустели редкие для русского языка звуки „х“, „гг“, „р“, в свое время так восхищавшие будетлян. Еще Велимир „в земле, называемой Германия, находил звук ‘г’ определяющим семена Слова и Разума“… Пленяло и изгойство мыслителя, опала у толпы».
Что пытался уловить в поэтах Хайдеггер, размышляющий о Бытии и Времени? Созвучия своим идеям о «шуме» наступающей цивилизации он находил у поэта Рильке — в «Дуинских элегиях». В трактате «Петь — для чего?» (1946), посвященном поэту, Хайдеггер приводит его письмо от 1 марта 1912 года: «Мир сморщивается и уходит в себя, ибо и вещи тоже, с их стороны, поступают точно так же, они все больше и больше перекладывают свое существование в неустойчивую дрожь денег, создавая здесь некий вид духовности, который уже теперь начинает превосходить их осязательную реальность».
Промелькнули у Хайдеггера и мысли о загадочных России и Китае: может быть, на Востоке миру откроется выход из тупика цивилизации — путь к преодолению «шума» (вещей, всё больше заполняющих мир) и возвращению к «тишине мира», голосом которой и говорит бытие.
Вот и у Вознесенского в стихотворении «Тишины!» Хайдеггер услышал созвучное: «Тишины хочу, тишины… / Нервы, что ли, обожжены?/ Тишины… / Чтобы тень от сосны,/ щекоча нас, перемещалась,/ холодящая, словно шалость,/ вдоль спины, до мизинца ступни./ Тишины… / <…> Понимание — молчаливо». По-русски Хайдеггер не понимал. Но это шелестящее «ш-ш-ш» улавливал:
Как живется вам там, болтуны, чай, опять кулуарный авралец? горлопаны, не наорались? Тишины… Мы в другое погружены. В ход природ неисповедимый. И по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер. Вскипает приварок. Они курят, как тени тихи. И из псов, как из зажигалок, светят тихие языки.Философ слушает поэта. Поэт слушает философа. Вознесенского гипнотизирует вязь хайдеггеровской «зауми». У него и гераклитовский Оракул «ни прямо открывает, ни попросту скрывает, но открывает скрывая». Вот же — темная речь поэзии, освещающей будущее. Чем обаятелен Вознесенский — вспоминает эту встречу, не надувая щек: «Я не всегда понимал, лишь согласно кивал». Чистосердечность подкупает.
Хитросплетались у Хайдеггера суждения — вокруг «бытия того сущего, которое открыто для откровенности бытия, в которой оно находится благодаря тому, что переносит ее». Ясное дело, это про «экзистенцию», а про что же еще. Хайдеггер — как заклинатель змей, как дзен-буддист, проросший вдруг восточной мистикой в сердцевине Европы. Дремучий праязык поэзии ведет его в поисках истины.
«Вест-истина? Ист-истина? — вслушивается Вознесенский. — Мысль Достоевского: „У меня, у нас, у России — две родины: Запад и Восток“…» В том же 1967-м всплывет у Вознесенского в стихах: «Я в географии слабак, / но, как на заповедь, / ориентируюсь на знак — / востоко-запад. / Ведь тот же огненный желток, / что скрылся за борт, / он одному сейчас — Восток, / другому — Запад. / Ты целовался до утра. / А кто-то запил. / Тебе — пришла, ему — ушла. / Востоко-запад» («Морская песенка»).
Что мог понять немецкий философ в незнакомой ему речи гостя? В любых переводах теряются оттенки и нюансы. Или друг другу они «открывались, скрывая»? Хайдеггер будто хотел услышать в русской поэтике мелодическую основу своих тезисов. Вознесенский пишет: «„Я — Гойя“ он воспринял как выражение праязыка с двуконцовым „я“, которые для него были греческими „началом“ и „окончанием“ — то есть двумя едиными принципами творения. „Как карандаш, заточенный с двух концов“, — запомнилось мне. Наверное, красно-синий, а может, у них в Германии иные карандаши?»
Гость и хозяин слушали друг друга; каждый в поисках ответов на свои вопросы, временем предъявленные. Близки Хайдеггеру были зрительные метафоры «Озы» — «может, потому, что это было легче перевести или напоминало структуру поэтики его молодости и отвечало его ненависти к НТР. „Насквозь прозрачный предмет“, по его терминологии…».
Прочитать собственно тексты Хайдеггера на русском до этой встречи Вознесенский не мог. Пробовал, честно признается поэт, читать по-английски, но — «можно было голову сломать о его труднопереводимые термины».
Суждения немецкого философа были знакомы ему из запретных томиков Николая Бердяева и Льва Шестова (писавшего о Гуссерле, из чьего гнезда вылупился фрайбургский профессор). Ханна Арендт называла мысль возлюбленного «страстной». Бердяев, полемизируя с Хайдеггером, признавал его талант и рациональность.
Вознесенский застал уже другого Хайдеггера: «…пережившего разрыв с Ханной, — увы, и гении становятся рабами семейных уз, наветов, — пережившего ее отъезд из Марбурга учиться сначала к Гуссерлю, а потом к Ясперсу, а потом и из нацистской Европы, пережившего крах иллюзий, остракизм толпы, сначала правой, потом левой — экзистенциальный опыт душевно надломил его».
У Бердяева поэт читал: «Для меня экзистенциальная философия была лишь выражением моей человечности, человечности, получившей метафизическое значение. В этом я отличаюсь от Гейдеггера <Хайдеггера>, Ясперса и других».
Вознесенский приводит и слова Льва Шестова: «Человек должен сам стать Богом, т. е. все творить из ничего». За этой фразой следуют загадочные слова Лютера: «…богохульство звучит иной раз приятнее для слуха Божьего, чем даже Аллилуйя или какое хотите торжественное славословие. И чем ужаснее и отвратительнее богохульство, тем приятнее Богу».
Эти строки ведут Вознесенского к мысли: «Думается, есенинские „кощунства“ („я на эти иконы плевал“ и иные строки, похлеще) звучат куда угоднее Богу, чем пресное чистописание. Эти отношения поэта с Богом — они не для непосвященных. Да любая метафора-озарение Есенина, Заболоцкого, Дали или Филонова идет „от Бога“, а непосвященными воспринимается по малограмотности как кощунство».
Хайдеггер «по-петушиному подпрыгнул» на слове «ар-хи-тек-тор» — узнав, кто поэт по профессии. Философа как раз волнует это сочетание: архитектура поэзии. Он говорит об «истоке художественного творения», когда «человек в своем экзистировании экстатически впускает самого себя вовнутрь несокрытости бытия». Вознесенский в ответ рассказывает об «открытом стихотворении», предполагающем обратную связь со слушателем или читателем. Для Хайдеггера это — «открытость вовнутрь».
Заговорили о метафоре. Поэт объясняет философу близким ему языком: метафора — это связь между «здесь-бытием» и «там-бытием». Лучшая книга русского экзистенциалиста Льва Шестова — «На весах Иова» — родилась из душераздирающей библейской метафоры: «О, если бы верно взвешены были вопли мои и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно, верно, перетянуло бы песок морей!»
Хайдеггер возвращается к праязыку и находит сущность поэзии в «набрасывании», или «набросочности», или «проектировании» будущего. Вознесенский предлагает именовать это свойство «эскизенциализмом поэзии», которая «набрасывается» на будущее, загадывает его, творя историю. «Эскизенциализм поэзии недоговорен, тороплив ввиду кратковременности срока жизни среди немой Вселенной». И тут — Хайдеггер, сам того не ведая, возвращает поэта к родному будетлянину Велимиру.
«У Хлебникова, — пишет Вознесенский, — читаем: „Законы времени, обещание найти их было написано на березе (в селе Бурмакине Ярославской губернии) при известии о Цусиме. Блестящим успехом было предсказание, сделанное на несколько лет раньше, о крушении государства в 1917 году“».
Поэзия может чувствовать не только эхо после события, но и эхо, предшествующее событию, Вознесенский называет его ПОЭХО. Поэхо, как звери, предчувствует землетрясение, предугадывает явления.
Подслушанное в начале XX века Хлебниковым «шагадам, магадам, выгодам, пиц, пац…» предугадывало и «Магадан, столицу Колымского края» (известную лагерную песню), и цоканье пуль о ледовитые камни. А хлебниковская поэма «Разин», где вся в огромной снежной лавине глав каждая метельная строка читается вперед и назад, — предугадывала обратный ход революционного процесса, «набрасывала» историю.
Болтанка смыслов длинной беседы — как перестук камней-голышей под волнами: тыдым-тыдым. Слова, как уключины весел: скрым-скрым. Праязык? — шевельнулось в черепе у Хайдеггера. Какой-то скрымтымным? — послышалось Вознесенскому.
Через три года, в 1970-м, — в новом сборнике стихов Андрея Вознесенского «Тень звука» — Хайдеггер и Хлебников откликнутся далеким отголоском: «„Скрымтымным“ — это пляшут омичи? / скрип темниц? или крик о помощи? / или у Судьбы есть псевдоним, / темная ухмылочка — скрымтымным? / Скрымтымным — то, что между нами. / То, что было раньше, вскрыв, темним. / „Ты-мы-ыы…“ — с закрытыми глазами / в счастье стонет женщина: скрымтымным. / Скрымтымным — языков праматерь. / Глупо верить разуму, глупо спорить с ним…»
Скрымтымным — это не силлабика. Лермонтов поэтому непереводим. Лучшая Марина зарыта в Елабуге. Где ее могила? — скрымтымным… А пока пляшите, пьяны в дым: «Шагадам, магадам, скрымтымным!» Но не забывайте — рухнул Рим, не поняв приветствия: «Скрымтымным».Не трожь человека, деревце
Однажды деревенька Санталово с головой ушла в небытие.
Точно и не скажет уже никто, в какой день деревни не стало. Новгородская область, Крестецкий район, далее — трава-мурава, простеганная репейником, и тишина.
Но точно известно, что в шестьдесят седьмом году здесь еще маялись и мыкались санталовские аборигены.
Еще цела была та самая школа, в которой провел последний месяц жизни великий поэт-будетлянин Велимир Хлебников. На бревенчатой стене бывшей школы еще можно было обнаружить надпись, процарапанную художником Петром Митуричем: «Здесь жил с 16 мая и умер Первый Председатель Земного Шара Велимир Хлебников. 9 ч. утра. 28 июня 1922 г. П. З. Ш. П. Митуричь».
Банька, в которой Хлебников «умер и засмеялся», покосилась, но все же стояла. «Понитилась баенка», — на своем, будто неземном, языке говорили местные. «Я умер и засмеялся» — это поэт сам про себя написал незадолго до смерти.
Все как-то вышло тогда, в 1922 году, вмиг. Будто бы нелепо — для всех, кроме него самого. Хлебникову было тридцать семь. Он честно предупреждал, вспоминая о Пушкине: «Люди моей задачи умирают в 37 лет».
В Санталово Хлебников, уже заболевший малярией, приехал с другом Петром Митуричем. Здесь работала учительницей Наталья, первая жена художника: второй чуть позже станет сестра поэта Вера Хлебникова. Ходил в лес, ложился голышом на землю — греться, говорил, на солнышке. Ходил на рыбалку — 56 форелей и хариусов за раз. Потом слег, и все. Растворился в муравьях, рыбешках и прочей природе.
Что изменилось для него самого? Хлебников написал заранее — но так, будто уже оттуда, куда ушел: «Просто большое стало малым, малое большим. / Просто во всех членах уравнения бытия знак „да“ заменился на знак „нет“. / <…> И я понял, что все остальное по-старому, но только я смотрю на мир против течения».
Похоронили футуриста на погосте в соседней деревне Ручьи, меж елью и сосной. На сосне и вырезали надпись и дату. На крышке гроба написали: «Председатель Земного Шара Велимир Хлебников». Пририсовали собственно земшар.
Не важно, знал ли Вознесенский про это изображение шара над погребенным Хлебниковым. Возможно, так совпало. Но даже случайность тут — знаковая. На могиле Андрея Вознесенского и его родителей — спроектированное самим поэтом надгробие: наклонная плоскость, на которой застыла каменная сфера — тот же будетлянский земшар, будто в стоп-кадре вечности, готовый вот-вот сорваться.
В 1960 году Хлебникова перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Если верить свидетельствам очевидцев, из могилы в Ручьях перевезли то ли несколько косточек, то ли горсть земли с прахом и несколькими пуговицами. У футуриста Хлебникова оказалось две могилы, обе подлинные. В Ручьях позже поставят памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова. На Новодевичьем покой Велимира хранит «каменная баба» со степного половецкого кургана, которому не меньше полутора тысяч лет. «И на груди ее булыжной блестит роса серебряным сосцом» (В. Хлебников).
Так что же было в 1967 году в Санталове?
Внук Петра Митурича, Сергей Васильевич, расскажет в сборнике статей «Авангард и остальное»: в тот год исследователь русского футуризма Александр Парнис соблазнил его отца, Василия Митурича, тоже художника, съездить в Санталово. Тот не бывал в этих краях с детских лет: через год после смерти Хлебникова, в 1923-м, Петр Митурич навсегда увез Наталью Константиновну с детьми Васей и Машей в Москву. Отец, по словам Сергея Митурича, «вернулся после поездки в восторге: он встретил редких оставшихся местных жителей, которые знали его в пяти-восьмилетнем возрасте, вспомнил свои детские слова на местном диалекте (лососка — форель, селякуши — муравьи, а также таинственные возгри, ломец и многое другое)».
А вот что вспомнит филолог Парнис, ставший много лет спустя членом русского ПЕН-центра: «Сразу же после этой поездки в Санталово я напечатал (вместе с А. Заваровой) в „Учительской газете“ статью „Сберечь дом поэта“ (29 июня 1967). Ей предшествовала преамбула, подписанная издателем собрания сочинений Хлебникова Н. Л. Степановым, народным артистом СССР Г. Рошалем, поэтами А. Вознесенским, М. Зенкевичем, С. Кирсановым, А. Межировым, Б. Слуцким, З. Паперным, И. Сельвинским, Л. Озеровым. Крестецкая газета „Ленинское знамя“ (11 июля 1967) перепечатала нашу статью. Однако мою „кипучую“ деятельность по спасению хлебниковских памятных мест остановил… Н. И. Харджиев (историк литературы, больше известный как коллекционер. — И. В.), который очень не любил людей, занимающихся его „темами“ и „сюжетами“».
В другой раз, правда, тот же Парнис, рассказывая эту историю, ни словом не обмолвится о Харджиеве (Эхо Москвы. 2013. Апрель) — зато в главные виновники того, что хлебниковские места в Санталове не удалось спасти, произведет Мая Митурича. «Главное было уговорить Мая Митурича-Хлебникова, сына Петра Васильевича, который был членом комиссии по наследию Велимира Хлебникова… Но Маю Митуричу эта идея не понравилась. Потом он мне признавался почему: по его словам, это проклятое место для их семьи. Его отца, Петра Васильевича, всю жизнь обвиняли в том, что он вывез Хлебникова в какую-то глушь, где Хлебников умер, — поэтому они в семье слово Санталово не произносят».
Хорошая идея — спасти деревню, с которой связана, пусть трагически, судьба Велимира Хлебникова. Не только поэты поддержали тогда Парниса, но и скульптор Николай Томский, возглавлявший Академию художеств, и авторитетный Семен Гейченко, хозяин «Пушкинских Гор». Не будем гадать, что за силой такой обладали художник Май Митурич и коллекционер Николай Харджиев, — вряд ли дело было в них одних. Важнее то, что мы имеем в результате: Санталово исчезло, как не бывало, ни зги, ни домов, ни школы, ни баньки. В соседней деревне Ручьи и после перезахоронения поэта (которое, к слову, и состоялось как раз благодаря хлопотам Мая Митурича) осталась могилка поэта, над ней скульптура работы Вячеслава Клыкова, здесь же теперь и свой музей, в котором проходят Хлебниковские чтения.
Тем самым летом 1967-го, когда пытались Санталово спасти, Вознесенскому было 34 года. Если верить Данте, через год, в тридцать пять, — придет середина жизни, вершина ее дуги. Все, что до тридцати пяти, — юность, «умножение жизни». А после — начало зрелости, «возраста, способного помочь» (привести к совершенству). На этом рубеже всегда — как «в сумрачном лесу».
Хлебников прожил всего 37 лет. У него не круги дантовского ада — у него свои «доски судьбы». Влияние их — прямое ли, косвенное, — нетрудно обнаружить в Вознесенском. В его архитектурном плане мироздания. Столько бьются вокруг него с вопросами: с чего бы взялось «Лонжюмо», откуда взялся на его пути «сомнительный» немецкий философ? «А на фига?».
А — коротко говоря — правда в том, что из Ленина и Хайдеггера поэт выбрал для себя третьего: Велимира Хлебникова. Многое в понимании первых двух исходило как раз от третьего.
Метафизика? Родом она — звукописная, кругометная, метафорическая — у Вознесенского оттуда, из космоса будетлянского муравейника.
Кто знает, может, и сейчас — нет-нет да пролетит поэт над бывшим Санталовом, утонувшим в муравьиных тропках.
С того берега муравей
Колесницу богини в древнегреческой оде Сафо «К Афродите» мчала не упряжь роскошных быков или грифонов, а «воробушков малых стая». Сентиментально «трепетали быстрые крылья птичек» — и, глядя на них, нельзя было не почувствовать: как ни величава дочь Зевса, а вот не сможет сердцем своим женским устоять перед земной мольбой поэтессы о любви.
Иные времена: откуда в современном мире взяться античной гармонии? Какие «воробушки», какие чувства — когда жизнь пожирает все человеческое? Так у Вознесенского в «Охоте на зайца»: «Страсть к убийству, как страсть к зачатию, / ослепленная и извечная, / она ныне вопит: зайчатины! / Завтра взвоет о человечине…»
Беззащитное, затравленное существо кричит «криком ребенка»: «Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!» Цепенеет пространство, каменеет время — замершее мгновение Вознесенский описывает так, что в авторстве можно заподозрить братьев Вачовски: пули, Нео и Морфеусы полетят много лет спустя в их фильме «Матрица» — удивительно «по-вознесенски».
Вчитайтесь в отрывок из «Охоты…»: «…мы окаменели, / как в остановившемся кинокадре. / Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли. / Четыре черные дробинки, не долетев, вонзились в воздух. / Он взглянул на нас. И — или это нам показалось — / над горизонтальными мышцами бегуна, над / запекшимися шерстинками шеи блеснуло лицо. / Глаза были раскосы и широко расставлены, / как на фресках Дионисия. / Он взглянул изумленно и разгневанно. / Он парил. Как бы слился с криком. / Он повис… / С искаженным и светлым ликом, / как у ангелов и певиц».
«Охоту на зайца» Вознесенский посвятил Юрию Казакову, «другу Юре», писателю тонкому и внимательному к муравьиным дорожкам жизни. Разнообразные «муравьи» природы у Вознесенского побегут, побегут неспроста в стихах этих лет. В рок-н-ролле «Треугольной груши» у него «по прохожим пляшут небоскребы — башмаками по муравьям!» В семидесятых у Вознесенского по-человечьи будет мыкаться в поисках своего муравейника «с того берега муравей»: «Он приплыл со мной с того берега, / заблудившись в лодке моей. / Не берут его в муравейники. / С того берега муравей».
Тут, по словам поэта, переключается «один вид энергии — скажем, лиственной энергии лип, омутов, муравьиных дорожек — в другую, в звуковой ряд». Зачем муравей на картине Дали ползет по животу Венеры? Вместо ответа Вознесенский вспоминает знакомого лесника, лечившего свой ревматизм необычным способом: «У него были два мешка, один из мешковины, другой, коробящийся, из брезента. Вроде краг или сюрреалистических галифе. Мы с ним наполняли их трухой муравейника вместе с муравьями, тьмой, яичками. Лесник, кряхтя, крестясь и приняв дозу, напяливал их на себя. И страдал, мазохиствовал. Пунцовел. „Забирает, — кряхтел, — знаешь, даже паралитиков пробирает“…» Может, и муравьи Дали — лечебные?
Не такой уж и странный вопрос. Про режиссера Петра Фоменко — когда-то работавшего с Юрием Любимовым над «Антимирами», а в последние годы жизни принимавшего поэта уже в своей «Мастерской», — тоже рассказывали такую «лечебную» историю. Прогуливаясь по лесу, приятель пожаловался на насморк — режиссер подвел его к муравейнику: положи, говорит, руки на муравейник, поводи ими легонько. Через пару часов, дескать, почувствуешь жар или озноб, а потом как рукой снимет. Действительно все прошло, и приятель затем гадал: муравьи помогли или Фоменко гипнотизировал?
Когда-то в 1990-х у Вознесенского даже вырвется, как заклинание: «Муравей, муравей, излечи нас от паралича сознания, культуру спаси, спаси наивных халявщиков, бомжей, беженцев, хотя бы пенсионерам помоги, — сердце разрывается… Мы попали в сюр-ситуацию, только сюр-идея может спасти. Чур меня, сюр!»… А впрочем, дело муравьями не исчерпывается. Ведь еще в конце 1960-х возникали эти «сюр-ситуации» в стихах Вознесенского.
В «Кабаньей охоте» поэт, «одетый в хрен и черемшу», ощущал себя закуской на застолье «кабаньей компанийки». Все перемешивалось — кто тут человек, кто кабан, кто охотник, кто дичь? Это уже случилось — или еще случится? «Кругом умирали культуры — / садовая, парниковая, Византийская, / кукурузные кудряшки Катулла, / крашеные яйца редиски (вкрутую), / селедка, нарезанная, как клавиатура / перламутрового клавесина, / попискивала. / Но не сильно».
Кабаны рубают Расина, дрожит на столе «аромат Фета, застывший в кувшинках, как в гофрированных формочках для желе».
Звучали тосты — «за страшенную свободу», «чудовище по имени Надежда», «за пустоту по имени Искусство». А очнувшийся поэт увидит, как из дичи «по дороге, где мы проходили, / кровь свертывалась в шарики из пыли».
Это про тогдашние шестидесятые? Почему же будущее глядится в эти строки, как в зеркало?
Вопрос, не утративший актуальности, тоже оттуда: оставит ли цивилизация человеку человеческое? В «Бунте машин», еще не зная настоящего «бунта» конца столетия, поэт восклицает: «О, хищные вещи века!» — и из этой строки потом вытечет одноименный роман фантастов Стругацких. Рациональность времени раздавит чувства, хотя «время свистит красиво» и загадочно, «как сирин с дюралевыми шасси». В стихах плачут бобры, оживают «убиенные гладиолусы», летчик Володя целуется с девушкой-биологом, а беременеет укрывшая их яблоня. Кажется, Цветаева тоже искала у деревьев защиты: «Деревья! К вам иду! Спастись / от рева рыночного!» У Вознесенского они сливаются уже в «дево-деревья» (отчего и «женщины пахнут яблоком»).
Все сгущается и сгущается настойчиво. Бобр — как «образ пречистый», заяц — «длинноногий лесной архангел», у беременной волкодавки на «декабрьских пастбищах» сияет «мессианский живот». «Ибо все, что живое, — Бог».
Отчего вот люди звереют — вопрос. Ирод Сидоров, зять Букашкина ползут изо всех щелей. «Неопытен друг двуногий. / Вы, белка и колонок, / снимите силки с дороги, / чтоб душу не наколол».
Не трожь человека, деревце, костра в нем не разводи. И так в нем такое делается — Боже не приведи!* * *
И тут нам прямая дорога к Хлебникову. Сын орнитолога, лесоведа (основавшего, кстати, первый в России госзаповедник на Нижней Волге) мечтал о загадочном Конецарстве, где уснет у человека на коленях лев, где коровы и травы, как братья и сестры меньшие, снимут оковы. Звучит это несбыточно и страстно — но страстность Хлебников настаивал на «чифире» математического сухостоя. Природа включена в стройку времени и пространства.
Известно, что странные вычисления Велимира Хлебникова привели его еще в 1914-м к выводу: «Не следует ли ждать в 1917 году падения государства?»
Для чего ему были нужны эти подсчеты? Вопрос, который не мог не волновать Вознесенского, внимательно вникавшего в пророчества будетлян. В «Трубе Марсиан» Велимир разделил человечество на изобретателей и приобретателей: «Приобретатели всегда стадами крались за изобретателями, теперь изобретатели отгоняют от себя лай приобретателей». Деление не случайное — оно определяет пути к будущему: «Изобретатели в полном сознании своей особой природы, других нравов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство времени (лишенное пространства) и ставят между собой и ими железные прутья. Будущее решит, кто очутится в зверинце, изобретатели или приобретатели? и кто будет грызть кочергу зубами». И пояснит еще в диалоге «Учитель и ученик»: «Я хотел издали, как гряду облаков, как дальний хребет, увидеть весь человеческий род и узнать, свойственны ли волнам его жизни мера, порядок и стройность».
Государство будущего, созданное воображением Хлебникова, исключает цивилизацию мирового торга — «свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы». Маяковского восхищало, что в самом Хлебникове «бессеребренничество принимало характер настоящего подвижничества, мученичества за поэтическую идею».
Бунт животных и вещей из хлебниковского «Журавля» перетечет в поэму «150 000 000» Маяковского.
«Заумный язык» для будущего тоже не пустяковина: надо «заставить его носить полезные тяжести»: чтобы слово точно отражало соотношения между предметами и их именами. Со словом, напоминал Вознесенский, работать опаснее, чем с камнем. «Человек, сотворивший слово, преодолевает смерть: Хлебников придумал слово „летчик“ — на несколько поколений» (Юность. 1973. Сентябрь). Исследователи спорили, кто это слово произнес раньше. По одной версии — Александр Грин, по другой — Михаил Пришвин. Но общепринято считать, что Хлебников. До него Александр Блок посвятил погибшему в авиакатастрофе капитану Мациевичу стихотворение «Авиатор», где он назван «летуном», «пилотом». А пять лет спустя, в 1915-м, Хлебников написал «Тризну», в которой и появилась «тень от летчиков в пыли».
Еще одно прозрение языкотворцев: в 1920-х, независимо друг от друга, Хлебников и Андрей Белый сконструировали страшилку XX века — словосочетание «атомная бомба». До них, в 1913 году, определение Уэллса «atomic bomb» в романе «Освобожденный мир» переводили на русский, как «атомическая бомба».
У Вознесенского, заметим, знатоки насчитают больше двух тысяч неологизмов. Так и в начале XX века Хлебников изобретал «образчики словоновшеств в языке» и неологизмы бесперебойно. Что-то прижилось, чего-то никто и не вспомнит. Сам он сетовал на то, что «летчик остался, а льтица отлетела». В «отлетевших» — и отрицанцы, и брюховеры, и гнилолюбы, и тухлоумцы, и весничие. Пятьсот производных — от глагола «любить». Все это завораживает. Как и стихи, в которых река шумит «служебным долгом», а море дает «белью отпущенье в грехах». Как фразы: «Организму вымысла нужна среда правды»; «Мировая революция требует мировой совести».
Теория относительности Эйнштейна сошлась в Хлебникове с «Капиталом» Маркса — и чем-то еще по сей день неразгаданным, как космическая аура муравейника.
Какое отношение все это имело к Вознесенскому? Самое прямое. В 1990-е годы поиски понимания происходящего с эпохой, миром, страной для Вознесенского окажутся мучительными и противоречивыми, — как у всех людей совестливых. И если искать, вслед за Хлебниковым, влияние будущего на прошлое — стоит забежать вперед: ведь девяностые годы аукнутся еще в шестидесятых!
Прощаясь с Алленом Гинзбергом в апреле 1997 года, Вознесенский объяснит в эссе «Лимонный Клементи», чем ему был так близок этот признанный классиком, но все же причудливый отец-основатель американского «битничества», — и между строк вдруг послышится отзвук той самой хлебниковской мечты о государстве изобретателей, а не пошлых прагматиков:
«Аллен Гинсберг был отзывчив на людскую боль, особенно остро реагировал на любое подавление личности. Поэт исповедует идею художественного братства. Я бы назвал это метафизической страной интеллигенции, которая едина, несмотря на географические границы. Как и другие наши поэты, я дружил с Алленом… Помню, в Лондоне во время знаменитого чтения в „Альберт-холле“, первого мирового съезда поэтов, советский посол запретил мне читать стихи. Тогда Аллен читал мои стихи вместо меня. А я молча сидел на сцене. В другой раз, когда меня уж очень дома прижали, он пошел пикетировать советскую миссию ООН в Нью-Йорке с плакатом: „Дайте выездную визу Вознесенскому“…»
А разве случайно в эссе Вознесенского о судьбе Осипа Мандельштама («Осы Осипа») возникнет снова та же тень несбыточного Хлебникова? «Люди голодны. Еще голоднее государство. Но есть нечто более голодное: время. У нас был шанс построить государство Культуры, увы, мы всё больше и больше удаляемся от этой возможности. В чем спасение от центробежного воя свихнувшегося века?» Вознесенский приводит строки «Века» Мандельштама:
Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатых дней колена Нужно флейтою связать…В 1990-х в Москве соберется поэтический «съезд палиндромистов». Пояснение Вознесенского: палиндромы — это стихи, читаемые туда и обратно, например: ДАЛИ ПИЛ АД, а многостраничный научный трактат сеньора Сальвадора «Искусство пука» может быть перевернут как «Лидер пук упредил». Авангардисты XX века к тому времени, что очевидно Вознесескому, станут по праву «академистами-ХХ». И уже их станут сбрасывать с «корабля современности» — поставангардисты. Мир и время стали — как палиндром. Из эссе Вознесенского «Сюр»:
«Может быть, сама форма палиндрома отражает сейчас движение нашего общества, несущегося наоборот? Да и XX век для нашей истории читается как палиндром — с черной дырой потрясений в начале века (с 1905 г.) и в конце, за 5 лет до конца столетия. Чур меня, сюр!
Понятно, радикалов бесит медлительность нашего поступательного движения назад, например половинчатость идей восстановления первоначального ансамбля Красной площади, сноса Мавзолея и т. п.
Надо рррешительней! Надо снести Кремлевский Дворец съездов, потом снести поздний казаковский дворец, казавшийся современникам казарменным, потом снести кирпичные зубчатые стены и башни, построенные итальянцами. На этом месте возвести деревянный Кремль. Как раньше. Придется снести, конечно, ошибочно воспетого мною Василия Блаженного, построенного деспотом и захватчиком. Затем сузить Тверскую улицу, взорвав поздние постройки. Эта грандиозная задача на весь XXI век превратит грядущее столетие в великую стройку Антикоммунизма».
Услышит кто-нибудь поэта? Слышать поэтов станет немодно.
К чему пришел в свои тридцать четыре Андрей Вознесенский? К тому, что никакая «берлинская стена» не делит мир пополам, на Добро и Зло — всё разлито поровну и тут, и там. И можно любить Родину, какая есть, — и любить весь муравейник мира, какой есть. Разве что, напишет Вознесенский, «и в твоей стране, и в моей стране / идиотов бы поубрать вдвойне».
Любили люди вместо кофе — сою. И муравьи любили кондоминиумы. Поэт собой соединил несое динимое. («Осень Пастернака»)Глава десятая УБИЛ, НЕ РОДИВШИ. К ХАРОНАМ!
Вознесенский не приедет, сэр
«Многоуважаемый г-н Сурков!» — начал было письмо генерал-майор Том Б. Л. Черчилль. Но пальцы дрогнули и выпало перо. Ибо всякий раз, стоило ему вывести вот это самое «многоуважаемый господин Сурков», — как генеральская рука автоматически тянулась взять «под козырек».
Да-да, с тех пор, как генерала отрядили «на гражданку» директором Ассоциации «Великобритания — СССР», одна лишь переписка с Союзом советских писателей могла согреть сердце старого солдата, не знавшего слов любви. Сами по себе поэты были Черчиллю по барабану (ни черта не смыслят в фортификации, окопа не выроют по нормативу). Но рекогносцировка литераторов по войсковому образцу — вот перед чем он благоговел. Субординация, устав — вот от чего всегда немел генерал.
Надо было бы адресовать письмо лично г-ну А. Вознесенскому: речь все-таки идет о приглашении его на фестиваль в Эдинбург. И ответить должен бы сам г-н А. Вознесенский. Но нет. Черчилль пишет чин по чину, старшему командиру, А. Суркову, поэту с генеральскими лампасами, секретарю Правления и руководителю Иностранной комиссии Союза писателей СССР. И ответа будет ждать генеральского. Дисциплина, разговорчики в строю!
Черчилль вздохнул, рука вернулась на исходную позицию и продолжила письмо г-ну А. Суркову:
«Эдинбургский фестиваль направил любезное приглашение г-ну Андрею Вознесенскому принять участие в поэтических мероприятиях фестиваля „Поэты в публике“ (Poets in Public)… Это мероприятие состоится в Фримэсонс Холле, Джордж Стрит, Эдинбург, между 24/VIII (вторник) и 27/VIII (пятница) 1965 г.
…Университеты Кембриджа, Киля, Сассекса, Глазго и Лейстера также очень заинтересованы в том, чтобы г-н Вознесенский выступил у них с чтением стихов, и мы поэтому хотели бы предложить, чтобы он оставался в Англии три недели в целом и вернулся в Москву в понедельник, 13 сентября.
Буду весьма благодарен, если Вы сообщите мне возможно скорее, сумеет ли г-н Вознесенский принять это приглашение приехать в Англию с 28 августа по 13 сентября.
Искренне Ваш,
Б. Черчилль,
Директор.
23 июня 1965 г.».
Почта долетела пулей. Не позднее чем на пятый день письмо, помыкавшись по канцеляриям и специальным папочкам, легло на стол Алексею Суркову.
«Дорогой Сэр!» — начал было ответное письмо поэт. «Бился в тесной печурке огонь». Войну он прошел от звонка до звонка. А все-таки непонятно: чего эти англичане тянули со вторым фронтом? Вернее, понятно, чего. Выжидали. Ну-ну. Черчилль, говорите? Видали мы Черчиллей и пожирнее. Алексей Александрович задумался еще дней на пять, после чего и ответил бодро и быстренько:
«Дорогой Сэр! Простите за задержку с ответом на Ваше письмо от 23.VI — 1965 г.
Мы узнали, что, к сожалению, А. Вознесенский в августе и сентябре будет очень занят и не сможет принять Вашего любезного приглашения приехать в Англию в этом году.
С уважением,
А. Сурков, секретарь Правления СП СССР.
3 июля 1965 г.».
Знал ли сам Вознесенский, что не может поехать, — неведомо. А Черчиллю и вовсе знать не положено. В конце концов такие вопросы даже Сурков решал не самолично, на то был коллективный разум Правления, локатор высших эманаций. Да и то сказать — Вознесенский только что в Англии был. Накуролесил там с битниками. Наслышаны-наслышаны. Хватит уж.
* * *
За полгода до того, в ноябре 1964-го, — все тот же генерал Черчилль (не имевший, кстати, отношения к общеизвестному сэру Уинстону Черчиллю) приглашал (разумеется, через Суркова) Вознесенского с Аксеновым укрепить британско-советскую дружбу в Лондоне ближе к концу апреля. Тогда в Иностранной комиссии Союза писателей им устроили очную ставку. Черчилль выспрашивал: нет ли у молодых людей каких-то особых пожеланий? Пожелания были. Стенографистки записали: «А. Вознесенский сказал, что он хотел бы встретиться с профессором Морисом Баура, книгу которого о поэзии он читал еще в юности, с поэтами T. С. Элиотом и У. Оденом, которых Вознесенский считает очень крупными поэтами, а также с молодыми поэтами Англии. Вознесенский подчеркнул, что он особенно хотел бы познакомиться со студентами. Т. Б. Черчилль записал пожелание Аксенова и Вознесенского и сказал, что Ассоциация сделает все возможное, чтобы пребывание их в Англии было интересным и полезным».
В апреле не вышло — Вознесенский подгадал с поездкой к июню, когда намечался большой вечер «битников мира» в лондонском Альберт-холле. Поездка оказалась по-своему знаменательной — во всяком случае, отдельные ее эпизоды поэт вспомнит еще не раз, или ему про них напомнят.
«Я видел, как русалки мчались в море, / и космы волн хотели расчесать, / а черно-белый ветер гнал их вспять». Увы, с автором этой любовной песни, Томасом Стернзом Элиотом (перевод А. Сергеева), встретиться в июне будет уже невозможно, он умер в самом начале 1965 года. Уистена Одена Вознесенский встретит, но в другой раз, и не в Лондоне, а в Ванкувере, — отношения у них сложатся самые теплые, но об этом позже.
Вернувшись, А. Вознесенский письменно, как положено, отрапортует (о, мечта генерала!) о пребывании в Великобритании председателю Иностранной комиссии Союза писателей СССР А. А. Суркову — о состоявшихся «встречах с Чарльзом Сноу, Аланом Силитоу, Вескером, Генри Муром, Стефаном Слендером, Тедом Хьюзом, Дж. Расселом и др.». К отчету будут приложены вырезки публикаций из английских газет.
Лондонский Альберт-холл, в котором состоялся слет битников, был мрачным, по словам поэта, «цирковым сооружением на пять тысяч мест». Афиша извещала горожан, что «в Альберт-холле выступят все битники мира: Л. Ферлингетти… П. Неруда… А. Ахматова… А. Вознесенский…». Как среди битников очутилась Ахматова? Все просто: Анну Андреевну в те же дни ждали в Оксфорде, о ней много писали и говорили, — к Альберт-холлу она отношения не имела, но чьи-то очумелые ручки приписали ее в афише в рекламных целях.
Впрочем, присутствие Вознесенского в компании битников также показалось возмутительным. В Лондоне поэта сразу вызвали в посольство СССР и предупредили по-хорошему: такое сборище не красит советского поэта! Поэт ослушался и в Альберт-холл все же пошел. Правда, читать стихи не рискнул, объяснив, что «посол запретил выступать со сцены». Выручил Аллен Гинзберг: вперемешку со своими прочитал и стихи Вознесенского. «Аллен читал об обездоленных, называл адрес свободы. Он аккомпанировал себе на медных тарелочках. „Ом, ом!“ — ревел он, уча человечности».
Происходившее в зале Вознесенский опишет в эссе «Дыры», будто медитируя, тягучим перечнем глаголов. «Обожали, переполняли, ломились, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, пестрели, молились, раздевались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, надирались, отдавались, затихали, благоухали…» Прервем цитату, ясно уже: вечер удался. Подытоживая концептуальное мероприятие, Вознесенский закруглит осторожно: «…за этой массовкой, обрядом, хохмой, эстрадой совершалось что-то недоступное глазу, чувствовался ход некоего нового мирового процесса, который внешне выражался в приобщении к поэзии людей, дотоле не знавших стихов». С Лужниками не сравнить — и все же.
Литературные критики Джон и Вера Рассел посвятят поэту статью «Тишина и оратор» в «Санди таймс», обратив внимание поклонников на то, что «Вознесенский пишет пьесу, предварительно названную „На помощь“». Речь шла о той самой пьесе, заказанной Юрием Любимовым для Таганки: как помним, в конце концов идея трансформируется в спектакль «Берегите ваши лица», который моментально запретят.
Репортер той же «Санди таймс», слегка иронизируя, умилится наивной распахнутости молодого русского поэта: «Англия кажется ему местом, где возможен „стриптиз идей“. „Мне нравится здешняя тишина, спокойствие, которое способствует работе мысли“. И хотя некоторые из нас не замечают этого, он нашел тишину и в полночь на реке, у моста Тауэр, и в студии Генри Мура, и в его саду. Сам Генри Джеймс вряд ли мог бы более идиллически описать внутреннюю жизнь Мориса Баура и других новых друзей Вознесенского!.. Впрочем, не меньше, чем тишиной, Вознесенский был очарован шумным приемом, оказанным ему в Лондонском университете, где он читал свои стихи в прошлый вторник».
А восторженный читатель «Обсервер уикенд ревю» напишет, уже предвкушая встречу с поэтом в августе: «Этот замечательный молодой русский, Андрей Вознесенский, которого многие считают выдающимся поэтом не только его родины, но всей молодежи его поколения всех стран и народов, приглашен в этом году на Эдинбургский фестиваль… Предложение — поэта надо уговорить читать стихи в переводе на английский. Он говорит по-английски так хорошо, что чувствуется непосредственное обаяние его личности. Результат будет потрясающий».
Читатель не был посвящен в переписку Черчилля с Сурковым — откуда же было ему знать, что в августе поэта в Лондон не отпустят?
* * *
Одному из самых сильных и важных лондонских впечатлений Вознесенский посвятит отдельное эссе — знакомству со скульптором Генри Муром. Поэт бывал у него не раз. Мур расскажет ему по-семейному: дочка Мэри, которую Вознесенский видел еще совсем маленькой, замуж вышла, вот фото из Африки. Познакомит с племянницей Энн. Вознесенский слушал Мура и подмечал, как ветер треплет короткую стрижечку Энн!
Они едут по парку Мура (что поэт опишет в «Дырах»): «В мире нет подобных галерей. Его парк — анфилада из огромных полян, среди которых стоят, сидят, возлежат, парят, тоскуют скульптуры — его гигантские окаменевшие идеи. Зеленые залы образованы изумрудными английскими газонами, окаймленными вековыми купами, среди которых есть и березы.
— Скульптура должна жить в природе, — доносится глуховатый голос создателя, — сквозь нее должны пролетать птицы. Она должна менять освещение от облаков, от времени суток и года».
Скульптуры из травертинского камня, будто изъеденного личинками, напоминают гостю серо-белые гигантские муравейники. Сквозь овальные пустоты фигур проплывают сменяющиеся пейзажи. Знаменитые дыры Мура — основа его стиля.
Мир сквозь них открывается — каждому свой. «Это отверстые проемы между „здесь“ и „там“. Это мировые дыры истории…» Сколько еще сюжетов и муз верхом на метлах пролетит в стихах и прозе самого Вознесенского — сквозь ту же дыру буквы «О», как сквозь форточку!
«Влюбленные» Мура — «уже не скульптура, а формы жизни. Проплывают овалы плеч, бедра, шеи. Открывается разлука. Линия жизни. Пропасти. Сближения». В одной из студий племянница Энн (выпускница искусствоведческого) облокотилась о верстак. Рукав ее черного бархатного пиджачка напудрился гипсовой пылью. «Осторожнее, мисс, вы становитесь скульптурой Мура!»
Серия рисунков «Жители бомбоубежища» напоминает Вознесенскому московские бомбоубежища его военного детства. Мур раскрывает свои секреты: «Использовал несколько дешевых восковых карандашей, которые куплены в Вульворте. Я покрывал этим карандашом самую важную часть рисунка, под воском вода не могла размыть линию. Остальное без оглядки размывал и потом подправлял пером. Без войны, которая направила нас всех к пониманию истинной сущности жизни, я думаю, многое упустил бы…» Вознесенскому действительно любопытны эти тонкости — он же сам прекрасный акварелист. Слушает, вспоминая все того же Элиота, оцепенение от бомбежек в его «Четырех квартетах»: «В колеблющийся час перед рассветом / близ окончанья бесконечной ночи».
А великий Мур все откровенничает: какое наслаждение, рисуя, разглядывать людей. Но, работая над портретом жены, он «так наразглядывался, что это чуть не стало поводом для развода».
Чреватая все-таки штука — эти магические дыры.
Не становитесь на Анну Андреевну
Профессора Баура Вознесенский никогда прежде не встречал, но узнал в Оксфорде по голосу. Как так? Однажды в Переделкине Корней Чуковский продемонстрировал Андрею, как выговаривать слова оксфордские мэтры — Морис Баура и Исайя Берлин. «Он забавно бубнил, как бы набив рот кашей». Звуковые шаржи Корнея Ивановича оказались точны. Идет себе поэт по Оксфорду — ба, голос из какой-то аудитории знакомый. «Это Баура!» — удивил своих спутников не видевший и не слышавший его прежде Вознесенский.
На следующий день он уже «смаковал звуковое сходство И. Берлина» с шутливой пародией Чуковского. Сэр Исайя Берлин дымил сигарой в креслах Английского клуба. Между прочим, Берлин, изучавший историю социалистической идеи, уже тогда почитался как один из основателей современной либеральной политической философии… И тут как раз мы подбираемся к самой непонятной оказии, приключившейся с Вознесенским в этой английской кампании. Непонятной, впрочем, — если не захотеть понять. Но обо всем по порядку.
В те как раз дни Исайя Берлин встретился не только с Вознесенским. С Андреем они быстро прониклись взаимной симпатией, с тех пор встречались всякий раз, когда поэта заносило в королевство, Берлин напишет предисловие к английскому изданию стихов поэта… Но в те июньские дни 1965-го куда волнительнее все же для сэра Исайи была другая встреча. С Анной Ахматовой. Они не виделись двадцать лет — с тех самых пор, как он в 1946-м уехал из Москвы, прослужив год в британском посольстве. Только теперь Исайя Берлин якобы узнал от Анны Андреевны, что их преступная встреча сказалась на ходе мировой истории. Впечатленный Берлин перескажет все в своих воспоминаниях, вышедших в Лондоне в 1980 году («Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах»).
«Она рассказала, что Сталин пришел в ярость, узнав, что она, „аполитичный“, редко печатающийся поэт… совершила такой тяжкий грех, как встречу с иностранцем, причем без официального на то разрешения, да еще и не просто с иностранцем, а с иностранцем из капиталистической страны, находящимся на службе у правительства. „Так к нашей монахине ходят иностранные шпионы“, — сказал он и продолжал в таком же тоне, употребляя такие слова, которые она не могла произнести… „Конечно, — продолжала она, — старик сбрендил. Люди, слышавшие, как он тогда ругался (а один из присутствовавших при этом мне это и рассказал), не сомневались, что это говорил человек, одержимый манией преследования“. На следующий день, как я покинул Ленинград, у входа в ее дом были поставлены охранники… Она знала, что за ней следят, и хотя официальная анафема последовала лишь несколько месяцев спустя, она относила происходившие с ней несчастья исключительно на счет сталинской паранойи. Когда она рассказывала мне обо всем в Оксфорде, она добавила, что, по ее мнению, именно с этой нашей тогдашней встречи началась холодная война и катастрофические перемены в мире…»
Встретившись в те же дни в Оксфорде с Вознесенским, Берлин (по словам поэта) «об Ахматовой гудел восхищенно и иронично»: «…И она считала, что тогда Сталин решил начать „холодную войну“. Из-за нас». Впрочем, обо всем, что касается поездки Ахматовой в Лондон, Андрей Андреевич пишет неожиданно коротко и нервно. Вдруг вспоминает, как Берлин съязвил о невозможности их с Ахматовой романтических отношений — «все равно что с мраморной статуей». И тут же совсем о другом: «О Ленине он сказал: „Он был объективно преступник, но субъективно он не был им“». И дальше — много еще о чем «гудел».
* * *
А как же главное событие, ради которого Ахматова приезжала? Заметил ли его Вознесенский? 4 июня Ахматова приехала в Оксфорд, в отеле «Рэндольф» ее ждал лучший номер. Назавтра, 5 июня, в Оксфордском университете прошла церемония облачения Анны Андреевны в академическую мантию и присвоения ей почетного звания доктора литературы. Вознесенского среди приехавших поздравить Ахматову не было.
Это само по себе казалось и кажется странным — такое вдруг «невнимание» Вознесенского. За полгода до того, в конце 1964-го, в Сицилии Ахматову наградили литературной премией «Этна Таормина». Теперь — Оксфорд, после многих лет, когда не издавались ее книги, когда о заграницах и речи не могло идти. Ахматовой было уже 75 лет, жить ей оставалось, как знаем теперь, меньше года. Все эти события были для нее волнительны. И такое равнодушие абсолютно не похоже было на Вознесенского, относившегося с почтением к великим именам Серебряного века, к тем, наконец, кто был близок к Пастернаку. Поздравить Ахматову, к слову, приехали и жившие в Лондоне сестры Бориса Леонидовича, Жозефина и Лидия. Вот так вдруг «не заметить» торжества — это не про Вознесенского, признававшегося искренне: «Для меня Ахматова была Богом. Единственной в этой ипостаси особой женского пола. „Четки“ я знал наизусть». Да, он честно добавлял к этому: «но ближе, „моей“ была Цветаева». Однако не близость же Цветаевой помешала ему приехать в Оксфорд… Так — что? Попробуем понять.
Любопытный факт: Аркадий Райкин, так совпало, приехал тогда в Лондон со своим театром и, узнав об Ахматовой, немедленно отправился с женой Ромой (Руфью) в Оксфорд. Они и оказались единственными (не считая сотрудников посольства) советскими гостями церемонии. Как и что там происходило — Райкин подробно описал в воспоминаниях. Ахматовой позволили два исключения из незыблемых правил. Не надевать к мантии шапочку — «она сочла, что этот головной убор ей не к лицу». И не подниматься по ступенькам, не преклонять колени перед ректором — учитывая возраст поэта, ректор сам сошел к ней и вручил диплом.
Вознесенский сначала объяснил все сбивчиво, скорее для отговорки: «Целая толпа репортеров, людей с фотоаппаратами всюду следовала тогда за мной по пятам. Из-за них я не пошел на вручение Оксфордской мантии Анне Андреевне Ахматовой. Там чинная публика, в основном эмигранты, и тут бы я ввалился с этой братией».
Потом добавил, но тоже не слишком твердым тоном: «К сожалению, у меня было в тот день выступление в Манчестере. Я только послал Анне Андреевне темно-красную розу. Потом я прочитал, что она жаловалась, кажется, Глебу Струве, что, мол, Вознесенский был в это время в Англии и не пришел на церемонию вручения мантии».
Было и такое чистосердечное признание: «Вероятно, это было неправильно, я все-таки должен был прийти сам, потому что Анна Андреевна обиделась». Но повод позлословить о себе Вознесенский дал прекрасный — конечно, ему это припомнят не раз. «Обиделась» ли Ахматова? Нет! — многозначительно прошепчет критик Рассадин: «Анна Андреевна не обиделась. Даже заранее предупредила, что ничуть не обидится». Чуковская в своих «Записках об Анне Ахматовой» уточнит: еще 28 мая 1965 года Лидия Корнеевна с Рассадиным завели с Анной Андреевной накануне ее поездки в Англию отдельный разговор о Вознесенском — «с неприязнью». Ну не давал он им покоя! Чуковская раздражения не скрывает: «„Мальчик Андрюшечка“, как называли его у Пастернаков, — сказала Анна Андреевна. — Вчера он мне позвонил. „Я лечу в Лондон… огорчительно, что у нас с вами разные маршруты… Я хотел бы присутствовать на церемонии в Оксфорде“. Вовсе незачем, ответила я. На этой церемонии должен присутствовать один-единственный человек: я. Свиданий ему не назначила: ни у Большого Бена, ни у Анти-Бена».
Критика Рассадина «Анти-Бен» приводит в восторг: какой тонкий иронический намек на книгу «Антимиры»!
Уже приехав в Англию, как сообщила 11 июня лондонская «Таймс», Анна Андреевна, не называя имен, сочла необходимым подчеркнуть, «что некоторые модные поэты шокируют ее своим стремлением быть концертными исполнителями… Это вовсе не наскоки на молодых поэтов, поспешила она добавить. Просто это другой, более театральный жанр».
Возможно, Анна Андреевна и была «холодна» к Вознесенскому — но случая «уязвить» его притом никогда не упускала. Отчего так? Объяснения можно найти на любой вкус и цвет. Причем скорее не у нее самой, а у литсобратьев. «Окружение» выплескивает свои эмоции, симпатии и антипатии, ревности, предпочтения. Понять что-то в сложных взаимоотношениях больших поэтов эти объяснения не помогают.
Заметим лишь: не заладились отношения Ахматовой и Вознесенского задолго до «эстрадничества», с тех самых пор, как они посидели за одним столом у Пастернака, а потом этот «мальчик Андрюшечка» под каким-то предлогом пропустил мимо ушей просьбу хозяина проводить Анну Андреевну. Отчего, кстати, не пошел провожать? Может, привыкший к уважительно-нежному обращению Бориса Леонидовича, «Андрюшечка» был задет каким-то ироничным словом великой гостьи, жестом, взглядом свысока? Кто знает. Подростки — штучки непростые.
Давал ли сам Вознесенский поводы для чьих-нибудь упреков? Да много раз. Без зигзагов и неровностей биографии, пожалуй, лишь у тех, кто от рождения ощущает себя памятником. В воспоминаниях поэт и сам не раз вздохнет: то у него головокружение от первых успехов, то первые заграничные восторги затмевали все, то просто каша в юной голове…
Вспоминая сложные и ревнивые взаимоотношения Пастернака с Ахматовой, Вознесенский напишет — будто о том, что у самого наболело: «Но никогда, нигде, публично или печатно, великие не показывали публике своего человеческого раздражения. Мне больно читать ахматовские упреки в документальных записях Лидии Корнеевны, как больно читать жесткие, документальные страницы, посвященные Анне Андреевне в мемуарах Зинаиды Николаевны…» (жены Б. Л. Пастернака. — И. В.).
Судя по множеству воспоминаний об Анне Ахматовой, нетрудно заметить, что окружавшие ее люди старательнее всего записывали за ней все самое язвительное и желчное, что Анна Андреевна произносила — и не только об «эстрадниках», список длиннющий. Иногда даже кажется, что в этой избирательности мемуаристов больше их скрытых желаний, чем собственно мнений Ахматовой. Много лет спустя доброжелатели составят и пустят по рукам такой hate-лист из изречений ее ученика, Иосифа Бродского. В каком-то смысле тут, конечно, можно проследить поэтическую «преемственность». Вот, скажем, Ахматова бросила про Пабло Пикассо: «…фотографируется только рядом с дорогими вещами, как банкир». Валерий Брюсов у нее не лучше: «…купчик, прочитавший в тридцать лет Буало, известного любому гимназисту». Игорь Северянин — просто «дубина». Цветаева «сухая, как стрекоза». О Пастернаке: «Борис несколько раздражает». О Роберте Фросте: «…очень милый прадедушка, а может быть, уже прабабушка. Что-то от фермера». О Роберте Рождественском — «…не читала, и читать не стану!.. у него английское имя при поповской фамилии». Да и Солженицын хорош: «…учил меня, как писать»…
Бесспорно, такие коллекции колких суждений оживляют оттенками и штрихами портреты великих поэтов. Но нельзя не учитывать и мотивы тех, кто эти коллекции составляет, кто язвительные реплики — подчас не более чем ситуационные — любовно записывает, доносит до адресатов, читателей, крутиков. Кто «репликой интригу подтолкнет»…
Про оксфордский праздник Ахматовой Вознесенский написал сдержанно. Впрочем, когда его самого выбрали в Нью-Йоркскую академию, — он и вовсе повеселился:
Я в академики есмь избран. «Год дэм!» — скажу я, боже мой, всю жизнь борюсь с академизмом. Теперь борюсь с самим собой.«Профильная тень Ахматовой навеки осталась на мозаичном полу вестибюля Лондонской национальной галереи. Мозаика эта выполнена в сдержанной коричневой гамме Борисом Анрепом, инженером русского происхождения. Еще в бытность в России Анна Андреевна подарила ему кольцо из черного камня.
Помните „Сказку о черном кольце“?
На мозаичном полу в овальных медальонах расположены спрессованные временем лики века — Эйнштейн, Чарли Чаплин, Черчилль… Когда я подошел, на щеке Ахматовой стояли огромные ботинки. Я извинился, сказал, что хочу прочитать надпись, попросил подвинуться. Ботинки пожали плечами и наступили на Эйнштейна».
Мечта и надежда, ты вышла на паперть?
— Сказали, что вы шпиён. Потому вас выселяют, — шепнула уборщица в коридоре новосибирской гостиницы.
Вещички Вознесенского кто-то уже заботливо выкинул из номера вон. Для удобства, чтобы времени не тратил, выселяясь быстренько.
Шпиён? Хоть плачь, хоть смейся.
Только что ходил по картинной галерее Академгородка (прилетел, и сразу туда, на выставку Павла Филонова. Александр Раппопорт, президент новосибирского «Клуба Александра Галича», вспомнит, как был потрясен, встретив вдруг на выставке Вознесенского. Спросил еще поэта: не обидно, что его не узнал никто? А Вознесенский успокоил: «Что вы, что вы, я, наоборот, специально хожу тут в двух очках и в трех бородах!»
Возвращается в гостиницу — а тут на тебе: шпиён. Дошутился, стало быть. Но выселяться пришлось всерьез.
Поездка в Новосибирск в 1967 году с самого начала не задалась. Вознесенского пригласил в Академгородок Советский райком комсомола, известный своими настораживающе смелыми начинаниями: открыли свое кафе-клуб «Под интегралом», вынашивали грандиозные планы строительства молодежного культурного центра, Дома ветеранов (где родители молодых ученых могли бы отдыхать с внуками). Однако энтузиазм активистов Академгородка тогда уже нервировал вышестоящих комсомольских вождей (нижестоящие явно метят на наше место!). Чуть позже, в 1968 году, здесь пройдет и первый в стране бардовский фестиваль — и то, что по идее должно было радовать и воодушевлять, стало поводом прикрыть комсомольскую вольницу. Ясное дело: тут окопались «антисоветчики»!
А в августе 1967-го, перед самым приездом Вознесенского, в «Литературной газете» вдруг обнаружилась бдительная заметочка о том, что английские рабочие выражают возмущение визитом в Англию поэта, общавшегося лишь с «буржуями». И этого поэта пригласили в Новосибирск? Нести буржуазную пропаганду в сибирские массы?! В тот же день райкому комсомола пришлось срочно телеграфировать Вознесенскому: приглашение отменяется. А поэт все равно прилетел. Ну, сам виноват, пусть и расхлебывает.
Куда деваться поэту, выставленному из гостиницы? Спасителем вдруг стал академик Александров, Александр Данилович: «А поживите у нас, места хватит». Несмотря на разницу в возрасте — Александрову перевалило за пятьдесят, а жена Марианна моложе на 25 лет, — оба они любили поэзию Вознесенского и гостю были безумно рады. Все закружилось вокруг него в необыкновенно радушном семействе Александровых. Сюда же, в дом именитого математика, скоро набилась вся ученая элита Академгородка — послушать опального поэта.
Ученик Александрова, тогдашний завкафедрой матанализа Новосибирского университета, впоследствии также академик, Юрий Григорьевич Решетняк напишет в мемуарах: «В 60-е годы в доме Александра Даниловича я слушал стихи поэта Андрея Вознесенского в исполнении автора. Это было тогда, когда начиналась очередная кампания по уничтожению А. Вознесенского. Моральная поддержка, которую наш выдающийся поэт получил от общественности новосибирского Академгородка, теплый прием, который он получил в доме Александровых, где Андрей Вознесенский жил несколько дней, были очень важны для него».
Дочь Александровых, Дарья Медведева, в очерке «Рядом и вместе. Памяти отца» вспомнит еще один любопытный нюанс: «Первый и единственный раз отец приглашает домой секретаря райкома партии, даже неожиданно для мамы, — когда Андрей Вознесенский, не имевший тогда официальной возможности выступать, читает стихи у нас дома. „Плач по двум нерожденным поэмам“ — отец хочет, чтобы гость услышал это, он надеется его просветить, убедить и, может быть, получить разрешение на выступление А. А. в Доме ученых. Увы, не вышло. „Оттепель“ кончилась и по-прежнему нужно было работать с „теми начальниками, которые есть“».
Наивные идеалисты! Они всерьез надеялись, что секретарь райкома, человек, возможно, и неплохой, но функция аппаратная, вдохновится «Плачем по двум нерожденным поэмам»? Вот этим вот резким выпадом, от которого не могло не ёкнуть ранимое сердце чиновника: «И Вы, Председатель Совета министров товарищ Косыгин, / встаньте, / погибло искусство, незаменимо это, / и это не менее важно, / чем речь на торжественной дате, /встаньте…» Вознесенский именно так (по рассказам его друга, композитора Родиона Щедрина) читал эти стихи. Хотя в сборнике «Ахиллесово сердце», вышедшем в 1966 году, Косыгина пришлось убрать: цензоров устроила лишь замена главы правительства на «члена Президиума Верховного Совета товарища Гамзатова».
С «Плача…» можно, пожалуй, вести отсчет нового этапа — «поэтической зрелости» Вознесенского. О чем плач? «Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!» О самоубийцах (не исполнивших своего предназначения), о тех, кто мог — а не сделал, мог — а не сказал, мог — а не создал. Лаборант не стал Ландау, Ливанов не сыграл Гамлета, бабуся не дождалась принца («а девственность можно хоть в рамку обрамить»).
«Вы встаньте в Сибири, в Париже, в глухих городишках». Страшно подумать, какие трудные мысли могли провернуться под эти нервные строки в голове секретаря райкома. Что и кого убивают в себе все клерки, винтики аппаратов всех времен и народов? «Минута молчанья. Минута — как годы. / Себя промолчали — все ждали погоды. / Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить. / Вечная память».
Мечта и надежда, ты вышла на паперть? вечная память!Про академика Александрова, приютившего поэта, нужно заметить, что личностью он был выдающейся и ярчайшей. В Новосибирск попал из Ленинграда, где лет десять был ректором университета. Мировую известность он заслужил как математик. Геометрия выпуклых поверхностей, теория разрешимости для полностью нелинейных уравнений эллиптического и параболического типов, — о, сколько завораживающих звуков! В 70 лет он, мастер спорта по альпинизму, совершит последнее свое восхождение на один из пиков Тянь-Шаня. В 78 лет он уйдет из семьи и женится по любви на своей студентке, — как к этому ни относись, а все же ясно: орел!
Случайно ли тогда, в 1967 году, Александр Данилович с женой Марианной так внимательно отнеслись к Вознесенскому? Дочь академика, Дарья Александровна, уверяет, что и здесь не обошлось без Пастернака: «Однажды, принимая делегацию из Англии, мама рассказала, что отец в молодости переводил сонеты Шекспира и стихи Киплинга. В следующий раз в Лондоне его принимали как профессионального шекспироведа. Недоразумение сразу же разрешилось, но отец был рад новым гуманитарным знакомствам. Он подружился с переводчиками „Доктора Живаго“ — Максом Хэйвордом и Маней Харари, она потом бывала у нас дома. Подаренный перевод он привезет с собой и прочтет „Доктора Живаго“ впервые по-английски».
Еще один чудесный штрих. В 2006 году журнал Science напишет о доказательстве теоремы Пуанкаре петербургским математиком Григорием Перельманом: «Научный прорыв года». Перельман, отказавшийся прежде от премии Европейского математического общества, на сей раз отмахнется от престижной «Медали Филдса», как и позже — проигнорирует миллион долларов математической «Премии тысячелетия». Никто, решительно никто не найдет иного объяснения, кроме одного: это он на почве науки «малость того». И тем более никому, решительно никому не будет интересно — и все-таки: странный Перельман — последний аспирант того самого пригревшего Вознесенского академика Александрова, неисправимого героя «ужасной» эпохи, когда деньги были не главное, а вера в себя и в страну добавляла жизненных сил. (Факт для потомков, наверное, необъяснимый, однако — это факт.)
…Выставка, на которую Вознесенский помчался, едва прилетев в Новосибирск, открылась в картинной галерее Академгородка 18 августа 1967 года. Да ради нее одной он не отказался бы от поездки — даже если комсомольцы передумали его приглашать. Первая персональная выставка Павла Филонова! Несколько его работ появлялись однажды на коллективной выставке художников к 15-летию РСФСР — аж в 1933 году, когда Андрей только родился. Друг поэта Хлебникова, создавший группу «мастеров аналитического искусства», — одна из ключевых фигур русского авангарда — футуристически переводил на язык живописи «Формулу империализма», «Формулу весны» и прочие формулы бытия. На выставке Вознесенский встретил и прилетевшую сестру Филонова, Ольгу Николаевну. В «Литературной газете» позже появятся отрывки из так и ненаписанной поэмы «Зарев», среди которых будет и «Зарев Павлу Филонову»: «Сегодня в Новосибирске / кристального сентября / доклад о тебе бисируют / студенты и слесаря. / Суровые пуловеры / Угольны и лимонны. / Дай им высшую веру, / Филонов!»
В те дни к Андрею прилетала Зоя. Беспокоилась — мягко сказано. Чем обернулась для нее та поездка — она расскажет много лет спустя, на своем творческом вечере в «Гоголь-центре»: «Андрея очень любил новосибирский Академгородок, вообще, все наши ученые его очень ценили. Он улетел, и вдруг мне сообщают, что в „Литературке“ готовится очередной пасквиль на Андрея, где он назван прихвостнем Светланы Аллилуевой. Дочка Сталина только что эмигрировала, был громадный скандал. Но Андрей тогда даже знаком с ней не был. Я была с ней знакома через Синявского — если вы помните его „Сорок три письма другу“ — это с ней у Синявского были такие отношения высокие… Я иду к сообщившему мне это человеку (не буду его называть, тем более он скончался), и он мне говорит: „Зоя, я даю гарантию, ничего не будет напечатано, я уже это запретил“. А на другой день мне звонят из той же „Литературки“ и говорят, что у них это в номере. То есть тот человек наврал, нарочно усыпил мою бдительность, знал, что я могу еще с кем-то поговорить, чтобы защитить Андрея…
Я сажусь в самолет и вылетаю к Андрею в Новосибирск, опасаясь, что этого он просто не выдержит, — еще тянулся шлейф от той истории с Хрущевым. Прилетаю я туда, мне звонят из Москвы и говорят, что „Литературка“ вышла. Андрей уже это знал и в общем пережил стойко. За эти дни, наверное, я настолько выложилась, беспокоясь за него… Возвращаюсь в Москву и узнаю, что Артур Миллер с женой Ингой здесь, обыскались, где мы с Андреем. Узнав, что я прилетела, собрались ко мне на Котельники. И мне звонит Лиля Юрьевна Брик: „Зоя, давайте мы вас привезем к нам, а потом они приедут к вам. Я умираю — хочу узнать, что с Андреем, как он пережил все это“. Я еду к ней, и вдруг у нее понимаю, что я — по-настоящему ослепла, пропало зрение, не вижу ничего. Как сделать, чтобы они этого не поняли? Просто такое напряжение, очевидно, было у меня в Новосибирске, и где-то какой-то спазм сделался. Я говорю мужу Лили Юрьевны: „Василий Абгарович, я так устала с дороги, вызовите мне такси и доведите, пожалуйста“. Он меня сажает в такси, водитель привозит на Котельники. И я ложусь на два дня, лечат мой спазм. Потом пришли наконец Артур Миллер и Инга… Такой была цена для меня… Как мы это пережили, как выпутались? Ну, жизнь с Андреем была не подвижничеством, я просто училась его понимать»…
* * *
Скользнули, вылетели в форточку те новосибирские дни. Тени лирических загадок легли в стихи. Напоминанием об Арагоне с его запиской над кроватью — «Место не занимать!» — покажется вдруг «Ода сплетникам»: «Я жил тогда в Новосибирске / в блистанье сплетен о тебе». Вдогонку — отзвуки столичных сплетен: «Я славлю скважины замочные. / Клевещущему — исполать. / Все репутации подмочены. / Трещи, трехспальная кровать!»
Или спокойнее: «Слоняюсь под Новосибирском, / где на дорожке к пустырю / прижата камушком записка: / „Прохожий, я тебя люблю!“». К какому пустырю вела дорожка? Тут прямо наводнение любви: «Записка, я тебя люблю! / Опушка — я тебя люблю! / Зверюга — я тебя люблю! / Разлука — я тебя люблю!»
И как цена боев и риска, чек, ярлычочек на клею, к Земле приклеена записка: «Прохожий, я тебя люблю!»Добирался из Новосибирска поэт так же непросто, как и прилетел. Но бывали с ним в те годы случаи и пострашнее. Однажды, например, в Хабаровске опоздал на свой рейс — засиделся, мол, с друзьями в ресторане аэропорта. Улетели вещи, он остался. Добрался следующим.
А самолет, на который он опоздал, — оказалось, разбился. Судьба уберегла?
Глава одиннадцатая ОРГАНЫ СТЫДА
Умер Барт, — подумал автор
Лживое мироустройство вредно для здоровья. В 1968 году весь мир нуждался в толковых докторах. С сентября работникам вредных производств в СССР стали бесплатно выдавать молоко. Не помогало.
Такая каша заварилась, такая смутность разлилась в мозгах. Причем сразу всюду. Год шестьдесят восьмой лопнул, как аппендикс. Миру грозил перитонит, мир лихорадочно пытался сообразить, куда он катится. Поэтов несло в разные стороны.
Но сначала — о том, что было накануне 1968-го.
На двухсотом представлении спектакля «Антимиры», 2 июля 1967 года, Таганка услышала новые стихи Вознесенского: «Нам, как аппендицит, / поудаляли стыд. / Бесстыдство наш удел. / Мы попираем смерть. / Но кто из нас краснел? / Забыли, как краснеть!»
О чем были стихи, понятно. О лжи и лицемерии повседневности. Поэт и себя не милует: «Как стыдно, мы молчим. / Как минимум — схохмим. / Мне стыдно писанин, / написанных самим!» И к легко узнаваемому «королю страны» беспощаден. К тому самому, который «мучительно заколебался, прежде чем снять туфлю на трибуне заседания».
А перед кем стыдно-то? Перед «стыдливой красой / хрустальнейшей страны, / застенчивым укором / застенчивых лугов, / застенчивой дрожью / застенчивейших рощ».
Обязанность стиха быть органом стыда.В опубликованной позже версии стихотворения абстрактного «короля» заменит конкретный «премьер страны», а «трибуну заседания» — «трибуна ООН». Зато исчезнут строки о цензуре в Греции, где «все газеты стали похожи одна на другую». Это выглядело чистым издевательством, потому что у нас-то газеты и цензоры тоже шли согласным строем.
Любопытно еще: исчезли строки про Вьетнам, которым «играют, как фишкой». И про «интеллигенцию», повинную в том, что читает западника Герцена, «для порки заголясь». Возможно, и это убрала цензура. Но вычеркнуть двусмысленные строки позже мог и сам поэт. И тут-то стоит сделать пометочку: в противовес цензуре гласной в эти годы крепла и негласная цензура вольнодумного диссидентства. Придрался цензор государственный — это становилось для литераторов знаком доблести: опальные строки бежали по рукам, читались на ура в любых аудиториях, и слава смелого автора забегала вперед паровоза. Иное дело — если вдруг с какой-нибудь двусмысленностью попасть под лошадь цензуры «либеральной»: тут уж автор истреблялся без остатка, тут ему — не отвертеться от язвительных приговоров, баек и молвы…
А тогда уже, пусть вялый, но звоночек прозвенел. «Смерть Евтушенко и Вознесенскому!» (внизу, как сообщили очевидцы, было приписано: «и Ахмадулиной») — с таким плакатом еще в 1964 году на каком-то студенческом вечере выглянуло из тени «Самое Молодое Общество Гениев», поэтический СМОГ. Одни из тех, кого потом назовут «семидесятниками» — чтобы как-то идентифицировать. Шестидесятникам явно напомнили, что они подкатываются к рубежам своих сорокалетий. Прежде они раздражали «стариков»: слишком крикливы и непатриотичны. Теперь на смену уходящим «старикам» подоспели молодые силы, и так же бычились на шестидесятников: слишком патриотичны — потому им всё и сходит с рук.
Понять происходившее в те годы невозможно без контекста. А нервные события тех лет отчетливо вели к черте: весь мир осознавал, что прогнил, нуждается в починке и перелицовке. Мир будто проснулся ненадолго — и обезумел от того, что ни Восток, ни Запад, оказывается, не в состоянии предложить приемлемую для всего человечества модель справедливости.
Такого момента не было прежде, не будет после — в этом смысле 1968 год действительно ключевой. Потом, когда-то там, все обернется пшиком, человечество уснет под сладкий лепет мандолин глобального товарно-денежного счастья. Но кто же мог про это знать тогда?
* * *
В 1967 году Вознесенский успешно выступил в нью-йоркском Таун-холле. Поэтический триумф не обошелся без шумных последствий. Вот что об этом напишет сам поэт в очерке «Сюр»:
«Открывая мой вечер, Роберт Лоуэлл так определил мой генезис (возмутитесь, читатель, нескромностью лестной цитаты, но поработаем, так сказать, в жанре Дали. Всегда ведь приятно вместо обычной ругани процитировать что-то ласковое, да и поддразнить доброжелателей): „Вознесенский пришел к нам с беспечной легкостью 20-х и Аполлинера. Сюрреализм сочится через его пальцы. Это прежде всего первоклассный мастер, который сохраняет героическую выдержку и вдохновение быть и оставаться самим собой“… Дальше шли еще более немыслимые комплименты. Понятно, у меня поехала крыша от кайфа, я был абсолютно согласен со столь скромной характеристикой моего выдающегося творчества. Но дальше!.. Великий американский поэт, оглядев зал из-под замутненных очков, брякнул: „Он, как и всякий поэт, против правительства. Наши обе страны имеют сейчас самые отвратительные правительства“…
После вечера мне предложили опровергнуть это. Хотя бы во второй половине — о советском правительстве. Я отказался. И пошло-поехало. Да тут еще „Нью-Йорк таймс“ вынесла шапкой этот эпизод на первую полосу. Кончилось постановлением Секретариата, осуждающим меня, и закрытием выездной визы. Сейчас это кажется параноидальным сном. Чур меня, сюр!»
Точку зрения Лоуэлла — о равной ответственности всех лживых правительств перед человечеством — тогда разделяли многие и в самой Америке. Возразил Лоуэллу Джон Апдайк: мол, у всех свои грехи, но критиковать американское правительство нечего, «наша мышеловка все же сделана лучше советской». Так рассуждали и до Апдайка. Писатель-фантаст Роберт Хайнлайн в конце пятидесятых не раз приезжал в полюбившийся СССР — ровно до тех пор, пока в 1960 году в небе над Уралом не был сбит самолет летчика Пауэрса: шпион не шпион, нарушил не нарушил, а своя мышеловка ближе к телу. Логика Апдайка — в том же духе: дружба дружбой, а мышеловки врозь.
Не стоит, написал Апдайк, и Вознесенскому очень уж полагаться на американскую интеллигенцию. Штатовским либералам, уверял Апдайк, хорошо все, что плохо Америке. Тут читатель может подумать: совсем, как у нас… И действительно, автор «Иствикских ведьм», «Кентавра» и «Кроликов» уже побывал в Советском Союзе, убедился в том, что здешняя интеллигенция примерно так же рассуждает о своей стране — при этом страшно воодушевляется всем американским. Это лишь укрепило его в мысли о мышеловках: американская все же не топором рублена, а отточена так, чтобы не создавать обывателям бытовых неудобств и не стеснять в передвижениях. Там чудеса, там джинсы бродят.
Джинсы! Леви-Строс! Вранглер! Свобода! О незабвенный гипноз советского человека! Поэт Анатолий Найман будет доказывать кому-то много лет спустя, что это он, он, — о, счастливчик! — первым щеголял по Невскому проспекту в первых джинсах, и были те джинсы белыми.
Это все приметил Апдайк еще в 1964 году в Москве.
Но завиднее всего ему было видеть, как самозабвенно русские читатели обожают своих, русских поэтов: «Мы вместе с Евгением Евтушенко и Андреем Вознесенским вышли на сцену, и аудитория разразилась аплодисментами, потому что Евтушенко и Вознесенский были поэтами, а я был американцем. Поэзия и Америка тогда воплощали свободу для людей, у которых свободы было недостаточно. Помню, я был в восторге, что мне так бурно аплодируют, хотя я понимал, что аплодируют не мне. В Соединенных Штатах ничего подобного не происходило».
Отвечаем, что вы больны
Что случилось после того демарша поэта Лоуэлла против двух правительств? Вознесенский американского коллегу не осудил, а молча поддержал, — за что тут же и поплатился. Заокеанские издатели и сенатор Роберт Кеннеди прислали ему приглашение выступить в Линкольн-центре. В момент, когда отменять вечер было поздно, афиши расклеены, билеты проданы, — руководство Союза писателей запретило Вознесенскому выезд в Америку. Такие приглашения советских поэтов в США были неслыханной редкостью. Но оловянные солдатики, стоявшие на страже власти, будто специально делали все, чтоб укрепить в мире представление о стране, как о маниакальной душительнице поэтов и прозаиков. Только что прошел съезд Союза писателей, которому адресовал свое письмо Солженицын. Вознесенский назвал съезд — «задушенным подушкой». Теперь — он написал крайне дерзкое письмо-протест в газету «Правда»:
«Главному редактору газеты „Правда“.
Уважаемый товарищ Зимянин М. В.!
Почти неделя как я живу в обстановке шантажа, неразберихи, провокаций. 16 июня я получил официальное уведомление из Союза писателей, что моя поездка для выступления в Нью-Йорке 21 июня на Фестивале искусств (это был единственный вечер поэзии на фестивале, и этот вечер был предоставлен советскому поэту) нецелесообразна.
Я предупредил руководство Союза о том, какие последствия это может иметь. Полгода шла реклама предстоящего вечера, афиши были расклеены, билеты распроданы и заменить вечер уже невозможно. Несмотря на мое внутреннее убеждение, что решение Союза крайне неразумно, после разговора я немедленно послал телеграмму в США, что не смогу приехать.
Но черт с ним, с вечером! Забудем, что почему-то сначала все (до 16-го) были „за“, а потом вдруг перерешили. Невыносимо, какой ложью и беспринципностью все это обставляется.
Я работаю, участвую в мероприятиях Союза, хожу в театры, АПН заставило меня принимать зарубежных писателей, — а, оказывается, Союз писателей уже три дня как сообщает журналистам, что я тяжело болен. Им, в руководстве Союза, конечно, виднее, но почему меня хотя бы не известили об этом? Большего идиотизма не придумаешь. Это — издевательство над элементарным человеческим достоинством. Я — советский писатель, я — живой человек, из мяса, а не марионетка, которую дергают за ниточку.
Почему из радиопередач я вдруг должен узнавать, что, оказывается, „Правительство СССР разрешило Вознесенскому поехать на Фестиваль. Решение о невыезде отменено. Визы выданы. И дело лишь в билете“?
В то же самое время из Союза мне говорят: „Поездка не состоится. Мы отвечаем, что вы больны“. Получается, мне врут одно, всем — другое. В каком я положении? Что я должен отвечать людям? Почему за все это время никто из руководства Союза не пригласил меня, не объяснил, в чем дело, или хотя бы, какова официальная версия невыезда? Идет сплошной блеф. Почему они то темнят, что я болен, что опоздал взять билет на самолет, то — что в ближайшее время выеду, в то время как всем понятно, что дата вечера уже прошла? Зачем компрометировать советского поэта в глазах тысяч любителей советской поэзии? Зачем заставлять ждать выступления, которого не будет? Зачем вводить устроителей вечера в новые финансовые расходы? И вообще, зачем подогревать ажиотаж вокруг моего приезда-не-приезда, и это в такой ответственный момент истории.
Дело не во мне, дело в судьбах советской литературы, в ее чести, в ее мировом престиже. До каких пор мы сами себя будем обливать помоями? До каких пор подобные методы будут продолжаться в Союзе писателей?
Видно, руководство Союза не считает писателей за людей. Подобная практика лжи, уверток, сталкивания лбами обычна. Так обращаются со многими моими товарищами. Письма к нам не доходят, порой на них за нас отвечают другие. Прямо хамящие хамелеоны какие-то! Кругом ложь, ложь, ложь, бесцеремонность и ложь. Мне стыдно, что я состою в одном Союзе с такими людьми. Вот почему я пишу это письмо в Вашу газету, которая называется „ПРАВДА“.
С уважением, Андрей Вознесенский».
* * *
Письмо Вознесенский дал почитать Василию Аксенову. Такие письма не публиковались. Но разлетались молниеносно. Сначала по Москве самиздатом. Следом — с помощью одного из западных корреспондентов — письмо ушло за границу, его перепечатали «Монд», «Нью-Йорк таймс» и другие газеты.
Секретариат Союза писателей пулей созвал чрезвычайное заседание. Вел его оргсекретарь Союза Константин Воронков, именовавшийся маститым писателем. Вознесенский пишет в эссе «Хамящие хамелеоны»:
«„Как вы смели оскорбить нас?! Кого вы имели в виду под руководством Союза, кто это из нас не считает писателей за людей?! Может быть, меня вы имели в виду?!“ — картинным жестом вопрошал Воронков.
„Да, вас“, — признался я.
„Крупный писатель“ оторопел. Было душно, белая рубашка его прилипла темными пятнами, будто под ней просвечивала поддетая гимнастерка. В сердцах он выскочил из кабинета. До конца своей власти Воронков оставался моим мстительным врагом».
Что было дальше — читаем в протоколе № 8 заседания Секретариата Союза писателей от 5 июля 1967 года:
«ПРИСУТСТВОВАЛИ: секретари правления Союза писателей СССР: тт. Г. М. Марков, Л. С. Соболев, К. В. Воронков, B. М. Кожевников, В. М. Озеров, Б. С. Рюриков, К. Н. Яшен, С. А. Баруздин, С. В. Сартаков, В. П. Тельпугов, секретарь парткома В. А. Сутырин, секретарь правления Московского отделения СП РСФСР В. Н. Ильин.
СЛУШАЛИ: О письме поэта А. А. Вознесенского на имя редактора газеты „Правда“… В обсуждении этого вопроса приняли участие все товарищи, присутствующие на заседании.
ПОСТАНОВИЛИ: Секретариат не может согласиться с точкой зрения Вознесенского, дающей совершенно недопустимую и неверную оценку взаимоотношениям руководства СП СССР с писателем, якобы построенным на системе лжи и обмана… Секретариат резко порицает поведение А. Вознесенского… Би-би-си и другие зарубежные радиостанции изо дня в день передают изложение письма А. Вознесенского в редакцию „Правды“, а равно его обращение в Секретариат по письму Солженицына на имя IV Всесоюзного съезда писателей…
Секретариат осуждает недружелюбный, нетоварищеский, построенный на предвзятости подход А. Вознесенского к деятельности Союза писателей в области международных писательских связей, а также ни на чем не основанный оскорбительный тон письма по адресу Союза писателей и его правления. Секретариат резко порицает поведение А. Вознесенского.
Отметить, что решение Секретариата о нецелесообразности поездки А. Вознесенского в США было правильным. Секретариат обращает внимание руководства и всех сотрудников аппарата Иностранной комиссии на необходимость повышения бдительности».
* * *
Тем временем вечер в Линкольн-центре состоялся без Вознесенского. Собравшимся прокрутили магнитофонную запись, на которой Андрей Андреевич читал свои стихи. Поэт Стэнли Кьюниц произнес речь протеста… После этого на Таганке и прозвучал «Стыд».
А 6 сентября 1967 года «Литературная газета» опубликовала материал, осуждающий Вознесенского за письмо в «Правду» и за стихотворение «Стыд». Публикацию для усиления эффекта окаймляла черная траурная рамочка. От редакции: «Буржуазная пропаганда использовала его для очередных антисоветских клеветнических выпадов. А. Вознесенский имел полную возможность ответить на выпады буржуазной пропаганды. Он этого не сделал». От анонимного автора: «Отчет о вашем выступлении и ваша фотография были помещены в газете „Нью-Йорк таймс“… Глаза ЦРУ будут гипнотизировать вас, будут показывать вас по телевидению, будут мягко стелить вам постель, предоставлять в ваше распоряжение красивейших женщин… Америка сильна в подкупах, коррупции… цепкие руки…» Ключевой фразой было: «ЦРУ обожает вас!»
Это была та самая публикация, после которой Вознесенского выселили из новосибирской гостиницы, как «шпиёна». «Местные власти на активе объявили, что я скрываюсь, что я просил американское подданство, но меня будто бы поймали, — вспоминал он. — Словом, врали кто во что горазд». Тогда Вознесенский написал «дневниковые стихи» под названием «Я обвиняюсь» («они отражают обстановку, в которой я жил в те дни»): «Вознесенский, агент ЦРУ, / притаившийся тихою сапой. / Я преступную связь признаю / с Тухачевским, агентом гестапо. / Подхватив эстафету времен, / я на явку ходил к Мейерхольду, / вел меня по сибирскому холоду / Заболоцкий, японский шпион…»
И сто тысяч агентов моих, раскупив «Ахиллесово сердце», завербованы в единоверцы. Есть конструктор ракет среди них…* * *
В августе 1967-го Джон Апдайк написал в журнале «Нью-Йоркер» о Вознесенском:
«Трудные времена нынче для поэтов, и в каждой стране они трудны по-своему. Почти невозможно, даже если это дозволено, согласовать политику и вдохновение. Мир давит, пинает и жмет, как никогда доселе. Все замерло. Мы не хотим свалиться с дерева, мы хотим спрыгнуть по-кошачьи грациозно. Хотеть не вредно — но у нас же не осталось точки опоры. Прошлым вечером я обнаружил себя бреющимся. Огонек сигареты нетерпеливо подмигивал мне из мыльницы. Приоткрытая дверь в ванную глотала доносившиеся вести со всего земного шара. Нервы вот-вот лопнут, как струны. Пульс зашкаливает. Надо, чтобы человечество стало иным. Надо, чтобы Андрей Вознесенский… легким щелчком, хоть ненадолго, вернул нас наконец на грешную землю».
Чайка как плавки бога
Сумасшедшая хроника 1968 года. Кривое зеркало времени осыпалось осколками. Соберем уцелевшее. Без этого не понять — что же происходило на самом деле в мире и в головах.
16 марта 1968 года — 504 мирных жителя, в том числе 173 ребенка и 183 женщины сожжены напалмом заживо и расстреляны морскими пехотинцами США во вьетнамской деревушке Сонгми. Рядовая операция — просто о ней случайно узнал мир полтора года спустя. («Люблю запах напалма поутру, это запах победы», — скажет подполковник Килгор в фильме Копполы 1979 года «Апокалипсис сегодня».)
Апрель 1968 года — 46 человек убито и две с половиной тысячи ранено в США при подавлении беспорядков, вспыхнувших после убийства 4 апреля в американском Мемфисе борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. В Вашингтоне сожжено 1200 зданий. 70 тысяч солдат брошено на разгон демонстрантов. Пять зданий Колумбийского университета неделю удерживает тысяча протестующих студентов. Массовые аресты.
Май 1968 года — 32 человека тяжело ранено, всего раненых 367, арестованных 460 только за один день 10 мая в Париже. Известно о пятерых убитых за два месяца. По официальной статистике жертв в ходе боев на баррикадах не было вообще. Студенческие волнения начались 2 мая, к концу месяца бастующих во Франции 10 миллионов человек.
5 июня 1968 года — застрелен американский сенатор Роберт Кеннеди, вступивший в президентскую гонку — что очень важно, с антивоенными лозунгами. Убийцей назван некий Сирхан Бишара Сирхан, дело, однако, как и в случае с убийством Джона Кеннеди, так и осталось загадкой века.
Август 1968 года — 72 жителя погибло, 266 тяжело ранены в ходе операции «Дунай», когда на территорию Чехословакии вошли войска Советского Союза и других соцстран — участниц Варшавского договора. Формальный повод для ввода войск — призыв чешских партийцев, выступавших против попыток руководства страны либерализовать социалистическую систему.
Август 1968 года — около 500 демонстрантов ранено, 101 — тяжело, 152 полицейских пострадало в Чикаго только 28 августа. Волна протестов покатилась после убийства полицейскими однофамильца президента США, семнадцатилетнего черного Дина Джонсона.
2 октября 1968 года — около 300 бастующих студентов, по данным правозащитников (официально — 30), убито за десять дней до начала Олимпийских игр в Мехико. В октябре 2003 года Архив Национальной безопасности в университете Джорджа Вашингтона опубликовал отчеты ЦРУ, Пентагона, Госдепартамента США, ФБР и Белого дома, свидетельствующие о присутствии в кровавой мексиканской драме «американского следа»: работали агенты, поставлялись вооружение и техника для пресечения инакомыслия.
А как же «русский след» — ведь это русские наверняка организуют беспорядки? Президент Линдон Джонсон искал «компромат» на Советы. Известен факт — по его поручению спецслужбы подготовили обстоятельный доклад: в беспорядках 1968 года, охвативших весь мир, им не удалось обнаружить и намека на козни Советов. Джонсон был разочарован.
После ввода советских войск в Прагу американский президент даже участливо побеседовал по телефону с генсеком Леонидом Брежневым. Понятно, «измы» разные, идеологии. Понятно, оба озабочены происходящим в мире. Но оба были в данный исторический момент заинтересованы лишь в том, чтобы один другому не мешал разгребать наведенную демократию. Миропорядок есть миропорядок.
Главная странность 1968 года: кругом бедлам и баррикады — но бунтовщики не рвутся к власти. В сценариях этот вопрос отсутствует. Все, будто сговорившись, просто хотят чего-то хорошего.
В Чехословакии бунтовщики хотят того же социализма, но улучшенного, с симпатичным лицом. В Мексике студенты — против нарушения «университетской автономии». В Америке — настаивают, чтобы «негров» переименовали в «афроамериканцев» и не тыкали в них пальцем. Ну что за лозунг — «Сдохни, Линдон Джонсон!»? Какой в нем смысл — кроме сценографического? А лозунги бунтовщиков во Франции? «Поэзию на улицы!»; «Пролетарии всех стран, совокупляйтесь!»; «Вся власть — воображению!». И вот же — власть в Париже лежала в коллапсе на блюдечке, а Советский Союз, против всякой логики, телеграфирует французским коммунистам, чтобы даже не дергались. Как так? Сплошные нестыковки. Сплошные спектакли.
Катаклизмы 1968 года назовут сугубо мировоззренческими. Проблемы были с головами. Сверхдержавы, перемигиваясь, обустраивали декорации для своих спектаклей. В конце концов — важно не то, чья постановка содержательнее. Важно, за кого проголосует зритель. А зритель, как покажет время, выберет театр той сверхдержавы, у которой афиши ярче, билеты дешевле да стулья помягче.
…Да, но какое отношение эти общественные бури, брожения в умах эпохи имеют к Вознесенскому? Самое прямое. Пульс эпохи был его пульсом. Нерв эпохи был его нервом. Даже нелепицы эпохи — и те были его нелепицами.
Какие только ярлыки не клеили к поэту! Но про это однажды точно скажет Юнна Мориц: «Андрей Вознесенский никоим образом не старался усмирить бурные споры и установить ровное к себе отношение критики, прекрасно понимая, что самые разные, изощренные и лобовые, сыпучие и летучие упреки в его адрес лишь способствуют неукротимому интересу и пылкой взаимности читателя, умеющего ценить в поэте энергию противоборства всяческой косности, которая не только не отстает от времени, но порой опережает его, все равно оставаясь косностью и прокрустовым ложем. На этих путях и скоростях Андрей Вознесенский доказал, что он сильная творческая личность со своей энергетикой» («Перечитывая Андрея Вознесенского». Юность. 1981. № 5).
Год 1968-й, как принято считать, — рубеж. За ним битловскую «любовь» — «make love not war», «твори любовь, а не войну» — начнет теснить всемирная опустошенность. И «злоба» — когда кончается любовь, чаще всего приходит злоба.
Но Вознесенского по-прежнему любили — и сам поэт остался искренним, в какие бы водовороты ни бросался. В нем слово «любовь» останется ключевым.
В 1968 году Андрей Вознесенский написал «Общий пляж № 2».
Там у него «море — полусостоянье / между небом и землей, / между водами и сушей, / между многими и мной; / между вымыслом и сущим, / между телом и душой».
Там у него —
Только треугольная чайка замерла в центре неба, белая и тяжело дышащая, — как белые плавки бога.Пляж (коктебельский) — главное место действия и у Аксенова в романе «Таинственная страсть». И время действия тоже — лето шестьдесят восьмого. Сухая длань тоталитарной власти срывает с героев Аксенова запретные шорты. Стукачи с патрульных катеров, бороздящих припляжные воды, следят, как литераторы (не щадя себя!) выпивают и ищут (мучительно!) смыслы бытия в любовных треугольниках. Ничто не в силах было их остановить в стремлении к свободе — как вдруг приходит страшная новость о советских танках в Праге.
Чернеет синее море, и лунной дорожкой пробегает водораздел: отныне персонажи побегут врассыпную, каждый сам по себе. Все это весело, местами даже, ах, пикантно.
Но все безумие и хитроумие 1968 года не умещается в один роман.
* * *
Призрак бродил по Европе, призрак «новых левых». Вознесенский относился к ним сдержанно. Так, по крайней мере, он про них вспоминает — лаконично: бывало, мол, спорили. В Париже поэт не мог пройти мимо фильмов Годара: накануне 1968-го тот снял «Альфавиль» и «Безумного Пьеро». У режиссера, вдохновленного идеями Маркузе, тоталитарна не отдельная часть, а вся цивилизация, овладевшая скрытыми механизмами подавления людей (хотя они, отравленные рекламой и СМИ, — у него уже полулюди). Герои у Годара ох неспроста вырисовывают портреты Фиделя и Мао.
В 1968 году появилась «Смерть автора» — статья Ролана Барта, философа-постструктуралиста. Чудны дела твои, Господи, — замысловатый Барт засел в башке у тех, кто строил баррикады в Париже. Хороши революцьонеры: не жди меня, мама, я иду распутывать общественные мифы — ибо создатели их морочат нам головы, рисуя образы действительности, в которых лично заинтересованы. «Смерть автора» (для псевдогуманизма классического текста существовал лишь тот, кто пишет, — новое письмо оплачивает рождение нового читателя смертью, исчезновением Автора в тексте) навеет Вознесенскому ироничную «Эпитафию»:
Брат, не загадывай на завтра: «Умер автор» — думал Барт. «Умер Барт» — подумал автор.Еще одним буревестником над парижскими баррикадами гордо реял Ги Дебор, философ-сюрреалист, придумщик Ситуационистского интернационала. У него тогда вышел талмуд под названием «Общество спектакля». Весь мир насквозь — «нагромождение спектаклей». Распыленный спектакль США фетишизировал производство товаров. Концентрированный спектакль СССР и Китая (стран госкапитализма, никакого-не-социализма) нетерпим даже к той фантомной свободе слова, которой гордится Запад. Ги Дебору подпоркой служил Фейербах: во всемирном спектакле «образ предпочитают вещи, копию — оригиналу, представление — действительности, а видимость — бытию, лишь иллюзия обладает святостью. Истина же профанирована».
Хороший образ — общество спектаклей. В «Китаянке», фильме Годара, школьница стирает с доски имена всех классиков, оставляя одно: Брехт. Все «мятежи» 1968 года окажутся «театром представления» Брехта, бодавшимся с «театром переживания» Станиславского: ломать ли «четвертую стену», отделявшую сцену от зрителей? Про что был тот спектакль? Поэт Евтушенко помчится слать телеграмму протеста: «Танки идут по Праге». Это было очень чистосердечно: оттуда, из Праги, он слышал по радио голос друга-путешественника Ганзелки, взывавшего к совести. Потом Евтушенко так же искренне напишет что-то поспокойнее — и Ахмадулина ехидно заметит, что такие шараханья вредны для печени. Писатель Аксенов после Праги проведет жирнющую черту, разделяющую бывших друзей-соратников по шестидесятничеству. Черта туманная: по обе ее стороны были люди порядочные и не очень. Но ссоры на многие годы растянулись эффектно, даже демонстративно.
Это только кажется, избирательно у нас запомнится, будто возбуждение охватило лишь советских литераторов. Актерскими сверхзадачами терзается все общество спектаклей планеты. Лорд Бертран Рассел, математик и социалист, вместе с Жаном Полем Сартром создает Международный трибунал по расследованию военных преступлений во Вьетнаме. «Нью-Йорк таймс» разразилась оскорблениями в адрес Рассела: «Труп на лошади». Тут происходит нечто странное. Про Сартра поползло: крыша едет, подсел на ЛСД. Рассел прежде почитался образцом здравомыслия — когда писал про «обширный лагерь для рабов, созданный Сталиным». Теперь — о, эти дивные спектакли шестьдесят восьмого! — вокруг Рассела моментально сгустилось: сбрендил старик, раздувает из вьетнамской мухи слона, да и потом Вьетнам — окраина мира. Не то чтобы все моментально поверили в безумие нобелевского лауреата Рассела, но осадочек остался.
Из всего безумного круговорота событий именно советским танкам в Праге сразу отвели мистическую роль самого знакового события эпохи. С точки зрения сухой статистики — в 1968 году были события и кровожаднее, и лицемернее. Спустя каких-нибудь полвека в Киеве — кто мог подумать о таком в 1968-м! — военизированные революционеры перебьют и покалечат много больше народу, чем тогда «оккупанты» в Чехословакии. Мир это не встряхнет — как когда-то Прага.
Понятно, взвешивать на весах число трагедий и смертей всегда нечестно. Речь о другом, о «театральных критиках», об исторических спектаклях. Рассел и все, кто шел за ним, — безумны, когда они в ужасе от крови во Вьетнаме. О крови в Мексике или в Париже лучше скорее замять и забыть. Помнить только Прагу — стало знаком приличия и критерием порядочности.
Забыть про одно и кричать про другое — вот что странно. В чем разница, в составе крови убитых? Или в «прогрессивности» убивавших?
Оставим в стороне конспирологии. Советский Союз будто нарочно сам избавлялся от своих союзников внутри страны и вне ее. Отчасти из-за бюрократической твердолобости власти. Отчасти потому, что Америка была жирнее — весь XX век благополучно зарабатывала на далеких войнах, пока Россия от войн отбивалась и разорялась. Деньги и простая изворотливость в войнах «информационных» США были всегда несравнимы с возможностями СССР.
Американская интеллигенция все больше отъедалась, благоустраивалась, бывшие хиппи и битники надевали профессорские очочки, ходили на службу и все больше склонялись к точке зрения Апдайка: плохо лишь то, что плохо для их родины. В те времена и большая часть интеллигенции советской не стеснялась относиться точно так же — к своей родине.
Советские же служащие, государственники и общественники методично формировали диссидентское движение. Неуклюжестью своей или кондовостью, а бывало и просто — сводя с кем-то счеты. Диссидентское движение само по себе было неоднородным, всякие люди в него попадали. Самое печальное же — среди них оказались и те, кто чересчур обольстился «оттепелью». Перейдя рубеж 1968-го, диссиденты пришли к своему лозунгу: плохо все то, что хорошо для нашей страны, — потому что власть негодная и неугодная.
На смену оттепельным годам любви-изменщицы шла эпоха чистой нелюбви, холодной обиды и ревнивой злости.
Войнович иронически вспомнит однажды («Портрет на фоне мифа»), как «одна диссидентка в Париже отказалась пойти на концерт Окуджавы по принципиальным соображениям. „Вот если бы я знала, — сказала она, — что он выйдет на сцену, ударит гитарой по трибуне, разобьет ее и скажет, что не будет петь ничего до тех пор, пока в его стране правят коммунисты, тогда бы я, конечно, пошла“. Окуджава был человек совестливый, его очень ранили подобные попреки, и, может быть, ему и хотелось иногда разбить гитару, но, слава богу, он этого не сделал».
Это тот самый Войнович, который много лет спустя, в 2014 году, будет невнятно бормотать в ответ на вопросы украинского издания «Форбс» об отношении к фашистскому прошлому Бандеры — что как-то он не определился, что сомневается, может, чего упустил, может, не так уж и плох был Бандера, может, и правда, герой. А русские солдатики, заметит писатель, — ну те, которые не считают Бандеру героем, — так это, смех и грех, сплошные Чонкины. И никакой иронии — все серьезно. С партийной принципиальностью. Как, не пнув россиян, продвигать Войновичу на Украине книжку? Вот ведь как писателей от их «принципиальности» колбасит.
А может, они, принципиальные по случаю, всегда такими и были?
Из эпохи злобы, катившейся с конца 1960-х, накипят и эти, как бы невзначай, вопросы: а нужны ли были жертвы в годы войны, стоило ли так убиваться? Вопрос Виктора Астафьева о блокадном Ленинграде — не гуманнее ли было город сдать? — повторит много лет спустя, уже в новом контексте, с новыми оттенками, Виктор Ерофеев. Зачем — жизнь-то одна?
Вознесенский дал свой ответ на этот вопрос давно — стихами, посвященными солдатскому подвигу Эрнста Неизвестного. Ответ прямой.
…когда пижоны и паиньки пищат, что ты слаб в гульбе, я чувствую, как памятник ворочается в тебе. Я голову обнажу и вежливо им скажу: «Конечно, вы свежевыбриты и вкус вам не изменял. Но были ли вы убиты за родину наповал?»В XXI веке всплывет вдруг некий архивный полицейский отчет, из которого следует, что один из певцов «пражской весны», писатель Милан Кундера, по молодости доносил на заграничных шпионов и их пособников внутри страны. Нет, скажет сам писатель, — ничего такого он не помнит. И эту противную новость быстренько забудут, как страшный сон.
Зачем лишний раз вспоминать про сотрудничество со спецслужбами Оруэлла, в свое время пригвоздившего Советский Союз в своем «Скотном дворе»?
Диснею — пятьсот его доносов на инакомыслящих и подозрительных соседей и коллег?
Все эти неприятные подробности ломают удобство красно-белой мифологии, усложняют мир и его историю. А зачем усложнять, если проще без этого?
Тут стоит вернуться к «Обществу спектаклей» Ги Дебора:
«Сформулированный еще Наполеоном принцип „всецело править энергией воспоминаний“ воплотился в современной манипуляции прошлым, где подтасовываются не только толкования или смыслы, но даже сами факты».
По сути верно. Но кому нужна суть? Знаете, что на это скорее всего можно услышать?
Да этот Ги Дебор был натуральный пьяница, вот что!
Если я, положим, янычар
Вознесенский вспомнит однажды, как уже в 1990-е годы последний раз встретил Гюнтера Грасса в Праге, где немецкому писателю вручали премию — а тот вдруг все испортил.
«Грасс ясно видит катастрофичность мира… Он, житель Германии, прибывший из Берлина, обрушился на внешнюю политику ФРГ. Он громил экспансионизм, говорил, что немцы захватывают Чехию, как раньше это делал СССР. Скандал был страшный. Немецкий посол не пришел. Президент Вацлав Гавел был в шоке», — запишет Андрей Андреевич («Портрет поэта»).
И добавит на всякий случай, чтобы правильно поняли: «Для меня, свидетеля „пражской весны“, Чехия остается личной болью».
Известны остропублицистические строки Евтушенко: «Танки идут по Праге в закатной крови рассвета…» Вознесенский откликнулся на пражскую трагедию стихотворением, в котором смыслы ввинчены вглубь. Он расскажет, как написались эти стихи:
«Август 1968 года застал меня в Болгарии на Золотых Песках. Дома у меня лежало приглашение на сентябрь в Прагу, подписанное Президентом Пен-клуба Гольдштюкером, одним из дирижеров „пражской весны“.
Был шок от вторжения советских танков. Я не знал деталей, не знал, что подпольные чешские радиостанции окликали нас, русских поэтов, по именам, взывая к помощи, но надежда рухнула.
Болгарские войска входили в число оккупантов. За полночь мы засиделись на вилле Георгия Гяурова, легендарного баса. Шло застолье. Другой Георгий, Джагаров, поэт, бывший партизан, затянул песню о янычарах.
Янычары — это дети, привезенные на чужбину и ставшие турецкими солдатами, которых потом посылали на усмирение своей родины.
Боже мой, ведь это мы — янычары. „Я — янычар“, — отзывалось во мне. Славянские солдаты топтали славянскую Прагу…»
Тогда Вознесенский и написал «Старую песню»: «Пой, Георгий, прошлое болит. / На иконах — конская моча. / В янычары отняли мальца. / Он вернется — родину спалит…»
Если ты, положим, янычар, Не свои ль сжигаешь алтари, где чужие — можешь различать, но не понимаешь — где свои. Вырванные груди волоча, остолбеневая от любви, мама, плюнешь в очи палача… Мама! У него глаза — твои.Стихотворение было опубликовано в болгарской газете «Литературный фронт». Вряд ли болгарские читатели видели в нем исключительно отклик на Прагу. Однако американский переводчик У. Д. Смит напечатал эти стихи с комментарием: «Ни у кого и сомнений не вызывает, что под янычарами подразумевается советская оккупация Чехословакии».
Каждый увидел что-то свое.
В 1989 году, когда диссидента-писателя Вацлава Гавела в очередной раз выпустили из тюрьмы, Вознесенский дозвонится до него с поздравлениями. Тот вспомнит, как студентом слушал поэта в пражском кафе. Поэт расскажет, как его «совесть мучит».
Десять лет спустя, в 1999 году, когда Чехословакия успешно развалится на Чехию и Словакию, французская «Монд» опубликует слова бывшего диссидента, а теперь президента Чехии Вацлава Гавела, приветствовавшего «гуманитарные бомбардировки» Югославии: «Я думаю, что во вторжении НАТО в Косово имеется элемент, в котором никто не может сомневаться: воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер — исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в Федерацию Югославия законным даже без мандата ООН».
Позже Гавел будет уверять, что «ужасный термин „гуманитарные бомбардировки“» он употребить не мог, не потому что в принципе против бомбежек, а потому что такое словосочетание «безвкусно».
Замысловато и безвкусно закольцуется история. С президентом Гавелом, впрочем, Вознесенскому общаться уже не довелось.
Да и что им было бы сказать друг другу? Что поэта по-прежнему «совесть мучит»?
Ну так это русского поэта. Не чешского президента.
Глава двенадцатая ДЕВОЧКА В ХРУСТАЛЬНОМ ШАРЕ ПРЫГАЛОК
Ужин с Кеннеди. Молись за наше время гиблое
Был месяц май. Год — шестьдесят восьмой. В оконное стекло влепилась блудная оса. «Ах, как цвели яблони на балконе американского небоскреба за окнами Жаклин».
Поэт Вознесенский звякнул ложечкой в чашечке. Поэт Лоуэлл помалкивал. Сенатор Роберт Кеннеди косился в телевизор.
Был месяц май. В далеком вьетнамском Сайгоне генерал Уильям Чайлдз Уэстморленд разрубил воздушную массу теннисной ракеткой. Война войной, а сет-пойнт по расписанию. Репортер Питер Арнетт отмахивался от мух и удивлялся, что генерал так увлечен теннисной партией. Слышалось жужжание пуль. Как раз в это время вьетнамские бандиты (а как еще их было называть, если на них не действовал даже демократически чистый напалм?) добрались до Сайгона. С 7 по 13 мая подчиненные генерала отбивались, пока не порубили всех атакующих.
Был месяц май. Двух поэтов пригласили на ужин с Робертом Кеннеди — в дом Жаклин, вдовы его брата Джона, экс-первой леди Америки.
«Лоуэлл» звучит, как «колокол», — подумал Вознесенский к чему-то. В телевизоре шла предвыборная теледуэль между Робертом Кеннеди и Рейганом. Кеннеди обещал завязать наконец с индокитайской войной. А сейчас он сидел напротив в кресле, рядом с Лоуэллом, и явно хотел о чем-то спросить. Наконец не выдержал: ну как? что думаете? чья возьмет? Вот Апдайк, например, смело одобряет военный энтузиазм президента Линдона Джонсона. Уж на что уважаемый поэт Уистен Оден далек от этого — а и тот высказывался в том духе, что напалм не напалм, а лучше, если американские войска перебьют для общего спокойствия бунтующих вьетнамцев, да хоть бы и напалмом. Гуманизма ради!
Вознесенский отвечал вполне политкорректно. «Роберт спросил меня: „Как ты считаешь, кто больше американцам понравится?“ А Рейган тогда играл под ковбоя, отпускал грубоватые шуточки, поэтому мой ответ был однозначен. „Ты ошибаешься, — сказал Роберт. — Возможно, Рейган им ближе“».
Был месяц май. Генерал Уильям Чайлдз Уэстморленд зачехлил ракетку и отправился в штаб, отмахиваясь то ли от пуль, то ли от мух. Пора было рапортовать об успехах вверенных ему частей. Уж они косоглазых душили-душили, душили-душили. Но генералу нужны были свежие штыки: израсходовали многовато. Он подумал и попросил еще 206 тысяч бойцов. В те же майские дни ему пришла еще одна светлая мысль. Генерал обратился к президенту Джонсону: не пора ли вспомнить славные хиросимские деньки, шарахнуть, наконец, чем-нибудь ядреным. Ну, ядерным то есть.
Джонсон озадачился всерьез — дело-то заманчивое, ядерная доставка демократии оптом. Одно мешало: тоталитарные дикари. СССР с Китаем намекали на адекватные ответы, если что. Им явно наплевать на мировое торжество цивилизации. Не любят они демократию!
* * *
Был месяц май. Роберт Кеннеди, живой и слегка осунувшийся, сидел напротив и говорил, что с войной надо кончать. В улыбке пацифиста Лоуэлла Вознесенскому мерещилась тоскливая беспомощность. «Мы всё познав — себя теряем. / Молись за наше время гиблое, / мой тезка, гибельный Калигула!» — это из Лоуэлла, переведенного Вознесенским.
По причине своих депрессий Лоуэлл регулярно ложился в психиатрическую клинику «Маклин». Наверное, он был единственным из пациентов, с которым переписывалась первая леди, Жаклин, она же Джекки Кеннеди. По Лоуэллу вздыхали поклонницы: как изящно его безумие!
А когда женщины говорят вдруг об изяществе безумия — не стоит с ними спорить. Им лучше довериться — в этом женщины знают толк.
Как-то из своей нервной больницы Лоуэлл написал поэту Эзре Паунду, упрятанному в Вашингтоне в не менее нервную клинику за антиамериканские, антисемитские и профашистские убеждения (антисоветские взгляды тоже были — но от этого старались не лечить): а не избраться ли ему сенатором? «Как вы считаете — человек, столько раз слетавший с катушек, как я, может баллотироваться на выборный пост и победить?..»
Теперь вот этот самый Лоуэлл ужинал с сенатором и грустно дырявил взглядом пространство.
Кеннеди сел вдруг вполоборота — и Вознесенский замер: ну вылитый Сергей Есенин. Посмеялись. Жаклин тут же разыскала книжку с портретом русского поэта. Все вместе кинулись сравнивать. Сошлись на том, что сходство очевидно: что-то есть… Забавно, что однажды Жаклин станет допытываться у Соломона Волкова, как у эксперта по русским поэтам: а правда ли Сергей Есенин у русских популярен не меньше, чем обожаемый ею Андрей Вознесенский?
Был месяц май. Совсем скоро, 6 июня, Роберта Кеннеди застрелят. Многие поэты откликнутся на его гибель стихами, и американские, и советские — Евтушенко, Рождественский. Вознесенский посвятит ему «Июнь-68». Напишет благодарные слова: «Электрический, импульсивный Роберт был, пожалуй, самым харизматическим лидером, когда-либо встречавшимся мне. В нем было сильнейшее биополе, магнетизм личности. Он не был для меня посторонним. Когда наши власти не выпускали меня из страны, Роберт Кеннеди послал пригласительную телеграмму. Мне сразу дали выездную визу… Как-то он привел меня на свою пресс-конференцию. Сначала предложил журналистам „обстрелять меня“, а потом уверенно разобрался с ними».
С семейством Кеннеди вообще загадочная история — любой советский обыватель относился к этой фамилии с необъяснимой симпатией. По крайней мере снисходительнее, чем к прочим заокеанским буржуям и неприятелям. Может, преследовавшие семью Кеннеди трагедии будили в русском человеке привычку к состраданию? Но даже в модных некогда книжках политолога-международника Леонида Зорина про нравы миллиардерских кланов Кеннеди выглядели куда обаятельнее прочих олигархических скупердяев. И у Вознесенского с семейством Кеннеди отношения, казалось, не ограничивались ритуальными знаками внимания, а обнаруживали даже и взаимные симпатии. Хотя…
Политики прагматичны, с ними всегда держи ухо востро. Пушкинское «минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» — все-таки формула универсальная, для всех времен и народов. И Кеннеди, при всех их достоинствах, исключением не были. Роберт Фрост, классик американской поэзии, состоял в приятелях у Джона Кеннеди. В сентябре 1962 года, когда разгорался Карибский кризис вокруг Кубы, когда США и СССР старались запугать друг друга, Фрост встретился с прилетевшим в Америку на сессию ООН Никитой Сергеевичем и потом в разговоре с Кеннеди съязвил: «Хрущев заметил, что американские либералы слишком либеральны, чтобы воевать». Иронию поэта Кеннеди оценил — разорвав с Фростом все отношения. Тот уже перед самой смертью слал записки президенту, но Кеннеди был кремень, не отвечал.
Поэты-шестидесятники с точки зрения практической политики оказались удобны во всех отношениях. Вольно или невольно — так сложилось. Советские власти могли их осадить, если что, — но в целом относились снисходительно: пусть демонстрируют миру наше свободомыслие. Американские власти старались их пригреть как раз за нелюбовь к советскому официозу и рутине. Самих поэтов обольщал тот факт, что с ними считаются на самых высоких уровнях, к слову их готовы прислушаться сильные мира сего, а это ли не миссия поэтов — способствовать гармонии правителей и народов? Иллюзии на этот счет, самообманы и лукавства — не бывают они у поэтов в чистом виде. Поверх всего поэту дано наитие. Со сцены Таганки в стихах про «Стыд» звучали строки об американских агрессорах во Вьетнаме — в опубликованной версии этих строк не осталось. Зато осталось — про Хрущева, колотившего башмаком в ООН. Выбросил про Вьетнам, чтобы не обидеть американских высоких друзей и издателей? Оставил про Хрущева, потому что Брежнева это как раз не обидит? Можно рассуждать и так — если видеть в стихах одни политические прокламации. Но со стихами все сложнее, и справедливость в том, что выброшенные строки действительно были не слишком удачны, собственно стихи без них даже выиграли.
Дружеские отношения с семьей Кеннеди у Вознесенского тянулись много лет. Роберт Кеннеди даже перевел что-то из стихов Вознесенского. Вряд ли Андрей Андреевич питал иллюзии насчет литературной ценности этих переводов — но сам факт ему, конечно, льстил: сенаторы кого зря переводить не станут. Позже Вознесенский тепло вспоминал, как уже в перестроечные годы младший брат Джона и Роберта — Эдвард Кеннеди — побывал в гостях у них с Богуславской в квартире на Котельнической. Хорошо так посидели до утра, жена Теда — Джоан, как мы помним, даже забыла сумочку со всеми своими кредитками и парфюмерными пустячками, — пришлось передавать с оказией через американское посольство… И опять же сенатор Эдвард Кеннеди, со всем доступным ему изяществом, напишет предисловие к американскому изданию стихов поэта.
С Рональдом Рейганом, бывшим артистом, доигравшимся до роли президента США, Вознесенский беседовал в Белом доме. Добрый друг Артур Миллер смотрел на Рейгана весьма скептически: драматург не забывал, как Рейган, будучи еще главой актерской гильдии в Голливуде, активно расчищал ее от инакомыслящих. Из тех маккартистских кампаний, был уверен Миллер, как раз и выросли американские либералы, легко благословившие вьетнамскую войну. Вознесенский, помня эти разговоры с Миллером, иронически описывает свою встречу с Рейганом.
«— Где вы шили свой пиджак? Очень элегантный, — начал беседу Президент.
Я не мог патриотично соврать, как подобало бы советскому гражданину, мол, „конечно, Москвошвей“. Ведь они могли лейбл посмотреть.
— От Валентино, — честно признался я.
— У меня есть такой же, в клетку, но поярче.
— Сейчас уже поярче не носят, господин Президент, — пошутил я».
А минут через пять, отдав должное «обаянию харизмы» хозяина Белого дома, Вознесенский вдруг поставил его в тупик внезапным вопросом: «Кто из русских классиков больше повлиял на формирование вашего характера в молодости — Толстой, Достоевский или Чехов?» Рейган был явно озадачен. Вознесенский успел вообразить, как они с Миллером повеселятся по этому поводу… Президент наконец тяжело выдавил из себя: «В юности я читал классиков мировой литературы».
Через год, в разгар перестройки, чета Рейганов прибудет в Москву, и Рональд упомянет в своих речах Кандинского, а также процитирует Пастернака из «Доктора Живаго». Готовился человек. Вдруг в России обычай такой — экзаменовать президентов на знание литературы.
Любите при всегда
Обстановка на планете была нестабильная. В разных точках карты мира литераторы нервничали. И было от чего.
«К Пайту направилась Би Герин. Ее грудь, блестящая от пота, лежала в жесткой алой скорлупе, как два засахаренных боба в горячем металлическом блюде.
— О, Пайт! Какой ужас, что все мы собрались, вместо того, чтобы остаться дома и достойно скорбеть!
Он ответил ей в том же тоне, поглядывая на ее груди, страдая по их округлости. „Почему бы нам не трахнуться?“» — такой вселенской жаждою томились в 1968 году герои «Супружеских пар» Апдайка.
По другую сторону земшара, в тот же самый час, все было так же:
«Пашка услышал запах ее волос. В голову ударил горячий туман. Он отстранил ее и полез в окно.
— Ноги-то вытри, — сказала Настя, когда Пашка влез в горницу и очутился с ней рядом… Обнял ее, теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка.
— Ох, — глубоко вздохнула Настя, — что ж ты делаешь? Шальной!..
Пашка начал ее целовать».
Это уже «Классный водитель» Василия Шукшина.
В это же самое время Энтони Бёрджесс перекраивал свой роман для будущего кинофильма Стенли Кубрика — «Заводной апельсин». Он выйдет на экраны через три года, в 1971-м, а пока английские цензоры отметали его, не глядя: «Нет смысла читать сценарий по книге, в которой изображается неповиновение молодежи властям; это не пройдет». Но Бёрджесс продолжал выписывать странные диалоги времени:
«— У тебя еще все впереди!
— Ага!.. Впереди, как две фальшивые сиськи.
— Наш объект, как видите, парадоксально понуждается к добру своим собственным стремлением совершить зло. Злое намерение сопровождается сильнейшим ощущением физического страдания. Чтобы совладать с этим последним, объекту приходится переходить к противоположному модусу поведения. Вопросы будут?»
Вопросы были.
Мир тихо сходил с ума, метался от любовного коитуса к социальному консенсусу и обратно.
Девушки на метлах влетали в форточки, кружась под «Вальс при свечах» Вознесенского. «Любите при свечах, / танцуйте до гудка, / живите — при сейчас, / любите — при когда?»…
Ребята — при часах, девчата — при серьгах, живите — при сейчас, любите — при всегда.Вознесенский раньше других поэтов своего поколения стал почетным членом Американской академии искусств (всего он получит десять мантий разных академий мира). Его позовут преподавать — но регулярность учебного процесса была ему не по душе: познание мешало порханию (и наоборот).
С одной стороны: «Меня тоска познанья точит, / и Беркли в сердце у меня. / Его студенчество — источник / бунтарства, света и ума».
С другой — в ту же секунду: «А клеши спутницы прелестной / вниз расширялись в темноте, / как тени расширяясь если / источник света в животе».
И неизвестно еще, что важнее. Тоска познанья — или клеши спутницы, между прочим.
Роберт Лоуэлл, переводя эти стихи на английский, споткнулся на животе-светильнике. Вознесенский рисует ему схему клешей спутницы прелестной, светотени соблазнов из живота. Словесная метафора ложится на клочок бумаги графической конструкцией. Пучок света из живота, треугольники теней. Лоуэлл переводит в соответствии с траекториями соблазнов на рисунке.
Тоска познанья вела на баррикады и в постели. Поэтов и студентов, либералов и милитаристов, правителей и диссидентов. То недолюбовь, то перелюбовь. Постель или баррикады — что откроет наконец-то верный путь истории?
В 1969-м Джон Леннон и Йоко Оно попытаются скрестить баррикады с постелью — пожалуй, это будет последняя чистосердечная попытка предъявить детородные органы в качестве аргументов борьбы за общественную справедливость и мир во всем мире. «Give Peace A Chance» (Дайте миру шанс) — споют они. Леннон мог написать в письме приятелю свойски: «О, какой сегодня у меня большой торчун».
Евтушенко много лет спустя будет раздосадован аксеновской «Таинственной страстью»: зачем он «это» написал, разве «этим» только озабочены они были — ведь у Аксенова выходит, будто шестидесятники идут по жизни с тем самым «битловским» торчуном наперевес.
Но если вдуматься — на этот вот осеменяющий торчун (как много в этом звуке!) нанизана вся дионисийская Античность. Лицемерное Средневековье потом отсекло Гераклам мраморные торчуны, спрятало под искусственными листочками. Вот так же и к концу XX столетия торчуны и соблазны обернутся апофеозом имплантантов, пригодных лишь для имитации, манипуляции и инсталляции.
* * *
При чем тут отношения поэтов и власти? К концу 1960-х баррикады «любви» приняли диссидентскую форму — «антилюбви». Ключевая оттепельная «искренность» сменилась критерием «народности», которым принялись вовсю оперировать и писатели «почвенные», и «диссидентствующие». И те, кого звали «шестидесятниками». Пройдет совсем немного времени, и в 1990-х уже выяснится, что у тех и других, и третьих гораздо больше, как ни парадоксально, общего, чем казалось когда-то. Правда и анти-правда, любовь и анти-любовь, белое и черное, — вопрос был лишь в том, кто по какую сторону забора.
Зато культурный код девяностых исключит и «искренность», и «народность», потому что искусство принадлежит не народу, а сектантским грантам и премиям. Не для народа предназначено, и не народу о нем судить. Девяностые определит внезапно та среда, которой равно чуждыми были и Шолохов, и Солженицын, и Твардовский, и Михалков, и Солоухин, и Вознесенский. Традиционная для элиты русской культуры нравственная забота о человеке и обществе сменится жесткими «либеральными» канонами корпоративной морали, постмодернистской эстетикой для посвященных. Если бы знать, во что выльется в «этой стране» нелюбовь к своей «народности», которую перестанут разделять с «официозностью». Если бы те, кто счел себя единственными правообладателями «народности», не принимали в штыки все без разбора, записывая в «чуждое».
А что было бы? Если бы знать.
* * *
Диссиденты шестидесятых по сути были идеальными коммунистами, едва ли не в большей степени, чем коммунисты «официальные». И солженицынское «жить не по лжи» вполне соответствовало моральному кодексу строителя справедливого будущего. И вопрос писательницы Раисы Орловой, эмигрировавшей позже вместе с мужем, Львом Копелевым: «Легче ли бороться за настоящий коммунизм в партии или вне ее?» И вопрос отправленного на принудительное психиатрическое лечение генерала Петра Григоренко (с любопытством присматривавшегося к идеям украинских националистов): «Куда мы идем, что будет со страной, с делом коммунизма?»
Вопрос «лояльности к власти» перемешался с вопросом той же любви — не-любви. Вознесенского (и не его одного), осуждали за то, что так радостно «бросается в объятья» американских президентов. Одновременно Вознесенского (и не его одного) упрекали в том, что невраждебен в отношении к собственной власти. Ничьих политических ожиданий Вознесенский не оправдал — он действительно не был враждебен ни к кому. Хотя врагов у него оказалось — полно́.
Кто говорит, что Андрей Вознесенский не был противоречив, что не было намешано в нем всего: наивности, опрометчивости, тщеславия, игры, искренности, обаяния, силы таланта, выделявшей его из всех шестидесятников, любви к жизни, людям… Бывает ли вообще гениальность — однозначной?
Да, с Кеннеди ужинал. С Брежневым не привелось. Над Рейганом посмеивался, и над Брежневым со товарищи тоже. Горбачевым, да и Ельциным обольщался поначалу, как и многие.
А другу композитору Щедрину объяснял про отношения поэта с властью: «Главное, пускать собак по ложному следу».
Я влево уходил, он вправо
В середине шестидесятых «обретал силу жанр правозащитных писем, подписанных интеллигенцией. На подписантов были гонения», — пишет Вознесенский («Хамящие хамелеоны»).
Технологию распространения писем все усвоили быстро. Главное, одновременно с адресатом письмо должны были получить любым путем и западные журналисты — текст письма тут же звучал в эфирах «вражеских голосов» или печатался в газетах, и это служило гарантией того, что письмо заметят. Западный мир проявлял необыкновенную гибкость и был внимателен ко всем, кого хоть что-нибудь не устраивало в царстве советской неповоротливости. Начиналась цепная реакция: диссидентами становились даже те, кто и не собирался идти в диссиденты, а всего лишь заводил речь о какой-нибудь своей правде. Если покопаться в истории каждого процесса тех лет — очень часто можно обнаружить вдруг первопричины странные и пошлые, возникшие как следствие сведе́ния чьих-то счетов, чьей-то злобы, ревности, обыкновенной подлости… Это любопытно — и многое объясняет в том, отчего именно диссиденты тех лет, самые выдающиеся из них, позже придут в ужас от того, во что выльется «перестройка» в 1990-х.
В 1964-м арестовали и сослали в архангельскую деревню «тунеядца» Иосифа Бродского. В 1968 году в ответ на приглашение Бродского на поэтический фестиваль в Англию советское посольство со всей прямотой заявило: «Такого поэта в СССР не существует».
В 1966-м посадили за «антисоветскую пропаганду» писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля. Следом один за другим в диссидентах окажутся — фронтовик, автор романа «В окопах Сталинграда», лауреат Сталинской премии Виктор Некрасов, писатели Владимир Максимов, Владимир Войнович, фронтовик, философ Александр Зиновьев, фронтовик, литературовед Лев Копелев, наконец, Александр Солженицын…
Вознесенский диссидентом никогда не был. Но почти со всеми у него и до, и после их эмиграции отношения оставались дружескими либо уважительными.
А как же повторяемые часто реплики Бродского о Вознесенском? Какая уж тут «дружба»? Отношения двух больших поэтов — отдельный разговор, пока же заметим одно: взаимная их неприязнь подогревалась старательно окружающей литературной средой — пересуды питают гумус.
Первым письмом в защиту Синявского и Даниэля было «Письмо 18-ти», подписанное Аксеновым, Гладилиным, Владимовым, Войновичем и т. д. Стояла под ним и подпись Вознесенского. Позже появилось и «Письмо 63-х».
Накануне IV съезда писателей, 16 мая 1967 года, Солженицын обратился к коллегам с письмом против цензуры. При Хрущеве, поддерживавшем Солженицына в 1962–1963 годах, в «Новом мире» за девять месяцев были опубликованы повесть «Один день Ивана Денисовича» и три рассказа — «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела». Любопытный штрих из письма помощника Хрущева Владимира Лебедева от 22 марта 1963 года. В письме Лебедев докладывает своему шефу о звонке писателя Солженицына после той самой, памятной для Вознесенского, встречи Хрущева с творческой интеллигенцией 7 марта. Понятно, партработник облекал содержание разговора в формулировки, приятные руководству, — но любопытен сам факт: по уверениям Лебедева, Солженицын благодарит Никиту Сергеевича за высокую оценку его труда («Ивана Денисовича» опубликовали по личному решению Хрущева) и советуется, не забрать ли ему из «Современника» пьесу «Олень и шалашовка» в связи с пожеланием Хрущева «не увлекаться лагерной темой». В пересказе Лебедева слова Солженицына звучали таким образом: «…мне будет очень больно, если я в чем-нибудь поступлю не так, как этого требуют от нас партия и очень дорогой для меня Никита Сергеевич Хрущев». Наверное, в этом была и хитрость опытного лагерника, усыпляющего бдительность начальника зоны. Важно другое — саму возможность диалога с властью Солженицын вовсе не исключал. Но после ухода Хрущева никакой диалог оказался уже невозможен.
В январе 1966-го вышел еще один рассказ Солженицына «Захар Калита» — и всё. Рукописи его стали изымать. На него самого — клеветать. И с какой радостью коллеги по перу изобретали и подхватывали нехитрую ложь! Из письма Солженицына съезду: «Уже три года ведется против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награжденного боевыми орденами, безответственная клевета: что я отбывал срок как уголовник, или сдался в плен (я никогда там не был), „изменил Родине“, „служил у немцев“. Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина…»
Среди тех, кто написал письма съезду в поддержку Солженицына, были писатели Георгий Владимов, Виктор Конецкий. Послал свое письмо и Вознесенский. Но съезд, как известно, исключил автора «Ивана Денисовича» из Союза писателей. «Меня потрясла расправа над Солженицыным, — напишет позже Вознесенский. — Пытаясь выступить в его защиту, я ратовал за право каждого писателя на свободу творчества. Не беря во внимание несовпадение порой наших художественных воззрений, я всегда выступал в защиту Солженицына» («Хамящие хамелеоны»).
Познакомил Вознесенского с Солженицыным Юрий Любимов. Александр Исаевич пришел на спектакль «Антимиры», после которого они первый раз поговорили друг с другом в кабинете главного режиссера. «Затем, — вспоминает поэт, — Солженицын написал мне записочку в ЦГАЛИ, разрешающую прочитать его роман „В круге первом“, тогда уже конфискованный».
Бывали ситуации вовсе нелепые. Уже в семидесятых «Новый мир» опубликует подборку стихов Вознесенского, посвященных Гоголю. Но опубликует не сразу. В одном из стихотворений обнаружится строка о Рязанщине — а в Рязани несколько лет жил и работал в школе учителем физики и астрономии Солженицын. «Цензор решил, что я написал об Александре Исаевиче, и подборку решили снять. Тогда я написал Брежневу, — весело вспоминал много лет спустя Вознесенский, — попросил его, как коллегу (его „Малая земля“ тоже публиковалась в „Новом мире“), разобраться с цензурой. Иначе, мол, они сейчас меня режут, а потом и до вас доберутся. Письмо подействовало. Подборку вернули, правда, уже без строчки о Рязани».
Еще один мимолетный случай с Солженицыным описан в стихотворении «В непогоду». Как-то Александр Исаевич, живший тогда у Чуковского в Переделкине, попросил Вознесенского с Богуславской подбросить его в Москву. Шел дождь. Дороги развезло. «Волга» забуксовав, съехала в кювет перед дачей Чуковского. Худенький Вознесенский с бывалым лагерником Солженицыным, вытолкав машину, были в грязи с головы до ног. Отмывались у Чуковского, тот усмехался и причитал. Наконец поехали. Богуславская, сидевшая за рулем, запомнила, как твердо Солженицын повторил неоднократно свое требование ехать медленнее: не для того, мол, он прошел лагеря, чтобы нелепо пострадать в аварии.
Что озадачило тогда Вознесенского с Богуславской: где-то в районе Калининского проспекта (нынешнего Нового Арбата) Александр Исаевич попросил остановить машину. Затем попросил их отвернуться и не подсматривать, пока он не скроется из виду. «Какая нам была разница, в какую сторону он пойдет? — Зоя Борисовна и много лет спустя не скроет недоумения. — Ну, может быть, это у него привычка к лагерной предосторожности».
Тогда и появились стихи: «В дождь как из Ветхого Завета / мы с удивительным детиной / плечом толкали из кювета / забуксовавшую машину. / В нем русское благообразье / шло к византийской ипостаси. / В лицо машина била грязью / за то, что он ее вытаскивал…»
Нас высадили у заставы, на перекрестке мокрых улиц. Я влево уходил, он вправо. Дороги наши разминулись.* * *
Правдорубами и правозащитниками становились и волей, и неволей, по-всякому. Но любопытнее всего то, что, оказавшись в эмиграции, все они немедленно разбивались на лагеря и начинали с той же нерастраченной силой ненавидеть уже друг друга. Привычка свыше им дана…
Один из самых близких Вознесенскому писателей, Виктор Некрасов, прожил несколько лет в Париже — а его всё не лишали советского гражданства: уж очень нелепо это выглядело в отношении фронтовика, автора романа «В окопах Сталинграда». Это случится только после того, как на радио «Свобода» Некрасов посмеется над литературными достоинствами и преувеличенной ролью главного героя «Малой Земли» Леонида Брежнева.
В сентябре 1987 года некролог памяти Некрасова, написанный Василем Быковым, снимут из сверстанной уже полосы «Литературной газеты».
А начиналось все тоже с озлобленных литсобратьев: кинулись клеймить роман «В окопах Сталинграда», но не угадали — Сталин одобрил, премию писателю дал. Но зуб у собратьев остался. В начале шестидесятых партийный публицист Мэлор Стуруа в статье «Турист с тросточкой» заклеймил Некрасова за цикл очерков «По обе стороны океана» — как низкопоклонника перед Западом. В девяностых, к слову, сам Мэлор Стуруа окажется в рядах публицистов отчаянно либеральных — и в этой перемене наряда он не одинок.
Некрасов, затравленный такими вот публицистами и литераторами, тяжело переживал оторванность от Родины, за которую честно воевал и честно пытался говорить о пошлости и конформизме в своей повести «Кира Георгиевна». Некрасов же честно протестовал против строительства стадиона на месте Бабьего Яра, страшной могилы 195 тысяч жертв фашистов. Вряд ли Некрасов (как и Евтушенко, автор поэмы «Бабий Яр») мог предположить тогда, что в новом веке на Украине появятся целые партии, которые будут маршировать по Киеву под теми же нацистскими лозунгами и вскидывать в фашистском приветствии руки. Загадка — почему трагедию тогда старались «замолчать»? Может, если бы не молчали стыдливо, — меньше страшных теней из прошлого повылезало спустя годы? Кто знает.
Некрасов был, между прочим, человек жизнерадостный — чего стоит один рассказ Вознесенского о розыгрыше, который они вместе устроили однажды в Ялтинском доме творчества. История смешная — но шутники тогда за нее поплатились.
Все началось с того, что Вознесенский впервые привез в Россию «уоки-токи» — дистанционное переговорное устройство на десять километров. «Оно походило на продолговатый транзистор с антенкой. Никто у нас не подозревал о его существовании…» Что было дальше — расскажет сам Вознесенский:
«Так вот, в Ялте, в доме творчества, шло великое застолье — справляли день рождения Виктора Некрасова, тогда еще не эмигранта. Во главе стола был К. Г. Паустовский, стол заполнял цвет либеральной интеллигенции. Среди них находился и крымский прозаик Станислав Славич, прямой, кристально честный автор „Нового мира“.
Вика Некрасов попросил меня устроить какой-нибудь розыгрыш. Мы решили использовать для этого неизвестный нашей публике мой „уоки-токи“.
„Транзистор“ с антенкой стоял передо мной на столе. „Андрей, — обратился ко мне новорожденный. — Сегодня по ‘Голосу Америки’ должно быть твое интервью. О! Да вот как раз сейчас!“ Надо сказать, что „Голос Америки“ тогда запрещалось слушать. Это придавало остроту ситуации.
„Боже мой, как мне надоели интервью!..“ Я возмущенно ушел из комнаты. Закрылся в туалете. И оттуда повел свой репортаж.
Как я был остроумен! Как поливал всех, находящихся за столом. Называл имена. Разоблачал их как алкоголиков, развратников и приспособленцев. Собственно, я мыслил свои филиппики как пародию на официальную пропаганду. Паустовский был назван старомодным. Главный алкаш был, конечно, Вика. Я гнусно подлизывался к власти, утверждая, что Брежнев более великий, чем наши либералы, потому что он может выпить не закусывая больше водки и у него больше баб. Когда я перешел к Славичу, мне рассказывали, что тот среди полной тишины обескураженно произнес: „Славич — это я…“
Тут дверь раскрылась, вошел Вика и смущенно сказал: „Андрей, может, хватит?“ Я на всем скаку прервал поток своего идиотского вдохновения.
В столовой меня встретило гробовое молчание. Константин Георгиевич, побледнев от гнева, произнес: „И он пил с нами вместе, этот мерзавец, ел наш хлеб. А что он болтал там, зарубежным корреспондентам?!“ Возмущенные гости кричали, выходили из-за стола.
— Вика, расскажи им, что это розыгрыш, что ты сам меня просил об этом, — взмолился я, поняв ужас произошедшего.
— Друзья, мы же знаем его, это я его просил устроить розыгрыш, имейте чувство юмора, — защищал меня, да и себя, Виктор Платонович.
— Ах, розыгрыш?! Значит, мы плебеи? Значит, вы дурачите нас вашими заграничными игрушками? — справедливо возмущенный Славич бросился к Некрасову и мощным матросским ударом двинул в лицо. Хлынула кровь из рассеченной губы. До конца жизни у Виктора Платоновича сохранился шрам на нижней губе».
Они непременно встречались всякий раз, когда Вознесенский попадал в Париж. Вопреки всем запретам общаться с «отщепенцами». Некрасов вспоминал, как они вместе с Ольгой Леонидовной Андреевой ходили к великому архитектору Ле Корбюзье. Забавно слышать от «диссидента» Некрасова, как он убеждал Корбюзье применить свои знания и умения в СССР: «Я сказал о Советском Союзе, где идет сейчас грандиозное жилищное строительство и где его талант и знания могли бы очень пригодиться»… Тот отказался — староват уже, а когда был молод — Сталин трижды ему отказал. Напоследок Корбюзье быстренько нарисовал им что-то на листках бумаги. У Некрасова оказалось изображение человека с автографом «LC». «Потом хитро взглянул на Андрея Вознесенского и вместо человека нарисовал орангутанга. Андрей торжествующе посмотрел на меня: обскакал…»
* * *
Незадолго до смерти Некрасов скажет на радио «Свобода»: «Сейчас, уже не мальчишкой, я задавал себе вопрос — горжусь ли я победой в Сталинграде? Да, горжусь. Да, в Сталинграде Гитлер впервые крепко получил по зубам. И там, тогда, в далеком 43-м году, нам действительно казалось, что своей победой мы приблизили тот час, когда восторжествует во всем мире свобода и правда. И мы гордились своей красной звездочкой на пилотке». Теперь же, узнав о гибели своего фронтового друга в Афганистане, он назовет эту звездочку оккупантской «звездой позора».
Странная штука история. Скажем, среди разоблачений той советской «афганской войны» озвучен был такой эпизод, и озвучен шумно, со значением (рассказывал академик Сахаров) — как вертолетчики по ошибке расстреляли позиции «своих». Пройдет совсем немного времени, советских «оккупантов» в Афганистане сменят американские, и случится абсолютно зеркальная ситуация с вертолетчиками натовскими. И ни одного возмущенного «диссидентского» голоса по всему белу свету.
Вроде бы Сахаров имел в виду совсем не то. Вроде бы говорил о конвергенции, о том, что Востоку есть чему поучиться у Запада, равно как Западу у Востока. Но выйдет только — «вроде бы». Китай пойдет путем более тонким: активного обучения и восприятия. Российская либеральная мысль конца столетия горделиво, а по сути, плебейски сведется к одной идее — «растворения»: быть проглоченным и переваренным — кратчайший путь к «справедливому миру».
Может, в те годы и появилась мода — на любую подробность, бросающую тень на западный, совсем не идеальный мир, отвечать незамысловатым: «Ой, а у нас что, лучше, что ли?»
Удивительно ли, что так обернулась история? История очарований свободой и правдой, которая всегда где-то там. Там-тарам, там-тарам.
Мир перевернулся сам собою — или что-то упустило, чего-то недопоняло в нем человечество, искавшее правды и справедливости на баррикадах и в постелях 1968-го? Неизвестно, что ответил бы на это, доживи до нового века, честный фронтовик Некрасов. От того диссидентства, от той эмиграции, у которой в подкорке, вопреки всем злым козням судьбы, сидел неискоренимый пафос ответственности перед своим народом и своей страной, — от всех от них будто и следа не останется.
Но в конце века прошлого, в девяностых годах, оглянувшись и ужаснувшись, ярый диссидент, автор «Зияющих высот» Александр Зиновьев признает вдруг: «Метили в коммунизм, а попали в Россию».
* * *
Однажды в семидесятых в Париже Кирилл Дмитриевич Померанцев, «древнейший подвижник поэзии, душеприказчик Георгия Иванова, рабочий хребет газеты „Русская мысль“», попросил Вознесенского передать Максимову, собравшемуся эмигрировать, совет: «Передай ему от моего имени, чтобы он ни в коем случае не уезжал, он порвет пуповину. Он погибнет в нашем болоте». Максимов уехал в 1974-м и неплохо устроился. Хитроумны судьбы диссидентов. Бывший беспризорник, отсидевший по уголовным статьям, в СССР он стал членом редколлегии самого консервативного «Октября», восторженно писал о встречах Хрущева с интеллигенцией, — и в Европе он тоже подружился с «крайними», с «оголтелым немецким реваншистом» Штраусом, издавался на деньги Шпрингера. За что, писал Вознесенский, друзья поэта, «западные либеральные интеллектуалы, не переносили его… <…> А как он отводил душу по поводу своего окружения: „Представляешь, с каким г… мне здесь приходится работать“. Дальше следовали имена».
А в октябре 1993-го случится казус.
Сорок два передовых отечественных литератора, «совесть нации», призовут российского президента расстрелять оппозиционных депутатов — причем теми же словами, что и в 1937-м: «Раздавите гадину!» Вина того Верховного Совета — в том, что он потребовал от Ельцина не нарушать Конституцию. В 1965 году вот так же сын Сергея Есенина, математик Александр Есенин-Вольпин вышел на Пушкинскую площадь с плакатом «Уважайте Советскую Конституцию!». Есенина-Вольпина отправили в психушку, потом и выдворили из страны. Прогрессивные интеллигенты за него тогда вступались. Теперь — 42 передовых литератора, под державших расстрел за уважение к Конституции, будут признаны самыми что ни на есть либералами и демократами.
Против этих сорока двух выступят бывшие матерые «антисоветчики», диссиденты и эмигранты: писатели Максимов, Синявский и Абовин-Егидес. «Какие же они интеллигенты! — прокричит Максимов Вознесенскому. — Подписали письмо за расстрел Белого дома!» Три бывших диссидента будут признаны махровыми ретроградами, выжившими из ума державниками, вставшими на пути у либеральной мысли.
Все перевернется с ног на голову. Белое станет черным, а черное белым.
Мы еще вернемся к этой истории — слишком уж она показательна и значительна. Пока же важно сказать одно: Вознесенский «Письмо 42-х» не подпишет.
«Шпионские страсти». Рассказ писателя Анатолия Гладилина, диссидента и эмигранта
— Я помню, когда над Синявским и Даниэлем был суд, мы втроем написали письмо с протестом. Аксенов, Владимов и я. Начали думать, кому показать. Показали Евтушенко. Евтушенко посмотрел и без всяких разговоров подписался. Но так, чтобы подпись стояла первой, — Женя же не мог быть не первым. Мы старались собирать подписи людей «с именами» — они были менее уязвимы. Подписался, скажем, парень из редакции «Знамени» — на него потом в редакции накинулись: да кто ты такой, куда ты лезешь, там знаменитости, а ты кто? Хочешь, чтобы мы тебя уволили? В общем, старались давать письмо для подписи тем, кто мог рисковать.
Я был категорически против того, чтобы давать Андрею Вознесенскому — Андрей был выдвинут тогда на Ленинскую премию, и я считал, что это важно, это укрепит его позиции. Думали, как лучше, — не надо искушать, не дадим Андрею, будто этого письма нет… Но тайны не вышло, Андрей про письмо узнал и прибежал просто в ярости: как это так, почему вы не даете мне подписать? И подписал…
Позже, когда я уже приехал в Париж (в 1976 году) и стал «нехорошим человеком», с которым видеться было нельзя (за это не расстреливали, но могли быть очень серьезные неприятности), — так вот, первым советским, кто приехал ко мне, правда по-шпионски, в два часа ночи, — был Андрей. Это дорогого стоило — но и мы как-то смогли его под держать.
Было такое: Андрей ездил с выступлениями по Франции, причем, как всегда, очень успешно, и здешние диссиденты — а среди них были люди разные — возмутились, стали убеждать Владимира Максимова (издателя журнала «Континент»): Вознесенский выполняет задание ГБ, зачем еще ему надо выступать тут, во Франции! С его помощью миру хотят показать, что в России свобода, а мы тут говно! Тогда же появилось их письмо в «Русской мысли», очень плохой газете: мол, Вознесенский, когда-то талантливый поэт, скатился до того, что охмуряет французов своими стихами по заданию советских гэбистов…
Тогда мы с Викой Некрасовым написали ответное письмо и опубликовали его в солидной газете «Монд». Андрей был дико нам благодарен, да и все серьезные слависты тогда звонили с благодарностью за такую поддержку, за ответ на очевидный бред. Диссиденты были страшно возмущены, но так как Максимов посчитал, что ни с Викой Некрасовым, ни со мной ему ссориться не надо, — то раздувать из этого скандал не стали, всё как-то замяли.
Потом, я помню, приехала большая делегация советских поэтов, возглавлял ее Константин Симонов. Было много молодежи — Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Окуджава, Высоцкий. Мы все, естественно, пришли на их вечер. Огромный зал, сидели слависты. В первых двух рядах наше посольство. Но прежде Максимов нам дал установку — и я с ним согласился: давайте не компрометировать наших ребят (хотя, надо сказать, с Евтушенко у Максимова всегда были очень плохие отношения), сядем в задних рядах, чтобы не светиться.
Так все и сделали — кроме Вики Некрасова, он всегда говорил: пошли все к черту, я написал «В окопах Сталинграда», а вы что? Он сел во втором ряду, и что было дальше — известно по знаменитым воспоминаниям Окуджавы. Он примерно так писал: вдруг вижу во втором ряду Некрасова и думаю, неужели я такая сука, что испугаюсь и не подойду? Сошел со сцены, обнялись, поцеловались — горите вы все… Посольство сделало вид, что в упор ничего не видит, ни слова ему потом никто не сказал.
Эмиграция цеплялась к ребятам часто. Тот же Юра Кублановский. Я получил четкую директиву от Аксенова: Толя, это наш парень, участник «Метрополя», возьми его под свое покровительство. Я работал на радио «Свобода», он был внештатником, получал не миллионы, конечно, но вполне можно было прожить, не роскошествуя. Юра поначалу попытался сводить какие-то счеты с Евтушенко и Вознесенским. Я сказал ему: Юра, ты эти свои счеты оставь, это очень хорошие поэты, не трогай их. И все, больше поправлять его не пришлось.
В семьдесят восьмом году скандинавы организовали в Копенгагене первую официальную встречу советских и несоветских литераторов. Шел разговор о русской литературе. Андрея там не было — зато на второй встрече в Страсбурге, в старом здании Европарламента, он уже был. Так получилось, что организаторы спросили у меня: Толя, кого позвать? Я назвал Андрея, и он как бы возглавлял там «советскую» делегацию, а я «антисоветскую». Если в Копенгагене были какие-то стычки, то здесь все прошло в атмосфере мира и дружбы. Пили вместе.
Потом был девяносто первый год, был путч, после него мне позвонили из посольства — и очень скоро мне дали визу, и я сразу приехал в Москву. На вечере в ЦДЛ в президиуме сидели Окуджава, Вознесенский, Арканов, все случилось неожиданно, и пришли те, кто оказался тогда в Москве… Когда начались лихие девяностые и началось массовое бегство интеллигенции из России, — когда Андрей приезжал в Париж, мы обязательно где-то сидели, уже никто никого не боялся, он очень много интересного рассказывал о том, что происходит в стране. Андрей очень много говорил мне: «Ты не понимаешь, в каком состоянии сейчас оказалась литература. Я выездной, меня знают, я всегда могу поехать и заработать денег. Но вот N (называет серьезного поэта) говорит: к зиме хорошо приготовился — накрошена капуста, есть мешок картошки, как-нибудь перезимую. Понимаешь, в такой вот стадии сейчас в России всё».
Ему незачем было играть, он действительно остро переживал тогда происходящее… Потом, когда в Париж приехал Аксенов с мамой, Евгенией Семеновной, появилась и Зоя Богуславская, мы встречались тогда и с ней. А с двухтысячного года я стал приезжать постоянно в Россию. Вася сказал: если хочешь издаваться в России — надо приезжать. И мы с Андреем каждый раз встречались, пока болезнь его позволяла. Я не очень понимал, зачем его, так резко изменившегося внешне, показывать публике. Но мне объяснили, что это не прихоть Зои, без этого, по словам врачей, у него не будет стимула жизни, да он и сам рвался… Аксенов рассказал мне такую вещь: на каком-то выступлении Андрея он вышел из зала — не мог видеть его в таком состоянии, без голоса, — и вдруг, говорит, слышу голос. У Андрея вдруг прорезался голос, едва он оказался на сцене, и он начал читать, как раньше.
Чудеса? Наверное, такое могло быть только с поэтами этого поколения.
На аксеновском фестивале в Казани, когда я увидел Беллу, я спросил Васю: как она будет выступать, не будет полного скандала? Он успокоил: Толя, не бойся, во-первых, с ней Мессерер, а во-вторых, когда она выходит на сцену, она преображается. Казалось, она не очень помнит вообще, где она, что она. А вышла — и начала звонким голосом читать: все помнит. Ее уже стали останавливать — все-таки это уже не та молодая Белла, которая могла без устали пить и читать стихи, — а она: нет, я еще хочу читать. Вот у меня ощущение, что так же было и с Андреем. Читая стихи, он будто возвращался к жизни, к молодости, даже если вернуть ее уже нельзя.
Девочка, кругом звери!
Где она, правда жизни — слева, справа? «Я влево уходил, он вправо, дороги наши разминулись» — так у Вознесенского («В непогоду»). Кто был сегодня диссидентом — тот завтра станет ярым «ретроградом». Кто казался «конформистом» — первым запишется в либералы. Кто она, где она, русская интеллигенция, в чем ее миссия? К этому вопросу Вознесенский будет возвращаться вновь и вновь.
Он мог расходиться во взглядах с диссидентом Максимовым, укорять его за «Сагу о носорогах», в которой выведены Ахмадулина с Мессерером, — и оставаться с ним в друзьях. С «деревенщиком» Солоухиным мог не совпадать во мнениях — но ценить друг друга они при этом не переставали. Вознесенский относил себя к либералам — но поспорил бы с любым, кто скажет, будто он не патриот. «Мне, в башке которого был сумбур из поставангарда, Раушенберга, Хайдеггера, позднего и раннего Пастернака, много дали тихие беседы с Георгием Адамовичем, как еще ранее с Глебом Струве, многолетние собеседования со „странником“ Иоанном Сан-Францисским. Получалось, что за океаном ты находил заповедную русскую культуру…»
В 1967 году Вознесенский писал странные для современников (усвоивших по Маяковскому: «Единица — вздор, единица — ноль…») строки:
Я думаю, право ли большинство? Право ли наводненье во Флоренции, круша палаццо, как орехи грецкие? Но победит Чело, а не число. Я думаю — толпа иль единица? Что длительней — столетье или миг, который Микеланджело постиг? Столетье сдохло, а мгновенье длится. Я думаю…Именно в эти годы Вознесенский ищет — и находит — своих главных героев. Прорабов духа. Сомневающихся и светлых, будто не от мира сего. Кто эти герои, по которым, полагает поэт, и должно сверяться настоящее время?
* * *
Саше Маркову, следователю-криминалисту, поэт посвящает «Ялтинскую криминалистическую лабораторию». Он «король лаборатории, шишка сыска, стихотворец и дитя». У него «под стеклом стола четыре фотографии — / ах, Марина, Маяковский, Пастернак…». Вокруг него — эпоха сложносочиненная: «…обвиняемое или потерпевшее, / воет Время над моею головой!»; «знают правые, что левые творят, / но не ведают, где левые, где правые…» И ведь дело это — висяк, поди расследуй, разберись, за кем истина. «Сашка Марков, будь Вергилием, веди!»
Героиня стихотворения «Как погибла ты, Матерь Мария» — Елизавета Кузьмина-Караваева, поэтическая подруга Блока, участница французского Сопротивления, спасавшая еврейских детишек и погибшая в газовой камере концлагеря «Равенсбрюк». «Так велит моя тихая вера. / До свидания. Я не приду. / Я гестаповского офицера / застрелила у всех на виду…»
А вот — обсуждение из глубин Интернета начала 2014 года, еще одного героя Вознесенского, дошедшего до нас из шестидесятых. Некий интернет-энтузиаст пристрастно изучит «Балладу о спасении» — переложенное Вознесенским на русский стихотворение Ш. Нишнианидзе. Баллада посвящалась Иосифу Жордания, легендарному советскому врачу и ученому, основателю Тбилисского института физиологии и патологии женщины. Ученый погиб в августе 1962 года, в возрасте шестидесяти семи лет.
При взлете из аэропорта Рио-де-Жанейро самолет, в котором он летел, рухнул в залив Гуанобара. Пока самолет держался на плаву, кто-то успел спастись. Жордания, отталкивая рвущихся к выходу — «Девочка, кругом звери!» — отдал свой спасательный жилет девочке, у которой его не было. «Потом подмигнул стюардессе: / „Не надо меня жалеть. /У каждого свои вкусы. / Я не ношу жилет“».
Блогер XXI века не поленится докопаться до научной достоверности! В стихах фигурировал «Боинг» — а на самом деле это был «Дуглас». А была ли вообще девочка? Нет, блогер свидетельств не найдет. Найдет «самое страшное»: у Вознесенского в стихах Жордания — хирург, а он-то был, вот прикол, ги-не-ко-лог! Блогер будет недоволен: что это за поэзия? зачем это геройство? Жертвовать собой ради других — это же пережиток прошлого!
И комментарии к блогеру — такая же прелесть: «Вознесенский использовал более-менее подходящий случай для пропаганды лучших качеств советских людей!» Действительно, какой кошмар — пропаганда лучших качеств людей! Или советские не люди?
Но среди сотни пляшущих комментаторов прорежется чей-то голосок, пусть и тоненький, одинокий: «Сколько же ненависти к людям надо накопить в себе, чтобы так потрудиться в поисках „опровержения“ подвига Жордания! Разве не достоин стихотворного посвящения великий человек, всю жизнь служивший появлению на свет новой жизни и погибший достойно — опять спасая молодую жизнь?»
Дело, конечно, не в буквальных точностях деталей — с этим к патологоанатому, не к поэту. А вот диагноз века поэт улавливает точно.
Надо ли жертвовать своим спасательным жилетом, если каждый сам за себя?
Если — «девочка, кругом звери!»?
Вечный вопрос — вот и всплывает опять и опять.
Зачем лейтенанту Эрнсту Неизвестному идти в атаку, зная, что шансов выжить почти никаких?
Зачем погибать, защищая блокадный Ленинград, если можно сдаться образованному врагу, читавшему Хайдеггера?
Герои Вознесенского дают на все вопросы чистый, как слеза, ответ.
* * *
В 1970 году журнал «Юность» опубликует поэму Вознесенского «Лёд-69». «Утром вышла девчонкой из дому, / а вернулась рощею, травой. / По живому топчем, по живому — / по живой!»
Студентка биофака МГУ Светлана Попова отправилась с однокурсниками в зимний турпоход по Карелии. Опыта таких походов не было ни у кого, и все кончилось трагедией: девушка погибла. Замерзла. Всю последнюю ночь, пытаясь продержаться, читала своему выжившему другу стихи Вознесенского. Убитые горем родители приехали к поэту с тем самым сборником, с которым не рассталась до последней минуты Света. Поэма, не самая, наверное, сильная у Вознесенского, сложилась, спелась на одном выдохе. Нервные перебивки «лед, лед, лед, лед, лед» — гудели, как заклинание. Гибель девочки поэт слышит, как свою собственную, и произносит, как молитву:
На асфальт растаявшего пригорода Сбросивши пальто и буквари, Девочка В хрустальном шаре Прыгалок Тихо отделилась от земли.Строки из сочинения Светланы Поповой, вошедшие в поэму: «Человек не имеет права освобождать себя от ответственности за что-то. И тут на помощь приходит Искусство… Красота не только произведение искусства, природы, но и красота жизни, поступков. Меня и биология интересует больше с гуманитарно-философской точки зрения». Тоже ответ на вечный вопрос.
В девяностые годы, в самый разгар войны с боевиками в Чечне, Вознесенский прочитает в газете «Известия» о неизвестном ему 22-летнем лейтенанте Павле Степанове. Мать разыскала Павла уже в Ростове, куда привозили тогда погибших. Ей вернули записную книжку сына, в которой были… стихи Вознесенского. Некоторые строки чуть изменены — видимо, стихи пели под гитару.
Зачем поэт искал героев? Зачем герои находили поэта? Страна будет не та, люди — не те, между той страной и этой — пропасть, а между девочкой в хрустальном шаре и юным лейтенантом протянутся невидимые нити. Лед-69? Лед-96?
Вознесенский откликнется на смерть Павла Степанова «Летальным лейтенантом» — в редакции погибшего героя:
Очисти, снег, страну сейчас, без промедленья. Пусть к нам слетит с небес мольба объединенья.Глава тринадцатая НАС МАЛО. НАС МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕТВЕРО
Бешено цвели жасмины
Но в сущности как сладостно было жить.
— Он меня убивает! — влетела Белла к бывшему мужу, Юрию Нагибину. Писатель жил к тому времени с шестой женой, а Белла Ахмадулина с третьим мужем. Квартиры по соседству, в одном доме на улице Черняховского. Собственно, этот эпизод вспомнит много лет спустя Алла Нагибина (Собеседник. 2012. Июнь) — она тогда отправилась спасать Беллу. Открыли дверь: «убийца», Эльдар Кулиев, тогдашний муж Ахмадулиной, безмятежно спал, свернувшись калачиком на коврике из овечьей шкуры. Ложная тревога. Может, ей померещилось? У поэтов же все на нервах, все на силе воображения… К тому же взгляд жены Нагибина на предшественницу — пусть и в воспоминаниях — вряд ли беспристрастен. Так или иначе, с Кулиевым Ахмадулина все равно прожила недолго — ну да в том ли дело?
Дивное десятилетие! На виражах визжали амуры, быт слагался в стихотворные тужуры, вензелями заплетались кутежи. Ну, и для рифмы — шуры-муры. Шлейф пересудов и переплясов летел за шестидесятниками — частенько и опережая их самих. Молоды они были, вот что. И без этого их шумного поэтического взлета — большой вопрос еще: остались бы 1960-е в истории, как ни верти, — эпохой молодости? Прочь злопыхателей, долой ханжей с их вялыми тестостеронами! Нет, молодость всегда прекрасна.
Семидесятые маячили на горизонте. Неужто там их ждут солидность и степенность? Там видно будет — а пока, знай, спидометр выжимай.
Да, но это еще и «геометрические» времена. И неспроста на заре 1970-х впервые на русском издадут любопытную книжку математика XIX столетия Эдвина Э. Эбботта — «Флатландия: роман во многих измерениях». При чем тут математика, казалось бы? Но книжка любопытная — и при своей стародавности читается вполне модерново.
Все персонажи «Флатландии» — геометрические фигуры — живут в двухмерном мире, а потому видят друг друга прямолинейными отрезками. Как распознать, сколько углов и граней в какой-нибудь встречной фигуре? Способ прост и пикантен: «Позвольте мне просить вас ощупать меня и быть ощупанным мною». А треугольных женщин, чтобы не натыкаться на их острые углы, закон геометрической страны обязывает беспрерывно покачивать углами бедер. Так их легче заметить, чтобы обойти. Или — мимо не пройти. Суровый мир взаимных ощупываний будит в юных умах напряженные чувства. Внуку Квадрата мерещатся другие измерения. И что же выясняется? У плоской окружности все выпирает из двухмерного мира сего: какая пухленькая Сфера!
Вот так же и шестидесятники — жадно ощупывали эпоху, ее текст и плоть. И мир открывался им во всех измерениях. Будто специально собирались «квадратами» — от «битлов» и «роллингов» до поэтов московских или ленинградских. Чудесна геометрия шестидесятых! Не зря десятилетие открылось «Треугольной грушей», не зря в нем было столько романтических многоугольников.
«Меня целовала Мерилин Монро!» — с мальчишеским восторгом станет уверять Евтушенко до седых волос. Завидуйте, товарищи потомки. Правда, через год после того, как Вознесенский с Евтушенко открыли Америку, Мерилин Монро трагически скончалась — 5 августа 1962 года. Вознесенский, певец «героини самоубийства и героина», скромно признавался, что афиши с Мерилин они видели на зданиях и автобусах. Но кто осмелится утверждать, что Мерилин так и ушла из жизни, не успев ни разу поцеловать молодого красавца Евтушенко? А зато Вознесенского — милая Франсуаза Саган приглашала на кофе! Он, правда, сбежал от нее — но сам факт! А зато на апельсины к Вознесенскому в заморский «Челси» прилетала муза итальянская! А зато… Впрочем, к этому их растянувшемуся на годы турниру — «кто первый» — вернемся чуть позже. Пока же…
Пока Вознесенский с новой музой в ресторане ЦДЛ. Чего желаете? — Мороженого из сирени. И поэт, узнав Северянина, подхватывает: «Мороженое из сирени! Мороженое из сирени! / Полпорции десять копеек, четыре копейки буше…»
«Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда» — это, ахматовское, известно всем. Да, был урок Бориса Пастернака, заученный когда-то юным наблюдательным Андрюшей: поэту важно состояние влюбленности. И музы, не бесплотные сильфиды, а во плоти, — без них поэту просто невозможно. А Вознесенский всегда оставался прилежным, верным учеником Бориса Леонидовича. Зигзаги биографии и взрывы творчества неразделимы — музы пролегают между ними тоненькими (или не очень) мостиками. У одних ломались судьбы, будто улетучивался дар — а у других, напротив, расцветал. Неспроста вспоминала Зоя Богуславская про то, как молодежь тогда, бывало, играла в «звездочки».
Вчера Белла была женой Евтушенко, потом Нагибина, потом ненадолго Кулиева, а послезавтра всех их сметет и затмит Мессерер. Была ее подруга Галя — Лукониной, завтра станет Евтушенко. Вчера была Майя Кармен — завтра жена режиссера окажется Майей Аксеновой. Вчера Окуджава женат на Галине — завтра на Ольге. Вчера Высоцкий был женат на Изе Жуковой, потом на Людмиле Абрамовой, а завтра на Марине Влади.
Не то чтобы шестидесятники тут были первооткрывателями. Но как пульсировали все вокруг! Так, как они, никто не раскрывался и не подставлялся, не позировал, не жил у стадионов на виду. Находили в этом даже кайф. Свобода приходит нагая.
«Было время любви, — напишет про эти годы Вознесенский. — Мы не задумывались, мы любили — в подворотнях, на газонах, в автомашинах. Мы любили все, что движется».
Однако, при такой всеобщей напряженности, заметим, сохранили свои семьи — отнюдь не святые — Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский. Возможно, увлечения для них были «лекарством» от томления духа. Один рецепт — от уныния — во всяком случае описан Андреем Андреевичем в эссе «Судьбабы»:
«Когда вы в полном крахе, и враги вас достали, и кругом невезуха — есть еще одно верное средство поправить дела. Небрежной походкой забредайте в ЦДЛ на глазах у опупевших, давно схоронивших вас врагов, приведите с собой красивую девушку, садитесь напротив ангелка и кайфуйте за столиком, заказав бутылку шампанского. Пусть сдохнут».
— Нет, ну были у него, пожалуй, три истории, подлежавшие огласке, — заметит между прочим в фильме «Андрей и Зоя» мудрая и всегда любимая поэтом Зоя Богуславская.
* * *
Вот так же, как расстроила Евтушенко аксеновская «Таинственная страсть», — так многих возмутил когда-то и «Алмазный мой венец» Катаева. По этой же причине и воспоминания Надежды Мандельштам казались Лидии Чуковской во многом «непозволительными»: слишком много интимного. Но, странное дело, авторам удалось как раз из «непозволительных» ниток соткать живые гобелены эпох. Из тени в свет перелетая. Был бы свет, если бы не было тени?
Надежда Мандельштам не раз произносила вдруг: вот, мол, умру — и «там я опять буду с Осипом». Ахматова откликнулась однажды шутливо: «Нет, на этот раз с ним буду я». Надежда Яковлевна задумалась — и с Анной Андреевной больше этого не обсуждала.
Зато решила обсудить с Беллой Ахатовной.
Ахмадулина посмеется в письме Аксенову: «…она мне сказала: „На том свете пущу тебя к Осе“. Я: „А я — не пойду“. — ? — „Н. Я., вы же не предполагаете, что я на том свете буду развязней, чем на этом“».
Вознесенский включил Надежду Мандельштам в число «судьбаб», колдуний поэтического XX века. К Вознесенскому, однако, Надежда Яковлевна была холодна. Не пожелала общаться с ним в последние дни жизни, когда он явился с пышным букетом. Нелюбовь свою объясняла туманно: «барчук».
Впрочем, поэту скорее повезло — бывало, про других она выражалась покрепче. Незадолго до смерти прогнала сиделку, которую увидела впервые в жизни: «А ты, собака, уходи и больше не приходи!» (Об этом вспоминает на сайте Поэзия. ру литератор Людмила Колодяжная, когда-то отдежурившая два дня у постели умирающей Надежды Яковлевны.)
Однажды Андрей Андреевич в полном изумлении выслушал душераздирающую историю знакомой итальянки, мечтавшей познакомиться с вдовой Осипа Мандельштама. Итальянка — Мариолина Марцотто, «изысканная юная венецианка, графинюшка, чья бельсер (сестра мужа) Марта Марцотто была королевой светского Рима, подругой Ренато Гуттузо» — не скрывала своего потрясения от визита к вдове Мандельштама. Вознесенский в «Судьбабах» приводит рассказ Мариолины, открывшей тишайшую Надежду Яковлевну с неожиданной стороны:
«Вхожу я в комнату, там атмосфера скандала. С распатланными седыми волосами, как ведьма, оглашает воздух четырехэтажным матом безумная женщина. Это и оказалась Надежда Яковлевна. Она швыряет на пол рукописи молодых поэтов, рвет их, бесновато хихикает. „Ленинградское г…“ — самый мягкий эпитет интеллектуалки.
Она замечает меня. Отвлекается от молодых поэтов.
„Так ты красотка, — говорит, — ну-ка, красивая, отдай мне серьги твои“. Быстро и ловко вырывает у меня из ушей фамильные мамины серьги. „Мне понравились“, — урчит и принимается снимать с моих пальцев бриллиантовые кольца.
Я робею. Не знаю, как себя вести, но кольца не отдаю. Тогда Н. Я. обращается к сидящему бледному молодому поэту и кричит: „Она красивая? Так давай, вы… ее здесь же, быстро, ну, е… е..!“
Я кинулась к двери…»
* * *
А в сущности, Надежда Яковлевна на свой манер всего лишь повторила давние призывы собственного мужа. «Полухлебом плоти накорми!» — эти стихи когда-то Осип Мандельштам посвящал своей возлюбленной Марии Петровых. «Маком бровки мечен путь опасный. / Что же мне, как янычару, люб / этот крошечный, летуче-красный, / этот жалкий полумесяц губ». С такой же страстью Мандельштам обращался, скажем, к небу: «Я тебя никогда не увижу, / близорукое армянское небо». Читатель, конечно, услышит в последней цитате строки из будущей «Юноны и Авось» Вознесенского: «Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу».
И Хлебников, с которым Мандельштам в тринадцатом году едва не стал стреляться, и сам Мандельштам, и море, и Гомер, тугие паруса — «Куда плывете вы? Когда бы не Елена, / Что Троя вам одна, ахейские мужи?» — все движется любовью.
Борис Слуцкий был, пожалуй, ближе всех к шестидесятникам — из поколения поэтов, прошедших войну. «Им нравились девушки с молодыми руками, / С глазами, в которые, раз погружен, / Падаешь, падаешь, словно камень». А у него была «комхата с отдельным ходом». И даже если и не одобрял ловеласов —
Я просто давал им ключ от комнаты. Они просили, а я — давал.Твардовский нежно относился разве что к Ахмадулиной — остальных не любил как «звездных мальчиков». Следя за их успехами у читателей на Западе, писал в газете «Правда» искренне: «Буржуазная печать проявляет явную невзыскательность к глубине содержания и художественному качеству стихов и наших „детей“, как, например, Евтушенко и Вознесенский».
Чем отвечал ему Вознесенский? Стихами о любви государственной и общечеловеческой значимости. «Пел Твардовский в ночной Флоренции, / как поют за рекой в орешнике, / без искусственности малейшей / на Смоленщине…»
… висит над тобой, как зов, первая твоя Великая Отечественная Любовь.Отчего в шестидесятников были влюблены аудитории, отчего их книжек не хватало, стихи их переписывали в тысячи тетрадок, по всей стране, а вовсе не в одной столице? Они вышли на площади, а в них услышали интимную, исповедальную откровенность, они читали звонко — а слушали их, как слушают шепот любимых в ночи.
Казалось неслыханным — ахмадулинское: «И шарфом ноги мне обматывал / там, в Александровском саду, / и руки грел, а все обманывал,/ все думал, что и я солгу».
Волновало альковными тайнами — евтушенковское: «Ты спрашивала шепотом: / „А что потом? А что потом?“ / Постель была расстелена, / и ты была растеряна…»
Манило соблазнительным — вознесенское: «Мандарины, шуры-муры, / и сквозь юбки до утра / лампами сквозь абажуры / светят женские тела».
Однокурсница Ахмадулиной по Литинституту, детский поэт Галина Лебедева, вспоминая те времена, напишет о своих тогдашних ощущениях: «Кто у нас не боялся сказать то, что думаешь, и так, как хочешь? Никто. Почти никто. Белла не боялась. Женя не боялся и не боялся Вознесенский. Остальные топтались, чуть-чуть запаздывая» (Загорянская газета «Горожанин». Московская обл.).
Полвека спустя одной из тихих, неприметных радостей начала XXI века станут киноленты той эпохи. И дело тут не в зыбкой ностальгии — дело в загадке светлых лиц, сохранившихся на фото и кинопленках. Откуда могло взяться столько светлых, красивых лиц в такой «чудовищной стране», которую так искренне любили и которую вдруг станет не принято поминать добрым словом, — загадка. А людей со светлыми лицами действительно было много, они кочевали по стране с палатками, сидели с гитарами у костров на нелегальных бардовских слетах, заполняли стадионы и залы, умели отличать умные книги от безумных, любили — и были счастливы. Глупые, видимо, были.
Полвека спустя лица станут серее и угрюмее. Поумнеют, видимо. Прилавки будут забиты густо — только на счастье ценника нет.
* * *
В 1964-м Аксенов завершил рассказ «Жаль, что вас не было с нами» словами: «Может быть, верить друг в друга, в то, что соединило нас сейчас здесь <…>. Ведь мы же все должны друг друга утешать, все время ободрять, разговаривать друг с другом о разном, житейском, чуть чуть заговаривать зубы, устраивать вот такую веселую кутерьму, а не подкладывать друг другу свинью и не ехидничать. Но, к сожалению, как часто люди ведут себя так, будто не умрут они никогда».
У лучшего аксеновского друга, Анатолия Гладилина, шестидесятые плывут по тем же ностальгическим волнам: «Конечно, среди нас были и свои разборки (помнится, Евтушенко и Вознесенский постоянно втихаря выясняли между собой отношения: кто про кого что и когда сказал). Однако мы не встречали друг друга надменной улыбкой (как у Блока: „Там жили поэты, — и каждый встречал / Другого надменной улыбкой“. — И. В.), главенствовал дух товарищества, и мы не скупились на хорошие слова: „Старичок, ты написал прекрасный рассказ!“, „Старик, твои последние стихи гениальны!“ Наверно, это не всегда соответствовало истине, но говорилось искренне. Мы действительно гордились друг другом».
А что потом? В какой момент вдруг улетучился пафос их молодости? Время иллюзии взаимных обожании Неслыханными демонстрациями страсти и любви к миру, женщинам, стране, народу, ко всему, что движется, шестидесятники когда-то оттеснили целое поколение поэтов постарше и поумудреннее жизнью. Да, старшие литсобратья их нередко принимали в штыки, — но с каким азартом они отбивались! Как элегантна и свежа была их юношеская бесцеремонность! Какие были эстетические жесты!
В том, как обойдутся новые поколения с самими шестидесятниками, можно найти много схожего: те, кто вырастет на них, их же и станут вытеснять. Одно отличие: шестидесятники сметали предшественников страстью, верой в себя и свои идеи, чувством — на них же выльются ирония, безверие и желчь.
Время такое придет — нелюбви и разводов. Может, оттого и не выйдут из новых поколений новые плеяды и созвездия? Лишь одинокие звезды — помельче, тускнее.
Время нелюбви — ко всему, что вокруг. К официозу, транспарантам «Миру — мир!», провинции, стране с ракетами и балеринами, шестидесятникам, по заданию КГБ продавшимся то ли Западу, то ли собственной власти (тут были варианты). Вот в этих точках неожиданно начнут смыкаться и эстеты самиздата, исключающие право «непосвященных» судить об истинной свободе и поэзии (поэт выше толпы) — и самые махровые из блюстителей чистоты устоев (народ выше поэта).
Жаль только мостики при этом разрушаются — от человека к человеку, от поколения к поколению, от нелюбви к любви. Интимные такие мостики.
* * *
В 1965 году Андрей Вознесенский прибыл во Львов на воинские сборы. Прибыл, как сам вспоминал, «с наглостью поп-звезды и молодого пророка. И сразу попал в круг из шести юных лейтенантов, чьи хмельные головы кружились от идей свободы и женщин. Бешено цвели жасмины».
С этого начинается его «Мостик».
Ой, мальчики, что вы творите!
Райскими яблочками пахло во Львове. Каким ветром занесло сюда прекрасным августовским днем Андрея Вознесенского — понятно: призвали. Такой внезапный кунштюк поэт объяснит капризом мстительных властей: «От молниеносной стадионной славы, а затем опалы у меня поехала крыша. Ревнивые власти послали из столицы во Львов на офицерские сборы».
Незаметное слово «ревнивые» — вместе с тем такое навязчивое. При чем тут оно, казалось бы? Ревность власти к поэту? Ревнивы летучие музы и чуткие жены. Однако у ревности есть и другие масштабы — она историю движет. Ревнивы те, кто собирает стадионы, и те, кого не видно дальше самиздата. Тонут в ревности талант и бездарь, почвенник и космополит, державник и диссидент. Прошлое ревнует к будущему…
Казалось бы: оттепель! мосты наводим! Поэт в два счета все миры соединит! Какое там. Все расползалось — не ждали! — от ревнивой хлипкости.
Вернемся к лейтенанту инженерных войск Вознесенскому. Сборы молодых офицеров запаса были делом обыкновенным, да и отправился во Львов не он один — целый «партизанский» отряд литераторов. Крепить боевую мощь. Кто-то из коллег, прошедших те сборы, адресует Андрею однажды упрек (десятки лет таил обиду!): пользуясь снисходительностью командования, поселился-то Вознесенский не в части, а в гостинице отдельно от всех… Ну, надо сказать, он всегда старался держаться в стороне. Тем более что такие сборы бывали испытанием нелегким — для малопьющих.
Но Вознесенскому, пожалуй, там даже нравилось. Есть в форме военной что-то такое, от чего и в невоенном теле просыпается дух боевой, — туго стянув гимнастерку ремнем, сводить с ума выправкой встречных карпатских красавиц. Декабрист, кавказский изгнанник. «Так же, может, Лермонтов и Пестель, / как и вы, сидели, лейтенант». Вознесенский слал открытки родным и знакомым — одна такая сохранилась в архиве Лили Брик и Катаняна: «Милые мои Лиля Юрьевна и Василий Абгарович! Это я. Уже два месяца как я защищаю вас…»
Определили Вознесенского с учетом литературной специфики в дивизионную газету «Слава Родины». Отвечать на письма бойцов, править опечатки в текстах. Фронт работ он описал шутливо: «Кто только в газету ни писал / (графоманы, воины, девчата, / отставной начпрод Нравоучатов) — / я всему признательно внимал…»
В «Славе Родины» 2 октября 1965 года напечатали его новое стихотворение «Сквозь строй» — позже оно станет «Сном Тараса». Нервным и жестким. Он примеряет «шкуру» Тараса Шевченко, как свое второе «я». Шпицрутены в спину. Месиво боли. «Коллективный вой». Извинения бьющих друзей: «Прости, старик, не мы — так нас».
За что ты бьешь, дурак господен? За то, что век твой безысходен! ……………………………… А ты за что, царек отечный? За веру, что ли, за отечество? За то, что перепил, видать? И со страной не совладать?«Салонные эстеты», богема, — «шпицрутен в правой, в левой — кукиш». Чем ответить им? У Вознесенского нет другого ответа — кроме как: «Люблю вас, люди, и прощаю». Хотя — «тебя я не прощаю, век».
В ходе своей трехмесячной военной кампании Вознесенский написал и «Зов озера», начинающийся оборванным списком жертв гетто, расстрелянного на том самом месте, которое потом затопили искусственным озером. Много мест таких было в здешних краях. «Гражданин в пиджачке гороховом» в этом озере ловит рыбу, «только кровь на крючке его крохотном…». Поперхнется этой кладбищенской рыбой сослуживец Володька Костров: «Не могу, — говорит Володька, — / а по рылу — могу, это вроде как / не укладывается в мозгу!»
Другое стихотворение — «Лейтенант Загорин». Странный такой Загорин. У него то же имя, что у поэта, тот же год рождения — 1933-й, тот же рост — 174 см, сапоги того же размера — 42-го. У него те же, что у поэта, воспоминания: «Он рассказал мне свою историю. У каждого офицера есть своя история. В этой была женщина и лифт. „Странно“, — подумал я…» Наконец, и гимнастерку поэт почему-то носит тоже его, загоринскую… Двойник? Отражение в зеркале? Тот, с кем он слит — и кого одновременно видит в прорезь прицела?
В начале двухтысячных из «Зова озера», из «Загорина» и прочих армейских воспоминаний у Вознесенского вырастет неожиданный «Мостик». Эта повесть, объяснит Вознесенский, «по жанру офицерская, а фактически мысли в ней современные». А почему «Мостик»? «Это такой секс-символ, — скажет Вознесенский журналисту „Комсомолки“ Андрею Ванденко. — Сложно объяснить, надо почитать… Мостик — образ красивый, его можно перекинуть между берегами, в том числе между поэзией и прозой».
Пауза.
Воспользуемся ею.
* * *
Еще до офицерских сборов, в 1964-м, Вознесенский написал знаменитые строки, посвященные Белле Ахмадулиной. «Нас много. Нас может быть четверо. / Несемся в машине как черти. / Оранжеволоса шоферша. / И куртка по локоть — для форса. / Ах, Белка, лихач катастрофный, / нездешняя ангел на вид, / хорош твой фарфоровый профиль, / как белая лампа горит!» Сколько ни посвятят Ахмадулиной строк, а портрет, написанный Вознесенским, останется самым ярким.
Заметим, что в финале стихотворения начальная строка — «Нас много. Нас может быть четверо» — несколько изменена (курсив наш): «Что нам впереди предначертано? / Нас мало. Нас может быть четверо. / Мы мчимся — а ты божество! / И все-таки нас большинство». Тем самым подчеркнуто единство мчащихся.
Совсем немного воды утечет — и уже в семидесятом моряки в его поэме «Авось» (ее опубликуют в 1972-м, в начале восьмидесятых поэма станет самым знаменитым спектаклем «Ленкома») споют вдруг все наоборот. «Нас мало, нас адски мало, / и самое страшное, что мы врозь, / но из всех притонов, из всех кошмаров / мы возвращаемся на „Авось“».
Десятка лет не пройдет — а будто целая пропасть.
Но кто они, эти четверо, которых то ли много, то ли мало, — четверо, которые скоро окажутся врозь?
Счет на «четверки» — из числа особенных литературных формул. Евангельская притча о званых на пир не называет точной цифры: «Много званых, мало избранных». Моцарт у Пушкина повторяет: «Нас мало избранных, единого прекрасного жрецов».
Но вот — у демонической старухи-графини в пушкинской «Пиковой даме» появляется как раз четверо сыновей, и «все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны».
В его «Руслане и Людмиле» сыновья «все четверо выходят вместе». Случайна цифра или нет, но и до Пушкина, в XVIII веке, поэт Алексей Ржевский недоумевал: «Как! четверо в одну красавицу влюбились? / Я верить не хочу, иль, знать, они взбесились».
У Пастернака «избранных» — трое. «Нас мало. Нас, может быть, трое / Донецких, горючих и адских». Многие так же гадали: кто эти трое — он сам, Маяковский и Асеев? А Цветаева? А Хлебников? А…
Мандельштам вернул «четверку». Сказал Сергею Рудакову (литератору, знакомому по воронежской ссылке): «В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и Павел Васильев».
В шестидесятые годы и молодых ленинградских поэтов считали «четверкой» (Бродский, Найман, Рейн и Бобышев) — пока они не разбежались, как и «четверка» московская. И Бродский в одном из интервью займется арифметикой: «В этом веке у нас поэтов, действительно, четверо, пятеро или шестеро… Я-то считаю, что самый крупный поэт XX века — это Цветаева, русский поэт, и, говоря это, я вступаю с самим собой в конфликт…»
Четверки изгибаются мостиками между архаистами и футуристами, «избранными» и «адскими».
И у Вознесенского — «Несемся в машине как черти. /<…> В аду в сковородки долдонят / и вышлют к воротам патруль, / когда на предельном спидометре / ты куришь, отбросивши руль».
…Что нам впереди предначертано? Нас мало. Нас может быть четверо. Мы мчимся — а ты божество! И все-таки нас большинство.Жми, Белка, божественный кореш! Кто эти четверо? Будь машина повместительнее, их могло быть и больше: кроме «шоферши» и Вознесенского — Евтушенко, Окуджава, Рождественский?
Уже в 2013 году Евгений Евтушенко вспомнит вдруг в беседе с Соломоном Волковым давнее свое стихотворение «Зависть» — перекинув мостик между Бродским и собой. Остальных он тихо спрячет в тень.
Зависть? Сестра той же ревности. Человеческой, поэтической — у плеяды шестидесятников было много поводов для встряски чувств.
Вдова Роберта Рождественского, Алла Киреева, обмолвится в каком-то интервью, ну совершенно невзначай: «Евтушенко рассказывает, как он любил Роберта… Нет, он действительно его любил, но при этом очень ревновал… к чему угодно! К стихам, к успеху, извините, ко мне…» Что бы вдова ни имела в виду, слово «ревность» тут вряд ли случайно.
Нагибин, расставшийся с Беллой, ревниво пишет в свой дневник про ревнивого Евтушенко: «С какой низкой яростью говорил он о …добродушном Роберте Рождественском. Он и Вознесенского ненавидит, хотя до сих пор носится с ним, как с любимым дитятей; и мне ничего не простил. Всё было маской, отчасти игрой молодости».
В одной беседе, уже после смерти Вознесенского, на привычный вопрос о ссоре с Евтушенко: а все же почему? — Зоя Богуславская, не развивая эту тему, произнесет вдруг то же слово: «Отношения Андрюши с Женей… Наверное, тут была ревность. Помню, когда-то я, как офицерская жена, поехала к Андрею на сборы в Карпаты. Сходили там с ума. Бросались подушками… И Андрей тогда сочинял хулиганские стишки, адресованные Евтушенко. Помните эти строчки: „Я в кризисе, душа нема. Ни дня без строчки, друг мой дрочит…“»
Между прочим, откуда у Аксенова название романа — «Таинственная страсть»? Из стихотворения Ахмадулиной: «По улице моей который год / звучат шаги — мои друзья уходят…», прозвучавшего как песня в рязановском фильме «Ирония судьбы». Из текста песни выпали как раз строки: «Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх / вас, беззащитных, среди этой ночи. / К предательству таинственная страсть, / друзья мои, туманит ваши очи».
У Ахмадулиной смысл предательской страсти был предметен — написаны стихи в дни бурных расставаний с первым мужем, Евгением Евтушенко. Но в годы травли Пастернака эти строки обретали и другой объем. Смыслы перетекали друг в друга.
Дмитрий Быков однажды деликатно заметил про Ахмадулину: «А вот роман с Вознесенским, видимо, был, о чем он и написал с горечью: „Мы нарушили Божий завет — яблок съели. У поэта напарника нет — все дуэты кончались дуэлью“. Это могло быть адресовано кому угодно, но посвящение у стихов было: шестидесятники вообще жили на виду, это спасло их от многих возможных ошибок».
А может, эти «дуэли поэтов» и вытекали из эвфемизма Богуславской: «бросались подушками»?
Среди поэтов, говоря словами героини «Мостика», всегда были и люди-мостики, и люди-постаменты. Шестидесятники долго ощущали себя людьми-мостиками. Соединяли все, что казалось прежде несоединимым. «Низы» с «верхами», грехи с идеалами, и разделенный мир, и разведенные эпохи.
Так Вознесенский соединил и «секс-символ» с «офицерской повестью».
* * *
Главное, чего не стоит делать с «Мостиком» — стараться вычислить, читая повесть, кто есть кто, и попытаться сочинить за Вознесенского пикантные страницы его биографии. В зябком воздухе «Мостика» размыто реальное и воображаемое, смешаны разные сюжеты, обобщены черты приятелей, коллег, знакомых, муз поэта. Это повесть, сказка ложь, даже если в ней заныканы намеки.
«Эй, новенький, красивый офицер, ты погибнешь от руки друга. Что лыбишься?» — предрекает автору молодая цыганка. И все к тому вроде бы катится. Героиня, офицерская жена Эна (никаких намеков, просто N женского рода), она же мисс Жасмин, срывается с места в карьер: «Я люблю тебя. Но я хочу тебя вместе с Андреем». «Может, это был сон?» — озадачен автор. Но дальше возникает «веер фотографий, где мы с мисс Жасмин принимали балетные позы. Значит, они фотографировали нас через зеркало гостиничного номера…»
И наконец — упругая сцена:
«Ты перевернулась и стала гимнастическим мостиком между нами. Мы прорывались сквозь тебя, как озверевшие проходчики с двух сторон прорывающие тоннель. Два убийцы, мы кромсали тебя.
„Боже мой, мальчики, ой, мальчики, что вы творите! Свершилось! Это свершилось!“ Твой нахмуренный лобик светлел от счастья и ужаса.
Прощай, дружба! Прощай, ненависть!»
Кто эти двое, беспардонно терзавшие Эну? Собственно автор и его альтер-эго, родственная душа с говорящей фамилией Бизнесенский. Вознесенский и Бизнесенский — «вещь в себе» и «знак успеха». В самом сопоставлении имен — жесткий взгляд поэта на самого себя спустя полвека. Два «я» — вознесенское и бизнесенское — слитны настолько, что убить готовы друг друга: «На всей земле нет для меня ближе, чем этот закомплексованный человечек с испугом в глазах, как одиноко мне было бы без моего испытанного врага. Ну, давай же, стреляй в воздух! Но он целился мне прямо в лоб».
Берега двух эпох скрепляет сексуальный мостик. Тут важно еще различать этажи: «Как у каждого, наверное, в моей жизни были амур труа. Но это было на уровне нижнего этажа, например, когда Божидар приводил к гостеприимной болгарской балеринке. На звездном уровне чердака летали Блок с Андреем Белым. И Командор, а не Анна, был предметом любви Дон Жуана. Мой приятель, заведший роман с женой друга, не понимая сам, любил его, ощущая через нее как бы близость с ним…»
О чем эти безумства юности? А что имела в виду Зоя Богуславская, вспоминая поездку во Львов — как кидались подушками? А кого видит вокруг себя героиня повести, Эна? Налево — «распахнутые люди-мостики», направо — «(плачет) люди-постаменты». Треугольники мерещатся? Но к чему эта смесь причудливых историй в духе французских визави Вознесенского — Арагона, Бретона и Сартра? Сосредоточимся на этажах, как и подсказывал поэт: есть нижнее, а есть и верхнее.
К чему приходят оба «я» поэта, терзавшие музу с двух сторон? К чему приходит вся страна, которую так же терзают искушения и страсти противоположных полюсов и лагерей? В голосе поэта — горечь безвозвратных шансов:
«Сейчас мне ясно, что кроме двух реальностей — материальной и потусторонней, существует и некая Третья реальность, я бы назвал ее „реальность возможности“, реальность иного прохождения жизни. Она, как горизонт, несущийся за поездом, преследует нас, рассматривает. Скрипки Энгра, Эйнштейна и Тухачевского ностальгически поют о ней.
И невозможное возможно».
Вознесенский верил прежде, что поэт может стать мостиком между несоединимыми полюсами и странами. В наступившем новом веке он вовсе не уверен в этом: «Не пытайся, поэт, стать мостиком / меж Америкой и Россией. / Громыхнули льдины громоздкие, раздавили». Почему?
Эти «почему» извергаются у поэта лавой вопросов — неконтролируемые, как у юноши, и жгучие, как вулкан:
«Господи, почему пошляки говорят о морали?
Почему заповеди Твои законспектировали полуграмотные рыбаки и мытари?
„Не убий“ — а если на тебя, на твою семью направлен автомат Калашникова?
„Не кради“ — а если вся страна коррумпирована?
„Кесарю кесарево“ — а Косову Косово?
„Не возжелай жены ближнего своего“ — а если жена ближнего и он сам возжелают тебя?»
Вопросы без ответов тонут в пространстве и времени. Вместе с любовью, которая — «просто мостик, / только с выломанными ступенями».
Смутный фон к происходящему в повести «Мостик»: «Карпаты. Бандеровцы. Диалог шел на пулях». Толстый Толик погибает от бандеровской пули за день до дембеля. Будущее тихо звякает в наивных разговорах из прошлого. То же озеро, затопившее расстрелянное гетто. «Дух этих мест, в офицерском френче без погон», подсел к костру, хихикает над лейтенантиками, съевшими ухи из свежей рыбы: «Как ваши кишочки? Урчат в них еврейчики? И Лермонтов ваш, я читал в книжке одной, тоже был этой нации. С мировой скорбью в глазах. Жаль, что Адольф не решил всей проблемы. Если бы он дошел до Владивосто…»
Герои шестидесятых, как дикари, не нюхавшие пороха принудительной демократии, врежут ему по роже, «дух» исчезнет. «Поэт Бизнесенский написал стихи. Даже его проняло. Дурновкусия стало меньше».
Предвидел ли поэт, куда свернет история уже после смерти его — что этот карпатский сюжет его повести сгустится вдруг, еще мрачнее? Но боль отчаяния будет, кажется, в каждой строке его «Похорон окурка»: «Держава сгорит. Нас мерзавцы раздавят. / Минздрав предупреждает. / Стреляем мы кучно, но все — в молоко. / Упокой, Господи, душу окурочка моего!»…
Треугольники рассыпались без мостиков, теряли смысл.
А если и правда — все дело куда как проще: лишь геометрия безжалостной ревности движет людьми и историей?
Краткость жизни — мгновенье чудное, между Черной речкой и Мойкой. Кротко лунные жрет жемчужины кот в помойке.Я бросал тебе в ноги Париж
Мы оставили Вознесенского с Ахмадулиной в 1965 году, в номере парижского отеля… Что произошло с тех пор?
А что бы ни произошло — в самых разных воспоминаниях как раз в этот период удивительно часто соседствуют именно эти два имени: Андрей и Белла. Вспоминает ли Татьяна Бек, как школьницей после вечера поэзии, замирая, ехала в одном троллейбусе с прекрасной парочкой только что выступавших поэтов. Или Тамара Жирмунская — про то, как страстно Белла «крутила баранку автомобиля, любила рискованную езду, ничего не боялась» — и тут же, следом, непременное напоминание: «Недаром Вознесенский написал: „Ах, Белка, лихач катастрофный!“».
И те, кто их демонстративно не любил, — все равно упоминали вместе: Андрей и Белла. У Лидии Чуковской в письме Давиду Самойлову (июнь 1978-го) и вовсе из имени одного — вытекает имя другой: «Кстати о Вознесенском: мне рассказывали, что Ахмадулина (та же порода) выступала в Америке на своем вечере в золотых (парчовых?) штанах. Подумайте, какой срам: первая (хронологически) женщина-поэт после Ахм<атовой>, попадающая на Запад, и — в золотых штанах!»
Тут замечательна, конечно, сама по себе нелюбовь к золотым штанам — но мы сейчас не про штаны.
На рубеже шестидесятых — семидесятых годов один за другим выплыли в свет два очень смешных романа. В шестьдесят девятом — «Чего же ты хочешь?» Всеволода Кочетова, в семидесятом — «Во имя отца и сына» Ивана Шевцова. Читать их совершенно невозможно — но именно поэтому они такие смешные. Авторы этих романов писали коряво — но оба не обошли вниманием Вознесенского с Ахмадулиной. Трудно отказать себе в удовольствии процитировать их.
В романе Шевцова (бывшего фронтовика, оставившего в литературе лишь след своей неуклонной борьбы с мировым сионизмом) в заводской Дворец культуры приезжают «самые молодые, самые популярные, самые-пресамые: Артур Воздвиженский и Новелла Капарулина».
Лучшие рабочие на такое мероприятие идти отказываются сразу: «А что я там не видел? Комедиантов?» Но кто-то на вечере все же начинает хлопать в ладоши. «Что там за энтузиасты? — озадаченно спросил Климов. — Не из литейного ли?» — «Нет, похоже, не наши, не заводские, — проговорил Коля, всматриваясь. — Какие-то пришлые».
Капарулина — «высокая сутулая девушка с растрепанными темными волосами и большими глазами, пожалуй, слишком большими для ее бледного мелкого лица», вещает «грудным с хрипотцой голосом»:
«— Мой великий друг Артур Воздвиженский, — и смолкла, ожидая привычных аплодисментов в честь „ее друга“. Аудитория молчала, не догадываясь, что именно в этом месте надо неистово аплодировать. Не дождавшись хлопков, поэтесса надула губки и продолжала: — …недавно рассказал мне о своей встрече с одним американским бизнесменом в Филадельфии…»
Надо ли объяснять, что модный поэт Артур Воздвиженский, мало того что с американским бизнесменом контактировал, он еще напоил советского человека и украл у него в ресторане партбилет, чтобы создать ему проблемы по партийной линии! Мелькнул в романе и мудрый товарищ маршал — чтобы обезоружить выскочку-поэта интересным вопросом: «А вы спектакль „Трое в постели“ смотрели?»
«— Знаю я эту пьесу, — ответил Воздвиженский, покачивая головой и пожимая плечами.
— Ну и как вы ее находите? — взглянул на поэта маршал.
— Дело субъективное: одним нравится, другим нет».
Маршал пригвоздил поэта еще вопросом про «физиологическую потребность» взамен любви. «И, не дожидаясь ответа, удалился».
Роман был душераздирающим. Шевцов искренен до озверения, настолько, что принять его не смогли и записные консерваторы. Впрочем, он умудрялся попутно оплевать всех — в том же шедевральном своем произведении пнул и доброго приятеля Вознесенского, «деревенщика» Владимира Солоухина — за богомольные наклонности.
С Кочетовым, автором почти одновременно сотворенного романа «Чего же ты хочешь?», Шевцов водиться тоже не желал. Причина была уважительная: жена у Кочетова — еврейка. Хотя, казалось, в их зубодробительных трудах было так много родственного… Впрочем, о Кочетове чуть позже.
Вознесенский и Ахмадулина в те годы будто нарочно дразнили любопытных, слишком часто и всюду появляясь вместе. Рядом были и другие — но какие-то сердечные ниточки все же связывали эту поэтическую парочку, что не заметить было трудно.
— Конечно, с Беллой у Андрея были отношения особые, — расскажет полстолетия спустя Зоя Богуславская. — Эти отношения можно назвать такой сильной дружеской влюбленностью, продолжавшейся до самых последних дней. Когда-то, узнав, что Андрюша женился (хотя мы еще не были официально женаты), она приехала в Переделкино в Дом творчества, где мы обитали (пока своей квартиры не было), и повесила мне на шею свой опаловый крестик. Это был такой жест, она сняла, встала на колени и сказала: «Он тебя выбрал»… На каждый ее день рождения Андрей ехал с самого утра к Белле с цветами… Ну, только в последние годы стало сложнее, это было связано и с его, и с ее болезнями, проблемами… Они же и похоронены всего в нескольких десятках метров друг от друга…
* * *
Их стихотворные посвящения друг другу чередовались, как черно-белые клавиши фортепиано. Такими яркими всплесками. Почти что переписка двух поэтов — водяными знаками, филигранью. То светлее светлого, то темнее темного. То нежнее, то укоризненнее. А то и вовсе молочными чернилами между строк.
Вознесенский — Ахмадулиной:
«Лишь один мотоцикл притих — / самый алый из молодых. / <…> Мы родились — не выживать, / а спидометры выжимать!.. / Алый, конченый, жарь! Жарь! / Только гонщицу очень жаль…». (1962. «Итальянский гараж».)
Ахмадулина — Вознесенскому:
«И я его корю: зачем ты лих? / Зачем ты воздух детским лбом таранишь? / Всё это так. Но все ж он мой товарищ. / А я люблю товарищей моих. / Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей, / выходит мальчик с резвостью жонглера. / По правилам московского жаргона / люблю ему сказать: „Привет, Андрей!..“ <…> И что-то в нем, хвали или кори, / есть от пророка, есть от скомороха, / и мир ему — горяч, как сковородка, / сжигающая руки до крови. / Все остальное ждет нас впереди. / Да будем мы к своим друзьям пристрастны! / Да будем думать, что они прекрасны! / Терять их страшно, бог не приведи!» (1963. «Мои товарищи».)
Вознесенский — Ахмадулиной:
«Люблю, когда выжав педаль, / хрустально, как тексты в хорале, / ты скажешь: „Какая печаль! / права у меня отобрали… / Понимаешь, пришили превышение скорости в возбужденном состоянии. А шла я вроде нормально…“ / Не порть себе, Белочка, печень. / Сержант нас, конечно, мудрей, / но нет твоей скорости певчей / в коробке его скоростей». (1964. «Нас много. Нас может быть четверо…».)
Ахмадулина — Вознесенскому:
«Ремесло наши души свело, / заклеймило звездой голубою. / Я любила значенье свое / лишь в связи и в соседстве с тобою <…> Но в одном я тебя превзойду, / пересилю и перелукавлю! / В час расплаты за божью звезду / я спрошу себе первую кару / <…> Так положено мне по уму. / Так исполнено будет судьбою. / Только вот что. Когда я умру, / страшно думать, что будет с тобою». (1972. «Андрею Вознесенскому».)
Вознесенский — Ахмадулиной:
«Мы нарушили кодекс людской — / быть взаимной мишенью. / Наш союз осужден мелюзгой / хуже кровосмешенья. / <…> Я бросал тебе в ноги Париж, / августейший оборвыш, соловка! <…> / И победа была весела. / И достигнет нас кара едва ли. / А расплата произошла — / мы с тобою себя потеряли. / Ошибись в этой жизни дотла, / улыбнусь: я иной и не жажду. / Мне единственная мила, / где с тобою мы спели однажды». (1972. «Мы нарушили Божий завет».)
Ахмадулина — Вознесенскому:
«Я — баловень чей-то, и не остается оружья / ума, когда в дар принимаю / твой дар драгоценный. / Входи, моя радость. / Ну, что же ты медлишь, Андрюша, / в прихожей, / как будто в последних потемках за сценой? / <…> Собрат досточтимый, / люблю твою новую книгу, / еще не читая, лаская ладонями глянец. / Я в нежную зелень проникну /и в суть ее вникну. / Как все зеленеет — / куда ни шагнешь и ни глянешь». (1975. «За что мне все это?..».)
* * *
Белла была не мимолетное виденье. Как раз в те годы — когда так церемонно цвел букет их нежностей с Андреем — бывшие мужья обрушились на Ахмадулину. Их нешуточная страсть была как варево любви и ненависти. Или попросту дикой ревности.
У Юрия Нагибина в дневнике она просто булгаковская инфернальная Гелла. Записи писателя в конце шестидесятых на глазах перетекают из крайности в крайность, до озверения.
«Основа нашего с ней чудовищного неравенства заключалась в том, что я был для нее предметом литературы, она же была моей кровью…»
«Сегодня ходил разводиться с Геллой. Она, все-таки, очень литературный человек, до мозга костей, литературный. Я чувствовал, как она готовит стихотворение из нашей встречи-расставания. Тут была подлинность поэтического переживания, но не было подлинности человеческой…»
«Рухнула Гелла, завершив наш восьмилетний союз криками: „Паршивая советская сволочь!“ — это обо мне. А ведь в тебе столько недостатков. Ты распутна, в двадцать два года за тобой тянется шлейф, как за усталой шлюхой, ты куришь до одури, ты мало читаешь и совсем не умеешь работать. Как ты утомительно назойлива! Вот ты уехала, и свободно, как из плена, рванулся я в забытое торжество моего порядка!»
И Евтушенко выстрадал в конце 1950-х «Вальс на палубе», в котором «там, в Москве, — зеленый парк, / пруд, / лодка. / С тобой катается мой друг, / друг / верный». Но все равно — «С тобой иду! И каждый вальс / твой, / Белла!». Теперь, в начале семидесятых, он с гениальной злостью вдруг выплеснет свои обиды: «А, собственно, кто ты такая, / с какою такою судьбой, / что падаешь, водку лакая, / и все же гордишься собой? / А собственно, кто ты такая, / сомнительной славы раба, / по трусости рты затыкая / последним, кто верит в тебя? / <…>А собственно, кто ты такая? / и собственно, кто я такой, / что вою, тебя попрекая, / к тебе прикандален тоской?»
В отношениях Вознесенского с Ахмадулиной этого не будет никогда: таких вот гневных извержений. Да и с чего бы? Вот, к примеру, как мирно решается непростая житейская коллизия в его «Старофранцузской балладе»: «Мы стали друзьями. Я не ревную. / Живешь ты в художнической мансарде. / К тебе приведу я скрипачку ночную. / Ты нам на диване постелешь. „До завтра, — / нам бросишь небрежно. — Располагайтесь!“ / И что-то расскажешь. И куришь азартно…»
«Прощай, — говорю, — мое небо, — и не по− нимаю, как с гостьей тебя я мешаю. Дай Бог тебе выжить, сестренка меньшая!» А утром мы трапезничаем немо. И кожа спокойна твоя и пастозна… Я думаю: «Боже! за что же? за что же?!» Да здравствует дружба! Да скроется небо.Не будем утверждать, что речь идет о Белле. Баллада датируется в собрании сочинений Вознесенского (2000–2006 гг.) 1972 годом. В сборнике «Дубовый лист виолончельный» — 1973-м. Но, так или иначе, на «художническую мансарду» она переселилась на правах хозяйки в семьдесят четвертом, выйдя замуж за Бориса Мессерера. Кстати, в первых изданиях была просто «мансарда». Позже добавилась «художническая». Конспирация? Так что совсем неуклюже — связывать «сестренку меньшую» из стихотворения с поэтической сестренкой в жизни. Догадки, домыслы? Они нам ни к чему. Просто есть случайные сходства, пересечения — а у поэтов в жизни вечно и сплошь внезапности…
Борис Мессерер скажет однажды, когда уже уйдет из жизни Белла, уйдет Вознесенский: «Я обязан Андрею и Зое моим союзом с Беллой (и нашей с ней нерасторжимой связью). Наши отношения с Андреем, Зоей и Беллой — это была какая-то круговерть встреч бесконечная…»
Будут периоды в отношениях Вознесенского и Ахмадулиной теплее или прохладнее, когда их взаимная нежность будет читаться не так очевидно, но будет слышаться в каких-то внезапных и тонких созвучиях. Даже тогда, когда Белла станет на вопрос интервьюера об Андрее Вознесенском отвечать, как будто невзначай, про свою дружбу с Андреем Битовым.
Уже в двухтысячных Вознесенскому едва не присудят Пушкинскую премию — все решит один голос, как расскажут Богуславской, — голос оказавшейся «против» Беллы Ахатовны. Ах, но ведь женщины вечно — все такие внезапные, такие противоречивые. Ну что с того? Человеческие слабости и страсти поэтов — земные продления их небесных дарований.
В том же 2002 году Ахмадулина напишет Вознесенскому ко дню рождения: «Что — слова? Что — докучность премий? / Тщеславен и корыстен долг: / в одном хочу быть наипервой — / тебя с твоим поздравить днем. / Китайская разбилась чашка, / Но млад китайский пёс — шар-пей. / Пора усладе уст в честь счастья / и возыграть, и восшипеть. / Будь милостив и не досадуй! /Я — наших дум календарю / служу: в День Августа двадцатый / тебе — твое стремглав дарю».
Что за день августа двадцатый? Время Яблочного Спаса? И пусть Ахмадулина посвятит «Ночь упаданья яблок» Семену Липкину. Пусть в «Яблокопаде» Вознесенского оживут другие музы. Тут все равно останется «таинственная страсть», невидимые нити.
И промелькнувший, кстати, у Ахмадулиной «шар-пей» в том же 2002 году вдруг аукнется — наверное, случайным эхом, — поэмой Вознесенского «Шар-пей». «От сплетни шрапнельной и прочих скорбей / спасет нас Шар-пей». Кто-то спросит у Беллы Ахатовны про эту поэму — она ответит загадочно: «Там какая-то тайна, которую мне Андрей не открывает. Я очень удивилась, когда вдруг появилось его сочинение, спрашивала, что это означает, но ответа не добилась…»
Такие — неявные, но от этого не менее привлекательные — отзвуки или созвучия случались постоянно. В 1970-х Ахмадулина увлеклась романтической перепиской Пушкина с Каролиной Собаньской (очаровательной одесситкой, в которой позже заподозрили шпионку из-за связи с Бенкендорфом и тайной полицией). Задуманную «Поэму о Пушкине» Белла Ахмадулина, правда, не допишет — останется и войдет в ее сборники «Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине».
В те же 1970-е Андрея Вознесенского по какому-то немыслимому совпадению заинтригует любовная переписка Пушкина с одесситкой Елизаветой Воронцовой, письма, сожженные по ее просьбе поэтом. Вознесенский напишет чудные стихи, озаглавив их инициалами «Е. W.».
Ничего общего — лишь воздушная легкость, прелестная подлинность чувств. Созвучие небесных колокольчиков.
У Ахмадулиной в «Отрывке…»: «Я не хочу Вас оскорбить письмом. / Я глуп (зачеркнуто)… Я так неловок / (зачеркнуто)… Кокетство Вам к лицу. / Не молод я (зачеркнуто)… Я молод…»
Когда я вижу Вас, я всякий раз смешон, подавлен, неумен, но верьте тому, что я (зачеркнуто)… что Вас, о, как я Вас (зачеркнуто навеки)…У Вознесенского: «Как заклинание псалма, / безумец, по полю несясь, / твердил он подпись из письма: / „Wobulimans“ — „Вобюлиманс“…»
…Родной! Прошло осьмнадцать лет, у нашей дочери — роман. Сожги мой почерк и пакет. С нами любовь. Вобюлиманс.* * *
Уже в новом веке, на склоне своих лет, Вознесенский скажет про Ахмадулину к какому-то ее юбилею: «Посмотрите, Белла все хорошеет и хорошеет, становится такой же воздушной, как ее небесная лирика…»
Ахмадулина в другой раз скажет про Вознесенского: «Мы всегда были очень дружны. Я писала стихи, ему посвященные… И я рада, что к этим стихам может быть эпиграф из… великого поэта — Пастернака: „Я не рожден, чтобы три раза смотреть по-разному в глаза“».
В начале 2010 года Андрей Андреевич, иссушенный болезнью, поделится с ней дурным предчувствием. Белла Ахатовна взяла его за руку и сказала твердо: «Андрюша, я переживу тебя ненадолго, ведь мы с тобой не разлей вода». 1 июня того же года Андрей Вознесенский уйдет из жизни.
«Мне безмерно горько, — скажет Ахмадулина. — Вряд ли вы сможете представить себе мое нынешнее состояние». Белла Ахмадулина скончается меньше чем через полгода — 29 ноября.
Кстати, если идти обыкновенным средним шагом, — от его могилы до ее ровно 77 шагов. Вознесенского завораживала магия цифр — вот и эти две семерки совпадают с числом прожитых поэтом лет.
Случайность, конечно. Но есть в этих цифрах какой-то гипноз.
* * *
…Что же касается бессмертного романа Кочетова «Чего же ты хочешь?» — то написан он, как говорилось, весьма коряво. Настолько, что и самые отчаянные догматики в лабиринтах власти пришли в недоумение. Гораздо веселее ходила по рукам написанная вслед пародия Зиновия Паперного «Чего же он кочет?» (хотя была еще и пародия Сергея Смирнова «Чего же ты хохочешь?»). Судьба у автора, между прочим, оказалась трагической. И вовсе не все в ней так однозначно. Всеволод Кочетов, с одной стороны, много помогал Василию Шукшину. С другой — не жалел себя в боданиях с «Новым миром» Твардовского. Роман этот стал для него последним. Задумывал он новых эпохальных «Бесов» — а вышло, что вышло. Через четыре года после публикации романа Кочетов застрелился, как Хемингуэй — из охотничьего ружья.
Роман его напичкан склоками тех лет. То есть подробностями кипучей жизни литераторов. Со всеми их сплетнями и нелепицами. Персонажей вычислить было нетрудно. Хотя насчет некоторых возникали разночтения. В образе главной злодейки, вражеской шпионки, узнавали Ольгу Леонидовну Андрееву-Карлайл. Вознесенский уточнит, кого имел в виду Кочетов. Оказалось, речь тут о Патриции Блейк, редактировавшей первое «Избранное» Андрея Андреевича в американском издательстве. Она часто бывала в СССР, писала о Солженицыне, дружила, кроме Вознесенского, и с Окуджавой. Была третьей женой Николая Дмитриевича Набокова, композитора, кузена автора «Лолиты»… При чем тут Кочетов? А вот что в эссе «Невстреча у источника» расскажет Андрей Вознесенский:
«Патриция Блейк, сероглазая, стройная, некогда модель „Вога“, девочкой бывшей подружкой Камю, приехала в Москву корреспонденткой журнала „Лайф“, попала в наш Политехнический и стала наркоманкой русской культуры.
В предисловии к сборнику рассказов Аксенова „На полпути к луне“ она записала свой разговор с В. Кочетовым, официальным классиком и пугалом для нашей интеллигенции.
„Номенклатурный писатель встретил меня, широко улыбаясь: ‘Вы видите, я не ем младенцев…’ — ‘Вы пришли к нему наверное после обеда, он уже откушал их’, — сказал мой московский приятель“.
Этим приятелем, увы, был я.
Кочетов отомстил и Патриции, и мне в романе „Чего же ты хочешь?“. Там шпионка Порция Браун инструктирует в постели гнусного поэта: „Надо писать стихи якобы про Петра I, имея в виду Сталина“. В известной пародии шпионка звалась „Порция Виски“.
…Но она продолжала неистово любить русскую литературу. Для моего тома она впервые на Западе применила русский метод перевода — когда с помощью блестящего лингвиста Макса Хейворда стихи переводили лучшие американские поэты У. X. Оден, С. Кьюниц, Р. Вильбур, В. Смит».
* * *
Сцена обольщения шпионкой Порцией Браун молодого русского литератора из романа Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?»:
«— Вот мы и одни, мой милый. Ты этого хотел, будущий великий писатель.
Не было никакого кофе, никакого вина. Русский парень торопливо расстегивал ее пуговицы, стаскивал одежды. Она смеялась:
— О мой милый Руслан! Так спешить нельзя. Спокойней надо, мой дорогой. А то ничего не почувствуешь, ничего не увидишь. Ты знаешь, как к философу Канту… Тебе знакомо это имя? Иммануил Кант? Это не здесь расстегивается. <…> Тьфу, какой ты сумасшедший!..
Потом, когда он лежал с краю постели и сбоку смотрел на нее, она сказала:
— Вот дурной, не дал досказать. Узнал бы, так, может быть, и не спешил бы так. Они, те ученики Канта, все-таки убедили своего учителя, привели к нему девицу, оставили на ночь. А утром спросили: ну как, что было, что он чувствовал? Он ответил: „Масса смешных суетливых движений — не больше“.
— Ты змея, — сказал молодой прозаик и начал одеваться. — Я тебе этого не прощу».
Глава четырнадцатая ПОШЛИ ЕМУ, БОГ, ВТОРОГО
Помнишь, Женя? Ты помнишь, помнишь!
Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко — два ключа к одному замку в одной двери, причем оба ключа — разные. Как такое возможно — разными ключами один замок? Да никак не возможно. Однако открывают дверь эпохи — оба.
Провернешь одним ключом — попадешь в пространство, совершенно отличное от того, что откроется, если воспользоваться ключом вторым. Что сказал бы об этом Эйнштейн, неизвестно, — но какое-то завихрение относительности тут очевидно. Самый башковитый слесарь замочного дела, случись ему разбираться с таким замком на трезвую голову, спился бы немедленно.
Однако с большими поэтами такое случается.
Вот, скажем, 27 ноября 1913 года Велимир Хлебников прочел в «Бродячей собаке» стихи, показавшиеся Осипу Мандельштаму «антисемитскими» и «негодяйскими». Немедленно назначили дуэль и стали искать секундантов. Сошлись на Викторе Шкловском — однако нужен был кто-то второй. Шкловский потом расскажет, чем дело обернулось: «Я пошел к художнику Павлу Филонову, рассказал ему. Как-то тут же в квартире Хлебников оказался. Филонов говорит: „Я буду бить вас обоих (то есть Мандельштама и Хлебникова), покамест вы не помиритесь. Я не могу допустить, чтобы опять убивали Пушкина, и вообще, все, что вы говорите, ‘ничтожно’“. Я спросил: „А что не ничтожно?“ — „Вот я хочу написать картину, которая сама бы держалась на стенке, без гвоздя“. Хлебников заинтересовался. „Ну и как?“ — „Падает“. — „А что ты делаешь?“ — „Я, — говорит Филонов, — неделю не ем“. — „Ну, и что же?“ — „Падает“. Мы постарались их развести».
Казалось бы, как картине висеть без гвоздя?
У Вознесенского из этого филоновского чуда вырастут стихи: «Умер он, изможденный профессией, / усмехнулась скотина-звезда. / И картину его не повесят… / Но картина висит без гвоздя».
У Вознесенского, надо заметить, эти стихи будут связаны с музами, «звездами» вполне материальными, — но речь о них впереди. Пока же скажем одно: в поэзии, где все же предполагается участие сил не только земных, но и небесных, обывателю многое кажется доступным: ну что там, кровь-любовь-морковь. Однако остается территория необъяснимого, и там картины висят без гвоздей.
Не стоит забывать про это — необъяснимое — даже когда покажется, что все понятно в многолетней ссоре давних друзей, Андрея Андреевича и Евгения Александровича. Дело, как ни верти, поэтическое.
* * *
Две истории, пожалуй, сначала. Обе — странные. Неясно, чего в них больше — сказанного или запрятанного между строк.
Первая история — про «Лестницу».
В 1968 году «Литературная газета» опубликовала интервью с Андреем Вознесенским (Ирина Ришина. «Необходимое слово — сжато»): поэт рассказал о том, что хотел бы создать «лабораторный творческий журнал „Лестница“». Вот есть «Вопросы литературы», журнал теоретический, а «Лестница» была бы изданием «практическим, малолитражным, экспериментальным». Ну, хотел бы и хотел. Ничего странного в таком желании не было — кроме того, что за этой идеей тянулся целый скандал. И собственно идея принадлежала Валентину Катаеву.
В 1955 году под руководством Катаева появился и расцвел журнал «Юность». Но прежде у него был опыт печальный и давний. В 1923 году январский номер журнала «Корабль» объявил: «Группой беллетристов возбуждено ходатайство о разрешении издания сатирического журнала „Ревизор“. Журнал, согласно проекту, не будет иметь ничего общего с желто-бульварными „юмористическими изданиями“. Редактировать журнал будет М. Булгаков».
Писатель Эмилий Миндлин вспоминал, что даже и редакция тогда была создана, и «всю молодую (стало быть, не больно сытую) литературную Москву облетело радостное известие: Михаил Булгаков в своей новой редакции каждому приходящему литератору предлагает стакан сладкого чая с белой булкой!». Этот прогрессивный способ привлечения молодых литераторов потом вовсю использует Катаев в «Юности». Но та редакция во главе с Булгаковым просуществовала лишь две-три недели: ни одного номера журнала «Ревизор» не появилось. В книге «Алмазный мой венец» Катаев описывал, как его прикрыли:
«Мы с Синеглазым (Булгаковым. — И. В.) быстро накатали программу будущего журнала и отправились в Главполитпросвет, где работал хорошо известный мне еще по революционным дням в Одессе товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и доброжелатель…» Однако друг Ингулов поинтересовался: «Что-то я не совсем понимаю, кого это вы собираетесь ревизовать?» После чего, не рассусоливая, объявил, что журнала не будет. Булгаков повел Катаева к себе домой есть борщ, тем дело и кончилось.
В 1961 году катаевская «Юность», нервировавшая легкостью дыхания блюстителей «люминия» и твердости идейной, напечатала повесть «Звездный билет» Василия Аксенова.
Катаев был знаменит не только как любимый ученик Бунина, но и как мастер ускользать от самых щекотливых ситуаций. Однако аксеновская повесть о четырех юных созданиях, стоящих на пороге жизни, потрясла основы семьи, частной собственности и государства. Три парня и девчонка, герои повести, оказались слишком живыми — страшно было читать, что за мысли у них в голове:
«— Знаешь, Галка, любовь должна быть свободной! — выпалил Димка.
— То есть? — Она смотрела на него круглыми невидящими глазами.
— Современная любовь должна быть свободной. Если мне понравится другая девчонка…
— Я тебе дам! — крикнула Галя и замахнулась на него.
— И если тебе другой…
— Этого не будет, — прошептала она».
Будет или не будет, но существовала версия, будто из-за этой повести Катаева заменил на посту главного редактора Борис Полевой. Всякое могло случиться. Хотя скандальный шлейф не помешал немедленно экранизировать повесть — фильм Александра Зархи «Мой младший брат» вышел уже в 1962-м. В годы оттепели случались и не такие парадоксы. По другой, правда, версии, Катаеву пообещали кресло руководителя «Литературной газеты», но обманули, посадив туда Александра Чаковского.
Так или иначе, Катаев был уязвлен. И с идеей нового журнала «Лестница» отправился к Петру Демичеву, главе Московского горкома партии, ставшему секретарем ЦК по части идеологии. Вместе с ним были молодые литераторы Вознесенский, Евтушенко и Аксенов. В журнале, объяснили они в свете злободневной проблемы «отцов и детей», молодежь сможет экспериментировать, а старшее поколение будет их направлять. И вроде бы Демичев спросил спокойно: чьим органом будет издание? А Катаев ответил нервно, дескать, ничьим: «Не хотим иметь дело ни с каким Союзом писателей». Ответил, заметим, не совсем случайно — это было время, когда Хрущев то собирался расформировывать творческие союзы, то сомневался… Но «Лестница» так и повисла.
Всплыла «Лестница» неожиданно лет через пять — когда поползли слухи о новом журнале, который откроет Евгений Евтушенко. То ли «Лестница», то ли «Мастерская». Собственно, рассказывал об этом сам Евгений Александрович. Якобы он собирался уезжать в командировку в Латинскую Америку — а тут звонит помощник Брежнева и передает просьбу генсека лично к товарищу Евтушенко: оставить предложения к предстоящему в мае 1967 года четвертому съезду писателей СССР (тому самому, на котором исключат из Союза писателей Солженицына). Евтушенко написал, что хорошо бы заменить председателя Союза писателей Константина Федина на Константина Симонова и открыть журнал «Лестница». Второе предложение и было поддержано. Вернувшись из поездки и узнав об этом, Евтушенко отправился к Катаеву, который уже знал обо всем и обсуждал эту новость с Вознесенским и Аксеновым. Дальнейшее, как рассказывает в своей книге «Евтушенко: Love story» Илья Фаликов, происходило красочно, но мрачно. Катаев спрашивал, почему он, не сказав ни слова, обратился к руководству страны, «спекулируя» их именами, «двое других поддакивали». Раз так, ответил Евтушенко, то обойдется «без них и без их имен». Наутро он отправился к Георгию Маркову, первому секретарю Союза писателей СССР, с новым заявлением об учреждении журнала. Тот показал ему письмо с тремя подписями, которое принес Вознесенский: он, Катаев и Аксенов сообщали, что к инициативе Евтушенко не имеют никакого отношения. Марков ехидничал: «либералы» между собой разобраться не могут, а хотят с «бюрократами» совладать…
Тогда и появилось интервью Вознесенского, в котором было про «Лестницу», но ни слова про Евтушенко. В итоге же — «Лестница» так никогда больше и не всплыла. Что тому виной: самолюбие, лукавство, соперничество? В жизни куда больше нюансов, чем можно втиснуть в однозначный ответ. Оскорбленными в этой истории считали себя все.
Евтушенко по горячим следам пафосно излил свой гнев на бывших компаньонов в «Волчьем суде»: «Однажды три волка / по правилам волчьего толка / на общем собранье / судили четвертого волка / за то, что задрал он, мальчишка, / без их позволенья / и к ним приволок, увязая в сугробах, / оленя».
Ответом Вознесенского стала прозвучавшая в «Антимирах» со сцены Таганки под гитару Высоцкого «Песня акына» — опубликуют ее в 1971 году: «И пусть мой напарник певчий, / забыв, что мы сила вдвоем, / меня, побледнев от соперничества, / прирежет за общим столом…»
Прости ему. Пусть до гроба одиночеством окружен. Пошли ему, Бог, второго — такого, как я и он.Евтушенко от этой «Лестницы» и вел отсчет их ссоры. Но «Лестница» назревала давно — и реакция всех участников конфликта была не случайной. Капля по капле — все к тому шло. Просто теперь — выплеснулось.
Впрочем, тут никак не обойтись и без второй истории. Если первая была рассказана в подробностях Евгением Евтушенко, то эта — Василием Аксеновым в уже не раз упоминавшемся романе «Таинственная страсть». В этой истории, как и во всем романе, не стоит искать буквальной точности событий. Аксенов ими манипулирует, смешивает в одном флаконе, переставляет местами, играет, как наперсточник, — но под его наперстками прячутся живые факты биографии. А это позволяет увидеть и с иной, немаловажной стороны — прекрасных и неповторимо молодых героев эпохи. Понять мотивы многих человеческих и поэтических поступков, жестов и событий.
Есть в романе колоритная сцена, когда Ян Тушинский (срисованный Аксеновым с Евтушенко) кидается навстречу чете Антоши Андреотиса и Фоски Теофиловой (условных Вознесенского и Богуславской). Но Антоша-Андрей посылает Яна-Женю куда подальше. «Что это с ним? „А ты не догадываешься?“ — сурово спросила его строгая красавица Теофилова и тоже прошла мимо».
В поисках разгадки этой странности автор тут же смакует выдающийся эпизод.
Майским утром компания из персонажей, очень похожих на Эрнста Неизвестного, Андрея Тарковского, Анатолия Гладилина, Василия Аксенова, Андрея Вознесенского, отправляется «на хаши в ресторан „Нашшараби“». Здесь же вдруг появляется парочка — Ян и Катюша Человекова, напоминающие Евтушенко с актрисой Татьяной Лавровой.
«Только после этого появления „хашисты“ стали обмениваться недоуменными взглядами. Во-первых, как получилось, что в их основной похмельной группе оказался не очень-то пьющий Антоша? Во-вторых, почему Катюша пришла утром с Яном, когда всем известно, что она прогуливается как раз с Антошей?»
А часа через два, когда все уже бодро захорошели, случился конфликт с некой группой молодых грузин, предъявивших недвусмысленные претензии «Кате Человековой». После чего случилась неизбежная драка — «даже Антоша воевал, смешновато как-то разбегался, прежде чем засадить». «Ну а Тушинский-то, где он, наш герой? Метрах в ста от места схватки он двигался быстрым шагом в сторону улицы Горького и посматривал на часы. На углу остановился и кликнул такси. Машина тут же подкатила, и он отбыл». Драка завершилась безоговорочной победой, и «Антоша» ушел вслед за музой «Человековой».
Автор романа, глядя им вслед, задумчиво подытожил: «Вот, собственно говоря, что имела в виду его восхитительная жена Фоска Теофилова (Аксенов и Богуславская вообще никогда не жалели друг для друга нежнейших эпитетов. — И. В.), когда обратила в сторону Тушинского довольно жесткий вопрос: „А ты не догадываешься?“».
Заметим и мы, закругляя эту историю для тех, кто любит объявлять шестидесятникам приговоры: а вот нет при всем при том в романе Аксенова героев «отрицательных».
Есть только жгучая тоска по тем упущенным мгновениям, «когда „хорошие парни“ стали качаться, когда наша дружба пошла наперекосяк».
* * *
Кружа в объятиях Парижа, Вознесенский наблюдал за гениальной парой — Андре Бретоном и Луи Арагоном. Он посвятит им много строк в своих воспоминаниях. Поэтам, неразлучно дружным в годы юности — и неразлучно враждовавшим весь остаток жизни. Причины ссоры их тонули в воронке времени, перемешивая все подряд — сюрреализм с марксизмом, Фрейда с антибуржуазными манифестами, эксперименты муз с чудесами поэзии. Было в их ссоре что-то гипнотическое — так будет гипнотизировать многих и ссора двух других поэтов, Вознесенского с Евтушенко. Почему они все же поссорились? Никто никогда не услышит внятного ответа.
«Чтобы голос обресть — надо крупно расстаться» — эта нервная строка вспыхнет в «Зареве» Вознесенского уже к концу шестидесятых. Возможно, в ней и Бретон с Арагоном могли бы услышать эхо своей вражды. Да только ли они?
Строка и Евтушенко зацепила. Именно так — «Чтобы голос обресть — надо крупно расстаться» — назвал Евгений Александрович свой отклик на сборник Вознесенского «Тень звука», вышедший в 1970 году.
Рецензия Евтушенко состояла из пылких признаний и немедленных оговорок. С одной стороны: «Вознесенский — один из самых моих любимых поэтов, и многие мои стихи родились в результате огромного эмоционального заряда, полученного от его магнетического таланта». Но при этом с другой: «Планку надо поднимать выше… Ведь то, что десять лет назад было мировым рекордом, сегодня может стать нормой перворазрядника». С одной стороны: «В своем предисловии Катаев справедливо замечает, что любая книга Вознесенского — это депо метафор». Но при этом с другой: «Стремление „красивизировать“ стих порой выглядит бестактно („чайка… как белые плавки бога“)…»
Отклик Евтушенко на сборник Вознесенского был пушист, как колючий ежик. Осадочек оставался. Куда ушли времена, когда они наперебой рассказывали о первой совместной загранпоездке — в Америку, где и гостиничный номер пополам делили? Когда Вознесенский на писательских собраниях выскакивал с отповедью тем, кто гвоздил Евтушенко, а Евтушенко вступался за Вознесенского, размашисто рисуя портрет собрата: «Он не вошел в поэзию, а взорвался в ней, как салютная гроздь, рассыпаясь разноцветными метафорами»?
Когда-то Вознесенский посвятил Евтушенко «Балладу работы»: «От плотской забавы / гудела спина, / от плотницкой бабы, / пилы, колуна… / <…> А он только крякал, / упруг и упрям, / расставивши краги, / как башенный кран». А Евтушенко посвятил Вознесенскому «Подранка»: «Сюда, к просторам вольным, северным, / где крякал мир и нерестился, / я прилетел, подранок, селезень, / и на Печору опустился». Позже Вознесенский расскажет, что они сами и выбрали друг у друга стихотворения, к которым приписали посвящения.
От тех времен до 2005 года — полвека утечет-перемелется. И Евтушенко вновь напишет Вознесенскому. «Хотел бы я спросить Андрюшу, / а помнит ли сегодня он, / как мы с ним жили душа в душу / под звуки собственных имен». Евгений Александрович напомнит эпизод — как шли под утро от Данелии, как в «Аннушку» набились после смены автобусники — «и „Три семерки“ из горла / нам родина преподнесла».
Один, глядящий всех бодрей, мне вдруг сказал: «Ведь ты Андрей?» А кореш в несколько мгновений Андрея разглядел: «Евгений?»Стихотворение Евтушенко появится в «Новой газете» 18 февраля — а уже 24-го выйдет ответный «Плач по братку» Вознесенского. «Помнишь, Женя? Ты помнишь, помнишь! / Свет лирических снежных лиц. / И кепарь твой раскраски пончо / звал на помощь всех фельдшериц! / Мы различны, пути отдельны, / разный шьют на нас компромат: / „Этот ходит хромой как демон, / тот башкой чуток захромал“…»
Но останутся не экраны и не выходы за флажки. Лишь слеза над башкой братана, больше нету такой башки.«Плач по братку» у Вознесенского — не случайность. Название отсылает и к евтушенковскому «Плачу по брату», написанному еще в 1974 году. Тот плач был посвящен геологу Владимиру Щукину, но было в нем и эхо ссоры с Вознесенским: «Двое летели они вдоль Вилюя. / Первый уложен был влёт, а другой, / низко летя, головою рискуя, / кружит над лодкой, кричит над тайгой / <…> Сизый мой брат, истрепали мы перья. / Люди съедят нас двоих у огня / не потому ль, что стремленье быть первым / ело тебя, пожирало меня? / Сизый мой брат, мы клевались полжизни, / братства, и крыльев, и душ не ценя. / Разве нельзя было нам положиться: / мне — на тебя, а тебе — на меня?»
Враждовать полвека, не испытывая друг к другу злобных чувств, — дело странное. Евгений Александрович на все вопросы непременно отвечает, что сталкивало их все-таки в большей степени близкое окружение. И не только их — а всех шестидесятников.
Нет здесь однозначного объяснения. Разве что — дело в ревности, все той же ревности, если понимать ее широко и объемно.
* * *
В начале шестидесятых, упоминая одного, непременно вспоминали и второго, а то и третьего, и четвертого… Вот даже в армейской газете «Пограничник» (1963. № 14. Июль):
«Ну а как же можно развенчать Евтушенко, Аксенова, Вознесенского, не зная, не цитируя их произведений?» — «Цитировать — значит пропагандировать!» (Э. Чепоров. «Холостой выстрел»).
Вот выступает Сергей Баруздин на VIII пленуме Союза писателей РСФСР: «Мы не нарушали норм собственного поведения и не вытворяли того, что вытворяли Евтушенко, Вознесенский, Аксенов, как в собственном Отечестве, так и за границей!»
Даже оправдывались — пусть вынужденно — они непременно всей компанией. «На пленуме прозвучала суровая критика неправильного поведения и легкомыслия, проявленного Е. Евтушенко, А. Вознесенским и мной. Я считаю, что критика эта была правильной!» — писал Василий Аксенов в «Правде» 3 апреля 1963 года.
И в 1968-м — даже в далекой «Магаданской правде» — их все еще клеймили оптом областные пародисты: «А ну-ка брысь! Куда ты прешься? Не евтушись! Не вознесешься!»
И Евтушенко в середине шестидесятых все еще уверял Ольгу Андрееву-Карлайл, что «Вознесенский и Ахмадулина являются нашими наиболее перспективными поэтами» (Пари ревю. 1965). Забавно, правда, что при этом Евтушенко, отодвигая Ахмадулину от Вознесенского, стал вдруг втолковывать Андреевой, будто Белла Ахатовна — это его, Евгения Александровича, жена, когда та давно была женой Нагибина…
Через несколько десятков лет Евтушенко опять скажет о них — но уже с ностальгической грустью: «Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина — замечательные поэты, они создали то, что редко кому удается: у них есть свой стиль… Но в личной жизни происходит то, о чем я уже как-то сказал. „Уходят друзья, кореша, однолетки, / как будто с площадки молодняка / нас кто-то разводит в отдельные клетки / от некогда общего молока. / Напрасно скулю по друзьям, как звереныш — / Друзей не воротишь…“» (ПМЖ. 1998. № 1. Май).
Но в начале шестидесятых они были заодно. И Вознесенский вспоминал Бретона с Арагоном, отбиваясь от тех, кого нервировали в поэзии дерзость и молодость: «А вдруг сбылась дадаистическая строка-стихотворение, которую в групповом экстазе совместно написали когда-то собратья Дали — сюрреалисты Андре Бретон, Поль Элюар, Макс Эрнст и Луи Арагон? „Изысканный труп будет пить молодое вино“».
Впрочем, молодость лишь сглаживала углы. До поры до времени. Вот любопытная анкета 1962 года. И тут уже один ровесник не упускает случая отодвинуть другого — вроде и говорит о нем по-доброму, но ставит на место, то прямо называя его, то под видом некоего знакомого поэта…
Из ответов Вознесенского и Евтушенко на вопросы анкеты журнала «Вопросы литературы» 1962 года:
«1. Какой жизненный опыт предшествовал началу Вашей литературной работы? Когда и где были опубликованы Ваши первые произведения?
Андрей Вознесенский: Я окончил Московский архитектурный институт. Много занимаюсь живописью. Думаю, что лучший способ набирания жизненного опыта — это жить. Этим я и занимался до начала литературной деятельности. Впервые напечатался в „Литературной газете“ в 1958 году.
Евгений Евтушенко: …До того как начать писать, я довольно много видел — это и война, и работа в колхозе, и на лесосплаве, и в геолого-разведочных экспедициях. Мне казалось, что я обладаю каким-то жизненным опытом. Моя первая книга „Разведчики грядущего“, изданная в голубой обложке, соответствующей содержанию, была преисполнена именно этой самоуверенности. Однако подлинный жизненный опыт пришел позднее — когда жизнь преподала мне свои первые уроки страданий, сомнений в себе, обманутости во многих людях… Самые первые мои стихи были опубликованы в газете „Советский спорт“ в 1949 году. Они были посвящены сравнительному анализу нравов американских и советских спортсменов. К поэзии они имели весьма приблизительное отношение. Единственно, чем меня можно оправдать, это тем, что мне тогда было пятнадцать лет и мне очень хотелось печататься.
2. Какие искания в области художественной формы представляются Вам наиболее перспективными?
Андрей Вознесенский: …Как и в архитектуре, в поэзии техника достигла высшего. Можно поставить здание на кончик иглы. Рифма надоела. Блистательно рифмуют все пятиклассники. В нашей поэзии будущее за ассоциациями. Метафоризм отражает взаимосвязь явлений, их взаимопревращение.
Впрочем, не в форме дело. Форма должна быть ясной, бездонно-тревожной и полной высшего смысла, как небо, в котором только радиолокатор может почувствовать присутствие самолета.
Евгений Евтушенко: …Сам я уделял этому недостаточное внимание, о чем искренне сожалею. Мнение, что, дескать, я что-то такое изобрел, преувеличено. Но я с радостной завистью слежу за формальными исканиями других. До сих пор не оценен вклад, который внес в развитие поэтической формы Семен Кирсанов. Не оценено и то многое, что вносит в это развитие Андрей Вознесенский. Но формальные искания ни в коем случае не должны вырастать до фетиша. Как-то я сказал одному поэту, выражаясь музыкальными категориями:
— В твоей поэзии слишком много полета валькирий и мало песни Сольвейг…
Поэт, к счастью, не обиделся и, кажется, понял. Если за нагромождениями самых блистательных рифм и головокружительных метафор теряется тоненькая родниковая беззащитность, то поэзия утрачивает свое аксиомное свойство — задевать душу человеческую… Что касается меня, то я, как ни эклектично это выглядит, хотел бы соединить в своей поэзии некоторые характерные черты Маяковского, Блока, Есенина и Пастернака. Как это у меня получится, разумеется, не знаю.
3. Кто из писателей старшего поколения оказывал Вам творческую помощь, в какой форме она выражалась?
Андрей Вознесенский: Борис Леонидович Пастернак. Он был единственным поэтом, которому я еще со школьных лет показывал свои стихи.
Евгений Евтушенко: Самая высшая творческая помощь старшего писателя — это его строгие и нежные глаза, наблюдающие за работой молодых. Я непрестанно чувствую на себе внимательные, желающие мне добра глаза таких разных поэтов, как Пастернак и Заболоцкий, Луговской и Кирсанов, Антокольский и Симон Чиковани. Некоторых из перечисленных мною уже нет в живых, но взгляды их глаз тем не менее я ощущаю. Серьезное влияние на мою поэзию оказало то, что осуществлено А. Межировым, а еще большее влияние оказало то, что им не осуществлено. Пристрастье и придирчивость Я. Смелякова и А. Твардовского в их разговорах со мной были также необыкновенно ценны для меня, хотя со многими их взглядами не могу согласиться.
4. Ваши ближайшие творческие планы?
Андрей Вознесенский: Поэзия — импровизация. Ее не запланируешь.
Евгений Евтушенко: Жить!»
«Ностальгия по настоящему» против «тоски по будущему»
Противоречия выплеснулись через край уже скоро.
В 1967 году в журнале «Литературная Грузия» философ Арчил Бегиашвили заговорил о двух поэтах, как о двух крайностях в понимании поэзии и окружающего мира:
«Вознесенский и Евтушенко представляют два противоположных понимания мира, два противоположных подхода к нему. Поэзия Вознесенского проникнута убеждением, что знакомый облик предметов, знакомые способы их существования скрывают их изначальные формы, изначальную сущность. Поэтому в нем ощутимо желание сорвать с предметов эти внешние, знакомые, но не истинные формы и пробраться к тем изначальным, „истинным“, которые скрыты от нашего взгляда. Евтушенко, напротив — весь доверен окружающему миру, его формам, его закономерному порядку. Его поэзия живет уверенностью, что мир, который окружает нас, есть „истинный“ мир…»
К началу 1970-х два поэта, две крайности, стреляться не стрелялись — но «полемизировали» уже вовсю. На вечерах, в которых участвовал один, — никогда не появлялся второй. Но это могли заметить лишь особо внимательные зрители и читатели. Они же, присмотревшись, легко обнаруживали странную перепалку в стихах Вознесенского и Евтушенко. Перелистаем сборники стихов тех лет.
Вознесенский пишет поэму «Лед-69»: «Утром вышла девчонкой из дому, а вернулась рощею, травой…» Евтушенко вдруг отвечает язвительно: «Но если б девчонка замерзла, / беззвучно шепча мои строки, — / вошла бы в меня, как заноза, / не гордость, а боль по сестренке» («Слова на ветер»).
У Евтушенко — «Интеллигенция поет блатные песни»: «Поют, как будто общий уговор у них / или как будто все из уголовников». И в другом стихотворении: «Меж нас царит угрюмый торг, / царит бессмысленная скука / или двусмысленный восторг» («Интеллигенты, мы помногу…»). Вознесенский будто в пику: «Есть русская интеллигенция. / Вы думали — нет? / Есть. / Не масса индифферентная, / а совесть страны и честь» («Есть русская интеллигенция»).
Вознесенский просит: «Тишины хочу, тишины… / Нервы, что ли, обожжены?» («Тишины!»). У Евтушенко тут же: «Поэзия, будь громкой или тихой — / не будь тихоней лживой никогда!»
У Вознесенского «Ностальгия по настоящему»: «Когда слышу тирады подленькие / оступившегося товарища, / я ищу не подобья — подлинника, / по нему грущу, настоящему». Евтушенко отвечает: «Тоска по будущему — высшая тоска, / гораздо выше, чем тоска по настоящему. / В очередях сыздетства настоявшемуся, / мне ностальгия эта не близка» («Сварка взрывом»).
В апреле 1973 года на Таганке пройдет премьера постановки «Товарищ, верь…», в которой, по задумке Любимова, одновременно пять Пушкиных. И один из этих Пушкиных, Валерий Золотухин, хитро запишет в дневнике 21 апреля про пересуды вокруг Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулиной:
«Достается Евтушенко за его принципиальность, беспринципность, широту, демократизм, за все, за все, что в нем уживается… С Андреем они не общаются, не здороваются, руки не подают… Как-то мы сидели в ВТО, день рождения Шацкой справляли, пришел поэт… „Можно, так приятно со своими, мне очень плохо, очень… Я сейчас завыл, заревел в машине… Правда, в своей машине не так уж плохо выть… Я знаю, на меня сейчас смотрят в театре — вот он Софронова привел… Других издателей у меня нет… И потом… А что Симонов, лучше?! Андрей не подписал письмо мое в защиту ‘Пушкина’… (Как и все спектакли Таганки, „Товарищ, верь…“ цензура приняла не сразу, да и критики не жалели. — И. В.) Когда татары нападали — более сознательные князья объединялись, а не объединялись — их били по очереди… что, он этого не понимает?! Я не в осуждение — а просто его понять не могу“… Андрей человек скрытный. Он никого не подпускает к себе и до себя, никому не открывается. Женя давал телеграмму в ЦК — танки ходят по Праге, танки ходят по правде — но потом было покаянное, оправдательное письмо… Белла сетует, что от такого поведения могут быть плохие стихи…»
* * *
Они носились по миру будто наперегонки, получали мантии одних академий и университетов, знакомились, дружили с одними и теми же знаменитостями, будто соревнуясь. Гонка окажется изнурительной, нервы станут сдавать. Но по-другому уже не получится. Характерный диалог: «У вас, кажется, не все гладко с Вознесенским?» — «Это у него с самим собой и со мной, а не у меня с ним».
Вознесенский пишет в «Литературке» о молодых поэтах — «Муки музы». Евтушенко ревниво заметит в той же газете о молодом Александре Щуплове: «Некоторые из молодых поэтов рядятся в парижский шарф Вознесенского на искусанной переделкинскими комарами шее».
«Естественно, ему больше нравятся его собственные стихи, написанные по поводу всех похорон, — напишет Вознесенский про Евтушенко. — Они длиннее и, стало быть, лучше. Когда-то, после того как я опубликовал восхищенную статью о Евтушенко, он позвонил мне и сказал: „Андрей, это лучшее, что ты написал за всю свою жизнь“».
Полемика с каждым годом будет все принципиальнее. Евтушенко бросит журналисту известинской «Недели»: «Вот Вознесенский сказал, что мне недостает природной яркости и я ее достигаю броскостью в одежде. Я что, буду рассуждать о его шарфиках?»
Вознесенский («Поэт на площади»): «Мне не верится, что это он сейчас поливает уязвленной грязью в прессе своих былых товарищей: Васю Аксенова, Беллу Ахмадулину и меня, конечно. Не надо выяснять отношения через газету. Иногда же он бывает в нашей стране, не все время живет в Америке. Приехал — набери телефон, позвони мне или Белле и скажи, что тебе не нравится. Мое отношение к нему, несмотря на все, остается неизменным. Ни я, ни мои друзья никогда не опускаются до брани в его адрес. Дай Бог ему гармонии и чтоб он написал что-нибудь, достойное его имени и таланта».
Евтушенко: «…Он пишет, что когда я, во время своих „редких“ приездов, бываю в России, я поливаю грязью его, Ахмадулину и Аксенова. Я не знаю, откуда у него такая паранойя. Я этим совершенно не занимаюсь. И никого из них никогда не обидел ни одним словом. Все это очень огорчительно, и я убежден: это происходит оттого, что какие-то люди пытаются нас поссорить, разбить поколение» (ПМЖ, 1998).
Вознесенский: «Вы знаете Анатолия Стреляного, конечно? Он публицист и одновременно основатель многотомной серии „Культура XX века“. Так вот, он подошел ко мне и попросил: „Андрей, сделай нам том поэзии“. Я сказал, давайте я сделаю вам том живописи, а поэзию пусть сделает Евтушенко… Таким образом я сосватал ему эту антологию, которая — одно из лучших произведений Евтушенко».
Евтушенко: «…Я не знаю, что его толкнуло, когда он давал интервью пару лет назад Андрею Караулову. На вопрос о моем месте в поэзии Вознесенский пожал плечами, какая-то странная ухмылка скользнула по его лицу и он сказал: „Ну, он же теперь живет в Америке“. Что значит, я живу в Америке? Я живу и в России, а в Америке преподаю русскую поэзию, русское кино… Я понимаю, если бы этот человек никогда не был в Америке и мне бы завидовал, но Вознесенский бывал в Америке не меньше, чем я. И не меньше, чем я, преподавал в американских университетах».
Зоя Богуславская вспомнит в разговоре, как уже во времена тяжелой болезни Андрея Андреевича позвонил Евгений Александрович: его американские студенты передали свои стихотворные опыты Вознесенскому — с просьбой отрецензировать. Зоя Борисовна попросила оставить их в почтовом ящике у ворот их переделкинского дома. Пообещала, что все передаст. Возможно, Евтушенко хотелось увидеться с самим Вознесенским, но состояние Андрея Андреевича было таково, что встречи не всегда были возможны. Он, говорила Богуславская, был страшно рад этим посланиям студентов. Сел за работу — две недели неотрывно. А потом, по ее словам, она так и не дозвонилась до Евтушенко, тот куда-то уехал, не перезвонил, рецензии Вознесенского не забрал… Богуславская сказала мужу, что все отдала.
Ссора с годами стала, увы, и коммунальнее, и печальнее. Многие обиды с течением времени теряли смысл и актуальность. Сотни людей могли просто по-человечески вспомнить о каждом из них — как одним бескорыстно помогал Вознесенский, другие находили поддержку у Евтушенко. А что касается поэзии — тут без преувеличения можно утверждать, что целые поколения, миллионы искренних и страстных читателей выросли на их стихах, их песнях, спектаклях и книгах.
При чем тут эта их ссора?
Правда заключается в том, что была такая странная страна читателей, которой «до лампочки» было, кто из писателей что и с кем не поделил, — они читали и любили, больше, меньше или равно, и Вознесенского, и Евтушенко, и Аксенова, и Рубцова, и Шукшина, и Астафьева, и Распутина… Тем читателям открылись наконец и целые залежи «запретного» литературного богатства — погибших, репрессированных, забытых, так же ссорившихся насмерть и так же неразрывно связанных друг с другом поэтов и писателей.
Им было что любить: литература представлялась большой, многогранной и ценной.
В 1990-е годы Валентин Распутин, с болью говоря о ссорах глобальных, о размежевании литераторов, подведет черту: «Раскол в литературе был неизбежен и, думаю, полезен».
Трудно спорить с классиком, да и незачем. Страна читателей в девяностых скукожилась, как и сама литература. Возможно, новым поколениям когда-нибудь и откроется: какая от этого была польза.
* * *
В январе 1984-го Белла Ахмадулина напишет веселое письмо Василию Аксенову в Америку: «Васька! Рассмешу тебя. Пришел режиссер, как люди говорят: благородный и не благополучный, Булат просил принять, иначе бы — не приняла. Я очень занеслась в моей отдельности. Да, я занеслась в моей отдельности, а его предполагаемый (уже начатый) фильм — о единстве поколения, о шестидесятых годах. Я сказала: валяйте, снимусь, но не с Евтушенко и Вознесенским, а — с Аксеновым, Войновичем и Владимовым: мы и впрямь не разминулись. Баба-ассистент мне говорит: „Б. А., но ведь это — невозможно“. Говорю: вот и я о том же. А Борька (муж Ахмадулиной. — И. В.) — еще был грубее и справедливей…»
После 1974 года, когда Белла Ахатовна вышла замуж за художника Бориса Мессерера, теплота их отношений с Вознесенским постепенно стала вытесняться сдержанной холодностью. Что мог ответить ей Аксенов? Он и в двухтысячных повторял, что они с Беллой и Андреем друзья, а с Женей «почему-то нет».
Весной 1986-го в одном из писем Ахмадулиной тот же Аксенов удивленно сообщит: эмигрантский журнал «Грани», цитируя стихи Беллы, исправил слово «предательство» на «враждебность». Может, просто ошиблись, но смысл цитаты приобрел иной оттенок: «К враждебности таинственная страсть, / друзья мои, туманит ваши очи…»
Увы, и на шестидесятников накатывала эта всеобщая враждебность, туманившая очи. Досадно…
* * *
На две истории о том, как начиналась ссора — есть три, как минимум, истории о том, как Вознесенского «мирили» с Евтушенко.
В своей книге «Я тебя никогда не забуду» Феликс Медведев вспоминает: в самом начале «перестройки», зимой 1987 года, в редакции журнала «Огонек» «возникла почти утопическая идея собрать вместе для коллективного интервью поэтов-шестидесятников Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Окуджаву. Б. Ахмадулину и Р. Рождественского». Медведев «известил об этом Андрея, он назвал идею журнала гениальной». Собрать всех вместе оказалось не просто. «Белла Ахмадулина отказалась участвовать в этой „вечере“. Как мне показалось, не просто из-за недомогания, а по принципиальным соображениям. Правда, известила меня, что мы можем поговорить отдельно, у нее дома».
Четверо собрались на даче у Евгения Евтушенко. Знаменитое фото Бальтерманца, на котором они снова вместе, украсило обложку «Огонька» 28 февраля 1987 года. Вознесенский на той исторической встрече начал свой рассказ словами: «Какие мы были? Мы были тощие и уже тогда ничего не боялись». Разговор длился два часа. И — бывшие друзья пожали друг другу руки. Многомиллионный тогдашний тираж «Огонька» разлетелся из киосков мгновенно. Редакция утонула в мешках писем со всего света.
А в книге «Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить!», составленной Анной Саед-Шах, — история от журналиста Льва Колодного. Так вышло, что на Масленицу в 2008 году у него собрались именитые гости, «Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко оказались за одним праздничным столом. И… пожали друг другу руки. Спустя тридцать лет. Все эти десятилетия длился их напряженный молчаливый диалог: кто первый? И вот они встретились, посмотрели друг на друга, — и у обоих в глазах появились слезы. Одному — уже 75, другому — вот-вот стукнет. И оба они — первые! И в каком-то смысле — последние…»
Третья история от поэта Олега Хлебникова (из книги «Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить!»). Сосед по Переделкину, он тоже вспоминал, как хотел помирить друзей-врагов. Однажды Евтушенко ждал у него обещанного Вознесенского, да не дождался, — а только он уехал, будто нарочно тут же появились Андрей Андреевич с Зоей Богуславской. После той своей попытки не советовал Хлебников разбираться в темной истории их ссоры — в ней все равно останутся сплошные заковыристые странности.
Четвертого июня 2010 года на панихиде прощания с Андреем Вознесенским в Большом зале ЦДЛ Евгений Евтушенко произнес едва ли не самую трогательную речь об ушедшем поэтическом собрате. И прочел стихи:
Не стало поэта. И сразу не стало так многого. И это теперь не заменит никто и ничто.* * *
Через пару лет, в 2013-м, в телеинтервью Соломону Волкову Евтушенко, громокипя о сложностях своих отношений с Иосифом Бродским, между прочим бросит одну реплику о Вознесенском. Волков вспомнит о встрече с Хрущевым: почему Евтушенко стукнул кулаком по столу, а Вознесенский не стукнул в ответ на крики вождя? Евгений Александрович парирует мгновенно — ну так это ж Вознесенский, а он-то, Евтушенко, совсем другое дело.
Это рефлекс такой. Привычка. За плечами годы борьбы за «первенство» — скажи-ка, дядя, ведь недаром?
Развяжи мне язык, муза огненных азбучищ
А пока октябрь 1967 года. «Паутинки летят. Так линяет пространство. / Тянет за реку. / Чтобы голос обресть — / надо крупно расстаться, / зарев, / зарев — значит „прощай!“, / зарев — значит / „да здравствует / завтра!“».
После летних скандалов с письмом в «Правду», после бурного Новосибирска, где Вознесенского выставили из гостиницы как шпиона, он снова появился в редакции «Литературной газеты». С главами из новой поэмы «Зарев».
Вопрос о публикации решался основательно и на высоком уровне.
«Вознесенский приехал в 5 часов вечера вместе с сотрудником аппарата ЦК Альбертом Беляевым (кажется, зав. сектором, точно не помню), — напишет журналист тогдашней „Литературки“ Юрий Синяков в „Московской правде“ полвека спустя. — Всего час назад об этом визите звонили Сыру (В. А. Сырокомский — тогда первый заместитель главного редактора. — И. В.). А вскоре о приезде Андрея уже знала вся редакция… И вот представители газеты, ЦК и Вознесенский сели за стол переговоров. Кажется, за бутылкой коньяка они сумели все-таки договориться, и вскоре Андрей пошел в машбюро перепечатывать поэму… В полночь набранные главы поэмы стояли в полосе…
Пока поэма правилась, мы прогуливались по коридору. Он говорил, как поэма утверждалась на секретариате Союза писателей. Почти все были ‘за’, ‘против’ — только ваш Чаковский, — усмехнулся Вознесенский. — Он назвал ее потугами импотента. Я ответил: Вам, Александр Борисович, видней…»
«Зарев», объединивший подборку стихотворений в «главы из новой поэмы», был опубликован в «Литературке» 25 октября 1967 года. Что за «зарев», Вознесенский объяснял так: это древнерусское, языческое название месяца августа. «Правда, красиво? Это был месяц осеннего рева зверей».
Ах, неспроста волновался Чаковский, поминая импотенцию. Ох, не зря волновались в ЦК. И ведь было о чем. «Зарев» пульсировал экологически чистой энергией. Силой молодости, напрягшейся перед звериным гоном.
«В левом верхнем углу жемчужно-витиеватой березы / замерла белка, / алая, как заглавная буквица / Ипатьевской летописи».
Секретарши леса — лесалки в мини «ткут опись леса, / и Тьму Времен, / и Лист летящий, / и Осень с Летом».
Какое женское волненье в дрожаньи воздуха! Каких постановлений тыщи, в ветвях витая, стучит твой пальчик, неостывший после свиданья?«Когда он стоит перед микрофоном, кажется, что сильный ветер ворвался в него. Его глаза сверкают, его руки простираются ввысь, из его губ выкатывается тревожное, золотое тремоло, которое гремит и в театре, словно заклинание в средневековом Киеве», — писал про Вознесенского журнал «Тайм».
По просьбе студенческой радиостанции KSMC колледжа Святой Марии в Калифорнии обозреватель Московского радио Вадим Голованов в 1967 году отправился к Вознесенскому брать интервью (оно опубликовано тогда же в журнале «Радио и телевидение»). Застал у него Виктора Бокова — тот угощал яблоками из своего сада. Похрустели, поговорили. О вдохновении: «Я бы сказал, что вдохновение — как влюбленность, — сказал Андрей Андреевич. — Поэму „Оза“ — это моя любимая вещь и она сравнительно большая для меня — я написал за месяц. А иногда месяцами ходишь — и ни строчки».
Поэт объяснил, что «поэзия в мире стала сегодня лидирующим искусством».
«Человек инстинктивно боится потеряться в этой якобы наступающей роботизации мира… Как витамины во время цинги, ищет нечто живое, что не может создать машина».
* * *
Вот-вот отворятся семидесятые, а там иные времена. «Мы лесам соплеменны, / в нас поют перемены. / Что-то в нас назревает. / Человек заревает».
Вознесенский, не идеальный, не выдуманный, а живой, нелепый, противоречивый, гениальный, — останется сам по себе. Отдельный. В сладком ужасе одиночества — с которым жить невыносимо, но без которого никак нельзя.
Нас, может быть, четверо? Но каждый по-своему был — одинок.
Вознесенский, все еще худенький, все еще с тонкой шеей, — а энергии на четверых. Какими лесалками навеяны его фейерверки чувств? Жажда любви, способная смести любые сухостои, распахивала настежь дверь — а уже врывалась новая эпоха, семидесятые:
«Освежи мне язык, / современная муза. / Водку из холодильника в рот наберя, / напоила щекотно, / морозно и узко! / Вкус рябины и русского словаря…»
Онемевшие залы я бросал тебе под ноги вазами, оставляя заик, как у девки отчаянной, были трубы мои перевязаны. Разреши меня словом. Развяжи мне язык.ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 1971–1988 КАК КРИЧИТ ПОЛОСКА СВЕТА, ПРИЩЕМЛЕННАЯ ДВЕРЬМИ
Пять загадочных событий
Июнь 1972 года. «Глубокая Глотка» ставит Америку на уши. Порнографическое кино впервые выходит из «подполья» на широкий экран. Звучит лозунг «Линду Лавлейс — в президенты!». А куда же еще с такими волшебными актерскими данными главной героини? «Глубокая Глотка» — проклятие американских президентов. Через два года Никсон слетает с поста президента после скандала, который раздул спецагент ФБР по кличке «Глубокая глотка». Очевидно, что власть не устояла перед «волшебной силой искусства».
1 ноября 1972 года. Эзра Паунд, названный «самым выдающимся поэтом Америки двадцатого века», умер в Венеции. В Штатах его долго «лечили» в психушке, потом выставили из страны. Сложные сочинения Эзры спецслужбы считали шифровками. Эзра обожал фашистов и призывал Рузвельта объединиться с ними, чтобы добить советских «жидов и большевиков». Но когда тот не послушался, Эзра объявил, что Перл-Харбор подстроил «Рузвельтштейн», за которым стоят опять же сионисты, банкиры и ростовщики… Менее выдающиеся поэты так высоко не летали.
25 марта 1974 года. Василий Шукшин в «Калине красной» горевал: жаль, Люба, ты не видела, «что я эти деньги вонючие презираю». Из последнего фильма Василия Макаровича пошел и афоризм: «Народ для разврата собрался!». Знаменитый кинорежиссер, немец Райнер Вернер Фасбиндер, заявил, что «Калина красная» — в десятке самых его любимых фильмов всех времен и народов.
1975 год. Нападающий канадской хоккейной сборной Пол Гарнет Хендерсон, вырвавший своим последним голом победу в головокружительной суперсерии СССР — Канада 1972 года, так и не пришел в себя от нервного потрясения — и ушел в монастырь грехи замаливать. Но прежде отчитал коллегу по команде Бобби Кларка: нечего было калечить Харламова, такой хоккей нам не нужен, товарищ Боб! Почти слово в слово вслед за нашим комментатором Николаем Озеровым.
15 июня 1985 года. Субботним утром 48-летний житель Каунаса Бронюс Майгис покусился на голую женщину в ленинградском Эрмитаже. Невзрачный сморчок выплеснул на «Данаю» Рембрандта из банки серную кислоту. И с криком «Свободу Литве!» ударил полотно ножом. Два раза. Вот до чего довел человека кровавый режим. Бронюса Майгиса отправили вместо тюрьмы в психбольницу. Позже, в «свободной Литве», Майгис ходил уже гоголем. Боролся же. За общечеловеческие ценности прирезать мог запросто.
Из словарика студента МАРХИ:
Собакалипсис — самое массовое собрание сук и кобелей, которые сливаются в единое чудище обло, озорно, стозевно и, естественно, лаяй.
Сосердцание — то самое (не путать с созерцанием!), что вас к природе пригвоздит, и отчего в глазах — то лес сквозит, а то осока с озерцами.
Авось — самое непереводимое русское словцо, которого долго не мог понять кутюрье Карден, — пока объясняли, граф Резанов с лошади-то и упал.
Люболдинская осень — самое стихотворное время года, когда неважно, кто да что — Люзина? Люся? — лишь бы любила, и — писать, писать, писать.
Алчь — самое душеразъедающее качество, быстро приобретающее глобальный характер и отличающее человека, способного сожрать другого человека, — от животного, которому алчь неведома.
Поэтические сборники Андрея Вознесенского:
Взгляд. М.: Советский писатель, 1972.
Выпусти птицу! М.: Современник, 1974.
Дубовый лист виолончельный. М.: Художественная литература, 1975.
Витражных дел мастер. М.: Молодая гвардия, 1976. Соблазн. М.: Советский писатель, 1978.
Безотчетное. М.: Советский писатель, 1981.
Иверский свет. Тбилиси: Мерани, 1984.
Собрание сочинений: В 3 т. М.: Художественная литература, 1983–1984.
Прорабы духа. М.: Советский писатель, 1984.
Ров. Стихи и проза. М.: Советский писатель, 1987.
«10, 9, 8, 7…» М.: Правда, 1987.
Глава первая ЛЕТАЮЩИЙ МУЖИК
Но правды нет и выше
Из псов, как из зажигалок, светят тихие языки. Он бежит по нейтральной полосе, полы брезентового плаща стучат по ногам — ноги все непослушнее — а сзади ближе, ближе — он и подумать не успевает, насколько быстро… Тяжелая овчарка сшибает с ног, и если бы не наглухо застегнутый капюшон, вцепилась бы в горло — ей, овчарке, все равно, поэт, не поэт, она при исполнении, на службе.
Будто про нее, про такую вот страшную псину, совсем недавно он задорно выписывал строчки: «В „Откровении Иоанна“ / упомянут подобный зверь. / Грозный зверь по имени Фатум, / и по телу всему — зрачки. / Этот зверь — лафа фабриканту, / выпускающему очки…»
Будто целая свора таких же псин — по имени Фатум — много лет спустя сорвется с цепи и настигнет его, дружелюбно гулявшего в переделкинском поле. Что за намеки рока, что за странные пересечения? Собакалипсис какой-то.
И стоял я, убийца слова, И скрипел пиджачишко мой, Кожа, содранная с коровы, Фаршированная душой.Впрочем, с точки зрения буквоедской, стихотворение семидесятого года «Собакалипсис» поэт посвятил «милым четвероногим слушателям Университета Саймон Фрейзер», по следам своей канадской поездки…
А теперь Вознесенский лежит на нейтральной полосе, в него вцепился неизвестный Джульбарс, к нему бегут пограничники… Дело было в Бресте.
Вознесенского зазвали в гости на заставу. Поэт зачем-то поинтересовался: как тут ловят нарушителей границы? Гостеприимные хозяева восприняли вопрос как просьбу — гостя тут же нарядили в защитную спецодежду, предложили сыграть роль лазутчика. Пробежать он смог недалеко…
Овчарку, конечно же, быстро убрали. Ну как? Хозяева светились от счастья — такое приключение устроили поэту!
Поэт поспешил заверить их, что теперь он за границу спокоен: перебежчикам явно не позавидуешь. Историю эту, впрочем, он постарается забыть, как страшный сон. А очевидцы могли разукрасить историю, как угодно, — на то и очевидцы, чтобы разукрашивать.
* * *
В Бресте Вознесенский оказался не случайно — он бывал здесь частенько. Не только в Бресте — у него в Белоруссии было много хороших друзей. Но в Бресте был друг особенный.
Тут, впрочем, надо перейти к вопросу о силе гравитации.
Казалось бы, чего проще: яблоки падают, коровы не летают, потому что притягиваются к поверхности Земли. Теория относительности чуть усложняет: в гравитации проявляется искривленное пространство-время. Премудрых объяснений миллион. Одного объяснить не может никто: откуда мужики летающие берутся? Ну, те, которые вопреки — силе тяжести, искривлениям времени и человеческой глупости.
С конца шестидесятых Андрей Андреевич вдруг повадится наезжать в гости к молодому председателю колхоза «Советская Белоруссия» Бедуле. Звонит ему: «Владимир Леонтьевич, мне бы на несколько дней где-то спрятаться. Примешь?» И прямиком — в деревню Рясна. Бедуля всегда гостю рад. Он тут в председателях с 1956-го, ну, с того самого года, когда, например, была выпущена советская почтовая марка ценой в 40 копеек, с изображением Никитки Крякутного, «первого русского летуна». Неизвестно, знал ли про такое совпадение поэт, — но стихи о Бедуле по какому-то наитию назовет «Летающий мужик»: «Нет правды на земле. / Но правды нет и выше. / Бедуля ищет правду под землей. / Глубоко пашет и, припавши, слышит, / как тяжко ей приходится, родной!»
Его и славословили, и крыли. Но поискам — не до шумих, Бедуля дует на подземных крыльях! Я говорю: «Летающий мужик»…Бедуля сам по себе — мужик выдающийся. Но почему — «летающий»? Образ летающего мужика людям внимательным явно напоминал о четырехминутном эпизоде из опального фильма 1966 года «Андрей Рублев» — с тем же Никиткой Крякутным. Андрей Тарковский, одноклассник Вознесенского, вставил в свой фильм странного и яркого, не от мира сего, поэта Николая Глазкова в роли летящего с колокольни на самодельных крыльях мужика. Время было такое: поэтов и режиссеров тянуло к «мужикам», умеющим летать над прозой обыденщины.
Над Беловежьем плакала Вселенная. И нету рифмы на ответный тост. Но попросил он «Плач по двум поэмам». А я-то думал, что Бедуля прост.Чем был близок Бедуле «Плач по двум нерожденным поэмам» — этот крик души поэта о тех, что «столько убили в себе, не родивши»? О тех, что «себя промолчали — все ждали погоды»? О «памяти нашей, ушедшей как мамонт»? Он проработает председателем колхоза 50 лет и один месяц — и в 2013 году, в свои восемьдесят шесть, будет перечитывать эти строки, будто не о вчерашнем, будто о сегодняшнем: «Зеленые замыслы, встаньте как пламень, / вечная память. / Мечта и надежда, ты вышла на паперть? / вечная память!»…
Как вы понимаете идеологию? — спрашивали у Бедули. А он: «Это такие порядки вокруг нас, понятные нам, которые нас и воспитывают».
Спрашивают «летающего мужика» про интеллигентность. А он: «Это внутренний запрет на такое, увы, распространенное свойство человеческой культуры, как думать одно, говорить другое, а делать третье. И еще это готовность помочь конкретному человеку немедленно, когда есть в этом горячая необходимость». Просто и понятно.
К Бедуле заедет Святослав Рихтер — благо есть рояль в ДК. Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Василь Быков, Михаил Ульянов, Георгий Жженов, Нонна Мордюкова, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, «Песняры», хор имени Пятницкого (трижды) — да кто только не побывает там! Из колхоза, не откуда-нибудь, впервые будут транслировать на всю большую страну «Песню года — 87». Надышавшись у Бедули, Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым на одном дыхании напишут знаменитую свою «Беловежскую Пущу».
Какой еще председатель колхоза мог сорваться в Москву в январе 1988-го — на 50-летие Владимира Высоцкого?! Годы спустя Бедуля вместе с сыном Валерием будут вспоминать, как приехали вдвоем, представительные, в костюмчиках, милиция стала оттеснять толпу от дома Высоцкого, а их уважительно обходила. Так и остались вдвоем, окруженные милицией. Вечером на кладбище у могилы Высоцкого опять толпа, и их уже узнают, как своих…
Друзья прозвали Бедулю «заслуженным хулиганом БССР». Мог он, мог — на юбилее актера Николая Еременко, к примеру — вспомнить вдруг про секрет красоты 120-летней француженки Жанны Кальман, у которой одна морщинка — да и на той она сидит… Или такая шуточка Бедули: «Мудрый дает, когда не просят, средний — когда просят, дурак — отказывает всегда. Но это не касается женщин!» Вознесенский и сам любил языковые хулиганства — и Бедулю за это ценил.
В эссе «Три бабочки культуры» он напишет о белорусском друге: «Зря разве Владимир Бедуля, земляк Шагала, ломающий бюрократизм и рутину, хочет, чтобы его колхозники в клубе внимали сложной игре Святослава Рихтера и хоральной ноте Беллы Ахмадулиной? Именно у него во время выступления мне подали из зала записку с вопросом о творчестве Элиота. Это случилось, когда у нас еще книги Элиота не издавались. Вряд ли это говорит о том, что наши колхозники поголовные эстеты, — просто, вероятно, непохожий художник помогает им в их практике мыслить и поступать нешаблонно».
Полвека спустя Владимир Леонтьевич, тяжело переживая смерть друга-поэта, вздохнет: «Мы вообще были с ним во многом схожи. Летали…»
В 2006 году Бедулю отправят в отставку, яблоневый сад в колхозе тут же выкорчуют, музей хлеба упразднят за ненужностью, Дворец культуры, видевший столько знаменитостей, сколько не видела ни одна деревня на свете, будет тихо осыпаться. Колхоз «Советская Белоруссия» расформируют, сделав из него отделение соседнего свинокомплекса. Поэты к тому времени ездить туда перестанут.
Ах, когда еще это случится! В семидесятые казалось — никогда. А всего полвека пройдет, и останется от времени больших надежд — отделение свинокомплекса. Необъяснима, кажется, метаморфоза — но таковы приметы иных времен.
Хотя мужику-то у Вознесенского время нипочем — летит себе, летит.
Мефистофель глубже Фауста
Самолет из самого Парижа доставил Вознесенского в Москву — и вдруг поэт рванул на вокзал, на Белорусский, как был, с чемоданами, бирки не оторвав. В беловежской Рясне его уже ждали, телеграммой извещены. Потом кто-то вспомнит, что он приехал не один, а… с музой, причем у деревенских-то глаз наметан, музу они сразу опознали: ой, так это ж знаменитая…
Председательская «Волга» по щебенке шинами ш-шаркнула, как перед гостем дорогим положено: пыль завихрилась и поэт с Бедулей унеслись в беловежские дали семидесятых, кажется, к славному озеру Свитязь. Догоним их чуть позже.
* * *
Возможно, невпопад, а может, напротив, сон в руку, но случайно подвернулись в Интернете рядовые пересуды двухтысячных годов — неведомые люди завели шарманку про семидесятые:
«Татьяна П. Я хочу домой, в СССР, в семидесятые годы, машину времени еще не придумали? У вас здесь очень погано.
Выдр. Меня захвати — я с тобой. <…>
Неформало4ка. Я бы не сказала… постоянно пугали в „Правде“ американским империализмом… бомбами… учили собирать Калашников и еще был Афган.
Мир(хаос)ный. Опять нытье! На фиг СССР? Лучше 3000-й год». И т. д., и т. п.
О чем они? Что за нужда вспоминать те несносные годы, когда, говорят, даже школьников пытали — сочинениями на тему «Опусы тов. Брежнева посильней, чем „Фауст“ Гёте»?
В XXI веке подрастут поколения, для которых семидесятые состоят из однообразных злодеев, бескорыстных мучеников и полуголодной бессловесной массы… Ничего такого в чистом виде, разумеется, не существовало. А с точки зрения обыденной — течение жизни страны казалось явно безмятежнее прошлого. Многим даже скучно было думать, что так будет всегда.
Никто не мог и предположить, что в будущем как раз придется погрустить об этой самой утраченной безмятежности.
* * *
Никак не объяснить парадоксов семидесятых. Полки магазинов скудны — а в холодильниках у населения вполне разносольно. Аппаратчики от мелких до вельможных втихаря млели от песен Высоцкого и Галича, — но запрещали их слушать широким массам, при этом осведомленные, что массы все равно слушают. Все знали, что Высоцкий мученик и к середине 1970-х у него вышло всего-то пять пластинок-миньонов, — но по Москве на «мерседесах» рассекали только двое: генсек Леонид Ильич и мученик Владимир Семеныч. Глушили вражеские радиостанции — но любой мало-мальский диссидент отлично знал: его не заглушить. И счастье диссидентское было — вечеринки в американском посольстве, знак избранности, отчасти мода, отчасти бравада. И ритуал уже сложился: обращаешься с каким-то диссидентским протестом к дуболомным властям — и, не дожидаясь ответа, тут же передаешь за кордон через своих людей, как тебя здесь третируют, на те же радиостанции, которые глушили. Чем тщательнее глушили — тем громче разносилось эхо, собственно, эхо и становилось важнее самого предмета протеста.
И выходило так: хранители партийно-государственной конструкции нуждались в диссидентах так же, как диссиденты в хранителях. Ведь догмы про «незыблемость основ» и для тех, и для других стали фантиками — но что бы одни защищали, если бы другим было нечего обличать?
Литература советская к семидесятым расцвела россыпью имен, среди них немало самого что ни на есть всемирного значения. И гусли «деревенщиков», и чеканка «лейтенантской прозы», и букли национальных школ, и пастернаковские карусели московских шестидесятников, и ленинградские поребрики птенцов гнезда Ахматовой… Их совместными стараниями пусть со скрипом, но возвращались вычеркнутые имена литературы первой половины века. Благодаря переводам — а переводами серьезно занимались, даже если вынужденно, крупные советские поэты и писатели — миллионы читателей открывали классиков и неведомых прежде авторов национальных советских литератур. Когда еще такое будет?! В девяностых весь этот пласт сразу ухнет, как под лед, и многонациональные авторы, лишенные русскоязычного читателя, — опять же парадокс — вдруг станут дружно проклинать те времена, когда их якобы так душили. Литература от общечеловеческих масштабов скукожится до уездных грядок и национальных огородов. Но это все будет потом, потом, в свободном будущем.
Советские литературные и окололитературные круги к семидесятым входили в нескончаемый круговорот склок, грызни, возни вокруг генеральско-писательских кресел в Союзе писателей. Патриоты воистинные изобличали всех неистинных. Либералы воинственные травили всякого, кто не с ними. Из кладовок извлекали нафталинные теории о сионизме-антисемитизме. Галерки истошно вопили: «Сталинизм возвращается!» Почти не оставалось литераторов, которых сами же литераторы не приговаривали за «продажность» — то тлетворному Западу, то советскому официозу, то антинародной чуждости, то простонародной дерюжности. Тем временем идейные «самоиздатчики» пылали ревнивой ненавистью к тем, кого печатали «официально». И в точности копировали «официальных», утопая в собственных склоках по причастности к избранным, по сортировке «своих» и «не своих». А еще эмигранты! Всякий, попадавший в эмигранты по доброй или недоброй воле, едва остыв от мученической роли, немедленно внедрял те же самые нравы в свою новую, «нездешнюю», литературную жизнь.
Все решительно сводили счеты со всеми — и было это по-своему весело, самоубийственно весело. Когда кончилась оттепель? Есть разные мнения. А вернее всего, кончилась она как раз тогда, когда стало очевидно: у элит, интеллигентско-творческих и чиновничье-властных, свои интересы, а у народа, как ни рвали элиты на груди своей рубахи, — свои нужды.
* * *
Как раз в семидесятые вместо раздольного слова «родина» все чаще стало проскальзывать: «эта страна». Все-все-все, что хорошо для «этой страны», — плохо.
В те же семидесятые годы философ Ханна Арендт, положившая жизнь на то, чтобы как-то подретушировать хвост нацистского прошлого, тянувшийся за возлюбленным ее Хайдеггером, наткнулась на внезапную поддержку европейских либеральных кругов, «новых левых». Чтобы найти общий язык — хватило одной идеи: Советский Союз надо поставить на место, приравняв его к гитлеровской Германии. Довольно спекулировать на миссии спасителей Европы и мира! Это же нонсенс, ошибка истории, все должно было устроиться иначе: никаких героических ленинградских блокадников, никаких сталинградских котлов и курских дуг (об этом станут говорить всего через пару-тройку десятилетий всерьез и вслух) — европейские ценности хатынями должны были маршировать до самого Владивостока, избавляя мир от черепов с неарийскими параметрами, истребляя и выжигая расово неполноценных евреев и большевиков с их гулагами. А как кстати они подставлялись своими топорными играми в «Молотова — Риббентропа»! Это поможет сделать вид, что ничего больше не было, никакого закулисья мировой политики — не Запад сдал Гитлеру с потрохами Чехословакию (тут вообще главное — зарубить на носу, что в Прагу вошли советские танки, и не в 1945-м, это забыть-забыть, а в 1968-м!). Вдолбить, передергивая все: Сталин — это Гитлер. Сделать вид, что не было американских и британских миллиардных (один плюс два миллиарда тогдашних долларов, обеспеченных золотом) кредитов Гитлеру перед войной (и забыть, забыть про Ялмара Шахта, главу Рейхсбанка, лихорадочно избавленного в Нюрнберге от необходимости выкладывать суду подробности всех тайных сделок). Сталин — это Гитлер. Сделать вид, что не было скандала с New York Herald, вышедшей летом 1942 года под шапкой «У ангелов Гитлера — три миллиона долларов в банке США» — ни в коем случае не вспоминать, что Union Banking Corporation (ни слова о папе и дедушке двух президентов США, Прескотте Буше, входившем в совет директоров UBC!), по словам авторов тогдашней публикации, стал «главной организацией по отмыванию нацистских денег» Гитлера, Геббельса и Геринга. ФБР даже успело выяснить, что эти капиталовложения позволили Германскому стальному тресту произвести 50 процентов чугуна, выпускавшегося в рейхе, 35 процентов взрывчатки, 38 процентов гальванизированной стали и 36 процентов стального листа.
Забыть про Буша-дедушку. Вдолбить: советские — те же фашисты. Сделать вид, что не было и доклада юридического комитета Сената США в 1974 году, согласно которому «в общей сложности дочерние предприятия General Motors и „Форд“ построили приблизительно 90 % бронированных трехтонных полугрузовиков и более 70 % средних и больших грузовиков Рейха» — основу транспортной системы фашистской армии. Внушить, втереть: коммунисты — это фашисты. Сделать вид, что Гитлер не аплодировал, вручая Большой Крест Германского Орла американскому магнату-антисемиту, не говорил: «Я рассматриваю Генри Форда, как мое вдохновение». Повторить еще раз: Сталин — это Гитлер. Никаких Фордов! Сделать вид, что не было вынужденных и тихо замятых послевоенных судов в США над компаниями, обвинявшимися в тайном сговоре с «Круппом» и другими германскими фирмами, сотрудничавшими даже после вторжения нацистских танков в Польшу, — здесь и GM, и «Форд», и GE, и «Кодак», и «Дюпон», и «Шелл Ойл». Забыть про это — внушить, что если бы не ленд-лизовская помощь, вряд ли СССР осилил бы Гитлера. Сколько можно слышать — Советы победили фашистскую Германию! Да они же — вот удачное словечко — империя зла!
В семидесятых действительно казалось, что фашизм больше невозможен: мир ведь не сошел с ума! Это представлялось очевидным настолько, что надоело об этом слушать и говорить. Не иначе как власти прикрывают разговорами о победе над фашизмом свою мечту отползти к сталинизму! Тут не обойтись без оговорки: нелепы, конечно, любые попытки оправдать сталинские политические репрессии и лагеря, об этом и речи нет. Но Ханна Арендт постаралась одурачить всех, внушив и сделав предметом спекуляций миф о том, что ужасы неудавшегося эксперимента по строительству мира принудительного равноправия и справедливости имеют общую природу с несопоставимым — фашистской машиной, созданной для истребления целых этносов, расово неполноценных, неарийских. Не видеть разницы, проглатывая эту наживку, — и двух извилин хватит. Кто мог предположить, что не пройдет и полувека, как теми же категориями, о неарийских черепах, «рожах каких-то», всерьез заговорят круги «продвинутых» элит — в междусобойчиках и в интернет-сетях, в газетах — и под тем же соусом принуждения к новой идее однополярной исключительности и справедливости. Красноречивая цитата — некий Анджей Потоцкий в польской «wPolityce» напишет в мае 2014-го про «русских гражданских с иконами», вышедших навстречу «украинским десантникам, убивающим их»: «Для меня это индивидуумы с больными мозгами, правильное функционирование которых было разрушено советским воспитанием и вездесущей московской пропагандой. В этих людях нет ни на грош смирения». Словом, противные они, эти убитые. Бедные национал-гвардейцы — кого только не приходится истреблять, стрелять и жечь. В семидесятые — «глухие и бесчеловечные» — такое не могло даже присниться.
В 1971 году Василий Шукшин написал незатейливого «Дядю Ермолая». Про этих, с неправильными черепами и больными мозгами, подлежащих умерщвлению демократическим путем, — у Шукшина они по старинке названы «вечными тружениками, добрыми, честными людьми»:
«…Был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа… Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно — до отчаяния и злости — не могу понять: а в чем Истина-то?
…Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их».
Розы черные коровьего навоза
Андрей Андреевич был западник и либерал. Да нет, Андрей Андреевич был патриот и русофил. Андрей Андреевич конформист. Андрей Андреевич несговорчивый идеалист…
Андрей Андреевич Вознесенский был обаятелен, от подлости бежал подальше, его любили и терпеть не могли в обоих, противоположных, лагерях литературы. В его когда-то щуплом теле жил огромный поэт, с естественной для огромности широтой и борьбой противоречий.
Вознесенский не прятался от сквозняков эпохи. Прислушивался к дробности светил небесных:
Сколько звезд! Как микробов в воздухе.Но находил поэзию и в гумусе повседневности:
Да здравствуют прогулки в полвторого, проселочная лунная дорога, седые и сухие от мороза розы черные коровьего навоза!Семидесятые ворвутся в жизнь поэта фейерверком метаний, фрондерства, грез, опасений, влюбленностей, ужастиков и слухов, молитвенным экстазом, хулиганством, космосом влюбленностей и прозой криминальной «Уездной хроники», «…ты помнишь Анечку-официантку?»
Могут ли стихи обжигать? У Вознесенского они обжигают — отчаянием и сокровенностью. Строчки ломаются футуристически. Как сердце бьется — так и ломаются.
Оттуда, из семидесятых, у Вознесенского и тянется эта его «ностальгия по настоящему».
Казалось бы, что у него общего с Василием Шукшиным? Ну да, можно вспомнить, что к одному и другому Белла Ахмадулина испытывала дружеское чувство, — но речь о другом. Любовь и любопытство к людям — вот что неожиданно роднило их, модерниста и традиционалиста. Как Шукшину были дороги его герои, дядя Ермолай с односельчанами, так и Вознесенский с крестьянским председателем Бедулей друг в друге души не чаяли. «Коровы программируют погоды. / Их перпендикулярные соски / торчат, на руль Колумбовый похожи. / Им тоже снятся Млечные Пути…»
Когда взгрустнут мои аэродромы, пришли, Бедуля, белую корову!Когда в амбары нового столетия набьются мыши серых лет, когда в деревню Рясна перестанут ездить поэты, когда не станет Вознесенского, постаревший жизнелюб Владимир Леонтьевич Бедуля достроит наконец в деревне — перед самой своей отставкой — храм, чудо какой. На открытии старушка-колхозница скажет заезжему корреспонденту напевно:
— Сыночак, мы ж сёння ўсе прасвятліліся. Ад людской дабрыні, шчырасці і любві. Дзякуй нашаму Лявонціевічу за такое свята.
В этом вот пронзительном «прасвятліліся» и есть вся сила антигравитации, без которой и поэт не поэт, и деревья не вырастут, и травы, и младенцы. И никакой мужик, и никакая страна — не полетит.
* * *
«Но одно стало нам ясно, как говорится, до боли, — вспомнит Борис Стругацкий времена работы с братом Аркадием над романом „Трудно быть богом“ и позже над пьесой по мотивам. — Не надо иллюзий. Не надо надежд на светлое будущее. Нами управляют жлобы и враги культуры. Они никогда не будут с нами. Они всегда будут против нас. Они никогда не позволят нам говорить то, что мы считаем правильным, потому что они считают правильным нечто совсем иное. И если для нас коммунизм — это мир свободы и творчества, то для них это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняет все предписания партии и правительства. Осознание этих простых, но далеко для нас не очевидных тогда истин было мучительно, но и благотворно».
Разве несправедливы Стругацкие (да и только ли они)? Нелепее ситуации придумать нельзя — власть, казалось, старательно плодила диссидентов из тех, кто изначально был буквоедски преданным сторонником коммунистических идей. То есть свободы, равенства и справедливости. Разве не власть душила вольницу мыслей и слов, разве сама конструкция власти, проржавевшая к тому времени без обновления, не располагала к атмосфере лжи и лицемерия? Тут, конечно, спорить не о чем. Но была в обличительных речах диссидентствующих свободолюбов одна недоправда: сказать о том, что лживы и лицемерны власти не только в Советском Союзе, а во всем мире, и неизвестно еще, где что лживее и что лицемернее. Ага, попался, ретроград, попался ненавистный патриот, оправдывающий зло!
Но какая же правда — в такой недоправде?
Вот вторая цитата, и тоже красноречивая. О той же эпохе, но с другого берега. Журналу Rolling Stone о ней расскажет дружок Энди Уорхола, Лу Рид, в семидесятых вокалист группы Velvet Underground:
«Такие события, как убийство Кеннеди (в 1963-м), скандал с президентом Никсоном (в 1972-м), погубили патриотические чувства многих людей. Поняв, что их обманывали, они сказали себе: „Мы и не знали, что происходила такая полная фигня! Теперь нас не проведешь! Каждый сам за себя“».
Тоже ведь — о лицемерии и лжи. Но почувствуйте разницу. Волчок мысли советских писателей вертится вокруг элит, разделенных на враждебные «мы» и «они». Ну, и масса населения сбоку. Американский музыкант отождествляет себя со «многими людьми» и уж совсем не заморачивается ненавистью к государству. Фигня вопрос, врут так врут, — кто выплывет, тот выплывет, крутиться будем.
Пропагандисты советской конторы исправно «долдонили населению» про мировые злодейства. И это было совершенной правдой: пестрая лента семидесятых гудела от кровавых переворотов, злодеяний и расправ.
* * *
В семидесятых британские парашютисты расстреляли мирных североирландских демонстрантов, включая подростков и священников — и ничего, премьер извинится тихонько три десятка лет спустя. Палестинцы угоняли самолет за самолетом.
Среди жертв Пиночета, пустившего Чили кровушку, оказались и певец Виктор Хара, и поэт Пабло Неруда. (У Вознесенского в «Анафеме» — «Лежите вы в Чили, как в братской могиле. Неруду убили…». Там же отточенное до афоризма — «Поэтов тираны не понимают. Когда понимают, тогда убивают».)
Чудовищный теракт потряс Мюнхенскую олимпиаду… При этом Советский Союз, пусть неангельский, но безостановочно выступавший с мирными инициативами, скоро назовут единственной в мире «империей зла». Канадские хоккеисты, замороченные такими же конторщиками пропаганды западной, в 1972-м приехав в Москву на исторические матчи со сборной СССР, открутили в гостинице болты, крепившие огромную люстру этажом ниже: болты показались «жучками», люстра грохнулась.
Как, почему интеллигенция стала считать приличным — не говорить про зло как минимум не меньшее, чем «зло советское»? Забыть, что зло (так же как добро) есть категория глубинная и общечеловеческая? В 1990 году социолог Джозеф Овертон распишет свою «теорию окон», объясняющую принцип, как разрушается одно и внедряется в сознание иное, как легализуется все, что казалось немыслимым: сдвигая понемногу окна возможного в данное время, мир можно убедить, что черное есть белое или какое угодно. Пять подробно расписанных шагов: от немыслимого до радикального, от радикального до приемлемого, от приемлемого до логичного, от логичного до популярного, от популярного до политической / социальной нормы — и попробуй пойди супротив!
Запад был гибок, советско-партийный механизм несгибаем и ржав. Граждане подозревали, что байки о дикости неонового, нейлонового и благоустроенного Запада придуманы специально — чтобы здесь пахло одной только «Красной Москвой» и чтобы не принюхивались к Magie Noire (Вознесенский, кстати, считал, что нет запаха лучше, чем Fahrenheit). Чтобы здесь не думали о джинсах Levi Strauss или Wrangler (о, манящее тогда слово — «фирма»). Чем больше ограждали от соблазнов — тем сильнее население подозревало, что его дурят. Колбасу в магазинах заворачивали в шершавую коричневую бумагу — только счастливчики на зависть остальным ходили с заграничными пакетами из полиэтилена с пестрой раскраской.
И под эти шмотки и пакеты опять-таки американцы подвели теорию. Еще в 1943 году психолог Абрахам Маслоу составил в виде пирамиды иерархическую модель потребностей простого смертного человека. На чем пирамида держится? По ступеням, снизу вверх: физиология, самосохранение, любовь (приверженность к чему-либо), уважение. Где-то на верхушке — самовыражение (познание, эстетические потребности, самоактуализация).
Сначала удовлетвори нужду естественную, потом, если хочется, умничай.
* * *
«Вы вообще не понимаете, в каком положении страна, — громыхал на поэтов Никита Хрущев. — Мы селедку на золото покупаем, а вы тут пишете. Что вы пишете?!» Конечно, СССР, лежавший после страшной войны в руинах, и США, заработавшие на той войне, как никто, — изначально были в неравных условиях. И всё же… Со стереотипом об экономической безнадежности и обреченности социалистического эксперимента согласились, кажется, все. Но чуть копни, и всё уже не так односложно.
В двухтысячных уже годах американский журнал Explorations in Economic History обнародует цифры: по подсчетам ЦРУ, оказывается, с 1950 по 1980 год средний темп роста экономики Советского Союза находился на уровне стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и сильно обгонял США. В семидесятых темп роста экономики СССР, США и ОЭСР в целом был примерно одинаков. В восьмидесятых даже вырос — напишут в американском журнале.
А профессор Элизабет Брейнерд из бостонского университета Брэндай измерит рост у школьников двух стран — ее исследования о связи роста детей с ростом экономики и благосостояния страны опубликует The Journal of Economic History. Окажется, что средний рост российских детей увеличивался в сороковых — пятидесятых на 1,8 сантиметра в десятилетие, и у мальчиков, родившихся в России в семидесятом году, составил 177 сантиметров — как и в США. А девочки, родившиеся в семидесятом, даже выше американских сверстниц на один сантиметр. Профессорша была озадачена и ни к какому выводу не пришла. Наверное, связь не так прямолинейна, — и все же что выходило: экономика СССР была не так безнадежна, как уверяли? А тут недалеко и до крамолы: ведь если по уму, то можно было реформировать страну, а не растаскивать и гробить с конца восьмидесятых? Если двадцать лет ее будут распиливать и никак не допилят, — значит, было что растаскивать…
В 1971 году США в одностороннем порядке объявили миру, что отменяют привязку курса доллара к курсу золота, доллар привязали к пустоте — к финансовым пузырям кредитов, инвестиций, рыночных манипуляторов и биржевых дельцов. Мина замедленного действия будет заложена на многие десятилетия вперед: реальная экономика дрейфует в тень индустрии мистификаций, заказных прогнозов, интриг глобальных аппетитов. Это сопровождалось политической гибкостью: как раз к семидесятым в США свернули прежние цензурные запреты на книги битников, свели на нет одиозные комиссии Гувера, слишком в лоб искавшие всюду инакомыслие. Вчерашние оппозиционеры, боровшиеся за права негров, женщин, хиппи, битников, геев, поднялись социальными лифтами к власти и перешли из разряда ее противников в разряд союзников и создателей иллюзии всемирного блага. Подлинное зло отныне задрапируют гибкостью кредитов и рекламных слоганов. Идеалы антибуржуазности, интеллектуального сопротивления капиталу, опустошающему смыслы жизни, — обернутся либеральной рефлексией, поэтизирующей пузырь мирового финансоцентризма. Заоблачная цена на баночку с мочой чудо-художника уже никого не удивит — дело не в смысле искусства, дело лишь в его концептуальности. Все сферы жизни станут пузырями.
Наивный Уотергейт, милашка Никсон! В 1974 году американского президента, республиканца Никсона, выдавили в отставку из-за ничтожного скандала вокруг попытки республиканцев установить подслушивающее устройство в вашингтонском отеле «Уотергейт» — предвыборном штабе демократов. В XXI веке сайт «Викиликс» будет выдавать одно за другим свидетельства слежки ФБР — подслушиваний и подсматриваний по всему миру и в самих США — и ничего. Абсолютно. Мир, как значок, будет пришпилен к лацканам американских президентов на долларовых бумажках. Все станет проще и циничнее.
По сути, Уотергейт и прочие политспектакли эпохи станут арт-проектами: их кураторам было все равно — устроить Уотергейт или продать шедевр в баночке под названием «Дерьмо художника».
Да вообще жить было весело. Ну вырезали и пожгли напалмом вьетнамскую деревню Сонгми со всеми детьми и стариками, — но это ведь для их же блага, чтобы не одурачили их коммунистической пропагандой. Суд оправдал головорезов, самое страшное наказание ждало лейтенанта Келли: три года под домашним арестом, но потом и его оправдали — сам президент хлопотал. В том же 1968-м куда мощнее, чем по поводу Сонгми, американская общественность гудела о другом. Феминистка Валери Соланас чуть не убила живописца-мистификатора (он скоро поправился) и сдалась полиции: «Я стреляла в Энди Уорхола». Так вот ее, не то что лейтенанта Келли, упекли на три года в тюрьму, а потом в психлечебницу. Вот что нужно населению — такие мелодрамы имеют у зрителя/читателя куда больший успех, чем вьетнамский «ужастик».
«А ЛУНА КАНУЛА», — напишет Вознесенский палиндром, когда американцы, взяв реванш за поражения в космосе, высадят человека на Луну. Многие до сих пор подозревают в этой «высадке» еще одну мистификацию. Но это и не важно: загадочность делает арт-проекты лишь объемнее.
«Настоящее» ускользнуло из мира. Куда что девалось? «Украли!» — как у Вознесенского?
Тень сверкнула на углу. Ночь такая — очи выколи. Мою лучшую строку, нападающую — выкрали… Ни гугу.Интеллигенция, как ты изолгалась!
В 1974-м на съемках «Они сражались за Родину» внезапно скончался Василий Шукшин. «Хоронила Москва Шукшина, / хоронила художника, то есть / хоронила страна мужика / и активную совесть», — напишет Вознесенский.
Тремя годами раньше, в 1971-м, умер Александр Твардовский — вскоре после того, как его вынудили уйти из «Нового мира». Через год утонул в озере Байкал автор «Утиной охоты» Александр Вампилов — ему не было тридцати пяти.
Назревала в стране напряженка — с активной совестью.
Через много лет журнал «Звезда» опубликует дневниковые записи Вампилова — о том, как он, приезжая из Иркутска, встречался с Твардовским в Переделкине. «Знаменитым стать сейчас легко, — говорил Вампилову автор „Теркина“, — надо только потерять совесть». Александр Трифонович приходил в полупальто, войлочных ботинках, брюки трикотажные и висят, в руках дубовая палочка: «Нет ли у вас стопки?»; «И все время: Как мы хорошо выпили. Господи!»; «Снова запой. „Убить еще не могу, но ударить уже могу“. Простились. Бутылка коньяку. Стебани!»; «Пьет и кается».
Разговоры были ревнивы и злы до отчаяния. Вампилов записывал их после каждого застолья с Твардовским.
О Сталине. «Хрущева Сталин заставлял плясать… К Сталину отношение очень сложное. Есть большая доля уважения».
Об отношении к прошедшей войне. «В литературе происходит одичание. Сафронов, Кочетов и К°. — … „Мне довелось побывать в Турции“, „Мне довелось побывать в Освенциме“ — пишут, не поймут, что это не одно и то же».
О стукачестве. «Вучетич существует специально для того, чтобы подписываться под доносами…»
О литсобратьях. С ними Твардовский не церемонится. «Подозревает, что итальянская премия Ахматовой (при ее вручении он присутствовал) — премия игорного дома. Рассказывает, как Ахматова собиралась в Италию. Старуха в декольте, водка после церемоний…»
Возмущается легкомыслием Антокольского, у которого на старости лет женщины на уме. Вампилов задумался: «Он склонен, кажется, к пуританству. Стихов о любви не пишет. О Тендрякове: „Женился на молодой и красивой. Ничего глупее для писателя придумать нельзя“… Но… „любовницы — были“».
В разговорах не раз всплывал и Вознесенский. Твардовский и его не жаловал. «Не печатаю Вознесенского, потому что, если меня на улице спросят — о чем это, я ответить не смогу»… «Сегодняшняя литература вся — из литературы, а не из жизни. Это, говорит он, страшно».
Были у Вознесенского стихи — после совместной поездки в Италию: «Пел Твардовский в ночной Флоренции…» Вампилов записал, что за песни любил Твардовский: «А в поле вярба, под вярбой вода, там гуляла, там ходила девка молода»… «Поет белорусские песни, любит „Не осенний мелкий дождичек“…»
Твардовский, усмехаясь, рассказал Вампилову, как Шолохов просил его наедине поцеловать Солженицына за его книги: «Жестоко, но здорово». Солженицына уже вовсю склоняли и травили, и Александра Трифоновича злило это двуличие: «Нет бы ему сказать об этом в печати!»… И потом в сердцах он добавлял: «Надо бы Шолохову было после „Тихого Дона“ умереть, был бы великий писатель. Но памятник ставить будем все равно».
Вознесенский, надо сказать, во многом совпадал с Твардовским, и в горячности оценок тоже. В стихи «Стыд» он тоже ввернул строки о Шолохове, громившем молодых поэтов: «Сверхклассик и сатрап, / стыдитесь, дорогой, / один роман содрав, / не смог содрать второй!» Строки были несправедливы и продиктованы обидами. Позже Вознесенский их убрал. Но очевидно, что не у него одного копились обиды на «сверхклассика». Для Твардовского Вознесенский — поэт совсем другого, непохожего поколения, был малопонятен. Но, как ни странно, в мироощущении их было куда больше общего.
* * *
В 1971 году погиб нелепо, в пьяной драке с подругой, Николай Рубцов. Людмилу Дербину посадят за убийство. Она же будет утверждать, что не задушила его, у поэта просто «сердце не выдержало». Вокруг этой смерти наслоятся многолетние малоприличные дрязги. Уже в двухтысячном году Виктор Астафьев доберется в одной из своих публикаций (в газете «Труд») до грязного белья: в квартире у Рубцова с Дербиной «из неплотно прикрытого шкафа вывалилось белье, грязный женский сарафан и другие дамские принадлежности ломались от грязи». Дербина ответит тотчас, припомнив, что Астафьев хотел выдать за Рубцова «свою Ирку», да не вышло. Назовет Астафьева «обкомовским прихвостнем». И умный критик Владимир Бондаренко, комментируя их публичную переписку, заметит, что не будь такой гордыни в обоих, относись к себе каждый хоть немного смиренней, «глядишь, и добра тогда в России чуть больше было бы». Это относится не только к Астафьеву и Дербиной — каких только интеллигентских склок не видели семидесятые.
Активная совесть таяла и таяла.
В 1972 году ушел из жизни и футурист Семен Кирсанов. Уже смертельно больной, он издал свою «Больничную тетрадь»: «Время тянется и тянется, / люди смерти не хотят, / с тихим смехом: /— Навсегданьица! — /никударики летят». На Кирсанова обрушился Сергей Наровчатов: нельзя же так легкомысленно и жизнерадостно — о смерти. У него, мол, и рифмы бестактно веселы. Какие «никударики»?
Футурист Вознесенский проводил футуриста Кирсанова словами: «Маэстро великолепный, / а для толпы — фигляр… Невыплаканная флейта / в красный легла футляр».
* * *
Дайте точку опоры. Дайте поэту. Дайте стране, отрезанной от себя элитами.
Делом русской интеллигенции всегда была забота о народе — «мы не врачи, мы боль». А теперь? Есть ли она, интеллигенция?
Поэты, каждый по-своему, искали ответ на этот вопрос. Слуцкий надеялся на новое поколение — и ведь было, казалось, на что надеяться: «Интеллигентнее всех в стране / девятиклассники, десятиклассники. / Ими только что прочитаны классики / и не забыты еще вполне».
В справочники не приучились лезть, любят новинки стиха и прозы и обсуждают Любовь, Честь, Совесть, Долг и другие вопросы.Кто они, оппоненты Вознесенского, которым он будет упрямо, с семидесятых годов до последних лет жизни, повторять, доказывать: «Есть русская интеллигенция! Есть!» И кого — что немаловажно — он назовет «интеллигенцией». Каждый ведь станет примерять это к себе — да не про каждого речь. «Не масса индифферентная, а совесть страны и честь».
«Нет пороков в своем отечестве». Не уважаю лесть. Есть пороки в моем отечестве, зато и пророки есть.К концу семидесятых поэт найдет их в лифтерах и дворниках: «Опять надстройка рождает базис. / Лифтер бормочет во сне Гельвеция. / Интеллигенция обуржуазилась. / Родилась люмпен-интеллигенция. / Есть в русском „люмпен“ / от слова „любит…“»
Тебя приветствуют, как кровники, ангелы утренней чистоты. Из инженеров выходят в дворники — кому-то надо страну мести!…Зачем в этой главе так затянулись разговоры о «сотрясении мозга» времени? Зачем было судить-рядить о сверхдержавах с их глобальными претензиями, зачем опять — о неоконченной войне? Какое отношение все это имеет к космосу поэта?
В 1970-х годах Вознесенский обращается все чаще к Александру Блоку. В 1921 году, уже перед смертью, Блок написал к незавершенной поэме «Возмездие» предисловие, в котором спрессовал предреволюционные десятилетия в «запахе гари, железа и крови». Зачем-то поэту Блоку оказалось очень важно — воссоздать атмосферу эпохи, состоявшую из самых разных событий. Лидер кадетской партии Милюков весной 1911-го прочел антивоенную «интереснейшую лекцию под заглавием „Вооруженный мир и сокращение вооружений“». Тогда же «в Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови». Из Лондона доносился отзвук «грандиозных забастовок железнодорожных рабочих». А в петербургских цирках, замечает Блок, — «расцвет французской борьбы». Годом ранее, в 1910-м, сходятся подряд три смерти — Комиссаржевской, Врубеля, Толстого. Несвязанная внешне череда событий, «из которых впервые вырастало сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики», — вот что было важно Блоку.
Поэма Блока вытекала тоже из семидесятых годов. Только XIX века. Но как же узнаваемо сто лет спустя, опять из семидесятых, вырастут, как из «Возмездия» Блока, говоря его словами: «И отвращение от жизни, / И к ней безумная любовь, / И страсть и ненависть к отчизне…» И также все покатится под горку к временам, «когда проценты с капитала / освободят от идеала». И точно так же либеральные и властные элиты брезгливо ощутят себя чужими «в том дружном человечьем хоре, который часто мы зовем (промеж себя) — бараньим стадом».
Но кто мог понимать в семидесятых — что все уже было и может вернуться? Вряд ли мог предположить и Вознесенский: поэт — не дельфийский оракул. И все-таки он часто повторял, что стихи ему «небеса диктуют», а он только записывает — и это неспроста: что-то заставляло его, какое-то чутье, вчитаться в знаки предостережений Блока. Спор с критиком Адольфом Урбаном (о назначении поэта и месте поэзии в структуре мировой гармонии) Андрей Андреевич и строит на мысли Александра Александровича — о поэте, который поэт не потому, что рифмовать умеет, а потому, что приводит мир к гармонии, из слов и звуков строит космос. «Цинизм умен, — напоминает Вознесенский критику. — Даже в евангелической пустыне искушал вопросами Дух, названный Духом умным и злым. И гётевский Мефистофель всегда более точен, неоспорим, он острее, глубже и Фауста, и Бога, и автора. Да и Мандельштам не случайно брал себе в девиз Сальери, а ведь Сальери задуман как зло. Увы, все в одной душе, все в одной, Адольф Адольфович…»
Вознесенский, тот самый Вознесенский, который раздражал коллег скандальными вояжами в Америку, которого любили в семействе Кеннеди, с которым носился Париж, — искренне обожая эту заграничную свистопляску, не смог, к примеру, там преподавать. Звали, напомним, он даже согласился как-то, но — не смог, от тоски и нелюбви к расписаниям. Долго вне дома, как это ни пафосно звучит в XXI веке, — Вознесенский жить не мог. Не было в нем и высокомерно-критиканского отношения к родной стране. И к людям, в ней живущим. Они и есть, полагал, наша точка опоры. Не разрушители, а созидатели. Те, кто действительно — народ. Тут, конечно же, и Бедуля, у которого колхозники слушают Рихтера. Тут и конструктор уникальных бронемашин и болотоходов Виталий Грачев: «Он — летающ, неплавающ и нетонущ. / Ах, Грачев — шоферюга, легенда, томич! / Уголь-глаз горит / голубым обводом. / „Небеса — старо. / Полетай болотом!“». (В первых публикациях стихотворения «Испытание болотохода» конструктор был зашифрован под фамилией «Черных».) У Вознесенского их — целая картинная галерея.
* * *
Однажды в Ялте Вознесенский познакомился с Манфредом Германовичем Эсси-Эзингом, доктором Эссеном, рентгенологом.
Судьба врача была невероятной — доктор Эссен станет «доктором Осень», героем одноименной баллады Вознесенского.
«Рослый латыш в чесучовой рубашке, — расскажет о своем герое поэт на встрече в редакции одной из крымских газет. — Он поразил меня северным сиянием глаз. Будучи в плену, став главным врачом Павлоградского лагеря, окруженный смертью, подозрительностью, он превратил госпиталь в комбинат побегов к партизанам. Провоцируя признаки страшной болезни, он „списывал“ людей, „живые трупы“ вывозили из лагеря. Так было переправлено к партизанам около тысячи человек, а еще пять тысяч было спасено от угона в Германию. Символично, что латыш в лихолетье спасал жизнь русским, украинцам, белорусам. Брат спасал брата.
С 1950 года доктор Эссен работал главврачом „Артека“. Уже на пенсии, в Ялте, — рентгенологом в санатории. Когда „Литературная газета“ напечатала отрывки из поэмы, я получил от Манфреда Германовича открытку. И я счастлив, что моему герою стихи понравились».
Кривая ухмылка времени. Павлоградский концлагерь, в котором работал «доктор Осень», находился на юго-востоке Украины, в Днепропетровской области. В феврале 1943 года спасенные доктором, ушедшие в партизаны, подняли восстание, выбили из Павлограда фашистов и удержали его в окружении — до прихода 35-й стрелковой гвардейской дивизии Красной армии… Странные, немыслимые бывают повороты в истории. И вот в 2014 году города и городки юго-востока Украины снова окажутся в окружении, их будут утюжить обстрелами и уничтожать — кто? новые карательные батальоны? опять фашисты? оккупанты? но откуда? откуда?
А все оттуда — из неоконченной, как выяснится, войны.
«Главврач немецкого лагеря, / назначенный из пленных, / выводит ночами в колбе / невиданную болезнь…»
Машины увозят мертвых, смерзшихся, как поленья, а утром ожившие трупы стригут автоматами лес.Как отнесся бы к такому повороту Вознесенский — доживи он до этих времен? Наверняка был бы крайне осторожен в словах. Но что уж безусловно — интеллигенция по Вознесенскому никак не может быть с теми, кто уничтожает мирные города, детей, стариков. Или это не интеллигенция вовсе, а что-то совсем другое, чему названья нет. Может, как раз и зародившееся в те самые семидесятые — годы вражды и желчи.
Интеллигенция, как ты изолгалась! Читаешь Герцена, для порки заголясь…«Русскую интеллигенцию, — напишет Вознесенский пророчески, — кто только ни уничтожал, и она сама не отставала в самоуничтожении. Может быть, в этом сказался некий русский мазохизм — кто, кроме нас, вопит на весь мир о своих язвах? Хлыстовство какое-то» (эссе «Есть русская интеллигенция?»).
* * *
В 1975 году стихотворение «Есть русская интеллигенция…» поставили в номер «Нового мира» — потом пришлось выбрасывать из верстки. Стихотворение вышло — но уже запрятанное в сборнике среди других стихов. «Почему в глухие 1970-е годы, — задавался вопросом Вознесенский, — нельзя было опубликовать эти наивные строчки ни в одном из периодических изданий?»
Есть в Рихтере и Аверинцеве земских врачей черты — постольку интеллигенция, постольку они честны.И отвечал на свой же вопрос:
«Главными пороками стихотворения были имена пророков: Рихтер, Аверинцев. Это не входило ни в левые, ни в правые ворота. „Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан“. Бездарные советские поэты и бездарные поэты антисоветские пылко прикрывались этой „гражданственностью“. Но дело в том, что истинная гражданская роль поэта заключается в том, чтобы быть прежде всего поэтом, витамином духовности.
Бесчестно называться поэтом и писать посредственные стихи. Бессовестно называться экономистом и проваливать экономику. Бесстыдно брать власть и не просчитать на два хода вперед. Политизировавшись, интеллигенция наша теряла главное свое качество, свой смысл для общества — интеллектуальную профессиональность» («Есть русская интеллигенция?»).
Еще один герой того стихотворения: «Такие, как вне коррозии, / ноздрей петербуржской вздет, / Николай Александрович Козырев — / небесный интеллигент». Сколько в жизни Вознесенского было связано с Крымом! — познакомился он с Козыревым в Крымской обсерватории. Тот, научный сотрудник обсерватории Пулковской, приезжал «прочитать лекции о своей возмутившей академический мир теории — тяжести времен и, поочаровывать местных дам». Козырев был личность колоритная:
«Бывший лагерник, упомянутый в книге Солженицына, он не выносил уголовников и романтичности по отношению к ним. Не высвеченный политическими прожекторами, он почти не рассказывал об ужасах заключения. Его интересовала одна страсть — его теория, что время имеет тяжесть. Одновременно он открыл лунотрясение и высчитал ветра на Марсе, — напишет о Козыреве Вознесенский в том же эссе „Есть русская интеллигенция?“. — То, что время имеет напряжение, ускорение, что оно то замедляет, то ускоряет ход, было мне понятно. Его же экспериментальная часть, когда на вакуумных весах он взвешивал звездный свет, олицетворявший для него почему-то время — все это вызывало у меня, темного, недоверие. Но магнетизм и страсть этого опрятного человека притягивали.
Сейчас видно, как Николай Александрович плутал, ошибался, но оказался прав в направлении пути — в напряжении времени. С каким бешеным ускорением мчится оно сейчас, прессуя годы в мгновения. „Бог избрал безумие мира, чтобы посрамить мудрых“, — говорит апостол Павел».
Небом единым жив человек
Белоруссия для Вознесенского — не только Бедуля, много еще имен, и среди них Марк Шагал.
Как же он «Шагал» — ведь он летал. Над шляпками крыш, метелками деревьев. Волоокие взгляды коров, петушиные алые гребни провожали его. Он парил в синем пространстве. Это Вознесенский сразу увидел. Еще в феврале 1962-го, едва они познакомились. Тогда Марк Захарович подарил юному поэту рисунок — голубая дева в обнимку с ягненком летела над Эйфелевой башней.
С тех пор до самой смерти Шагала в 1985-м они с Вознесенским встречались постоянно — «и в квартирке художника над Сеной, и в доме его дочери Иды, которая была ангелом для вернисажей, а позднее на юге, где его муза и супруга Вава — бакинка Валентина Григорьевна — вносила олимпийскую гармонию в наш суетный быт». Шагал сделал иллюстрации к стихам Вознесенского «Гетто в озере».
В небе коровы парят и ундины. Зонтик раскройте, идя на проспект. Родины разны, но небо едино. Небом единым жив человек. («Васильки Шагала». 1973)«Небо, полет — главное состояние кисти Шагала, — писал Вознесенский в эссе „Гала́ Шагала“. — Вряд ли кто из художников так в буквальном смысле был поэтом, как этот сын витебского селедочника. Безумные василькового цвета избы, красные петухи, зеленые свиньи, загадочные саркастические козы — все увидено взглядом поэта. Не случайно его любил Аполлинер». Он и умер, «взвиваясь в небо, летя», — когда его в кресле-каталке поднимали в лифте на второй этаж его дома, утонувшего в зелени Поль де Ванса. «На его картинах парят горизонтальные скрипачи, ремесленники, влюбленные. Он к ним присоединился».
Шагал жил во Франции с 1922 года, тоскуя о своем Витебске и считая Россию родиной. В энциклопедиях советских его называли «французским художником». Выставок его в СССР не было, имя старались не упоминать. Почему? Эмигрант! Хотя Шагал декорировал когда-то — к празднованию первой годовщины Октября — улицы Витебска, назначенный самим Луначарским на должность «Уполномоченного по делам искусств в Витебской губернии». Город украсили его панно «Мир хижинам — война дворцам». Однако «волевой Малевич, — как пишет Вознесенский в том же эссе, — вскоре стал духовным властелином Витебска. К нему перебежали ученики Шагала. <…> Самолюбивый художник покидает родной город, а через пару лет и страну».
В 1960-х, вслед за Вознесенским, к Шагалу потянулись ходоки. Он быт и модным, и загадочным. Едва ли не каждый писатель и поэт, прилетая в Париж, искал возможности встретиться с художником. Каждый искал в художнике его небесную суть и земную основу. Вознесенский все же оказался ближе всех — своими «Васильками Шагала». Может, оттого, что почувствовал тоньше — как художник художника.
Юрий Трифонов вспоминал, как жена его показала Шагалу открытку с репродукцией старой картины — на темном коричневом фоне стоят чуть косо старомодные часы в деревянном футляре: «Он держал ее далеко от глаз, смотрел долго, пристально, как на чужую работу. И вдруг пробормотал едва слышно, не нам, а себе: „Каким надо быть несчастным, чтобы это написать“… Я подумал, что он пробормотал самую суть. Быть несчастным, чтоб написать. Потом вы можете быть каким угодно, но сначала — несчастным».
Роберт Рождественский написал стихи «Марк Шагал» (1982): «Он стар, он похож на свое одиночество. / Ему рассуждать о погоде не хочется. / Он сразу с вопросом — а вы не из Витебска? / Пиджак монотонный на лацканах вытерся…»
И Зоя Богуславская — уже после того, как Шагал побывал у них с Вознесенским в Переделкине в 1974-м, вспомнит его слова в своем эссе «Коллажи Парижа»: «Не могу забыть деревья в Подмосковье, — говорит он, чуть не захлебываясь. — Я так хотел бы описать русскую природу! Там у деревьев особый наклон, формы, все другое!.. В этих ветвях и наклонах столько для меня близкого! Я бы мечтал все это на полотно перенести, но уже поздно, все поздно…»
Тот приезд Марка Шагала в Москву — первый за десятилетия разлуки — Вознесенский помнил хорошо и вот как об этом рассказал в «Гала́ Шагала»:
«Он был мужественным, этот тихий удивленный человек. Однажды мне довелось стать свидетелем тому. В июне 1973 года я был с выступлениями в Париже. В это время Шагал, приняв приглашение Министерства культуры, собирался приехать к нам. Это был первый его визит после отъезда в двадцатые годы и, увы, как оказалось теперь, единственный. Он расспрашивал — какая она нынче, Москва? Есть ли на улицах автомобили? Он помнил Москву разрухи двадцатых годов. Полет был назначен на понедельник. Тогда был рейс Аэрофлота.
Увы, в субботу стряслось страшное. На глазах парижан во время демонстрации на Парижской авиавыставке красавец „Ту-144“ потерпел в небе аварию и разбился. Погибли наши испытатели. Накануне я разговаривал с ними. Заснятый момент катастрофы показывали по нескольку раз на телеэкране в замедленном темпе. Мы с ужасом вновь и вновь проглядывали эти кадры.
В стихах „Васильки Шагала“ я так записал это:
С вами в душераздирающем дубле видели мы — как за всех и при всех срезался с неба парижский „Туполев“. В небе осталось шесть человек.Шагала отговаривали лететь на „Ту“. Советовали или отменить полет, или лететь на „Эр Франс“. Шагал полетел в понедельник.
Я прилетел в Москву несколько дней спустя после приезда Шагала. Он поехал с женой Вавой (Валентина Бродская, дочь сахарозаводчика Лазаря Бродского, была известной владелицей лондонского салона моды. — И. В.) и Надей Леже (Надежда Ходасевич-Леже, кузина поэта Владислава Ходасевича, сама была художницей и муж ее, Фернан Леже — известный художник. — И. В.).
В Большом театре мы смотрели с ними балет „Кармен-сюита“. В фойе, идя к выходу, Вава потеряла в толпе тяжелую брошь. Пыталась вернуться за ней, но волна людей празднично шла навстречу. Вава только махнула рукой. Так теряют что-то в море „на счастье“.
Приехав к нам на дачу в Переделкино, Шагал остановился на середине дорожки, простер руки и остолбенел. „Это самый красивый пейзаж, какой я видел в мире!“ — воскликнул он. Что за пейзаж узрел мэтр? Мне было неловко за наш забор. Это был старый покосившийся забор, бурелом, ель и заглохшая крапива. Но сколько поэтичности, души было в этом клочке пейзажа, сколько тревоги и тайны! Он открыл ее нам. Он был поэтом. Не случайно он любил Врубеля и Левитана».
Вознесенский вспоминал еще одну поездку: в 1970 году художник позвал его съездить вместе в Цюрих, на открытие шагаловских синих витражей в соборе Фраумюнстер. Витражей было пять — «Пророки», «Скрижали Завета», «Лестница Иакова», «Сион» и «Распятие». Шестой — «Сотворение мира» — появится шесть лет спустя. На торжественном открытии витражей поэта поразила толпа брейгелевских персонажей, разодетых в меха и бриллианты. Роскошные рожи расплывались в выпуклых стеклах витражей, как в зеркалах из комнат смеха. «Почему они такие?» — спросил он Шагала. «Ах, Андрей, — ответил художник. — Это богатые семьи. И они смешиваются только друг с другом… Вырождение!»
Выставку работ Шагала в Москве открыли в 1987-м к его 100-летию — благодаря усилиям директора Музея им. Пушкина Ирины Антоновой и письму Вознесенского генсеку Горбачеву. Это будет второе его обращение — первый раз поэт писал ему по поводу музея Пастернака (до этого, если быть точным, Вознесенский обращался лишь раз к Брежневу — в связи с похоронами отца). Известный недостройщик перестройки разрешил, и выставку открыли. «Сейчас принято только ругать прошлых лидеров, но надо и добро помнить», — позже заметит Вознесенский.
В том же году поэт побывает в Витебске:
«В Витебском театре я спросил аудиторию: „Кто за музей Шагала?“ Зал проголосовал „за“. Я пошел к городскому начальнику. Тот тоже был „за“, уверовав, что музей на благо городу, он принесет колбасу и дороги. Однако после моего отъезда прибыл официальный комиссар из столицы и разъяснил, что я — масонский агент, а Шагал — враг народа и т. д.
Тогда же появилась статья в „Вечернем Минске“, подписанная зав. отделом Института философии и права АН БССР В. И. Бовшем: „Поэт А. Вознесенский выступил инициатором крикливой компании в связи со 100-летием со дня рождения художника-модерниста М. Шагала, связанного с Белоруссией фактом своего рождения, но с 1922 года и до смерти в прошлом году проживавшего во Франции и США. В творческом и гражданском отношениях он противостоял нашему народу“».
Но в пику товарищу Бовшу Вознесенского поддержит писатель Василь Быков: «…белорусская интеллигенция благодарна Андрею Вознесенскому, напечатавшему свой очерк о Шагале в „Огоньке“ и в этом порыве опередившему любого из нас. Конечно, поначалу мы должны были написать о Шагале у нас, в Белоруссии. Но у нас, к сожалению, до сих пор существует разброд по отношению к имени, к творческому наследию ныне всемирно известного художника. Снова повторяется прежняя, почти библейская истина: нет пророка в своем отечестве».
Музей в одноэтажном домишке художника на улице Покровской откроется в 1992 году.
«Кто целовал твое поле, Россия, / пока не выступят васильки? / Твои сорняки всемирно красивы, / хоть экспортируй их, сорняки. / С поезда выйдешь — как окликают! / По полю дрожь. / Поле пришпорено васильками, / как ни уходишь — все не уйдешь…»
Не Иегова, не Иисусе, ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет — Небом Единым Жив Человек.В семьдесят четвертом году вышел сборник Вознесенского «Выпусти птицу!» — с этими самыми стихами о летающих художниках и мужиках.
«Чтоб разрядиться, выпусти птицу». Поэт Виктор Боков о Вознесенском
Народные песни «Оренбургский пуховый платок» и «На побывку едет молодой моряк» — написал он, бывший лагерник и поэт Виктор Боков. И вот это тоже он, Боков, любивший балалайку и ядреную частушку: «Щелды-елды, две щеколды и еще щелды-елды. Пил бы, ел бы, щё хотел бы, не работал никогды!» Что общего, казалось бы, у Бокова и Вознесенского? Ну, про внимание их к музам умолчим, — какие же без этого азарт и вдохновение? А вот о чем не сказать нельзя: это их вкус к спелому русскому слову, такому, что хрустит и брызжет соком.
Приехали как-то лингвисты американские, ищут носителей того языка, который они у староверов канадских слышали. Где таких найти? Вознесенский звонит поздним вечером Виктору Федоровичу. «Веди!» — отвечает тот. Вваливаются всей толпой. И ведь как потом счастливы: вот он, говорят, живой великорусский, который во дни отчаяния и тягостных раздумий о судьбах родины один вам тут надежда и опора.
Шутки шутками, но язык Бокова американцы в России и искали. «Богу — Богово, а Бокову — Боково», как писал Андрей Андреевич.
Друзьями не разлей вода их не назовешь — Боков все же был постарше лет на двадцать. Но относились друг к другу преочень тепло. Из балагуристых, лихих стихов, посвященных Вознесенским Бокову, соседу по Переделкину, понять это нетрудно: «Нет у поэтов отчества. / Творчество — это отрочество. / Ходит он — синеокий, / гусельки на весу, / очи его — как окуни / или окно в весну».
Кто, как не русский поэт Виктор Боков мог оценить чистоту звучания и цвета Вознесенских «Васильков Шагала»? Того самого Шагала, которому отказывали в праве называться художником русским.
В декабре 1975 года, едва вышла книга Вознесенского «Выпусти птицу!», Боков откликнулся статьей в журнале «Юность» «Чудо поэзии» (1975. № 12). Грех не процитировать здесь несколько фрагментов:
«Книга стихов Андрея Вознесенского — „Выпусти птицу!“ — книга большой поэтической экспрессии. В ней всё до предела сжато, сам опыт поэзии, которая была до Вознесенского, и он ее чутко и умно наследует.
Выйдешь ли вечером — будто захварываешь, во поле углические зрачки. Ах, Марк Захарович, Марк Захарович, всё васильки, всё васильки.„Захварываешь“ — та просторечная форма устного слова, которую утверждал Пушкин, когда брал из живой речи такое слово, как „вечор“.
Во второй строке есть поэтическая находка исторической протяженности „углические зрачки“. Да, это зрачки древних икон, но и не только. Тут слышится и Дмитрий убиенный…
Поразительная васильковость колорита! И, наконец, строка — „всё васильки, всё васильки“. И она тоже — оглядка на прошлое нашей поэзии. Оглядка дерзкая, смелая, демократическая, ибо исток ее в популярной песне „Всё васильки, васильки“.
Стихотворение о Марке Шагале кончается удивительно емкими строками: „непобедимо синий завет — Небом Единым Жив Человек“.
Стихи о художнике великолепны.
Куда зовет? Что утверждает? С кем воюет Андрей Вознесенский в книге стихов „Выпусти птицу!“?
Воюет он с успокоенностью и самодовольством. Его война — не скучная проповедь, она пронзительна своей метафоричностью, своей образной системой:
Вы к морю выходите запросто, спине вашей зябко и плоско, как будто отхвачено заступом и брошено к берегу прошлое.Вот это будничное, рабочее, землекопное — „как будто отхвачено заступом“ — сильнее сотен правоучений, оно поражает врасплох, как чудо.
А что же такое истинная поэзия, как не чудо?! <…>
Мы третьи сутки с тобою в раздоре, чтоб разрядиться, выпусти сладкую пленницу горя, выпусти птицу!Горе-птица, томящаяся в груди. Эта боль и сладка, потому что она от любимого, и все же лучше выпустить эту птицу, пусть и она будет свободна. Тонкое уподобление! Опять хочу сказать о преемственности. Ведь было уже когда-то у Туманского знаменитое „Вчера я растворил темницу… я рощам возвратил певицу, я возвратил свободу ей“. Андрей Вознесенский, взяв старый сюжет, наполнил его новым строем мыслей, чувств, сделал старый сюжет современным. <…>
Андрей Вознесенский может стихи и как частушку писать:
Подарили, подарили золотое, как пыльца. Сдохли б Вены и Парижи от такого платьица!Пыльца — платьица — это скользящее рифмование совсем как в северной частушке:
Я по бережку иду, по бережку сыпучему. Я люблю, а ты не любишь. Это, милый, почему?Будучи собирателем частушки, зная, любя ее, я могу сказать, Андрей Вознесенский и здесь попадает в яблочко.
И это рядом с самыми изысканными ассоциациями, достигающими зримости живописи:
Приди! Чтоб снова снег слепил, чтобы желтела на опушке, как Александровский ампир, твоя дубленочка с опушкой.В Андрее Вознесенском говорят художник и архитектор. Он хорошо знает предмет».
Или женщину мучил — и вот наказанье?
— Лошади у нас всегда были отличные, — Владимир Леонтьевич Бедуля раскладывает на столе фотографии, где они с Вознесенским и группой радостных колхозниц и колхозников на заснеженной тройке. На дворе двухтысячные, а воспоминания уносят опять туда, в семидесятые. — А вот эти кожухи я сшил и ему, и себе у председателя колхоза «Восход», я был приучен, что если кто-то что-то делает лучше меня, то у него и надо заказывать… А на тройке Андрею очень понравилось кататься. Я давал ему вожжи, сам садился рядом…
Про это катание на тройке вспомнит при разговоре и тогдашний фотокорреспондент ТАСС Эдуард Сергеевич Кобяк:
— Я часто у Бедули бывал. Встречался там и с Вознесенским не раз — у них ритуал такой был, возвращаясь откуда-нибудь из Европы, поэт всегда заезжал к Бедуле. На концертах его всегда было яблоку негде упасть. Ночевал в обыкновенной хатке, ему нравилось, перины, печка, сельская экзотика. Ставил бутылку привезенного «Наполеона» на стол. Очень просто себя вел с крестьянами, находил какие-то общие темы, стихи читал, но старался не напрягать людей, не всем же легко давалась его поэзия многоэтажная…
И самая интересная встреча была как раз накануне 1985 года. Мне поручили сделать репортаж про Новый год у Бедули. Приехали с коллегой из АПН Юрой Ивановым, а там Вознесенский. Бедуля всегда быстрый, шустрый, а тут какой-то совсем вздерганный. И вот, пока он носился по делам, мы втроем в каминном зале колхозного ресторана договорились снять катание на тройках. Бедуле всегда нравились такие эксперименты. Троек было две или три. Решили, что все сядут в них, а мы с Юркой впереди на ЗИС-130 — фотографировать… Помню еще — мы вышли, и Вознесенский стал подвязывать уздцы — со знанием дела. Говорит, не так подвязаны, низко очень, я-то не очень в этом понимал…
А у Бедули был коронный номер — моргнет кучеру, и тот переворачивает сани. С тройкой было сложнее, но кучер был опытный, и вот, смотрю, Бедуля подал знак — и все летят в снег. Кадры великолепные. Вознесенский счастлив, требует повторить, мы довольны, хотя и руки отморозили.
Потом отогрелись в каминном зале с вареной картошкой, домашней колбасой и салом. Выставили на стол местную «пущаночку». Андрей Андреевич пил совсем чуть-чуть, смаковал, закусывая солеными огурчиками. Потом поехали по фермам. И он прямо по этим унавоженным тропам на фермах ходил, осматривал все, щупал, вместе с Бедулей. Совсем не производил впечатления столичного сноба.
А вот был еще забавный случай — когда приехал в колхоз Евгений Евтушенко. Его заело тогда, как это так, Вознесенский тут бывает постоянно, а его не приглашают никак. И вот как раз Евтушенко приехал в Брест, выступал на Электромеханическом заводе, и Бедуля приехал за ним.
Выступил Евгений Александрович во Дворце культуры, прямо на сцене сказал, что больше всего он любит кефир и молоко парное. Хотя мы-то ехали потом с ним в одной машине, и он все из кармана доставал бутылочку, и все прикладывался, и все не пьянел — я даже удивлялся.
Но самая большая неожиданность случилась, когда приехали на ферму, сели в красном уголке… У меня фотография есть: сидят напротив Бедуля с Евтушенко, между ними экран телевизора, а на экране… Надо ж было случиться, кто-то включил, — а по телевизору передавали выступление Андрея Вознесенского. Все обрадовались тогда такому совпадению, налили по чарке… Не помню, что сказал Евтушенко, но мне показалось, он не очень рад такому повороту.
* * *
Вознесенский дружил многие годы с Виктором Жаком, бывшим ректором Политехнического университета, с Василем Быковым, поэтом Рыгором Бородулиным. Часто ездили вместе в любимую пущу, вдохновившую поэта на «Беловежскую балладу», «Мелодию Кирилла и Мефодия», «Озеро Свитязь», «Оду дубу»…
В 1976 году на белорусском «Телефильме» ухватились было за идею снять документальный фильм о дружбе Вознесенского с Бедулей — такие диалоги поэта и земледельца о возвышенном и земном. Но… из затеи ничего не вышло. По словам сценариста Аркадия Бржозовского, сразу стало «ясно, что никакой беседы наших героев под объективом кинокамеры не получится: каждый из них по характеру „сам себе режиссер“ и не сможет участвовать ни в какой инсценировке». И все-таки сценарист, вздыхая по неслучившемуся фильму, будет вспоминать те дни:
«Солнечным сентябрьским днем мы все собрались у камина в колхозном ресторане, самобытный интерьер которого был предметом особой гордости хозяина. Что и говорить, Владимир Леонтьевич любил и умел принять гостей. Судя по всему, Вознесенский был здесь не впервые. Но на этот раз он приехал не один.
Лицо его спутницы сразу показалось мне знакомым. Позже выяснилось, что в этом нет ничего удивительного: она снималась в кино. Знаковый фильм начала 60-х, о котором много писалось и говорилось, сделал ее, исполнительницу одной из главных ролей, всесоюзной, а может, и мировой знаменитостью, если учесть, что этот фильм получил Гран-при престижного международного кинофестиваля…»
Тут сценарист осторожно называет лишь ее инициалы — Т. Л. Не будем притворяться, будто не знаем, о ком речь. Это была Татьяна Лаврова, а упомянутый фильм — конечно же, знаменитые «Девять дней одного года» Михаила Ромма, удостоенные главного приза в Карловых Варах и многих призов на других фестивалях. Но вернемся к воспоминаниям Бржозовского:
«…Хотя в нашем сценарии для этой единственной профессиональной артистки не было предусмотрено даже роли второго плана, она сыграла главную роль в стихотворении „Беловежская баллада“ — как оказалось, главном творческом итоге десяти дней, проведенных в пуще… „Я беру тебя на поруки / из неволи московской тщеты. /Ты — как роща после порубки, ты мне крикнула: защити!..“
…В этих пылких поспешных поленьях, в слове, вырвавшемся, хрипя, ощущение преступленья, как сказали бы раньше — греха…Тишина заповедного уголка нарушалась только трубным лосиным ревом в непроглядно темной сентябрьской ночи — начиналась пора осеннего гона, свадебных ристалищ нагулявших за лето силы истинных хозяев пущи.
Выходя ранним утром на крыльцо, я неизменно заставал там или на берегу соседнего озерца „жаворонка“-поэта, чаще всего с карандашом и блокнотом, который иногда при ближайшем рассмотрении оказывался просто сложенной вчетверо газетой, исписанной поперек печатного текста…
Прекрасно проведя время, оставшееся до Дня работника леса, когда предстояло освободить место для высоких хозяев нашего временного жилища, мы на прощанье всласть попарились в бревенчатой баньке, с разбегу ныряя в примыкающее к ней уже по-осеннему холодное озерцо…» (Советская Белоруссия. 2006. Август).
* * *
Спрашивали Бедулю, верит ли он во внеземные цивилизации. — «Верю».
Спрашивали про любовь — «Я больше разбираюсь в ревности, чем в любви. Ревность была, есть и всегда будет, как боязнь потерять любимого друга».
Спрашивали про какие-то тонкие смыслы жизни — он вспоминал тракториста, который мечтал «ничего не делать, а жить хорошо»: «Это же страшно, такая всеобъемлющая лень, бедный человек!»
Кому-то может показаться странным, и не объяснишь ведь почему, но внутренний диалог, удивительный и душевный, у Вознесенского и Бедули — двух совершенно разных по роду деятельности бесшабашных жизнелюбов — будто и не прекращался никогда.
Если вслушаться, в словах крестьянина Бедули столько неизбывной, нетерпеливой любви — к жизни, земле, людям, — сколько и в Вознесенской «Тоске»: «Загляжусь ли на поезд с осенних откосов, / забреду ли в вечернюю деревушку — / будто душу высасывают насосом, / будто тянет вытяжка или вьюшка, / будто что-то случилось или случится — / ниже горла высасывает ключицы…»
…Или ноет какая вина запущенная? Или женщину мучил — и вот наказанье? Сложишь песню — отпустит, а дальше — пуще. Показали дорогу, да путь заказали. Точно тайный горб на груди таскаю — тоска такая!Глава вторая ПОМНИШЬ, ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ ВОЗЛЕ АЛМА-АТЫ?
Олжас, сотрясенье — семечки! Рассказ поэта Олжаса Сулейменова об аварии 20 июня 1970 года
Сушь стояла в Алма-Ате 20 июня, термометры поблескивали ртутью у отметки в 31 градус — ни дождинки целую неделю. Сушь, да и сушняк, дело-то было молодое. Олжас, тот самый Олжас Сулейменов, с которым Вознесенский общался в тот день, поэт-шестидесятник, много лет спустя ставший послом Казахстана в ЮНЕСКО, вспоминал в апреле 2013 года давнее происшествие, едва не завершившееся трагически для него и для Андрея, да и не только для них. Вот его рассказ:
— С Андреем мы дважды побывали в таких ситуациях… Надо сказать, что мы были знакомы с середины или конца шестидесятых. Как познакомились — не помню. Возможно, вместе выступали на Днях советской поэзии где-нибудь. Встречались не часто: все мы в то время были очень заняты собой, страной и миром. Времени не хватало на семью, на слишком тесные приятельства и дружбы. С учетом этих обстоятельств можно сказать, что мы были друзьями.
Никогда об Андрее не сказал и не подумал ничего дурного. Знаю, что и он обо мне. Он и для зала был фигурой, отмеченной сияющими плюсами, восклицательными знаками, и для наблюдающих за ним из-за кулис… Я любил разбираться в архитектуре его поэм и стихотворений. Такого азартно-стихийного чувства слова, сочетающегося с инженерно-расчетливым построением стихотворной фразы, какое проявилось в его вещах, более ни у одного пишущего с тех пор я не встречал — и не только у российских поэтов…
А что касается тех историй — одну Андрей описал в стихотворении, которое называлось «2 секунды 20 июня 1970 года в замедленном дубле» и посвящалось моей автомашине с номером АТЕ-37–70. Оно было в том же году напечатано в «Новом мире». А потом выходило в сборниках. Помню почти все стихотворение.
Олжас, сотрясенье — семечки! Олжас, сотрясенье — семечки, но сплёвываешь себе в лицо, когда 37–70 летит через колесо! (30 метров полета и пара переворотов.)В то лето в Алма-Ату на гастроли прибыл «Современник», дали несколько спектаклей в Театре русской драмы имени Лермонтова. На один из них прилетел Андрей Вознесенский. Я его утром встретил, устроил в гостинице. Навестили моих родителей, попили чаю с небольшим коньячком. Андрей почти не пил, я на радостях принял пару рюмок. Вечером собрались в театр. Момент, когда мы усаживались в мою машину, Андрей описал в следующей строфе:
Бедная твоя мама… Бедная твоя мама, бежала, руки ломала: «Олжас, не седлай АТЕ, сегодня звезды не те…»Мама моя, Фатима Насыржановна, была против того, чтобы я садился за руль. Я всегда ее слушался, но тогда не получилось.
После спектакля поехали на Первомайские озера, километров двадцать за городом. С нами Татьяна Лаврова и одна из зрительниц — моя знакомая волейболистка (в стихотворении эти героини представлены — «звезда волейбола и экрана, прекраснейшая из звезд!»).
Настроение у всех — на пять с плюсом. Развели костер, постреляли шампанским.
Возвращались на рассвете. Часа в четыре. Андрей и Татьяна на заднем сиденье. И этот бросок описан:
Как: «100» при мгновенье запуска, сто километров запросто, Азия у руля. Как шпоры, вонзились запонки в красные рукава!Боюсь, что спидометр показывал скорость поболее. В последний момент я успел крутануть руль, иначе бы мы все вылетели через ветровое стекло. А так, переднее левое колесо боком врезалось в бетонный бордюр круга, выросшего перед нами. Такие круги, заполненные газоном с цветами, устраивали в самых неожиданных местах автомобильных трасс, обозначая таким образом перекресток магистральных дорог.
И вот этот спасительный поворот руля обеспечил нам первый переворот с приземлением на крышу, затем естественно последовал второй переворот, и на другом конце газона мы оказались на всех четырех колесах. У Андрея — «семечки» (сотрясение мозга, к счастью, легкое). У Татьяны — синяк на всю щеку. «А вечером — спектакль!!!» У меня — ушиб колена и, наверное, тоже по голове досталось. Волейболистка умело сгруппировалась и — ничего. Двери заклинило, не открывались. Ветровое и заднее окно выдавило — вылетели и лежали на газоне целенькие. Выбрались наружу через пустые рамы.
А было летнее утро. Солнце встает. Вокруг на всех четырех дорогах — никого. Мы стоим по колена в цветах и открываем уцелевшую бутылку шампанского.
Враги наши купят свечку. Враги наши купят свечку и вставят ее в зоб себе! Мы живы, Олжас. Мы вечно будем в седле!Потом, в Москве, Андрей показал свежий номер «Нового мира» с опубликованным стихотворением и шариковым пером вычеркнул «зоб» («это редактор!») и надписал слово, которое было в рукописи. Оно начиналось с «ж». Мы отметили публикацию в ближайшем кафе и куда-то поехали. Андрей — за рулем своей «Волги». Он по природе своей не был водителем-лихачом и не пил «без оглядки». А в тот день и вовсе не притронулся. Но возле Кремля въехал какому-то «жигуленку» в зад. Не сильно, но отметился. После этого мы всё же заехали посидеть в Дубовом зале ЦДЛ, где я написал ему несколько строк в стиле Николая Гумилёва:
Андрей, мы — кочевники, Нас разделяют пространства культур и эпох, мы идем, нарушая гиперболой царства прозы, исправляя метафорой мир, выпрямляя вопросы, как велел нам — таинственный бог.Помню и концовку:
Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом.…А в отношении того, что связывало Андрея с Татьяной… В ту пору много что могло соединять молодого и гениального с талантливой и прекрасной. С годами, знаю, связи ослабли…
Здесь мы прервем рассказ Олжаса Сулейменова, но еще вернемся к нему.
* * *
Сам Вознесенский вспоминал, как летела «АТЕ-37–70», не только в стихах, но и в прозе — вот так: «Олжас Сулейменов спас мне жизнь (и себе) тем, что превысил скорость, и машина, перелетев кювет, перевертывалась уже на мягком лугу».
Было бы великой странностью — умолчать тут стыдливо о спасшихся музах. По крайней мере о той, что сидела на заднем сиденье рядом с Вознесенским. И дело вовсе не в сплетне про адюльтер. Дело в космосе.
О, не случайно Вознесенский очутился в машине Олжаса — как был ему созвучен брат казахский, когда склонялись музы в сулейменовских стихах: «Мне до свободы нужен шаг, / а ею пройден, / она предельна в падежах, / я — только в роде. / Она в склонениях верна, / я — в удареньях, / так выпьем темного вина — / до озаренья!»
Кто сказал про застойные? Завихрительны были семидесятые — «их подсвечивала алмазно / соблазнительница — речь». Вознесенский неспроста в 1979-м подытожит это десятилетие именно книгой «Соблазн». Не познанием эпоха соблазнила, а непознанным увела. «Почему же меня прельщают / музы веры и лебеды, / у которых мрак за плечами / и еще черней — впереди? / Почему, побеждая разум — / гибель слаще, чем барыши, — / соблазнитель крестообразно / дал соблазн спасенья души?..»
Среди ангелов-миллионов, даже если жизнь не сбылась, — соболезнуй несоблазненным. Человека создал соблазн.Джина Лоллобриджида прилетела на Московский кинофестиваль в июле 1971-го. Та самая Лоллобриджида, которую в «Антимирах» Вознесенского уже «ощупывал» Антибукашкин, академик, грезивший о чем-то своем. Теперь — «Лоллобриджиде надоело быть снимаемой. / Лоллобриджида прилетела / вас снимать…». Сногсшибательная итальянка привезла свою фотовыставку, заехала и в Переделкино. «Благослови, Лоллобриджида, мой порог. / Пустая слава, улучив предлог, / окинь мой кров, нацель аппаратуру! / Поэт полу-Букашкин, полу-Бог».
Но нет — «Я рождена для дома и семьи».
Поэт лишь «припадет / к кольцу / с дохристианскою эротикой, / где женщина берет запретный плод…».
Как чай откушать с блюдца хорошо! Как страшно изогнуться в колесо, где означает женщина начало, и ею же кончается кольцо. («Кольцо»)В 1974-м, с апреля по июнь, в Пушкинском музее соблазняла непонятной улыбкой Джоконда. Соблазнено полтора миллиона советских граждан, отстоявших в очередях по семь часов. Соблазнена Екатерина Фурцева, министр культуры, раздобывшая немыслимую сумму в 100 миллионов долларов для страховки привезенного в Москву шедевра Леонардо да Винчи и лично заказавшая тот спецфутляр, в котором выставлялась «прекрасная флорентийка». Не эталонная красавица, а искушала Красотой. И вдохновляла — открывать загадки красоты во всех, кто есть вокруг, только уметь нужно их чувствовать и видеть.
Вознесенский объяснит свое смятение чувств в поэме (у поэта она — «опера-детектив») «Дама треф»: «Как зовут Тебя, Муза? — Не знаю. / Назовем ее — Красота. / Отстоявши полночные смены, / не попавши в священный реестр, / вы, читательница поэмы, / может, вы героиня и есть?»
Просветлев от забот ежегодных, отстояла очередя. И в Москву прилетела Джоконда, чтоб секунду взглянуть на Тебя.А что касается земных муз поэтов и скандалов вокруг них — поэт всем любопытникам и «держателям морали» ответил стихами «Порнография духа»:
Отплясывает при народе с поклонником голым подруга. Ликуй, порнография плоти! Но есть порнография духа. Когда танцовщицу раздели, стыжусь за пославших ее. Когда мой собрат по панели, стыжусь за него самого. Подпольные миллионеры, когда твоей родине худо, являют в брильянтах и нерпах свою порнографию духа. Когда на собрании в зале неверного судят супруга, желая интимных деталей, ревет порнография духа. Как вы вообще это смеете! Как часто мы с вами пытаемся взглянуть при общественном свете, когда и двоим — это таинство… Конечно, спать вместе не стоило б… Но в скважине голый глаз значительно непристойнее того, что он видит у вас…* * *
Андрей Андреевич заметит в эссе «Судьбабы»: вспоминая о великих художниках, не стоит забывать «об их вдохновительницах» (а то и спасительницах). «Женщина рождает стихотворение, поэт только крестит его духовно». Великие музы, которых Вознесенскому «довелось застать на земле», будто отражались в двух зеркальцах.
В 1991 году, побывав на спектакле «Как она танцевала» в лондонском «Глобусе», Вознесенский напишет: «В верхнем зеркальце снимает грим после спектакля Айседора Дункан, из нижнего подмигивает усталая Ванесса Редгрейв, сыгравшая ее. „Есенин и Айседора“ стали гвоздем сезона лондонской сцены, открывавшим непереводимый смысл судьбы любого поэта: непонимания и сверхпонимания. Ванесса (Айседора) говорит на сцене только по-английски, Есенин (наш Олег Меньшиков) отвечает ей только по-русски. „Ощенилась сука“, — хрипит в тоске поэт. „Oh, dog, sorry“, — вздыхает иноязычная Ванесса. И пудрится. Удавишься!.. А кто сказал, что искусство вдохновляет лишь хор херувимов?»
Истории поэтов с музами — отдельный космос. Правда, бывают последствия и вполне земные. Была ли Оза-Зоя с Вознесенским — ангелом, пела ли в том самом «хоре херувимов»? О, это уж точно не про нее. Она скорее ядерный реактор, зря, что ли, они ездили в Дубну, где она так поразила поэта.
Ее жизнелюбию, жажде ко всему, что есть интересного, нового, яркого, — можно позавидовать: другую такую найди-попробуй. Нос ней, при всех кульбитах и головокружениях, Вознесенский знал, что у него есть точка опоры. Четыре с лишним десятка лет были они счастливы и несчастливы, как все, но совсем не так, как все. Распахивать дверь в личную жизнь не любили.
Богуславская объяснит все, что было непросто, — просто: «Он считал пошлостью рассказывать о том, что дома… Я никогда не звонила Андрею, если он опаздывал или пропадал, особенно в годы звездного урагана. Никогда не спрашивала: а что ты не едешь? А с кем ты там? Никогда не опускалась. Говорила: когда приедешь, тогда и приедешь. А не застал меня — будешь искать!»
Он и завихрялся, и возвращался, и искал, и всегда находил. Многие музы будут отмечать в стихах поэта то, что, кажется, известно только им. Но Зоя останется той самой великой музой, которая рядом с поэтом была и есть навсегда. Не важно, про кого, кому, — в его поэзии она царила всегда, даже когда незримо.
Время нас мочит. Город нам отчим. Но ты меня очень, и я тебя очень… Лето ли, осень, все фразу не кончим: «Я тебя очень…»Ах, актерская судьба! Голая богиня…
Тень той самой алма-атинской аварии возникает у Вознесенского не раз. По этой тени нетрудно узнать Татьяну Лаврову — в целой россыпи сумасшедше откровенных стихов. Столько в них колдовского — как в «озере красоты русской периферии». Столько в них земного — как «дом, где родилась она, — / между собором и баром»… «Долго не знал о тебе. / Вдруг в захолустнейшем поезде / ты обернешься в купе: / Господи…»
Господи, это же ты… Помнишь, перевернулись возле Алма-Аты? Только сейчас обернулись. Это впервые со мной, это впервые, будто от жизни самой был на периферии… («Озеро»)Или вот так легко и лихо: «Сложи атлас, школярка шалая, — / мне шутить с тобою легко, — / чтоб Восточное полушарие / на Западное легло…»
Я нашел отпечаток шины на ванкуверской мостовой перевернутой нашей машины, что разбилась под Алма-Атой.Как-то все в жизни актрисы Татьяны Лавровой сложилось нескладно — не так, как могло бы, наверное. Все кажется: заслуживала большего. Могла сделать в кино и театре куда больше — но ярких ролей ей выпало немного. Главным фильмом ее остались «Девять дней одного года». Главной ролью в ефремовском МХАТе — Раневская из «Вишневого сада». Мужьями ее были гипнотические личности — актеры Евгений Урбанский, Олег Даль. Оба прожили, расставшись с Лавровой, недолго. Так совпало. С третьим мужем, футболистом клуба «Торпедо» Владимиром Михайловым, она разошлась, оставшись с сыном Владимиром. «Я влюблялась в талантливых, я — с большим гонором…» — повторяла Лаврова. Народная артистка, всюду узнают и любят. Но как же она несчастлива и одинока, — такое чувство оставалось у многих. Разумеется, не мог не чувствовать того же и влюбленный поэт.
В 1975 году на Международном фестивале телефильмов в Монте-Карло актрисе вручили приз, «Серебряную нимфу», за лучшую женскую роль — в фильме Леонида Марягина «Вылет задерживается», а стихи, написанные Вознесенским вслед, оказались трогательными и горькими до боли: «Аплодировал Париж / в фестивальном дыме, / тебе дали первый приз — / „Голую богиню“. / Подвезут домой друзья / от аэродрома. / Дома нету ни копья, / да и нету дома…»
Предлагал озолотить Режиссер павлиний — Ты ж предпочитаешь жить Голой, но — богиней. ……………………… И мерцает из угла В сигаретном дыме — Ах, актерская судьба! Голая богиня… («Звезда»)И тут опять придется вспомнить «Таинственную страсть» Аксенова. Лукавый Василий Павлович, раздав своим героям псевдонимы, наградил Вознесенского именем неслучайным: Антон Андреотис слишком отчетливо рифмуется с настоящей фамилией актрисы, известной по псевдониму «Лаврова» — Андриканис. Сама же Лаврова в романе Аксенова, очевидно, ввиду своих человеческих качеств, — Катя Человекова. «„Антошка, я умираю без тебя“, — чуть ли не задыхаясь, прошептала Катька. — Идем быстрей в мою келью. Через час вернешься к товарищу Теофиловой».
Аксенов же, сгущая, вероятно, краски, в романе рассказал о главной драме в отношениях поэта и музы: «У нее обнаружился чуть ли не гомерический аппетит к спиртному. Хлестала Катюха взахлеб и, к сожалению, банку не держала. Антоша, бедный, не ахти какой завсегдатай злачных мест, умаялся ее искать по трапецоидному маршруту клубных, по профессиям, заведений: ЦДЛ, Дом кино, Домжур, Архитектор, ВТО. Она удирала от него то с кем-нибудь „из наших“ — ну, например, у Тушинского на Чистых прудах обреталась с неделю, ну, в Тбилиси летала с композитором Чурчхели, а то и с „ненашими“ якшалась, с практически не знакомыми трудящимися…»
Еще в конце шестидесятых мелькнуло у поэта: «Я деградирую в любви. / Дружу с оторвою трактирною. / Не деградируете вы — / я деградирую…» Такая деградация была неведома двум тысячам семистам семнадцати «поэтам нашей федерации». Ну кто из них способен был на такую безумную страсть, когда в «оторве трактирной» видится дантовская Беатриче: «Одергивая юбку на ногах, / ты где-то бродишь в разных городах. / На цыпочках по сцене мировой / мой дух, как гусь, / бежит вслед за тобой…» («Беатриче»).
Я безобразить тебе запретил. Пьешь мне в отместку. Место твое меж икон и светил. Знай свое место. («Знай свое место, красивая рвань…»)* * *
Вознесенский не был суеверен — но относился к знакам судьбы с осторожностью. И Лаврова тому по-своему способствовала. Вспоминая один такой случай в своей мемуарной прозе («Мнемозина на метле»), он назовет ее «странной художницей по имени Лариса. Чернокосую, безалаберную, озаренную свыше, ее мучили то спады, то бешеные взрывы сознания». Но в интервью, рассказывая о том же случае, Андрей Андреевич называет ее уже Татьяной:
«Я собирался в Америку без Татьяны. И она очень обиделась. Перед отъездом поехал в Крым, к своему другу Ткаченко. Я тогда легко бегал по горам, и вдруг кто-то меня будто в спину толкнул! И в этот момент я увидел взгляд этой женщины. Я упал и сломал ключицу. А дальше она позвонила Ткаченко и говорит: „Саша, ты знаешь, что-то случилось с Андреем. И это я сделала!“… У Татьяны были какие-то энергетические силы, всегда в джинсовке было что-то зашито, цыгане ей колдовали что-то. Вот такая у нее в тот момент сильная ненависть была! Через неделю она приехала и показала мне место, откуда я свалился. Думайте что хотите, но так случилось. Я ее простил. А поездка состоялась через полгода. Татьяна смущенно утверждала, что в феврале звезды были против моей поездки».
В стихах Вознесенского появятся намеки на библейскую историю, когда Ева, по наущению змея, соблазнит Адама съесть запретный плод: «В развалинах духа, где мысль победила, / спаси человека, нечистая сила — / народная вера цветка приворотного, / пречистая дева греха первородного». Случай в горах переплетется в стихах со случаем в Алма-Ате: «Я ошибся, вписав тебя ангелам в ведомость. / Только мы с тобой знаем — из какой ты шкалы. / И за это твоя дальнобойная ненависть / меня сбросила со скалы. / Это теоретически невозможно. / Только мы с тобой знаем — спасибо тебе, — / как колеса мои / превратились в восьмерки, / как злорадна усмешка / у тебя на губе…» («Обсерватория»).
…Я сдираю с тебя песнопенья. Убирайся, какая пришла! Как пропаща ты безнадежно. Как по-прежнему хороша. («Новая Лебедя»)То же наваждение демонической тенью Татьяны — в повести Вознесенского «О», опубликованной «Новым миром» в 1982 году, — влетает через форточку к поэту:
«„Мне одиноко“, — сказала она.
Она осталась жить у меня.
Утверждать, что она „сказала“, было бы неточно. Она не могла говорить, не имея приспособления для голоса. Она передавала мысли.
Правда, иногда она издавала какой-то странный вздох, отдаленно напоминающий наше „о“, — в нем было печальное восхищение, и сожаление, и стон. Я звал ее именем О. Стоило мне мысленно произнести „о“, как ты сразу появлялась.
Сейчас я думаю: что притянуло ее тогда в мою форточку? Моя тоска? От тебя целый день не было ни слуху ни духу. Или, может быть, страницы этой рукописи, лежащие на столе?
О чем писалось в тот день?
О дырах судеб. <…>
…Иногда ты пошаливала. Шутки у тебя были дурацкие. Подкравшись сзади, ты сталкивала меня в чужую память и судьбу. Я становился то Гойей, то Блаженным. Ну и досталось же мне, когда я забрался в Мерилин Монро!
Отчаянно ревнива ты была!
Стоило женскому голосу позвонить, как ей из трубки в ухо ударял разряд. Глохли. Многие лысели. Стоило мне притронуться губами к чашке — ты разбивала ее. Особенно ты ревновала к прошлому. Ты сладострастно выведывала, вынюхивала память о моих давних знакомых. Ты озарялась. Как злобна и хороша ты была! Я подозреваю, что ты даже могла влюбиться из ревности, а не наоборот. <…>
…Окружающие осуждали. Завидя нас, вибрировали. „Чаще заземляйся“, — посочувствовал проносящийся Арно и поспешно поднял стекло. Позвонила тетя Рита: „До меня дошли слухи, которым я не верю. Но чтобы не усугублять…“ „…ять, ять, ять“, — захулиганили феи телефона. Тут я вспомнил, что тетя Рита год как умерла. <…>
Ответь хотя бы, где ты носишься сейчас, тоскливая перекати-поле, перекати-небо?
Отвалила. Намылилась и отвалила.
Отвратительный, повторяю, она имела характер!
Как-то сел у машины аккумулятор, я подсоединил ее. Мы очнулись в окрестностях Житомира.
В редкие минуты благодушия она демонстрировала мне видения ведьм, российской истории и образы моего детства, которые я сам не помнил.
— Покажи мне, что меня ожидает.
— О, для этого тебе надо было познакомиться с белой дырой.
И опять взрыв агрессии. <…>
…Однажды я предал ее. Но не мог же я везде таскать ее с собою! У нее в запасе была вечность, моя же жизнь была коротка.
Я сказал, что иду в контору, запер ее, а сам зарулил в гости. Когда я вывалился, напротив подъезда стояло такси с включенным счетчиком и отключенным шофером. В темноте машины я узнал ее мстительный взгляд. Дома, встретив, она ничего не сказала мне, но телефон неделю не работал.
Иногда она исчезала по своим цыганским непроглядным делам. Сначала я волновался, искал ее, боялся, что ее сожрут иные стихии и поля. Я оставлял форточку открытой, и она возвращалась. Я это узнавал по отключенному телефону…
…Оканчиваю. Я прощаюсь с тобой, моя темная повесть… Она метнулась к окну. Она задержалась на мгновение в форточке. Помедлила. Покачалась. И тоскливо обернулась. Больше я ее никогда не видел. <…>
…Отлично работает телефон. Откровенно говоря, я рад, что от нее избавился. Возбужденные спелые кошки безопасно набираются солнца. Над Переделкином ревут самолеты. Никто не портит настроение».
* * *
Помнит магическую Татьяну Лаврову и соседка Вознесенского по Переделкину, внучка Бориса Пастернака Елена Леонидовна:
— К Андрею Андреевичу как-то особенно льнули мистически настроенные женщины. Таню я прекрасно помню, она вся состояла из каких-то оберегов, что-то шептала, зашивала, бегала к бабкам. При всей ее красоте и стати, она была слегка «помешана» на этом. Что-то могла наколдовать, и он действительно падал, ломал руки… Лаврова была подругой моей мамы, жила у нас в переделкинском доме, вот в этой комнате. Она была нашей любимицей, приезжала с сыном, который был моим ровесником, мы дружили. Роман у Тани с Андреем случился, наверное, когда нам было лет двенадцать — четырнадцать, так что Аксенов явно преувеличил, приписав Таниного сына в романе Андрею — их история случилась позже.
В Переделкино она приезжала часто и жила подолгу, чтобы «мониторить» за Андреем. Прекрасно ее помню — она была уникальная женщина, такая, от которой можно сойти с ума в буквальном смысле слова. Они то сходились, то расходились. Мне она запомнилась такой — всегда на взводе, потому что приезжала, как правило, когда у них были плохие отношения. И пила очень много. При этом оставалась ярчайшей личностью, невероятной красоты, обаяния, богатства внутреннего.
В последние годы она начала много болеть и мама много болела, и они не общались. Отношений с Андреем не стало никаких, и она прекратила сюда ездить: воспоминания для нее были слишком болезненны. Лет десять до ее смерти я ее не видела.
* * *
«Прибегала в мой быт холостой, / задувала свечу, как служанка. / Было бешено хорошо / и задуматься было ужасно!..»
…Моя шумная жизнь без тебя не имеет уже содержанья. Ощущение это прошло, прошуршавши по саду ужами… Несказаемо хорошо! А задуматься — было ужасно. («На озере»)Александр Ткаченко расскажет однажды, как на одном из выступлений Вознесенского в Крыму сидевшая в первом ряду Лаврова сказала так, что не услышать было невозможно: «Андрей, зиппер застегни!» Поделится воспоминаниями и крымский фотограф Аркадий Левин — в газете Симферопольского медуниверситета «Медицинский вестник» (2010. Февраль. № 3), в редакции которого не раз бывал поэт:
«… В то время мы вместе с Сашей Ткаченко составляли часть Татьяны и Андрея крымской жизни. Она часто, чуть прищурив свои „карие вишни“, повторяла:
— Да, Крым для нас — это окраина рая…
…В очередной их приезд я повел Татьяну и Андрея к приятелю, местному ювелиру, прицениться к „рукотворным шедеврам“. Татьяна разговорилась и припомнила давнюю историю. После показа „Девяти дней одного года“ она в составе делегации побывала в Латинской Америке… Чтобы не ударить лицом в грязь, актриса одолжила у своих московских знакомых дорогие украшения. В честь советских именитых гостей была устроена грандиозная коррида. И когда к ногам Татьяны бросили отрезанные уши быка (а это величайший знак уважения и восхищения), она, не раздумывая, сняла дорогущий старинный перстень и… одарила им ошеломленного тореадора. В это мгновенье, видимо, сработали гены: ведь она родом из семьи русских купцов, прадедом ее был учредитель Московского Художественного театра — сам Савва Морозов (точнее — Лаврова была ему двоюродной праправнучатой племянницей. — И. В.). „Я много лет отдавала свои гонорары хозяйке этого перстня. Но зато!“…
…Перебирая пожелтевшие от времени фотографии, нашел одну, напомнившую, как много-много лет назад на старый Новый год… В дальнем углу сада стояла елка, вместо игрушек и мишуры на ней красовались „заграничные“, с тонкими длинными каблуками женские туфли. А по периметру, словно бумажная юбка, на зеленых иголках висели исписанные стихами листы бумаги. Это был подарок поэта… „Я закопал шампанское / под снегопад в саду. / Выйду с тобой с опаскою, / вдруг его не найду. / Нас обвенчает наскоро / белая коронация — / с первого по тринадцатое, / с первого по тринадцатое“…
Так все и было. Долго искали под снежной белизной спрятанные бутылки, отогревались за столом с нехитрой закуской, слушали стихи. Татьяна вслед шепотом повторяла посвященные ей строки:
Я так люблю тебя, когда Плечами, голосом, спиною Меня оденешь ты собою, Как водопадная вода.…Мне казалось, что всё вокруг волшебство — влюбленный поэт и актриса, снежная сказка никогда не исчезнут».
* * *
В 1977-м Вознесенский написал знаменитую «Сагу», которую мифология увязала с Лавровой. Так это или нет, но расстались они навсегда. «Ты меня на рассвете разбудишь, / проводить необутая выйдешь. / Ты меня никогда не забудешь. / Ты меня никогда не увидишь»…
Строки «Саги» прозрачны, чувство неподдельно чисто:
И качнется бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда: «Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу».Татьяна Лаврова никогда ни с кем не делилась этой своей печальной историей. Ушла из жизни актриса 16 мая 2007 года. По словам Зои Богуславской, незадолго до смерти она позвонила. Пообщались они с Озой тепло. Андрей Андреевич, почти совсем потерявший к тому времени голос, говорить по телефону не мог.
Шахуй, оторва белокурая!
— Как мама? — поинтересуется композитор Родион Щедрин, разговорившись с примой после премьеры своей оперы «Левша» в Мариинке. Премьера состоится в августе 2013-го в Петербурге. Прима — Мария Максакова — ответит полушутя: «Мама сейчас в Прибалтике, скучает, Вознесенского вспоминает…»
Без лишних политесов объясним: мама Марии, знаменитая народная артистка Людмила Максакова — одна из муз, которой Вознесенский также посвящал свои стихи. Пересуды и слухи — дело назойливое и раздражительное, и однажды, за два года до смерти, поэт не выдержит и вставит в своего «Архитекстора» отповедь изданию, которое «печатает измышления»: «Что в Риге или в Эстонии / я без смущения всякого, / у публики на виду, / имел молодую Максакову / как падающую звезду. / Редактор, что вы там буровите?..» Строго говоря, все в этой отповеди правда. И то, что «падающей звездой» Людмилу Максакову при всем желании никак не назовешь, и то, что не было ничего такого «у публики на виду».
Не станем и мы додумывать. Вчитаемся в написанное и сказанное поэтом. В сборнике «Иверский свет», вышедшем в 1984 году, встречаются стихи о Риге и Таллине: «Ты сожмешься в комок неузнанно. / Я тебе подоткну пальто. / Чтоб от Северного до Южного / всем твоим полюсам тепло. / Все летаем с тобой, летаем, / пристегнувшись одним ремнем. / Завтрак в Риге, а ужин в Таллине. / Там вздремнем»…
Но на самой заброшенной трассе снова примутся узнавать. И на их вездесущее «здрасьте» крикнешь: «Здравствуйте, так вашу мать…» («Ты сожмешься в комок неузнанно…»)Эпизод этот, со смачно приветствующей вездесущих поклонников артисткой, поэт вставит позже и в другую историю с озорной музой. А может, муза повторит свой эффектный жест. Так или иначе, история эта имеет отношение к Максаковой, что подтвердит позже сам поэт.
Весной 1989 года в советском еще Таллине, в гостинице «Palace», откроется первое в СССР казино «Astoria Palace». Заметим по ходу: опыт игры в казино у Андрея Андреевича был — в Лас-Вегасе он проигрался до того, что выручать его примчался Аллен Гинзберг. И вот казино открылось в Таллине, где Вознесенский оказался с Максаковой. То ли поэт был так азартен, то ли актриса, то ли обоим захотелось острых впечатлений. Вознесенский расскажет в эссе «Тебя Пастернак к телефону!», что случится дальше:
«„Слышала, в Таллине открылось первое ночное казино? У тебя паспорт с собой?“
Мы полетели к джинсовому морю. В чем были — в чесучовых белых прикидах. В Таллине шел ливень. В гостинице нам как оккупантам не дали места. Мелочи! Зато мы купили билеты на полуночное открытие казино.
Оставалось девять часов помокнуть. Сквозь облипший шелк просвечивал твой розовый позвоночник. Вдруг среди ливня меня окликнули. Боже мой! Это был Ян Гросс, поэт, переведший мою книгу, знакомый мне по Москве.
„Заходите!“ Оставляя лужи на мраморном полу, мы поднялись в особняк. Рюмка коньяку и светская получасовая беседа. „А где вы остановились? Ах, нигде… Ах, еще девять часов до открытия?.. Ну заходите как-нибудь в другой раз…“
Еще восемь часов под ливнем. В казино нас не пустили без смокинга. Ночь до первого самолета мы провели на скамейке в аэропорту. Злые, с мокрыми ногами. Но это мелочи! Смотри, открывается утренний буфет! Небритые, заспанные пассажиры потянулись к стойке. Ты, белоснежно-красивая, с непроницаемым лицом, машинально стала в очередь. „Мелочи все это, — бодрился я, — зато как прекрасно, что мы здесь одни, на необитаемой земле, никто нас не знает…“
Тут самый небритый и отвратный оторвался от хвоста и направился к нам: „Здравствуйте…“ И он назвал твое кинозвездное имя.
Очередь остолбенела. С непроницаемым лицом ты ответила неземным четко поставленным голосом: „Здравствуйте, <…> вашу мать!“
Онемели. Расступились. Пошедшая пятнами буфетчица сунула нам вне очереди бутылку румынского шампанского.
Сев за столик, я спросил: „Что с тобою?“ — „А что, что я такого сказала?“ — „Ты сказала:…“
„Не может быть. Я думала, что я не вслух, а про себя сказала. С недосыпа, наверное“.
Ваш банк, мадам!
Через неделю ты вернулась в Таллин одна, чтобы забрать забытую мной в аэропорту куртку.
Знал ли я, что вскоре вся Россия станет казино? И на площади за фигурой Пушкина замаячит надпись „Россия“, затянутая матерчатым плакатом „Пушкинский“, а сбоку загорится „Casino“?»…
* * *
Вознесенский посвящал стихи Людмиле Максаковой еще в шестидесятых. «Ливы» — еще одно напоминание о Рижском взморье — посвящены Л. М. «Островная красота. / Юбки с выгибом, как вилы. / Лики в пятнах от костра — / это ливы… <…> Гармоничное „и-и“ / вместо тезы „или-или“. / И шоссе. И соловьи. / Двое встали и ушли. / Лишь бы их не разлучили!..»
Лишь бы сыпался лесок. Лишь бы иволгины игры осыпали на песок сосен сдвоенные иглы! И от хвойных этих дел, точно буквы на галете, отпечатается «л» маленькое на коленке!Муза по имени Людмила — в «Рождественских пляжах»: «Людмила, в Сочельник, / Людмила, Людмила, / в вагоне зажженная елочка пляшет. / Мы выйдем у Взморья. / Оно нелюдимо. / В снегу наши пляжи! / В снегу наше лето…» И тогда еще, в шестидесятых, — все те же пересуды: «Сто раз хоронили нас мудро и матерно, / мы вас „эпатируем счастьем“, мудрилы!» В восьмитомнике поэта из слова «мудрилы» выпадет «р». Видимо, поэт решит: так ближе к истине — или издательские нравы станут либеральнее.
Людмила-ау! я помолвлен с двойняшками. Не плачь. Не в Путивле. Как рядом болишь ты, подушку обмявши, и тень жалюзи на тебе, как тельняшка… Как будто тебя от меня ампутировали.Что за двойняшки? Возможно, их смысл объясняют строки: «Живешь — бежишь под шепот во дворе: / „Ишь, баба — как Симона Синьоре“…»
Соперницы! Одно лицо на двух. И я глазел, болельщик и лопух, как через страны, будто в волейбол, летит к другой лицо твое и боль! («Прости меня, что говорю при всех…»)Людмила Максакова, невзначай конечно, вспоминала не раз о слухах вокруг «тайны» ее рождения: поговаривали, что Сталин был неравнодушен к ее матери, солистке Большого театра Марии Петровне Максаковой, и что Людмила — дочь генералиссимуса. Слухи развеяли воспоминания любовницы Сталина Веры Александровны Давыдовой, меццо-сопрано Большого, все успокоились. «И тем не менее поэт Андрей Вознесенский, — заметит Максакова, — намекая на таинственные обстоятельства моего появления на свет, написал стихотворение „Дочь фараона“…». Другое название стихов — «Королевская дочь»: «Ты — дочь полководца и плясуньи. / Я — вроде придворного певца. / Ко мне прибегаешь в полнолунье / в каморку, за статуей отца». Строки эти, впрочем, могли напомнить, при желании, и о Максаковой в роли мечущейся меж двух огней Лауры из пушкинских «Маленьких трагедий» («Каменного гостя»), поставленных в начале шестидесятых в Вахтанговском театре.
Не раз говорила Максакова о том, что сборник стихотворений Вознесенского «Дубовый лист виолончельный», изданный в 1975-м, тоже посвящен ей. Прямых указаний на этот счет поэт не оставил. Актриса связывает слово «виолончельный» с тем, что в детстве ее отправили учиться играть на виолончели и она даже по-французски разговаривала с испугу. Ну да, в этих стихах («Ода дубу»), между прочим, опять «двойняшки»: «двойник-дуб, памятник природы /республиканского значенья».
Сюда вбегал Мицкевич с панною. Она робела. Над ними осыпался памятник, как роспись, лиственно и пламенно, — куда Сикстинская капелла! Он умолял: «Скорее спрячемся, где дождь случайней и ночнее, и я плечам твоим напрягшимся придам всемирное значенье!»К слову, не возлюбленная Мария Верещак, готовая уже бросить жениха, робела — робел, очевидно, Адам Мицкевич, решивший ограничиться клятвой в вечной небесной любви. Но и стихотворение — тревожное, ироничное, вибрирующее, как нерв виолончели, — не только об этом, ибо здесь любовники — как «агентура / двойная, будто ствол дубовый, / между природой и культурой, / политикою и любовью».
Здесь в лесах свисают совы матовые, как телефоны-автоматы. «И, перебита крысоловкой, / прихлопнутая к пьедесталу, / разиня серую головку, / „Ночь“ Микеланджело / привстала». У Вознесенского так часто: стихи, в которых музы обнаруживают тайные знаки — причем каждая свои, — имеют более широкое содержание, объединяющее всех муз. Впрочем, в чем актрису Максакову не заподозришь — в излишней пафосности и отсутствии самоиронии. Вот, собственно, тому пример наглядный — рассказ самой Максаковой «Семи дням»:
«Как-то, уже прожив с мужем лет семь (Максакова замужем за Петером Игенбергсоном с 1974 года. — И. В.), я приехала в его родной Мюнхен. Жила в прекрасной гостинице в центре города и бегала по музеям и театрам, но, естественно, не могла равнодушно пройти мимо буржуазной „сладкой жизни“.
В витрине диковинного для советского человека магазина я увидела шубу из рыси. Она мне так понравилась, что я долго клянчила ее у мужа. Наконец он сдался и подарил мне шубу, хотя даже для него она была дорогой покупкой. В тот же вечер я отправилась в театр на модную постановку пьесы Кляйста „Разбитый кувшин“.
Я сидела в зале, но мысль об обновке, сиротливо висевшей в гардеробе, не давала мне покоя. „Как жаль, что я не в Москве! Вот бы пойти в ней сейчас в Дом кино!“ Высидев два акта как на иголках, я отправилась пешком в гостиницу. Вдруг меня подхватили под руки двое красавцев. Вылитые Ален Делон и Хельмут Бергер! „Мы вас проводим, мадам“.
Я не успела прийти в себя, как один шепчет: „500 за вечер?“, другой перебивает: „1000 за ночь?“ — „Ну, — думаю, — меня за дорогую проститутку приняли!“ Но они тут же мою догадку развеяли: „Мадам, вы согласны платить?“
Оказывается, эти два жиголо приняли меня в этой шубе за богатую даму, которая снимает мальчиков за деньги. Вознесенский, которому я рассказала этот смешной эпизод, написал об этом стихи».
«Венская повесть» — назвал стихотворение Вознесенский. «Я медлила, включивши зажиганье. / Куда поехать? Ночь была шикарна. / Дрожал капот, как нервная борзая. / Все нетерпенье возраста Бальзака / меня сквозь кожу пузырьками жгло — / шампанский воздух с примесью бальзама! / Я опустила левое стекло… / <…> Я вспыхнула. Меня, как проститутку, / восприняли! А сердце билось жутко: / тебя хотят, ты блеск, ты молода! / Я возмутилась. Я сказала „Да“…»
…Ах, сволочи! продажные исчадья! Обдав их газом, я умчалась прочь. А сердце билось от тоски и счастья! «Пятьсот за вечер, тысячу за ночь».* * *
«Женщина в стрижечке светло-ореховой, / светлая ночью, темная днем, / с сизой подкладкою плащ фиолетовый!.. / Чересполосица в доме моем…» («Рано»).
Героиня стихотворения «Стрела в стене» срывает «подаренный пенджабский лук»: «Как в ГУМе отмеряют ситец, / с плеча откинется рука, / стрела задышит, не насытясь, / как продолжение соска. / С какою женственностью лютой / в стене засажена стрела».
На людях мы едва знакомы, но это тянется года, и под моим высотным домом проходит темная вода.Тут все и просто, и загадочно. Стрела летит, опережая свист. «С тетивы слетает стрела усиленной эмоции», — писал Виктор Шкловский в книге «Тетива. О несходстве сходного». (На 80-летие маститого литературоведа Вознесенский, к слову, вручил ему детский лук и стрелы со словами: «И по врагам! По врагам!») А сколько еще «стрел усиленной эмоции» выпустят музы поэта?
Шахуй, оторва белокурая! И я скажу: «У, олимпийка!» И подумаю: «Как сжались ямочки в тазу». «Агрессорка, — добавлю, — скифка…» Ты скажешь: «Фиг-то».Глава третья С УМА БЫ НЕ СОЙТИ!
* * *
В 1916 году, в канун революции, Александр Блок записал: «У меня женщин не 100–200–300 (или больше?), а всего две: одна — Люба; другая — все остальные, и они — разные, и я — разный».
Прекрасная Дама или Оза — имя у самой единственной музы поэта может быть разным, как космос распорядится. Главное, напишет Вознесенский, что — «…женщина как Земля, / тобой переименована, / значит — навеки твоя».
Между прочим, в шахматы с музой Вознесенский играет и в блоковском Шахматове (усадьба сгорела в 1921 году и воссоздана частично в 2001-м):
Мы играли с тобою в Шахматове. В пыль алмазную вверх тормашками белой махою, черной махою тень ложилась на луг ромашковый… («Темная фигура»)* * *
Вряд ли Андрей Андреевич, ценивший красоту, предпочитал всем остальным ее достоинствам душевность и прочие добродетели. А иначе зачем его музам нужны были метлы? Не подметать же…
Блоковский счет этот — две женщины — прозвучит у Вознесенского в «Осени Пастернака». Он напишет о Борисе Леонидовиче, как всегда, держа в уме и немного себя. О двух «несоединимых» полюсах в поэте.
У Зины в кухне догорали зимы. А Люся, в духе Нового Завета, была, как революция, раздета. Мужская страсть белела, как седины. Эпоха — третья женщина поэта, его в себя втыкала, как в розетку — переходник для неисповедимого.У Вознесенского этот неотвязный мотив из сентиментального перетекает едва ли не в трагический. Сколько читательниц примеряло любовные стихи Вознесенского на себя! Строки эти — интимный спецхран золотого фонда русской поэзии.
«Я — двоюродная жена. / У тебя — жена родная! / Я сейчас тебе нужна, / я тебя не осуждаю» («Я — двоюродная жена…»).
«В этом доме ремонт завели. / На вошедшего глянут с дивана / две войны, две сестры по любви, / два его сумасшедших романа» («Хозяйки»).
«На суде, в раю или в аду / скажет он, когда придут истцы: / „Я любил двух женщин как одну, / хоть они совсем не близнецы“» («На суде, в раю или аду…»).
Но «Молитва» его сумасшедше чиста и всегда обращена к единственной — как к божеству: «Когда я придаю бумаге / черты твоей поспешной красоты, / я думаю не о рифмовке, — / с ума бы не сойти! / Когда ты в шапочке бассейной / ко мне припустишь из воды, / молю не о души спасеньи, — / с ума бы не сойти!..»
Куда-то душу уносили — забыли принести. «Господь, — скажу, — или Россия, назад не отпусти!»Здесь не может не возникнуть ассоциация, пусть отдаленная, с блоковским: «…Русь моя! Жена моя!»
Аль его, аль его боярыни вырвали? «О» и Олжас. Продолжение рассказа поэта Сулейменова
В 1975 году Олжас Сулейменов напишет в книге «Аз и Я» в том числе и про отдельное значение фонемы «О» в тексте «Слова о полку Игореве». Книга вызовет скандал, с чем-то в ней не согласится академик Дмитрий Лихачев.
В 1982 году Вознесенский назовет свою повесть — «О».
В повести «О», где среди прочих носится и тень «школярки шалой» Лавровой, появится сам академик Дмитрий Лихачев — «…белый как лунь астроном истории и языка». «Лихачев поднимает глаза. „Вы больны?.. Прочитайте сердцем несколько раз ‘Слово о полку Игореве’“. <…> Он разглаживает на столе рукопись как кольчугу, сотканную из ржавых „о“».
Александра Блок (в девичестве Бекетова, по второму мужу Кублицкая-Пиоттух), мать поэта Блока, переведет сонет Артюра Рембо «Гласные», в котором чаще всего упомянута гласная «о». Она у Рембо имеет синий цвет, она — и «звонкий рев трубы», и «дивных глаз ее лиловые лучи», и «полеты ангелов в тиши небес».
«Не плачь. Не в Путивле», — намекнет на Ярославну из «Слова» Вознесенский в «Рождественских пляжах», посвященных Максаковой.
Маршруты несвязанных дорожек, главных и второстепенных, грунтовых и асфальта, тропинок муз, академиков, поэтов, а также их родителей, сплетаются внезапно с древним «Словом» в карту речи, язык эпохи, гобелен поэзии.
«Впервые я прочитал „Слово о полку Игореве“, — писал Вознесенский, — в детстве вблизи церкви Покрова на Нерли, этой лирической кувшинки нашей архитектуры XII века, как известно, современницы „Слова“. Под угольной железнодорожной насыпью она была для меня Ярославной, спустившейся в наши низины…» («Три встречи со „Словом…“»).
«Вот уже неделю я брожу под гипнозом старорусской любовной песни, записанной у Киреевского. В ней звук — цвет, а за ним акварельное чувство.
Нет цвета, нет цвета, Ах, нет цвета алого! Аль его, аль его Песком желтым вынесло? Аль его, аль его Боярыни вырвали? Аль его, аль его Совсем в поле не было.Вслушайтесь: „Аль его, аль его…“ Все как прошито алой лентой! Прямо старорусский Матисс какой-то. Сурик с желтым и изумрудкой. Так писали портреты и иконы на алом подмалевке, и грунтовка порой проступала…» («Мнемозина на метле»).
* * *
Теперь пора Олжасу Сулейменову продолжить свой рассказ.
О ПОЭТЕ МАХАМБЕТЕ. «Где-то в начале 70-х я попросил Андрея перевести стихи Махамбета. Знаменитый в нашем народе поэт XIX века. Поднимал восстание против своего друга детства хана Джангира, „притеснителя народа“. Обезглавили. Стихи, трудно переводимые на другой язык. Не о розах и соловьях. Кипящая ненависть и кричащая боль.
Андрей взялся помочь. Я читал его переводы. „Андрей, это не Махамбет. Это — Вознесенский“. Он переводил современного американского поэта из непризнанных гениев — получился Вознесенский. Даже если бы Шекспира или Данте, — все равно выпирала бы речь Вознесенского. Он не умел быть простым транслейтером. Однако работа над стихами Махамбета обогатила, как сказал бы живописец, палитру Вознесенского новыми красками. Книга переводов не получилась, но появился цикл новых стихов, настоянных на степных образах и настроениях — „Читая Махамбета“».
О ГАРМОНИИ «О» И ВЗАИМОВЛИЯНИЯХ. «Мы не любим признаваться в том, что читая друг друга, мы чему-то учимся друг у друга. В этом нет ничего постыдного. Я чему-то учился, читая Андрея. Так же он что-то воспринял, читая Махамбета. Да и Сулейменова. Например, в моих самых ранних поэмах я сочетал стихи с прозой. Такой прием характерен для казахских эпосов. Кто-то из древних пиитов понял, что прозаическое надо излагать прозой, а стихами — только достойное поэзии. Я этим приемом воспользовался. И Андрей.
А что касается „Слова“, этот учебник чтения проверяет, есть ли у читателя — ученого или поэта, поэтический слух.
„Дремлет в пОле Ольгово хорОброе гнездО“.
Во всех школьных хрестоматиях: „Дремлет в пОле Олегово храброе гнездО“.
Двести лет уже переводят это предложение на современный русский, разрушая удивительную поэтическую гармонию „О“, которая дополняет содержание, придает поэтический подтекст. Повторяющийся минорный звук „О“ наполняет тревогой, предчувствием последней, гибельной битвы, которая должна состояться утром. Такие строки больше говорят о подлинной древности и подлинности памятника, чем тома патриотической риторики. Мы обсуждали с Андреем такие места поэмы. И гармонию „О“, конечно».
О «СЛОВЕ» И СПАГЕТТИ. «Андрей в спорах вокруг моей книги не участвовал — не считал себя компетентным в тех вопросах, которые вызвали особые возражения у Академии и ЦК. При встречах мы старались об этом не говорить: у нас всегда находились более близкие обоим темы для разговоров. Даже оказавшись в компании главного специалиста по „Слову о полку Игореве“, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, — нас троих Союз писателей СССР делегировал на какой-то писательский форум в Сицилии летом 1985 года — разговоров о „Слове“ никто из нас не затевал.
Только однажды. Мы обедали на берегу моря, стол на четверых под зонтом. Четвертый — итальянский сопровождающий. Учился в Москве. Историк. Главное блюдо — спагетти „Дмитрий Сергеевич, а знаете, откуда в Италию пришли спагетти?“ — спросил я. „Ну раз вы спрашиваете, — добродушно ответил академик, — значит, с Востока. Я прав?“ — „Абсолютно. Арбитром пусть выступит наш итальянский друг“. Итальянец пояснил. Марко Поло возвратился из своего путешествия в Китай и устроил в Венеции серию званых вечеров, где демонстрировал экзотические блюда, рецепты которых привез. И больше всего венецианским вельможам понравились спагетти. Вскоре их готовили по всей Венеции. А потом и по всей Италии. А „спагетти“, предположил итальянец, наверное, какое-то забытое китайское слово. Лингвисты пока не нашли источник. „Здесь тюркологи могут добавить — подключился я. — Àspâh etti — „лапша мясная“ по-староуйгурски. Марко Поло, судя по этому термину, рецепт заимствовал в Восточном Туркестане, ныне провинция Синьцзянь в КНР… „У нас сто пятьдесят видов спагетти, сто пятьдесят соусов““.
После этого Андрей заказал еще порции спагетти с другим соусом и осторожно спросил: „Дмитрий Сергеевич, а почему ученые навалились на Олжаса? Я бы на вашем месте за это объяснение спагетти простил бы ему все прежние ошибки!“ Дмитрий Сергеевич ответил, обращаясь ко мне, вполне серьезно: „Если бы вы, Олжас, приехали ко мне в Ленинград с рукописью, мы посидели бы вместе пару вечеров с красным карандашиком. Несколько вопросов на полях обозначили. Вы бы подумали. И вышла бы прекрасная книга“. Я же ответил, как потом сообразил, не очень серьезно: „Если бы я так поступил, книга не вышла бы вовсе, Дмитрий Сергеевич“».
О ПЕРВЫХ В ПОЭЗИИ. «В те годы родился анекдот. Руководитель Союза писателей построил поэтов в шеренгу и приказал: „На первый-второй — рассчитайсь!“ Чтобы построить в колонну по два. Из этого ничего не получилось. Потому что все в строю говорили — первый! первый! первый! И никто — второй!
У Андрея Вознесенского в том цикле „Читая Махамбета“ есть строка „Пошли мне, Господь, второго, чтобы вытянул петь со мной“. Под этой строкой первым подписался бы Евгений Евтушенко. У них с Андреем из-за этого мотива „первый-второй“ на много лет разладились отношения.
В ноябре 1977 года в Париже состоялся большой вечер советской поэзии. Громкая международная акция Союза писателей СССР в честь 60-летия Октябрьской революции. Состав выступающих сформировал Константин Симонов, утверждался в ЦК КПСС. Вечера поэзии в Европе и Америке обычно собирали несколько десятков слушателей в каком-нибудь кафе. Но тогда в Париже расклеенные за неделю афиши заполнили четырехтысячный зал. Три четверти зала — русскоязычные, съехавшиеся со всей Франции. Константин Симонов, открывая, сказал: „К вам прибыла сборная советской поэзии“. Тогда выступили Высоцкий, Окуджава, Евтушенко, Рождественский, украинский поэт Коротич. Я выступил. Но в „сборной“ не оказалось Андрея Вознесенского. Симонову пришлось объяснить его отсутствие. „Простуда“. Настоящую причину мы знали: там, где выступал Евтушенко, системно не оказывался Андрей. И наоборот. Знающих забавлял этот цирк… Одно скажу: если сегодня возникнет ситуация „первый — нет, я первый“, то причины тому будут скорее экономические. А в те времена была борьба за читателя. За качество аплодисментов и продолжительность. Такое золото тогда ценилось больше денежного. Трудно поверить, но так было».
О СПИСАНИИ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ В АРХИВ. «Списывают в архив не только шестидесятников, всю советскую литературу оптом. Да и литературу — вообще. Культура переживает один из самых опасных для ее будущего кризис — это кризис книги. Новое поколение книг не читает. СССР при всех его недостатках был страной великого Читателя и великой литературы. Сейчас в наших новых государствах место Читателя занимает Зритель и Слушатель. Место книги — шоу.
Вот почему спор, кто лучше: Бродский, Вознесенский, Евтушенко или Пупкин, для большинства сегодняшних листателей книжек с яркими обложками — пустое. Конечно, книга выживет и драга времени отмоет, отберет лучшее. Опыт фольклора показателен. Безымянный автор оставляет в памяти народа эпос. Кто-то сочинил десятки таких поэм — а осталась строка в виде пословицы или поговорки. Песни и сказания большинства пиитов рождаются для своего времени, потом окисляются и растворяются в волнах десятилетий.
Недавно мне прислали тысячестраничный том „Весь Евтушенко“. Это не „избранное“, это „собранное“. От многих томов Маяковского, Есенина и других поэтов первой половины XX века остаются тоненькие книжки „избранного“ новыми поколениями России. От кого-то одно стихотворение, от кого-то строфа, а то и строчка. То же произойдет с творческим наследием поэтов второй половины века двадцатого, появившихся в стране без Сталина после XX съезда. У кого будет потолще его „тоненькое избранное“, в котором уместится „Весь Вознесенский“ или „Весь Евтушенко“, или „Весь Бродский“, кто-то уже сейчас готов предположить, но это лишь предположения, — подлинный объем „избранных“ сформируется только через несколько десятилетий».
О СЛУХАХ ВОКРУГ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ КАК «ТАЙНОГО ПРОЕКТА СПЕЦСЛУЖБ»: ПУСКАТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА ЗАПАДУ. «„Пыль в глаза“ окружающему миру — такое средство есть в арсенале любой власти, стремящейся „хорошо выглядеть“. И сегодняшние власти во всем мире этого способа не чураются. Если „тайным проектом“ считать государственную поддержку, стимуляцию развития литературы и других сфер культуры, то этим опытом вполне стоит воспользоваться нынешним правителям. Спасли бы культуру, основанием которой в России всегда была книжная литература. Тексты из Интернета таким фундаментом культуры не станут».
Тень от носа — подлинней
…А вот и «голос осведомленного критика, читающего только заголовки». Слышите? Он из той самой повести «О»:
— Разве может буква, даже такая, как «о», стать сюжетом? Автор и сам признается в том, что он — нуль. Хе-хе. Так и озаглавил свой опус — «Андрей Вознесенский — О»…
Где он, тот критик? Утонул в прошлом времени? Не обольщайтесь — прислушайтесь, оглядитесь: такие критики всегда живее всех живых.
Впрочем, пока за окнами 1970-е. Говорят, расцвет сексуальной революции. Мировые просторы вибрируют. Две чайные ложечки сексуальных фантазий на стакан кипятку — и перемешать сновидение с реальностью, как в начавшей шествие по миру «Дневной красавице» Луиса Бунюэля (главное, не ошпариться — Катрин Денев чертовски хороша). Чудовища из криминальных сводок будят разум воспоминаний — так узник из «Баллады Редингской тюрьмы» Уайльда страдает оттого, что «каждый, кто на свете жил, любимых убивал». Так, в «Уездной хронике» Вознесенского «гуляет ветр судеб, судебный ветер». Его герой приехал с другом в «сиропный городок», — «ты помнишь Анечку-официантку?» — обоим есть что вспомнить («Я помнил Анечку-официантку, /что не меня, а друга целовала, / подружку вызывала, фарцевала…»). Но весь город на ушах, мороз по коже от подробностей: Анечку-официантку зверски «убил из-за валюты сын». Герои и себя считают отчасти виновными. И Анечка-официантка — лишь строчка в хронике. «Меж новостей и скучных анекдотов / не существует рая или ада». Сколько таких героинь, петляя, пробежит по стихам Вознесенского!
В 1986 году, «при дверех» обещанного обновления, на записи телемоста Ленинград — Бостон администратор гостиницы Людмила Иванова на вопрос американки: не возмущает ли ее реклама со сценами секса? — разволнуется и ответит: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!» Потом поправится смущенно — то есть «секс есть, у нас рекламы нет!». Но поздно — фразу подхватят, оборжут и пустят гулять по свету как один из главных пунктов обвинения в адрес СССР: «Даже секса у нас нет!» Хотя дело, конечно, лишь в словесной мифологии — и термин «сексуальная революция» был мистификацией, и слоган об отсутствующем сексе. Скажем, в 2007 году одна из лондонских городских газет выйдет под броской шапкой «Опять — „в Британии секса нет“?». И никого это не удивит, в отличие от нашей страсти к самобичеванию.
Секс в Советском Союзе был. Мужчины мерились носами. По этому поводу Вознесенский написал еще в шестидесятых диссертацию. То есть «Балладу-диссертацию» с эпиграфом: «Нос растет в течение всей жизни (из научных источников)». Носы, известно, вещь чувствительная. «Их роль с мистической тревогой / интуитивно чуял Гоголь».
«И, говорят, у эскимосов / есть поцелуй посредством носа… / Но это нам не привилось».
Мой друг Букашкин пьяны были, им снился сон: подобно шпилю, сбивая люстры и тазы, пронзая потолки разбуженные, над ним рос нос, как чеки в булочной, нанизывая этажи! «К чему б?» — гадал он поутру. Сказал я: «К Страшному суду. К ревизии кредитных дел!» 30-го Букашкин сел.Много лет спустя тема носа вернется. Хотя телереклама будет уверять, что размер его не имеет значения. Вознесенский посвятит Карлу Линнею (шведскому ученому-естествоиспытателю XVIII века) жизнерадостное четверостишие за два года до смерти — будто никуда не денется в нем юношеский задор, будто не изведет его к тому времени болезнь:
Тень от носа — подлинней Всех нототений и линей. Так говорил старик Линней: «Все подлинное — подлинней».Носы росли. Что же касается «женского начала», из уездных хроник продолжали выплывать героини Вознесенского. Революция была в опасности — научно-техническая, НТР! С одной стороны, «моя бабушка — староверка, / но она — / научно-техническая революционерка. / Кормит гормонами кабана». С другой — «прикрываясь ночным покровом, / сексуал-революционерка Сударкина, / в сердце, как в трусики-безразмерки, / умещающая пол-Краснодара, / подрывает основы / семьи, частной собственности и государства». А поэт? «Я — попутчик научно-технической революции. / При всем уважении к коромыслам / хочу, чтобы в самой дыре завалющей / был водопровод и движенье мысли» («Диалог обывателя и поэта о НТР»), И все же смущает его такое достижение мысли, как синтетическая икра.
Давнее стихотворение Вознесенского иронично и пленительно аукнется в двухтысячных у молодой поэтессы: «Я, Павлова Верка, / сексуальная контрреволюционерка, / ухожу в половое подполье, / Иде же буду вольно же и невольно, / пересказывать Песнь Песней / для детей. И выйдет Муха-Цокотуха». У Веры Павловой любви будет много, вызывающе плотской и сильной. Почему контрреволюционерка? Ну хотя бы потому, что противоположна революционно-чернышевскому феминизму Веры Павловны. Обнажена предельно — и консервативна во взглядах на семью, частную собственность и государство. Чувственность ее многих возмутит — как возмущались когда-то Мариной Цветаевой и Марией Шкапской (в них именно увидят предшественниц Павловой; любопытно, кстати, что Шкапскую, обвиненную неоднократно в физиологичности, богослов Павел Флоренский назвал как раз «подлинно христианской — по душе — поэтессой»).
На Верку — сексуальную контрреволюционерку, напомнившую о Вознесенском, тут же откликнется Евгений Евтушенко. Уловив в Павловой «поэта постшестидесятнических времен» и включив ее в антологию «Десять веков русской поэзии», он оговорится: «Сексуальной контрреволюционеркой окрестила себя в стихах сама Вера Павлова. Для многих читателей это ее, как сейчас выражаются, бренд, фирменный знак. А я все-таки поставлю знак вопросительный. Мало ли как люди называют сами себя?.. Один поэт, живущий в Вере Павловой, мне очень нравится, другой — настораживает». Что не понравится Евгению Александровичу? «Любимой бабушкой называет Вера Павлова Анну Ахматову. Но пишет доходящее до кощунства „Подражание Ахматовой“. Вот оно, только вместо одного слова из трех букв я все-таки вписал три точки: „И слово … на стенке лифта перечитала восемь раз“».
Можно уловить, кстати, у Веры Павловой далекое эхо Вознесенского не только в «сексуальной контрреволюционерке». Ее строки «Божья Матерь, помилуй мою маму, Божий Сын, защити моего отца…» — будто связаны внутренним нервом со строфой Андрея Андреевича: «Охрани, Провидение, / своим махом шагреневым, / пощади ее хижину — / мою мать — / Вознесенскую Антонину Сергеевну, урожденную Пастушихину».
Или с этой молитвой из «Озы»: Матерь Владимирская, единственная, первой молитвой — молитвой последнею — я умоляю — стань нашей посредницей. Неумолимы зрачки Ее льдистые.Глава четвертая ЛИЛИ БРИК НА МОСТУ ЛЕЖИТ
Вайда и давайдавайда
Стрекозы в августе стояли посреди полей, как черные шурупы в стеклянных дверях. Шел 1978 год, Лиле Брик через несколько месяцев должно было исполниться восемьдесят семь. Но 4 августа муза Владимира Маяковского добровольно ушла из жизни, приняв смертельную дозу нембутала, от которого, к слову, умерла Мерилин Монро. Тучки черные пробежали по небу, неся за улетающей Лилей шлейф сплетен и пересудов, волочившийся за ней всю жизнь: «пиковая дама советской поэзии», «убийца поэта», «черная дыра».
Вознесенский скажет про нее много лет спустя: «чемпионка среди ведьм». И добавит — читайте внимательно: «Муза — это святая ведьма». Она и влетит к нему в эссе «Судьбабы» — во главе эскадрильи загадочных, гипнотических или зловещих, но незабываемых ведьм поэзии XX столетия. Воспоминания и смелые эпитеты Андрея Андреевича однажды неожиданно обернутся скандалом (речь о нем впереди). Лилю Юрьевну запишут в сексуальные революционерки, заподозрят в нежных отношениях со спецслужбами. Ярослав Смеляков обвинит в гибели Маяковского, адресуя гневное стихотворение «доконавшим поэта этим лилям и этим осям»… Призыв Константина Симонова к обличителям подкреплять свои обвинения конкретными свидетельствами и документами в «Литературке» публиковать отказались.
И уже в том, как сомкнутся в солидарной ненависти к этой женщине и ревностные охранители строя, и его хулители-разрушители, — стоит поискать подвох. Все так, да что-то тут явно не вяжется, ускользает. Не такой одномерной была Лиля Юрьевна, как ее пытались представить. И хочет кто-то того или нет — Лиля Брик осталась в истории русской литературы. Не только по-своему завораживающим адресатом любовной лирики, но и участницей в судьбах многих юных и не очень юных дарований, состоявшихся при ее живейшем участии.
Впрочем, вернемся в то лето 1978-го. Вот что расскажет Зоя Богуславская:
— В то лето мы зашли с Андреем к Лиле Юрьевне перед отъездом в Пицунду (мы там бывали часто). В мае она упала, сломала шейку бедра, и ее муж, Василий Абгарович Катанян, боготворивший ее, построил лифт, чтобы она могла на второй этаж подниматься. Настроение у нее было плохое — потом я поняла, из-за чего… Мы приходим, Василий Абгарович говорит Андрею: «Пойдем, я отдам подарочек — Параджанов тебе прислал (его выпустили из тюрьмы за полгода до этого)». Андрей Андреевич поднимается с ним наверх. Оставшись со мной наедине, Лиля говорит как-то многозначительно: «Зоечка, как хорошо, что мы повидались перед вашей поездкой…» Я ей: «Лиля Юрьевна, да мы же только на две недели, не успеете оглянуться, мы уже вернемся». И вдруг она отвечает: «Ну, а кто знает, может быть, вернетесь, а меня уже не будет». — «Лиля Юрьевна, как вы можете?! Ничего не случится, шейка бедра срастается, есть лифт, все будет хорошо…» А она, будто не слыша: «Я сама это сделаю». В это время спускаются Андрей Андреевич с Василием Абгаровичем, а я, наверное, так побелела, что она быстренько сказала: «Ну что вы, что вы, Зоечка, я пошутила». Но осадочек от этою разговора остался.
Мы приехали в Пицунду, я звоню своей подружке Майе Туровской в Москву: «Какие новостишки в Москве?» Она мне: «Ну, главную новость, наверное, ты знаешь». — «Какую?» — «Про Лилю». — «Боже, что случилось?!» — «Ее нет. Приедешь — узнаешь подробности…» А когда мы вернулись, Василий Абгарович рассказал, как это было. Она тщательно все продумала. Раз в неделю домработница с Василием Абгаровичем ездили за продуктами на рынок, часа на три. И в тот день Лиля попросила: «Аннушка, дайте мне сумочку с лекарствами, что-то у меня голова болит». Та дала ей таблетки, воду и уехала… Она полулежала в качалке, укрытая пледом, приняв горсть таблеток нембутала, держа в руках неоконченную записку. В ней она объясняла причину своего поступка, стараясь никого собой не обременять. Прах ее развеяли под Звенигородом, как она и завещала. Василий Абгарович прожил после нее недолго, два года. Перед смертью его я приезжала к ним, он сказал мне: «Зоенька, смысла жить больше нет…»
Вот как написал о смерти Лили Юрьевны Брик Вознесенский:
«ЛЮБ и в смерти последовала за своим поэтом — покончила самоубийством… Я видел ее последнее письмо. Это душераздирающая графика текста. Казалось, я глядел диаграмму смерти. Сначала ровный гимназический ясный почерк объясняется в любви к Васе, Васеньке — В. А. Катаняну, ее последней прощальной любви, — просит прощения за то, что покидает его сама. Потом буквы поползли, поплыли. Снотворное начало действовать. Рука пытается вывести „нембутал“, чтобы объяснить способ, которым она уходит из жизни. Первые буквы „Н“, „Е“, „М“ еще можно распознать, а дальше плывут бессвязные каракули и обрывается линия — расставание с жизнью, смыслом, словами — туман небытия».
* * *
В 1989 году выйдет редкой злобности книга по отношению к поэту — «Воскресение Маяковского», в которой автор, Юрий Карабчиевский, глазом не моргнув, заверит всех, что Лиля Брик отравилась из-за неразделенной любви к режиссеру Сергею Параджанову. Режиссер незадолго до смерти успеет ответить ему возмущенным письмом. Слух, запущенный Карабчиевским, был, мягко говоря, плодом его воображения. Виктор Соснора расскажет, что Брик виделась с Параджановым до суда над ним всего раз. Зато когда его посадили, «из всей „элитарной“ советской интеллигенции только Л. Ю. Брик и Юрий Никулин, замечательный клоун-эксцентрик и актер кино, посылали в тюрьму посылки с продуктами и одеждой, а Никулин и бился за него с инстанциями и даже ездил в лагерь». Вознесенский послал Параджанову в тюрьму свою новую книгу «Витражных дел мастер». Благодарный режиссер и передал ему в ответ подарок. «В моем кабинете на стене, — напишет поэт, — поблескивает коллаж из засохших цветов, сделанный ее (то есть Лили Брик. — И. В.) паладином, Сержем Параджановым, в тюрьме из ничего он создал эту красоту».
Соснора расскажет также о том, как Лиля Юрьевна привлекала к вызволению из тюрьмы Параджанова Луи Арагона — тот вроде бы замолвил словечко, когда был допущен к Брежневу. Но самое трагикомичное в другом. Брик пыталась поднять европейскую прессу — безуспешно. По словам Сосноры, «они оказались ожиданно „нравственны“». Тут нельзя не напомнить о том, что Параджанов был обвинен в мужеложстве. Было ли обвинение основано на чем-нибудь, кроме желания расправиться с режиссером, — на этот счет есть много версий. Но любопытно другое: на призывы Брик европейцы лишь пожимали плечами недоуменно. Как пикантно выглядит теперь то их европейское целомудрие, граничащее с брезгливостью, — пройдет не так уж много времени, эпоха сменится, иные конъюнктуры, геополитические страсти, и европейская либеральная общественность забьет копытом, осуждая уже всю Россию, не желающую пропагандировать ставшие модными идеалы секс-меньшинств. Поучительная история — если вдуматься. Кажется, лишь в Англии, припомнит Соснора, появилась единственная ироничная статейка «Процесс над русским Оскаром Уайльдом». «Л. Ю. прочитала эту пошлятину и разорвала журнал на четыре части, крест-накрест. И все же она продолжала говорить о нем со всеми именитыми иностранцами. Пустота».
На Восьмое марта Параджанов прислал Лиле Юрьевне из зоны букет, составленный из колючей проволоки и собственных носков… Известно, что его все же освободили на год раньше срока во многом благодаря стараниям Брик.
Вознесенский припомнит свои разговоры с Параджановым уже по другому поводу:
«Он… мечтал поставить „Кармен“. Первый кадр он видел так: огромный широкий экран, крупным планом лежит голая Кармен. Камера отходит, к ее дивану приближается Хозе и… чихает. „Почему?“ — спрашиваю его. „А Кармен работала на табачной фабрике“.
Он рассказывал, как однажды в лагере заключенные собрали деньги и наняли женщину, которая ночью, освещенная за колючей проволокой, с воли совершала на глазах у них эротическое шоу. Мне показалось это великой режиссерской выдумкой. Но, будучи с В. Аксеновым на Волге, я познакомился с немолодой актрисой, которая, по ее словам, делала подобные шоу для мордовских заключенных. Ее исповедь легла в основу моей „Мордовской мадонны“».
«Я отдалась народу под Вивальди. / <…> / Честнее всенародно, чем приватно. / Господь, прости меня и накажи…»
— Давай, давай! — ревут лесоповалы. Им снились семьи, снилось Косино. — Давайдавайдавайдавайдавайда… При чем тут Вайда? Шло мое кино.Любопытно все-таки — как в жизни все перекликается. И в прошлом обнаруживается будущее. Режиссер Анджей Вайда, чья фамилия слышится неожиданно в арестантских криках «давай, давай!», — отсылает вдруг к письму, давно лежащему на полке госархива: никакой связи вроде бы нет — в письме Вайда мелькнул мимолетом. Можно ли определить смысл эха? Но мы прислушиваемся…
Письмо от Зои Богуславской и Андрея Вознесенского (из Дома творчества Переделкино, комнаты 65) — приболевшей Лиле Брик (в больницу № 59, отделение 2, палата 8). Сначала пишет Зоя, потом Андрей:
«Лиля Юрьевна, милая! как же так, только что мы думали, как поправить Васю и вдруг — вы такой „откалываете фортель“ (выражение Андрея). Очень огорчены и обеспокоены!
Василий Абгарович сказал, что навещать вас рановато, а вот письмишко — можно.
Как вам живется в этом микромире № 8? Кто вас окружает, когда вам становится до окружения? Не очень ли тяжелые и слабонервные?
Надеемся скоро повидать вас. Как только Вася свистнет…
Мы — вновь в Переделкине, в коттедже. Под нами — Плучек („сплетник и интриган“ — говорит Андрюша)… А кругом слякоть, тоска и затопленная ливнем трансформаторная будка — нет ни света, ни воды уже сутки.
В Москве — кинофестиваль. Видели: фильм Антониони „Забриски Пойнт“ и Вайды „Березняк“, Слуцких, Таривердиева и еще пол-Москвы. Наша семья разошлась (во вкусах) — мне нравится Вайда, а Антониони любопытен, а Андрею Вайда категорически не нравится, а „Антониони блеск“.
Держу за пазухой Лану! Что делать? Открыться ли Слуцкому, как владельцу, или вернуть Васе?
Чего бы вам хотелось, Лиля Юрьевна? Мы добудем из-под земли. Когда можно к вам? Передайте через Васю или отпишите, когда вам можно будет писать.
Целую вас нежно, целебно, бережно и жду выздоровления. Мужайтесь! Мы все — с вами.
Передаю слово самому.
(Почерк резко меняется, далее строчки пляшут, буквы размашисты и крупны. — И. В.)
Милая моя чудесная Лили Юрьевна, очень вас я люблю, очень без вас пустынно, скорее поправляйтесь. Скоро я опять про вас буду читать по телевизору (повторят передачу). Петя Вегин нежный привет шлет. Целую, целую вас. Я — ваш Андрюша.
22.07.71».
Тут придется попутно заметить: у Петра Вегина в те времена подряд выходили поэтические сборники, об одном написал Андрей Андреевич, помогавший ему не раз. Вегина упрекали — слишком уж подражает тому, кого называл то наставником, то кумиром, кто-то даже назвал его обидно «Вознесенским для бедных». Потом он заматереет, возглавит даже альманах «День поэзии», но из тени кумира не выйдет, в первые ряды не пересядет. В 1989-м уедет в Америку, вроде бы из-за дочки, нуждавшейся в лечении. Окажется в числе немногих, о ком Иосиф Бродский скажет что-то если не с симпатией, то без обычной неприязни. Напишет грустный роман-воспоминание «Опрокинутый Олимп» — о шестидесятниках, о собственном таланте, погибшем, выясняется, во многом из-за банальной похоти. В 2007-м Вегин скончается, можно сказать, внезапно. Подавится сосиской, и его не спасут. Барковым он не был, но выйдет будто по Баркову — «жил грешно и умер смешно». Хотя знавшие его говорят, что и поэт, и человек Вегин был неплохой.
В письме Лиле Брик Зоя упоминает еще Лану. Речь о книжке, которую Слуцкий дал почитать Лиле Юрьевне, а та — втихаря Богуславской и Вознесенскому. Что за книжка? О, это была новинка, только что, в том же семьдесят первом, вышедшая в серии «ЖЗЛ», — «Мопассан» французского писателя Армана Лану. Уже одно имя — Мопассан! — в те времена казалось манящим, как запретный плод. От детей его книги прятали, издавали их редко. Только в 1974-м выйдет темно-синий двухтомник Мопассана с четырьмя романами. У Армана Лану можно было вычитать многие малоизвестные подробности. Например, о странной переписке с Мопассаном юной художницы Марии Башкирцевой, прожившей 25 лет и так восхищавшей Марину Цветаеву. Если Брик советовала книгу прочитать — значит, что-то ее привлекло у Лану особенно. Может, строки из последнего письма Башкирцевой? Она решительно ответила Мопассану, не понимавшему никак, чего хочет от него эта прекрасная незнакомка: «Вы не тот, кого я ищу. Но я никого не ищу, ибо полагаю, что мужчины должны быть аксессуарами в жизни сильных женщин».
Под этой мыслью Башкирцевой, пожалуй, легко подписалась бы Лиля Юрьевна.
Дионисийка
Молодых литераторов она сразу ошарашивала. Первое впечатление — странное. Вознесенский описывал ее, как «картину маслом»: «…крашенные красной охрой волосы гладко зачесаны, сильно заштукатуренные белилами и румянами щеки, тонко прорисованные ноздри и широко прямо по коже нарисованные брови походили на китайскую маску из театра кукол, но озарялись божественно молодыми глазами». Но некоторым маска приоткрывалась — и взгляд художника теплел: «…до сих пор я ощущаю магнетизм ее, ауру, которая гипнотизировала Пастернака и битюговых Бурлюков». Может, действительно гипноз?
Так было не с одним Вознесенским. Вот уж на что они совершенно не близки с Эдуардом Лимоновым, — а и того чуть удар не хватил: надо же, «старая маленькая женщина так себя разрисовала». Однако — «femme fatale Володи Маяковского оказалась умной и насмешливой», и Лимонов «простил ее пошлый (я так тогда и подумал: пошлый) вид». Уезжая в свою эмиграцию, даже смотрел сентиментально вслед Брик с Катаняном — «как они идут по желтым листьям в свою усадьбу, в Вечность». Ну определенно, магическое что-то в ней было.
Известны теории Лили Юрьевны — как правильно с мужчинами обращаться: «Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи». Или: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешать ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить куда вздумается. Остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье». Многие вспоминали о ее влюбчивости и страстях: «из-за Пудовкина даже чуть не отравилась». Но главное — она любила, чтобы ее любили. Сама решала, с кем дружбу завести, с кем разорвать. Тот же Соснора вспомнит, как она порвала поочередно — отлучив от своего «салона» — с поэтом Николаем Глазковым, артистом Николаем Черкасовым, с «серебряной флейтой» футуризма Семеном Кирсановым (слишком много пивший поэт был потрясен разрывом и «плакал, метался»).
Жену Вознесенского поначалу она встретила холодно… Вот как расскажет об этом сама Зоя Богуславская: «Она очень плохо меня приняла. Когда Андрей женился на мне, внешне она не показывала, но предпочитала, чтобы он приходил один. Он ведь меня тут же предъявил Лиле Брик. Я оказалась не той женщиной, которую Лиля Брик предполагала рядом с Андреем Андреевичем, таким принцем-мальчиком, который читал ей стихи. Вокруг него было очень много женщин, с очень крупными именами, известные, много поклонниц. И вдруг приходит неюная женщина с ребенком… Однако потом, не знаю, как это получилось, но она стала меня любить больше, чем Андрея: просто как человека. Если я не приходила долго (мы жили на соседней даче), она звонила: „Зоенька, я вас чем-нибудь обидела?“ Такая у нее была форма напоминания…»
Лиля Юрьевна умела и любила управлять мужчинами в своем окружении. Юные гении поначалу были ей за это благодарны. Потом, оперившись, начинали чувствовать такую опеку излишней — чар постаревшей Лили Брик уже не хватало… Вознесенского она приблизила к себе во времена, когда ему особенно нужна была поддержка: позвонила после выхода футуристической «Треугольной груши», после хрущевского окрика в Кремле звонила. Что правда, то правда — не боялась, поступала, как считала нужным, независимо от того, куда дул ветер. Вознесенский не ценить этого, конечно, не мог. Атмосфера в «салоне Брик» окутывала и очаровывала: «У нее был уникальный талант вкуса, она была камертоном нескольких поколений поэтов. Ты шел в ее салон не галстук показать, а читать свое новое, волнуясь — примет или не примет?»
Казалось, приближаясь к ней, — приближаешься к самому Маяковскому. Вознесенский читал здесь свою «Записку Е. Яницкой, бывшей машинистке Маяковского», свой «Разговор с эпиграфом», обращаясь напрямую к поэту: «Владимир Владимирович, разрешите представиться! / Я занимаюсь биологией стиха. / Есть роли более пьедестальные, / но кому-то надо за истопника…» Маяковский ушел, понятый «процентов на десять» — юный Вознесенский был настроен решительно: «…мы не уйдем — / как бы кто ни надеялся! — / мы будем драться за молодняк».
И, возможно, строки Маяковского, адресованные Лиле, — про «глаза-небеса, / любимой / моей / глаза. / Круглые / да карие, / горячие — / до гари» — откликнутся потом у Вознесенского знаменитыми «безнадежными карими вишнями» в «Саге». А история с кольцом, которое Маяковский подарил возлюбленной Лиле, — с инициалами Л. Ю. Б., сливавшимися по кругу в бесконечное люблюблюблюблюблю, — расцветет букетом Вознесенских «кругометов». И по цоколю его дома в Переделкине пробегут кольцом буковки — цокольцокольцокольцо…
Однажды Лиля Юрьевна прочитала ему письмо от сестры Эльзы Триоле: некий французский фанат Маяковского прямо на проезжей части одного из парижских мостов изобразил портрет его музы. Вознесенский загорелся: «Лили Брик на мосту лежит, разутюженная машинами. Под подошвами, под резинами, как монетка зрачок блестит!» Стихи назывались «Маяковский в Париже», посвящались «Уличному художнику». Этим стихотворением он будет много лет подряд открывать свои поэтические вечера — оно созвучно любым аудиториям: «Вам шумят стадионов тысячи. / Как Вам думается? Как дышится, / Маяковский, товарищ Мост?.. / Мост. Париж. Ожидаем звезд. / Притаился закат внизу, / полоснувши по небосводу / красным следом от самолета, / точно бритвою по лицу!»
Признание в любви к Маяковскому — важный для Вознесенского в начале шестидесятых знак верности поэтическим идеалам русского авангарда.
Гений. Мот. Футурист с морковкой. Льнул к мостам. Был посол Земли… Никто не пришел на Вашу выставку, Маяковский. Мы бы — пришли.Лиля Юрьевна была в восторге. Однако — музы не умеют без хитросплетений. Кто-то назовет это «интригами», кто-то «лукавством» — только не мы. Просто всплывали ситуации загадочные и вроде бы случайные…
Вознесенский едет впервые в Париж, газеты тамошние заливаются восторгом. И Лиля Юрьевна вдруг невзначай звонит Асееву: ой, Коленька, такой у Андрюши успех, и он там в интервью о нашей поэзии рассказывает, поэтов перечисляет… а вас, Коленька, почему-то не упоминает… Так это или нет, не важно: звоночек прозвенел, и отношения Вознесенского с Асеевым с тех пор пойдут наискосок. Николай Николаевич, писавший прежде добрые статьи про Андрея Андреевича, станет писать теперь недобрые…
«Лиля Юрьевна оставила очень интересные мемуары, — будет позже вспоминать Вознесенский. — Читала нам их по главам». Про громкие перепалки Маяковского с Есениным, например. В них она цепким карим глазом увидела что-то свое: на самом деле поэты знали друг другу цену, а вслух не признавались из принципа. «Есенин переносил свое признание на меня и при встречах называл меня „Беатрисочкой“, тем самым приравнивая Маяковского к Данте»… Когда же Данте вдруг всерьез увлекся парижской красавицей Татьяной Яковлевой, Лиля заволновалась. Узнав, что у Яковлевой возник жених, Лиля с Эльзой Триоле, по словам Зои Богуславской, «так всё подстроили, что, когда Маяковский был у Брик, позвонила ее сестра. Он взял другую трубку — он мог слушать, как сестры разговаривают, член семьи все-таки. Эльза сказала Лиле как бы невзначай: „Ах, да, скажи Володе, что Татьяна вышла замуж“. И он упал без сознания у трубки. Такая история…»
Своим мемуарам Лиля Брик предпослала эпиграф, со старомодной щепетильностью испросив у Вознесенского разрешение взять его строки:
Стихи не пишутся, случаются, как чувства или же закат. Душа — слепая соучастница. Не написал — случилось так.Впрочем, что у муз на уме — всегда потемки. Восторги Лили Брик приобретают цвет кислотный, если вчитаться в письма, которые она писала тогда же, когда вслух говорила Андрюше приятности. В письмах она бросает в его адрес небрежные, едва ли не злорадные реплики. Странно… Так, 29 сентября 1968 года, проводив слависта Клода Фриу и его жену, переводчицу Ирен Сокологорскую, Лиля Юрьевна тут же строчит Виктору Сосноре: «Говорили с Клодом о поэтах, о том, кто останется как поэт, а кто только будет упомянут в Истории Литературы. Он сказал об Андрее, что „будет упомянут“. „А Соснора?“ — спросила я… „Ну, это совсем другое дело! Виктор — большой поэт“».
Или вот еще, из письма Лили Брик от 13 февраля 1970 года — тому же Сосноре: «Смотрели у Любимова премьеру Андреевой пьесы „Берегите ваши лица“. Это — эстрада. Монтаж. Был большой успех, но, вероятно, тем дело и ограничится, так как ближайшие, уже проданные спектакли уже отменены и заменены другими, хотя и Андрей и Любимов согласны на любые купюры… Андрея никогда не видим. Он живет в Переделкине. За кулисы мы не пошли: поулыбались друг другу со сцены и обратно. Обо всех происшествиях нам звонит из Переделкина Зоя…» Речь идет о той самой премьере спектакля на Таганке, который сразу же был запрещен — там, ко всем прочим грехам, Высоцкий спел «Охоту на волков». Через пару недель, 27-го, Брик между прочим сообщит тому же адресату: «Вчера был у нас грустный Андрей: его пьеса не пошла».
«Была ли она святой? Отнюдь! Дионисийка», — скажет Вознесенский.
Татьяну Яковлеву, которую прочили в музы Маяковскому и о которой Лиля Брик отзывалась исключительно «спортивно», Вознесенский встретит позже — в Америке. Она придет на его вечер в Колумбийском университете — почти одновременно с Александром Керенским. Первый премьер демократической России пригласит поэта на чай — тогда Вознесенский и услышит из первых уст, «что он никогда не переодевался в платье сестры милосердия», что «Ленина он уважал, как гимназиста-однокашника» и что «причиной своего падения считал интриги Англии, с которой он не подписал какого-то договора». В изысканный круг Яковлевой Керенский вхож не был. Высокая, статная, европейски образованная и, по наблюдению поэта, осененная кавалергардской красотой, «она была музой серафического образца». Завсегдатаями у нее позже станут Иосиф Бродский и Михаил Барышников.
Что же касается Вознесенского, ему явно был любопытнее и казался притягательнее как раз антипод — муза калибра демонического. Брик на метле. В ней больше тайн, страстей и закоулков, и неизвестности. Уже в конце девяностых он напишет «Сомнамбулу» — о сомнамбулическом самоубийстве, возвратившем Маяковского в поэта. «Революция Маяковского — / сексуальная!» «Наш народ так его и не понял. / Нацепив на лацкан морковку, / уходил Маяковский по небу».
Зазывая в глаза огромные, Киберматерью была его Лили. Убивались или любили. Или — или. Лилю Брик клеймили интриги: «Черный пояс на ней с резинками». Местечковый акцент меняли комбриги на метерлинковский…Обстановочка
Вознесенский любил ее такую.
Но вот же — после смерти Лили Юрьевны и ее последнего мужа Василия Абгаровича Катаняна — Вознесенского с ними поссорили.
В десятом номере журнала «Огонек» за 1992 год появится эссе Вознесенского «Музы и ведьмы века». Потом оно войдет в «Прожилки прозы» — уже как «Судьбабы». Один абзац из этого эссе, правда, исчез.
В «Огоньке» было так: «Однажды она призналась: „Я любила заниматься любовью с Осей (тут ЛЮБ, как это бывает с дамами, смакуя, употребила запредельный глагол). Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал“. После этого я полгода не мог приходить в ее дом. Она казалась мне монстром. Но Маяковский любил такую. С хлыстом. Значит, она святая».
Стало в «Судьбабах» — вот так, без лишней экспрессии: «Порой в ней поблескивала аномальная искра того, „что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья“. Именно за это и любил ее самоубийца. Их „амур труа“ стало мифом столетия. О нем написаны исследования. Наследники это отрицают. Вероятно, они правы».
Можно было бы и не придавать значения поправке. За ней — история совсем некрасивая. Но… и красноречивая.
Вслед за публикацией в «Огоньке» Андрей Андреевич получит письмо, написанное в тоне настолько развязно-неприличном, в стиле столь напыщенно-высокомерном, что не сразу и поверишь: автором письма окажется сын Василия Абгаровича, Василий Васильевич Катанян, почтенный кинодокументалист. Само письмо больше скажет об авторе, чем о его адресате. И, что интересно, во многом повторит его же письмо, написанное за два года до того Виктору Сосноре. В 1990-м в журнале «Октябрь» выйдет роман Сосноры «Дом дней». Многие главы романа автор посвятит Маяковскому, Брик, Арагону, Триоле — не тая, подобно Вознесенскому, своего трепетного чувства к ним и не отказывая себе в праве показывать эпоху и ее героев так, как видит он. Никаких гадостей и пошлостей, какие немедленно найдет у него Катанян. Самое страшное, что потрясет Василия Васильевича, — «нелепые фантазии насчет аппетита Эльзы Триоле, мозговая кость, столь любимая Арагоном, или сосиски в целлофане». Наверное, наследникам бывает неприятно, когда пишут не совсем так, как видится им. Наверное, какие-то скелеты и вовсе не хотелось бы вытаскивать из шкафа. Но в таких вот, вероятно, ситуациях и выявляются масштабы личностей… Словом, Катанян, мягко говоря, Сосноре грубил, грозился спустить с лестницы и что-то мелочно припоминал: «Стыдно и недостойно поступать так именно Вам — по отношению к Лиле Юрьевне. Не могли же Вы забыть, что она начала привечать Вас еще тогда, когда Вы слесарили на заводе и Ваши поэтические ростки были еще еле заметны. Но со свойственным ей провидением, ЛЮ оценила Ваше дарование и активно Вам помогала. Меценатство никогда не было ей чуждо. <…> Мало кто может подняться над обывательщиной и не укусить мертвого льва. Я не удивляюсь недругам, но друзья? Те, кто распинался в преданности и любви и кто видел от нее только хорошее! Вы — пример тому. <…> И не согласны Вы, видимо, со словами Маяковского — „Я поэт. Этим и интересен“. Вам мало его поэзии. Вас интересуют слухи. Жаль.
В. Катанян
20.11.90».
Теперь, два года спустя, такую же отповедь получит Вознесенский. «Андрей! Неужели не читал ты много раз напечатанное: „Я уже больше года не была женой О. Брика, когда связала свою жизнь с Маяковским. Ни о каком „menage a trois“ не могло быть и речи…“
Далее шли цитаты — из Ахматовой про уголовно наказуемое „самовольное введение прямой речи“, из последнего письма Маяковского, обвинение в пособничестве архиреакционным (а таких полно) силам, клевещущим на Лилю Юрьевну. И наконец, — о, лавры папарацци, — Василий Васильевич придумает, как уязвить Вознесенского наверняка: „А теперь представь на минуту, что твоя дочь, близкие и поклонники прочтут воспоминания кого-либо из завсегдатаев твоего дома (извини за гнусные строки, но они в твоем стиле)…“ И затем автор письма живописно, как умеет, перескажет со своими подробностями то, что сам поэт давным-давно описал в своей „Обстановочке“ (краткое содержание стихотворения: „Вот моя теневая спальня. Ой, как развалено… Хорошо, что жены нет“… „Тень от предстоящей иконы: „Кинозвезда, пожирающая дракона““. Обещал подарить Солоухин»… «А вот женина брошка. И платье брошено… Наверное, опять побегла к Аэродромову за димедролом… Актриса, но тем не менее! Простите, это дела семейные»… «Сухие, нетронутые полотенца… Голос из стены: „А зачем мне вытираться, вылетая в вентиляцию?!“»). Зажмем носы — и бегом к финалу письма: в нем автор, принимая позу Данта (того самого, с которым Лиля Юрьевна сравнивала Маяковского), отправляет Вознесенского «в девятый круг ада», называя его предателем. Ибо Андрей Андреевич, пусть и не осуждая вовсе, сделал шаг в сторону от мифологической схемы Лили Брик: ничего с Осей при Маяковском не было, «все сплетни о „треугольнике“, „любви втроем“ и т. п. — совершенно не похоже на то, что было».
Бессмысленно, конечно, погружаться тут в давние споры — разве что несколько примечаний мимоходом. В воспоминаниях Фаины Раневской есть строки, перекликающиеся с тем Вознесенским пассажем, возмутившим наследников, — не про запертого на кухне Маяковского, а про то, что Лиля «отказалась бы от всего, только бы не потерять Осю». Раневская спросила Лилю Юрьевну: «Отказались бы и от любви к Маяковскому?» Она, не задумываясь, ответила: «Да, отказалась бы и от Маяковского, мне надо было быть только с Осей». «Мне хотелось, — подытожит Раневская, — плакать от жалости к Маяковскому».
Вознесенский, обескураженный письмом Катаняна-младшего, не стал вступать в перепалку. Спорить было не о чем, говорили они на разных языках. Цели доставить неприятности своим близким, как и «опорочить» или «предать» Лилю Юрьевну — у Андрея Андреевича уж точно не было. Пассаж, возмутивший наследников Брик, он смягчил, хотя суть осталась прежняя.
Сама Лиля Юрьевна, судя по воспоминаниям болгарского поэта Любомира Левчева, относилась к разговорам о «любовных треугольниках» гораздо снисходительнее. В мемуарной книге «Ты — следующий» Левчев вспомнит, как Вознесенский привел его в гости к Брик и сразу «крутанул разговор», заявив, что Любомир — вылитый Маяковский:
«Роковая женщина посмотрела на меня испытующе и насмешливо:
— Не думаю… Нет! Совсем не похож.
И сразу же сменила тему… Но когда Катанян вышел на кухню за новой бутылкой, я вдруг неожиданно для самого себя атаковал ее:
— А разве Осип Брик не догадывался о ваших отношениях с Маяковским?
Я почувствовал, что краснею от собственной наглости.
Но Лиля Юрьевна рассмеялась в тембре Эдит Пиаф, как будто этот вопрос доставил ей удовольствие:
— Молодой человек, вы сейчас много болтаете о сексуальной революции, а мы тогда были настоящими сексуальными революционерами. Мы жили интимной коммуной.
Потом она подарила мне несколько фотографий с ее автографом. На одной из них, где она сидит вместе с чекистом Бриком и футуристом Маяковским, Лиля Юрьевна начертала: „На память о нашей дружной семье“…»
Глава пятая Я ДРУГА ЖДУ. РАССКАЗ РОДИОНА ЩЕДРИНА, КОМПОЗИТОРА И ДРУГА ПОЭТА
Левая пятка не так повернута
Рассказ композитора Родиона Щедрина записан в ноябре 2013 года в питерской гостинице «Астория». Дополненный комментариями из мемуаров, интервью его жены, балерины Майи Плисецкой, певицы Людмилы Зыкиной и поэта Андрея Вознесенского, — здесь он представлен, как беседа великих очевидцев эпохи.
* * *
Щедрин: «Еще будучи студентом консерватории, я познакомился с Евтушенко, с Беллочкой Ахмадулиной, с Робертом Рождественским. С Андреем мы встретились чуть позже, чем со всеми из этой плеяды. Честно, не помню, где это точно случилось, — но вполне возможно, что в квартире Лили Юрьевны Брик. Вообще в моей судьбе ее салон сыграл большую роль — прежде всего там я встретился с Майей…»
Вознесенский: «Познакомила нас Лиля Юрьевна Брик. Оказалось, что русый композитор в это время замыслил „Поэторию“ по моим стихам. Куски стихов моих он монтировал так же коллажно, как потом стриг фрагменты Бизе для своей „Кармен-сюиты“. Я мог бы повторить на память всю его „Кармен-сюиту“ с ее фантастическими „деревяшками“… Мы крепко дружили с Майей и Родионом».
Плисецкая (из книги «Я — Майя»): «У Бриков всегда было захватывающе интересно. Это был художественный салон, каких в России до революции было немало. <…> К концу пятидесятых, думаю, это был единственный салон в Москве.<…> И главное. Для меня. Лиля очень любила балет. В юности она изучала классический танец. Пробовала сама танцевать. Кичилась передо мной пожелтевшими, вылинявшими фотографиями, где была увековечена в лебединой пачке на пуантах. При первом просмотре Лилиных фото я ее уколола:
— Левая пятка не так повернута.
— Я хотела вас удивить, а вы про пятку».
Вознесенский: «Я познакомился с ней <Майей> в доме Лили Брик, где всё говорит о Маяковском. На стенах ухмылялся в квадратах автопортрет Маяковского. Женщина в сером всплескивала руками. Она говорила о руках в балете. Пересказывать не буду. Руки метались и плескались под потолком, одни руки. Ноги, торс были только вазочкой для этих обнаженно плескавшихся стеблей… <…> Есть балерины тишины, балерины-снежины — они тают. Эта же какая-то адская искра. Она гибнет — полпланеты спалит! Даже тишина ее — бешеная, орущая тишина ожидания, активно напряженная тишина между молнией и громовым ударом. Так любит она. В ней нет полумер, шепотка, компромиссов».
Почему именно у Лили Брик?
Щедрин: «Прежде всего, это был очень хлебосольный дом. У Брик, в любое время дня, в любое время года, первым делом усаживали за стол. Священное правило. Мы ведь жили пять лет с ней в одном доме. Поженившись, мы с Майей получили двухкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, 12, напротив „Украины“…
Хотя с Брик мы встречались и раньше. В Спасопесковском переулке ее квартира была на четвертом или пятом этаже, но без лифта. А ей уже трудно было подниматься, и поэтому она не знаю как, но получила трехкомнатную небольшую квартиру в том же новом доме напротив гостиницы „Украина“. У нас с Майей в другом подъезде была крошечная двухкомнатная, двадцать восемь с половиной метров, без передней, так что можно было с лестницы прыгнуть — и сразу в постель. Как выяснилось позже из интервью одного генерала КГБ, в этой самой постели у нас был спрятан микрофон. Слушали, как Майя ругает советскую власть, КГБ и так далее…
С Лилей Юрьевной я познакомился в пятьдесят втором году, когда мне еще не было двадцати лет. Привел меня к ней поэт Володя Котов, помните, он написал „Не кочегары мы, не плотники“. Потом, правда, спился и погиб, такая судьба у него, российская…
Как мы с ним познакомились — тоже интересно. В 1950 году я поступил в консерваторию. До этого я шесть лет жил в интернате. А теперь, поскольку я выдержал вступительные экзамены, родители купили для меня путевку на десять дней в дом отдыха на берегу Оки. Отец был с Оки, дед с Оки, так что как бы в родные места. Дом деревенский, который был у нас, в Алексине, продали… В доме отдыха комната была человек на шесть. И как-то так в разговорах вдруг стали проскальзывать цитаты Маяковского — „вошла ты, резкая, как нате! муча перчатки замш“. А я очень любил раннего Маяковского, просто бредил.
Ну и тут слово за слово с соседом по комнате: „А вы любите?“ — „Да“. — „Раннего?“ — „Раннего“. — „Первый том?“ — „Первый“. И этот человек мне говорит: ой, вас надо познакомить с Володей Котовым. Он как раз жил неподалеку.
И вот уже Котов как-то предложил: пойдем к Лиле Брик, она и деньги дает на такси, и кормит. Я удивился: разве она еще жива? — Жива, у нее рояль есть, слабаешь свой „Левый марш“ или „По морям, играя, носится с миноносцем миноносица“. — Я ведь уже писал музыку на стихи Маяковского. И мы пошли, это был пятьдесят второй год, товарищ Сталин был еще живой.
Представляете, мне было почти двадцать, мы росли на такой скудной эстетической диете, — а тут висят на стенах автопортреты Маяковского, картины Пиросманишвили, конструктивисты. Это был не такой салон, как, знаете, сейчас могут богатые немцы пригласить послушать какого-то скрипача… Нет-нет, тут было такое общение, личностное. И не было тут „золотой молодежи“, когда я попал к Лиле Брик, Сталин еще живой — какая „золотая молодежь“? По своему опыту скажу: шестидесятники были скорее голодранцы. Я не считал обидным, что Лиля Юрьевна давала мне деньги на такси. Мне не хотелось жить за счет отца, который мало зарабатывал, и я студентом подрабатывал в похоронном оркестре и где-то в ресторанчике, и хором каким-то руководил. Это, кстати, дало и хорошую школу, чисто музыкантскую — поиграть немножко на контрабасе, на ударных, на кларнете или на трубе, не умеючи…
У них был хороший рояль Bechstein, Брик получала авторские за Маяковского. Потом Хрущев отменил все это ей, наследникам Горького и Алексея Толстого. И она стала все продавать, в том числе и рояль продала. Но все равно оставалась хлебосольной.
В те годы, по-моему, я один был там музыкант. Потом появился Мика Таривердиев, Эдик Лазарев, но это позже. А тогда она меня часто просила: поиграйте что-нибудь на рояле. К ней приходили такие люди, как Тышлер, Шкловский, Арагон, конечно, с ее сестрой, Эльзой Триоле. Помню Неруду, которого Лиля Юрьевна спрашивала: почему ты так дружишь с Симоновым? Она только потом, через его жену Ларису, сблизилась, смирилась с Симоновым. А Неруда сказал ей: это человек, с которым приятно съесть хороший кусок мяса…
Словом, я „слабал“ свой „Левый марш“ — и если бы Лиле Юрьевне и ее мужу, Василию Абгаровичу Катаняну, не понравилось, я бы не был принят в их салон, — и ничего бы не произошло. Я бы не встретил ни Майю, ни Андрюшу Вознесенского».
Судьбы наши сблизились и вкусы сошлись
Щедрин: «„Я, как и Маяковский, не член партии…“ Я помню, как Андрюша начал свое выступление в Кремле в шестьдесят третьем году, я же был на всех трех встречах Хрущева с интеллигенцией. Нас с Андреем Эшпаем выдвигали на эти встречи как молодые таланты. И на третью — в Свердловском зале Кремля, когда Хрущев орал на Вознесенского. Помню, как тогда Илья Эренбург вышел и сказал о происходящем: „Это не для моего сердца“…
Конечно, мне был близок Пушкин, позже Цветаева. Но вот моим поэтом, моего существа человеческого, все-таки оказался Андрей Вознесенский — до сегодняшнего дня. Для меня его поэтическая, образная материя несопоставима с Евтушенко. С Бродским я не был знаком и, честно говоря, не отношу себя к его почитателям. Знаете, у меня был однажды заказ: написать музыку либо на стихи Бродского, либо Мандельштама. В итоге появился вокальный цикл на стихи Мандельштама „Век мой, зверь мой“. Хотя я честно прочел несколько книг Бродского, и… ничего. На мой вкус, это слишком стерильно, искусственно.
Да, как-то и судьбы наши с Андреем сблизились, и вкусы сошлись естественным путем. Я не пропускал ни одного его поэтического вечера, как и Майя. Где бы это ни происходило, в самой маленькой аудитории. Так же, как и он не пропускал моих вечеров. Помните, есть стихи: „Я люблю в консерватории не большой, а малый зал…“
Я помню, как он прочел это свое „уберите Ленина с денег!“ — и весь зал аж содрогнулся, стулья затрещали. Это было страшным вызовом тогда. Сейчас этого не понимают, считается хорошим тоном кидать камни, упрекать шестидесятников, что они „компромиссничали“. Из Жени Евтушенко, который для меня эстетически намного дальше, чем Андрей, даже делают какого-то агента КГБ, первого друга Брежнева или Хрущева… То ли дело теперь — бесстрашно, в галстуке на голое тело, прочитать свои стихи в телевизоре Ване Урганту. Мелькают однодневки, двухдневки, трехдневки, как бы властители дум, — и тут же куда-то исчезают. Думаю, время еще воздаст шестидесятникам должное…
Я помню, дело доходило до того, что Андрей просто ездил в типографию, платил наборщикам, и они восстанавливали какие-то слова, меняли знаки препинания после цензуры. Вот в „Поэтории“ звучали строчки — цензура сделала: „Мне больно, когда тебе больно, Россия“. У Андрея же запятая в другом месте, и это меняет смысл: „Мне больно когда — тебе больно, Россия“. Страна, которая травит своих поэтов, делает хуже самой себе.
…Тогда шли на компромиссы — а теперь идут на подлости, на что угодно, лишь бы заплатили в евро или долларах. Конечно, он не избегал и хулиганств. Помню, читал: „Опухший Ливанов, ну где твой несыгранный Гамлет“ — напечатано: „громовый Ливанов“. Одних Андрей ошеломлял, других пугал и раздражал…
Но, конечно, очень значимой для нас с ним работой стала „Поэтория“. В основе ее стихи из его „Ахиллесова сердца“. Шел 1969 год, и, знаете, чиновники поначалу просто ее прозевали, как „Кармен-сюиту“, когда не видели ни одной репетиции, приехали уже на премьеру — ну и второй спектакль уже запретили…»
Вознесенский — Щедрину («Лесник играет»): «У лесника поселилась залетка. / Скрипка кричит, соревнуясь с фрамугою… <…> Но он докажет этим мазурикам / перед приезжей с глазами фисташковыми — / левым плечом упирается в музыку, / будто машину из грязи вытаскивает!»…
Ах, покатила, ах, полетела… Вслед тебе воют волки лесничества… Майки изогнутая бретелька — как отпечаток шейки скрипичной.Плисецкая (из интервью «Комсомольской правде»): «Это первые месяцы нашей совместной жизни. Я приехала к Родиону в Сортавалу прямо из Праги, где была на гастролях. Мы жили в маленьком домике, без удобств вообще. Вокруг домика лоси бродили. Счастливый месяц…»
Вознесенский («Портрет Плисецкой»): «Плисецкая — Цветаева балета… <…> Впервые в балерине прорвалось нечто — не салонно-жеманное, а бабье, нутряной вопль. В „Кармен“ она впервые ступила на полную ступню. Не на цыпочках пуантов, а сильно, плотски, человечьи… <…> Ей не хватает огня в этом половинчатом мире. „Жить приучил в самом огне, / сам бросил в степь заледенелую! / Вот что ты, милый, сделал мне! / Мой милый, что тебе — я сделала?“».
Чай, опять кулуарный авралец?
Щедрин: «„Поэтория“ была для того времени безрассудством полным. Андрей приходил в таком белом шарфике, это было все непривычно — но он был смелый. Как-то немного всегда собирался внутренне, но шел до последнего. Хор — сто человек, оркестр — еще сто человек, Зыкина — и он, читающий свои стихи.
Мы шли на эту авантюру с козырными картами — Геннадий Рождественский, руководитель оркестра Гостелерадио, был у нас дирижером. Клавдий Птица, руководитель хора Гостелерадио, руководил у нас хором. Потом — Люся Зыкина, голос родины, голос России…»
Зыкина (из книги «Течет моя Волга»): «Пришла я как-то на спектакль в Большой театр. Смотрю, в ложе Родион Константинович. Нервничает, комкая в руках программку, — Майя Плисецкая танцует „Кармен-сюиту“ Бизе-Щедрина. В антракте подошел ко мне, взял под руку и бросил шутливо, как бы невзначай: „Ну, Зыкина, в аферу со мной пойдешь? Крупная авантюра намечается“…
Добавил, что в „авантюру“ пускается не один — с поэтом Андреем Вознесенским и дирижером Геннадием Рождественским. И название новому сочинению придумал мудреное: „Поэтория“ — для женского голоса, поэта, хора и симфонического оркестра.
— Под монастырь не подведете? — поинтересовалась я.
— Не бойся! Вот тебе клавир, через недельку потолкуем.
Через неделю сама разыскала Щедрина.
— Нет, мне не подойдет. Невозможно это спеть: целых две октавы и все время — вверх, вниз и опять вверх, продохнуть некогда.
На Щедрина мои сомнения, как видно, не произвели никакого впечатления, потому что, не говоря ни слова, он усадил меня к роялю.
— Смотри, у тебя же есть такая нота — вот это верхнее „ре“…
И в самом деле, напомнил мне „ре“ из „Ивушки“.
— А эту, низкую, я слышал у тебя в песне „Течет Волга“, — не отступал Щедрин. — Ты ведь еще ниже взять можешь.
— Все равно не потяну. Не смогу…
— Не сможешь? — вдруг рассердился он. — Знаешь что, вот садись и учи!»…
Щедрин: «Кто-то из хористов все-таки в последний момент настучал: что-то подозрительное готовится.
В день премьеры прибыл с группой помощников Завлен Гевондович Вартанян, завотделом музыкальных учреждений Министерства культуры СССР. Маленького роста такой, очень угодливый к мудрости власти. На прослушивании был и Шостакович — он был на нашей стороне. Завлен Гевондович долго, с экивоками, стал объяснять, что вот это, конечно, талантливо, да-да, но, с другой стороны, сочинение незрелое, надо доработать. Мы отбивались до последнего патрона. А происходило в кабинете главного администратора Большого зала Консерватории, и был там еще директор филармонии Митрофан Кузьмич Белоцерковский, с таким крестьянским лицом, приземистый, вырубленный топором человек. А Рождественский нарочно не отпускает хор, до зала каких-то сто пятьдесят метров, там народ ждет: будет вечером концерт, не будет? Наконец Завлен Гевондович развел руками: на вашу ответственность, товарищ Белоцерковский, мы свою точку зрения высказали. И уходит со своей свитой.
Митрофан Кузьмич взял меня так за пуговицу, вытащил из комнаты, где оставались Шостакович с Люсей Зыкиной, и говорит: меня же снимут, тра-та-та. Матершинник был такой. Я ему: Митрофан Кузьмич, вы же слышите, народ сидит, ждет, завтра „Голос Америки“ опять скажет — запретили. Махните рукой, ну жалко же. Он нервничает: вообще, честно говоря, мне понравилось, особенно церковные колокола. Это во второй части — там, где про Пастернака. Ну, в общем, он сказал: ладно. И выматерился красиво так. Премьера состоялась с шумным успехом в начале 1969 года в Большом зале Консерватории — и… после этого „Поэтория“ лет пять-шесть не звучала».
Зыкина («Течет моя Волга»): «Пришел наконец после немалых трудностей — не сразу и не все приняли „Поэторию“ Щедрина — день премьеры этого выдающегося новаторского произведения. <…> Людская боль, межчеловеческая солидарность, Родина как твердая опора в жизни каждого человека — вот основные темы „Поэтории“, которая ознаменовала качественно новый этап в моей творческой биографии».
Вознесенский: «При первом исполнении „Поэтории“ в Большом зале разрешающий телефонный звонок последовал всего за несколько секунд до звонка в зрительном зале. Еще бы! Щедрин в „Поэторию“ ввел церковные колокола, „Матерь Божию“, хоры. Лет за двадцать до разрешения торжеств тысячелетия Крещения Руси свел песнопение с концертной музыкой, ввел впервые в консерваторский зал авангардную пожарную сирену — так что публика во время репетиции ринулась к выходу, считая, что случился пожар, — а это, может быть, и было пожаром?
После эмиграции Эрнста Неизвестного имя его было запрещено, но Щедрин оставил стихи о нем в „Поэтории“, дуря голову начальству, что речь идет о неизвестном лейтенанте Эрнсте. Публика все понимала. Бостонский фестиваль пригласил на исполнение Эрнста как героя „Поэтории“.
В тяжелые дни, когда имя мое было не принято упоминать, Родион демонстративно процитировал мои стихи в съездовском докладе». (В 1973 году Щедрин был избран председателем правления Союза композиторов РСФСР и останется в этом статусе до 1990 года. — И. В.)
Щедрин: «В семидесятых мы исполнили „Поэторию“ в Горьком, во Владимире, и не один раз. Был такой очень хороший человек, Израиль Борисович Гусман, главный дирижер Горьковской филармонии, — он рискнул это исполнить. Мы с Андреем объявили, что это „вторая редакция“, усыпили бдительность тем, что заменили несколько строф, конец поменяли, кончалось все строками „Тишины хочу, тишины“.
Эйзен, участвовавший в московской премьере, на сей раз уехал с Большим театром, и нужно было найти замену. Гена Рождественский подсказал: попробуйте с Левой Лещенко. Так Лещенко попал в „Поэторию“. Он только начинал свою карьеру, совсем молодой. Я потом напоминал Леве, как он в ужасе сидел после концерта — куда я попал: выпивка серьезная была, Зыкина травила анекдоты (Андрей сказал — „ну, Люська сорвала банк!“), Слава Ростропович матерился (он специально приезжал, за ним тогда следили, останавливали на каждом посту: куда едете? — он повторял одно: „Вперед!“)…»
Вознесенский: «Гудело послеконцертное пиршество. Столы ломились от тостов. Щедрин, Плисецкая, Зыкина, бледный дирижер с испариной на лбу, хормейстеры, звезды оркестра. Солисты хора, местные светила после духовной самоотдачи концерта отдавались языческой, земной стихии. <…> Но самым мощным сгустком бытийственной гудящей энергии был он <Ростропович>… Все называли его „Слава“. „Две бутылки ‘Пшеничной’ убрал“, — восхищенно шепнула про него первая скрипка.
Так мы познакомились с Ростроповичем. Он страстно доказывал мне что-то о фресках и о каких-то бесхозных трубках, которые видел по дороге из Москвы и которые надо бы пристроить.
Уезжали мы поутру. Слава стоял на балконе и, обтирая торс мохнатым полотенцем, свежий, как стеклышки очков, читал нам вслед на память стихи…»
Щедрин: «Пару раз, когда Андрей не мог читать стихи, за него читал актер Саша Познанский, потом Вася Лановой… В декабре 2012 года (к восьмидесятилетию композитора. — И. В.) „Поэторию“ исполнил оркестр России под управлением Владимира Юровского. За Вознесенского стихи читал замечательный артист Женя Миронов. Он очень ответственно отнесся к этому, в день концерта говорил мне с утра — я еще раз прослушал запись Андрея Андреевича… Я ему говорю: там, между прочим, еще одна строка была в абзаце „Как живется вам там, болтуны, / на низинах московских, аральских? / Горлопаны, не наорались? Тишины…“. Вместо „низин московских, аральских“ было — „чай, опять кулуарный авралец?“. Он удивился: а в тексте этого нет. Я объясняю: так мы же изображали „вторую редакцию“, вносили такие вот коррективы для видимости…»
Беги, беги, беженка
Щедрин: «Я не раз писал музыку на его стихи, посвящал ему свои сочинения. Он посвящал мне. Помню, мы пришли в Консерваторию, в Малый зал, где исполняли „Беженку“ на его слова, гениальные, — „Беги, беги, родина, в ужасе от нас!.. Беги, беги, беженка“. Андрей уже болел, плохо говорил. Но обратил внимание — играла прекрасная пианистка, красивая женщина Катя Мечетина. И мне он прошептал: у нее плечи хороши, как у пловчихи. Ощущения он всегда переводил в такие вот зрительные образы… Когда-то у него было в „Мастерах“ — „Я парень с Калужской, я явно не промах“. Но он не был таким рубахой-парнем, он был утонченной организации, с тонкой психикой.
Как-то мы вместе отдыхали в Абхазии, часто заезжали к Зурабу Церетели. И вот как-то он заехал за нами на таком джипе, невиданном для тех времен. Едем, и Андрей смеется: „Мы с тобой сидим, как в президиуме“. Высоко же в джипе, да и в диковинку тогда было…
У него всегда было все в тетрадке какой-то свернутой, перевернутой, скомканной, перекомканной, там что-то наискось написано, — он часто приезжал когда-то к нам в Снегири: ой, хочу новенькое почитать, — и долго по карманам шарил, где тетрадка. И, знаете, его стихи, они ведь в памяти у меня так и остались — с его интонациями…»
Вознесенский: «Однажды Гия Канчели, композитор в бархатной темно-синей тужурке и с такими же бархатными глазами, после премьеры, на которую он приехал из Германии, говорил мне о Родионе Щедрине: „Это большой композитор, может быть, крупнейший в мире сейчас“. Привыкнув к ревнивому лепету моих коллег, я был поражен.
Щедрин — большое „Щ“ русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите — ни в английском, ни в немецком. Беспощадная новая его музыка — мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шенберг, Шнитке, Штокхаузен работали в реалиях XX века. Щедрин же прыгнул с нами физически в XXI век. Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ!.. Еще, Щедрин, еще!»
Плисецкая (из интервью «Новым известиям»): «Почему теперь формула „товар — деньги — товар“ лежит в основе всего, что происходит вокруг? Гениальный поэт Андрей Вознесенский написал: „Человек на шестьдесят процентов состоит из химикалиев, на сорок из лжи и ржи, но на один процент из Микеланджело!“ Иногда мне кажется, что и этот один процент исчезает на наших глазах…»
Вознесенский: «…Национальное богатство — линия Плисецкой… <…> В „Ромео“ есть мгновение, когда произнесенная тишина, отомкнувшись от губ юноши, плывет, как воздушный шар, невидимая, но осязаемая, к пальцам Джульетты. Та принимает этот материализовавшийся звук, как вазу, в ладони, ощупывает пальцами. Звук, воспринимаемый осязанием! В этом балет адекватен любви».
Судьба, обереги его в пути
Щедрин: «Пару лет назад Зоя Богуславская на „Поэтории“ спросила: „Знаешь, сколько раз мы с Андреем встречали Новый год у вас?“ — „Сколько?“ — „Четырнадцать“.
…Мы всегда перезванивались, как одеться. Либо Зоя, либо Майя из театра — приносили последние сведения, что надо одевать к Новому году на сей раз. Помню, пару раз мы с Андреем договаривались одеться в смокинги… Сначала они, по-моему, заезжали к матери Андрея, а потом сам Новый год встречали у нас. Еще когда в Гостелерадио командовал Лапин, Андрей иногда даже читал что-то в телевизоре, так что смотрели вместе.
Майя могла что-то прихватить из буфета в театре, Зоя могла прихватить какое-то шампанское. Но готовила наша Катя, у нас была такая замечательная домработница, она всю жизнь с нами прожила, я ее и похоронил рядом с родителями. Как-то Андрей повеселил ее шуткой. Катя, надо понимать, не красавица была. Звонит Андрей, зовет к телефону меня — меня нет, Майю — Майи тоже не было. Катя говорит: „Одна я дома“. И Андрей ей тут же: „Одна? О, ну тогда я еду!“».
Вознесенский: «Припорхнула к ней <Майе> как-то посланница элегантного журнала узнать о рационе примы. Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды всех эпох! „Мой пеньюар состоит из одной капли шанели“. „Обед балерины — лепесток розы“… Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен. Так отвечают художники и олимпийцы. „Сижу не жрамши!“ Мощь под стать Маяковскому. Какая издевательская полемичность».
Плисецкая (из интервью «Комсомольской правде»): «Диеты я не соблюдала! Ела всегда много. И вес мой был чуть-чуть больше, чем нужно. Бывали периоды, когда я худела, но неумышленно — просто из-за репетиций не успевала поесть».
(Родион Щедрин добавляет: «Нет большего знатока пивных ресторанов в округе, чем Маюша, — а их тут больше двадцати».)
Вознесенский: «Лукав ее ответ зарубежной корреспондентке.
— Что вы ненавидите больше всего?
— Лапшу!
…Ну да, конечно, самое отвратное — это лапша, это символ стандартности, разваренной бесхребетности, пошлости, склоненности, антидуховности. Не о „лапше“ ли говорит она в своих записках: „Люди должны отстаивать свои убеждения. <…> …только силой своего духовного „я““. Не уважает лапшу Майя Плисецкая!»
Щедрин: Мы и правда были очень дружны, помните же вот это его стихотворение: «Я друга жду. Ворота отворил, зажег фонарь над скосами перил. Я друга жду. Глухая сторона. Жизнь ожиданием озарена…»
Вознесенский («Свет друга»): «…Он жмет по окружной как на пожар, / как я в его невзгоды приезжал. / Приедет. Над сараями сосна / заранее освещена. / Бежит, фосфоресцируя, кобель. / Ты друг? Но у тебя — своих скорбей…»
…Увидимся в раю или аду. Я друга жду, всю жизнь я друга жду! Сказал — приедет после девяти. Судьба, обереги его в пути.Щедрин: «Наш переезд в Мюнхен, конечно, географически нас отдалил. По телефону общаться стало невозможно, когда у Андрея пропал голос… Когда в стране начинался весь этот хаос, многие задумывались, не переехать ли в места поспокойней. Если Зоя спрашивала: Андрюша, как же мы будем, если что? — он ей отвечал: ну вот если случится что, тогда и будем. Нет, он всегда считал, что русский поэт должен быть на родине.
У меня тогда появились очень хорошие предложения из Америки, а я тогда что-то болел — и Андрюша мне говорил: ты учти, на Западе больных не любят. Потом были другие предложения, и мне, и Майе. В конце концов мы оказались в Мюнхене. Музыкантам проще, у нас интернациональный язык. У поэта — другое… Как наша Катя любила говорить, иностранцы все дураки. И правда ведь, у них в головах совсем другое — налог заплатить, купить по скидке, продать подороже — по-другому головы повернуты.
Майя иногда удивляется: странно, молодые писатели стараются не упоминать сейчас Андрюшку, хотя взвесить на весах истории, трехзначное их число уравновесит один Вознесенский. Видимо, каждое последующее поколение пропускает только что состоявшееся, а потом интерес все равно возрождается…»
Столько прошло времени, а каждый день какие-то строчки его вспоминаются. Иногда даже мыслю его строчками.
Вознесенский: «Может быть, стремление контрфорсов Гауди в небо подвигло меня на подвиг. В Испании я освоил новый вид спорта — парасейлинг. Когда-то Родион Щедрин поставил меня на водные лыжи. Тогда я написал стихи „Воздушные лыжи“. И вот человечество сейчас открыло воздушные лыжи — парасейлинг. Когда тебя на высоте сто метров полчаса тащат над морем на парашюте. Объяснить ощущение невозможно. Священный кайф!
Небесные музыкальные творения Гауди я назвал бы аудиоархитектурой. Поющие стены Гауди будто таят в себе трубы органа».
Тишь в нашей заводи. Но скажем прямо — создал же Гауди молитву-ауди. Но мы не создали своего храма.P. S. 5 июня 2010 года, через несколько дней после смерти Вознесенского, Родион Щедрин представит на Международной неделе органной музыки в Нюрнберге свое новое произведение: «Dies Irae», «День гнева», для трех органов и трех труб (по мотивам гравюр Альбрехта Дюрера).
Щедрин посвятит «Dies Irae» своему близкому другу Андрею Вознесенскому. Когда-то, в юные годы, крупнейший российский композитор, известный во всем белом свете, признался: «Люди, которые в моей жизни оказали на меня огромнейшее влияние — мой отец, Лиля Брик и Андрей Вознесенский». Перед этой премьерой, начавшейся с минуты молчания, Щедрин произнесет: «Я уверен, что ему уготовано бессмертие».
Глава шестая ОСТАЛСЯ С ШИКАРНЫМ ШНОБЕЛЕМ
Декольте на груди — чтобы легче дышать или плакать
Как-то Вознесенского Рейган к себе позвал. Ну, в гости — то есть в Белый дом, потому как Рейган, известно, не ореган-трава какая, а президент всея Америки с голливудским штампом в биографии и ленинским прищуром в лице.
Вознесенский жизнерадостно опишет, как прошел в президентскую вотчину без паспорта (даже без прав водительских). Вспомнит, что было до, что после. А непосредственно из разговора со значительным лицом останется в памяти немного. Пожалуй, главным оказался спор о писателях и пиджаках — что нынче модно? Об этом мы рассказывали выше.
Позже, в Москве, Рейган продекламирует строфу из Пастернака наизусть. Встречаться с поэтом он уж не рискнет, хватит с него. В Переделкино к Вознесенскому с Богуславской отправится супруга президента, Нэнси Рейган.
Что еще тогда произошло? Есть разные версии.
Кажется, госпожу Нэнси Рейган подкарауливал тогда Сергей Довлатов, сочинитель.
Едва из лимузина показалась Нэнси, Довлатов выскочил нагишом из кустов и кинулся в сугроб, демонстрируя удаль. Вот, дескать, так мы, русские медведи, принимаем снежные ванны!
Неизвестно, что сказала Нэнси, но в тот же час откуда ни возьмись явился Битов, тоже литератор.
Видит: Довлатов. Притом и нагишом. Как было не дать ему по роже?
Позвольте! — перебьет нас тут любой начитанный любитель баек. — Но ведь эти небылицы как раз, наоборот, Довлатов рассказывал о Вознесенском! Ну да, рассказывал — но это ж небылицы, что мешает рассказать теперь их по-другому?
Поверь, читатель, что на самом деле так и было. Довлатов голый, снег, сугробы, Битов. А кто не верит — может спросить у Нэнси Рейган.
Конечно, миссис Рейган приезжала летом — а лето в тот год в Подмосковье выдалось бесснежным. Но какая разница. Андрей Битов ведь все-таки был?
Ох, Андрей Георгиевич за истекшие годы устал уже клясться, что с тезкой-поэтом отроду не дрался.
Но что же Вознесенский? А что ему оставалось — только посмеивался: «Ну сочинил Довлатов байки про меня. Довлатов был великолепный рассказчик, иногда анекдотчик, это тоже требует класса. У него есть гениальная фраза, которой я завидую: „Она читала меню по-еврейски, справа налево“. То есть сначала — цены, потом названия блюд. Я в Пермь приехал, мне говорят: „Андрей Андреевич, вы должны еще зимой приехать“. — „Почему?“ — „Вы же любите снегом обтираться, вы как Рембо, мы читали у Довлатова“. В общем, это немножко Гоголь, это немножко Хармс, возможно, новый жанр, и очень интересный, но я с Довлатовым, увы, не был даже знаком».
И все-таки. Где в этих историях байка, где — быль? По порядку. Рейган был американским президентом — это точно. Вознесенский встречался с ним в Белом доме — и это правда. Нэнси — жена Рональда, это любой подтвердит. И она точно была в Переделкине.
Да, и что важнее всего, пиджак на Вознесенском был от Валентино.
Все остальное — выдумки Довлатова.
* * *
Вознесенского, было время, кто-то считал пижоном. К Хрущеву в Кремль он заявился, как помним, без галстука, и Шелепин, главный по госбезопасности, аж подпрыгнул: без галстука? да он же битник! После чего поэт назло обзаведется фирменными шейными платками.
Одежда в любые времена — как код. Шифровка.
Что любил надевать Вознесенский? Кожаные пиджаки и куртки, черные свитера, рубашки со стоечками, без воротника, длинные белые шарфы. Друзья заграничные — Боб Дилан, Аллен Гинзберг — всерьез считали, что такой спортивный стиль поэт предпочитает потому, что выступает на стадионах. Хотя и сами одевались с вызовом, по словам Вознесенского: «Гинзберг носил черные рабочие костюмы или смокинги, которые стоили очень дешево, и он этим очень гордился, поскольку покупал их в так называемых „Магазинах от покойников“ (где распродаются вещи умерших. — И. В.). Его наряды были суперэлегантны. И в этом тоже был страшный вызов общественному мнению».
Борис Мессерер тщательно создавал «свой стиль» для Беллы Ахмадулиной — отсюда ее «фирменные» шляпки с вуалью. Евтушенко объяснял свое пристрастие к причудливым пестрым костюмам когдатошним ошеломлением от яркой, жаркой Кубы. Все рубашки у него эксклюзивные, в единственном экземпляре. «Надо признать, — говаривал Евгений Александрович, — я страшный шмоточник».
Был в этом и детский восторг эпохи, открывшей вдруг, что аскетичность идеала не исключает и удобства мира — со всем его бытом и шмотками. В семидесятых на советские киноэкраны вышла наконец и «Сладкая жизнь» Феллини — там, между прочим, сам Марчелло Мастроянни изменял жене и со знойной Анук Эме, и с бронебойной Анитой Экберг, а модный стиль их в фильме диктовал тот самый Валентино, к которому после картин Феллини так неравнодушен Вознесенский.
Ну да, Феллини был замысловат, не всем понятен — но полотно киноэкрана источало ароматы соблазнов… «Клима»? «Шалимар»? Была еще прическа «сессон» — Мирей Матье околдовывала, встряхивая копной волос, лежащих строгой шапочкой.
Конечно, шмотки заграничные можно было раздобыть и здесь, если удастся — привезти. По правде говоря, разутых и раздетых в Стране Советов не было, и ширпотреба вроде бы хватало, и вкусы обывателей советских от западных практически не отличались… Но вот вопрос: чем было заменить томительное чувство, что где-то там, в неведомой дали, есть дольче вита, сладкая жизнь, где все по полочкам разложено, и ничего уже не надо строить и раскладывать, где все как будто прилажено не к туманной дали, а к жизни текущей, и даже женщины нездешние в кино отзывчивее здешних? Передовицы «Правды» и карикатуры «Крокодила» продолжали упорствовать, изображая Запад исключительно хищным, одномерным — и эта несгибаемость официозных недоправд о Западе лишь усугубляла в широких массах томление о земном рае, который за Берлинской стеной.
От подобных глупостей еще в 1946 году предостерег американское правительство основатель советологии, стратег психологической войны и «сдерживания» СССР Джордж Фрост Кеннан. Важнейшие среди его советов: во-первых, допускать кое-какую правду о советской жизни, дабы поддерживать у своих обывателей иллюзию объективности, а во-вторых, воздействовать на обывателя советского силой соблазнов — понятных и наглядных преимуществ быта. Все так и выгорит — по плану Кеннана. Немногие среди советских граждан в семидесятые надеялись дожить до коммунизма, зато все озаботились всерьез, как раздобыть что-нибудь импортное, видюшники, сервизы или мебельные стенки.
Те же «фирменные» джинсы нельзя было купить легально, в магазине, — но все при этом покупали «с рук». Граждане все сильнее сомневались в здравомыслии госустройства, превращающего «недоступные» джинсы в фетиш — товарный знак успешности. Про это, собственно, и выдохнет Вознесенский свою «Оду одежде»: «В чем великие джинсы повинны? / В вечном споре низов и верхов — / тела нижняя половина / торжествует над ложью умов. / И, плечами пожав, Слава Зайцев, / чтобы легче дышать или плакать, — / декольте на груди вырезает, / вниз углом, как арбузную мякоть…»
Ты дыши нестесненно и смело, очертаньями хороша, содержанье одежды — тело, содержание тела — душа.Куда ведет такой зигзаг эпохи, если для нее «подрывание строя — одежда»? Кажется, об этом тоже нас предупреждал, да что там, выл поэт, еще в конце шестидесятых:
Пёс твой, Эпоха, я вою у сонного ЦУМа — чую Кучума!Возможно, эти строки и имел в виду режиссер Александр Митта, сказавший как-то в унисон: «У меня не было шока от конца 60-х. Настоящий шок наступил позже, когда выяснилось, что для многих поздний застой 80-х с его тупым потребительским мещанством — накопить на машину, купить дачу и т. д. — оказался привлекательнее драйва, внутренней свободы, творческих поисков и, да, бытовой неустроенности шестидесятых».
* * *
Да, но как же с пиджаком от Валентино? Как же со шляпками Беллы? С кричащими рубашками Евтушенко? С голубым «мерседесом» Высоцкого?
Андрей Андреевич весело рассказывал и о том, как обзавелся тремя смокингами от Кардена: всякий раз, когда возникала потребность, смокинга под рукой не оказывалось — и кутюрье дарил поэту один, второй, третий. В четвертый раз поэт, улетая в Америку, предусмотрительно смокинг захватит. Можно как угодно относиться к этому — но Вознесенский сам относился иронично…
Конечно, поэты обожают эффектные позы и жесты, иногда странные, не всегда приличные и совсем не объяснимые языком канцелярской прозы. Конечно, во все времена им хотелось инкрустировать свою судьбу созвездиями мифов. «Милая, цветет миндаль», — звонил супруге Вознесенский из Крыма — а Зоя возмущалась: ну какой миндаль, когда он срывает свой концерт в Зале Чайковского?
Миндаль — он как пиджак от Валентино, как смокинг от Кардена. Такие атрибуты щегольства мелькают во множестве мемуаров о живописцах речи, эквилибристах слова и акварелистах мысли. Откуда нам известны пушкинские песни о красе ногтей (подсказка — из «Онегина»: «Быть можно дельным человеком / И думать о красе ногтей…»), описания лаковых цилиндров и модных тогда плащей испанских? А грубые толстовки и босые пятки графа? Отрицание жеста — тоже по-своему жест. Не говоря уже о желтой кофте и морковке в петлице у футуриста, рифмовавшего все, что «Про это». Все это составные части поэтической игры…
«Евтушенко был щеголь, — иронизировал однажды Анатолий Найман. — Мы идем как-то страшной зимней московской улицей, а он — из ресторана, в какой-то шубе не нашей, шикарной, расстегнутой. Навстречу ему папаша в ватном пальто и мальчик. Евтушенко расставил руки и громко сказал: „Вот мой народ!“ И вдруг этот папаша в ватнике остановил его и спрашивает: „Ты, парень, из какого цирка?“».
Но тот же самый Найман позже взахлеб доказывал, что первым в Ленинграде обзавелся белыми джинсами, а потом еще и «потрясающим песочным пиджаком мелкого вельвета от сестры Набокова — привезли кому-то, оказался мал».
В первом номере «Юности» за 1972 год Андрей Вознесенский поздравит Валентина Катаева, Катаича, с 75-летием — стихами и эссе о том, как поэт с поздравлениями нагрянул в гости к первому главному редактору журнала, приютившего когда-то всех юных шестидесятников. На что обращали внимание в семидесятых — приходя к кому-то в гости? О, финская стенка. Арабская тахта. Самовар. Ух ты, японский магнитофон. Или, в конце концов, экзотическая собачонка. Вот и Вознесенский подмечает у Катаева: «А с порога в ночи к вам бросится черный комок, мини-пудель Джуля, американочка, уроженица штата Нью-Йорк или Аризоны, невозвращенка, избравшая навсегда переделкинские долы и дорожки. Она стрижена, как версальский садовый кустарник, вся в меховых шарах и помпонах»…
Вот два забавных свидетельства — как за десяток или пару десятков лет все изменилось в головах.
В январе 1961-го, вспоминал Найман, он и Иосиф Бродский оказались вместе в Москве: «Он сказал, что хотел бы познакомиться с А. Б. (Б. Ахмадулиной. — И. В.), я позвонил, они <с Нагибиным> пригласили нас на дачу, в Пахру… <…> Мы явились закоченевшие, но зато куда явились! В камине пылал огонь, нам немедленно было налито по стаканчику коньяку, поданы домашние туфли на меху. Сразу сели, вернее, бросились за стол, ужин ждал нас роскошный. Хрусталь, фарфор, серебро, водка, бифштексы, зелень… <…> Нас отвели в спальню, где стояла широченная кровать, застеленная атласными одеялами…»
Найман отключился — а Бродскому не спалось, так было противно это мещанское благополучие. Ни секунды он не хотел больше оставаться в этом доме — и будил и будил Наймана. Наконец, не прощаясь, они ломанулись в поясные сугробы, добрались на случайном грузовике до метро…
По отношению к гостеприимной Белле это было, конечно, свинство. Но куда неприличнее поэту — разомлеть в мещанском комфорте!
Следующий эпизод. В 1988 году в Белграде на поэтическом фестивале Петр Вегин встретит Бродского и потом потрясенно опишет эту встречу в книге «Опрокинутый Олимп». После концерта Иосиф, весь такой благополучный и шикарный, вывез тремя машинами друзей в ресторан. Там Бродский устроил невиданное прежде Вегиным застолье, сорил деньгами и явно радовался — как все потрясены размахом.
Эх, не было там Беллы Ахмадулиной.
Следом и одна из муз Бродского — Мариолина де Дзулиани, славистка и графиня из Венеции, — расскажет журналистке РИА «Новости», как Иосиф, собравшись в Италию, пожелал, чтобы она «сняла ему палаццо». Ее это смутило: «Не понимаю, откуда был такой размах у советского человека? Но найти для него палаццо было невозможно. Я сняла ему весьма трендовый тогда пансион, который совсем не пах мочой, как это описано в его книге». (Речь об эссе «Набережная неисцелимых».) Бродский, по словам графини, ходил по ее дому, подмечая все детали, оценивая преимущества шестиметровых потолков. Потом, правда, сказал, что все это китч. У музы осталось ощущение странное — будто и ее поэт воспринимал деталью интерьера: «Все разговоры наши сводились к тому, что он меня „хочет“. Это было пыткой…»
Нечто похожее припомнит Эдуард Лимонов — как в 1978 году Бродский прислал ему «здоровую высокую жопастую девку Лизу Т., дочь известного американского писателя», цинично уведомив по телефону, что придет она как студентка, но «ты можешь ее <…>, ей это нравится. У меня для такой кобылы уже здоровье не то». Лимонов не побрезгует этим «купецким» подарком, за что помянет Бродского, уже посмертно, добрым словом.
К чему тут появился Бродский? «Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика» — так ведь у Иосифа Александровича? Каждый складывал свой миф, выстраивал позы, прилагая к этому все силы и средства… И тут — вещи века, атрибуты успеха ведут нас прямиком к истории с Нобелевской премией.
В конце концов, так уж сложилось, что жестом верховного признания в XX веке стала именно «нобелевка», заветная.
* * *
Хитрован Валерий Золотухин записал в дневнике 18 марта 1966 года: «Вознесенскому нравится мой свитер: черно-синий, работы известной русской киноактрисы Шацкой. Просит продать: свитера — его страсть. Если получит Ленинскую премию — подарю».
Вознесенского, за которым тянулся тогда еще шлейф хрущевской опалы, литературные друзья-соратники выдвинули на премию за книгу «Антимиры». Как выдвинули, так его и задвинут.
Госпремия съела Нобеля
«Бродский был стариком уже в шестидесятые, — зубоскалил Эдичка Лимонов. — Уже тогда был лыс, уклончив, мудр и умел себя поставить. Создать ощущение недоступности. Небольшой, тщательно продуманный набор привычек создавал ему пьедестал, делал его живым памятником. Он, может быть, в ссылке продумал себя и уже до тридцати решил стать противным, желчным старикашкой, мятым, всклокоченным и шизоидным, как Эйнштейн, демонстративно одиноким. И стал».
Вознесенский оставался пацаном из «щипковских» и в двухтысячные. Ну таким пацаном — из приличной семьи, — которому жутко хотелось казаться первым дворовым хулиганом. Но воспитание, образование, порядочность и дар поэта мешали, так что хулиганства вылились в поэзию.
Бродский был из шестидесятников ленинградских и помоложе. А у московских все ведь шло логично: ну, спорили, кто «первый», кто «второй», ну, в мечтах о том, как это первенство застолбить, неизбежно приходили к мыслям об олимпийском Нобеле. Знаменитость их была бешеной — и это правда. Не только в нашей стране, а, что немаловажно, в мире, по обе стороны берлинского водораздела. Так что победа любого из них казалась бы справедливой. К началу семидесятых уже и Евтушенко побывал в числе соискателей премии, и Вознесенский. Их и любили, и терпеть не могли. Раньше их не любили самые махровые из ретроградов, теперь, в семидесятые, демонстративно стали не любить «либералы» из самиздатовских. Послушать этих «либералов» — их волновали как раз не ретрограды, это так, дежурный номер. Успешные шестидесятники, вот кто раздражал по-настоящему. Тут, в нелюбви к ним, крайности смыкались.
Бродского толком, конечно, на просторах страны не знали. Печальные повороты судьбы его, нелепая и беззаконная ссылка на несколько лет — все это волновало круги близлежащей интеллигенции. Популярностью Вознесенского и Евтушенко тут и не пахло. Все поэты, большие и маленькие, суконные и изящные, утверждались в своих жестах и позах. Бродский выбрал собственную позу — единственно, как оказалось, верную с точки зрения прагматики. От тех, кто действительно чего-то стоит, — не просто отвернуться, а так обдать презрением, чтобы уж никаких сомнений — рядом равных с ним ни души. Кого он — забежим вперед — всегда будет вспоминать в ответ на просьбы назвать яркое имя в поэзии? Кушнера… Вегина… Поэтов в смысле наступательного пафоса безобидных. Шестидесятники московские соревновались в поэтических жестах, выстраивали мифологию своих биографий — кто кого перепозирует? Бродский принял эту игру. Речь всего лишь о турнире поз — тут Бродский всех сумел перепозировать.
Самая большая нелепость, если не пошлость — пытаться, говоря о Вознесенском, подкладывать другим в башмак толченое стекло. Самого же Андрея Андреевича как раз отличала от многих поэтических собратьев, и от Бродского, и от Евтушенко, способность к самоиронии: даже когда щеки надувал — спохватывался скоро. Конечно, он хотел бы получить свое от нобелевских щедрот. Конечно, был он этого достоин. Но что же, Бродский не заслуживал премии? Что, не заслуживал бы Евтушенко? Кто-то включает в этот ряд слишком рано ушедшего из жизни Рубцова, — если бы дали премию ему, и это было бы заслуженно. Но всегда будет кто-то еще — кто достоин не меньше.
Премия Нобеля — лотерея особенная. При всей ее бесспорной престижности, она не высший суд, а человеческий, земной. Уже и языки поистерли многие, толкуя, как она политизирована. Кто же этого не знает? Вокруг нее хватает закулисных плясок — и это всем известно. А сколько ни пытаются создать какой-нибудь равновеликий аналог Нобелевской премии — ничего не выходит. Есть в ней что-то гипнотическое. (Оговоримся: речь идет о премии литературной. Боже упаси ручаться за лауреатов, например, в туманной области мира! Тут уж примета верная: кого премируют за мир — от того жди войны.)
Нельзя сказать, что в Стокгольмской академии особо благосклонны к русским литераторам. Лев Толстой, говорят, от Нобеля сам отбивался — но ведь дать ему премию так и не попытались, для приличия хотя бы. Лауреатов, представивших огромный пласт русской литературы, за XX столетие набралось только пять. Опыт первого из наших олимпийцев, Ивана Бунина, увенчанного Нобелевской премией в 1933 году, убедил: пути к премии непросты. Конечно, нет и тени сомнения в том, что награду Иван Алексеевич заслужил. Но сколько склок и суеты было вокруг!
До тридцать третьего года у белой русской эмиграции была забота — сделать все, чтобы премия не досталась Горькому, представлявшему красную Россию. Кандидатами выдвигались и Бальмонт, и Шмелев, и Мережковский. Все сопровождалось интригами. Алданов призывал Бунина согласиться на «групповое» выдвижение, втроем. Мережковский уговаривал Бунина пойти на полюбовный сговор — кто выиграет, тот делит премию пополам. Бунин не согласился.
Марина Цветаева больше всего была возмущена тем, как шведы отбоярились от Горького, которого почитал достойнейшим весь цвет литературной Европы. Но академики, помявшись, придумали причину — «сотрудничает с большевистским правительством» и такая награда «будет превратно истолкована». Со следующей премией — Пастернаку в 1958-м — оскандалились уже советские власти. Потом были Солженицын и Шолохов, и вокруг каждого кипели свои свары. В 1963-м, между прочим, отмахнулись от Евтушенко — «объем произведений пока ограничен» (с какими словами его отвергли, скажем, в 2013 году, когда произведений набралось уже выше крыши, — еще через 50 лет узнаем). А вот как было отказано в премии Набокову академиками: «Автор аморального и успешного романа „Лолита“ ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию»! В 1972 году Александр Солженицын, уже став лауреатом, выдвинул Набокова на Нобеля вновь — и вновь отказали. Видно, опасались за моральную крепость веселеньких шведских семей.
Забавно, правда, выглядит то, что в 1964-м, едва признав «аморальным» автора «Дара» и «Приглашения на казнь», Нобелевскую премию дали Жану Полю Сартру, гуру экзистенциализма, низвергавшему «буржуазную мораль» сообща и порознь с женой, Симоной де Бовуар. Бесспорно, Сартру было о чем пооткровенничать с нобелевскими моралистами! Но Сартр отказался от премии, демонстративно черкнув академикам злое письмо. Тогда же, в октябре 1964-го, письмо напечатала «Литературная газета»: «В нынешних условиях Нобелевская премия объективно выглядит, как выбор между писателями Запада и строптивцами с Востока. Ею не увенчали, например, Пабло Неруду, одного из крупнейших поэтов Америки… Достойно сожаления, что премию присудили Пастернаку прежде, чем Шолохову, и что единственное советское произведение, удостоенное награды, — это книга, изданная за границей».
Тогда как раз, истолковав письмо, как выпад против Пастернака (чей роман «Доктор Живаго», напомним, был издан в Италии), Вознесенский и рассорился с Сартром. Нелепо, конечно.
«Я абсолютно искренне считал, — покается позже Андрей Андреевич, — что Сартр отказался от премии из конъюнктурных (или антиконъюнктурных, что то же самое) или рекламных соображений. А на самом деле он был просто антибуржуазный — чего нам еще долго не понять…
Когда греческий нобелевский лауреат поэт Одиссеас Элитис второй раз выдвинул меня на Нобелевскую премию, обеспокоенная Лил Деспродел, черная жемчужина Парижа, подруга Режиса Дебре, из круга левой элиты, провела со мной беседу. „Неужели ты примешь премию?! Это же конформизм, это буржуазно, ты же поэт, нельзя, чтобы тебя покупали…“ — „Не волнуйся. Премия мне не грозит. Пойдем есть устрицы“.
„Неужели я обуржуазился? так забурел от честолюбия?“ — думал я. Я бубнил, что поэта нельзя наградить и нельзя отнять что-то у поэта. И конечно, единственная кара для поэта, это если небо отнимет у него возможность писать, перестанет диктовать. Это высший кайф. Хотя наш восточный менталитет и социальный опыт иной, чем на Западе, воспринимает награды, как фигуры в шахматной игре. Жизнь художника трудна и премии у нас часто — возможность выжить».
* * *
Расположение звезд на небе, расклады всезнающих букмекеров — решительно всё в 1978 году подмигивало и намекало на то, что Нобелевская премия светит ему. Однако в последнюю минуту что-то вдруг пошло наискось — и лауреатом 1978 года стал не ожидаемый всеми Андрей Вознесенский, а Исаак Башевис-Зингер, про которого известно, что он писал на идише, жил в США и не любил все советское. «За эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вечные вопросы» — с такой формулировкой и вручили премию.
Что все же случилось? Почему не Вознесенский? О, это история загадочная — разгадать ее до конца уже вряд ли удастся. Вот что приоткроет — только приоткроет — в своем эссе «Нобелевский миф» известный литературовед Вадим Кожинов (книга «Судьба России», 1997):
«…Уместно рассказать об одном эпизоде из истории деятельности Шведской академии, о котором я узнал от непосредственного участника этой деятельности — известного норвежского филолога Гейра Хьетсо, игравшего немалую роль в обсуждении кандидатур на Нобелевскую премию. Гейр Хьетсо не раз навещал меня во время своих поездок в Москву и как-то — это было к концу 1970-х годов — рассказал мне, что наиболее вероятным очередным нобелевским лауреатом является Андрей Вознесенский. Однако, как он сообщил в следующий свой приезд, от этой кандидатуры отказались, потому что Вознесенский получил Государственную премию СССР…
Я отнюдь не считаю сочинения Вознесенского значительным явлением (о чем еще в 1960-х годах со всей определенностью высказался в печати) и в то же время полагаю, что этот автор не „хуже“ удостоенного позднее Нобелевской премии Иосифа Бродского. Но речь сейчас о другом: присуждение Вознесенскому высокой советской премии в сущности полностью лишило его диссидентского ореола, которым он в той или иной мере обладал, и он уже не представлял интереса для Шведской академии…»
Есть все же еще один любопытный момент. Государственную премию СССР экстренно организовали в 1978 году — за сборник стихов «Витражных дел мастер», вышедший за два года до того, в 1976-м. Однако нелепо ведь предполагать, что некий обобщенный комитет по госпремиям решил вот так навредить Вознесенскому вдруг, подрезав на дороге к Нобелю. А если не абстрактные злодеи, то кто бы это мог быть — и зачем это ему? Впрочем, очень даже вероятно, что никто и не замышлял тут никаких козней — и уж тем более не предполагал, что госпремия может отменить премию Нобеля. А все равно история кажется загадочной и оставляет осадочек.
В том же 1978 году Вознесенскому вручили еще одну премию, «утешительную» — за выдающиеся достижения в поэзии, — на Международном форуме поэтов в Нью-Йорке.
Как-то, в середине девяностых, Вознесенский заедет в Афины к Одиссеасу Элитису, «изысканному аристократу поэзии», выдвигавшему его на Нобелевскую премию. Но про эту историю они уже и не вспомнят. «Он выпускал свои книги со своими же живописными вклейками. Нам было что обсудить. Подобно Пастернаку, свою книгу он не подписал мне сразу, а сказал, что пришлет мне позже, обдумав надпись. Он не подвел, книга пришла. Через полгода пришла весть о его кончине».
* * *
В 1987 году нобелевским лауреатом станет Иосиф Бродский. Никто, включая, кажется, и самого лауреата, не заметит, что последние фразы из его речи в Шведской Королевской академии окажутся вариацией на тему… юношеской «Параболической баллады» Вознесенского. Той самой, про огненно-рыжего Гогена и траекторию судьбы. Той, которую читал, прощаясь в Лондоне с Томасом Элиотом в 1964 году, ослепительный Лоуренс Оливье: «Сметая каноны, прогнозы, параграфы, / несутся искусство, любовь и история — / по параболической траектории! В Сибирь уезжает он нынешней ночью. / А может быть, все же прямая — короче?» Сравните, впрочем, сами этот параболический абзац из речи Бродского: «Конечно, это чертовски окольный путь из Санкт-Петербурга в Стокгольм, но для человека моей профессии представление, что прямая линия — кратчайшее расстояние между двумя точками, давно утратило свою привлекательность. Поэтому мне приятно узнать, что в географии тоже есть своя высшая справедливость».
Идут к своим правдам, по-разному храбро, червяк — через щель, человек — по параболе.Василий Аксенов напишет злющую статью «Крылатое вымирающее» (ее опубликует «Литературка» в ноябре 1991-го) — о человеке, который «с удивительной для романтика расторопностью укрепляет и распространяет свой миф». «Происходит это в результате почти электронного расчета верных мест и времен, верной комбинации знакомств и дружб». Так, что уже и все вокруг обязаны «поддерживать миф нашего романтика». А в 1994 году в российско-американском литжурнале «Время и мы» выйдет эссе другого эмигранта, Льва Наврозова — «Лже-гении в вольных искусствах». У авторов свои обиды, свои счеты к лауреату, да и зависть исключать, конечно же, нельзя. Но Бродский — в бешенстве. Встретившись с Лимоновым в ресторанчике, трясет статьей Наврозова. Лимонов кивает, а про себя думает: статья, конечно, «грязная и завистливая», но «среди аргументов, направленных против Бродского, были несколько очень близких к истине». Однако, признается Эдичка, «из вежливости (Бродский пригласил меня в ресторан, он платил)» не мог не выразить сочувствия и негодования.
— Я бы набил Наврозову рыло, если бы не мое больное сердце, — заявил Бродский.
— Я бы тоже с удовольствием дал этому мозгляку в глаз, — слукавил Эдичка.
— Ты здоровый. Встретишь его, дай ему в морду и за меня, — попросил Бродский.
Эдичка пообещал.
* * *
За два года до смерти, к своему юбилею, уже очень больной Вознесенский напишет про Архитекстора, которому скоро пора возвращаться в Архитекст. Сквозь горечь там будут и такие веселые строки:
Госпремия съела Нобеля. Не успели меня распять. Остался с шикарным шнобелем Вознесенский-75.А что, компания у него очень достойная. Среди тех, кого обошли Нобелевской премией, ну так, навскидку, — и Рильке, и Маяковский, и Джойс, и Есенин, и Поль Валери, и Цветаева, и Пруст, и Блок, и Томас Вулф, и Ахматова, и Уэллс, и Твардовский.
В кошачьем имени должен быть звук «с»
Не исключено, что Вознесенский являлся Бродскому в ужасных снах.
Бродский повторял о Вознесенском всегда одно и то же, из года в год, самым разным людям, спрашивали его или нет, — и всегда с одним и тем же выражением лица. Навязчивая идея? Но отчего именно Вознесенский ему покоя не давал?
Александру Кушнеру Бродский преподносит в день рождения шутливую «Почти оду на четырнадцатое сентября 1970 года»: «Ничем, певец, твой юбилей / мы не отметим, кроме лести / рифмованной, поскольку вместе / давно не видим двух рублей… / Мы предпочли бы поднести / перо Монтеня, скальпель Вовси, / скальп Вознесенского, а вовсе / не оду, господи, прости».
Едва выехав из СССР, буквально через неделю, 12 июня 1972 года, в Вене Бродский беседует с Элизабет и Хайнцем Маркштейнами (текст опубликован сайтом Colta.ru): «Евтушенко? Вы знаете — это не так все просто. Он, конечно, поэт очень плохой. И человек он еще худший… Но он гораздо лучше с моей точки зрения, чем, допустим, Вознесенский… И он не корчит из себя Artist. Он не корчит из себя большого художника… с Вознесенским у меня всегда одна и та же история — мне просто делается физически худо. То есть когда ты видишь его стихи — это нечто оскорбительное для глаз… Второго такого нет… бывает все что угодно. Ну, бывает глупость, бывает банальность, бывает бездарно, бывает пошло, скучно, я не знаю как… А этот корчит из себя бог знает что — авангардиста, французского поэта и так далее, и так далее…»
Вчитаемся в смысл: не сказать, что глуп, не сказать, что бездарен, не сказать, что пошл и скучен, — и от этого как раз так «делается физически худо», аж кушать не хочется. Бывает.
И началось — из интервью в интервью. Например, Наталье Горбаневской: «Когда заходит речь о современной советской поэзии, всегда говорят о Евтушенко и Вознесенском. Евтушенко, при всей его монструозности — личной, политической и т. д., — мне все-таки симпатичнее… Они бросают камни в разрешенном направлении, не то чтобы в заранее указанном, я не хочу так дурно о них думать, но, в общем, это люди, которые создают видимость существования литературы».
Поэт, переводчик Дэниэл Уайссборт: «Один из поэтов, которых он <Бродский> определенно не любил, — Евтушенко, хотя я думаю, что он до некоторой степени уважал его писательские способности — более, чем его литературного двойника Вознесенского». (Назвать Вознесенского «двойником» Евтушенко можно только по недоразумению, но суть не в этом.)
Биограф Бродского Валентина Полухина: «Известно, что Бродский, во всяком случае в эмиграции, резко отзывался о Евтушенко как о поэте и общественной фигуре, хотя и предпочитал его Вознесенскому».
Такие вот цитаты, как шашлык на шампуры, нанизываются до бесконечности. Каждому, терпеливо и настойчиво, Бродский повторяет, внушает одну и ту же нехитрую, но четкую формулу: есть Евтушенко, так вот он — плох, но Вознесенский — еще хуже!
Зачем? Ну не нравятся — забудь, вычеркни их, и все. Нет, даже если не спросят — напоминает сам. Отчасти объяснение можно найти в словах Уильяма Уодсворта, долгие годы возглавлявшего американскую Академию поэтов (из книги «Иосиф Бродский глазами современников»): «…он страшно критически относился к русским поэтам, сумевшим вписаться в советскую систему… Для большинства американских читателей… Евтушенко и Вознесенский представляли русскую диссидентскую поэзию во всей ее мощи. Но стоило появиться Иосифу, как они почувствовали, что должны выбирать между ним и этими поэтами».
Аудиторию надо было отвоевывать архирешительными мерами, убирая тех, кто действительно мешал. Поклонники моментально подхватили знамя борьбы. Поэтесса Татьяна Щербина в той же книге «Иосиф Бродский глазами современников» рассказывает пламенно: «Помню, что спорила до хрипоты со знаменитым тогда нейрохирургом Кантором („он был хирург и даже нейро“, — написал Высоцкий о нем песню): он утверждал, что Вознесенский — великий поэт, а Бродский — просто словоблуд, даже не „профессиональный“ поэт. Я всегда реагировала на подобное так, будто обижали или унижали меня лично».
Были в этой отчаянной борьбе нестыковки — но кого они волнуют?
Один из «пунктов обвинения» был не нов: «эстрадники». Но тут же — множество воспоминаний о том, с каким упоением сам Иосиф Бродский выступал! Вот, еще в Ленинграде: «Что там творилось, когда Ося вышел читать, это было сумасшествие. Я такого никогда не видел. Да, я был на выступлениях Вознесенского, он тоже здорово читал, и толпа гудела, но такого шума не было. Потом, Вознесенского готовила советская власть, он был… любимый сын идеологической комиссии при ЦК КПСС… А это же появился мальчишка незаконнорожденный, который владел залом абсолютно!» (Давид Шраер-Петров, ученый-медик и поэт). Кто «незаконнорожденный», какой «любимый сын ЦК КПСС»? Галиматья, зато — «срабатывает».
Тут и следующий «пункт»: Вознесенский только изображал свою независимость и поддерживал советскую власть, в то время как Бродский ни от кого не зависел! Сам Бродский даже пародировал известную строку Вознесенского — «Уберите Ленина с денег» — в своих стихах: «…известный местный кифаред, кипя / негодованьем, смело выступает / с призывом Императора убрать / (на следующей строчке) с медных денег». Андрей Андреевич на этот счет однажды отшутился: «Вы говорите: Бродский иронизировал, а меня тогда обвинял в диверсии весь Госбанк! Это серьезнее».
А вот любопытный штрих к вопросу о «свободном художнике» — невзначай брошенный уже упомянутой итальянской музой Бродского Мариолиной Дориа де Дзулиани (в разговоре с Ларисой Саенко из РИА «Новости»), Посвященное музе эссе «Набережная неисцелимых» заказал Иосифу Александровичу Консорциум Новая Венеция (Consorzio Venezia Nuova), желавший получить к Рождеству нечто, воспевающее знаменитый город. В 1987 году ассоциацию возглавлял Луиджи Дзанда. Позже он стал сенатором и рассказал Мариолине, как вынудил Бродского переписать эссе — чтобы не было упоминания фамилии де Дзулиани. «Он позвал Бродского и сказал: „Вы с ума сошли, это известные венецианские люди, они подадут на вас в суд“. Бродский ответил: „Я ничего не буду менять“. — „Да, но тогда вы не получите свои 30 миллионов итальянских лир!“ Бродскому позарез нужны были деньги, и он переделал книгу».
* * *
Но вот же чудеса — ближайшие друзья нобелевского лауреата, балетный критик и поэт Геннадий Шмаков и писательница, исследователь творчества Бродского и Довлатова, Людмила Штерн, были и друзьями Вознесенского и трепетно описывали свои встречи с ним. Перед отъездом в Америку даже прощаться приехали из Ленинграда в Москву, в Переделкино, к Андрею и Зое.
— Ха-ха! — воскликнет интервьюер из «Огонька», зачитывая Вознесенскому цитату Бродского из парижской «Русской мысли» — о том, что у него от стихов Андрея Андреевича «физиологическая реакция тошноты».
— Ну что ж… — спокойно ответит поэт. — А я никогда не трогал его. Потому что считал, это непорядочно, он в эмиграции. Потом он просто хороший поэт. Я не знаю, зачем тогда ему надо было со мной встречаться?.. Я думаю, это мальчишеская ревность.
О том, как Бродский пригласил к себе однажды Вознесенского, кстати, сам Бродский старался не обмолвиться нигде. А Вознесенский об этом написал уже после смерти Иосифа Александровича. И не то чтобы встреча была значительная, тут важнее очевидный контраст — как говорил о Вознесенском Бродский и как о Бродском Вознесенский:
«С Бродским я не был близко знаком. Однажды он пригласил меня в белоснежную нору своей квартирки в Гринвич-Виллидж. В нем не было и тени его знаменитой заносчивости. Он был открыт, радушно гостеприимен, не без ироничной корректности.
Сам сварил мне турецкого кофе. Вспыхнув поседевшей бронзой, налил водку в узкие рюмки. Будучи сердечником, жадно курил. О чем говорили? Ну, конечно, о Мандельштаме, о том, как Ахматова любила веселое словцо. Об иронии и идеале. О гибели Империи. „Империю жалко“, — усмехнулся.
Мне в бок ткнулся на диване кот в ошейнике. Темный с белой грудкой.
— Как зовут? — спросил я хозяина.
— Миссисипи, — ответил. — Я считаю, что в кошачьем имени должен быть звук „с“.
— А почему не СССР?
— Буква „р-р-р“ мешает, — засмеялся. — А у вас есть кошка? Как зовут?
— Кус-кус, — не утаил я. (Кус-кус — это название знаменитых арабских ресторанов во всем мире. — И. В.) Глаз поэта загорелся: „О, это поразительно. Поистине в кошке есть что-то арабское. Ночь. Полумесяц. Египет. Мистика“.
Переделкинская трехшерстка мисс Кус-кус имела драматичную историю. Будучи котенком, она забралась на вершину мачтовой сосны и орала, не умея спуститься. Стояла зима. Это продолжалось двое суток. В темном небе вопил белый комок. Я попробовал залезть, но куда там! Позвал двух алкоголиков — безрезультатно. Наташа Пастернак вызвала пожарную команду, но даже те, с их „кошками“, не смогли забраться. Что делать?! Небо вопило над нами. Тогда я решил спилить сосну. Был риск, что ветви задавят котенка. Но когда все рухнуло, из-под ветвей грохнувшейся хвойной империи, как ни в чем не бывало, выскочила Кус-кус, не понимая, сколько бед она натворила.
<…> Она и не представляет, что о ней шла беседа в Нью-Йорке с нобелевским лауреатом, кошатником, подобно Бодлеру, Эдгару По, Бальмонту и Хэму. И зрачок лауреата озарялся нездешней искрой.
Теперь этот огонек зрачка горит из бездны небытия. Наверное, где-то дрогнула душа Ахматовой, благословившей его начало. Перечитываю его стихи по книге „Части речи“, подаренной когда-то им. Он соединил гекзаметры Катулла с каталогом вещей нашего века.
Так родится эклога. Взамен светила загорается лампа: кириллица, грешным делом, разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли, знает больше, чем та сивилла, о грядущем. О том, как чернеть на белом, покуда белое есть, и после.Не бывая в нашей стране, Бродский не покидал страну поэзии. „На одной только иронии далеко не уедешь. Где путь? Нужен идеал“, — запомнилась его тревога.
Бродский стал частью русской речи. Что есть высшая благодать для поэта. В наше грязное время, вздохнув, произнес экологически чистое слово „эклога“…»
* * *
— Не может быть! — так, по рассказам Бродского, вскричал старый Уистен Оден, увидев его у себя на пороге. И немедленно затащил Бродского в дом.
Расстроило Бродского одно — и об этом он тоже вспоминать не любил — крупнейший английский поэт к тому времени уже не раз встречался с Вознесенским, переводил его стихи, написал предисловие к книге, еще до того, как написать предисловие к сборнику Бродского.
Принципиальная разница двух предисловий Одена, пожалуй, в одном: Вознесенского он называет «собратом по ремеслу», а Иосифа Александровича — исключительно «господином Бродским». В последнем английский классик обнаруживает и «глубокое уважение и любовь к прошлому своей родины» — иллюстрируя этот патриотизм странными для такого случая строками Бродского: «Вот так, по старой памяти, собаки / на прежнем месте задирают лапу. / Ограда снесена давным-давно, / но им, должно быть, грезится ограда…» Впрочем, отношение Бродского к своей стране как раз совпадало с нелюбовью Одена к СССР: «Я привык, — сказал как-то Иосиф Александрович, — стыдиться этой родины, где каждый день — унижение, каждая встреча как пощечина, где всё — пейзаж и люди — оскорбляет взор». Английский поэт полагал, что это вполне патриотично, — да и почему бы английскому поэту так не считать. Бродский говорил, что для него встреча с Оденом — не менее сильное, чем Нобелевская премия, потрясение. И правда: трудно не почувствовать влияния Одена, читая Бродского.
…Вознесенский написал об Одене: «Переводы на вечере в Ванкувере читал Уистен Оден, живой классик, мамонт силлабики, несомненно великий поэт англоязычного мира. Мне не раз доводилось выступать вместе с ним, это адски трудно, ибо магнетизм его, сидящего справа на сцене, порой оказывается сильнее магнетизма зала…
Игорь Северянин в конце жизни шутил над своими глубокими морщинами по лицу. Мол, когда он принимает солнечные ванны в кресле, мухи садятся на его лицо, и он, сдвигая морщины, давит их. Я считал это поэтической метафорой. Вроде гоголевского Вия.
Но когда я увидел лик Одена, изборожденный гигантскими морщинами, я понял, как это грандиозно. Это были трещины от землетрясения ума. Глубочайшие трещины в пустыне духа.
На вопрос „Нью-Йорк таймс“ — „что самое красивое на Западе?“ — я ответил: „Морщины Одена“.
Мы довольно долго общались с ним — и на вечерах, и ужинали, и разговаривали в его опрятной холостяцкой квартирке. Для меня он был первый поэт Запада, интереснее и по языку богаче, чем Элиот.
…Я говорил Одену и Стенли Кюницу о даровании Бродского. Когда Бродский эмигрировал, Оден пригласил его жить в своем доме. У поэтов есть круговая порука».
Поэт Уильям Джей Смит в своем теплом эссе «Поэты и переводчики» рассказал о том, как непроста и увлекательна оказалась работа над переводами стихов Вознесенского.
Бродский, попав в Америку, быстро пришел к выводу, что «английский язык — это чрезвычайно здоровый язык. Куда более здоровый, чем русский». Вознесенский, как часто ни бывал за океаном, все равно предпочитал «Мелодию Кирилла и Мефодия»:
Есть лирика великая — кириллица! Как крик у Шостаковича — «три лилии!» белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса — кириллица! И фырчет «Ф», похожее на филина.Мешало ли это американским коллегам — понимать и ценить Вознесенского? Смит говорил про Вознесенского, которого считал своим другом: «Мне кажется, что между нами с Андреем действительно установилась телепатическая связь».
В 1972 году Вознесенский стал первым советским поэтом — почетным членом Американской академии искусств и литературы. Тогда же шесть американских поэтов — У. X. Оден, Ричард Уилбур, Юджин Гарриг, Стэнли Кюниц, Стэнли Мосс и Смит — корпели над сборником, который готовило издательство «Бэйсик букс компани». Оден заметит потом, что «сложность метрических эффектов Вознесенского способна привести в отчаяние любого переводчика». Но стихи, переведенные Оденом, привели в восторг знатоков: «Один безумец понял другого».
Пытаться взвешивать поэтов на весах — неблагодарное занятие. Часто о них судят, томно глазки закатив: вот тут искусство — а вот тут что-то не то… Увы, в таких суждениях — одни лишь позы, моды и пристрастия, слепая вера в фирменные лейблы премий, идеологический расклад, да что угодно. Только не любовь и не чуткость к поэзии, которая как раз прекрасна тем, что есть в ней разные, непохожие — и равно великие имена. А судить? — пусть время их рассудит.
Иной нелепый критик затуманивает часто пустоты мысли выспренним потоком слов. В скандальных выпадах Бродского против Вознесенского, Евтушенко и Аксенова находят «принадлежность к разным этосам, а не конкретные обиды».
Как объясняют ценители Бродского интерес Одена, Миллера и других значительных литераторов к Вознесенскому? Объясняют нелепо, но зато витиевато: «Детерминированная такого рода местным контекстом поэзия может даже искать легитимизации своего опыта путем соотнесения с опытом поэзий иноязычных — но это происходит не на уровне диалога поэтик, а на уровне „групповых фотографий“, таких как „Андрей Вознесенский с Алленом Гинзбергом и Лоуренсом Ферлингетти“. Факт личного знакомства здесь подменяет реальное взаимодействие поэтических практик» (Иностранная литература. 2007. № 10).
Что на это ответить, да и надо ли? Что-то вроде: дык, паки, паки, иже херувимы…
Тут, как заметил Осип Мандельштам, «спадая с плеч, окаменела ложноклассическая шаль».
«Вознесенский, верните мне сына!» Рассказ поэта Юрия Кублановского
Теперь же — читателя ждет рассказ поэта очень интересного. Однажды он написал вдруг про Андрея Андреевича очень злые строки: «…хорошо вам не знать недосыпа, / хитрый Межиров, глупый Евтух, / Вознесенский, валютная липа!»
В тех же стихах у него: «…в десяти шагах ЦДЛ. / Вот бы там старика Катаева / на оптический взять прицел!»
Дело давнее, те строки Юрия Кублановского затерялись где-то в начале восьмидесятых.
В 1984-м на них яростно отреагировал «Прогулкой в калашный ряд» Василий Аксенов. Василий Павлович рассорился с Бродским, который не только не поддержал его в эмиграции, но и стал пренебрежительно высказываться всюду о его романе «Ожог». Кублановский некоторое время был близок к соратникам Бродского, и стихи его, как и все, что исходило из этого «лагеря», казались Аксенову признаком одной эпидемии. Почему, удивлялся он, «объектами мстительной линзы оказались не какие-то там махровые грибачевы и фирсовы, но самый яркий прозаик и самый яркий поэт советской литературы»?! (Аксенов имеет в виду Катаева и Вознесенского.)
Но это было нормой — в перепалках никто тогда друг друга не щадил. Для одних это была лишь форма литературного маркетинга. Другие — и к их числу относились Аксенов с Кублановским — искренне верили, что эта взаимная борьба ведется ради высоких смыслов и идей.
Со сплоченным окружением Бродского, кстати, отношения у Кублановского тоже разладились скоро. Едва стало ясно, что к поэту благосклонен Солженицын, Кублановскому объяснили незатейливо: или с нами — или с ним. У литсобратьев и в эмиграции такой же «закон — тайга».
Но все-таки — что же у Кублановского с Вознесенским? А вот что. В 2014 году Юрий Михайлович возглавит жюри премии Фонда имени Андрея Вознесенского «Парабола». Что за странность? Как же так? Отдельные шипящие товарищи припомнили Юрию Кублановскому те самые стихи, обличив за «непоследовательность». Но на то они и шипящие. Читателю как раз важнее — отшелушить все лишнее. А в биографии Юрия Михайловича имя Андрея Андреевича — совсем не случайное: стоит особняком. Парабола закручивается от первого мальчишеского преклонения — к неприятию — и на новом витке — к пониманию уже совсем иному. Вознесенский писал о Кублановском тепло. Отношение Кублановского к Вознесенскому нельзя и сегодня назвать односложным. Тем интереснее. Что — за такими поворотами? Поиски ответов на такие вопросы и ведут к пониманию эпохи, вглубь.
Слово — поэту Юрию Кублановскому.
ИЗ РЫБИНСКА К ВОЗНЕСЕНСКОМУ. «Да, так по жизни получилось, что в раннюю мою пору Вознесенский сыграл не просто большую, а очень большую роль. Я имею в виду время, когда мне было от 15 до 17 лет.
Жил я в Рыбинске, занимался уже несколько лет изобразительным искусством в студии, думал стать художником. Только что вышли знаменитые монографии Джона Ревалда „Импрессионизм“ и „Постимпрессионизм“, и я был ими очень увлечен. Но… началось с того, что я увидел у мамы в руках повесть Василия Аксенова „Коллеги“. Прочитал ее — и с тех пор стал искать „оттепельную“ литературу. У Вознесенского тогда уже вышло две книжечки, „Парабола“ и „Мозаика“. Достать их в Рыбинске, конечно, было нельзя. Но я отслеживал творчество его, Ахмадулиной и Евтушенко по журналам. И вот — в журнале „Знамя“ мне попались американские стихи Вознесенского „Треугольная груша“. До этого я объелся уже поэзией Константина Симонова — лет с десяти, с маминого благословения, ездил по области, читал на торжественных мероприятиях поэму Симонова „Сын артиллериста“. А тут вдруг увидел экстраполяцию раннего Маяковского в современности — таким мне показался Андрей Вознесенский. В общем, фрагментами „Треугольной груши“, опубликованными в журнале „Знамя“, я увлекся чрезвычайно — и это как раз подстегнуло и мое собственное стихотворчество.
Стал писать — в основном верлибры, многое заимствовал из ассоциативной, образной системы Вознесенского, учился. И как раз в разгар этого моего романа с его поэзией — случились памятные встречи интеллигенции с Хрущевым в Манеже и Кремле, это конец 62-го, начало 63-го. Как сейчас помню, иду по центру Рыбинска, по проспекту Ленина, а из черных радиотарелок, прикрепленных к фонарям, доносятся неистовства Хрущева в адрес оттепельной культуры. Я переживал это, как величайшую несправедливость, как возвращение к временам сталинизма, о которых я знал немного, но достаточно для того, чтобы ненавидеть… У меня прямо кулачки сжались в карманах.
А потом читаю в газете покаянное письмо Василия Аксенова, признающее критику со стороны правительства правильной. У меня буквально потемнело в глазах: как же так? Горячий был пацан, 15 только исполнилось. И я решил, что надо ехать в Москву — поддержать Вознесенского. Чтобы он ни в коем случае не каялся — это же будет ударом по всей культуре, по справедливости.
Билет из Рыбинска в Москву стоил всего 2 рубля 50 копеек. Накопил десятку — ходил подрабатывать. И втайне от родителей взял билет и уехал в Москву. Весной 63-го года холода были страшные… Приехал на Савеловский вокзал, взял в Мосгорсправке адрес Андрея Андреевича, до сих пор помню: улица Нижняя Красносельская, д. 45, кв. 45. Расспросил, как добираться, доехал до станции метро „Красносельская“, хотя надо было выйти на „Бауманской“, — Москву знал еще плохо.
Поезд пришел в семь утра — а где-то в половине десятого я уже звонил в дверь Вознесенского. Он открыл дверь сам — в синем свитере грубой вязки а ля Хемингуэй, в серых с начесом красивых брюках… Я объясняю, кто я, так, мол, и так… Я был в ушанке, в лыжном костюме, провинциальный пацан… „Андрей Андреевич, вот я из Рыбинска, приехал вас поддержать, попросить от всех нас и от себя лично, чтобы вы не шли по пути Аксенова и ни в коем случае не каялись. Каяться вам не в чем“.
Надо сказать, что он немножко изумился. Ответил, что каяться не будет, пригласил пройти, и я очутился в его комнатке, небольшой, забитой вещами. Там стоял велосипед, в углу висел карандашный портрет работы Ильи Глазунова, всюду фотографии из его недавнего вояжа на Запад — он в обнимку с Виктором Некрасовым, с Сартром, с Симоной де Бовуар… Мы говорили недолго. Я сказал, что учусь на первом курсе авиатехникума, что мечтаю раздобыть „Треугольную грушу“, — и он тут же достал с полки свой сборник, подписал мне его: „Юре Кублановскому с пожеланием полета дерзкого авиационного. Андрей Вознесенский“.
Как сейчас помню — я вылетел от него буквально на крыльях, вернулся в Рыбинск, дома был дикий скандал с матерью, но — победителей не судят».
МАМА ПИСАЛА ЕМУ ВТАЙНЕ ОТ МЕНЯ. «С той поры общение с Вознесенским стало для меня на какой-то период идеей фикс. Я копил деньги, откладывал каждую копейку, не обедал в техникуме, — а как только набирал достаточную сумму, бежал с утра на рыбинский центральный почтамт звонить ему на квартиру. Телефон его был: Е–1–96–45. Видите, столько лет прошло, а запомнил. Последние цифры совпадали с номером его дома и квартиры. А первые цифры совпадали с нашим телефоном в Рыбинске: 1–96. Тоже совпадение. Какая-то мистика.
Я навсегда остался признателен Андрею Андреевичу — что он не посылал меня подальше. Ну зачем ему было в зените славы, успеха тратить время на разговоры с робким провинциальным мальчишкой? А он говорил — терпеливо, пока у меня не кончались деньги и нас не разъединяли.
Стал активнее писать стихи, посылать ему. Он прислал мне несколько писем — мать неистовствовала и, как я позже узнал, писала ему втайне от меня: верните мне сына, что вы делаете? Я ничего этого даже и не знал.
Так прошло полтора года, я бросил техникум, хотел поступать в Литинститут. Вознесенский мне отсоветовал — и за это тоже я признателен ему на всю жизнь. Как показывает культурная и житейская практика, нет ничего хуже, чем кончать Литинститут. Я решил тогда поступать на искусствоведческое отделение МГУ. Это было почти невозможно — надо было тогда сдавать экзамен по специальности, а я работал на заводе, уже учился в вечерней школе — и никогда еще не бывал ни в Русском музее, ни в Пушкинском музее, ни в Третьяковке. Стал ходить в читальный зал, штудировать том за томом историю искусств. Вознесенский пообещал связаться с Федором Давыдовым — руководителем кафедры русского искусства, вместе с которым он был во Флоренции. Но его вмешательство не понадобилось. Каким-то чудом я сдал на все „пятерки“ и поступил».
КАК ПУТИ РАЗОШЛИСЬ. «С этой поры встречи наши становятся реже. Мы уже с друзьями организовали общество СМОГ — Смелость, Мысль, Образ, Глубина. И пути наши с Вознесенским стали расходиться. И он, и другие шестидесятники существовали в советской литературе — а мое поколение, во всяком случае, я поставил уже на самиздат. Тогда уже у меня появились сомнения в том, что ленинские какие-то идеалы могут заменить сталинизм. Все это было мифом. Что меня стало раздражать, его стихи „Я в Шушенском“, где он сравнивает Ленина с Рублевым, Лермонтовым и другими нашими титанами.
В общем, по мере моего созревания пути наши стали расходиться идейно и эстетически. Я стал больше ориентироваться на поэзию Серебряного века, по мере того, как она мне стала открываться. Это не мешало нам время от времени по-товарищески общаться. Нечасто, но виделись в ЦДЛ, несколько раз я приезжал к нему в Переделкино — это были теплые душевные встречи. Я никогда не забывал, как он мне помог, поддержал.
Конечно, потом в какой-то момент я отошел, у меня даже есть достаточно грубые строчки о шестидесятниках… Но надо было меня понять, я уже в эту пору деклассировался, выступил в защиту Солженицына, был лишен возможности работать по специальности… В общем, я стал матерым антисоветчиком, и жизнь шестидесятников в их высотных элитных домах в Москве, с переделкинскими дачами, казалась мне жизнью конформистов.
Так было во второй половине 70-х годов, вплоть до моего отъезда на Запад. Но надо сказать, что первая моя публикация после того, как с моих стихов было снято табу (я еще жил в эмиграции), произошла в „Огоньке“ как раз с очень теплым предисловием Андрея Вознесенского. Он приветствовал приход моей лирики к нашему читателю — возможно, это и ускорило тогда их публикацию».
И КАЖДЫЙ ВСТРЕЧАЛ ДРУГОГО НАДМЕННОЙ УЛЫБКОЙ. «С Беллой Ахмадулиной Вознесенский никогда не ссорился, а с Евтушенко — это „битва бульдогов под ковром“. Они боролись за мировое признание, за мировую славу. Что там между ними было, мне не интересно. Но — так ведь всегда, вспомните Блока, „там жили поэты, — и каждый встречал другого надменной улыбкой“. Испокон века так было и труднее найти пример поэтической солидарности, чем примеры поэтических расхождений. Это все человеческое и легко объяснимо.
Что же касается Бродского, он был принципиально другим человеком, изначально ориентированным на существование вне советского культурного пирога. Для него и Евтушенко, и Вознесенский были примерами успешного конформизма. Вот я помню, когда хоронили Анну Андреевну Ахматову, гроб стоял в морге больницы Склифосовского в течение часа, и там впервые я увидел пианистку Марию Юдину, Надежду Мандельштам, последние осколки старой великой культуры. Был март 66-го. Юдина была в китайском плаще и в кедах с палкой, седоволосая. Надежда Мандельштам в каком-то свитере и шапочке. Они были бедные люди! А пришел Евтушенко, пришел Вознесенский — парад дубленок, парад мохеровых шарфов и пыжиковых шапок. Они все-таки существовали в совершенно разных культурных и материальных стратах. Бродский дружил с Ахматовой, которая и Вознесенского не любила, и всех шестидесятников ревновала к славе, — у Анны Андреевны на этой почве был пунктик, честолюбие ее смолоду не знало предела. От нее, возможно, и Бродский заразился такой резкой неприязнью к „эстрадникам“, как она называла Вознесенского и Евтушенко. Тут много причин.
Они ощущали себя диссидентами при советском режиме. Конечно, они старались максимально реализовать те ветерки и сквознячки свободы, которыми повеяло в нашем обществе после XX съезда КПСС. Но мне, человеку с раскаленным антисоветским чувством, они казались скорее конформистами…
Сейчас-то все улеглось, и я вижу, что правда — в чем-то третьем. И не тут, и не там».
* * *
Третий путь? Справедливости ради скажем: Вознесенский писал об этом в семидесятых, в поэме «Авось». В письме героя поэмы Резанова на родину, другу Дмитриеву, — о несбыточной мечте: «Чего ищу? Чего-то свежего! / Земли старые — старый сифилис… / <…> Земли новые — tabula rasa. / Расселю там новую расу…»
Третий Мир — без деньги и петли, ни республики, ни короны! Где земли золотое лоно, как по золоту пишут иконы, будут лики людей светлы. Был мне сон, дурной и чудесный. (Видно, я переел синюх.) Да, случась при Дворе, посодействуй — На американочке женюсь…Последнее пожелание Резанова, впрочем, вовсе не обязательно. Тут все-таки возможны варианты.
Глава седьмая ЮНОНА И МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ
Авось и третий циферблат
«Раз мне приснилось стихотворение», — признался как-то Вознесенский. Проснулся, записал, мол, а утром смотрит: что это, откуда эти строки? Эти «сонные» стихи в «Юноне и Авось» читаются, как сага. «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду…»
Не факт, что нужно принимать эти слова про сон буквально. Но и причин не доверять словам поэта — тоже нет. Все знают, Менделееву, к примеру, и не такое снилось — целые периодические таблицы.
* * *
Все как во сне.
И будет ему сон.
Который час? Опять забыл дома часы. Объявляют посадку — ему лететь в Дельфы, там фестиваль поэзии, там пифии-пророчицы.
Надо непременно успеть опоздать на самолет. Во сне никогда не поймешь — это самолет, который уже разбился или еще только собирается?
— Андрей Вознесенский? — Голос за плечами. Незнакомый. Кто это? Где он?
Кажется, в дьюти-фри.
Только что, за секундочку до голоса из-за спины, он успел попросить у продавщицы завалящие часики — такие, которые надевают, чтобы сразу же выкинуть.
Хорошенькая от ненависти продавщица уронила взгляд, изогнув голубой позвоночник и шею, как дерзкая зверь. Взгляд, рикошетом царапнув витрину, застыл, где упал. Девица де Севр? Танцовщица? Маргарита? Вы сбежали от художника, завалившего вас миллионом акаций, бегоний и лилий и, разумеется, роз?
Продавщица переменилась в лице. Аллаборисовна, вы? Пуга… куда же вы … чева? Ах, чур меня, чур, обознатушки.
— Андрей Вознесенский? Вот, у меня есть для вас часики. Подарок от поклонника поэта. Когда про нас, новорусских, говорят, что мы сухари…
На полуслове незнакомец испарился в лифте, улетевшем по желудочному тракту времени. Стрелка «вверх» почему-то означала «вниз». Световое табло мигало цифирками проглоченных, как этажи, веков: 20, 19, 21, 18… Что случилось со временем? Почему, свернув по указателю «вперед», непременно возвращаешься «назад»? Странный сон. Я удивляюсь, Господи, тебе.
Часы «Картье», подаренные незнакомцем, шесть тысяч долларов, хорош подарочек. Не забыть бы вернуть, когда проснусь.
Чьи-то ручки ласково приподнимают поэту веки. Стрелки на часах «Картье» бежали в разные стороны — куда? Аэропорт. Реторта неона. Саудовская пустыня памяти.
Мимо прошуршали кринолинами Екатерина с княжной Таракановой — опаздывают, посадка объявлена. За ними шлейфом — слухи. Две бабы с тоской: одна вся в серебре, другая до колен в рубашке мужской — обсуждают новость о несчастной любви: убит, но не ограблен Максим Сазонтыч Максимовский. Был псих. Хотя и композитор.
Скользнула тенью донна Мария де ла Консепсьон Марселла Аргуэльо, для своих — Кончита. Под юбкой прячется Резанов, камергер и командор. Следом вприпрыжку Чин икс: а вы, Резанов, из куртизанов! Хи-хикс…
Который час? Который век? Вы не слышали, что за рейс объявили? Транзитом из вечности в вечность? И чего они тянутся гуськом — танцорка рыжая из города Парижа, прынцесса володимирская (самозванка) и знойное испанское дитя, ушедшее в монашки? Они плачут? Нет, что вы! Они говорят, что… «Не надо, я понял».
Чин икс (сквозь полудрему поэту слышится его шипенье): «Проводить необутая выйдешь»? Ну-ну. Сам-то, смотрите, в шоколаде, и обут, и с шарфиком притом!
Чин игрек (чихнув): Пижонит, развлекает плебс.
Чин третьей буквы: Да завтра же забудут — все эти арии рок-опер! Ну, послезавтра… Или через год… Ну, десять лет… Что, двадцать?.. Молчите! Тридцать лет? И не в одном «Ленкоме»? О, ум за разум — как это понять…
Чин икс: Да что тут понимать — с народом нам не повезло. Отсюда нонсенсы — и слушают по-прежнему не нас, а Вознесенских! Хотя, казалось бы, пора, пора…
Чин игрек: …Вот именно, казалось бы, в новейшую эпоху — когда ну столько явится нам г… (залипла буква «г» на клаве), ну, г-гениальных инсталляций! Когда из всякой книжки, всякого журнала выпрет г… ну, г-глянцевость обложки! Когда телеканалы разуукрасят г… ну, г-гирлянды г… ну, г-гиперсери-алов! Кино — о, явит нам чистейшей прелести чистейший г… ну, г-голливуд, почти что! А кучи г… ну, г-гегелей из Интернета? А торжество всемирного г… ну, все поняли, г-гламура? Казалось бы! Казалось бы, какие Вознесенские, какие тут «Юноны»? Но вот заг-г-гадка — новейший век, а все равно, кого ни разбуди, опять припомнят «Миллионы роз». И на «Юнону» в кассах ни билетика, все продано железно… Как же так?
Чин икс: Одна надежда — он застрял в семидесятых, вдруг больше не напишет, что-нибудь сорвется… Ведь все, что хорошо для этого народа, — ужасно с точки зрения концептуального искусства! Нам ли этого не знать…
Чин третьей буквы: Эй, поэт, ужо проснитесь! Пора лететь! Авось, не долетите!
Поэт (просыпаясь и глядя на дорогие часы «Картье» с двумя циферблатами, временем европейским и азиатским, — незнакомец, подаривший их, оказался сорокалетним «бизнесменом, председателем правления одного из альянсов» Владимиром Богорадом) вдогонку убегающим чинам: Как вы сказали? Авось? Хорошее словечко… «Двойные времена болят. / Но в подсознании моем / есть некий Третий циферблат и время верное — на нем…»
…А может, и не сон это был. Может, так уже случилось в будущем. Или еще случится в прошлом.
«Где время верное, Куратор? — / спрошу, в затылке почесав».
* * *
Семидесятые летели на авось.
Вознесенский сдал билет на самолет.
Ломалась вся сетка его канадских выступлений. Но это не важно. Важнее…
Вот так же Зоя Богуславская, как уже говорилось, не раз вспомнит случай, когда Концертный зал Чайковского уже распух от желающих послушать Вознесенского — а где он? Он звонит ей из Крыма: «Милая, приехать не могу. Цветет миндаль…» Зоя не откроет страшную тайну: что ответила — но явно не миндальничала. И поэт примчался, и к тому концерту своему успел… А что теперь, какой еще «миндаль»?
Теперь ему попала в руки книжка. Название не сулило никакой лирики. Историк Джордж Александер Ленсен, «Из России в Японию: русско-японские связи, 1697–1875 гг.». И все-таки профессор Маклюен настоятельно посоветует прочитать. «Толстенный том», — вздохнет поэт. 582 страницы. И отложит в сторонку — пока было не до него…
В его гостиничный номер вломились его старые приятели-поэты. Лоуренс Ферлингетти — «поэт, агитатор, главарь сан-францисского бунтарства», отсидевший «за Вьетнам», а позже проехавший как-то зимой от Москвы до Владивостока (еле спасут тогда поэта-бунтаря в больнице Находки! Диагноз — «воспаление легких и непривычка к водке стаканами»). Вместе с ним ввалился к Вознесенскому и Роберт Блай, «тоже поэт протеста, гривастый гигант в мексиканском белом пончо», отдавший свою национальную премию за книгу стихов в антивоенный фонд. Толковали за жизнь, стихами среза́ли и восхищали друг друга. Потом у них замельтешат вечера — в больших концертных залах, с канадским премьером Трюдо, в аудиториях студентов, вместе с Уистеном Оденом, с Уильямом Д. Смитом. Потом Вознесенского отловил гулкий профессор Маршалл Маклюен, автор провокационных и парадоксальных книг о влиянии средств связи на человека. Маклюен, «дитя и фанатик», гудел о русском стихе, об обществе слуховом и звуковом. Расклад будущего по-вознесенскому его заводил — «поэзия, синтезируя звук и зрительность, станет основой нового, будущего сознания…».
И вот, пора улетать, и под утро, «когда затихли хиппи и пииты», Вознесенский наконец заглянул в книжку Ленсена, которую надо перед отъездом вернуть Маклюену. Ну что, казалось бы, искать в истории русско-японских отношений поэту, настроенному лирически и иронически? Перелистал. И… вдруг споткнулся. На камергере Резанове. Его определил посланником в Японию государь Александр Первый — но не в этом даже дело. Из японского вояжа ничего хорошего у Резанова не вышло, а вот то, что случилось потом, в Сан-Франциско…
Да-да, попался Андрей Андреич. «Глотал я лестные страницы о Резанове…» А самолет? Да лети оно все…
«Безусловно, в ванкуверские бухты заводил свои паруса Резанов и вглядывался в утренние холмы, так схожие с любезными его сердцу холмами сан-францисскими…» И было в этом нечто большее, чем только предприимчивость политика.
Там ранним летом 1806 года командор Резанов «ежедневно куртизировал Гишпанскую красавицу».
Там цвел миндаль.
* * *
«Через полгода я стоял на сан-францисской улице имени Аргуэльо. Крутая мостовая вела на холм, ввысь, в вековые кедры, в облака, в романтические времена очаровательной Кончиты».
Никита Лобанов-Ростовский, князь, вспомнит в своих «Записках коллекционера», как в Сан-Франциско, на вечере у Ольги Карлайл, внучки Леонида Андреева, его ждала приятнейшая встреча с гостями из Советской России — Вознесенским с Зоей и Булатом Окуджавой. Разговор зашел об истории камергера Резанова, в котором расчет слуги государева (успел создать Русско-американскую компанию для продвижения интересов России) ужился с подлинностью страсти к пятнадцатилетней (младше его на двадцать семь лет!) дочке коменданта крепости Кончите Аргуэльо.
Наутро жена Лобанова-Ростовского, Нина, встретилась с Андреем, чтобы съездить в Монтеррей, где находится кладбище ордена доминиканцев (миссии святого Франциска Ассизского) при церкви Богородицы Скорбящей, построенной еще испанцами в 1776 году (ее обычно называют коротко — миссия Долорес). Съездили, нашли ухоженные могилки Кончиты и ее отца.
Место захоронения Николая Петровича Резанова, заметим попутно, Вознесенскому найти не удастся. Командор был похоронен в Красноярске — где и скончался по пути в Петербург, — возле Воскресенского собора, на почетном месте, но… История сама по себе заковыристая — если вдуматься. Могила с надгробием в виде вазы нервировала еще в шестидесятых годах XIX века. Кого же — большевиков-то еще не было? А здешнего епископа Никодима — тот порывался убрать надгробие с глаз долой, ибо прихожане тусуются вокруг памятника, под окном собора, «курят табак, разговаривают и громко хохочут». Мешал памятник веру справлять, нравы поправлять. Никодиму горожане памятник снести не дали — заложили кирпичом окно, чтобы не нервничал. А ведь хотел, и снес бы — глазом не моргнул, что интересно. Но дело его не пропало зазря. Надгробие снесли-таки в 1936 году — теперь уж большевистский «никодим», укреплявший новую веру. В 1960-м исчезло и захоронение вместе с разваленным собором. Нелепо и спорить, что грешно и стыдно памятники валить, могилы топтать. Но вот ведь пример этот заставляет задуматься: отчего всякому укреплению веры и правды вечно памятники, могилы, память мешает? Дело совсем не в том, «оправдывать» или «не оправдывать» большевиков, дело вообще не в ярлыках, не в злободневной конъюнктуре, а в чем-то более глубоком. Память, какая есть, — не забор, чтобы перекрашивать. Злобой времена — прошлое, настоящее, будущее — не лечатся. Только любовью… Может, оттого «Юнона и Авось» и станет историей вечной — от тоски по любви?
Осенью 2000 года в Красноярск приехали американцы, мэр Монтеррея привез горсть земли с могилы Кончиты. Они-то были в полной уверенности, что здесь могила Резанова — место всеобщего поклонения. У них-то свои резоны, куда им до нашей душевности, у них прагматика голая: вот, мол, красивая история — с такой бы носиться, как с национальным достоянием. Впрочем, к визиту американцев спешно назначили место «перезахоронения» Резанова на Троицком кладбище. Водрузили мраморный крест с табличками медными (таблички, едва проводили гостей, отодрали местные искатели цветмета, так что надпись вырезать пришлось потом прямо по мрамору). Но через несколько лет, что правда, то правда, еще и в центре города открыли памятник. Да, а могила жены его, Анны Резановой, скончавшейся еще до того, как супруг отправился в Америку, сохранилась в Невской лавре в Петербурге…
Впрочем, вернемся к нашему рассказу — мы оставили Вознесенского с Ниной Лобановой-Ростовской у могилы Кончиты на кладбище в Монтеррее. Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский подарил в те дни поэту книгу Николая Сергиевского «Гишпанская затея» — как раз об этой печальной любви Резанова и Кончиты и о его сорвавшейся попытке основать губернию «Новая Россия» на месте нынешней Калифорнии… Все это было кстати. Поэма была написана — но работа над «Юноной» только начиналась. Ей еще предстояло стать рок-оперой. Причем гениальной.
Тогда же Андрей Андреевич встретился и с архиепископом Сан-Францисским, отцом Иоанном, авторитетным богословом и проповедником, урожденным князем Шаховским, братом Зинаиды Шаховской, когда-то печатавшим свои стихи и прозу под псевдонимом Странник. По словам поэта, письма отца Иоанна во многом помогли ему в работе над «Юноной и Авось». Кто-то и спустя десятки лет всерьез и с нескрываемым злорадством будет рассуждать о том, как неточна «Юнона» в исторических деталях, как не соблюдает каноны богословия. А что находил в стихах Вознесенского, в общении с ним архиепископ?
Кажется, отец Иоанн тоньше многих критиков почувствовал Вознесенского. Вот что написал он в «Русской мысли» (13 июля 1978 года):
«Я рад был принять Андрея, прежде всего, как земляка, москвича, прибывшего с пылу зимы московской. Рад был его встретить и как подлинного русского поэта. И вот мы встретились в Сан-Франциско с Вознесенским, милым, душевным человеком.
Я ему подарил кое-что из своих книг, а он мне свою последнюю книгу, вышедшую в 1976 году: „Витражных дел мастер“. В этой книге есть ценные страницы его новых стихов. В них видны черты, если можно так сказать, „сконцентрированного реализма“. Бывает (вы согласитесь) водянистый реализм (и в прозе и в поэзии), а бывает сконцентрированный, сгущенный, идущий из „центра“ к центру человека.
Я люблю все такое, идущее „от сути к сути“. Тут слышно веяние Логоса Божественного, смысла всех вещей…»
Что за религия в космосе Вознесенского? Давнее его стихотворение так и называлось: «Лирическая религия». Формула ее верна, вопреки всем наукам: «Пусть с кафедр всплеснут десницами / Эвклиды и Энгельгардты. / 2 = 1>3 000 000 000!» Любовь, слияние двоих делает каждого сильнее трех миллиардов не познавших истинности чувств. Что за вера ведет их — ответят песней матросы:
«Авось» называется наша шхуна. Луна на волне, как сухой овес. Трави, Муза, пускай худо, Но нашу веру зовут «Авось»!Чтобы кто чего не подумал худого, напомним в скобках: морской термин «травить» означает управление парусами с помощью каната.
Аллилуйя возлюбленной паре
О Резанове и Кончите написал балладу Брет Гарт — «Консепсьон де Аргельо» (напечатана она в 1875 году в сборнике стихов «Эхо в Нагорьях»). Певец калифорнийских золотоискателей и сделал для удобства слога Резанова графом. Вознесенский взял у него этот резановский титул взамен камергерского. В Центральном историческом архиве он изучил рукописи Резанова. «Женственный, барочный почерк рисует нам ум и сердце впечатлительное». Может ли поэт не влюбляться в своего героя? Конечно, может, — но не Вознесенский, которому как раз важнее всего — чувствовать героя, как себя самого. «Какова личность, гордыня, словесный жест!»; «слог каков!»; «как аввакумовски костит он приобретателей»; «как гневно и наивно в письме к царю пытается исправить человечество»… Отношение автора к Кончите, ждавшей возлюбленного 35 лет и ушедшей в монастырь после известия о его смерти, — пожалуй, сложнее: «…трагедия евангельской женщины, затоптанной высшей догмой, недоказуема, хотя и несомненна. Ибо не права идея, поправшая живую жизнь и чувство».
Подзаголовок поэмы витиеват — как требует та эпоха: «Описание в сентиментальных документах, стихах и молитвах славных злоключений Действительного Камер-Герра Николая Резанова, доблестных Офицеров Флота Хвастова и Довыдова, их быстрых парусников „Юнона“ и „Авось“, сан-францисского Коменданта Дон Хосе Дарио Аргуэльо, любезной дочери его Кончи с приложением карты странствий необычайных».
В 1978 году началась работа над будущим спектаклем.
«Сочиняя поэму, — напишет худрук „Ленкома“ Марк Захаров, — поэт, конечно, не предполагал, что она явится поводом для более чем странного сценического произведения, именуемого то рок-оперой, то современной оперой, то мюзиклом, то музыкальной комедией, то музыкальной драмой, то просто музыкальным спектаклем».
«Работая над оперой „Юнона и Авось“, — подтвердит Андрей Вознесенский, — я понял, как каторжно работать с театром. А началось с того, что Марк Захаров пытался увлечь меня сделать оперу по „Слову о полку Игореве“…»
Со временем воспоминания Вознесенского, Захарова и Рыбникова — поэта, режиссера и композитора — усложнятся полутонами, мимолетными тенями, какие-то имена в воспоминаниях станут все чаще уходить в тень. Но стоит ли нам придавать значение всему тому, что будет? Сейчас и здесь — рождалось чудо, никому пока не было дела до авторских прав, никто не ревновал, не взвешивал вклад каждого на аптекарских весах, не обнаруживал, что религиозными мотивами пожертвовали в угоду любовной линии… Ничего этого, к счастью, не было — а если и случится потом, то главное уже будет сделано. Чудо — случится. Остальное, потом — с точки зрения восхищенного зрителя — будет лишь суета сует иных времен. Увы, жизнь озадачит этой суетой больших художников. Вознесенскому с его болезнью будет уже не до того. Возможно, эта суета помешает и появлению второго спектакля той же троицы авторов в «Ленкоме». Но об этом — чуть позже.
Тогда, в 1978-м, по словам Марка Анатольевича, «Андрей Андреевич внимательно выслушал наши неуверенные суждения и кисло усмехнулся. Андрей Андреевич был прав в своей улыбке». Это когда вместо постановки «Слова о полку Игореве» Вознесенский предложил свою поэму «Авось». Захаров напишет смутно: «Первое впечатление от поэмы „Авось“, помню, было не самым обнадеживающим. Поэтов у нас не всегда понимают сразу…» Но потом они с Рыбниковым пришли к выводу, что Вознесенский «сочинил конечно же прекрасную поэму. В ней содержался в каком-то спрессованном состоянии довольно мощный энергетический заряд. Постепенно ощупывая слова, сочиненные, сконструированные, свинченные и услышанные поэтом, мы с композитором ощутили некое волнение и смутную надежду. Надежда в театре всегда должна быть смутной».
Рыбниковская мощная музыка, заметит Вознесенский, соединяла обрядовые мотивы и достоевский «рок». В процессе создания либретто персонажи выпадали и возникали из небытия. «Пришлось вписывать целые арии и сцены».
В либретто вошли строки из писем Резанова. Вошли стихи из цикла «Мой Микеланджело», «Строки Роберту Лоуэллу», самые известные хиты оперы — «Сага», «Белый шиповник» — из написанного уже после поэмы «Авось». Герой бросит вызов судьбе — и роковая тень поползет за ним по пятам в «Монологе Резанова»: «Божий замысел я исказил, / жизнь сгубив в муравейне. / Значит, в замысле не было сил. / Откровенье — за откровенье».
Были, напротив, стихи, имевшие прямое отношение к сюжету, — но не вошедшие ни в поэму, ни в либретто оперы. Для Вознесенского они, безусловно, важны — в них опять и опять поэт возвращается к равновесию мира, гармонии Востока — Запада. «Из дневника графа Резанова» — альковная версия: «Разве мыслимо было подумать, / что в Нью-Йорке, как некогда встарь, / разметавшись, уснем на подушке, / словно русско-английский словарь. / Мировые границы отринем. / Будут стулья в шикарном тряпье. / Засыпая, ты скажешь мне: „Дриминг“… / „Дрёма, дрёма“, — отвечу тебе».
Версия, политически заостренная, — в «Русско-Американском романсе» Резанова:
И в моей стране, и в твоей стране до рассвета спят — не спиной к спине. ……………………………… Идиотов бы поубрать вдвойне — И в твоей стране, и в моей стране…Этих строк в спектакле нет — зато есть «Свадебная песня», ставшая пьянящим финалом. «Аллилуйя возлюбленной паре! / Мы забыли, бранясь и пируя, / для чего мы на землю попали — / аллилуйя любви, аллилуйя!»
Как так, аллилуйя — земному чувству? Аллилуйя — простому смертному со всеми его страстями, заблуждениями и заморочками? «Аллилуйя» со сцены пьянила дерзостью, ощущением нарушенной границы дозволенного.
А ничего, дозволили.
Хлопотали многие. Вознесенский вспоминал среди них и Щедрина, и Солоухина. Но помогла Божья Матерь. По версии Марка Захарова, отправиться к ней за помощью предложил Вознесенский. По словам поэта — все ровно наоборот. То ли игра, то ли путаница эта непонятна да и вряд ли теперь существенна…
«„Андрей, у меня на примете есть еще кое-кто, который может помочь“, — сказал неуверенно Захаров.
— Поехали!
Такси затормозило у Елоховского собора. „Зайдем“, — предложил Марк. Мы поставили свечки у иконы нашей героини — Казанской Божьей Матери. Я купил три образка нашей Матери-заступницы. И отвез их Караченцову и Шаниной.
Наутро оперу разрешили.
Может быть, Марк ночью и звонил кому-то. Но, как писал поэт: „Какое здесь раздолье вере!“».
* * *
Девятого июля 1981 года на сцене Московского театра им. Ленинского комсомола случилась премьера. С этого начнется головокружительная летопись спектакля «Юнона и Авось». Среди тех, кто был причастен к постановке — художник Олег Шейнцис, великий танцовщик Большого театра Владимир Васильев (танцы, пластические этюды). А рок-группа — она же вокально-инструментальный ансамбль — «Аракс»!
На премьеру своего рода доносом сразу откликнется западногерманский журнал «Штерн». Захаров заучил этот текст почти дословно: «Звуки горячего рока доносятся до стен Кремля… В связи с тем, что религия в Советском Союзе почти полностью уничтожена, единственное религиозное питание для молодежи осуществляет ныне московский Театр имени Ленинского комсомола». Сигнал капиталистических товарищей рассмотрят на спецзаседании бюро столичного горкома партии. Ограничатся «строгим указанием» режиссеру.
Пьер Карден, вдохновленный Вознесенским, позвонит напрямую Юрию Андропову, заручится согласием генсека и устроит в 1983 году немыслимые трехмесячные гастроли в Париже. В его роскошный ресторан «Максим» вся труппа будет ходить, как в столовую. Пресса захлебнется в восторгах, и спектакль с легкой руки того же Кардена на месяц еще перекочует в Нью-Йорк — и снова успех, и снова…
Мирей Матье признается в любви Елене Шаниной. Со временем появятся в спектакле новые Кончиты, но первой любовью зрителей навсегда останется Шанина. В одном из юбилейных посвящений поэт напишет: «Двадцать лет, как раскоряченных / политических слепцов / дразнит с юною горячностью / Николай Караченцов. Сероглазый зайчик, Шанина / начала парад Кончит…»
Бессменный Резанов — Николай Караченцов и Андрей Вознесенский, по словам жены актера Людмилы Поргиной, станут «как братья». Вознесенского на полчаса примет папа римский в Ватикане («В Папскую библиотеку дух Иванова наведывался. И шуршал рукав папирусный. Был по времени обед».) Тогда же будет и «разрешено Караченцову дегустировать Папского замка вино». Вознесенский спросит у Иоанна Павла II, верит ли он во всех этих «пришельцев» и «летающие тарелки». Тот, конечно, не верил. Но… «Жили жалко. Жили мелко. / Не было идей. / Землю, как такси по вызову, / ждала зеленая тарелка. / Кто-то в ней спросил по рации: / „Вы верите в людей?“… / <…> И Христос небес касался, / легкий, как дуга троллейбуса, / чтоб стекала к нам энергия, / движа мир две тыщи лет…»
Много лет спустя Караченцов попадет в автомобильную аварию, и главным станет вопрос: «Поправится ли Караченцов?!» Тогда в спектакль войдут новые Резановы.
Карден в Париже после «Юноны» подарит Александру Абдулову (он играл и Фернандо Лопеса, и «еретика», и «человека от театра») щенка жесткошерстной таксы жутко голубых кровей. Захаров запишет: «Андрей Вознесенский в своих новых стихах воспел этот подарок Кардена, который был еще в самолете назван Авоськой. (Настоящее имя: Юссела де Фан Шассер.) Стихи Вознесенского опубликовала газета „Правда“, что еще больше подняло престиж этого странного зверя, которому на французской таможне отдавали честь, — в таком изумительном порядке были оформлены все его выездные документы, а к зеленой сумке было приложено фирмой специальное высококалорийное питание и набор собачьих игрушек. И то и другое пользовалось у коллектива огромным успехом…» Пройдет время — уйдет из жизни Абдулов. Потеря для театра будет страшная. Но «Юнона и Авось» будет жить.
В 2001 году Вознесенский расскажет в «Литературной газете»: «Недавно Марк подошел ко мне: „Ты знаешь, в ‘Аллилуйя’ надо изменить ‘жители XX столетия’“. Я написал: „Дети XXI столетия“. И вместо „К концу идет XX век…“ — „Нам достался XXI век“. Дальше можно петь: „Нам XXII достался век“, „Нам XXIII достался век“. Так что три века поэме обеспечены. Я думаю, что так и будет, потому что всегда будет цениться подлинная любовь и это чувство безоглядности. Все остальное ерунда — политика, коррумпированность всех, и либералов, и правых, и левых…»
Смысл оперы, заметит Вознесенский, меняется сам собой — в рифму изменчивому времени.
В день восьмидесятилетия поэта худрук Захаров вспомнит его словами благодарности — за то, что «раздвинул границы русской словесности» и внес «вклад в строительство московского театра „Ленком“». И прочитает написанное поэтом специально для спектакля, незабываемое: «Мы, дети поддорог, нам имя Полдорожье… / <…> Прости меня, земля, что я тебя покину. Не высказать всего… Жар меня мучит, жар… Не мы повинны в том, что половинны. / Но жаль…»
Потом «Юноны» будут размножаться по стране и десятилетиями идти в самых разных театрах. Потом у композитора Рыбникова появится свой театр, и в нем своя «Юнона и Авось. Авторская версия». А продюсер Михаил Кацнельсон объяснит «Известиям», что Рыбников исправил «недоработки»: «…тема любви с Кончитой, конечно, важна, но… Главное, что за героем постоянно следят глаза Богородицы». То есть эта постановка уже исправит «недоработки» спектакля Захарова.
По этому поводу можно сказать одно. Ленкомовские «Юнона и Авось» останутся первой любовью, легендой, по которой всегда будут сверяться любые другие постановки. Есть же вечные данности: солнце всходит на востоке, Волга впадает в Каспийское море, в «Ленкоме» на ура идет «Юнона и Авось».
Минет век, но со слезами будут спрашивать билет, пока зрительницам в зале будет по шестнадцать лет. («Юбилей „Юноны и Авось“»)И чем решительнее будут меняться эпохи, чем неожиданнее изгибы русско-американской любви-ненависти, — тем свежее «Юнона и Авось».
Да, Вознесенский напишет для «Ленкома» еще и новое либретто — «видеодрам» под названием «Второй». И вроде бы забрезжит на горизонте новый спектакль. И поэт пообещает даже, что оперу «Второй» в 2004 году поставит Марк Захаров. И… ничего не выйдет.
Отчего же?
Не отвержи мене во время старости
В мае 2003 года, на вечере к семидесятилетию поэта, в Концертном зале им. Чайковского Алексей Рыбников представит фрагменты новой оперы «Второй». А накануне Андрей Андреевич расскажет со страниц «Новой газеты»:
«Долгие годы после „Юноны и Авось“ Марк Захаров предлагал мне придумать еще что-нибудь. И вот сейчас я наконец сподобился и написал пьесу, сюжет которой был подсказан самим Захаровым. Он предложил сочинить историю о реальном композиторе XVIII века Максиме Созонтовиче Березовском и сказал, что Алексей Рыбников готов написать музыку. Текст родился сразу.
В этом сюжете человек из нашего времени перемещается через столетия в XVIII век и вместе с ним попадает туда и наш язык, и всякие наши жаргонные словечки, и наш сегодняшний менталитет в виде разнообразнейших знаний и понятий. Это выглядит, конечно, очень странно на фоне того времени… Собственно, это не пьеса, а видеодрам, как велодром, наполненный скоростью, движением и звуками.
Пока Рыбников сочинял музыку, а Захаров разрабатывал сюжет, у меня в голове пьеса очень изменилась — я сбился с задания.
Появился новый персонаж — Магер-шелал-хаш-баз. Пророк Исайя упоминал такое имя. Это был как бы двойник Христа. Он был карающей десницей Бога и антихристом. Он стал в пьесе темной силой, которая мистически обыгрывает многие сегодняшние события…»
То есть в работу уже включились все, как было и с «Юноной». Поначалу Захаров надеялся, что этот сюжет вдохновит Григория Горина — но Горина не стало. Собственно, «Второй» у Вознесенского и откроется полушутливым, нежным «Исполнительным листом», представляющим «ленкомовских» действующих лиц. «Чурикова — исполняет роль Екатерины II. Екатерина II — исполняет роль Матушки России». «Караченцов — исполнен чести и достоинства. Честь и достоинство — исполнены Караченцовым». «Певцов — исполнен желания. Желание — исполнено Певцовым». «Захаров — исполняет роль Ленкома. Ленком — исполняет роль Захарова». «Музыка А. Рыбникова в исполнении Максимовского. И наоборот».
Но через несколько лет на вопрос — отчего же ничего не вышло? — Марк Анатольевич вдруг ответит: как-то, мол, не было, собственно, из чего делать спектакль… Загадочно. Тем более что лет через десять после «анонса», сделанного Вознесенским, Алексей Рыбников заверит журнал «Итоги», что идея вовсе не заглохла, теперь это идея полноценного оперного спектакля, и название у него теперь — «Оперный дом», но речи о «Ленкоме» уже как бы и нет: «К созданию либретто приложили руку разные люди, и Андрей Вознесенский, и Марк Захаров… Музыка написана почти вся. Но для осуществления проекта необходим партнер — хороший оперный театр. Шли переговоры с „Геликоном“… Даже если найти партнера не удастся, я это обязательно сделаю в своем театре».
Путаницы эти разгадывать — толку нет. Зоя Богуславская на этот счет скажет однажды без реверансов: «С постановкой в „Ленкоме“ были идеи. Но у меня была сразу абсолютная ясность, что ничего не будет, когда я посидела с ними со всеми. Я же вообще пифия, и я уже видела, что внутри проекта уже есть сопротивление, неважно, чье, но оно не позволит все задуманное совершить. Это, мне кажется, уже требовало от каждого каких-то внутренних компромиссов — себя забыть, не поставить на первое место…»
Словом, дальше начнется скучная рутина. Не нам в ней разбираться. Вознесенский, скованный болезнью, будет сопротивляться ей как поэт — «менеджерской» или «продюсерской» хватки у него отроду не было.
Вознесенский расскажет о сюжете в самых общих чертах:
«Сама пьеса и мистическая, и реальная, как „Юнона и Авось“. Один из главных персонажей граф Алексей Орлов (в нашей версии — любовник Екатерины II, как и брат его Григорий) стал любовником Таракановой, которую предал по повелению императрицы и привез в Петербург, где она была заточена в крепость.
Композитор Березовский одно время также был близок к Таракановой, которая у меня тоже фигура мистическая и мало имеет общего с исторической княжной. Поэтическая правда важнее исторической. Тараканова была великая авантюристка, существовала под разными именами, ее принимали за дочку императрицы Елизаветы, что было маловероятно. Существует и знаменитая картина Флавицкого, на которой княжна гибнет во время наводнения в Петропавловском равелине, куда она была заключена. Известно, что это полотно очень вдохновляло Пастернака. Эдвард Радзинский считает, что смерти в равелине на самом деле не было. Но в народном сознании Тараканова осталась именно княжной, „которую затопили в равелине“. И с этим ничего не сделаешь. В пьесе ее смерть описана в двух ипостасях — как бы на самом деле и как по легенде.
Пьеса называется „Второй“. Первый — Христос. Магер-шелал-хаш-базу отводилась роль „второго“. И Екатерина поет песенку — „У женщины каждый мужчина второй“… „Второй“, по-моему, очень точно для России, ведь нам всегда важно найти что-то второе внутри — вторую жизнь. И человек, получающий эту вторую жизнь, становится другим…»
Появится когда-нибудь «Второй» на сцене или нет — а вчитаться в него стоит. И вдуматься: там бездны важных смыслов.
Он предупреждал.
* * *
Пушкин удивился, услышав от фрейлины Александры Смирновой-Россет о загадочном забытом гении, композиторе Березовском, который учился в Болонье, стал даже там членом музыкальной академии, поставил в Ливорно оперу «Демофонт» и стал придворным капельмейстером Екатерины: «А я думал, что это музыка исключительно Бортнянского». Диалог этот остался в «Записках» Смирновой-Россет. «Ничуть, — ответила она. — И даже Березовский отличался большей оригинальностью, чем Бортнянский… Его музыку поют в России Великим постом».
В жизни этого композитора, как в омуте, явно утоплено немало тайн, способных возбудить поэта. Легенд осталось больше, чем документальных свидетельств, будто нарочно исчезнувших из истории. Среди легенд — туманный и запутанный треугольник, связывающий имена Максима Березовского, графа Алексея Орлова и княжны Таракановой (она же «султанша», она же «принцесса Азовская», она же «Елизавета Владимирская», она же обвиняемая по делу о заговоре с целью переворота, заведенному в начале 1774 года).
Чем так уж вдруг заинтриговала Вознесенского судьба туманного гения? Кажется, о нем известны лишь крупицы, то пикантные, то взрывчатые, или безумные. Вроде бы Березовский имел неосторожность посвятить какие-то сочинения Таракановой. Вроде бы привечала его и Екатерина — специальным указом определила ему в жены «фигурантку» придворного театра Франциску Ибершер (она же Франца, она же Францина, она же Ибершерша) и пожаловала ей по такому случаю платье.
Заметим мимоходом: камергер Резанов, тот самый, из «Юноны», тоже приглянулся, говорят, Екатерине — но скоро был напутствован Орловыми подальше, к Дальнему Востоку, по государственной нужде.
Новый фаворит Екатерины, Григорий Потемкин, думал открыть в Екатеринославе (он же столица потемкинской Новороссии, он же Днепропетровск) музыкальную академию, для чего старался привлечь Березовского, — но затея не выгорела. А композитора потом найдут вдруг убиенным, и директор придворных театров Иван Елагин тут же сделает вывод, что это Березовский сам — «в припадке ипохондрии он перерезал себе горло».
Заметим мимоходом: бог весть, сколько еще в истории случится таких трагических странностей — когда жертвы станут объявляться сами-себя-убийцами! Спалят народу — целый дом. Ну, как в Одесском доме профсоюзов по весне четырнадцатого года, до которой Андрей Андреевич не доживет… И все понимающе, либерально моргнут: сами себя… в припадке ипохондрии…
Еще одно внезапное, случайное, конечно, пересечение судеб. В той самой Новороссии, куда приезжал по протекции Потемкина Максим Березовский, в Запорожье в XX веке обнаружится вдруг потомок камергера Николая Резанова — полный его тезка, бывший моряк-подводник, а в миру, после отставки, биолог. Местная газета «Факты» расскажет, как в 2003 году на гастролях в Запорожье Николай Караченцов позовет потомков своего героя на спектакль. И бывший моряк Резанов подарит актеру свой офицерский кортик.
Заметим мимоходом: ну какая связь? ну что тут общего? Конечно, ничего буквального. Одни эмоции и ощущения. Будто сквозь пространство и время сгущаются тучи, копятся из мимолетных судеб и имен сгустки энергии. Померещилось?
И вдруг, на тебе, оказывается, и повод, подстегнувший поэта к созданию этой «видеодрамы», — ведет туда же, в те же точки пространства, на юго-восток Украины: «Из Харькова, как хвороба, / пришло мне книгой письмо. / „Пошли мне, Господь, второго!“ — / казалось, звало оно. / Харьковчаночка, эхо Гиппиус, / выстукивала, как пароль. / И я, ощущая гибельность, / пьесу назвал „Второй“. / Была в ней печаль такая! / Я Господа стон узнал, / как будто сквозь текст Исайи / себе Он второго звал»…
* * *
Тут и появляется Магер-шелал-хаш-баз.
Кто? Что? Зачем он тут?
Возможно, объяснения Вознесенского грешат неточностями с точки зрения библейских наук. Но он каким-то нервом уловил, как покажет время, страшную суть. Разобраться в этом важно.
В ветхозаветной Книге пророка Исайи пророк по велению Господа записывает на большом свитке слова: «магер-шелал-хаш-баз». Означают они дословно: спешит грабеж, торопится добыча. После чего Исайя «пошел к пророчице и был с ней, и она родила сына». И сына по велению Господа пророк назвал Магер-шелал-хаш-баз. Какой во всех этих жестах был смысл? Запись на свитке, как и имя сына — предостережение, знамение грядущих бед. Иноплеменники грядут, разграбят землю, принесут несчастья.
«Исайя продолжает свой рассказ. / Что обозначает „Помилуй нас“? / Магер-шелал-хаш-баз. / „Добыча“ переводится и „грабеж“. / В библейской периодике Норд-Ост найдешь. / Зачем в слова забытые ведешь, пророк? / Сегодняшних событий они пролог…»
Имечко несбыточное бычит глаз… Мы с Тобой добыча — но чья сейчас? Тень, как флаг, цепляется за древко… Что обозначает имя Его? Самодобыча? Самограбеж?Откуда он знает? Откуда слышит эту жуть из будущего? Он даже не доживет до нее, лишь прокричит о трагедии «Норд-Оста» — как о предвестии грядущих бед. «Почему ж Господь меня именно / отыскал в слепых временах? / Чтобы мог начертать это имя / в человеческих письменах?»
Может, только поэту и дано: увидеть в знаках небес — мрачные намеки, предостережения истории. О чем? Поди пойми.
«Романс второй» — какая-то внезапная нежная скрипка напоет поэту и такое крымское предчувствие: «О чем ты плачешь, / сняв кринолины, / Екатерина?..»
Баба слабая — Екатерина. Неужто Крым сдадут мужчины?…Как это было прежде с Мерилин Монро? «Я баба слабая. Я разве слажу? / Уж лучше — сразу»? Вознесенского любят «истолковывать». Пристраивать к лагерям, выдергивать цитаты. Даже благосклонные литсобратья склоняют небрежно: да, ранний Вознесенский… а поздний — больно заковырист, да и вообще… Ах, если бы его просто внимательнее читали. Не истолковывая на свой манер — а лишь стараясь услышать написанное. Вдруг получится?
Безумствуют экстрасенсы. И харьковская Марго вздохнет: «Второй» — Вознесенский. Секите его! Он хам. Не хлопочет наседкой. Бросил трубку, травя со мной. Вознесенский — второй, Вознесенский — второй.Но вернемся к Книге пророка Исайи. За что Господь грозит его народу разными напастями? А Господь сейчас же все раскладывает по полочкам: «…за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииным». Знатоки разъясняют текст Исайи: дело в неблагодарности жителей города. Имея царя приветливого, кроткого и тихого, они отложились от него и пожелали притеснителей (Рецина и сына Ремалина) вопреки здравому смыслу и собственному благу. А раз так — получите. Церемониться с таким народом никто не будет: «…наведет на него Господь воды реки бурные и большие — царя Ассирийского». Человека, в общем, неинтеллигентного, не очень воспитанного и злого.
Это вот Господне возмездие, «река бурная», выступит из берегов своих, высоко поднимется и «дойдет до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей». У Вознесенского эта ужасная картина рифмуется с княжной Таракановой, захлебывающейся в Петропавловском равелине на полотне Флавицкого: «Вода прибывает, трусливо пощипывает — / по щиколотку. / Все женские слезы, как острые иглы, / вонзаются в икры… / <…> Тону в вашей страсти, / бесчисленные мужчины! / До места причинного / вся ложь мировая / и наша, и прежних эпох — / залазит в пупок. / Сынок не рожденный мой, / омут тоски / берет за соски. / Скользнувшая по лбу несчастная, / мокрая крыска, / нам крышка!»
Сохранилось песнопение композитора Максима Березовского (у Вознесенского он — Максимовский): «Не отвержи мене во время старости, / внегда оскудевати крепости моей, / не остави мене… <…> / Яко реша врази мои мне / и стерегущие душу мою / совещаша вкупе… / <…> Да постыдятся и исчезнут / оклеветающие душу мою»… Поэт сохранит эту боль и ожидание беды — в романсе из «Второго»: «Я не прячу голову/ вроде страуса. / Идут страшные времена, / не отвержи меня во время старости, / не отвержи меня!..»
Не отвержи моей молодой страсти. Дух мой крепче кремня. Прости измены, презренье к стадности, не отвержи меня!Не задуй свечу, Дуняша
Перескочили мы вперед не зря и не случайно. Да это и не мы — это сам Вознесенский. Персонажи его «видеодрамы» скользят в лифте времени, рассекают эпохи — в поисках жизненно важных ответов. «Второй», не дошедший до сцены «Ленкома», — вращается калейдоскопом стеклышек-клипов, которые должно сплести сценическое действо.
Трубная медь здесь увита нежной свирелью. Как вдох и выдох — «Песенка княжны Дуняши». В ней слышится шорох серебряной нити поэта. Чувства свежи — будто ему и не семьдесят вовсе, и не надышишься, и ощущаешь, чего ради весь этот сыр-бор, называемый жизнью:
На ладонь мою ты дунешь, Тучки нет дождя. Я не жду неждунеждунеждунеж… Я люблю тебя. Я не жду неждунеждунеждунеж… Только свирищу. Дунешьдунешьдунешьдунешь — Не задуй свечу. От меня ты дунешь-дунешь — Думаешь, стерплю? Я не жду неждунеждунеждунеж… Я тебя люблю.Ах, что за прелесть песенка. А в ней еще и ключик.
Тут в нашем рассказе появляется старый знакомый — одноклассник Вознесенского, кинорежиссер Андрей Тарковский. Как? Разбежались вроде бы давно… Но — странно это кому-то или нет, как-то держали друг друга в поле зрения всегда. Невидимые ниточки все время связывали их — и дело не в одной сентиментальной памяти о школьном детстве.
Как ни верти, слишком много пересечений в их вечно мучительных поисках смыслов — и себя внутри этих смыслов… А впрочем, вернемся к Дуняше.
Профессор Горчаков — вспомним знаменитую сцену из фильма Тарковского «Ностальгия» — так вот, профессор Горчаков (он же Олег Янковский) пытается «пройти с горящей свечой поперек бассейна, наполненного горячей водой, в гигантской старой римской бане в самом центре тосканской деревни».
Что общего у них с Дуняшей? Да ничего — кроме вот этого сбивающегося, напряженного, еле сдерживаемого — сердце стук-стук — дыхания. Ветерка, дуновения… «Дунешьдунешьдунешьдунешь — не задуй свечу». Горчаков ворожит, свершает ритуал — во имя друга, учителя математики, безутешно ловившего смыслы бессмысленной «свободы» и «безумия». И та же ворожба — единственный смысл дуновений в сторону Дуняши: безумие любить, когда без толку ждать, — тут можно только ворожить, гипнотизировать…
Но что нам эти дуновенья? — лишь попутный ветерок. Интереснее вспомнить — чем был озабочен, что делал в Италии герой Тарковского, профессор? Оказывается… профессор Горчаков ищет следы того же Максима Березовского, странного забытого гения, который станет героем Вознесенского спустя двадцать лет.
Вот что говорил о герое «Ностальгии» режиссер, Андрей Арсеньевич, в 1984 году в интервью стокгольмскому журналу «Chaplin»: «Горчаков — профессор истории с мировой известностью… Цель его приезда в Италию, главным образом, найти следы одного малоизвестного русского композитора XVIII века, бывшего крепостного одного русского графа, который послал его в Италию обучаться на придворного музыканта. Он учился в консерватории у Джан-Батисты Мартини, стал прославленным композитором и жил в Италии как свободный человек… Очень важная сцена в фильме, когда Горчаков показывает своей переводчице, молодой девушке славянского происхождения, письмо, написанное композитором и посланное в Россию, в котором он выражает свою тоску по дому, свою „ностальгию“. Все говорит о том, что этот композитор вернулся в Россию, но стал алкоголиком и в конце концов покончил с собой».
Кто-то предполагал — может, речь о другом российском самородке, Бортнянском? Но тот, при многих совпадениях их с Березовским судеб, простился с миром в своей петербургской квартире, — по просьбе Бортнянского прибыла капелла и проводила композитора его концертом «Вскую прискорбна еси душе моя»… Так что речь в «Ностальгии», конечно, о Березовском. Вспомнит ли об этом Марк Захаров, когда предложит Вознесенскому сделать героем пьесы композитора — бог весть, но, безусловно, поэта увлекут загадки жизни Березовского — как когда-то Тарковского.
В 1977 году Андрей Тарковский поставил в «Ленкоме» шекспировского «Гамлета». Театральный опыт был скорее вынужденным. Прошло три года после съемок «Зеркала» — а следующий фильм, «Сталкер», ему дадут снять лишь через пару лет… Тогда, в 1977-м, Андрей Вознесенский напомнил однокласснику стихами — о кепарях их московского детства: «Блатные москворецкие дворы, / не ведали вы, наши Вифлеемы, / что выбивали матери ковры / плетеной с олимпийскою эмблемой». Собственно, написал тогда Вознесенский ради главной строчки — поддержать: «Наломано, Андрей, вселенских дров, / но мы придем — коль свистнут за подмогой»…
Возможно, совпадение названия фильма Тарковского с названием известного стихотворения Вознесенского — «Ностальгия по настоящему» — случайность. Так или нет, но за созвучием слов — рифмовка мироощущений поэта и режиссера. В том же интервью шведскому журналу Андрей Арсеньевич кругами возвращается к этому слову: что это, ностальгия? И под каждой из его формулировок мог бы подписаться Вознесенский… «„Ностальгия“ означает тоску… по тем мирам, которые нельзя объединить, но это также и тоска по нашему родному дому, по нашей духовной принадлежности…» «Ностальгия — это тоска по пространству времени, которое прошло напрасно, потому что мы не смогли рассчитывать на свои духовные силы, привести их в порядок и выполнить свой долг…»
Разве не та же неизбывная «ностальгия» прорвется у Вознесенского в том же «Втором», — в эпоху торжества «вторичных людей». То есть лишенных своих «духовных сил», зато приученных безукоризненно и слепо повторять зады Запада: «Мы — вторичные люди, / мы — тень первачей, / белых, красных, коричневых. / Исторически мы не имеем идей. / Мы — вторичные!..»
При инквизиции цвели «Капричиос». На Чистых прудах стоит наш Примус. Демократическая вторичность — в этом наша неповторимость. Зачем тревожите отошедшее? Стремитесь в рыночные отношения? Потом в опричнину? К Екатеринам? Полет вторичный неповторимый! («Вторичные люди»)* * *
И был ему сон.
«Мне снится, как мне снится золотое дерево языка! Оно растет сквозь меня, всасывая мои соки, оно прорастает сквозь мою жизнь, шумит кроной надо мной.
Крона языка — моя навязчивая идея. Мне хочется на какой-нибудь площади поставить монумент языку. Это будет памятником ушедшим великим словам — „не лепо ли ны бяшет, братие“, — это будет вечный огонь живого слова. Там сольются поэзия и архитектура. Как колокола, будут раскачиваться золотые „А“, сережками будут звенеть „С“, фыркнет филином „Ф“, будут наливаться винные гроздья „О“ — крона должна быть золотой, слегка качаться от нагреваемого воздуха, от света, человеческого дыхания».
В 1983 году в Москве на Тишинской площади выросло «меднолистое Древо языка». Монумент скульптора Зураба Церетели и архитектора Андрея Вознесенского, высотой в 42 метра, составлен из букв грузинского и русского алфавитов. Открыли его к двухсотлетию подписания Георгиевского трактата — договора о переходе Грузии под протекторат России, который все эти 200 лет иначе как договором о дружбе двух народов и не считался. Собственно, и буквы, составляющие памятник, складываются в простые слова: «братство», «мир», «дружба». Устареют ли эти слова с наступлением эпохи воображаемых свобод?
Сверху над буквами золоченый венок славы. У подножия стелы — медные доски-картуши с цитатами о взаимном притяжении двух народов из Руставели, Чавчавадзе, Пушкина, Лермонтова, Есенина, Пастернака… У московской «Дружбы навеки» была вторая часть: у выезда на Военно-Грузинскую дорогу в Тбилиси монумент Церетели — «Узы дружбы» — был навеян историей любви Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе: огромный металлический позолоченный узел, связывающий два кольца…
Вознесенский написал: «Не смоете губкой, / не срезать резинкой с небес / эти буквицы русско-грузинские…»
Такого ни в Цюрихе, ни в Семиречье: прокрашенный суриком Памятник Речи.Первая кляуза была написана (свидетельствует в своей книге «Сердце на палитре» Лев Колодный) 11 июля 1982 года: «Считаю данную акцию, как и другие аспекты внутригородской политики последних лет, не отвечающей нормам социалистической идеологии и морали».
После 1991 года «Дружбу народов» стали раскачивать уже не стыдясь ничего — как «памятник застоя». Годы будут бежать — и те же люди будут строчить по-прежнему доносы, теперь демократические: долой «Дружбу народов», служившую «амбициям партийной и творческой элит, за спиной широкой общественности, вразрез с интересами и мнением местного населения».
В 1991 году «Узы дружбы» в Тбилиси взорвут по распоряжению демократического президента Звиада Гамсахурдиа.
Интернет во всех закоулках станет именовать московский памятник исключительно злорадно-ерническим «шампуром с шашлыком». Чтобы было смешно. А и правда — смешно же: «дружба народов». Обхохочешься.
В 2014 году Интернет будет так же злорадно и бесстыже называть сожженных в одесском Доме профсоюзов — «шашлыком из колорадов». Ну тоже, видно, смешно. Тоже обхохочешься.
А какая тут связь: где приколы и требования снести памятник русско-грузинской дружбе — и где приколы над русско-украинской трагедией…
Тут уж читатель сам должен думать.
Дело Магер-шелал-хаш-база — предупредить.
Глава восьмая МЕРЗНЕТ ДЕВОЧКА В АВТОМАТЕ
Рассказ Людмилы Дубовцевой, музыкального редактора
Людмила Дубовцева — автор и ведущая программы Всесоюзного радио «В рабочий полдень» в 1977–1990 годах. Рассказ ее дополняют комментарии и пояснения от Андрея Вознесенского, Раймонда Паулса, Константина Паустовского, Олега Нестерова и Бориса Гребенщикова.
Висим на люстре («Любите при свечах»)
Дубовцева: «Просто сказать, что я — из поколения, боготворившего Андрея, — ничего не сказать. В студенческие годы мы раздирали на части журнал „Юность“, когда там появлялись его стихи… Сейчас молодые люди даже представить себе не могли бы, как проходили его вечера в Концертном зале Чайковского. Конная милиция охраняла подступы к этому залу, потому что его брали штурмом. И что творилось в зале… Там сидели на ступеньках, едва ли не висели на люстрах… Это был 1975–1976 год. И я тогда тоже свисала с балкона, висела и на люстрах… Помню те непередаваемые ощущения — восторга, единения целого зала, когда Андрей Андреевич то ли забывал, то ли кокетничал, делая вид, что забыл какую-то строчку, — и зал кричал ему, дружно подсказывая эту строчку…
Одним словом, тогда мы очень дружили с главным редактором „Юности“ Андреем Дементьевым, и он, видя мою совершенно сумасшедшую влюбленность в Андрея Андреевича, решил меня с ним познакомить — за что я ему благодарна всю жизнь. Я уже работала в музыкальной редакции Всесоюзного радио, и, естественно, наши отношения с Вознесенским, когда мы познакомились, закружились вокруг того, что было связано с музыкой. Тогда не было других телерадиокомпаний, у нашей мощной музыкальной редакции не было никаких соперников во всей стране, и она была, конечно, своего рода цензором музыкального воспитания народа, и в этом были более музыкальных редакций. Начинающим музыкантам и авторам пробиться было непросто, и в этом были и плюсы, и минусы. Но к Андрею Андреевичу это не относилось — он уже был автором признанным, песни на его стихи уже были известны. При всем том, что он смотрел на свою работу в этом жанре, как на что-то такое побочное. Так, между делом, забавы мастера.
Песни, тем не менее, были классные. Например, „Любите при свечах“. Есть два варианта песни. Один написал Оскар Фельцман, его вариант обычно и звучал у нас на радио — пела Эдита Пьеха. А второй вариант написал специально для спектакля „Антимиры“ на Таганке Боря Хмельницкий. И вот Андрей страдал, что по радио чаще звучит симпатичная нам музыка Фельцмана, — а ему душу грела версия Хмельницкого…
Потом у него с Бабаджаняном была совершенно чудная песня, которую пела Ротару, — „Верни мне музыку“. Она из каждого утюга тогда лилась. И музыка, и стихи, все было дивно. И Ротару пела замечательно. Думаю, это была песня всех счастливых людей того времени: „…На виду у всех знакомых уведу, уведу на радость и беду… Одной натянутой струной связаны мы с тобой…“
И, конечно, тогда уже был большой цикл песен с Таривердиевым — „Не возвращайтесь к былым возлюбленным“. Там совершенно гениальная строка — „Не исчезай“. Мне посчастливилось присутствовать при рождении многих песен Андрея, но я считаю, что эта — на недосягаемой высоте. Но это на мой взгляд, конечно».
Вознесенский: «Микаэл Таривердиев любил мне повторять: „Нельзя быть целкой в бардаке. Надо писать песни“. Я пал…»
Читаем и рыдаем («Подберу музыку»)
Дубовцева: «В те годы как раз, в восьмидесятом — восемьдесят первом, вышел латвийский семисерийный фильм „Долгая дорога в дюнах“, в котором было очень много красивых мелодий. А так как я много лет дружила с Раймондом Паулсом, я знала его отношение — о том, что когда-то написано, он завтра и не вспомнит. Кто-то из композиторов складывает себе в багаж — а Паулс отработал, и все. Ну, что ж, приехав в командировку в Ригу, я выпросила на киностудии записи мелодий к этому фильму. И уже вернувшись в Москву, позвонила Вознесенскому — подобрав, как мне казалось, мелодию, которая придется ему по душе. Позвонила и говорю: „Андрей Андреевич, есть совершенно дивная мелодия“.
— Чья?
— Паулса.
— Ну ты же знаешь, я не пишу на музыку. Таривердиев берет готовые стихи. И Родик Щедрин. Пишут сами, я ничего не касаюсь.
— Ну, Андрей Андреевич, вы просто придите и послушайте…
В общем, я заманила его к себе на радио, он пришел, послушал мелодию. Она станет в будущем песней „Подберу музыку“. Мне кажется, она действительно созвучна его душе, или моему представлению о его душе. Послушал — и я говорю: „Давайте рыбу напишем“. Он смотрит удивленно: „А что такое ‘рыба’?“ Я еще больше удивилась — обычно говоришь поэту о какой-то мелодии, он сразу: „Давай быстро рыбу напишем“… „Рыба“ — это чтобы ритм уловить, чтобы стихи укладывались на музыку… Ну, разобрались с этой рыбой, он ушел — и я не очень-то была уверена, получится что-то или нет. Ну, вдруг.
Буквально через два дня Вознесенский звонит: „Ты знаешь, кажется, что-то получилось“. Я обрадовалась, лечу в ЦДЛ, и он дает мне эти стихи „Верни мне музыку“. Я читаю, и у меня не просто мороз по коже, просто слезы полились от счастья. „…Ты придешь, сядешь в уголке. Подберу музыку к тебе. Подберу музыку к глазам, подберу музыку к лицу. Подберу музыку к словам, что тебе в жизни не скажу“… Это действительно стихи, а мы же привыкли, что уж греха таить, что нам приносили всякую тарабарщину. А тут — поэзия.
Я говорю: „Это же гениально!“ — „Да ладно, гениально, — мне просто мелодия понравилась и ‘рыба’ твоя помогла“… Поговорили, я бегу в редакцию, звоню Паулсу: „Маэстро, у нас получилась песня на вашу мелодию“. Паулс отвечает мрачно: „На какую мелодию?“ — „Ну вот на вашу, из фильма“. — „Ладно, я сейчас дам трубку Лане (жене), а то я ведь писать не умею — пусть она запишет“.
Я диктую Лане стихи, она пишет и тоже, чуть не рыдая, говорит мне: „Слушай, это же стихи, а не абракадабра!“
…Стали искать, кто бы мог исполнить песню. В то время был популярен эстонский певец Яак Йоала. Так вот он, мало того что спел, повез эту песню на конкурс Интервидения в Сопот. Яак чудный певец, голос, море обаяния… но конкурсы не для него, не любит он все это (потому, наверное, и ушел с эстрады так быстро). Сделали неудачную аранжировку, какую-то растянутую… Он получил премию, песню заметили, но все же она не прозвучала, как могла бы».
Кто стучал? («Танец на барабане»)
Дубовцева: «Захожу я как-то на работу, а по фойе туда-сюда ходит певец Николай Гнатюк. „Ты чего такой грустный?“ — „Да понимаете, Людмила Ивановна, меня посылают в Сопот, а у меня нет заводной какой-то песни, одни лирические“. — „Ну, а что ты умеешь делать?“ — „Ну, я умею жонглировать, умею на барабанах играть“.
Звоню Андрею Андреевичу: есть, мол, такой смешной мальчишка Коля Гнатюк. У него всегда брови на лбу, он умеет жонглировать, стучать на барабане и очень смешной. Он едет в Сопот на фестиваль, и ему очень нужна заводная песня.
Вознесенский пришел, послушал мелодию — взяла ее из той же „Долгой дороги в дюнах“ — и буквально на следующий день написал уже: „Барабан был плох, барабанщик — Бог, ну а ты была вся лучу под стать: так легка, что могла ты на барабане станцевать“.
…Время было очень смешное. То, что у нас называлось „прямой трансляцией“ из Сопота, выглядело это так: никакого корреспондента туда, естественно, не посылали, это же дорого. Строилась такая выгородка в Останкинском телецентре, там сидели только те, кто должен был выходить в эфир. Поскольку я тогда вела эти как бы прямые репортажи с песенного конкурса, меня тоже допустили, чтобы посмотрела, как все было, и потом своими словами, как очевидец, рассказывала о происходящем. Так вот, это было в 1980 году, в Польше набирала силу „Солидарность“, и все, что исходило от Советского Союза, воспринималось в штыки. Переживали мы за Колю ужасно. Он спел свою лирическую песню, ему похлопали. И он начал петь вторую песню. Сначала был свист, потом свист умолк, его стали слушать, а когда он закончил петь, бурей аплодисментов заставили его… спеть эту песню на бис. Это был уникальный случай для конкурса. Мне говорили потом — да ну, это подстроили, придумали. Я и сама, если бы не видела прямую трансляцию своими глазами, не поверила бы! Те же поляки, относившиеся ко всему советскому очень неприветливо, — когда он закончил петь, понесли его прямо со сцены на руках. И Коля вернулся из Сопота просто героем.
Помню, тогда Андрей Андреевич уехал в Крым к своему другу Саше Ткаченко, поэту, бывшему футболисту, просто обожавшему Вознесенского (потом, кстати, он станет председателем российского ПЕН-клуба). И вот среди ночи у меня дома телефонный звонок. Вознесенский говорит: „Слушай!“ Я слышу, звучит „Барабан“. Немного погодя опять звонок: „Мы в кафе ‘Изида’. Ходим по побережью, и на каждом шагу поют эту песню!“ А тогда еще даже пластинку не успели выпустить. Но они в Ялте обнаружили в каком-то магазине журнал „Кругозор“, который, помните, составлялся из гибких пластинок, — и там была эта песня…
В общем, Вознесенский сам был потрясен — но тут начинается вторая страница в истории этой песни. Внезапно очень разволновались некоторые члены Союза композиторов. Чья-то популярность всегда нервирует — а тут еще вдобавок петь стали в каждом кафе и всюду, а значит, пошли большие авторские… Стерпеть это оказалось выше всяких сил. Хотя — не кричать же о том, что бесят чужие доходы!»…
Вознесенский: «Элегантный Раймонд Паулс был тогда безумно популярен, и песня в исполнении Николая Гнатюка мгновенно стала шлягером… Я проснулся утром и услышал шуршание за окном. Это был шорох не листьев, это шелестели купюры. Во всех ресторанах страны играли „Барабан“. В матрасе и подушках внезапно зашуршали купюры…»
Дубовцева: «…И вот приходит к Лапину, председателю Гостелерадио, Никита Владимирович Богословский: „Сергей Георгиевич! — говорит. — Как же вы допускаете, что у вас с утра до ночи звучит мелодия еврейского гимна?!“
Сергей Георгиевич не отличался особой симпатией к этой национальности, и от таких слов он подскакивает в кресле, нажимает на все кнопки, вызывает всех, кого только можно. Все приходят, никто не поймет, в чем дело. Звонят Паулсу — что это еще за израильский гимн? Он отвечает, что и не слышал этого гимна. Потом звонит мне: „Можете прислать этот гимн, хочу послушать“…
Не знаю, откуда об этом узнал Андрей Андреевич, но о том, что случилось потом, мне уже рассказывала Зоя Борисовна. Совершенно взбешенный этой нелепицей, он звонит в дверь Никиты Владимировича — они жили в одном доме. Влетает, хватает Богословского за грудки: „Ну-ка, сыграй мне израильский гимн, хочу послушать!“ Никита Владимирович сразу все понял: „Андрюша, это не я! Это не я! Я даю тебе честное слово, это не я!“ — „Ну, хорошо, Никита Владимирович, которого я уважаю, но если не вы, то кто?“… Если бы Зоя не была рядом и не оттащила Андрея, дело кончилось бы смертельной дракой…
Вранье было очевидное. Но песню сразу убрали из эфира. Она продолжала звучать в кафе — но на телевидении и радио ее убрали.
…Но и это не все. Была еще одна нелепая история с этой песней. Еще накануне Сопота Александр Стефанович, кинорежиссер, собиравшийся снимать фильм о своей жене, певице Алле Пугачевой, — разводится с ней и начинает переделывать весь сюжет на Софию Ротару, назвав фильм „Душа“. И вот звонит мне Соня Ротару: „Ты знаешь, я разговаривала с Паулсом, он сказал, что есть очень хорошая песня про барабан. Мне бы хотелось включить эту песню в фильм“. Я объясняю: „Сонь, песня действительно хорошая, но Гнатюк везет ее на конкурс“. А в Сопоте правило — песня должна быть премьерной. Она уговаривает: „Ну, Сопот будет в августе, а у меня фильм выйдет аж в ноябре, так что ничего страшного. Андрей Андреевич тоже не возражает, но у него стихов этих нет. Продиктуй их мне, пожалуйста“.
Я продиктовала, поверив честному слову, Соня записала. Как там шла работа над фильмом, не знаю, — но вдруг прибегает Коля Гнатюк, весь рыдает — песню у него отбирают. Ротару, мол, где-то в интервью сказала, что песню „Танец на барабанах“ специально для нее написали Паулс и Вознесенский…
Я звоню Ротару: „Сонь, ну как ты можешь так?“ — „А что, Андрей Андреевич сказал, что посвящает эту песню мне“. — „Сонь, а кто тебе дал стихи?“… В общем, почти что случился скандал. Слава богу, убедили товарища Лапина и песню у Гнатюка не отобрали, он спел ее на конкурсе. В фильме песня тоже прозвучала, и Соня ее действительно хорошо спела. Но сердились все друг на друга еще очень долго.
Потом появилась песня Пахмутовой на стихи Вознесенского — „Птица счастья“, которую тоже Гнатюк пел. Но с этим барабаном его… Так или иначе, благодаря этому „Барабану“ он тогда был сверхпопулярен».
Паулс (интервью журналу «Итоги», июль, 2013): «Никто не может предвидеть судьбу песни. Так же неожиданно получилось все с „Миллионом алых роз“. В латышском варианте эта песня называлась „Подарила мариня (судьба) девочке жизнь“, ее исполняла Айя Кукуле. Но потом Андрей Вознесенский сочинил стихи на русском.
Алла <Пугачева> послушала ее здесь, в Риге. Поначалу песня показалась ей слишком простой… Ей не понравились ни музыка, ни стихи: „Что за бред? Я это петь не буду!“…»
Пугачевщина («Миллион алых роз»)
Дубовцева: «Тем временем я, вдохновленная первой песней с Вознесенским, пошуровала еще по мелодиям того же фильма. Паулса потом упрекали: вот, мол, хитер, — но он, если честно, и понятия не имел, что у меня запись всей музыки к фильму и я выдергиваю тут мелодии за его спиной…
Так на одну из них появилась и песня „Два стрижа“. Тоже чудные слова. „Где ты летишь, синий мой стриж? В мире метель. С кем ты теперь?“… С текстом получилось так интересно…
Звонит как-то Андрей: „Ты знаешь, как мне повезло! На подоконнике лежала моя книга, и на нее вдруг сели два стрижа — и мне удалось их сфотографировать!“ Ему вообще нравились эти птицы, стрижи нередко встречаются в его стихах. И это ведь так не похоже на них — они летают высоко, если хорошая погода, а в непогоду низко. С чего вдруг они сели на подоконник? Будто знак какой-то свыше.
И вот появилась песня — „Два стрижа“. Мне очень хотелось, чтобы ее спела Пугачева. А в это время проводился конкурс молодежный на телевидении — что-то вроде „Алло, мы ищем таланты“. И Паулс послал на конкурс с этой песней девочку, Мирдзу Зивере, она была совсем начинающей, спела хорошо, заняла какое-то место… Потом Мирдза стала солисткой ансамбля „Зодиак“, одно время жутко популярного. Ансамбль быстро сошел со сцены, потому что Мирдза быстро ушла…
Но я тогда записала песню, принесла Алле: „Послушай, это точно твоя песня“. Она уезжала на гастроли, взяла с собой в Томск послушать, и вскоре звонит мне оттуда: „Песня и правда сумасшедшая, но если я ее спою, перекрою девочке все пути, а она только начинает. Хорошо ли это?“ Ладно, говорю, тогда мы с Андреем Андреевичем что-нибудь другое придумаем. Погоревала — мне кажется, и Вознесенскому тоже хотелось, чтобы Пугачева ее спела. И она ведь потом ее спела, и очень хорошо, — но тогда вышло так».
Вознесенский: «Есть явление русской жизни, / называемое Пугачевщина, — / сублимация безотчетная / в сферы физики, спорт, круизы. / А душа все неугощенная!»…
Ее воспринимают шизы, как общественную пощечину.Дубовцева: «И вот Паулс прислал мне новую песню, на латышском языке, там такой диалог (латышский автор текста — Леон Бриедис): мама что-то рассказывает дочке, та ей отвечает: ля-ля-ля… Я послушала, мелодия мне понравилась, звоню Андрею Андреевичу. Он уже знает, что такое „рыба“, — и вот на сей раз появилась песня „Миллион алых роз“, к которой серьезно не относился никто. Ни сам Паулс, ни Вознесенский. И Пугачева все ругалась: „Не буду я это петь, у меня уже язык заплетается повторять ‘миллион, миллион, миллион’“…
Но тут начинаются съемки „Новогоднего огонька“, которые шли в цирке, и Пугачевой подготовили эффектный номер. Под „Миллион алых роз“ она взлетает на трапеции под купол… И поет про бедного художника, который продал картины и кров, чтобы подарить возлюбленной целое море цветов…»
Константин Паустовский (из книги «Бросок на юг»): «…Но об одном я не могу умолчать, потому что это, пожалуй, одна из самых горьких правд на земле, — вскоре Маргарита нашла себе богатого возлюбленного и сбежала с ним из Тифлиса». (Возлюбленную художника Нико Пиросмани звали Маргарита де Севр, и усыпал он улицу перед ее домом не одними розами, а всем многообразием цветов, что было по всей округе в наличии.)
Дубовцева: «…B общем, через час не было ни одного человека в цирке, который не напевал бы эту песню. Песня вырвалась и пошла гулять, независимо от своих авторов. Популярность ее была сумасшедшей — да и спустя много лет ее знают все. Где бы ни выходила Пугачева на сцену, без этой песни ее не отпускали.
Потом ее записали в Японии, там она одно время ходила чуть ли не как народная песня. Потом, когда приехал туда Андрей Андреевич, его встречали практически как национального героя. Потом ездили туда и Паулс, и Пугачева, и то же самое…»
Паулс (интервью журналу «Итоги»): «В Японии „Миллион алых роз“ считается чуть ли не образцом любовной лирики. Помню, в конце 1980-х в Ригу приехал японский журналист, чтобы снять фильм о Латвии. И меня попросили написать к нему мелодию. У меня не было времени, я отказывался, но они стали дожимать и попросили использовать что-нибудь из уже написанного. Я стал наигрывать „Миллион алых роз“ — японец, узнав, что это я — автор, чуть не упал… А когда уже в независимую Латвию к нам приехала делегация Японии, они никак не могли понять, как русский композитор, известный в Японии, стал министром культуры в Латвии…»
(Заметки на полях. Песню услышала и перевела японская гитаристка Нина Хёдо. «Розы» прорвались во все хит-парады. Следом за Ниной их спела известная певица и владелица ресторанов Токико Като. Влиятельная семья Токико пригласила в Токио Пугачеву, та приехала вместе с очередным мужем Евгением Болдиным и композитором Игорем Николаевым. После токийского триумфа Пугачевой в 2000 году Токико Като прибудет с ответным визитом в Москву и споет «Миллион алых роз» вместе с Аллой Пугачевой на двух языках.)
Вознесенский (1990-е годы): «После того как „Барабан“ стали вычеркивать отовсюду, мы с Раймондом в отместку написали „Миллион алых роз“. К ним придраться не смогли. Песня стала хитом. Пугачева прошла с ней через Театр эстрады, „Олимпийский“, Лужники… Дальше идти было некуда. „Миллион“ до сих пор любят в Японии и регулярно присылают мне авторские. Поэтому, если и говорить о том, что меня кормит, так это розочки… Смешно сказать, за сборник поэзии сейчас могут заплатить всего пятьсот долларов. Разве это гонорар? Но все равно продолжаю работать…»
Алла Пугачева (рифмуя к одному из юбилеев Вознесенского): «Вот Вознесенье — символ твой / и твой масштаб вселенский… / Так возносись над суетой, / Вознесенский».
Вознесенский (отвечая «Гламурной революцией»): «На журнальных обложках — люрексы. / Уго Чавес стал кумачовым. / Есть гламурная революция. / И пророк ее — Пугачева. / Обзывали ее Пугалкиной, / клали в гнездышко пух грачевый. / Над эстрадой нашей хабалковой, / звезды — Галкин и Пугачева…»
…И в губной помаде («Первый лед»)
Дубовцева: «Сам Андрей Андреевич никогда тексты для песен не предлагал. Писал, если просили, — и то не всегда. Он только ухмылялся, если его называли „поэтом-песенником“. Но тем не менее песни на его стихи были и до сих пор остаются популярными.
Паулс и Вознесенский во многом похожи друг на друга. Оба закрытые. Всегда было так: вот тут Андрей — а тут все. И то же самое у Паулса: „Ой, я в стихах ничего не понимаю“, — скажет так кокетливо, хотя у него очень хороший вкус к стихам…
Мы не раз вместе ездили к Паулсу на дачу, и Зоя Борисовна с Андреем, и я с мужем. Ходили по друзьям, сидели в бане. Но Андрей не изменял себе даже там. Вставал очень рано, часов в 5 утра, и ходил, вышагивал свои стихи до девяти-десяти утра… А что он там навышагивал, никому не говорил.
Была еще, например, песня на его стихи у Паулса — „Я собака, твоя собака“. Но она осталась нераскрученной. Такие песни были…
Самым близким другом для Андрея Андреевича, безусловно, был Щедрин… Родион Константинович, в отличие от Таривердиева, совершенно не был ревнив к другим композиторам, наоборот, всегда поздравлял Андрея с удачами… У Щедрина в „Четырех хорах“, кстати, исполнял его песню „Первый лед“ — ту, где „Мерзнет девочка в автомате“. Была еще песня Фельцмана, ее пели Нина Дорда, ансамбль „Веселые ребята“, — уже заменив „мерзнет девочка“ на „плачет девушка“. А в девяностых Женя Осин спел ее на приблатненный манер — Андрей позвонил, спрашивает как-то: „Кто такой этот Осин?“…»
(Заметки на полях. Как раз с Женей Осиным и «стучал на ложках», пританцовывал под «Плачет девушка в автомате» в 1996 году перед избирателями Борис Ельцин. Что касается отношений с авторскими правами Вознесенского — демократический Осин был «в бегах».)
Вознесенский (в 1990-х годах): «Осин стал петь „Плачет девушка в автомате“, песню крутили всюду. Адвокат пытался договориться с ним о моем гонораре, но… так и не смог поймать певца… По правде сказать, я давно уже не пишу песен. А из старых, если какая и нравится, так это та, где есть строчка „Голубые, как яйца дрозда…“ Помните?»
Дубовцева: «Это пела группа „Мегаполис“. Но про общение Вознесенского с Олегом Нестеровым я мало что знаю…»
Нестеров (лидер группы «Мегаполис», на радио «Маяк»): «Был у нас с Оскаром Борисовичем Фельцманом хит — „Карл-Маркс-Штадт“. Но были еще, извините, и „Голубые яйца дрозда“ с Андреем Андреевичем Вознесенским. „Я тебя разлюблю и забуду, / когда в пятницу будет среда, / когда вырастут розы повсюду, / голубые, как яйца дрозда. / Когда мышь прокричит ‘кукареку’. / Когда дом постоит на трубе, /когда съест колбаса человека / и когда я женюсь на тебе“.
Текст веселый, но все вопросы к автору, Андрею Андреевичу. Хотя он, конечно, хитрец. Мы с ним познакомились, когда подписывали разрешение на использование его стихов в песне, и он, едва меня увидел, говорит: „А, голубые яйца дрозда!“ Я ему: „Ну, позвольте, это же вы написали слова?!“ А он в ответ: „Ну какая разница? Кто спел, тот и голубые яйца!“»
(Заметки на полях. Шутливое стихотворение Вознесенского называлось «Никогда (на мотив У. Д. Смита)». Песня «Мегаполиса» — «Новые московские сиртаки».)
Дубовцева: «Не знаю, стоит ли признаваться, но, да, мы позволяли себе иногда хулиганить в эфире. Когда Андрей Андреевич куда-то надолго уезжал, я придумывала иной раз письма от радиослушателей в „концертах по заявкам“, которые я вела, — такие, по которым Вознесенский, слушая, мог понять, как у нас тут дела, что нового происходит.
В восьмидесятом году в „Новом мире“ у него вышла поэма о прапрадеде „Андрей Полисадов“ — и я придумала такое письмо, будто пишут нам дальние родственники Андрея Полисадова из города Мурома. Андрей Андреевич в это время скрывался где-то под Тбилиси, писал, творил. И в определенное время, когда шла эта передача, включал радио и получал привет из Москвы. И вот — слышит, как родственники Андрея Полисадова просят поставить какую-то там песню… Он позвонил потом, говорит: понял, что ты поэму прочитала. Ну, посмеялись мы, конечно. …Но проходит какое-то время, он звонит мне опять: „Атас!“ — „Что случилось?“ — „На меня вышли работники краеведческого музея из Мурома, раскапывавшие родословную Полисадова. Спрашивают, как найти этих родственников и сохранилось ли их письмо в редакции? Так что жди, тебе скоро позвонят“… Меня спасло тогда время — письма мы хранили где-то месяц после передачи, а потом уничтожали. Так что когда до меня дозвонились, „письма“ уже не было… А если бы узнали о таком хулиганстве, мне было бы несдобровать».
Недосказанное Бо, недопонятое Бу («Аквариум» и БГ)
Дубовцева: Очень трогательно Андрей относился к Борису Гребенщикову. Ленинградский рок-клуб был таким полуподпольным, и только в 1986 году «Аквариум» впервые появился на телеэкране в «Музыкальном ринге». Тогда же Вознесенский впервые написал о нем, как никто другой помог вывести их из подполья, «легализовать», — эссе называлось «Белые ночи Бориса Гребенщикова». В следующем году, когда на фирме «Мелодия» вышла первая официальная пластинка «Аквариума», статью из «Огонька» перепечатали прямо на обложке…
Вознесенский: «В отличие от „хард-рока“ и „металлистов“, автор <Гребенщиков> бережен к слову, он следует не только школе ироников Заболоцкого и Хармса, но и волевому глаголу Гумилёва.
Сквозь пластмассу и жесть Иван Бодхидхарма склонен видеть деревья Там, где мы склонны видать столбы.…После того как я сказал ему, что его ранние „иронизмы“ напоминают „Столбцы“ Заболоцкого, Борис кинулся читать Заболоцкого и был сам поражен близостью стиля. Оказывается, он знал Хармса, но Заболоцкого ранее не читал, а писал схоже — сейчас в „новой волне“ поэтов идет второе рождение взгляда Заболоцкого…»
Гребенщиков: «Нам повезло. Мы — современники Андрея Вознесенского. Хотя, думаю, пока не до конца понимаем, с человеком какого масштаба свела нас история. В XX веке пять русских литераторов — Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын и Бродский — получили Нобелевские премии. Эта награда была бы соразмерна Вознесенскому. Но надо помнить, что четверо из наших лауреатов были награждены за прозу, которую легче переводить. И необходимо учесть, что тексты Андрея вообще невероятно сложны для перевода. Могу сказать, что ставлю Вознесенского выше всех, кого назвал. Возможно, только Пастернак сопоставим с ним по степени таланта. В моей жизни, в жизни „Аквариума“ Андрей сыграл огромную роль. Именно благодаря его и Аллы Пугачевой усилиям на фирме „Мелодия“ вышла наша первая пластинка. Та самая, в белом конверте…»
(Заметки на полях. У Бориса Гребенщикова в песне о мастере Бо можно угадать тень Бодхидхармы, патриарха дзен-буддизма. У Вознесенского появляется древо Бо — в котором слышен еще и отзвук имени Бориса Борисовича. Но там же у него еще мелькнуло Бу — а это что? Может быть, след давнего героя поэта — Букашкина, с которым, бывало, поэт полушутя отождествлял себя?)
Гребенщиков («Дело мастера Бо»): «Теперь ты узнал, что ты / всегда был мастером Бо; / а любовь — как метод / вернуться домой; / любовь — это дело мастера Бо…»
Вознесенский («Древо Бо»): «Босой, с тоской на горбу / земных свобод и табу, / приду к тебе, древо Бо, / где медитировал Бу…»
Корни, как змей клубо, плели и мою судьбу — недосказанное Бо, недопонятое Бу…Анкета для БГ (12 вопросов о Вознесенском)
1. Как встретились. «Нас свели какие-то общие знакомые; я был совсем новичком в светской Москве».
2. Зачем поэту нужно было помогать БГ и «Аквариуму». «Мне кажется, это не было ему „нужно“; он услышал в моих песнях что-то, что его тронуло как поэта».
3. О чем разговаривали. «О музыке он никогда не говорил; думаю, он был больше занят словом. Точки соприкосновения для нас — волшебство слова и жизни; мы оба по-своему занимаемся волшебством, а разговоры о том, „кому на Руси жить хорошо“, — это рыночная торговля. О ерунде вроде политиков мы не вспоминали — какой уважающий себя поэт станет говорить о политике? И так понятно, что ничего хорошего или интересного в ней нет. Только однажды он вдруг сказал об инциденте с Хрущевым: „Это было очень страшно“».
4. Общались ли у Вознесенского с Бобом Диланом, Алленом Гинзбергом. «Дилана при мне не было; а с Алленом Гинзбергом вечер был замечательный, мы пели друг другу, а Андрей радовался. Это было как первый выход в космос».
5. Чем поэта притягивали битники. «Просто это было живое, а на советском фоне все живое было бесценно».
6. О трезвости и нетрезвости. «Андрей никогда не придерживался трезвости, как и я».
7. Что в поэте близко или неблизко БГ. «Я был и остаюсь очарован им; он на редкость одарен. Его поэзия у меня в крови с детства; это началось с его стихов во 2-м классе школы и продолжается. Я горжусь тем, что он общался со мной».
8. Если в «Лонжюмо» заменить Ленина условным Буддой, не окажется ли, что речь не об идоле, а о пути к недостижимому, о сверке себя с непостижимым. «Совершенно согласен. А чтобы упрекать поэтов, нужно быть им по крайней мере ровней. Иначе возникает ситуация, описанная в басне про Моську и слона».
9. О замороченности Америкой, Западом или Востоком. «Он не был заморочен Америкой, а я обращен не только к Востоку. Это нормальный интерес нормального человека к жизни за забором зоны. И понимание было естественным».
10. О попытках сбросить шестидесятников и Вознесенского с корабля современности. «Кто пытается? Кто имеет на это право? Они еще были подлинными поэтами; после них поэтов я что-то не замечал. И формулировать тут нечего: место Андрея — как, скажем, место Анненского — навсегда закреплено за ним… Роль поэта и поэзии в человеческом обществе — история многотысячелетняя; если теперь большинство разучилось читать книги, то поэзия от этого никак не страдает.
С музыкой та же история».
11. Сочинит ли БГ песни на стихи Вознесенского. «Стихи не требуют пения. Они самодостаточны. Искушения петь слова Андрея у меня пока не было».
12. Когда пути поэта и музыканта разошлись. «Никогда не расходились; мы с любовью относились друг к другу до конца его жизни».
P. S. Все мы герои рок-оперы
Миллион роз, стоивших бедному художнику Нико всего его скромного состояния, — сентиментальная история, конечно. Но гудел о ней когда-то Тифлис долго. Не то чтобы нашлось много желающих повторить сей поэтический кунштюк, но… О герое, овеянном легендой, вздыхали томно и восторженно: нищая, но какая красивая жизнь. А кто-то ужаснулся: вай, какой дурак!
В новом веке, XXI, Пиросмани вряд ли сумел бы повторить свой прекрасный жест. На продаже квартиры старика бы облапошили те, кто химичит на рынке недвижимости. А перепавшие крохи мгновенно съела бы инфляция. В лучшем случае — старику светило бы попасть в герои телешоу про горемык-пенсионеров или «обманутых вкладчиков».
А если бы затея с миллионом роз все же удалась? Кто бы это оценил и заметил без пиар-кампании, без оплаченных и вовремя расставленных телекамер!
Может быть, кто-то и смахнул бы украдкой слезу умиления. Но все-все-все ужаснулись бы: вай, что это за новый «перельман»!
Мелкие «околоэстрадные» сплетни и слухи образца 1981 года казались когда-то возмутительными. Размах был не тот. Никто не понимал, что такое «пиар». Ну вот что за пересуды попали в стихи Вознесенского:
— Вы читали? — задавили Челентано! — Вы читали, на эстраде шарлатаны? ……………………………………………… — Мы до дырок Окуджаву зачитали. Вы видали? Шел потертый… Мы в печали. — Вы считали, с кем жила Анна Андреевна? — А с кем не жил Александр Блок, считали? — Вы считаете Москву большой деревней? — Нет. Но я люблю ее, избу-читальню. («Вы читали? — задавили Челентано…»)В самом деле, изба-читальня, кустарщина. Разве ж так делаются шоу? Сплетни, слухи — товар ходовой, спрос на рынке устойчив, нужен промышленный поток. Тотальные подсматривания и подслушивания — вот фактор мировой экономики, мировой политики, мировой позиции и оппозиции. Вот она, песня грядущих эпох. Какие два стрижа на подоконнике?
Впрочем, такая песня будущего напомнит Вознесенскому как раз о прошлом. Все это уже было, было: за тридцать сребреников… Технологии новы, да роль Иуды / библейских времен. Стара, не стара — для нового века роль Иуды — мечта! Тридцать сребреников? Конечно, метафора… Кто станет мелочиться? Все будет глобально, по-крупному. В одну окрошку вперемешку поэты, президенты, клерки, террористы, карьеры, судьбы, мистификации всего подряд.
* * *
Хит семидесятых, либретто рок-оперы Jesus Christ Superstar («Иисус Христос Супер Стар») Тима Райса и Эндрю Ллойда Уэббера, Вознесенский переведет по-своему. В конце 1990-х напишет свою версию — «Жуткий Крайзис Супер Стар». О, к этой опере совсем не нужны виолончели или электрогитары, тут вместо оркестра фоном — шуршание купюр. Мир будет тонуть, шурша в упоении.
Иуд в «Жутком Крайзисе» множество. И следователь Кеннет Старр, назначенный Клинтоном и потративший на его же разоблачение 40 миллионов долларов из госбюджета. И, с другой стороны, 11 тысяч милиционеров и 6 тысяч военнослужащих, митингующих под лозунгами: «Народ к ответу!», «Страну в отставку!», «Клонируйте деньги в сберкассах!», «Не храните деньги в гречневых кашах!». Что между ними общего? Эмиссия…
«Идет эмиссия мыслей. / Поющая мисс Эмиссия / снимает комиссионные / с эмиссии попсы…»
Шуршит под ногой опущенная, эмиссия компромиссов. В козлах, что хрустят капустой, — эмиссия пустоты.— Вас волнует, похоже, девальвация не только российской жизни, но и американской? — спросит поэта интервьюер из газеты «Труд» (1998. Ноябрь). — В поэме присутствует прокурор Кеннет Старр и даже платье Моники. «В Лувре под святые визги / вынесли на обозрев / платье Моники Левински / как абстрактнейший шедевр. / Мы бы эту Монику / смяли, как гармонику!»…
— Безусловно, — ответит поэт. — Это общий процесс, сейчас история Клинтона с Левински стала знаком и российской жизни. Всех только это и волнует. Чувствую даже по себе, с веселым удивлением, — как сам становлюсь мишенью… Вот некоторые мифологемы из прессы, которые мне попались на глаза. Что я якобы купил виллу на Багамских островах, что дал сто долларов на чай таможеннику, что во время ограбления дачи я находился в постели у телеведущей, что я не читал «Анну Каренину» (в чем, оказывается, признавался), что за издание своей книги я заплатил 95 тысяч долларов, что, будучи экстрасенсом, я умею вызывать людей из дома, что, забыв в гостинице гонорар за гастроли, я испугался вернуться из суеверия… что сейчас на меня разгневан режиссер Марк Захаров за мой роман с Аней Большовой, исполнительницей роли Кончиты, и т. д. и т. п.
В «Жутком Крайзисе Супер Стар» речитатив с коллекцией слухов вокруг поэта исполнит «Хор прессы». К чему это? «Монику заклинило: / полный рот забот». Конечно, как тут не поерничать, — но поэма все же не про это. Поэма — про глобализацию пустоты, а уж чем пустота заполнится…
«Не тот это город и полночь не та». Неталла Борисовна просит миллион неталых роз. Нетанки атакуют Белый дом. Нетармия ловила дезертиров. Нева текла, как нетеневая экономика. «Нет любви», — бормотал Кеннет…Вознесенский объяснит: «В данном случае финансовый кризис — только метафора. О девальвации нашей жизни, о ее необеспеченности идеалом идет разговор. Все у нас девальвируется, стандартизируется, разбухает и распухает — это и есть эмиссия».
…«И новая музыка штопором / закручивает бульвар. / Мы все герои рок-оперы. / „Жуткий Крайзис Супер Стар“».
Если сложить рублевые купюры, — обнаружит поэт, — выходит «число Антихриста»: «„Пятьсот“ плюс „Сотня“ плюс / „Полсотни“ / плюс „пять“ плюс „десять“ плюс „один“ — / их сумма пахнет преисподней. / За них мы душу продадим».
Не купюры продажные спасут русскую душу… «Кризис жмет. Но неспроста / балансирующие канатоходцы / повторяют движенье Христа».
Чем же спасемся? Поэт будет повторять, как заклинать, как боль заговаривать: «А ну вас, пошли вы на фиг! / Не надобно ничего. / Задерживается зарплата. / Друзья свистят с эстакады. / Христианская интифада / камнями бьет своего…»
Тебе ничего не надо. Тебе ничего не надо. Тебе ничего не надо, кроме любви — ничего.Тоска по небесам оставленного Богом человека «эпохи модерн»? Смутное воспоминание: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга»?
* * *
Песни меняют время? Время меняет песни?
Нет ответа.
Тупоконечники могут начинать войну с остроконечниками.
Глава девятая МЫ ВЫШЛИ ИЗ «НОСА»
Я отменил материнские похороны
Одиннадцатого апреля 1983 года день шелестел неторопливо. Антонине Сергеевне нездоровилось. Ныло сердце.
По телевизору шел вечер дагестанского поэта Расула Гамзатова. Расул читал свои простые и знакомые всем строки о материнской любви: «Тревожится за сына постоянно, / святой любви великая раба…»
Почему-то всплыли в памяти строки сына: «Всю ночь ныло сердце, а утром — шарах! — / снег выпал в горах. / Он выпал свободой от быта обычного, / напяленный туго с библейских высот, / как будто бы Савская, в брюках в облипочку, / паря над долиной, легла на живот. / Изыди, царица, с тоской недозволенной. / Не фотографируй кирпичный завод. / Но воздух шел кверху магнитными волнами, / завгар Никодимов подал на развод…» Какой такой завгар? Но сколько в этом стихотворении тоски о чем-то…
Девять лет прошло, как не стало Андрея Николаевича. Младший Андрюшка, Андрей Андреич, опять куда-то улетел. Дочка Наташа сказала — в Париж. Вот, кажется, только вчера баюкала его, качала на руках — как время пролетело. «Побыть на щеке твоей душной Андрюшкой…»
— Алло, Зоя, только что скончалась мама, — в трубке сдавленный голос сестры Андрея, Наташи. Зоя Богуславская помнит, что Наташа все повторяла по телефону: мамы нет, как быть, Андрей никак не прилетит…
* * *
Зоя Богуславская вспоминает:
— За десять лет до того друг Андрея, поэт Любомир Левчев, свозил меня к слепой прорицательнице Ванге. Поначалу я относилась к ней скептически, но она вдруг стала говорить вещи, которых не могла узнать никак, ни от кого, про сына Леню, про нас. И сказала еще тогда же: «У тебя и твоего мужа живы все родители, но вот отец твоего мужа серьезно болен. Что-то у него с головой и с ногой. А мать переживет его на десять с лишним лет»… Никаких особых проблем со здоровьем у отца Андрея, Андрея Николаевича, вроде бы не было, ему был семьдесят один год, — и вдруг начался острый тромбофлебит правой ноги, а спустя полгода, в семьдесят третьем, он скоропостижно умер от инсульта. И вот теперь, пошел десятый год после его смерти, — не стало Антонины Сергеевны. Предсказания Ванги оказались до жути точны.
…В ожидании Андрея определили уже время кремации, всё оформили. Он успевает самолетом в момент, когда мы уже ждем очереди в старом крематории Донского кладбища, уже вот-вот надо будет прощаться… И вот, не забуду никогда этой сцены, он подъезжает на грузовом такси, вылетает, лицо белое, ошалелые глаза, они с таксистом молча стаскивают гроб с катафалка, на глазах у замершей толпы родных и близких погружают гроб в такси и уезжают. Он сказал твердо: «Я ее сжигать не дам. Я должен похоронить ее рядом с отцом…» Думаю, в истории захоронений это был единственный случай, когда гроб похитили на глазах скорбящих.
Потом два дня, как в бреду, Андрей добивался у чиновников Моссовета, который возглавлял тогда Промыслов, чтобы мать лежала на Новодевичьем рядом с отцом. Он врывался в кабинеты так, что они понимали: он сейчас сделает что-то страшное у них на глазах. Они ему — там нет места, нельзя то, нельзя это, но, глядя на него, всё подписывали. И он добился своего, похоронил мать, а потом добился разрешения на установку надгробного памятника…
* * *
Тогда, в восемьдесят третьем, выдохнет Вознесенский это прощальное — «Мать»: «Я отменил материнские похороны. / Не воскресить тебя в эту эпоху. / Мама, прости эти сборы повторные. / Снегом осело, что было лицом. / Я тебя отнял у крематория / и положу тебя рядом с отцом»…
«Благодарю, что мы жили бок о бок в ужасе дня или радости дня, робкой любовью приткнувшийся лобик — лет через тысячу вспомни меня». Я этих слов не сказал унизительно. Кто прочитает это, скорей матери ландыши принесите. Поздно — моей, принесите — своей.* * *
Надгробие сооружали долго, основательно. Установят памятник в сентябре 2001 года, в начале нового тысячелетия, когда шокированный мир будет следить за самолетами, взрывающими башни-близнецы в Нью-Йорке. Самолеты просигналят о новом, измененном сознании: отныне трагедии человечества, увы, окажутся элементами всемирных шоу-онлайн…
«В начале сентября на Новодевичьем наконец был сооружен памятник на могиле моих родителей, — напишет Вознесенский. — Памятник создан по моему архитектурному проекту. Идея проста — трехтонный шар серого гранита находится на наклонной плоскости. Его удерживает от падения небольшой крест. Из меди с глазурью. По-моему, эта конструкция говорит что-то о нашей жизни: вера удерживает нас от падения в бездну. Освящение памятника провел отец Валентин.
Проект мой был с удивительной бережностью и тщательностью выполнен в мастерской Зураба Церетели. Спасибо Зурабу, поклон резчикам Давиду, Важе и разнорабочим, которые на руках, без крана, установили шар».
Думал ли Вознесенский, что этот шар станет памятником и над его захоронением? Наверное, не мог не думать — как ни гнал от себя эти мысли, он хотел, чтобы похоронили его рядом с родителями, да и тогда, в начале двухтысячных, болезнь уже начнет разъедать его, примиряя с мыслями о неизбежном… «Он очень много писал о смерти, — скажет Богуславская. — Я не меньше десятка, наверное, насчитала стихов, включая последние, самые пронзительные, где эти строки — „через несколько минут я уйду“… Он мог писать, думать, — но он никогда не говорил о смерти».
* * *
Высоцкий, Кирсанов, Шукшин, Арагон, Крученых, Слуцкий, Мартынов, Шкловский… Вознесенский всматривался в спины уходящим, как завороженный, он посвятил им не одну виолончельно скорбную строку. Или легонькой скрипочкой прощался с ними.
Кто-то ухмылялся: сколько можно посвящать стихи уходящим художникам? Вознесенский относился к этому трепетно — как к траурным тризнам в храме поэзии.
О своей смерти — до которой еще жить и жить — он писал отчаянно и бесшабашно. У Цветаевой скупая строгость: «Но только не стой угрюмо, / главу опустив на грудь, / легко обо мне подумай, / легко обо мне забудь». Вознесенский перекликался с ней подчеркнуто лихо, будто пускаясь в смертный перепляс: «Когда я когда-нибудь сдохну, / не мучай травы и грибниц, / на эту последнюю хохму, / поняв меня, — улыбнись».
В семидесятых у Вознесенского в неотлучной теме смерти слышны и новые интонации: глубь небесных хоралов пробивается в «Моем Микеланджело» — цикле стихов по мотивам великого художника Возрождения.
Архиепископ Сан-Францисский Иоанн увидит в микеланджеловских строках Вознесенского евангельские смыслы:
«Утверждение личности, как высокой, доброй силы, связанной с вечностью, так нужно сейчас.
Вот строки „Эпитафий“ Вознесенского из раздела „Мой Микеланджело“. „Я счастлив, что я умер молодым. / Земные муки хуже, чем могила. / Навеки смерть меня освободила / и сделалась бессмертием моим“. И далее:
Я умер, подчинившись естеству. Но тыщи дум в моей душе вмещались. Одна из них погасла — что за малость! Я в тысячах оставшихся живу.Поэт своей интуицией видит, что после смерти тела личность его будет жить не в каком-нибудь ветре или волне морской, или траве, а в тех своих „тысячах дум“, которые и составляют сущность поэзии и полноту его человеческой жизни. Поэт прав, — погаснет в земной смерти лишь самая незначительная из наших „дум“: дума о самой смерти. Этой думы больше не будет, так как сама смерть уйдет. И бессмертие окажется всежизненным вздохом, осуществлением нашей веры и молитвы, выходом человека из пространства и времени в полноту бытия.
„Кончину чую. Но не знаю часа. / Плоть ищет утешенья в кутеже. / Жизнь плоти опротивела душе. / Душа зовет отчаянную чашу!“…
Мир заблудился в непролазной чаще Средь ядовитых гадов и ужей. Как черви лезут сплетни из ушей. И истина сегодня — гость редчайший.В горечи этих строк есть величие самосознания человека».
* * *
В самом начале семидесятых Вознесенский написал «Похороны Гоголя», и вокруг стихотворения разыгрались страсти нешуточные. У поэта непроверенные факты! Он опирается на байку — будто Гоголь похоронен в состоянии летаргического сна! Что в общем-то странно, будто ученые гоголеведы не пожелали вчитаться. Летаргия автора «Мертвых душ» в стихотворении была очевидной метафорой — как летаргия страны и эпохи.
Тогда, в семидесятых, вдруг всплыли одна за другой леденящие кровь истории громких перезахоронений. По уверениям очевидцев, при перенесении останков всякий раз выяснялось: что-то осталось в прежних могилах либо пропало бесследно. Так, две могилы оказались у Хлебникова — в новгородской деревне Ручьи и на Новодевичьем кладбище в Москве, куда в 1960-м перенесли прах поэта. Академик Лихачев вспоминал, что при перезахоронении Блока в 1944 году в Ленинграде со Смоленского кладбища перенесли на Литераторские мостки Волкова лишь череп поэта. Почтенный филолог Дмитрий Максимов нес его, выковыривая землю из глазниц, и его укоряли: так нельзя, вы выковыриваете прах Блока!
В рассказах очевидцев, присутствовавших в 1931 году при вскрытии гроба и перенесении останков Гоголя с кладбища Свято-Данилова монастыря на Новодевичье, тоже хватало подробностей: тело лежало в странной позе, череп повернут набок…
«Когда один гоголевед, прикинувшись глухим к поэзии, разгромил мои „Похороны Гоголя“, Солоухин печатно защитил меня.
История этого стихотворения типична для той поры идиотизма.
Вы живого несли по стране.
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине…»
Вознесенский опишет круговерть с цензурой, снимавшей стихи в «Новом мире» из-за упоминания в тексте Рязани — где несколько лет жил опальный Солженицын.
«Солоухин знал все это, но защитил стихи. Интересно, что его антипод Слуцкий тоже напечатал статью в защиту этого стихотворения. Знал ли об этом гоголевед? Может быть и нет, но интуитивно написал, что стихи не о Гоголе, потому что Гоголя под партой тайком не читали. В стихах отпевание сравнивалось с шумом дождя, критик же сообщил, что тогда шел снег. Он прикинулся буквалистом, написал, что вообще Гоголя живьем не хоронили, что классик не перевертывался на бок. До той поры он был нормальным талантливым критиком, восхищался спектаклем „Антимиры“, и тогда его не пугало, что на сцене отрубленная голова любовницы Петра I говорила о строительстве социализма.
В то же время в Париже Андрей Синявский написал свою самую лучшую книгу о Гоголе, в основу которой положен тот же сюжет о перевернувшемся в гробу гении.
„Что-то его наш критик не опровергает“, — усмехался Солоухин. Я-то считал, что того ослепила страсть к Гоголю, вернее, ревность к тем, кто его касается. Впрочем, к поэзии это отношения не имеет.
Солоухин высветил в своей статье ключевые христианские строки стихотворения:
Помоги мне подняться, Господь, Чтоб упасть пред тобой на колени.Незадолго до кончины Владимира Алексеевича я по-соседски зашел к нему. Он готовил для печати работу о Белом движении, в ней разбирал мои стихи „Возложите на море цветы“. „А ты знаешь, кто эти твои люди были, затопленные в Черном море? Врангелевская армия, русские люди… Так-то вот…“
Это были последние его слова, которые я слышал».
Разве я некрофил? Это вы! Любят похороны в России, поминают, когда вы мертвы, забывая, когда вы живые. «Поднимите мне веки, соотечественники мои, в летаргическом веке пробудитесь от галиматьи».Бывает и так: глаза открыты — а люди спят. Вроде бы видят — но исключительно то, что им удобнее, выгоднее видеть. Это особое зрение — корпоративной оптики: все делится на «свое» и «чужое».
Летаргический век с этого и начинается — с таких вот правд для «своих» и для «чужих». В том же «Вие» у Гоголя не то что люди — и «леса, луга, небо, долины, — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами».
Одни истолковывают все по принципу «формат — неформат». Другие на свой лад: «пацаны не поймут». Третьим видеть очевидное — либеральная принадлежность не позволяет. Четвертым — почва не велит. Пятому не за это платят. Шестому партия не дозволяет.
От такой все более утверждавшейся двойной, тройной и шестерной морали спящих с открытыми глазами Гоголь, возможно, и в гробу перевернулся. Хотя, говорят, все проще: земля осела, гроб накренился и тело сместилось. Может, и так, конечно.
* * *
В апреле 1997-го Вознесенский придет в храм Христа Спасителя — проститься с Владимиром Солоухиным, соседом по Переделкину. С ним у Вознесенского на многие годы растянулась непростая, с виражами, но сердечная история отношений. С тех самых пор, как юный Вознесенский в гостях у подруги, Натальи Асмоловой, статной дочки сослуживца отца, познакомился с уже маститым автором «Владимирских проселков». Владимир Алексеевич, услышав тогда его поэму «Мастера», сказал: «Приноси, опубликуем» — и «Литературка» напечатала.
После хрущевской крикливой проработки Солоухин, как помним, первый протянул «опальному» поэту руку. Ответил читателям, не понимавшим поэзии Вознесенского, статьей — «Любитель поэзии сердится». Бросался в крайности — от кремлевского курсанта, преданно охранявшего Мавзолей, до обличителя Ленина. Студентом громил космополитов, а позже нашел в себе мужество на коленях просить Павла Антокольского: «Сними грех с души, бес попутал!» Много спорил с Вознесенским, «без экивоков», — но именно ему предложил «Литературной газете» заказать на свой юбилей статью. Был коммунистом по партбилету, монархистом по убеждению. Вваливался к Вознесенскому в белых валенках, протягивая свою новую книжку: «Обменяемся?»
После похорон Солоухина один будет злословить про Солженицына: выступил и ушел, не дождавшись конца панихиды; он вообще, дескать, никого, кроме себя, не видит. Другой истерически будет крыть Вознесенского: оттолкнул меня, патриота, всех растолкал, чтобы над гробом нашего писателя читать свои стихи! Припомнят, что с приходом «перестройки» Солоухин, прежде тонко разбиравший поэзию Вознесенского, напишет вдруг статью «Лонжюмо — сердце России», где предъявит поэме, в духе нового времени, набор общеизвестных обвинений. И на тебе, скажут, Вознесенский, «получив вот так по морде», явился на похороны!
Что на это сказать? Имя Солоухина знают все. Имя Вознесенского — тоже. А кто злобно шипел? Бог весть. Счастье, что остаются имена достойных и ярких писателей, которые выламываются из рамок суетной «правды для своих». Одна из самых тонких и справедливых статей, которые появятся уже после смерти Вознесенского, будет написана, между прочим, заместителем главного редактора антилиберальной газеты «Завтра», прекрасным критиком Владимиром Бондаренко. Он, кстати, заметит: «…И в полемике, как я знаю на своем опыте, Вознесенский не был злым, ядовитым человеком. После самых ожесточенных споров человеческие отношения не прерывались. Он был всегда порядочным, за что его многие и ценили».
Сам Вознесенский, разумеется, не мог не уловить на похоронах Солоухина эти косые взгляды: «Его приятели косо посматривают в мою сторону, мои друзья лишь пожимают плечами при его имени. Неужели тесно в поэзии? Сколько талантов засушила, заклинила эта подозрительность, узость взглядов! Она делает композитора глухим к звонкой ноте товарища, превращает Моцартов в Сальери, застит глаза».
Впрочем, вернемся в восьмидесятые, где мы оставили Вознесенского, только что похоронившего маму, Антонину Сергеевну.
Через год Василий Аксенов напишет роман «Скажи изюм», в котором появился и герой, намекавший на Вознесенского. Друзья тоже не всегда бывали к нему добры. А впрочем, это же — роман…
Свистопляска после «Метрополя»
Приятели-фотографы в романе Аксенова затеяли фотоальбом «Скажи изюм» — в обход цензуры. Когда же цензура проснулась и включились «железы» госорганов, герой, напоминавший Вознесенского, летит от неприятностей куда подальше, в космос. Не то чтобы Аксенову хотелось Вознесенского уесть, но и не отказывать же себе в этом удовольствии. К тому же они и не ссорились.
Сюжет романа «Скажи изюм» вытекал из скандальной истории с «Метрополем» — альманахом, придуманным Виктором Ерофеевым, Евгением Поповым, Василием Аксеновым со товарищи на «чердаке» у Мессерера с Ахмадулиной. «Метрополь» появился на свет в 1979 году. Объединял он произведения авторов молодых и не очень, «печатаемых» и «самиздатских». Но выпустить сборник в обход цензуры было делом безнадежным. Вслух идея была озвучена так — раздвинуть границы свободы. По сути же, в безнадежности попытки и был весь смысл. Безнадежность такого рода гарантировала резонансы, шум и внимание Запада. Запад услышал, альманах издал. История эта полна подробностей маразматических заседаний, суровых внушений, решений, исключений из Союза писателей. Все это предвидеть, затевая альманах, было нетрудно.
Зачем привлекли к альманаху Вознесенского и других именитых авторов, имевших возможности публиковаться без того? Это можно понять, скажем, из письма Виктора Ерофеева родителям в Париж (где служил его отец по дипломатической линии) — он приведет его текст в своей книге «Хороший Сталин». Письмо от 27 января 1979 года — «довольно хитрое», как подмигнет читателю автор: «…Нас стали таскать в Союз писателей на проработки, чистить мозги; возмущались, топали ногами. Из-за известных имен (в альманахе Ахмадулина, Вознесенский, Высоцкий и др.) скандал — с проработкой — стал общемосковским, к нему подключилась западная печать, радио, и началась свистопляска…» Ерофеев, вспоминая подробности свистопляски, напишет потом иронически: «Помня, как в разгар драки Андрей Вознесенский растворился в экспедиции на Северный полюс, мы с Поповым, на всякий случай, призвали их в дружеском письме, написанном мною, с очень легкой дозой иронии, после исключения оставаться в Союзе, не обнажать либеральный фланг. Битов, Искандер и Ахмадулина нас осмотрительно послушались».
Либеральные соавторы альманаха, надо отдать им должное, иронизировали под разным градусом злобности над Вознесенским, действительно попавшим вдруг в те дни на Северный полюс. То есть кто-то — злобно до неприличия, кто-то, не потерявший здравого смысла и даже пострадавший в той свистопляске, — повода для злобы в адрес Вознесенского не видел. Что, он должен был уехать из страны? Так он не сделал бы этого никогда. Должен был публично сжечь партбилет? Так у него партбилета отроду не было. Выйти из Союза писателей? Зачем? Чтобы плюнуть на все и уехать из страны? Но тут уже вопросы повторяются по кругу.
Впрочем, вот что расскажет однажды об этом Евгений Попов в газете своего родного города (Красноярский рабочий. 2010):
«За „Метрополь“ Вознесенский получил и слева, и справа. Отдельные представители „андеграунда“ крыли его за то, что он дал в альманах напечатанные стихи и тем самым „подложил себе соломки“, хотя это было совсем не так. А начальство в лице оргсекретаря СП СССР и (по слухам!) немалого гэбэшного чина Юрия Николаевича Верченко пеняло ему: „Мы тебе, Андрей, Госпремию дали, а ты устроил по этому случаю у себя на квартире в Котельниках сборище, где восхвалял грядущий сомнительный альманах, пропагандировал его авторов“.
Восхвалял. Пропагандировал. Чистая правда. Например, познакомил меня в тот день с хмурым Олегом Николаевичем Ефремовым, который знал меня заочно как автора пьесы, написанной по заказу МХАТа еще в Красноярске, в 1972 году, но оказавшейся совершенно непроходимой, ибо персонажами ее были ярчайшие представители красноярской пьяни и рвани, а главный ее герой, отсидевший летчик Коля, стрелялся в день свадьбы из отцовского пистолета.
Вознесенский был полноправным участником „Метрополя“, и то, что его после опалы вскоре снова стали печатать, а нас с Виктором Ерофеевым „задвинули“ почти на десять лет, вовсе не свидетельствует о том, что он альманах предал или от нас отошел. Мы дружили, постоянно общались все эти доперестроечные годы — и с ним, и с Зоей. Мы были вместе. И, кстати, присутствие в альманахе такой официальной звезды, как Вознесенский, сильно помогало выживанию в советском социуме таких его участников, как Юрий Кублановский или Юрий Карабчиевский, чьи отношения с „гэбухой“ были весьма напряженными из-за их постоянных публикаций „за бугром“. Об этом тоже не следует забывать. Равно как и о нежной дружбе Андрея с эмигрантом и „отщепенцем“ Василием Аксеновым».
* * *
«Вася уезжал в Штаты знойным июльским предвечерьем 1980 года…» — расскажет Зоя Богуславская. Послушаем ее:
«На даче в Переделкине было много народу, узнаваемых лиц. Все смеялись, травили анекдоты, но привкус истерики от сознания, что, быть может, никогда не увидимся, ощущался, все нарастая, пока совсем не стемнело. Прощание совпало со свадьбой. Василий Павлович Аксенов вступал в новую жизнь. Впереди — необжитая страна, новая женщина — Майя, которую он страстно полюбил, долго завоевывал.
В тот день все переплелось: праздник любви, ожидание чуда и разлуки, горечь потери — все было трагически непредсказуемо. От свадьбы остался снимок, где мы с принаряженным Василием стоим в обнимку на фоне его машины, делая вид, что все прекрасно, что он, наконец, вырвался, впереди свобода, новые ощущения, бытовой комфорт.
А за неделю до этого, в нашей с Вознесенским квартире на Котельнической, мы яростно спорим об их предстоящем отъезде. Василий и Майя, я и Андрей с перекошенными лицами, бегая по комнате, бесполезно и безрассудно рассуждаем о путях и смыслах нынешней эмиграции. Вернется, не вернется? Если б дано было заглядывать в книгу судеб? Если б знать? Если б знать?..
— Ты не сможешь там, — бледнея, настаивает Андрей, — без стихии русского языка, когда лица, природа, запахи — все только в памяти. К тому же там и своих знаменитостей пруд пруди.
— Ничего подобного, — стиснув зубы, отвечает Майя, — там его будут почитать. Он не будет слышать ежедневных угроз, телефонного мата. Господи, только подумать, что кончатся придирки к каждому слову, травля цензуры! Уже сейчас американские издательства спорят, кто первый напечатает его новую книгу.
— Ну да, — ерничаю я. — Тридцать пять тысяч одних курьеров. Не будет этого! Каждая рукопись пройдет невыносимо медленный процесс заказа рецензий, затем, даже если они восторженные, подождут оценки внутренних экспертов издательства.
— Не в этом дело, Заята (то есть Зоя), — бубнит Вася. — Просто здесь больше невозможно. Давят со всех сторон, дышать нечем.
Я знала, что за этими словами Аксенова стоит жесткая предыстория, связанная с публикацией романа „Ожог“, самого значительного для него сочинения тех лет. Его запретили печатать в наших журналах, Вася начал тайную переписку по поводу возможной публикации „Ожога“ на Западе. Вскоре в КГБ „по-дружески“ его предупредили: „Если выйдет эта антисоветчина за рубежом“, его либо посадят, либо вышлют. Смягчением жесткой альтернативы могло быть только согласие Аксенова на добровольную эмиграцию в течение месяца. Угроза была реальной…»
Жизнь закрутит каждого по-своему. Они останутся друзьями до последних дней. «Он не изменил нам, художник, магнитофонная лента нашего бытия, — напишет про него однажды Вознесенский. — Мы не изменили ему». Аксенов будет лишен гражданства, потом ему гражданство вернут и скончается он за год до ухода Вознесенского, 6 июля 2009-го, пролежав в клинике Бурденко много месяцев в коме. Внезапно потеряет сознание за рулем, чудом не разобьется, его доставят в клинику, прооперируют, удалят мозговой тромб. Академик Александр Коновалов и лечащий врач Владимир Найдин сделают все возможное, но чуда не случится.
Зоя навестит его в больнице: «Невозможно поверить, что Аксенов лежит здесь так долго без сознания… „Вы поговорите с ним, Зоя, поговорите“, — наставляла меня Алена, дочь Майи, очень любившая Василия Павловича… Она уверена, что он очнется и выяснится, что он все слышал, все, что ему транслировали, пока он был в коме… Я гляжу на распростертое тело Аксенова, утыканное проводами, и рассказываю ему последние новости, про успехи и беды наших друзей, чем взволновано общество и как все ждут его выздоровления. Подробно излагаю ему пересуды вокруг „Таинственной страсти“, которую он успел прочитать в „Караване историй“ в усеченном виде. Полный вариант Василий Павлович уже не увидит. Бум восторгов и возмущений был вызван узнаваемостью едва зашифрованных персонажей романа. Но автор об этом не думал. Ему писалось, полет фантазии уводил его далеко от реалий. Некоторые обиды продлились и после кончины Василия Павловича. А у нас с Андреем его выдумки вызывали только умиление.
Пока я сижу возле него, бездыханного, ни один мускул не дрогнул: оболочка человека, из которого вынули личность, биографию, сильнейшие страсти, и перелистываю страницы его жизни. Вспоминаю его в ту пору, когда еще была рядом его мать, Евгения Семеновна Гинзбург, жизнь которой прошла по „Крутому маршруту“, — мы много общались с ней когда-то…»
* * *
Василий Аксенов, будучи уже в США, предложил друзьям свою анкету. О тайнах творческих процессов. Сами вопросы не сохранились, но их легко восстановил Виктор Есипов — по ответам Беллы Ахмадулиной, Анатолия Гладилина, Валентина Катаева, Фазиля Искандера. И Андрея Вознесенского, конечно. Анкету опубликует много лет спустя журнал «Знамя» (2012. № 3).
Вопросов было семь:
1. Как в процессе творчества из «ничего» возникает «нечто»?
2. Что является побудительным толчком к творчеству: мысль, эмоция, неясные настроения, музыка, запах, случайная фраза?
3. Что возникает прежде: сюжет, интонация, контур героя, идея?
4. Согласны ли вы, что при смысловом пробуждении приходится собирать то, из чего при чувственном начале выбираешь?
5. Какова мера факта и мера вымысла в вашей прозе и как трансформировался в ней ваш личный жизненный опыт?
6. Каковы стимулы к писанию?
7. Какой из своих рассказов вы считаете лучшим?
Что Аксенову написал Вознесенский — любопытно, здесь он приоткрывает дверь в свою творческую мастерскую. Вчитаемся.
Ответ Вознесенского на анкету Аксенова.
«Уважаемый коллега, товарищ профессор Калифорнийского университета!
„Из НИЧЕГО возникает НЕЧТО?“ ТАК УЖ ИЗ НИЧЕГО? Ты не мог так думать. Я думал, почему ты так написал? И догадался. Есть вещая старославянская формула, уходящая к татарам, наверно. Когда восторженно и исчерпывающе хотят провозгласить: „Ничего тебе не достанется!“, говорят „х<—> (х. р) тебе!“
Или вопрос: „Что ты получил?“ Ответ: „Х<—>!“ (то есть „ничего“) (см. Даль, т. 14).
Значит: „Ничего“ = „…“.
Тут мы подошли к извечной и первородной сущности Искусства, Василий.
Когда Марина Цветаева, задыхаясь, выдохнула: „Ох…“ „Эх…“ „Ах…“ „И ничего, кроме этих ахов, охов у Музы нет!“
Она инстинктивно, структурально, языково чувствовала это.
Не во Фрейде дело. Он прав, но уж очень уныло-однобок. Я называю это „Скрымтымным“, Лорка называл непознаваемым словом „duende“. Отсюда „шестое чувство“ Гумилёва, которое он сравнивает с мальчиком, следящим за девичьим купанием.
„Крепчает Дух, изнемогает Плоть, Рождая орган для шестого чувства“.Так что нас интересует не столько „непознанный летобъект“ произведения, а непознанный орган чувств, рождающий его.
М. б. нос?
Все мы родились не из „рукава гоголевской шинели“, а из гоголевского Носа. Ты из правой ноздри, я — из левой.
Меня часто толкают запахи. Из фразы „как кругом разит креозотом“ — родились „Мотогонки по вертикальной стене“. Как удержать на бумаге острый запах горного снега, лежащего на солнцепеке? „Снег пахнет молодой любовью“. Я всегда хотел дать мир запахов и звуков в противовес зрительному. Попробовал это в „Обществе слепых“. Как-то я жил в Ореанде, в комнатах отвратительно пахло духами „Жасмин“. Чтобы как-то отбить этот запах, отделаться, я написал в „Озе“ о туалете.
Ты ведь знаешь, я не пишу на бумаге. Я шагаю, и ритмично пишутся, вернее, возникают в памяти фразы. Я помню, где какая фраза возникла. Вероятно, магнитное поле — или чувственное поле мыслящих на свой лад деревьев, среди которых идешь, — или иная электрилизация человеческой толпы влияет на стиль и ритм. Не знаю, что сначала — стиль, идея, герои? Я знаю, что сначала была аптека на углу Серпуховки (запах хлорки), за ней блочные серые дома (масса запахов), потом теплый гудрон, потом скверик с обжимающейся парочкой, бензозаправка и, наконец, прокисший пустырь.
Любая реальность фантастичнее вымысла. Например, 300 000 женщин, изнасилованных за 3 дня в Бангладеше. Мог бы ты сфантазировать такое? Ну, скажем, тысяч 30, ну, 50 — на большее фантазии не хватило б.
Фильм Тарковского „Зеркало“ воспринимают как вымысел или же влияние „Амаркорда“ Феллини.
Я учился с Андреем в одном классе, дружил с ним, играл в футбол, видел его нищее детство — для меня фильм этот документальное детство наше, я обревелся. Для всех он — вымысел, мистика.
Скромная цель искусства — хоть как-то подобать природе. Именно Она, природа, высоко и символично физически соединила самое чистое, высокое („любовь“), с самым „грязным“, „низким“ — т. е. с гигиеническим органом человека.
А могли бы мы, кажется, любить ухом, а очищаться, скажем, посредством пятки?
Поэты и соловьи поэтому и священны, как органы очищенья, а стало быть, и любви.В „Даме треф“ я пытался сблизить эти два полюса. Но „День поэзии“ напечатал „духовное“, а „Дружба народов“ — „гигиеническое“. Разлучили!
Прислав мне анкету, как прозаику, ты прав. Жанры искусства: поэзия и проза, метисизируются — возникает новая слитная золотая раса, как у людей.
В пастернаковских письмах есть мысль о вечной попытке великих художников создать новую материю стиха, новую форму. Это желание никогда не удовлетворяемо. Но при этом выделяется высочайшая духовная энергия. Так было с Бетховеном, Микеланджело, Гоголем. Так было с Маяковским. Такова речь Василия Блаженного.
Выделяющаяся энергия текста — и есть содержание.
Факт, звук, зацепившиеся два слова — это топор, из которого варят суп. Вот моя торопливая окрошка из твоей анкеты.
Машинистка устала от диктовки.
Твой Андрей.
P. S. Все мои рассказы — лучшие. Все — документальные, только из личного опыта. Возьми мой рассказ „Латышская сага“.
P. P. S. Привет всем золотым калифорнийкам, покатайся за меня на гавайских волнах».
Налево — юг, направо — юг. Рассказ журналиста Владимира Снегирева, участника экспедиции Дмитрия Шпаро на Северный полюс весной 1979 года
«Мы встретились в вестибюле ЦДЛ четвертого марта 2003 года в начале третьего часа дня. Андрей Андреевич немного задержался и, войдя, рассыпался извинениями. Он был с Зоей в американском посольстве на процедуре выдачи виз. Я изумился: неужели американцы требуют обязательного присутствия даже таких выдающихся лиц, как всемирно известный Вознесенский? „Да, — грустно улыбнулся он. — Исключений ни для кого нет“.
Выглядел он неважно. Шел с трудом, припадая на правую сторону. Говорил, едва шевеля губами, очень тихо, слова еле можно было разобрать. Но был, как и прежде, учтив, доброжелателен и улыбчив. И, как прежде, смотрел на собеседника несколько настороженно. Словно боялся подвоха.
— Где мы поговорим?
— В ресторане. Заодно и пообедаем. Я приглашаю, — уточнил он на западный манер.
Усевшись за стол, мы обменялись автографами: он надписал мне свой сборник, который я купил тут же в вестибюле, дожидаясь Андрея Андреевича. Я поставил автограф на „Рыжем“ (документально-автобиографическая повесть В. Снегирева о временах его работы в Афгане, ставшая данью памяти британскому журналисту Рори Пеку, „рыжему“, прошедшему не одну горячую точку и погибшему в октябре 1993 года в Москве при съемках попытки штурма телецентра Останкино. — И. В.). С некоторым смущением вручил книжку Андрею Андреевичу. Почерк у него стал под стать походке, совсем никудышный, неразборчивые каракули, а не почерк. Др. Влр. Снег. с наил. пож. о сев. Пол… — что-то вроде этого. Хотя и не уверен, может быть, и что-то другое.
Расправившись с пельменями (он заказал с рыбой, я с мясом), мы приступили к беседе.
— Ну, рассказывайте, Андрей Андреевич, как же это вы оказались в один прекрасный день на дальнем севере?
Он придвинул к себе поближе мой диктофон и тихим голосом, почти шепотом, поведал свою историю.
— Какой шел тогда год, семьдесят девятый? Да… Как раз в то время я поучаствовал в сборнике „Метрополь“, чем вызвал гнев высоких начальников. Особенно недоволен был Зимянин (секретарь ЦК КПСС, главный редактор „Правды“. — И. В.). Да и не только он. Писатели на своих собраниях клеймили меня как изменника родины, требовали суровых кар. Чаковский орал: „Мы отнимем у тебя государственную премию!“ Других авторов „Метрополя“ тоже топтали.
— Кстати, а почему? Когда сборник был наконец издан, выяснилось, что он и вправду был безобидным и ничего враждебного для властей не содержал. Вы же не призывали там к свержению советской власти?
— Нет. Но там была другая, непривычная для соцреализма эстетика, именно это власти сочли вызовом, дерзостью. Вася Аксенов подошел ко мне: „Мы делаем подпольный альманах. Совершенно безобидный. Надо, чтобы ты поучаствовал“. Я сразу согласился, дал туда свои стихи, а правильнее сказать — дал им свое имя. Почему власти так разозлились? Незадолго до этого я получил Госпремию и вроде бы по их правилам не должен был ввязываться в подобные истории. Ведь не все согласились участвовать в „Метрополе“, тот же Окуджава отказался, он был членом партии и счел это невозможным.
— А где „Метрополь“ вначале вышел — у нас или „за бугром“?
— У нас отпечатали экземпляров двадцать, потом атташе по культуре американского посольства с диппочтой переправил книжку на Запад, там уже она была опубликована большим тиражом. И тут начались неприятности.
А главным редактором „Комсомолки“ тогда был Валерий Ганичев. Он, зная мое бедственное положение, позвал меня: „Хочешь полететь на полюс?“ — „Ну давай полечу“. И началась эта эпопея. Ганичеву не рекомендовали посылать меня, даже запрещали. Но он настоял на своем. Я быстро собрался, на рейсе „Аэрофлота“ вылетел в Якутию, затем оттуда вы меня взяли на дрейфующую станцию „СП“. Оставался последний отрезок, который предстояло преодолеть на маленьком самолете с лыжными шасси, но тут главному редактору опять позвонил Зимянин: „Вернуть Вознесенского!“ — „Извините, — отвечает Валерий Николаевич. — Поздно, самолет уже в пути“. А мы еще не взлетели.
— Да, я помню эти часы на „СП-24“ в ожидании сигнала от маршрутной группы, означающего, что они уже достигли цели и можно к ним лететь. Тогда на дрейфующую станцию обрушился небывалый десант человек в тридцать: журналисты, члены штаба, базовые радисты, почетные гости. Чилингаров, Сенкевич, Песков…
— Мы там бродили между домиков, места не было, чтобы поспать. По очереди грелись. С одного боку от печки горячо, зато другой бок в инее. Потом были эти удивительные часы непосредственно в точке полюса. Я отошел от лагеря в сторону, чтобы сосредоточиться. И вдруг замечаю, что недалеко за торосами прячется человек с ружьем. Куда я, туда и он. Ну, думаю, сейчас застрелит здесь. Вот какие длинные руки у моих врагов. Испугался не на шутку. А потом выяснилось, что это кто-то из летчиков решил меня от белых медведей страховать. Тогда я написал там стихотворение про тюльпаны. „Сюда земной не залетает звук. / Налево — юг, направо — юг, / юг — спереди, и сзади — юг, / и снизу юг глядит, как в черный люк. / И словно воплощенье телепатии, / живые, подмосковные тюльпаны / стоят и озираются вокруг“…
— А прежде вам приходилось бывать в Арктике или на дальнем севере?
— Нет, ни прежде, ни потом. Дальше Мурманска не был.
— И вот вы в поселке Черский на берегу Ледовитого океана. Мороз. Льды. Северное сияние. Какие ощущения тогда испытали?
— Очень светлые. Какое-то братство людей, бородатых, сильных, добрых. Все это было мне в новинку. Это не московская тусовка с ее мелочными страстишками, там даже воздух другой, я хорошо запомнил это ощущение — словно под кайфом ходили все. В том положении, в котором я находился, мне как раз требовалось общение с такими людьми.
Мы летели над океанскими льдами — час, два, пять, десять, — я смотрел вниз и ужасался: как ребята прошли этот страшный путь на лыжах? Немыслимо! Потом увидел их на полюсе: черные, обмороженные морды, худющие. Я ведь прежде сам никогда не сталкивался с проявлениями подобного мужества, это Роберт Рождественский воспевал такое. А тут столкнулся и был поражен. Какие чистые люди!
Кстати, Василий Аксенов тогда считал, что я этим полетом в Арктику пошел на компромисс с властью…
— И вывел вас слегка карикатурным персонажем в своей повести „Скажи изюм“. Вы там не только на полюс полетели, а в космос. Вы, кстати, не обиделись?
— Нет, мы дружим с Василием.
— Кто из моих друзей произвел на вас самое сильное впечатление?
— Шпаро, конечно. И потом этот радист, Мельников, кажется. „Синеокий Мельников, / без спиртного пьяный, / схож с помолодевшим / врубелевским Паном“… И сам полюс, конечно, произвел впечатление. Льды движутся, а полюс остается на месте. Всегда на своем месте. Так и с „Метрополем“ было: стоять на своем до конца! Вы знаете, я никогда не понимал и не принимал дурацкого прямолинейного патриотизма. Но то, что там происходило, мне понравилось. Лыжня через океан. Парни с обмороженными лицами. Что-то в этом было джеклондоновское. Я там написал стихи про то, что надо лечить душу синим светом льда. Какой контраст с Москвой — когда я вернулся, это остро почувствовал: мелочные обиды, склоки. Эх, вам бы всем вдохнуть воздух полюса!
— А что было дальше? Вы вернулись в Москву, „Комсомолка“ опубликовала цикл ваших полярных стихов…
— Но Зимянин все равно продолжал свое, очень был на меня зол. А через год, когда умер Высоцкий, Ганичев еще один фортель выкинул: он напечатал мои стихи памяти Володи. Специально в субботу их опубликовал, когда главный цензор на дачу уехал. Думал, обойдется, но и это Ганичеву тоже простить не могли.
Да, мы с Валерием Николаевичем по-разному смотрели на многое — но у нас всегда оставались хорошие отношения. Он много раз поступал по отношению ко мне благородно…
А меня продолжали терроризировать. Два года не печатали, не звали на телевидение, никуда не пускали. Могли бы и хуже обойтись, но у меня было имя, это их держало в узде.
— С тех пор ни в каких экстремальных путешествиях вы не участвовали?
— Нет, не пришлось.
…Андрей Андреевич вспомнил, как мы все напряглись на полюсе, услышав звук дизеля. В полной тишине это было: та-та-та-та. Где? Откуда? Кто? Ближайшая земля в полутора тысячах километров, до станции „СП“ — полтысячи. Ну неоткуда взяться здесь этому механическому звуку. А он был. Вознесенский считал, нас пасла подводная лодка.
— А помните, как пили спирт из железных кружек?
— Помню.
Над мировым кружением отчаянным стою и думу думаю свою. Мне полюс говорит: „Пусть мир вращается. Я постою“.После этих строк, написанных тогда же, 31 мая 1979-го, много воды утекло. Все изменилось. Или не все? „Ведь хотели совсем другого?“ — спрашиваю. „Конечно. Хотели демократии, а пришел криминал. Я, как и многие, думал, что знаю страну. А знал лишь стадионы, залы, где выступал. Это все-таки лишь малая часть России. Кто мог подумать, что мы будем идти задом вперед, что ткнемся мордой в капитализм девятнадцатого века? Это что — наш идеал?“».
Мамонт и Ева во льду
Лукавил ли сколько-нибудь Андрей Андреевич, рассказывая, какой тошной показалась ему после Арктики столичная литтусовка «с ее мелкими страстишками»?
За два года до Северного полюса он побывал в Якутии, увидел в вечной мерзлоте застывшее время — то ли прошлое, то ли будущее. И в написанной поэме «Вечное мясо» у него летает мамонтенок Дима — в поисках смысла, который выше суетного. Его попутчики — духи якутского эпоса: дух жизни Олох и дух смерти Олуу сливаются в одно «Олохолуу!». Так и герои поэмы — Прохоров со своим антиподом Тарелкиным, «веры последней дети», в конце концов сольются воедино, оказавшись в «мамонтовом захоронении» — «друг друга обняв, как грелки».
Разгадывайте, «пробуйте их, собаки новых тысячелетий».
Тарелкин беспокоится о «поруганной супруге» — но Прохоров противник этой заскорузлости: делиться надо, любовь дарить, «всех растворить друг в друге». Смело и безоглядно, вот так: «Раздайте себя немедля, / даруя или простивши, / единственный рубль имея, / отдайте другому тыщу! / Вовеки не загнивает / вода в дающих колодцах. / Чем больше от сердца отрываешь, / тем больше в нем остается».
Собаки с треском слопали мясо мамонта, пролежавшее в вечной мерзлоте 13 тысяч лет. С подаренным клоком шерсти этого мамонта поэт вернулся в Москву — там собрались как раз и заграничные писатели. «Прямо с аэродрома, / шерстью мамонтовой бахвалясь, / накрутив, как кольцо, на палец, / я явился в Дом литераторов. / Там в сиянии вентиляторов / заседало большое Лобби: / Ваксенов, Прохоров, Олби, / Макгибин с мелкокалиберкой / и отсутствующий Лоуэлл, / бостонец высоколобый, / что некогда был Калигулой»…
Я им закричал: «Коллеги! Охотники и художники! Отныне мы все задолжники бессмертно вечного мяса. Мы живы и не во мраке, пока нас грызут собаки!»…Литсобратья замерли.
Так в известном рассказе Достоевского «Бобок» герою все слышалось это странное слово «бобок», решил развлечься, попал на похороны, а на кладбище из могил — голоса. «Какой теперь Вольтер, нынче дубина, а не Вольтер!» «Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!» Голоса были отчетливы, сливались в «долгий и неистовый рев, бунт и гам». Общество, хотя и замогильное, вполне отчетливо бранилось, перемывало чьи-то косточки — и вовсе не пыталось даже на том свете примириться друг с другом.
И тут — герой Достоевского чихнул. Голоса замогильные — как отрезало.
Один из зачинщиков «Метрополя», Виктор Ерофеев, назовет «Бобок» Достоевского «первым русским предвестником Интернета» — и затащит в свою книжку «Акимуды» тени великих русских литераторов: у него они натурально из могил и выходят. От Гоголя до Шолохова, кого тут только нет. И Бродский, и Вознесенский тоже среди них.
А что, объяснит Ерофеев, Андрей Андреевич фигура яркая, и «в нем отражено все мировоззрение шестидесятников, не справившихся с более сложными и противоречивыми, чем им казалось, представлениями о человеке. Этим идеализмом, — небрежно бросит Ерофеев, — я и сам-то болел».
Но сей же момент исправится:
«Мне было 30 лет, когда я придумал концепцию „Метрополя“, конечно, абсолютно идеалистическую. Мне казалось, что мы, освободившись от груза тоталитарных представлений о жизни в России, гораздо быстрее и плодотворнее приблизимся к нормальному цивилизованному обществу. Безусловно, я был легкомысленнее тогда. Это не значит, что я бы не сделал „Метрополь“ еще раз — все-таки важно было показать свободную независимую литературу.
Тогда мне казалось, что нас слишком давят социальные обстоятельства. Время показало, что мы слишком большие надежды возлагали на перемены общества… Глупо видеть все беды во власти, у нас все закольцовано, власть отражает народное сознание, не имеющее четких представлений о цивилизованной жизни. В этой закольцованности трудно сказать, кто и что чему мешает. Сейчас я даже склонен думать, что нам нужен был бы Петр I, но очень тонкий и умный, иначе все порушится. Я никого не пугаю, тут все виноваты… В конечном счете всегда все вдруг приходит к одному и тому же, к совести. А как к ней подойти, когда сама совесть стала явлением сложным и неоднозначным?»
Мамонтенок Дима — летающий отморозок. Помахивает хоботом (в хорошем смысле) над жеманством и глубокомыслием интеллигентского бомонда. Порхает лопоухим вертолетом. У Вознесенского он, кажется, уверен, что совесть — как «вечное мясо». Если совесть есть, то может прекрасно сохраняться тысячелетиями. Если ее нет или она неоднозначна… Ой, да что он тут разлетался? Голову морочит людям. Кыш, отморозок, не учи нас жить, что от тебя толку — если не можешь деньгами помочь.
Мамонтенок Дима, кстати, до сих пор хранится в якутском Музее мамонтов. Чучело, конечно, не летает.
* * *
До Арктики Андрей Андреевич больше не добирался, а вот в Якутии, между прочим, побывал не один раз. Про одну из таких встреч с поэтом в заполярном городе Мирном рассказывал тогдашний руководитель местного литобъединения «Кимберлит» Вячеслав Лобачев.
В марте 1976-го стояли обычные для этих мест морозы минус 30, Вознесенский выступал перед геологами и горняками, пока наконец радушные хозяева не предложили гостю отогреться и попариться. От сауны для начальства он отказался — а от русской баньки, построенной «для себя» двумя семьями, Антипкиными и Ниточкиными, отказываться не стал. Вот там-то Вознесенский и увидел — на стене в предбаннике висела — фотографию. Средь ледяных торосов на берегу Ледовитого океана под ослепительным полярным солнцем полулежали две обнаженные нимфы.
Фото оказалось не просто художественным, но еще и с романтическим шлейфом. Автор сего каприза, Варфоломей Тетерин, служил фотокорреспондентом ТАСС по Восточной Сибири и однажды летом, познакомившись с двумя приезжими изящными эстонками, отправился с ними в бухту Тикси — и наснимал целых пять пленок. Красавицы сидели, правда, не на голом льду, а все же подстилали коврики, и позы принимали самые немыслимые, то вместе, по поврозь, а то попеременно.
Один из самых невинных кадров под названием «Моржихи» попал в 1971 году на биеннале в Венецию — и всех привел в восторг: «Русские женщины растопят даже лед Арктики!» Такие заголовки навеял тогда итальянским газетчикам этот фотографический этюд. Варфоломею Тетерину немедленно вручили главный приз, «Хрустальную фотокамеру». Слава варфоломеевская аж за океан заплыла. Услышал Ричард Никсон про такой кунштюк: хочу, говорит, получше рассмотреть красоту эту писаную. Из американского посольства гонца отрядили в Якутск — к самому Варфоломею: продай, говорят, президенту заморскому, а то он, говорят, не уснет теперь, пока фотографию не получит. А Варфоломею и не жалко — чик, негатив отчекрыжил от пленки, да и продал.
Сколько заплатили? — фотограф честно отвечал: «до фига». А у него пленок с этими кадрами осталось — штампуй не хочу. Похлеще того кадра, что достался Никсону. «Вот Варфоломей, — рассказывал Лобачев, — и клепал планшеты то с одной, то с двумя „Евами“, которые, словно пирожки с крольчатиной, разлетались по всей Якутии». Мог ли Варфоломей отказать Вознесенскому? Да никогда. Подарил поэту фотографию, где нимфы сидят «почти как у Никсона». Вознесенского она вдохновила на стихотворение «Якутская Ева»: «У фотографа Варфоломея / с краю льдины, у темной волны, / якутянка, „моржиха“, нимфея / остановлена со спины… / <…> Есть свобода в фигуре ухода / без всего, в пустоту полыньи. / Не удерживаю. Ты свободна. / Ты красивее со спины…»
Остановленное Однажды среди мчащихся дней отрывных, отвернись, я узнать тебя жажду! Я забуду тебя. Отвернись.Летели восьмидесятые годы. Стекляшки лет слагались в разные картинки. А что там, впереди, что за картинка сложится в калейдоскопе времени — Бог весть. Фантазии ни у кого тогда и не хватило бы.
Ты куда ведешь, ров?
В январе 1985-го «Литературная газета» напечатала «Экологию культуры» Вознесенского. Это своего рода обзор, широкий комментарий к читательским письмам, которыми была завалена редакция в ответ на публикацию эссе Вознесенского «Прорабы духа». «Странное дело! — удивится сам Вознесенский. — Месяцы прошли, успела выйти книга под тем же названием, но почта продолжает идти».
Кто они, авторы тех писем? С какой планеты? В какую галактику они все улетучатся — через совсем короткое время? Инженеры, конструкторы, учителя, молодые ученые, музейщики, рабочие, отовсюду — из Омска, Саратова, Воронежа, из Киева и Витебска, Владивостока и Архангельска. Писем, подобных тем, на которые старательно отвечает поэт, скоро не останется в природе. Не кого-нибудь, а именно авторов таких вот писем (каждое — как ода бескорыстию и, без всякого пафоса, заботе о родине) к концу XX столетия время оставит у разбитых корыт. Не кого-нибудь, а именно их выветрят, выдуют напрочь «ветры перемен». Вознесенский отвечает им восхищенно — еще не подозревая, что все они «олухи бескорыстия», «финтифлюшки идеализма», «недобитки романтики», «пережитки вер», «исчадья системы», ну и прочая, прочая. «Если ты такой умный, отчего же ты такой бедный» — станет самым расхожим афоризмом новой эпохи, в которой авторам этих писем и местечка не останется. Совсем немного времени пройдет. А пока…
Пока — читаем написанное Вознесенским.
«Тревога за уходящую культуру — главная нота писем, пришедших после опубликования „Прорабов духа“… Радостно, что идея подвижников духа, обеспокоенность культурой взволновала столько сердец. Пишут на редакцию, на Союз писателей, домой, называют имена своих бессребреников, „прорабов духа“ и „прорабов нюха“, указывают аварийные точки и пути исправления — значит, это совпало с их собственными мыслями, с активным началом в них, значит, они разделяют мысль о заповедности культуры, о том, что культура в опасности…»
«Экологическое угасание внутренней духовной среды куда опаснее, чем внешней. При крахе первой погибнет вторая».
«Мы измеряем счетчиком Гейгера степень радиации, определяем загрязнение среды и обмеление озер, но чем измерить духовное обмеление, когда о Калигуле или Моцарте узнают лишь из видеокассет при почти поголовном непрочтении целиком „Войны и мира“?!».
«Есть экологическое равновесие культуры. Толстой взаимосвязан с Тургеневым. Рембо — ребро, из которого родилась новая европейская поэзия. Американский роман XX века связан с русской прозой XIX века. Тайфун футуризма гулял через границы.
Не создать ли Общество экологии Культуры, пригласив возглавить его академика Д. С. Лихачева? Это был бы общественный контроль Культуры. В общество вошли бы не только столичные светила, но и прорабы духа Саратова и Пензы и обязательно молодые энтузиасты. Процессы культуры века надо изучать, пока век еще жив, чтобы наши потомки не ломали голову над белыми пятнами духовной истории».
«В канун Нового года пришло письмо из-за океана от Гэри Снайдера, крупнейшего американского поэта, отшельника культуры. „Брат Андрей“, — начинает он старомодно, спрашивает, как мне понравился „экологический джаз“ Пола Уинтера, ведущего на саксофоне дуэт с волком, и пишет о своей тревоге за нашу цивилизацию. „Планета не принадлежит никому. Надо ее спасать“. Его надежда — дети. Он предлагает „голубиную почту“ — пусть дети напишут письма правительствам и этот снегопад миллионов писем занесет чудища ракет…»
Наивные люди — они были наивны по любую сторону океана. К чему они? К надежде… За это им, казавшимся родными душами, поэт и благодарен:
«Прощай, Саратов! Прощайте, беспокойные ласточки культуры!.. Спасибо за надежду. Простите, кому не ответил. Отвечу стихами.
Вот еще один конверт: „Напишите на открытке что-нибудь из Вашей последней книги. Журавлев, гор. Куйбышев“.
Германия известна Лютером. Двадцатые годы — Татлиным. Штаты сильны компьютером. Россия — читателем. Он разум и совесть будит. Кассеты наладили. В будущем книг не будет? Но будут читатели». («Подписка»)* * *
А через год обнажился чудовищный, мародерский «Ров». «Ты куда ведешь, ров? Тени следуют за нами. Слова оживают».
«Ров», написанный Вознесенским в 1986 году, надо перечитывать, чтобы попытаться понять, откуда что возьмется, отчего история так дико перевернется в новом столетии. «Ров» многое объясняет в человечестве, роющем себе яму. И в неоконченной, окажется, войне.
Ты куда ведешь, ров? Ты куда ведешь, ров? Ты куда ведешь, ров? Эти рефрены прошивают поэму насквозь. Отчего Вознесенский, при всем честолюбии поэта, вдруг распишется так беспощадно в ее формальном несовершенстве — «Собственно, поэма не была эстетическим шедевром»? Потому что плевать на мелочи. Потому что для русского поэта понятие самое важное: предназначение. Не написать было — нельзя. Поэму «Ров» прострочили трассирующие цитаты уголовного дела № 1586. Дела о гробокопателях. О мародерах памяти. «Поэма была средством обнародования жуткой правды».
«Поэма ли то, что я пишу? Цикл стихотворений? Вот уж что менее всего меня занимает. Меня занимает, чтобы зла стало меньше. Закопченный череп на меня глядит. Чем больше я соберу зла на страницы — тем меньше его останется в жизни. Сочетается ли проза с поэзией? А зло с жизнью?»
Раздобыл материалы уголовного дела у друзей-следователей уже не раз упоминаемый друг-крымчанин Вознесенского — поэт Александр Ткаченко. Читал — волосы дыбом. Как такое напечатать? Еще и речи о публикации не шло — из телефонной трубки полились угрозы. «Я понял, что один с этим не справлюсь… Только Андрей Вознесенский, с которым я дружил, сможет мне помочь остановить мародерство. Я позвонил ему и сказал: „Андрей, срочно приезжайте в Крым, есть очень серьезное дело“. И действительно, через два-три дня, а это было в конце марта, он приехал.
С моими друзьями Владимиром Васильевичем Зубаревым, председателем адвокатуры, и фотографом Аркадием Левиным прямо из аэропорта мы поехали на раскопки».
Вознесенский помнил, как когда-то на военных сборах во Львове он побывал у искусственного озера, которым затопили место массовых зверств. Зачем затопили? Чтобы скрыть ужас? Чтобы не напоминать о местных добровольцах, чьими руками оккупанты, любившие Гете и Вагнера, истребляли тьмы, и тьмы и тьмы человеческого материала? Чтобы избежать мародерства? И это, и это, и то… Такие же рвы изрезали и Прибалтику, и Белоруссию, и ставший при Хрущеве украинским Крым. О Бабьем Яре под Киевом узнали благодаря Виктору Некрасову и Евгению Евтушенко. Еще раньше появились стихи Ильи Сельвинского, написанные в 1942 году в Керчи, «Я это видел!»: «Ров… Поэмой ли скажешь о нем? / Семь тысяч трупов. Семиты… Славяне… / Да! Об этом нельзя словами. / Огнем! Только огнем!»…
И рыжая струйка из детского уха Стекает в горсть материнской руки.Тогда, в 1986-м, тени еще крались в ночи. Но час пробьет, они еще назовут себя «героями»… Предвидел ли это поэт? Так потому и предостерегал: ты куда ведешь, ров…
«В свое время я написал стихотворение „Живое озеро“, посвященное закарпатскому гетто, расстрелянному в годы войны фашистами и затопленному водой, — с этого Вознесенский начинает свой „Ров“. — В прошлом году я прочитал стихи эти на вечере в Ричмонде. После вечера ко мне подошла Ульяна Габарра, профессор литературы Ричмондского университета. Ни кровиночки не было в ее лице. Один взгляд. Она рассказала, что вся семья ее погибла в этом озере. Сама она была малышкой тогда, чудом спаслась, потом попала в Польшу. Затем в Штаты.
Стихотворение это в свое время иллюстрировал Шагал. На первом плане его рисунка ребенок оцепенел на коленях матери. Теперь для меня это Ульяна Габарра».
* * *
8 апреля 1986 года в Тольятти генсек Горбачев произнесет слово «перестройка». Страна радостно вздрогнет — она еще не знает, что вздрагивать ей теперь придется частенько.
За день до того, 7 апреля, Вознесенский приехал на десятый километр Феодосийского шоссе. В декабре 1941-го здесь, под Симферополем, были расстреляны 12 тысяч мирных жителей и пленных. Обычная гуманитарная акция Третьего рейха. Таксист, Василий Федорович Лесных, пока ехали, рассказывал Андрею Андреевичу, как бегал с пацанами — лет по десять было — смотреть, как расстреливают: «Привозили их в крытых машинах. Раздевали до исподнего. От шоссе шел противотанковый ров. Так вот, надо рвом их и били из пулемета. Кричали они все страшно — над степью стон стоял. Был декабрь. Все снимали галоши. Несколько тыщ галош лежало…
Да, еще вспомнил — столик стоял, где паспорта отбирали. Вся степь была усеяна паспортами. Многих закапывали полуживыми. Земля дышала. Потом мы нашли в степи коробочку из-под гуталина. Тяжелая. В ней золотая цепочка была и две монеты. Значит, все сбережения семьи. Люди с собой несли самое ценное. Потом я слышал, кто вскрывал это захоронение, золотишко откапывал. В прошлом году их судили. Ну, об этом уже вы в курсе… У меня сосед есть, Валя Переходник. Он, может, один из всех и спасся. Его мать по пути из машины вытолкнула».
Многие были закопаны в низине, где холодно. Многие тела хорошо сохранились и много лет спустя. Захоронение перерыли мародеры. Вознесенский с друзьями приехал через год после судебного процесса. Среди зеленого поля по-прежнему чернели квадраты свежевырытых колодцев. Глубина в два человеческих роста, внизу отходили штреки. Расколотые черепа, два крохотных, детских. Сморщенный женский сапожок. Детские рыжие волосы с заплетенной косичкой. Судебный процесс не остановил мародеров.
Работали профессионально, основательно. За одну ночную «ходку» к мертвым золота могли накопать и выдрать плоскогубцами на 70–80 тысяч рублей. Сказочные деньги — учитывая, что тогда вполне приличная зарплата, на которую можно прожить неплохо, составляла 150–300 рублей в месяц…
Обращаюсь к читательским черепам: неужели наш разум себя исчерпал?Вознесенский вчитывается в дело № 1586. Том второй, который удалось получить втайне. Шокирующие цитаты он приводит в поэме:
«…Систематически похищали ювелирные изделия из захоронения на 10-м километре. В ночь на 21 июня 1984 года, пренебрегая нормами морали, из указанной могилы похитили золотой корпус карманных часов весом 35,02 гр. из расчета 27 рублей 30 коп. за гр., золотой браслет 30 гр. стоимостью 810 руб. — всего на 3325 руб. 68 коп.
…13 июля похитили золотые коронки и мосты общей стоимостью 21 925 руб., золотое кольцо 900-й пробы с бриллиантом стоимостью 314 руб. 14 коп., четыре цепочки на сумму 1360 руб., золотой дукат иностранной чеканки стоимостью 609 руб. 65 коп., 89 монет царской чеканки стоимостью 400 руб. каждая»…
Кто был в деле? Врач московского института АН, водитель «Межколхозстроя», рабочий, подсобный рабочий, работник кинотеатра. Русский, азербайджанец, украинец, армянин. Возраст 28–50 лет. Отвечали суду, поблескивая золотыми коронками. Двое имели полный рот «красного золота». Сроки они получили небольшие, пострадали больше те, кто перепродавал.
Подтверждено, что получили они как минимум 68 тысяч рублей дохода. Одного спросили: «Как вы себя чувствовали, роя?» Ответил: «А как бы вы чувствовали себя, вынимая золотой мост, поврежденный пулей? Или вытащив детский ботиночек с остатком кости?» Они с трудом добились, чтобы скупка приняла этот бракованный товар.
…Один работал в яме — двое вверху принимали и разбивали черепа, вырывали плоскогубцами зубы, — «очищали от грязи и остатков зубов», возили сдавать в симферопольскую скупку «Коралл» и севастопольскую «Янтарь», скучно торгуясь с оценщицей Гайда, конечно, смекнувшей, что «коронки и мосты долгое время находились в земле». Работали в резиновых перчатках — боялись инфекции. Коллектив был дружный. Крепили семью. «Свидетель Нюхалова показала, что муж ее периодически отсутствовал дома, объяснял это тем, что работает маляром-высотником, и регулярно приносил зарплату»…
Черепа. Тамерлан. Не вскрывайте гробниц. Разразится оттуда война. Не порежьте лопатой духовных грибниц! Повылазит страшней, чем чума. Симферопольский не прекратился процесс. Связь распалась времен? Психиатра — в зал! Как предотвратить бездуховный процесс, что условно я «алчью» назвал?!Писать, признается поэт, тяжело было даже физически. Ужасала бездна, открывшаяся за этим рвом. Не спалось, снились кошмары, не хотелось больше писать ни о чем. Обожгло.
«Ров» появится в седьмом номере журнала «Юность» в том же 1986 году. Вознесенский тепло напишет о главном редакторе, поэте Андрее Дементьеве, «который взял на себя публикацию». Неожиданно помог секретарь ЦК Александр Яковлев, прежде демонстративно не жаловавший поэзию Вознесенского, но теперь ставший передовиком перестроечной мысли. «После опубликования „Рва“, — вспомнит поэт, — в зале „Октябрь“ мне на сцену подали рисунок, изображающий член, разрывающий Звезду Давида. Подпись гласила: „Андрюха, пососи х… у дохлого раввина“.
Администратор сказал, что несколько десятков человек заняли первые ряды, чтобы сорвать вечер. Я показал рисунок залу: „Ну, кто нарисовал? Встаньте! Я же не прячусь от вас, покажите и вы свои лица“. Никто не встал из темноты. „Значит, вы просто трусы, трусы!“ — закричал я им. Зал поддержал меня, вечер не был сорван».
* * *
— Это не когда-нибудь, в туманном прошлом, — озираясь по сторонам на 10-м километре под Симферополем, рассуждал Вознесенский. — Это сейчас и здесь, в настоящее время. «Лязг зубов и лопат. / У 10-й версты / нас закапывают мертвецы».
По стране уже шагает перестройка, оковы тяжкие вот-вот падут, и даже вчерашние фигуранты дела о мародерстве и прочие мародеры всех мастей и отраслей выйдут из тюрем и еще расскажут своим деткам, как пострадали от кровавого советского режима, от супостатов партийных!
Такие радужные открылись перспективы. А Вознесенский как-то мрачноват. Что это он? «Справедливый плакат / водружен над шестом: / „Мертвецов — большинство, / а живых — меньшинство“». / Поживей прохрипим: / «Панихиду живым!»…
Я улыбок зубастых не знал широчей. Аллилуйщик — теперь мастер смелых речей. Жмут с лопатою грейдерной, мудрецы. Закопают страну — только не удержи!…Проснулся задремавший было критик. Недоумевает: чем кончается поэма? С чего бы это вдруг в поэме появляются сразу четыре неодушевленных героя: «Все четыре героя в меня глядят — Ров, Алчь, Речь, Взгляд»? О чем это он?
Ров — предостережение или прогноз. «Что пробило и что еще не пробило, / и что предупредило нас в Чернобыле? / А вдруг — неподконтрольная война? / Прощай, надежд великое вранье».
Взгляд — это про то же, про летаргию спящих с открытыми глазами, про особенности глаз гоголевского Вия. Поэт обращается ко «всенародному Володе» — Высоцкому, всматриваясь куда-то туда, в небеса: «Что там, Володя? Как без шор / жизнь смотрится? Что там за кадром? / Так называемой душой / быть иль не быть? — вот в чем загадка».
Но Алчь и Речь, вступающие в схватку? Речь — не пустое сотрясанье воздуха, не просто звуковые волны. Речь — это корни, детство, запах апельсина, который есть соседка Мурка, это телефонный звонок Бориса Леонидовича, это родители, семья, отечество и историческая память. Речь — последнее, что сохраняет в человеке личность уникальную. Если что-то и может победить в человечестве Алчь, — так только Речь.
В девяностых, когда рассыплется страна, часть бывших братских республик станет надмеваться изо всех сил — не во имя искомой свободы, не во славу желанного расцвета, а только чтобы уничтожить общую память, неразрывную историю, неотъемлемую литературу и русский язык. И окажется вдруг — та самая война, о победе в которой мы говорили столько лет, та самая, в которой шрамами легли эти рвы, — для всего мира война не кончилась. Может, во всем виноваты рвы? Может, неуснувшие тени тех палачей? Назовем их просто, как у поэта, — Алчь. С нею выплеснется нежданная злоба. «Вы проиграли войну!» — прокричит американским голосом аккуратная дама в штаб-квартире ООН. Расколются в который раз российские, ну как бы интеллектуальные элиты — тогда уж не постыдно станет олигархов обожать, но родину любить — позорно. Алчь против Речи. Обыкновенная коллаборационистская Алчь — и Великая Отечественная Речь.
Через год, в 1987-м, Горбачев перефразирует «прорабов духа» Вознесенского и пустит в оборот «прорабов перестройки». Но Вознесенский будто не слышит, будто понимает, что звон этот пуст.
1990-е покатятся строго по линии «Рва», подтверждая пророчества. «Может быть, — скажет поэт, — поэма предсказала преступное нутро человека, приведшее сейчас к криминальной революции». У нас, — будут успокаивать страну, — простительный период первоначального накопления капитала. Грабим награбленное-с. Но с самыми благородными намерениями. Вливаемся в цивилизованное мировое пространство.
«Но какой пробой измерить чудовищность такого нового жанра, как обворовывание душ?»
…Время пыхтело. Маховик — вжик, шестеренки — ширк, поршень — пых. Все куда-то катилось.
Прорабы духа — или мародеры памяти? Куда повернет история?
Вознесенский, конечно, не ученый муж и не историк. Но настоящий поэт всегда — пророк, и его предчувствиям стоит верить… В последний год XX века Вознесенский вдруг выдохнет странное стихотворение: «Ко мне юнец в мои метели / из Севастополя притопал. / Пронзил наивно и смертельно / до слез горчащей рифмой „тополь“. / Вдруг, как и все, я совесть пропил?!»…
Крым подарили — и не крякнули. Утопленник встает, как штопор. На дне, как пуговицу с якорем, мы потеряли Севастополь.…Горькие строчки — но ведь «юнец из Севастополя» надежду оставлял…
* * *
Поэму «Возвратитесь в цветы» Андрей Андреевич напишет в 2004 году, как сказал бы будетлянин Хлебников, «крылышкуя золотописьмом тончайших жил».
Я тебе на холме у зеленого выреза белый храм приколю наподобье цветка. Обожаю белые ирисы! Как их жизнь коротка…Глава десятая КРИЧАЛА ДЕВОЧКА БАТИСТОВАЯ
Сквозняк пространства
В апреле 1983 года, за несколько дней до смерти матери, в жизни Андрея Вознесенского произошло событие необычайной важности.
Под колыбелью раскрылась могила. Ров подо мною — рок надо мной. («Рок»)Какая колыбель и почему под ней могила? «Есть в душе у каждого, / не вполне отчетливо, / тайное отечество / безотчетное». Тут мы как раз и вторгаемся на территорию этого самого «тайного отечества».
Классификатор скрупулезный, поди попробуй разними — стихами были или прозой поэтом прожитые дни? («Две школы, женская, мужская…»)Душа поэта — не потемки. У Вознесенского тем более: «душа — это сквозняк пространства». Судьбу его не перепилишь пополам: жизнь — и творчество. Поэзия — как женщина, обнажена. И женщина — «одета лишь в стихи».
Ты вся стихи — как ты ни поступи, — зачитанная до бесчувствия. Ради стихов рождаются стихи. Хоть мы не за «искусство для искусства». («Ни в паству не гожусь, ни в пастухи…»)* * *
Двадцатый век начинался под знаком дарвинской теории происхождения человечества. Вознесенский, судя по стихам, был ближе к библейской. Человечество обязано своим происхождением и расселением на земле Адаму и Еве. А началось всё, как помним, с соблазна.
Среди ангелов-миллионов, даже если жизнь не сбылась, — соболезнуй несоблазненным. Человека создал соблазн. («Соблазн»)«Нет желаний — нет счастья», — в тон с Вознесенским в те же семидесятые годы говорил персонаж Петера Хендке, рассудительного австрийца, по сценариям которого снял километры кинолент Вим Вендерс.
Случаен ли тут Вендерс? Конечно, нет.
* * *
В 1992 году Вим Вендерс, держа в уме свою «Алису в городах», снимет — по заказу «Тойоты» — короткометражную ленту «Ариша, медведь и каменное кольцо». На мировую премьеру получасового фильма он собрался осенью 1993-го в Москву. Но той осенью в Москве у Белого дома средь бела дня началась необъявленная война, и Вендерс приехать не рискнул. Фильм показали без него.
В этой короткометражке сам режиссер выступал в костюме Санта-Клауса. Любимый актер Вендерса, Рюдигер Фоглер, сыграл помятого интеллигента, продающего открытки к Рождеству в костюме Медведя. Брошенный всеми, он навязался в попутчики маленькой Арише и ее маме: «Куда мне идти?» — «А куда ты хочешь попасть?» — «Мне все равно». — «Тогда все равно, куда идти». Героиня фильма пишет книгу «В стране священных вещей» и едет с дочкой к озеру — в поисках чудесного каменного кольца. Собственно, Ариша это кольцо и найдет. Пути их с Медведем расходятся. Ариша запомнит, как Санта-Вендерс грустно смотрит им вслед.
После премьеры газета «Сегодня» (1993. 13 ноября) сообщила: «Актеры, играющие этих персонажей, у Вендерса не совсем актеры, скорее — реальные люди. Анна Вронская (Женщина), дочь известного оператора Сергея Вронского, продюсер нашумевшего фильма „Орландо“, путешествует с дочерью по Европе в красном микроавтобусе марки „Тойота превиа“. Ариша Вознесенская, 9-летняя дочь Вронской и сами понимаете кого, тоже играет фактически саму себя…»
Немногие об этом знали. Но корреспондент угадал — и про Анну Вронскую, и про девочку Аришу. Так что же случилось за несколько дней до смерти матери поэта, Антонины Сергеевны, в апреле 1983-го?
У Андрея Вознесенского родилась дочка Арина.
* * *
Ей было девятнадцать, ему — сорок семь. Она была студенткой ВГИКа, он — известным поэтом, у которого она брала интервью. Аня Вронская немела перед кумиром, он — не мог сопротивляться наплыву поэтических чувств. При таких обстоятельствах уже и не важно, удалось ли студентке то интервью (вроде бы затерялось где-то). Однако из этой встречи, осенью 1980-го, вырастет отдельная история, в которой будут свои драмы, мелодрамы, много всего — это не был роман одной ночи.
Возможно, сведущий читатель — а жизнь кумиров под особой оптикой всегда! — ждет подробностей про то, как юная красавица угоняла снежной ночью автомобиль из отцовского гаража и неслась куда-то в даль к поэту, не имея водительских прав… Или новой легенды о том, как поэт не хуже Пиросмани рассыпал охапки роз перед ее подъездом…
Но все, что поэт хотел рассказать, — он рассказал в стихах.
Я встретился с Недоуменьем. Недоумение звали Анна. Предъявила как документы длинноногие свои данные. Недоуменною медуницей пахли глаза твои после экзамена…И без колдовских полетов не обошлось, как всегда у Вознесенского, как вообще у поэтов:
Видел я сам, как влетаешь ты в форточку, Узкие бедра надраив фосфором.Нам всех их воздухоплаваний не отследить. Да и надо ли? Дадим лучше слово дочери поэта.
Инфанта сероглазая моя. Рассказ Арины Вознесенской, дочери поэта
ОБЫКНОВЕННАЯ ДЕВОЧКА. Не всем было известно, что у Андрея Вознесенского растет дочь. Но я никогда не чувствовала себя какой-то «неизвестной дочерью поэта». Ну какая же я «неизвестная»? У меня был папа, которого я любила. Какая еще «известность» нужна детям?
Он всегда присутствовал в моей жизни, и это всегда было для меня очень важно. Сказать, что я как-то страдала оттого, что о моем существовании в жизни поэта знали немногие? Нет, этого не было, я даже не задумывалась об этом в детстве.
Всего один раз в жизни, когда к юбилею отца сняли замечательный фильм, в котором присутствовали все, включая его муз и связанные с ними истории, а про меня не упомянули, о том, что у него есть дочь, не было ни одного слова, — вот тогда я сказала о том, что меня задело, папе. Нет, не подумайте, что это была какая-то претензия. Просто было обидно, досадно, меня же можно понять. Мне вовсе не нужно чье-то излишнее внимание, я не героиня светских хроник, но я же — есть, я, Арина Вознесенская, живу на свете. Папа тогда уже болел, выслушал меня, вздохнул: «Прости меня, я понимаю».
И я тоже всегда говорила, что все понимаю.
В школе поначалу моей фамилии одноклассники не придавали никакого значения. А потом, когда мне было тринадцать лет, я уехала с мамой в Америку. Так все сложилось… Там, в Америке, моим ровесникам фамилия тоже ни о чем не говорила: жаловались даже, что фамилия длинная, выговорить трудно. Сначала все это расстраивало, со временем перестала обращать внимание. Им же хуже — что не знают фамилии великого поэта и не слышат заложенное в ней Вознесение…
Конечно, там тоже есть люди, хорошо знающие творчество Вознесенского. Но я же не открою страшной тайны, если скажу, что американцы все же нация не читающая.
И потом, мне ведь хотя и было всегда приятно, что у меня такой отец, с другой стороны, — ну, кто я, обыкновенная девочка. Как-то пользоваться именем отца мне не хотелось… Помню, мы с папой пришли в ресторан ЦДЛ, мне было уже лет шестнадцать, и к нему подошел кто-то и спрашивает: «Это твоя новая девушка?» Папа тогда ответил: «Это моя дочь», — и мне было жутко приятно. Он же сказал, как мне показалось, с такой гордостью за меня. Ну какой ребенок тут не будет счастлив?!
Мне очень дороги его стихи, посвященные мне. «Арише»: «Инфанта сероглазая моя, / очнусь от гениальной простоты: Я — Ты… /<…> Я счастлив, что ты, зайчиков ловя, / не знаешь моей страшной маеты! Я — Ты… Или „Дочь художника“: „Все таланты его от дочери. / Он от дочки произошел. / Гениальные многоточия / он малюет на мокрый шелк“.
Или вот это:
…Ты мое чудо, доча. Душу сосредоточу, Слушаю дочу. Дочу дочу дочу чудо чудо чудо. Дочудочудочу, Чудочудочудо.Когда хоронили отца, ко мне стали подходить незнакомые люди. Кто-то догадался, кто-то стал говорить, что я на папу похожа. Какая-то женщина стала громко вздыхать — жаль, мол, у Андрея Андреевича не осталось ни детей, ни внуков. Лена Пастернак остановила ее, посмотрев выразительно: „О чем вы?“».
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. «Я родилась 7 апреля 1983 года в роддоме имени Пирогова. На часах было 23 часа 45 минут. Маме сказали, что на седьмое детей уже больше, чем нужно по плану, и записали меня родившейся уже восьмого апреля. Папа на это сказал: „Ну и отлично, можно праздновать два дня подряд“. Иногда так и случалось: начинал поздравлять меня седьмого, а восьмого продолжал. Потом, уже в Америке, я остановилась на одном дне — отмечаю седьмого.
В роддом маму отвозили бабушка Мила, Людмила Наумовна, с дедулей, Сергеем Аркадьевичем Вронским, который, между прочим, был известным кинооператором, снял такие фильмы, как „Осенний марафон“, „Афоня“, „Тридцать три“, „Табор уходит в небо“, „Братья Карамазовы“. Он посвятил мне, внучке, автобиографическую повесть, которую написал в конце жизни… Так вот, а забирали маму из роддома через неделю после моего рождения папа с его другом Александром Ткаченко. Не помню квартиру, в которую меня тогда привезли. Самой родной для меня так и осталась квартира дедушки с бабушкой на Мосфильмовской, теперь, правда, бабушка там одна. Но неподалеку живет дядя, мамин брат, Алексей — он очень уважаемый иконописец. И дедушку отпевали в Троице-Голенищевском храме, где иконостас расписывал дядя Алеша.
Вот еще вспомнила. Когда я родилась, папина давняя знакомая, Инге Фельтринелли, прислала родителям в подарок большую красивую коробку. Мама рассказывала, в коробке оказалась другая, поменьше, в ней еще одна, как матрешки, — открывали одну за другой, пока не осталась маленькая коробочка, а в ней носовые платочки с вышитыми на них божьими коровками. Неизвестно, что это означало, — разве что давало повод вспомнить папины стихи, написанные когда-то. По-моему, чудесные: „На спинку божия коровка / Легла с коричневым брюшком, / Как чашка красная в горошек / Налита стынущим чайком. / Предсмертно или понарошке? / Но к небу, точно пар из чая, / Душа ее бежит отчаянно“.
Папа всегда поздравлял меня с днем рождения. Помню, когда исполнилось шесть лет, устроили большой праздник, с клоунами, чудесными подарками».
ИМЯ. «Ариной меня назвал папа. Сначала думал назвать, как маму, Антониной. Но перед самым моим рождением Антонина Сергеевна умерла, он тяжело переживал и решил, что назвать меня Антониной — боль станет еще невыносимей. Несколько дней перебирал имена и однажды наконец объявил: „Придумал, назовем Ариной!“ Ему хотелось непременно на „А“, чтобы инициалы у меня и у родителей совпадали: „АВ“.
Саша Ткаченко еще в роддоме, увидев меня, сказал, что я „вылитый Андрей“. Наверное, это так — на детских фотографиях я действительно очень похожа на папу, но сейчас больше все-таки на маму. У нас была няня, простая такая женщина, когда мы снимали квартиру на Полянке. Увидев однажды папу, она вдруг ляпнула: „Вот жалость, мать красавица, а ребенок — вылитый отец“… Ну, няню вскоре уволили.
Папа не думал, что новорожденной нужны банальные пеленки, — он привез мне вычурное белое платьице с рюшами. Надеть его на меня смогли, когда исполнился годик. Он был уверен, что все должно быть такое — супер. И маме часто привозил наряды от друга Кардена, от Шанель и Диора.
В девять месяцев меня крестили в храме Знамения Божьей Матери, возле „Рижской“, это было в январе восемьдесят четвертого.
Брать меня на руки он долго побаивался — пока однажды маму не увезли в больницу с маститом. Тут уж ему пришлось помучиться, я еще была грудным ребенком. Он позвал на помощь мамину подругу по ВГИКу, Катю Аккуратову. Справились совместными усилиями. Хотя и потом возникали ситуации веселенькие — как-то со мной остался папа, и мама потом обнаружила, что горшок, вместо того чтобы вымыть, он накрыл подушкой… Но я всегда любила быть с ним. Помню отчетливо, как он приехал к нам на Мосфильмовскую с цветами — мама сдала экзамены в институте, — и я, двухлетняя, несусь к нему, проглатывая буквы: „Адюша!“ Так я произносила его имя тогда».
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. «В первый класс лингвистической гуманитарной гимназии меня провожали мама с папой. Школа была на проспекте Вернадского, недалеко от квартиры в Раменках, на Мичуринском проспекте, где я прожила с полутора лет до самого отъезда. Там, кстати, на одной лестничной клетке с нами жили соседи-однофамильцы, Вознесенские. И в том же подъезде жил молодой священник, в то время дьякон, отец Максим. Мы часто играли во дворе с его дочкой. А потом отец Максим стал настоятелем в университетской церкви мученицы Татианы, где отпевали папу, когда он умер. И службу провел отец Максим — такое вот совпадение.
…Школа была лингвистическая, я учила французский язык. Особым усердием я, честно сказать, не отличалась. Как-то в первом классе получила тройку, мама сказала: раз так, никакой поездки на море не будет. А когда появился папа и успокоил: „Доченька, ты все равно умнее их всех“, — я была ему очень благодарна: значит, несмотря на тройку, папа считает меня хорошей и все равно любит, — а это же главное. Казалось бы, столько воды утекло, а я все так же в непростых ситуациях вспоминаю те его слова.
Конечно, однажды я решила писать стихи и стать известной. Я ведь уже выросла и перешла во второй класс! К счастью, дело не дошло до третьего класса, когда я поняла, что писать лучше гениально, как папа, или совсем не писать. Все-таки я была девочкой неглупой, понимала: мой папа не такой, как все. Когда мне исполнилось десять лет, папа впервые стал читать стихи — мне, наедине со мной. С тех пор, пожалуй, мы и стали общаться „по-взрослому“ и все лучше понимать друг друга. Его стихи и разговоры с ним отличались от тех, с которыми я сталкивалась в школе.
Да, и еще он привозил отовсюду чудесные игрушки, которых не было ни у кого, — я приносила их в школу, и мне так завидовали. Но папа и сам радовался, когда что-то дарил, — как ребенок.
Из незабываемых впечатлений детства — поездка с бабушкой и дедушкой в Грузию, куда к нам на целых две недели приехал папа! Все вместе на море — у меня осталось множество фотографий тех дней. Ну, вообще, летом мы часто выбирались на море все вместе…
Да, а однажды, когда мне было семь лет, мы вместе с Николаем Караченцовым, его женой Людмилой Поргиной, их сыном ездили в Лондон. Не забуду, как в Гайд-парке мы стали кормить королевских лебедей, и вдруг один из них схватил меня клювом за рукав и стал бить крыльями. Людмила Андреевна сорвала с себя кожаную куртку и стала лупить этого лебедя. Как объяснили нам потом, эти птицы принадлежат королеве и к ним лучше не приближаться, не то что трогать. Арестовать могли запросто — но, к счастью, обошлось.
Папа узнавал, какой лагерь получше, и доставал путевку туда для меня. Даже приезжал туда, бывало, в родительский день. А когда мне было шестнадцать, отвез меня с подружками в дом отдыха и там строго предупредил: „Я привез вам свое сердце“. Мне потом эти слова пересказывали — там они всех потрясли.
А я-то привыкла, что он говорит мне: „милая“, „ангел мой“. Больше никто мне так не говорил».
ЧТО-ТО НЕ ТАК. «Папа часто был со мной рядом, и я долго не понимала, что у нас „не так, как у всех“. Его отсутствие мне всегда объясняли тем, что он много работает и ездит по миру… Но однажды мама впервые сказала при мне — что у него есть другой дом, он должен уйти. Папа не хотел, чтобы я узнала об этом, пока не подрасту. Но… Тогда он написал стихотворение: „Кричала девочка батистовая, / Меж мной металась и тобой, / Живая шестилетней истиной: / ‘Вы ж муж с женой!’ / И ты ответила наотмашь: / ‘Какая я ему жена?! / Что смотришь? / Спроси ты у него сама’. / И на меня глядели с верою, / что шутит мать, что все не так. / Не убивать просили серые / Мои глаза в твоих щеках…“
И было ложно все, что сложно. Твои катились и мои из бешеных глазенок слезы, и первые — уже свои.Годы спустя, потом, я рыдала, расставаясь с папой, улетая в Америку. Он всегда провожал меня, пока не началась его ужасная болезнь.
Меня вообще долго оберегали от каких-то сложностей в отношениях родителей. Я не видела их ссор. И потом — многие годы они относились друг к другу с искренней теплотой. Папа переживал, когда мама серьезно заболела. И когда она вышла замуж и мы уехали в Америку, всегда спрашивал, как она… Он ведь старше мамы на 28 лет, сумасшедший роман их остался в прошлом, но, как бы то ни было, мое рождение соединяло их всегда. Обиды, сожаления, — мама сказала мне на это однажды: „Что бы то ни было, это твой папа и ты его единственный ребенок, надо любить и принимать его таким, какой он есть“. Повторять мне второй раз уже не пришлось: я навсегда усвоила это. С возрастом я стала лишь больше уважать маму, которой было нелегко. Но о папе она говорила лишь только хорошее. И с отцом у меня всегда существовала незримая связь — на уроне какой-то телепатии».
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. «Все со мной боролись, заставляя учиться, — кроме папы. Папа считал, что я должна сама научиться принимать решения и совершать поступки, отвечать за которые потом придется перед самой собой.
В три годика я решила, что буду врачом. Лет десять повторяла это. Папа улыбался: „Как твой прадедушка“. Но не только — еще и как моя тетя, папина сестра, Наталья Андреевна, которая всегда относилась ко мне с такой искренней нежностью. Они очень дружили с моей бабушкой Милой…
Но потом, так сложилось, в Америке я стала работать официанткой, со временем стала главным менеджером. Это большая разница: в большом ресторане. Наверное, папе это не очень нравилось, наверное, он видел меня в какой-то другой роли. Думаю, работа в ресторане казалась ему не самой престижной и к тому же тяжелой. Но так зарабатывают на жизнь многие студенты в Америке — чего тут стыдиться? Но его волновало — а дальше что: замужество, семья, дети: „С ума же сойдешь от тоски!“ Папе хотелось, чтобы у меня была творческая профессия, чтобы я занималась чем-то близким к искусству… Я неплохо рисовала, и однажды, когда я приехала, папа отвел меня к Зурабу Церетели, показал рисунки, хорошо бы, мол, мне заняться этим всерьез. Зураб Константинович был очень добродушен, но ничего не изменилось, и я опять улетела к маме.
Потом у папы уже стал пропадать голос, стало очень трудно общаться с ним по телефону, — и вдруг он звонит, и я его слышу! — и говорит, что на один из американских телеканалов готовы взять меня ведущей. Он так радовался — но выяснилось, что ведущая должна жить в России, а передачу делать об Америке. А я к тому времени уже родила Франческо, да и не хотела бы уезжать так далеко от мамы… Но, понимаете, папе уже оставалось жить немного, болезнь понемногу забирала все его силы, — а он все-таки не забывал, боялся — что меня ждет в будущем? Спасибо тебе, папа…»
АМЕРИКА. «Мы уехали из России в августе 1996 года. Для меня это был кошмар — мне 13 лет, все мои друзья и подруги, все родное здесь, я рыдала и не хотела уезжать. Бабушка с дедушкой просили оставить меня, но… не могла же я бросить маму.
Папа тоже переживал: как же так, я же еще совсем ребенок, неужели я вырасту… американкой? Среди дорогих мне стихотворений есть такое — он написал его 8 апреля 1999 года: «Благоденствуй, Господь, подаривший / мне Парижи и проклятым быть. / Подари мне свиданье с Аришей, / дай мне счастье с Аришей побыть. / Извини, что не стал нуворишем, / отзываюсь на кличку ‘поэт’. / Ты же знаешь, что кроме Ариши / ничего драгоценнее нет»…
Дай ей счастья, дай русскою вырасти. Ну а мне ниспошли благодать — охрани от гриппозного вируса, чтоб Аришу поцеловать.Я очень надеялась — вот кончу школу и вернусь в Москву. Прилетала сюда — и не хотела улетать. Ну вот еще немного и… Но время шло, там появились свои друзья — грузины, кстати, — потом появилась семья, один сын, второй… Детям в Америке комфортно, хотя теперь уже я, как папа когда-то, тревожусь: неужели мои сыновья станут типичными американцами, и думать о мире и о жизни будут исключительно, как американцы?
Мужа моего зовут Энрико, он вырос на юге Италии. С языками у меня никаких проблем — по-английски говорю без акцента, свободно общаюсь по-французски, по-итальянски, могу даже на диалекте того маленького местечка, где живут родные Энрико. Неплохо знаю испанский…
Папа никогда не вмешивался — с кем мне общаться, с кем встречаться. Как-то я сказала ему про то, что появился в Америке бойфренд. Он отмахнулся — нет, ну это в Америке, а здесь-то есть кто-то?.. Когда я поняла, что беременна, маме сказала сразу — а папе боялась. А когда наконец сказала, он сразу спросил: «Мальчик или девочка?». Звонил каждую неделю: ну что, узнала, мальчик или девочка? Маме когда-то он говорил, что хочет девочку — а то мальчик еще начнет вдруг стихи писать. А тут, узнав, что будет мальчик, обрадовался очень.
Из ресторана я ушла — хотя мне очень нравилась эта работа: у меня, говорят, талант общения, к тому же я вполне успешно продвигалась по служебной лестнице. Кстати: когда родился Франческо, я получила свой гонорар за съемки в фильме Вима Вендерса в 1992 году. Тогда мне было девять лет, но я, кажется, удивила всех (я и сама себе тогда удивилась) — как не по-детски могу отказываться от искушений. Нам заплатили за съемки большие деньги, но Вендерс, по моей просьбе, вложил мой гонорар на открытый для меня счет в немецком Пенсионном фонде. Сумма за эти годы удвоилась и вполне пригодилась, когда я родила первого сына. Кстати, у моих детей среди игрушек — и медведь, которого мне подарил на съемках актер Рюдигер Фоглер. Этот мишка очень на него похож.
Ну вот в смысле практичности мы с папой, наверное, разные: он мог на весь гонорар купить подарок маме, не задумываясь. Я же семь раз отмерю, прежде чем отрезать… Кстати, в тот год, когда случились эти съемки у Вендерса, папа написал «Ты вырастаешь, дочка, вырастаешь / из платьев, из меня, из детских таинств…»
Одни глаза мои себе оставишь, Увижу ими даль твоих ристалищ, Взгляд подарю такой — куда Кастакису. Ты вырастаешь, дочка, вырастаешь…Муж удивляется, увидев, что я читаю папины стихи, начинаю плакать. Спрашивает: почему? Как это объяснить? Я могу перевести ему строчки, но такой подстрочник не передает чего-то самого главного, — и Энрико не может это услышать, почувствовать. В Москве я повела его в «Ленком» на «Юнону и Авось» — он был потрясен и увиденным на сцене, и переполненным восторженным залом… Сейчас я помогаю мужу в его бизнесе. Энрико импортирует вино, продает по магазинам и ресторанам. Я помогаю ему выбирать вина для закупок на винных выставках — у меня, как говорят специалисты: обнаружилась «необыкновенная вкусовая палитра».
ВКУСОВАЯ ПАЛИТРА. «Папа был уверен, что у него волшебные кулинарные способности. Когда мама была беременна мной, он приносил говяжьи мозги и жарил их, — мама делала вид, что в восторге… А у меня свои воспоминания. Как-то я примчалась по его просьбе в ЦДЛ, где он заказал для меня „необыкновенный деликатес“. Оказалось, это фуа-гра. Тогда для Москвы это была диковинка. И сейчас-то мы с мужем с удовольствием можем съесть гусиную, утиную печенку. Но тогда это казалось мне страшной мукой, я давилась и… нахваливала: какая прелесть.
В другой раз он объявил: „Можно ругать мои стихи — но не мои супы“. Я приехала к нему в Переделкино, и он накормил меня свекольно-малиновым холодным супом, в котором плавали одуванчики! Мне пришлось вывалить побольше сметаны и съесть — но от добавки я отказалась: „Ой, нет, спасибо, суп такой сытный“.
Нет, но было и что-то более привычное: пельмени он любил со сметаной. В кафе „Пушкин“ мы с ним пили чай и уплетали любимый фирменный десерт, который поджигался. Папу вообще тянуло на все сладкое. Ох, говорил, скоро в телевизор не помещусь»…
ПАПИНА СЕМЬЯ. «Зоя Борисовна, папина жена, безусловно, сама по себе — яркая личность. И женщина — мудрая, сильная, если не мужественная. Сейчас, когда у меня самой семья, я понимаю, сколько сил нужно было, чтобы столько лет прожить с поэтом Вознесенским. А когда его скрутила неизлечимая болезнь Паркинсона, — если бы не она, папа и не смог бы прожить столько лет, да еще и писать до последних дней.
Понятно, что мои отношения с Зоей Борисовной не могли быть просты — и в этом ни ее, ни моей, да и ничьей уже, наверное, вины нет. Так сложилась жизнь. Однажды, в последние годы папиной жизни, я побывала у него в Переделкине и была тронута до слез. Папа уже ходил с трудом, страшно мучился, и Зоя протянула в доме вдоль всех стен веревку и построила специальное крыльцо с отдельной лестницей, чтобы ему было легче, безопаснее ходить. Уже за одно это она достойна преклонения…
Официально мы познакомились с ней, когда мне было девятнадцать лет. В ЦДЛ праздновали юбилей „Юноны и Авось“, и папа представил меня Зое Борисовне. Она сказала, что я спортивная и симпатичная. Потом мы встретились, когда праздновали папино 75-летие в „Мастерской Петра Фоменко“ в 2008 году. Праздник получился очень красивым, и она очень трогательно ухаживала за папой. Тогда мы впервые общались втроем, душевно поговорили, я показала Зое Борисовне фотоальбом, который привезла папе в подарок: на снимках была я с сыном Франческо, которому исполнился тогда годик. Мне кажется, вполне нормальные отношения у нас с Зоей Борисовной сложились как раз после этого. Мы созванивались, когда я приезжала из Америки, договаривались, когда встретимся с папой, она говорила, что ему можно, а что нельзя. Я благодарна за то, что она дала мне возможность (так вышло, в последний раз) встретиться с папой».
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. «В том году он вдруг не позвонил в мой день рождения — ни седьмого, ни восьмого апреля. Такого не было никогда. Это не могло случиться просто так. Написала Леониду Борисовичу, сыну Зои Борисовны, он сообщил, что состояние у папы совсем тяжелое, отказали руки — он не мог держать телефонную трубку… Мы решили лететь в Москву вместе с мамой и сыном. Я договорилась, что встречусь с папой 27 мая в гостинице „Международная“ на Красной Пресне. Зоя Борисовна привезла папу и оставила его со мной и Франческо. Вернувшись за папой, она подарила мне свою книгу, а Франческо игрушку.
Я никак не могла успокоить сына. Он носился, и остановить его было невозможно. Папа прошептал: „Пусть бегает, я буду смотреть на него“. Я спросила, неужели мы не сможем больше увидеться до отъезда? Папа ответил: „Мы увидимся четвертого“.
Четвертого июня мы увиделись с ним на его похоронах. Он будто дождался меня, увидел внука — и простился с нами…
Когда Франческо увидел, что мы с мамой плачем, он спросил: что случилось? Я ответила, что дедушка Андрей теперь будет с ангелами. Он задумался: „А я так плохо себя вел“…
Однажды, когда папа лежал в больнице на Мичуринском проспекте, мы сидели с ним на лавочке у маленькой часовни, которая была там. А потом зашли в часовню, и батюшка причастил и помазал папу. Мне было приятно, что это произошло, и для папы, мне кажется, это был такой важный шаг: он ведь был человеком верующим, но не воцерковленным.
Тогда, за два года до смерти, папа отдал мне свой крестильный крестик. Когда его отпевали, я, как он и просил, отдала этот крестик батюшке, его надели папе и с ним похоронили.
На гражданской панихиде в ЦДЛ мне было тяжело. Мне говорили, чтобы я села на сцене, но я подошла к отцу, пока никого не было, а потом не могла — кругом много людей, фотокамеры, вспышки…
Мы с мамой помолились за папу и простились с ним без этого столпотворения в храме Святой Татианы при МГУ. Вышли из храма — полил ливень. А приехали на кладбище — вдруг засияло солнце.
За столом на поминках в Доме литераторов я сидела рядом с Евгением Евтушенко. Помню еще, как мы с папой, когда я еще была маленькой, ходили в гости на дачу к дяде Жене. Евгений Александрович выступил, прочитал стихи, посвященные папе. Потом Зоя Борисовна, сказав свои слова, попрощалась со всеми. Мы расстались с ней в фойе, и я тоже уехала».
ВНУКИ. «Первый раз папа увидел внука, когда ему было 11 месяцев. Сказал: „Какой он изящный“. Потом виделись еще несколько раз. Папа подарил ему скутер. У нас осталась красивая серебряная ложка с надписью „Франческо Андрею от Андрея“.
Полное имя сына Франческо Андрей де Роса. В семье мужа так принято — называть мальчиков именем дедушки. Папу Энрико зовут Франческо. Железная традиция. Соответственно наш сын должен быть Франческо. Мы с мамой и бабушкой хотели, чтобы у сына была и моя фамилия, но муж сказал, что фамилия через дефис — уже не его фамилия. Я послушалась, мама с бабушкой были очень расстроены. Но при крещении ребенка нарекли Андреем: имени Франческо нет в Святцах. Папа написал за год до смерти „Франческо плюс Андрей“ — стихотворение о внуке, которого крестили 10 декабря 2007 года: „Из вашингтонских полотенец — / окон посыпалась слюда! — / нерасшифрованный младенец / вдруг закричал по-русски: ‘Да!’… / <…> Пройдут года. И в их благообразье / однажды, средь подвыпивших друзей, / утешишься формулировкой связи: / „Франческо + Андрей““
И, отвечая на чужие тосты, задумчив, как шарпей, ты упомянешь горестного тезку по имени Андрей.…Второго внука мой папа уже не увидел. Николай родился через два года после его смерти. Они с Франческо разные. Николай начал говорить раньше брата, в полтора года уже говорил фразами, в два года говорит с няней по-испански, со своим папой по-английски, со мной по-русски. Иногда смешивает в одном предложении все языки, которые знает.
…Франческо было около года, когда мы пошли с ним в Пушкинский музей в Москве. Судя по всему, главным его потрясением стали картины Гогена — к остальным он остался равнодушен, а от Гогена его нельзя было оттащить. Семилетнего Франческо мы отправили в Русский лагерь под Вашингтоном. „Удивительно, — сказал он мне. — Нас кормили салатом, который почему-то сделали из борща“. Оказалось, это он про винегрет… Дерево у него вдруг „похоже на старушку“. Облако — на „птицу с крыльями“. Чищу яблоко, он смотрит на струящуюся шкурку: „как ленточки у девочек“.
…Как-то мы с бабушкой приехали на кладбище к дедушке, Сергею Вронскому, девятого мая. Рассказали Франческо, что он был ветеран, воевал и был ранен. Потом пели военные песни и плакали.
А в день рождения папы, двенадцатого мая, поехали на Новодевичье к его могиле. И там Франческо вдруг спросил: „А мой дедушка Андрей тоже был военный ветеран? Он ведь умер от боевых ранений?“».
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 1989–2010 ЗАВЕРЕЩАНИЕ
Пять загадочных событий
12 июля 1989 года (день премьеры). Салли, она же Мэг Райан, на спор имитирует бурный и шумный оргазм, сидя за столиком в ресторане рядом с Гарри, Билли Кристалом. За соседним столиком дама просит официанта дать ей то же, что съела Салли: I’ll have what she’s having. Под эти стоны и покатится всемирная эпоха имитаций («Когда Гарри встретил Салли» режиссера Роба Райнера).
Сентябрь 1994 года. Президент Борис Ельцин не смог выйти из самолета в аэропорту Шеннон, где его ждал премьер-министр Ирландии Альберт Рейнолдс: Борис Николаевич возвращался от «друга Билла», где принял, как обычно, лишнего. Схватило сердце. Официально объявят: проспал. Взамен из самолета вытолкали первого вице-премьера Сосковца… Возможно, Ельцин так же окажется навеселе, когда его однажды спросят про любимого литературного героя: «Конечно, Пушкин».
27 февраля 1997 года. Состоялась историческая встреча Билла Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински в Овальном кабинете. В ходе переговоров были достигнуты договоренности, следы которых президент США оставил на синем платье девушки. Расследование позже выявило 9 «эпизодов»… Следствие зашло в тупик. Клинтона оставили на посту до января 2001 года.
11 октября 2010 года. Молодая кинематографистка Валерия Гай Германика, ужиная в пермском ресторане, услышала, как за соседним столиком незнакомка читает стихи Осипа Мандельштама. Валерия потребовала прекратить безобразие: она же ненавидит Мандельштама. Эстетические разногласия, по сообщению сайта Дни. Ру, вылились в буйную драку. В ход пошли сапоги и бутылки. Победе режиссерши помешали неотесанные мужики: провинция.
20 января 2014 года. В уральском городе Ирбит 53-летний бывший учитель выпивал в гостях у своего 67-летнего приятеля. В ходе застолья хозяин квартиры заявил, что настоящей литературой может быть только проза, а поэзия — сущая ерунда. Хозяин сам пописывал прозу. Но гость предпочитал поэзию, и потому прирезал литсобутыльника ножиком. На тело наткнулась соседка. Прозаик умер, поэта поймали и посадили (сообщение ГУ МВД Свердловской области).
Из словарика поэта Вознесенского:
Судьбаба — самая судьбоносная среди женщин: и с ней невыносимо, и без нее совсем никак.
Кругометы (они же словалы) — самая бесконечная словесная круговерть, в которой смыслы движутся по кругу и тьма превращается в мать, актер — в теракт, а цоколь — в кольцо.
Экономикадзе — самая самоубийственная игра, в которую играют страны и континенты, привлекательная, почти как у японцев рэндзю, только страшнее.
Видеома — самое очевидное стихотворное произведение, метафора, которую можно видеть, щупать, отковыривать и перетаскивать с места на место.
Поэтархат — самая недостижимая эра для человечества: могла бы наступить вслед за матриархато-патриархатом — да олигархат не пущает.
Сборники стихов и прозы Андрея Вознесенского:
Аксиома самоиска. М., 1990.
Россiя, Poesia. М., 1991.
Видеомы. М., 1992.
Гадание по книге. М., 1994.
Не отрекусь. М., 1996.
Casino «Россия». М., 1997.
На виртуальном ветру. М., 1998.
Страдивари сострадания. М., 1999.
Жуткий кризис «Суперстар». М., 1999.
Девочка с пирсингом. М., 2000.
Моя Россия. М., 2001.
Возвратитесь в цветы! М., 2004.
Собрание сочинений: В 7 т. М.: Вагриус, 2000–2006.
СтиXXI. М.: Время, 2006.
Тьмать. М.: Время, 2009.
Ямбы и блямбы. М.: Время, 2010.
Глава первая КООПИЗДАТЕЛЬСКИЕ ТАЙНЫ
Башкою разбейте жизнь-стекло
Звонила Нина Искренко. Повидаться бы, Андрей Андреевич. Дело срочное.
Он предложил поужинать в ресторане ЦДЛ. Место для задушевных разговоров не самое удачное — зато привычное.
Плыл-шумел-дымил ресторан, покачивалась осень девяносто четвертого. Нина Искренко была маленькая и нездешняя. Куртка в заклепках. «Зажигалочка с божьей искрой» — так Вознесенский ее окрестил. Сидела притихшая, будто не решаясь о чем-то спросить. Что ее мучило, Андрей Андреевич не знал, и «пошлой игривостью пытался развлечь». Потом, и полугода не пройдет, корить себя станет страшно, но — поздно.
А тогда она спросила наконец, запинаясь:
— Андрей Андреевич, что такое смерть? Что — там? Есть ли что-то после…
Ничего себе настроеньице — у нее же самой в стихах были отважные рецепты: «Жуя банан и писая под пальму мы отрицаем смерть как институт»! Наверное, она сама не знала — чего ждала услышать. Но чего-то другого. Он «бодро бормотал» ей про индусов и переселение душ, и про Вернадского с ноосферой. Не то, не то. Литературный ресторан — гиблое место для желающих исповедаться. Упала рюмка, кто-то хрусть ботинком: хрупкая. Алкоголики знакомые подсели, им уже смертельно хорошо.
«Нина погасла, застегнула булавочку, обрела беспечный тон».
Господи, сколько раз Вознесенский задавал те же вопросы себе самому. Девяностые годы откупорились, как бутылка шипучки: сплошные пузыри из ниоткуда — чпок. Громко. В чем предназначение пузырей? В производимом шуме, в суетливой видимости бурной жизни. Эпоха понеслась вперед, на все четыре стороны, указанные крестиками. У Вознесенского сама собой чуть позже сложится подборка каламбуров в духе Хармса — «Из жизни крестиков и ноликов».
«Когда нолики победили крестиков, они положили пленных парами, в затылок друг к другу, в два ряда. Получилась железная дорога. По ней ездили нолики.
Потом крестики победили ноликов. Они гуляли по платформе, ездили на ноликах, выглядывая из окон вагонов. Железную дорогу они оставили себе».
Нина Искренко посмотрела на часы. Что толку? У всех часов теперь будто отломаны стрелки — бежит одна секундная. Мы становимся людьми с секундным суетным кругозором, заметил как-то Вознесенский. А что останется от этой суеты, от всех сиюминутных фикций — ведь каждый поздно или рано, иногда и слишком рано… «Смерть это белая бабочка ночью на стуле» — тоже из ее стихов.
Больше они не увидятся.
Он не произнес, она не услышала каких-то важных слов. Он потом мучился этим. Но, в сущности, Нина Искренко просто хотела проститься — с поэтом, старшим другом, на которого всегда смотрела с обожанием. Даже когда язвила и иронизировала, как и ее постмодернистские друзья.
Месяца через три, после похорон Нины, скоропостижно умершей от рака в феврале 1995-го, — ей было всего сорок три, — Вознесенский посвятит Искренко нежное эссе: «Крестная крестница». Скажет последнее: «Все виноваты перед поэтом. Я, наверное, в особенности… Прости, Нина!»
В поэзии Искренко шла своими тропками, она — совсем иная, не похожая на Вознесенского. Но в стихах ее вдруг могут промелькнуть хрусталиками Вознесенские цитаты — вкрапленные намеренно:
в Люберцах в сердцах на самосвале во поле берё В Колонном зале во саду ли все поражены Нервы что ли обожжены?* * *
Он развернулся и шарахнул чем-то по стеклу. Осколки ливнем по сцене. Зал оцепенел. И это, называется, «витражных дел мастер», — дебоширит, стекла бьет.
В том же 1995 году в Париж — спасибо Аэрофлоту — бережно доставили в салоне рейсового самолета шестидесятикилограммовую раму, обрамлявшую чистое стекло. Рама была непростой — Вознесенский расписал ее фрагментами шедевров живописи. Везли из Берлина — прямо с выставки видеом поэта в немецкой Академии искусств.
Видеомы, которыми Вознесенский увлекся в начале 1990-х, — игра коллажей из предметов, сплетенных с текстом. В них зритель мог узнать и героев, которым они посвящались, и открыть или домыслить некие внезапные смыслы. Буквы и обрывки текста в видеомах, как заветный вензель на морозном стекле. Татьяне Лариной достаточно было двух буковок — «О» и «Е» — они как знаки скрытой страсти, проступают и прячутся в морозном узоре судьбы. Так в видеомах возникают осы Мандельштама, Артур Миллер становится циркулем — или ахматовские инициалы «А» и «А» прячутся на мостике с чугунной решеткой. Видеомы Вознесенского — штука совершенно постмодернистская по форме — кочевали эффектной выставкой и по Москве, и по столицам мира.
Их с интересом принимали все — пожалуй, кроме отечественных постмодернистов: все-таки для чистоты соблюдения жанра Вознесенскому не хватило в видеомах отсутствия смысла. Напротив, смыслом он старался видеомы перенаселить, предполагая в зрителе определенный умственный багаж, — для постмодерна современного это лишнее. Лампочка Павлова — идеальный образ современного искусства для зрителя, которого нельзя обременять. Включил — слюна пошла. Выключил — перестала.
Да, а что же парижане? Вознесенский выступил тогда трижды — под соусом фестиваля премии «Триумф», прошедшего во всю парижскую ширь. Евгений Колобов дирижировал музыкантами, исполнившими моцартовский «Реквием» — концерт посвятили памяти Андрея Тарковского, музыка пересекалась с Вознесенским, читавшим под «Реквием» стихи. Потом его ждали в университете Сен-Дени, и наконец — в театре Шайо, где поэт и разбил стекло на своем видеоме (он так говорил — в мужском роде). Уверял, что не планировал, так вышло, «спонтанно, сам не соображая, почему, как бы в тумане, ударил и разбил стекло». Но это вряд ли — сам же Вознесенский назвал этот свой художественный жест «стиховорением-хеппенингом». Ведущие французские, да и британские газеты говорили тогда об этом выступлении и о разлетевшемся стекле видеома как о символе разбитых иллюзий.
Тогда как раз журнал французских интеллектуалов «Нувель обсерватер» назвал Андрея Вознесенского «самым великим поэтом современности». Вернувшись домой, поэт отшутится насчет «величия» в журнале «Огонек»: «Я-то давно про себя это знаю, но все жду, чтобы это поняла администрация писательского городка, которая вот уже три года обещает починить фонарь перед нашими воротами».
Что же касается того, какой в те дни увидела Россию французская публика, — поэт заметил с искренней гордостью за страну: «В эти дни Россия предстала не отсталой развалюхой третьего мира, из дурных анекдотов о „новых русских“, а великой культурой страны иного измерения. В престижном театре Шанз-Елизе публика стоя аплодировала Евгению Колобову, исступленному пастору ноты и пастырю Новой оперы, и боготворила пленительную линию — Нины Ананиашвили. А додинские „Бесы“? А элегантный Спиваков?.. Всего не расскажешь. „Фигаро“ посвящала полосы сезонам новой русской культуры…»
Иллюзии похрустывали под ногами.
Стекло было разбито неспроста. Для Вознесенского оно всегда сродни поэтическому слову, самый близкий по фактуре материал. «Я много работал со стеклом, когда делал витражи, — просвещал Андрей Андреич собеседников. — Стекло родилось в Египте, самой, может быть, магической из цивилизаций. Тогда стекло было непрозрачным, синим, желтым, вспомните известный египетский голубой цвет. Прозрачное же, бесцветное стекло появилось одновременно с христианством. Это иная оптика, выход в иные пространства, иной свет, игра отражения… Гумилёв для меня как плоскостной цветной витраж. Кузмин — венецианское стекло. Хлебников — стекло оптическое, с посеребренными гранями, в которых множатся отражения. Его поэма читается, будто поставлено отражающее стекло, слева направо и справа налево».
Совсем недавно он писал: «Ко мне прицениваются барышники, / клюют обманутые стрижи. / В меня прицеливаются булыжники. / Поэтому я делаю витражи».
Пришло новое время: разбитых витражей?
Это был 1995-й. А всего-то несколько лет назад его предупреждали — и он, как многие тогда, не очень понимал: о чем? почему?
…Нарисуйте, художник, на раме пейзажи и женщину, в раму вставьте пустое стекло. Ваша жизнь протечет в иллюзорном их окружении. Светло. И когда совершенство опостылет княгинею Бетси, как сигают с балкона, аж рожу ожгло — разберитесь с собой — разбегитесь, башкою разбейте жизнь-стекло! («Волшебное стекло»)Время — пошлО? Время — пОшло
После финальной брежневской болезненности Горбачев казался очевидно симпатичным. Фрикативное южнорусское «г» оттеняло его складную речь, как родимое пятно — залысину. Генсек обволакивал обаянием отчетливо произносимых слов. Вознесенский был впечатлен, как вся страна. Генсек и Пастернака процитировал! Да он и строки Андрея Андреевича выдал при случае — и наизусть, не подсматривал!
Вознесенский обратился к нему дважды. Одно письмо касалось Марка Шагала: когда наконец откроется его музей в Витебске? Музей со скрипом, но в конце концов появится. Накануне столетия Пастернака Горбачев откликнулся на письмо Вознесенского — благодаря чему смогли отпраздновать 9 февраля 1990 года юбилей Бориса Леонидовича в Большом театре. «Интеллигенты всех стран, объединяйтесь вокруг свечи Бориса Пастернака», — сказал со сцены Вознесенский.
Ну, не такова интеллигенция у нас, чтобы объединяться. Но верить-то хочется.
Горбачев казался обаятельным, Вознесенский остался благодарен ему за Пастернака и Шагала, — но страну уверенно Горбачев катил к развалу, как к сезонной распродаже. Перестройка и гласность — отличные штампы для футболок на арбатских развалах. Страна, как зачарованная, верила: кампания очередной ликвидации прошлого и чистки от недемократичных элементов вот-вот закончится наступлением счастья. Исчезли водка и сигареты — это были первые ласточки. Телевизоры перегревались от массовых самообличений, самоистязаний и самоуничижений. Счастье наступило такое, аж кушать не могли. Впрочем, вдруг оказалось, что и нечего. Все вперемешку, коммунисты и беспартийные, подрисовывали себе изящные синяки и шрамы — свидетельства невзгод, перенесенных ими в кровавом советском прошлом. Мозги у продвинутого населения плавились: что бы еще такого гадкого в своей истории и стране найти, в чем бы еще покаяться перед кристально чистым, благородным миром? Ну, не беда, что этот мир еще вчера чуть не спалил половину нашей страны — горы трупов оставляли нам, лапотникам, из лучших европейских побуждений.
Недоумевали заграничные друзья Вознесенского. Ну, те, которые уважительно относились к нему и его родине.
Битник Гинзберг, уж на что, скажем так, оригинал, а и то удивлялся: вы что, всерьез решили, что глумиться над своей историей — и есть тот самый верный путь к свободе?
Ален Боске, патриарх французской поэзии, президент Академии Малларме, сын русского литератора Александра Биска, напоминал, что вся эта мистификация, обольстившая Советский Союз и целый мир, — скрывает за иллюзией потери сущностные: «Час в день я провожу перед идиотским телеэкраном, где моими собеседниками, к счастью или к несчастью, являются Горбачев, Рейган и Миттеран. Они отсекают меня от таких моих лучших друзей, как Кафка, Пруст, Сервантес… Наиболее страшная, грубая правда, что я страдаю от многих умираний — тела, памяти, языка, человечности».
Но были те, кто выражался проще. Жаклин Кеннеди из нежнейших побуждений предупреждала Вознесенского: наивные, никто не ждет вас с распростертыми объятиями, «свободный мир» вас растерзает в клочья, желающих полно. Кому нужна великая держава, если к ней уже не прилепить ярлык, пусть фальшивый, «империи зла»? Но Джекки Кеннеди и Вознесенский — отдельная история, к ней мы еще вернемся.
Зоя Богуславская вспоминает, как в 1991-м, после известного путча ГКЧП, ей позвонили из CNN и попросили за пять минут рассказать о победившей внутренних врагов перестройке. Предполагалось выступление «одной важной персоны», но что-то сорвалось, и надо выручать. Зоя — в недоумении: но почему она? Однако, как обычно, спасла ситуацию с легкостью: выступила так красноречиво, что вместо пяти минут в прямом эфире ей дали чуть не втрое больше. Между тем тогда она узнала и страшную тайну: кто был той персоной, за которую ей пришлось отдуваться. Раиса Максимовна Горбачева. Американские журналисты и работники посольства рассказали Богуславской, что у госпожи Горбачевой в Форосе случился инсульт… В этом, по меньшей мере, было человеческое объяснение происходящего. «Вы же помните, — рассказывает Зоя Борисовна, — как они прилетели после путча в Москву, и Михаил Сергеевич, спускаясь по трапу, чуть не на себе нес Раису Максимовну… Столько было в нем горя и боли, вызванной болезнью жены, — какая страна? Заберите хоть все, поделите, главное сейчас для него здоровье жены. Вот она, сила любви», — хитро улыбается Богуславская.
Конечно, это упрощенная трактовка. Когда-нибудь еще археологи докопаются, отшелушив мифы от фактов, что и почему на самом деле случилось с великой страной в одночасье. Свою роль в этой заболтанной истории сыграло и соревнование амбиций Горбачева и Ельцина, свинец в груди и жажда мести двух партработников, которые мерились… конечно, силой убеждений, чем же еще.
Однако вышло — ну совсем по Пришвину, записавшему еще в семнадцатом в дневничок пересуды деревенского люда:
«— А как же государство?
— Елдан с государством.
— Россия?
— Елдан с ней!»
Какой такой елдан, читатель истолкует в меру своей испорченности. Но, как ни истолкует, всё будет прав: так и случилось. «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? Только подсчитайте всё», — просил Остап Ибрагимович Бендер. «Сто рублей», — отвечал Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. Бендер приуныл: «Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете». Балаганов задумался надолго и наконец несмело объявил: 6400 рублей для счастья ему будет выше крыши.
Шура Балаганов был старомоден и не умел охватывать умом такое счастье, которое вдруг разом сваливается на голову нескольким Остапам Ибрагимовичам, когда пилят не гирю пудовую, а всю страну. Впрочем, при чем тут Шура Балаганов? Вы его рожу видели? Тьфу, какая.
Ностальгировать о профуканном — пошло. Еще пошлее — не заметить троекратной пошлости обретенного.
О чем писал поэт Вознесенский в своей «Стене плача»? «Пока еще небо не стала мерить / креста измерительная щепоть — / наставь мое сердце прощать и верить, / Господь!..»
Фому кинули на фуфло. Государство нас облапошило. Вы считаете: «Время пошло́!»? Время — по́шло. («Процессор пошел»)«Два кусочека колбаски»… — умоляли с экрана саратовские девчата из поп-группы «Комбинация». Вознесенскому они запомнились, как знак эпохи. В те времена как раз приехали друзья: Артур Миллер, американский драматург, с женой Ингой Морат.
«Мы глядели теленовости о Беловежской Пуще. Он говорил о расколе с Украиной, о распаде страны, как будто речь шла о его семье, о дочке Ребекке. Наша боль стала его болью.
Размышления Миллера, великого реалиста, актуальны для нас. Мы избавлены ныне от иллюзий по поводу и коммунистического рая, и рая капиталистического. Мы должны понять мир, какой он есть».
Ну да, прямо сейчас всё бросим — и начнем «понимать».
Литсобратья в начале девяностых, отбросив фиговые листки приличий, принялись изничтожать друг друга. Каждый, конечно, в тягостных раздумьях о судьбах родины, — однако совокупными усилиями лишь нагнетали хаос и истерию. Чем больше кричали о патриотизме — тем вернее лгали. Чем истошнее вопили о демократии и либеральных ценностях — тем вернее дурили. Или заблуждались — возможно, даже искренне. Никто, естественно, не обладал священным знанием — что истинно, что ложно, что на самом деле происходит и куда ведет. А если кто-то и понимал — то кто бы его стал слушать. Такое гулянье!
* * *
Внезапно проснулись диссиденты-эмигранты. Зашумели: мы, мол, так не договаривались. Не для того мы, дескать, диссидентствовали, чтобы уничтожать Россию. Девяносто третий год стал оселком. Тут много словоблудия, но интересны цифры. Когда речь идет о жертвах человеческих — сравнения всегда некорректны. Цифры тут лишь для того, чтобы подчеркнуть — как ловко меняются окраски и оценки. В Праге 1968 года, похоронившей, как говорили многие шестидесятники, диссиденты и демократы, оттепель и все надежды, — погибли 72 жителя, ранены 266 человек. В Москве за несколько октябрьских дней 1993-го погибли 157, ранены 384 россиянина. Но в этот раз передовой либеральный отряд 42-х писателей прославился письмом, призвавшим президента к топору. Ельцин советовался — прежде всего с творческой интеллигенцией. Интеллигенция убеждала по-ленински: плоха та демократия, которая не умеет защищаться. Историк Разгон: «Нельзя сделать яичницу, не разбив яиц». Литературовед Чудакова: «Сила не противоречит демократии». Писатель Алесь Адамович: «Власть не должна валяться под ногами». Публицист Черниченко: «Ребята, хотите жить — раздавите гадину!» Поэт Окуджава: «Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним совершенно не было». Среди подписавших «расстрельное» письмо, помним, были академик Лихачев, писатель Астафьев, поэт Ахмадулина. Как их-то угораздило — Бог весть. Или, хочется думать, были наивны.
Парадоксально, что вся риторика, вся демократическая пылкость оказалась абсолютной калькой, просто слово в слово — той самой атмосферы 1930-х, без которой невозможны были бы репрессии никакого сталинского времени. Тут всё — фигурное катание словес, этакие тодесы, вращения, перелицовки: был пафос «сталинский» — стал «антисталинский». В тридцатых годах расправиться призывали с «врагами народа» и «строителями тоннеля из Бомбея в Лондон». Теперь требовали поставить к стенке «коммуно-фашистов», «защитников Биде» (то есть Белого дома — не путать с американским!). Оцените слог письма 42-х: «Эти тупые негодяи уважают только силу». Прежде разоблачали преступное «троцкистско-зиновьевское отребье» или «бухаринско-рыковский заговор». Теперь гвоздили преступную компартию и требовали отдать под трибунал, причем, что интересно, Нюрнбергский. Прежние повальные «чистки партии» обернулись либеральными криками о поголовной «люстрации». В тридцатых все происходящее благословляли ликами Маркса, Энгельса и Ленина. Теперь же, в девяностых, «Литгазета» осенила президента крестным знамением: «Владимирская Божья Матерь спасла Москву, спасла Вас, спасла нас». Тогда не читали, но осуждали и приветствовали расстрелы вредителей. Теперь — стреляли под такие же всеобщие приветствования, переходящие в восторженные аплодисменты…
1993 год не очень любят вспоминать, а зря. Кто был симпатичнее — Ельцин или Хасбулатов — вопрос для девушек, не для истории. Для истории принципиально другое: победила игра не по правилам, не по закону. Дальше оказалось: мало признать неправую победу, надо искренне поверить в то, что неправда — это правда. Если она удобна победившим. Почему цивилизованный мир был счастлив, наблюдая за танками в центре Москвы? Мечты сбывались. Собственно, к тому ведь идет все современное «либеральное» мироустройство. В этом мироустройстве — если надо, черное объявят белым и скрепят печатью от СМИ.
В 1993-м, под шумок стрельбы, был принят Указ о частной собственности (с правом продажи и залога). Что собирались строить в стране, какие «измы», куда вести — никто не понимал. А тут по крайней мере узкому кругу новой «элиты» обозначили цель — за что бороться. Грабь награбленное коммунистами-грабителями! Вслух, конечно, никто не произносил. Вслух говорили: кто не изловчится — тот лох. Удалось изловчиться немногим. Немногие, впрочем, тут же объявили ловкость рук логичным продолжением своих достоинств.
В те же дни 1993-го Александр Солженицын отозвался из далекого Вермонта осторожно: это, мол, «неизбежный и закономерный этап в предстоящем долголетнем пути освобождения от коммунизма». Это потом, в декабре 1998-го, уже вернувшись на родину и наглядевшись на происходящее, Солженицын откажется принять орден Андрея Первозванного «от верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния».
Как обухом по голове, помним, была реакция диссидентов-писателей Владимира Максимова, Андрея Синявского и Петра Егидеса на расстрел Белого дома, где заседал Верховный Совет. В статье «Под сень надежную закона…» (Независимая газета. 1993. 16 октября) они напомнили о том, что речь идет о первом по-настоящему, демократически избранном Верховном Совете. Нравится он или нет — демократия не может строиться на нарушении закона. «Не забудем, — заметили к тому же авторы, — что трагедия началась с президентского указа (Указ № 1400 от 21 сентября 1993 года „О поэтапной конституционной реформе“. — И. В.), и спросим хотя бы сами себя: неужели глава государства настолько близорук, что не мог просчитать последствия? Когда нарушал закон, по которому стал Президентом?.. Не называется ли такой расчет провокацией?» И наконец — совет Ельцину: «Только отставка. Монастырь. Грехи замаливать».
Не им судить из их парижского далека, — зашумели новорусские демократы, — у них просто крыша поехала!
* * *
Еще один изгнанник — писатель-философ Александр Зиновьев, профессорствовавший в Германии, — спустился со своих «Зияющих высот» в Россию 1990-х и утвердился в убеждении: разваливали коммунизм — а развалили Россию. Причем «вопреки устоявшемуся мнению советский коммунизм развалился не в силу внутренних причин. Его развал, безусловно, самая великая победа в истории Запада. Неслыханная победа, которая, я повторюсь, делает возможным установление планетарной власти», — втолковывал Зиновьев читателям французской «Фигаро». В самой России уши затыкали — еще один безумный диссидент, что он несет!
Конец коммунизма, упорствовал Зиновьев, стал и концом демократии, и началом эпохи «тоталитарной демократии». Профессор, с таким энтузиазмом изобличавший когда-то «советский тоталитаризм», теперь рисовал перспективу куда печальнее — тотальной несвободы человечества, наднациональной власти, сверхобщества с центром в США, управляющего миром с помощью финансовой диктатуры. «Советский тоталитаризм», справедливости ради, сделал все для расцвета многонациональной культуры. В мире «тоталитарной демократии», по Зиновьеву, русские ли, сербы или французы, — все будут намазаны на бутерброд, как повидло.
«И вообще, — говорил Зиновьев журналисту „Фигаро“, — сделаю важное замечание: Запад опасался не столько военной мощи СССР, сколько его интеллектуального, артистического и спортивного потенциала. Запад видел, насколько СССР был полон жизни! А это главное, что нужно уничтожать у врага. С этого и начали. Российская наука сегодня зависит от американского финансирования. Она в жалком состоянии, так как США не заинтересованы в финансировании конкурентов. Американцы предпочитают давать русским ученым работу у себя в США. Советское кино было уничтожено и заменено американским. С литературой произошло то же самое. Мировое господство прежде всего проявляется как интеллектуальный или, если хотите, культурный диктат. Вот почему американцы с таким рвением стараются опустить культурный и интеллектуальный уровень во всем мире до своего собственного: без этого им трудно осуществлять мировой диктат».
Куда же раньше смотрел Зиновьев? О чем раньше думали Синявский с Максимовым? Предполагал ли Солженицын, что даже его трудами кто-то постарается воспользоваться, как оружием в борьбе против России как таковой, советской или несоветской? Кто знает. В судьбах русских писателей и мыслителей загадок достаточно, да и в том, как распорядилась страна своими интеллектуальными силами.
А что же Вознесенский в 1993 году? Андрей Андреевич вспоминал свои тогдашние разговоры с основателем парижского журнала «Континент» Владимиром Максимовым. «Последнее время он часто приезжал в Москву, был как с содранной кожей. Кричал: „Какие же они русские интеллигенты! Подписали письмо за расстрел Белого дома!.. Но ты же не подписал…“ Он рассорился с бывшими друзьями. Боль за Россию застилала ему глаза».
Вознесенский с либеральными друзьями не рассорился. Не приобрел и новых друзей среди «патриотических» литсобратьев. Остался сам по себе. Поступал в те дни, как сам считал нужным, — по совести. Не потому, что был — «герой героич». А просто — как у него всегда — так «небо диктовало».
Может ли русский писатель одобрять, приветствовать «пролитие крови»? Только если он — вне русской культуры, вне традиции русской литературы. В дни, когда танки стреляли по Белому дому, Андрей Вознесенский опубликовал в «Известиях» стихи:
И снайперы целятся с кровель. Мы жмемся к краям мостовой. Гуманизм не пишется кровью, в особенности — чужой.Литератор Виктория Шохина вспомнит двадцать лет спустя на сайте «Свободная пресса»: «В те дни Вознесенский сдавал кровь для раненых. Один демократ сказал на это злобно: „Да он просто пиарится“. — „А что же ты, сука, так не пиаришься?“ — подумала я. Но спорить уже не хотелось».
Сам поэт искал духовную опору, конечно же, не в жизни политической. В русской поэзии. «В гибельные и непредсказуемые наши дни мужественные уроки Николая Гумилёва дают нам куда больше, чем многочисленные советы политологов. Вот строки из его поэтического завещания „Мои читатели“, написанного в год смерти: „…когда вокруг свищут пули, / Когда волны ломают борта, / Я учу их, как не бояться, / Не бояться и делать, что надо“…
А когда придет их последний час, Ровный, красный туман застелет взоры, Я научу их сразу припомнить Всю жестокую, милую жизнь, Всю родную, странную землю И, представ перед ликом Бога С простыми и мудрыми словами, Ждать спокойно Его суда».* * *
Будет большим заблуждением, если читатель вдруг решит, что Вознесенский этаким мизантропом жил в эти годы — источая желчь, кляня весь окружающий свет. Нет. Он не был бы самим собой, если бы не находил, что жизнь — прекрасна, всякий раз по-своему. Злоба — удел слабаков и бездарей. В любых переменах — возможности новых открытий. Игра с текстом времени продолжается.
В какую игру в наши дни играет вся страна? — спрашивает интервьюер («АиФ»). Вознесенский отвечает: «В прятки. Причем водят все. И все с завязанными глазами».
«Россiя» у него — графический синоним слова «Poesia». Но вывеска «Россия» над большим кинотеатром в центре Москвы сменилась огоньками казино. У Вознесенского вышел сборник — «Casino „Россия“». «Все в мире символично, — скажет он. — Случайностей не бывает. Казино — это рулетка жизни; ставки, криминал, страсть, любовь, азарт, шулерство. Здесь и Достоевский, и русское „авось“. В стихотворении „Улет“ — разрыв наших связей, совершенно полный. Это никакой не формализм — это жизнь такая. В цепочке слов „актерактерактер“ — вдруг обнаруживается „теракт“. Стихия слова сама ведет, а потом уже разбираешься, к чему это было».
В слове МоСКВва время высветило вдруг «свободно конвертируемую валюту». Все в жизни стало измеряться в валюте и в этом, заметит поэт, есть безусловно некая интернациональность связей, — но «это не лучший вариант для России», учитывая, что «мы пятимся в свое будущее задом наперед. На Западе развивают технологии, а мы обратно — к чугунке, к волчьему капитализму идем».
И все же весело стало ходить по Москве! Столько рекламной белиберды — обхохочешься. «Разве знал некий алхимик, новатор слова, повесив над Москвой словообразования типа: АГРОБАНК или ДИАМБАНК, что этим он предрекает крах банковской системы? Говорят, причина кризиса — экономика и социум… Но вглядитесь: аГРОБанк, диАМБАнк. Чуете? И пахнет эклером глазурованный дамский журнал „Мари-Клэр“. И приезжий заволнуется, увидев на углу Петровки призывную вывеску: „КООПИЗДАТЕЛЬСТВО“».
Что дальше, что нас ждет? — этот вопрос преследует рефреном, между строк, в стихах, эссе и интервью Вознесенского. «Среди новой лжи нам так необходима живая вода, чистота цвета, непестицидная искренность, нужна зеленая, чуть было не оговорился, „революция“. Надо оклематься».
Мир, как в воронку, затягивает в Америку. «Рим и Мадрас затекают в Нью-Йорк. Куда затекает Россия?» В Европу? В ту же Америку? «Я отдал бы все свое искусство, — признается Вознесенский, — чтобы мы жили, как в Европе. Но тогда России не будет! Стихи на стадионах поэты читали только в России». Видеть в Америке исключительно врага, не замечая, чему у нее стоит действительно поучиться? Вознесенский всегда был против этого:
«В Америке симфонических оркестров едва ли не больше, чем в России и Европе, вместе взятых. Но что касается поэзии, то Россия, при всем ее бытовом неустройстве, которое, никогда, наверное, не кончится, остается страной духовной культуры и жертвенности. Отношение в мире к ней сейчас сильно изменилось, да и как ему не измениться, если все время приходится ходить с протянутой рукой, клянчить и в то же время поливать грязью тех, кто тебе помогает? Это — постыдно, об этом мои строки:
Россия, нищая Россия, ни разу в муке вековой ты милостыни не просила… Стоишь с протянутой рукой».Чего в словах Вознесенского больше: тоски по западному благоустроенному миру или боли за «нищую Россию»? Ответ поэта прозрачен — только нет в нем этого «или — или». У него всегда: «и — и». Кто-то умудряется взвесить это на весах своих конъюнктурных пристрастий. «Параноидальна ли сегодняшняя реальность? Или лишь шутит с нами в стиле чернухи?»
В конце девяностых именно Вознесенский первым произнес то самое слово… «Путь выхода один — креативный», — написал вдруг поэт. Предвидел ли он, что это имя немедленно присвоит себе слой самоназванной «элиты»: «креативный класс»?
Казалось бы, все знают, что в буквальном смысле creatio, по-латыни, — созидание. Этот смысл предполагал и Вознесенский. Однако вышло так: эпитет «креативный» — и поэт тут ни при чем — стал напоминать скорее о доходном рекламном бизнесе, где креативен тот, кто ловко сочиняет броский слоган или придумывает перспективный «бренд». Отсюда — объясняет, к примеру, «Словарь модных слов» Вл. Новикова (М., 2011), — термин и перекочевал к литераторам злобы дня.
Ну кто же скажет: «впаривать». Вот и взяли элегантное: «креативить». Смысл креатива подменили — теперь «впаривать» надо не то, что долговечнее, а наоборот, то, что быстрее «развалится». Чтобы «впаривать» снова, до бесконечности. Какое «созидание», о чем вы? Ищите в «креативе» шкурный дивиденд — в нем совпали интересы всех псевдоэлит: и тех, кто ходит с манифестами, и тех, кто сидит на финансовых пузырях, и тех, кто знает толк в чиновничьих выгодах.
Не о том ли — у Вознесенского «Откат»: «Благодарю тебя за святочный / Певучий сад. / Мы заменили слово „взяточник“ / На благозвучное „откат“…» Это как раз про игры слов, про подмененные смыслы. Когда-то Вознесенский бодро пел: «Нас много. Нас может быть четверо». Теперь вся та условная четверка идет в расход: «Отряд ушел беспрецедентно: / и четверо ничком лежат. / Бог заберет себе проценты. / Откат…»
«Креативная» тусовка напыжится небывалым высокомерием (в сущности, комичным) по отношению к «этому народу» в «этой стране» — и отличится беспримерным лакейским подобострастием к сидящей на нарах персоне с темным прошлым, но с миллиардами, припрятанными где-то. Вот такой «новый поворот» в литературе. «Кто не носит Prada, тот лох», — вывеска в витринах ГУМа была не оговоркой. Это креатив «продвинутых», внедряемый в подкорку. Хотя… Бердяев еще добрых сто лет назад писал в «Смысле истории» о ценностях цивилизации, чреватых «подменой целей жизни средствами жизни, орудиями жизни». То есть простенькими обезьяньими радостями.
У Вознесенского была такая видеома — «Схема разделки говядины для розничной торговли». Руби не хочу. Страна в виде говяжьей туши. На схеме стрелочками указаны: 1-й сорт, отечество первой свежести, 2-й сорт, слава отечества второй степени, 3-й сорт…
«Рыбу третьей свежести едим из Сетуни. / Поэты третьей свежести набрались сил. / Но не бывает отечества третьей степени. / Медведь вам на ухо наступил…»
Мое отечество — вне всякой степени, как Бога данность, — к нему, точно к песне, всегда не спетой, испытываю благодарность. («Не сетую»)«Креативный путь» у Вознесенского логично вытекал из тех же поисков «прорабов духа»: «Прораб духа — звание, доступное каждому, — при единственном условии: надо сделать что-то настоящее. На деле, не на словах. Надоели бессовестные оптимисты-болтуны, надоело бесплодное брюзжание, оправдывающее свою творческую несостоятельность… <…> Я за породу творцов, ценой жизни — а другой цены не бывает — воплощающих свою идею. Закатывать глазки и ничего не делать — бессовестно. Сделайте хоть что-нибудь».
Не только для себя. Для родины. Даже если… «Обещано счастье в конце третьей серии, / и нас не смущает, что фильм двухсерийный…» («Верба»).
* * *
Ирония судьбы.
В начале XXI века правнучка Никиты Сергеевича Хрущева, того самого, колотившего по трибуне (или только размахивающего, как утверждают буквалисты) ботинком в Ассамблее ООН, романтически насаждавшего кукурузу и учившего уму-разуму творческую интеллигенцию, — уже американская гражданка Нина Хрущева, — вдруг обрушила свой гнев на свое заокеанское правительство в журнале The Nation (2003. Май). Как так, в сегодняшней Америке нельзя высказываться свободно?!
«Сегодня я задаю себе вопрос: „Куда же теперь податься?“ Те, кто остался в России, тоже в отчаянии — они приветствовали американскую помощь в деле ниспровержения коммунизма только лишь затем, чтобы десятью годами позже увидеть, как Белый дом использует стратегии сродни тем, за которые прежде Америка критиковала Кремль — экспансионистскую внешнюю политику, пренебрежение общественным мнением, пропагандистскую риторику и манипуляции».
О, время подтвердило опасения правнучки партийного вождя. Что значит — быть в тренде? Значит, трындеть согласно текущей конъюнктуре. Еще десяток лет жизни в таких нечеловеческих условиях — и вот уже Нина Хрущева как ни в чем не бывало грозит прадедушкиным кулачком Кремлю, рассказывая CNN (март 2014-го) уже не про «американские несвободы», а про то, что «Россия подавится Крымом». Тем самым Крымом, что подарен с барского плеча советской Украине. Напомнить, кем?
Прадедушкин, если угодно, стиль. Не зря Вознесенский расписался когда-то: «Хрущев восхищает меня, как стилист». Или — «колхозный сюрреалист».
…Вам нравится Запад — по-жа-луй-ста! Я засыпаю от тепла и жалости… («Чат Лунной рэпсодии»)Ирония судьбы в квадрате. Прошлое подмигивает щелочками глаз. Каблучками туфелек — цок-цок.
Здравствуй, дедушка Хрущев.
Ну, или прадедушка.
Ты — ломоть идеализма, территория в умах
Заметив Вознесенского на похоронах Нины Искренко, кто-то записал: был тих, удручен, рука на перевязи. Молодые коллеги не то чтобы злословили, нет. Иронизировали. Иногда глядели искоса.
Вознесенский приходил на похороны к тем, с кем не мог не проститься. Странно, нелепо, — но его появление на похоронах литсобратья, будь они постарше или помоложе, принимали ревностно. А то и злобно — как в девяносто седьмом, на похоронах Владимира Солоухина. «Соло земли» — назвал свое эссе о владимирском земляке поэт. Благодарно вспомнил, сколько раз помог ему в жизни писатель, в чем они соглашались друг с другом, о чем спорили, были справедливы или нет — но всегда оставались друзьями. В статье, посвященной стихотворению Вознесенского «Похороны Гоголя Николая Васильевича», Солоухин как раз «высветил ключевые христианские строки»: «Помоги мне подняться, Господь, чтоб упасть пред Тобой на колени»…
Незадолго до кончины Владимира Алексеевича поэт по-соседски зашел к нему. «Он готовил для печати работу о Белом движении, в ней разбирал мои стихи „Возложите на море венки“. „А ты знаешь, кто эти твои люди были, затопленные в Черном море? Врангелевская армия, русские люди… Так-то вот“… Это были последние его слова, которые я слышал».
После его похорон кто-то из «почвенных» соратников Солоухина в статейках и воспоминаниях нехристиански изольет на Андрея Вознесенского ядовитую желчь, неприличную для скорбящих. Бог им судья, как говорится. Скорбь для православных — все же повод к мыслям примиряющим. Раздумья о вечном и бренном приподнимают над завистью, ревностью, злобой.
Вот и, простившись с Ниной Искренко, поэт будто корку с раны содрал: «Эпоха глухонемая. / Тону. По поэме круги. / Друзья меня не понимают. / А кто понимает — враги»…
На крыше антенка, как скрепка, пришпилит из неба тетрадь. И нет тебя, Нина Искренко, чтоб было кому почитать. («Крестная крестница»)* * *
В 1976 году в «Литературной газете» вышли «Муки музы» — Андрей Андреевич писал о том, как много молодых имен в поэзии и как непросто им пробиться сквозь редуты литчиновников и литиздателей. За полмесяца до того покончил с жизнью молодой поэт Ефим Зубков — и вот, впервые, в статье Вознесенского, его стихи зашуршали прихотливой синтаксической листвой:
девушка, давайте погуляем, голову немного потеряем, поболтаем личного насчет. Мальчики, давайте мыть посуду, не бывать в отечестве абсурду, этот фокус с нами не пройдет.«Выть хочется, — с нескрываемой горечью писал Вознесенский, — когда понимаешь, что этот поэт уж никогда больше ничего не напишет».
В «Муках музы» велся-вился разговор не только о Зубкове — о творчестве молодых Александра Ткаченко, Ольги Седаковой, Алексея Приймы, Алексея Парщикова, Елены Скульской. Годы спустя — став уже обласканным множеством премий мэтром интеллектуальной поэзии — Седакова холодно обмолвилась однажды: было дело, подходила в юные свои лета к Андрею Вознесенскому с рекомендациями от знакомых, чтобы «обратил внимание». Но это вскользь и с интонацией, понятной «для своих»: у нее с поэзией Вознесенского общего — ни-ни! Это понимал и Вознесенский — но вот ведь штука: при этом не стеснялся «обращать внимание» на тех, чья поэзия того стоила.
В той публикации 1976 года Вознесенский не упомянул Искренко. Объяснил потом: «Когда я писал статью „Муки музы“, чтобы высветить имена новой волны: метафориста А. Парщикова, крымского мустанга А. Ткаченко, а затем Ю. Арабова, А. Еременко и других, — я не знал стихов Нины». Но в середине восьмидесятых в Москве появился неформальный клуб «Поэзия», объединивший, кажется, весь андеграунд, многочисленные группы и компании поэтов «новой волны». Организаторы его — Леонид Жуков, Игорь Иртеньев, Кирилл Ковальджи, Евгений Бунимович, Марк Шатуновский. Все были здесь — Гандлевский, Рубинштейн и Пригов, Арабов, Парщиков и Еременко — все были здесь. Был и Запоев, тут же взявший псевдоним Кибиров. Но безусловной, всеми обожаемой «душой нового движения» была Искренко. Клуб и распался — когда простились с ней. «Нина ушла — и праздника не стало», — подытожил Бунимович.
С годами будут появляться разные признания — да, выросли на Вознесенском, знали наизусть, всеми правдами и неправдами проникали на его вечера. Но в 1990-е годы Искренко была одной из немногих, кто мог сказать об этом вслух и утверждать, что время его поэзии совсем не исчерпано.
Об этой странности напишет однажды поэт и исполнитель авторской песни Андрей Анпилов (литературный сайт «Середина мира». 2010. 4 июня): «Я думаю — да так оно и есть — искреннее и последовательнее всех к А. А. относилась Нина Искренко. И статья „Вернемся к Вознесенскому“, и, кстати, независимость манеры от него. (Парщиков, Арабов довольно скоро отдрейфовали ближе к Бродскому)… По некоторой традиции мои ровесники стесняются ушедшего увлечения Вознесенским, как юной слабости. Некоторые сдвигают рубеж разочарования в нем все ближе и ближе к детству»… И тут же откровенно признается: «Можно считать случайностью, что в середине 70-х я не послал, не принес ему стихи. Хотя и никуда и никому не посылал, не нес. Но, если бы решился тогда, — то только Вознесенскому…» Дальше — он вспоминает, как чудесным образом пролез с приятелем в Концертный зал Чайковского, втиснулся на галерку, погас свет, Гарри Гродберг нажал на органную педаль, вышел поэт, возложите на воду венки… «Мы возвращались домой счастливые».
А повод к этим заметкам Анпилова был еще любопытнее. В 2003 году Елена Шварц, увенчанная в ленинградско-петербургской поэтической среде эпитетом «гениальная» (кто не таял от ее строки «о море милое, тебя пересолили!»?), вернулась с вручения премии «Триумф» и огорошила Анпилова признанием: несомненно, Андрей Вознесенский — великий поэт. Надо знать Лену, удивлялся Анпилов, чтобы понимать: врученная ей премия тут вовсе ни при чем. Но как же так, ведь Вознесенский — где-то в прошлом? Столько сил, столько слов потратил кто-то, чтобы его списать в архив, — выходит, зря?
Елене Шварц — страницу за страницей — посвятил немало строк в своих подробных дневниках Юрий Кублановский, ее ближайший многолетний друг. О Шварц писал и говорил не раз очень тепло и Вознесенский. Он же и выдвинул ее на премию «Триумф». Их стихотворный диалог надежно прячется в перекличке метафор. Была у Вознесенского чайка как «плавки бога». У Шварц это уже «птицы — нательные крестики Бога!». У него — «сирень, как пудель, мне в щеки лижется». У нее — «черемуха мятется на ветру, как легион разгневанных болонок»…
Да и окошко в новое столетие прекрасная Елена открыла с тем же созвучным ощущением времени — на грани гнева и отчаяния: «В городе сняли трамвай, / не на чем в рай укатиться, / гнусным жиром богатства / измазали стены. / Седою бедною мышкой / искусство в норку забилось, / быстро поэзия сдохла, / будто и не жила».
Та же горечь у Вознесенского вылилась в «Прощание с книгой»: «Пронеслась Россия с гулом. / Как в туннель, народ мелькнул. / „Русская литература“ называют этот гул»…
«Ежели свобода-дура / в нас осуществит сполна / геноцид литературы — / то свобода ли она?»…
«Ты не только слезы Лизы / среди кризиса бумаг, / ты — ломоть идеализма, / территория в умах»…
— Что такое Дух? — расстроясь, врубит гид по телетуру. — А куда мы сдали совесть? — В русскую литературу.Елены Шварц не стало в тот же год, когда ушел Вознесенский — в феврале две тысячи десятого.
Кублановский видел в ней сюрреалистку. Для футуриста Вознесенского как раз сюрреализм и модернизм XX века, «недобравшего в классике», стал трансакадемизмом, новым академизмом-ХХ. «Этот трансакадемизм „со сдвигом“ закодирован, например, в томах Генриха Сапгира и Игоря Холина. Он подмигивает вывалившимся „последним любимым глазом“ Игоря Иртеньева. В имперских композициях прозы Владимира Сорокина слышны его ритмы. И на Михаиле Жванецком неплохо сидит абсурдистский фрак».
XX век российской истории Вознесенский читал, как палиндром — с черной дырой потрясений в начале века (с 1905 года) и лет за пять лет до конца столетия, с чеченскими войнами и неведомыми прежде наперстками политтехнологий на ельцинских выборах.
Чур меня, сюр!
Глава вторая УСКОЛЬЗАЮЩАЯ СТРЕКОЗА
Вышел на улицу без намордника
«Новейшие пришедшие имена иронически относятся к политическому междусобойчику предшественников, — констатировал факт Вознесенский. — Они серьезнее. Не признают авторитетов. Недавно мне в газете попалась декларация Юрия Цветкова: „К счастью или к сожалению, мы принадлежим к эпохе, когда поэзия — возрастное дело. По моему убеждению, наиболее влиятельные, популярные и большие поэты — Арсений Тарковский, Иосиф Бродский, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина — лучшие свои вещи написали уже после 40… Я все время взываю к именам, которые по отношению к нам находятся где-то через поколение. А каковы же связи с ближайшими нашими предшественниками? Практически никаких“.
Наивно оправдывать конформизм предшествующих поколений, но разве поэты „новой волны“ ответственны за конформизм поколения нынешнего, когда только героические единицы, вроде журналиста Холодова и его друзей, становятся поперек пути победоносной криминальной революции? Я что-то не слышал, чтобы кто-нибудь выступил не абстрактно против темных сил, а против конкретного „авторитета“, когда придется жизнью рисковать».
Чудесным образом поколение шестидесятников в одно мгновение было зачислено в виновные за все беды XX века. Круг «почвенный» копал глубже — чума идей шестидесятничества пошла еще с Серебряного века. Круг «либеральный» рыл с обратной стороны: из-за шестидесятников богатство первой половины XX века уже и оценить никто не в силах. Сходились на шестидесятниках — удобнее не было мишени. Ну нельзя же так: тут миллионы поклонников, за границей — популярность страшная. Обидно. Как же мы? За что боролись?
Одни уверяли, что шестидесятники — антинародные космополиты. Другие — что, наоборот, вместо «служения чистому искусству» продолжают традицию «служения народу», идущую от «демократов-поповичей».
Каждый круг исходит из узенькой морали «для своих». Чем дальше, тем уродливее формы. Рядовая ситуация: извини, дружище Башмет, рад был бы выступить на твоем юбилее — но мой круг меня не одобрит. Командные позиции в культурном истеблишменте окончательно освоили постмодернисты пародийно-абсурдистской партии. Во всяком случае, это постмодернистское течение, по утверждению Седаковой, определяет публичное лицо современной словесности. Смысл «цивилизационной конфронтации» свелся к простой, как палка, антитезе: ложный миф (читай, немытая Россия) — или политкорректный гуманизм (читай, все, что не Россия).
Позвольте, чем же скудоумие постмодернистов отличается от скудоумия советских догматиков? Или от скудоумия буржуазности, возведенной в общественный идеал? Да ничем. Скудоумие, при всем разнообразии оттенков, останется лишь скудоумием.
Революционный модернизм XX столетия родился как ответ зажравшемуся обществу, потерявшему остатки совести. Из модернизма вышли в мир и Джойс, и Хлебников, и Стравинский, и Аполлинер, и Арагон, и Сартр, и Шостакович, и Пикассо, и Маяковский, и Кафка, и Дали, и Хармс, и Пастернак… И, конечно, Вознесенский. Футурист Родченко иллюзий не питал: все, что мы делали — уверял — никому не было нужно.
К концу столетия модернисты, по словам Андрея Вознесенского, сами стали «академистами». Модернистов, нигилистически подхихикивая, отменили постмодернисты — растащив, по меткому наблюдению Соломона Волкова, их наследие по кусочкам, обглодав до косточки. Ну да, не гении — но по-своему неглупые. Искусство объявлено закрытым клубом «для своих» — критиков, кураторов, советников арт-фондов, избранных олигархов и статусных чиновников. В чем «гениальное» открытие постмодернизма: всяк, кто не в клубе, — смерд. Любой, кто скажет «а король-то голый» — просто недоучка. Ты либо делаешь искусство «для своих» — оно же отныне «истинное искусство». Либо… Публика, так называемый «народ»? Если «не догоняет» — пусть хлебает лаптем свои постные щи.
Постмодернистское стремление перечеркнуть Андрея Вознесенского понятно. Поэт зачем-то приблизил высокое искусство к «широким массам», сделал все, чтобы «заумный авангард» был ясен и востребован не только «своими, рукопожатными». Куда ж деваться прозелитам «высоколобости для посвященных» — на этом фоне? Для кого-то из них и болезнь поэта, превратившая последние его годы жизни в мучительное чистилище боли, — стала поводом для отвратительных ухмылок и выпадов. Вознесенский цену себе знал, но как личность подлинно крупная — умел посмеиваться над своими бедами: «Старый корвет — / самый юный и модный / тысячу лет. / Вышел на улицу без намордника / старый поэт»…
Где моя вера, шар из финифти?
Слово в зените через запрет? Новые русские, извините, я — старый поэт. («Новый поэт»)Не вычеркивается поэт Вознесенский, и все. В постперестроечные времена кому только не доставались литературные премии — и имен теперь не вспомнишь! Вознесенского эти жюри и комитеты обходили старательно. Но газеты отдавали ему целые страницы — не только из почтения к имени. Исчез бы его читатель — никто бы не печатал. По-прежнему книги его стоят на книжных полках — и по-прежнему среди иных бестселлеров именно он нарасхват.
* * *
У поэта и драматурга Юрия Арабова — он частенько появляется на вечерах, посвященных Вознесенскому, — всякий раз из рукава извлекается очередная искрометная история. То о продюсере Бубликове из Одессы, который пытался «стричь моржу с поэта» и уговорил в начале 1990-х Вознесенского как-то поделиться правами на «Юнону и Авось». Андрей Андреевич, на взгляд Арабова, в коммерческих делах наивен был, как дитя.
То вспоминает Арабов, как Искренко спросила: «Андрей Андреевич, у вас есть друзья?» Тот отвечал: «Что за вопрос! Откуда у поэта могут быть друзья?!»
Или еще история от Арабова — про то, как Нина собрала собратьев поэтических — ехать в Прибалтику: там будет Вознесенский, он должен символически передать эстафету молодым поэтам. Долго ждали на сцене, читали свои стихи. Андрей Андреевич опаздывал, потом примчался наконец взъерошенный, тоже читал стихи и опять куда-то умчался. А как же эстафета? А эстафету передать так и забыл. В воспоминаниях Арабова ни капли злости — рассказывает он тепло и весело. Арабов, надо сказать, помнит, скольким молодым поэтам Вознесенский старался помочь — и, вот ведь штука, помогал.
Об этом же напишет и поэт Олег Хлебников. Правда, с осторожной оговоркой. Вспоминая его молитвы — «Пошли мне, Господь, второго», говоря об эстетическом одиночестве и о том, как хотелось Вознесенскому утвердить свою поэтическую школу, Хлебников заметил: «Кого только он в нее не принимал! Петр Вегин, Александр Ткаченко, Алексей Прийма, Алексей Парщиков, Нина Искренко… Дошло аж до Константина Кедрова. Увы, учителя в этой школе никто не превзошел, и, значит, „второй“ не появился».
Как и многие, Олег Хлебников не забыл времена, когда «покупал книжку у спекулянтов на черном рынке на Кузнецком мосту Вознесенского, шел с этой книжкой и был просто счастлив». Как когда-то послал из своего Ижевска стихи в «Комсомолку», в клуб для подростков «Алый парус», которым командовал Юрий Щекочихин. Стихи попались на глаза Вознесенскому — он попросил, чтобы юный автор позвонил. Тот позвонил — дело было в 1973 еще году — и с тех пор всякий раз, когда Хлебников к нему приезжал, мэтр трогательно старался накормить обедом юношу.
Хлебников учился на физмате — и разговоры с ним Андрей Андреевич вел не об одной лишь литературе, а о теории размытых множеств, к примеру (тема диплома и диссертации Хлебникова). «Он был человеком очень „инновационным“ еще тогда, когда и слова этого в обиходе не было».
Есть у Хлебникова и своя живописная история про Вознесенского. «В разгар перестройки Андрея Андреевича посетила такая простая мысль: вот они-то с Евтушенко и Ахмадулиной в свое время получили возможность покорять Запад, а нынешние молодые — увы… И он поспособствовал поездке в Данию на Всемирный фестиваль искусств делегации, где наряду с мэтрами (кроме него были Ахмадулина и Битов…) присутствовали тогдашние „молодые“ — Иван Жданов, Марина Кудимова, Алексей Парщиков, Александр Еременко и ваш покорный слуга. Всем нам в Дании издали книжки — первые на нерусском языке, все выступления — в театрах и университетах — вел глава делегации Вознесенский. Так что спасибо вам, Андрей Андреевич!» (Сноб. 2013. Май).
Как захлопала в ладоши королева Дании, услышав знаменитое «Я — Гойя!». Хлебников, сидевший на сцене рядом с Ахмадулиной, прошептал ей на ушко эпиграмму Виктора Некрасова: «Нет, ты — не Гойя, ты — другойе». Оба бежали со сцены, еле сдерживая смех. Не обиделся ли Вознесенский? Ну, во-первых, он ничего не услышал. А во-вторых, никогда и не ощущал себя памятником.
В той же поездке, после выступления в знаменитом датском музее «Луизиана», вся делегация прямо в нем же и заночевала — между скульптурами Генри Мура. Хозяева выдали спальные мешки. Ночью Хлебников увидел, как Вознесенский бродит по залу среди скульптур. Обнаружив, что и Хлебников не спит, — вздохнул: «Правда, жалко, что никогда уже не стать скульптором?!»
Хлебников поселился в Переделкине, стал соседом — по одну сторону от дома-музея Пастернака Андрей Андреевич, по другую он. Пытался «случайно» свести у себя дома Вознесенского с Евтушенко. Не с первой попытки, но все же удалось — и руки пожали друг другу.
Последний раз соседи виделись в день рождения Вознесенского — 12 мая 2010 года. Гости шутили про две юбилейные семерки, порхала хозяйка, Зоя Борисовна. Вознесенский сидел в беседке у дома, слушал, улыбался, радовался каждому.
Не измельчала ли нынче поэзия, остались ли в ней подобные фигуры? — кто-то спросит у Хлебникова после похорон Андрея Андреевича. Он ответит элегантно: «Страсти, может быть, нешуточные, — но мелковатые. Тогда крупнее даже врали и верили».
И вдогонку: «Кажется мне, пройдет какое-то время, и поймут, насколько крупное в поэзии явление Андрей Вознесенский, даже иные снобы, не понимающие этого сегодня».
Стрекозы стрекочут
На пороге XXI века Вознесенский всматривался в даль эпохи, вспоминая великого тезку Хлебникова — Велимира, Председателя Земшара: «Мы — нищие брюхом. / Как все погоря, / живу не в эдеме. / Но Хлебников нынче — / ясней букваря. / Пришло мое время»…
Меня, как исчезнувшую стрекозу, изучат по Брему. Ну что на прощанье тебе я скажу? Пришло мое время. («Мое время»)* * *
Тут пришло время сказать несколько слов о «Добровольном обществе охраны стрекоз» (ДООСе).
ДООС тихо маячил в столичном поэтическом водовороте еще с восьмидесятых. Константин Кедров в этом обществе именовался «стихозавром», среди «стрекоз» была его жена, поэтесса Елена Кацюба. В начале девяностых ДООС оживился. К «стрекозам» подались и поэты, и рок-музыканты: Генрих Сапгир, Игорь Холин, Алексей Хвостенко, позже — Сергей Летов и Найк Борзов. Каждому доставался свой титул. Вознесенскому в 1998 году пожаловали «стрекозавра».
А начиналось всё так. Однажды майским днем в конце семидесятых на переделкинской даче у родителей Ольги Свибловой, жены поэта Алексея Парщикова, собрались его приятели, Иван Жданов, Константин Кедров, Александр Еременко, — тогда Кедров и произнес слово «метаметафора». Звучало гипнотически. Немного погодя уже всяк в кедровский ДООС входящий произносил слово «метаметафора», трепеща, как какой-нибудь мудрец Маркандея, тосковавший по деревне Самбхала, из которой выросла воображаемая страна Шамбала с ее чудесным королем Сучандрой.
Все-таки что за метаметафора? Сам Кедров, вполне в духе известного всем бога Вишну, объяснял, что «метаметафора — это обретение человеком нового метафизического пространства».
У Кедрова встречаются отсылы и к трудам Павла Флоренского, но было в этом и что-то явно индуистское. Еще одно его определение метаметафоры: «обратная перспектива в слове», выворачивание или инсайдаут. «Человек это изнанка неба. Небо это изнанка человека». На этот счет можно напомнить: тот самый мудрец Маркандея как раз спасся от Всемирного потопа у Вишну в животе — там, в изнанке, он увидел все миры, семь сфер и семь океанов, и все живое и сущее в них. А после этого — чего уж удивляться, когда Кедров уверяет, что «попытался представить жизнь без метаметафоры и понял, что такая жизнь просто не существует». Возможно, Кедров тоже прячется у Вишну в животе. И потому одно из сладостных его воспоминаний — как Вознесенский позвонил ему однажды по мобильнику из Индии, стоя у древа Будды.
Пародируя Кедрова, Андрей Андреевич посвятил ему строки: «Мысль — это константа Кедрова. Кедров — это константа мысли». Общество стрекоз приветствовало чистые, незамутненные эксперименты с языком. В девяностые годы, в эпоху возбужденного безверья и зверья, такая ниша казалась очень уютной. В 1995-м ДООС стал издавать «первый поэтический альманах, выпускаемый без посредников самими поэтами». За десять лет вышло 20 номеров «журнала ПОэтов» или просто «ПО». Вознесенский присутствовал в каждом номере — бесспорно, его имя прибавляло изданию значительности. Ему вообще нравилась вся эта поэтическая игра со стрекозами. Другое дело — что тоже бесспорно, — он не умещался в этих рамках, был крупнее, масштаба другого.
Кедров рассказывает — кажется, с недоумением — что видел, как у Вознесенского текла слеза, когда он говорил о распадавшейся и разлагавшейся стране. Присутствие слезы излишне в кедровской константе.
Из рассказа Константина Кедрова, метаметафориста (лето, 2013)
Кедров, он же Кедров-Челищев, говорит о дружбе с Вознесенским. Константина Александровича действительно нередко видели рядом с Андреем Андреевичем. Кедров, человек, безусловно, талантливый, влюбленный в игры со словами, о Вознесенском и писал, и говорил всегда восторженно. Но, как ни странно, десять параграфов из этого его рассказа «о дружбе» вдруг делают объемнее портрет безысходного одиночества Андрея Вознесенского — эстетического и личностного.
Скрымтымным гуляет между строк? Или странность — в акцентах, интонациях рассказчика? Пусть внимательный читатель разберется сам. С одной лишь нашей оговоркой.
Если какой-нибудь неискушенный читатель вдруг решит, что ниже следует рассказ великого поэта Кедрова о литсобрате Вознесенском, — уточняем: нет-нет, это только кажется. Это как раз воспоминание литсобрата Кедрова о великом поэте Вознесенском. Десять ключевых параграфов:
§ 1. «Андрей очень просил нас с Парщиковым о встрече, и мы приехали к нему на дачу.
Это был 1985 год, как раз я был отстранен от преподавания в Литинституте и на меня было заведено дело, где я проходил как „Лесник“, — за „антисоветскую пропаганду и агитацию с высказываниями ревизионистского характера“. Зоя достала конфеты и все такое, очень тепло нас принимала… Андрей устроил Парщикова через критика Михайлова в Лит-институт, а у меня вышла в „Литучебе“ статья „Метаметафора Алексея Парщикова“ — единственное, что мне удалось напечатать. Ему понравилось, что я поддержал… Тогда он нас и попросил приехать. Мы познакомились, ну, человеческой дружбы тогда еще не было, но была дружба действительно поэтическая».
§ 2. «Знаете, Вознесенского ведь забыли к тому времени. Посмотрите прессу до 1992 года — Андрея нет. А тут я стал лит-обозревателем в „Известиях“ — и первым делом говорю Голембиовскому (главному редактору): „Так, будет интервью с Андреем!“
А Голембиовский человек противоречивый. „Мы стихов не печатаем“, — играет желваками. Но интервью-то можно? И напечатали. И вот тогда об Андрее потихоньку стали вспоминать!
Правда, путали его с Рождественским и с Евтушенко. В какой-то телепрограмме ведущая объявляет: „А теперь я хочу вас познакомить с поэтом, которого не надо представлять, его все знают, Андрей Рождественский!“ Ей кто-то подсказал в наушники — исправилась: „Ой, простите, пожалуйста!“
Я Андрею потом говорю: „Ты привыкай, у всех поголовно Рождественский, Евтушенко и Вознесенский слились в одного“. Да и потом, конечно, Рождественский был в сто раз популярнее».
§ 3. «Есть такая поэтесса неплохая Ирина Путяева. Где-то в восемьдесят девятом году она зажглась идеей провести вечер с Вознесенским и другими поэтами. Короче говоря, Андрей согласился — но только с условием, что будет со мной вместе, вдвоем, сидеть на сцене.
Андрей говорит мне: давай назовем вечер — „Минута немолчания по ненапечатанным стихам“. Зажгу большую свечу Пастернака, погасим свет и все закричат: „А-а-а-а-а!“ Я говорю: „Ну, Андрей, ты немножко преувеличиваешь“… Но он так уговаривал: „Ну давай попробуем, давай“…
Получилось, правда, потрясающе. Там, естественно, все поэты были, Парщиков, Еременко, Жданов, Кутик — ну, это все мои бывшие студенты…»
§ 4. «Был в Париже в 2005 году русский книжный салон. Меня, как всегда, из всех списков вычеркнули. Ехал кто угодно, только не я. И Андрей тоже с Зоей поехал.
Тогда мне поступило приглашение от Министерства иностранных дел Франции… Короче говоря, мы с женой Леной прилетаем совершенно отдельно на книжный салон, нас никуда не приглашают и мы выступаем совершенно отдельно в Сорбонне. И тут мне звонит поэт Миша Бузник: „Струве очень просит прийти к нему. У него должен выступать Вознесенский, но Вознесенский сказал, что выступит при одном условии — если я там же буду“.
А я знаю, что Струве очень плохо ко мне относится — я же полемизировал с Солженицыным, когда он выступал заодно с коммунистами против частной собственности. Я не выдержал и написал статью „Понятна только боль“, на которую, по-моему, Наташа Солженицына и сейчас еще обижается… Но, раз Андрей просит, мы с Леной приходим туда, в лавку Никиты Струве (он же директор издательства ИМКА-Пресс).
Струве очень обрадовался, говорит: „Замечательно, что вы пришли, я теперь спокоен за вечер!“
И тут я начинаю соображать, в чем дело, — мы уже слышали, что Андрюша упал, разбил себе голову на приеме у Ширака. Париж — это ж маленькая деревня, все узнаешь в секунду. И вот мы ждем Андрея — нет, нет, нет… И вдруг появляется — боже мой, на голове какая-то вязаная шапочка, глаза полузакрыты, Зоя его тащит на себе. Ну, естественный порыв — видишь родного человека, бросаешься к нему…
А Зоя потом расскажет: „Бросился наперерез телекамерам!“ Да откуда там телекамеры, такая комнатушечка — я даже не видел там телекамер!»
§ 5. «Конечно, у Андрея был Паркинсон. Как же не Паркинсон! При Паркинсоне усиливаются творческие способности, а у Андрея в последние годы жизни именно так и было.
Одна из гипотез насчет его заболевания — это когда на него набросился Хрущев. Его ведь рвало три месяца, говорят, что это на нервной почве. Ранимый он, конечно, да, но у меня есть некоторые сомнения — не траванули ли они его тогда?
Потом, в девяностые годы, когда на него набросилась стая собак в Переделкине, ему же делали прививки, неизвестно еще, что это за прививки, некачественная могла быть сыворотка…»
§ 6. «Понимаете, в нем, как и во всяком человеке, и плохое, и хорошее перемешано, но в нем было еще какое-то примиряющее начало. Умел он как-то все примирить. Единственное, что ему не удалось, — примирить Зою со мной, никакими силами. И так и этак. Что-то такое странное. Когда меня выдвинули на Нобелевскую премию, она позвонила и спрашивает у меня: а кто меня выдвинул? Да откуда же я знаю! А также Битов в ПЕН-клубе (он президент) смотрит волком, видимо, считает, что ему… Зубами цыкает и копытом бьет. Вот он сейчас письмо написал — Фазиля Искандера на Нобелевскую премию. С ума они, что ли, сошли? Они ведь и тогда, узнав о том, что я номинирован, накатали письмо в Нобелевский комитет, что они выдвигают Беллу Ахмадулину (она была вице-президентом), Андрея Вознесенского (он был вице-президентом) и Битова…»
§ 7. «С Андреем вот какая история — его никто не знает, не читали ничего. Что там между „Девочкой в автомате“ и „Миллионом алых роз“ — ничего не знают.
Наше дело рассказывать, просвещать, показывать эти замечательные образы, метафоры… Правда, тридцать процентов населения все равно метафору не воспринимают. Никакую. Допустим, „вслед за мной на водных лыжах ты летишь“ — и то не поймут.
Я как-то спросил: „Андрюша, а вот этот ‘Миллион алых роз’ — это ведь по новелле Паустовского?“ Он говорит: „Д-а-а-а-а, но, если бы ты знал, сколько же я заработал и как сложно мне было потом эти деньги потратить!“».
§ 8. «Что сказать об аксеновском романе про шестидесятников „Таинственная страсть“? Лабуда, там половина, видимо, написана не Аксеновым. Это как в „Докторе Живаго“ — какие-то места написаны, на мой взгляд, не Пастернаком, а Ивинской. Так и тут. Что-то такое про особую любовь к жене. Иногда до тошноты. Ну хорошо, Аксенов женился на дочери посла, любимце Андропова. (На самом деле отец Майи Аксеновой, Афанасий Андреевич Змеул, послом никогда не был. Бывший фронтовик, он руководил внешнеторговым объединением „Международная книга“. — И. В.) Тошнит ото всего. Мы с Любимовым это обсуждали. Юрий Петрович сказал мне: „Правда, гениальная книга?“ А я ему: „Графоманство полное“.
Я никогда не забуду — в клубе встреча у Аксенова была с читателями. Москва, середина девяностых. „Африке надо помочь, сама она уже не поднимется!“ Американец приехал…»
§ 9. «В Андрее, видимо, через страдание, через боль, стала высвечиваться святость какая-то. Он не мог пропустить ни одного моего дня рождения, обязательно звонил и обязательно какие-то слова находил. Два стихотворения посвятил мне, „Демонстрацию языка“ и второе он написал прямо во время прямого телеэфира, когда он был вместе со мной в студии, — это одни из лучших его стихотворений. Ну и то, что он позвонил мне в девяносто восьмом году из Индии, из-под дерева Будды, по мобильнику, — это он, как я теперь уже понял, исцеления искал от нарастающей болезни. Мы все в первую очередь только о себе думаем, а у него стало появляться вот это что-то такое святое… потому что, ну что там говорить…»
§ 10. «На панихиде я сидел в первом ряду. Вдруг от гроба Андрюши поднимается пушиночка, а в зале ЦДЛ сцена большущая и до первого ряда довольно большое расстояние. Поднимается эта пушиночка, и я сразу понимаю, что это какая-то весть от Андрея. Она некоторое время кружит там, над гробом, и потом плавно-плавно так от гроба в прямом направлении летит, летит, летит сюда. Зуев Женя сказал: „Мы видели“. И Лена, жена, при всем своем скептицизме, тоже: „Что же это такое!“».
* * *
Что тут сказать? И надо ли? Все очевидно: рассказчик будто хочет убедить себя и всех, что он равновелик герою воспоминаний. Если же объективно посмотреть, при всем почтении к таланту и остроумию Константина Александровича, — не равнозначен. Масштаб немножечко другой. Вознесенский — поэт как минимум общенациональный. Даже если его, как друга, можно было похлопать по плечу. А что касается пушинки… Оставим этот знак «пушинковедам» будущего.
Вернемся к Вознесенскому, так незаметно заштрихованному в тень кедровой рощи. Вспомним из античной мифологии, сколько Ахиллесов в кровь истерли ноги, безуспешно догоняя черепашку? Известно, что на этот счет сказал старик Зенон Элейский. Так будет бесконечно, и Ахилл никогда никого не догонит, и стрела не долетит в пространстве никуда, потому что застыла во времени.
Большой поэт — как черепашка. Кажется, близко, а понять и постичь — не дано Ахиллесу, как бы он ни был мускулист.
Поль Валери в своем «Морском кладбище» воспел Зенона элегически: «О солнце! На мою душу падает тень черепахи, / и Ахилл неподвижен в своем быстром беге».
У Вознесенского все не так, нет и в помине мраморного холода. Здесь ворожба иного рода. В его космическом стихотворении 1998 года плывут монады Лейбница: «Есть в хлебном колосе, / в часах Медведицы — / не единица скорости, / а единица медленности». Кайфуют фуги и Конфуций. Космос открывается тому, кто знает возмутительные радости земной любви. «Смысл — в черепахе, / не в Ахиллесе»…
И нечто схожее в любви имеется — не в спешке скорости, а в тайне медленности.Безрадостиженщина
Однажды, в 2014 году, вручая премию «Парабола», неожиданно смущенный и уже седой, сопредседатель Фонда имени Вознесенского и солидный бизнесмен Леонид Богуславский расскажет, как едва ли не полвека назад, двенадцатилетним, он стал жить в семье поэта. Непросто было, заметит он: ребенку задавалась слишком высокая планка. И Вознесенский, и Зоя Богуславская — личности яркие, крупные, в глазах ребенка просто небожители.
Как многие дети, в школьные годы Леонид Борисович воодушевленно пытался складывать рифмованные строки. Быстро понял, что поэзия не для него, — пошел по математической части, потом стал доктором наук, потом — совладельцем «Яндекса», «Озона», возглавил совет директоров ru-Net Holdings. От поэзии далековато. В 2008-м Вознесенский напишет удалые стихи, посвященные Л. Б. Про их «мальчишник», посиделки в ресторане: «Еще водочки под кебаб! / Мы — эмансипированные мужчины / без баб».
Устаешь от семейной прозы. Мы беспечны, как семечек лузг. Без вранья люксембургской Розы — люкс!Сходились на том, что «наша жизнь — безрадостиженщина». Но присутствие в ресторане «восьми длинноногих телок без мужиков» кончается задорно: «„На абордаж“ — пронеслось над пабом. / Все рванули на абордаж. / И стол, принадлежавший бабам, / ножки вверх! — полетел на наш». Словом, «эмансипированные мужчины» с возрастом легче находят общий язык.
Я бездарно иду домой: все одежды мои развешаны. Пахнет женщиной распорядок мой. И стихи мои пахнут женщиной…Глава третья Я БЫЛ ЗАКЛИНЕН ТОГДА НА ЖАКЛИН
Бабочка, оставшаяся без хозяйки
Звонок. Волков берет трубку.
— Кто говорит?
— Жаклин Онассис.
— Не смешно, — Волков бросает трубку.
Опять звонок.
— Нет-нет, я правда Жаклин Онассис. Запишите мой номер — перезвоните, если хотите.
Так и познакомились.
Кто такой Волков? Соломон Волков — историк культуры, музыковед, автор многих книг, родившихся из его диалогов — с Шостаковичем, Баланчиным, Бродским… С Вознесенским Волков был в добрых, приятельских отношениях с давних времен, еще до того, как перекочевал в Нью-Йорк.
Кто такая Жаклин Онассис? Женщина-загадка. Вдова президента США Джона Кеннеди, вдова греческого миллиардера Аристотеля Онассиса. Головокружительная, судя по всему, особа. При чем тут Вознесенский? Вознесенский был ее близким другом — это все, кому надо и не надо, знали.
Насчет особенностей эстетического кругозора политических элит — что наших, что заморских — Вознесенский давно уже не заблуждался. Над Рейганом, к примеру, посмеивался — когда тот легко болтал о пиджаках и «плыл», как двоечник, в вопросах литературы. И только братья Кеннеди — особый случай в биографии Андрея Андреевича. Роберт Кеннеди с невиданной настойчивостью слал телеграммы советским властям — когда не выпускали Вознесенского в Америку. Написал предисловие к его книге стихов и даже что-то перевел. Следом и младший — Эдвард Кеннеди — будучи с визитом в Москве, побывал в гостях у поэта, а позже написал свое предисловие, и в сборнике Вознесенского оно красуется рядом с предисловием Одена. Отчего Вознесенский был так пристрастен к Кеннеди? Стоит ли гадать, когда поэт все объясняет сам — за полгода до смерти:
Что был я для них? Опальный тимуровец. Я был заклинен тогда на Жаклин. И что говорила мне женщина, жмурясь, Казалось, я понимал один. («До свидания, Тедди Кеннеди»)Так вот, Жаклин Кеннеди-Онассис, познакомившись с Соломоном Волковым и издав его книгу, стала позванивать ему — консультироваться. Бывшая первая леди Америки теперь служила в издательстве Doubble Day. Однажды огорошила Волкова странным вопросом. Рудольф Нуреев ей сказал, что самый знаменитый русский поэт — Сергей Есенин. Неужели он так же знаменит и прекрасен, как Вознесенский? Волков стал объяснять, что эти поэты разные, как яблоко и апельсин. Хотя у имажиниста Есенина тоже были яркие метафоры… Словом, метафорическое мышление больших поэтов роднит. И вот еще: конечно, популярность «Миллиона алых роз» ничуть не уступает самым знаменитым есенинским стихотворениям. Это успокоило Жаклин.
По словам Волкова, она была редактором волшебным, и если бралась за издание книги, — делала это блестяще. Подчеркивал и еще одно удивительное обстоятельство: «Она была, прежде всего, франкофилка, будучи француженкой по своим дальним корням. Но, помимо этого, она была невероятная русофилка. Искренне интересовалась и любила русскую культуру. Когда был еще жив Джон Кеннеди, они же приглашали в Белый дом и Баланчина, и Стравинского. И Баланчин был от нее без ума, сравнивал ее с императрицей, вроде Екатерины, покровительницы искусств».
Может, потому и все семейство Кеннеди было особенно внимательно к приезжим русским гениям? Майя Плисецкая в своей книге подробно описала, как вокруг нее порхал Роберт Кеннеди. И Жаклин, между прочим, предлагала ей тогда же чек на миллион — только останься…
Неслыханное дело для жены американского президента — любовь к русской культуре. Но Жаклин «прощали» всё и любили. То ли за ее обаяние. То ли за безупречность стиля. Вот и Волков подметил: «У нее голос такой мягкий, кошачий. И в отношении книг — у нее было то, что американцы называют magic touch, волшебное прикосновение».
Мог ли поэт Вознесенский остаться равнодушным к Жаклин Кеннеди и ее волшебному прикосновению? Она открыла заново писательницу Нину Берберову — стала издавать ее в английских переводах. Опять-таки — звонила Волкову, чтобы узнать его мнение о бывшем муже Берберовой — поэте Ходасевиче. Кто обратил ее внимание на эту писательницу, неизвестно, но первая книга Нины Берберовой, изданная у нас в начале девяностых, — «Железная женщина» — вышла с предисловием Вознесенского. Поэт писал о Берберовой и в эссе о роковых «Судьбабах». И встречал ее — когда она приезжала в перестроечную Москву.
Таких невидимых и тонких нитей, связывавших любопытную к жизни Жаклин с поэтом, — немало. Евтушенко, было ли, не было, красочно расписывал истории о поцелуе Мерилин Монро, о голой Марлен Дитрих на его столе — и о Жаклин он тоже рассказал со всей солдатской прямотой: был у нее в гостях и в ванной комнате увидел — сушатся чулки. Да-да, заверила хозяйка Евгения Александровича, каждая женщина должна уметь стирать свои чулки. Андрей Андреевич, напротив, даже если и было что поведать миру, подходил к вопросу деликатнее: «Ах, как цвели яблони на балконе американского небоскреба за окнами Жаклин…» Может, потому и Жаклин с Вознесенским была более откровенна, нежели с кем-то другим.
Судя по обрывочным клипам-воспоминаниям, виделись они часто, в самых разных местах. Как-то поэт обмолвился, что Джеки, как называли в обиходе Жаклин, прилетала на его выступления в Европу: есть, мол, даже фото ее на концерте. Знакомая американка, Мила Лось, припомнила, как Вознесенский взял ее с собой на светский раут к Татьяне Яковлевой, возлюбленной Маяковского, — и там в углу на коврике сидела в джинсах Джеки. Как-то Вознесенский говорил, что виделся с Жаклин Кеннеди у ее подруги, художницы Татьяны Гроссман — в одноэтажной мастерской на Лонг-Айленде. Там он занимался литографией вместе с именитым Робертом Раушенбергом. У Татьяны Гроссман было свое издательство — Вознесенский вместе с мужем Яковлевой Алексом Либерманом «сотворили в Танином издательстве метровую по формату книгу-стихотворение „Ностальгия по настоящему“ в металлической обложке. Книгу-великаншу раскупили музеи и коллекционеры…». Возможно потому — и тут можно усмотреть какие-то связующие ниточки — спустя годы Жаклин Онассис так увлеченно окунулась в издательское дело.
Когда Вознесенский занялся видеомами — и Джеки проявила к этому интерес. Однажды в отеле «Челси» поэт поселился в «знаменитом номере 822», славном уникальным древним камином из белого мрамора с медной инкрустацией. Андрею Андреевичу камин навеял мысли об Иване Баркове: «Классик российской словесности среди нравов современности видится наивным со своим патриархальным и целомудренным порно». Вознесенский «объездил уйму антикварных лавок и секс-шопов, пока не нашел в Виллидже, на Кристофорстрит, в лавочке под мистической вывеской „Абракадабра“ симметричное подобие призрака. Полдня сусальным золотом я выводил на мраморе строки поэта…». Видеома иллюстрировала известное предание о том, что «Барков скончался, залезши с головой в камин, выставив наружу свой голый фундамент, с воткнутым в него последним стихотворением. Изумленные лакеи, крестясь, развернули последние стихи барина: „Жил грешно, да и умер смешно“».
Посетители его номера в «Челси», по словам Андрея Андреевича, спорили об огненности цвета: что предпочтительнее, королевский пурпур или торжественное червонное золото. Среди посетителей была Жаклин Онассис, и не только она: были и историк Артур Шлессинджер, и художник Валерио Адами, причем с семьями. Искусствовед Джоан Бак интересовалась, как Андрей Андреевич вывезет камин. Вознесенский и не собирался: в Переделкине у него был другой камин, кирпичный, попроще.
* * *
Первая выставка «Видеом» состоялась в ноябре — декабре 1991 года в нью-йоркской галерее «Спероне-Вестуотер». Жаклин выставка настолько понравилась, что она готова была все немедленно скупить… Но дадим слово самому поэту:
«Жаклин, уже не Кеннеди, а Онассис, была для меня одной из самых дорогих и необходимых мне фигур западной культуры. Рафинированная европейка, со звездностью и безошибочностью вкуса, она бывала на моих вечерах, когда находилась в Нью-Йорке.
Россия была ее страстью. Она выпустила альбом „Русские костюмы“. Во время распада нашей страны сказала мне: „Россию растащат, как свою добычу, соседние хищные птицы“… Я еще тогда не понимал этого, но она, иностранка, чувствовала.
…Я ей подарил свой видеом „Бабочка Набокова“, которую она хотела купить на выставке. Собиралась вставить эту бабочку в стекло своей квартиры на Пятой авеню, чтобы сквозь нее был виден Центральный парк. Потом разрешила мне свозить эту бабочку на выставку в Париж, а затем в Москву, на мою выставку в Музей имени Пушкина. Когда я привез в Нью-Йорк отдавать ее, бабочка, увы, прилетела на похороны хозяйки.
Отпевали Жаклин, первую леди Америки, в нью-йоркском соборе. Тед Кеннеди говорил надгробную речь. Он был подавлен, с набрякшими подглазьями. Меня поразило, что в речи он нашел нужным пошутить. Несмотря на то что на отпевании были только близкие, любящие Жаклин люди, церковь грохнула от хохота. Я недоуменно спросил у соседей: „Почему?“ — „Это ирландский обычай, — ответили мне. — Там положено, чтобы на похоронах было веселье“.
Бабочка так и осталась у меня. Квартиру на Пятой авеню, кажется, продали. Любимица Жаклин все равно бы осталась без места жительства. Осыпая пыльцу, она летела обратно через океан».
…И вновь небеса озарятся мозаикой. Над далью долиной горит газолин. Бабочка, оставшаяся без хозяйки, Стала бабочкой Жаклин.* * *
«Как-то я спросила его <Вознесенского> по поводу какой-то рифмы, и он ответил мне, что в любви и поэзии можно все», — вздыхает Инна Богачинская. Трепетное отношение к Вознесенскому она лелеет в себе, как младенца. Познакомили ее, одесситку, с поэтом еще в Москве. «Вы — гений», — честно сказала она. Он согласился. Потом описал это знакомство в «Аксиоме самоиска». Инна просила взглянуть на ее стихи — он отвечал, что «рад этим ее „улитке или бесконечности“, „колготкам на Голгофе“ и ее порыву». Она перебралась в Америку, при случае помогала Андрею Андреевичу. Он отвечал взаимностью — однажды даже позвонил Андрею Седых, бывшему литсекретарю Бунина, возглавлявшему эмигрантское «Новое русское слово»: что за цензура, мол, у вас мешает напечатать стихи Инны Богачинской. Редакция была ошарашена и напечатала один стишок.
Вот что вспоминает Богачинская:
«Самым, наверное, ярким на моей памяти было выступление Вознесенского в Вашингтоне, в Театре Форда, которое я помогала организовать. Вечер был закрытым, исключительно для политической элиты. Подготовка потребовала невероятных трудов. Я тогда работала в Рокфеллеровском университете. Мои коллеги недоумевали: мне постоянно звонили известные писатели, поэты, звонили из Госдепартамента и из семьи Роберта Кеннеди. К счастью, мой босс, профессор, был приятным человеком и закрывал глаза на то, что на работе я занималась делами Вознесенского. Только попросил пригласительный билетик — и приехал, хотя от Нью-Йорка до Вашингтона почти шесть часов езды.
Что же касается Джеки Кеннеди, они очень тесно общались — и Андрей Андреевич гордился дружбой с ней. Был, например, однажды случай — когда они вдвоем пришли в Музей современного искусства — знаменитый нью-йоркский МоМА — и администрация тут же вежливо выпроводила всех посетителей, оставив весь музей в распоряжении этой почетной пары. Они ходили по музею одни, держась за ручки, и болтали…
При всем при том, когда я его спрашивала о России, он отвечал: „Мир сейчас разъеден метастазами, но меня беспокоит, конечно, больше всего происходящее в России. Разрушаются какие-то внутренние основы. Торжествует криминал. Но там — и страшная энергия распада, и одновременно всегда есть энергия животворная. Все время хочется жить там. Жизнь сумасшедше интересна — именно в России“».
* * *
К слову, на похоронах Жаклин Кеннеди-Онассис произнес речь тогдашний президент США Билл Клинтон. Это дало повод некоторым умникам позже провести историческую параллель: Клинтона роднит с Джоном Кеннеди одно обстоятельство — и у того, и у другого были «романы» с практикантками Белого дома. Жаклин обожала первого супруга — но кто бросит в ее сторону камень, заподозрив, что она не отвечала Джону взаимностью даже в таких малостях, как увлечения из романтических побуждений?! Во всяком случае, известно о ее симпатии к голливудской звезде Уильяму Холдену и основателю компании Fiat Джанни Аньелли… Чем для Жаклин оказался так привлекателен поэт Вознесенский? Разгадывать потемки женской души — пустое дело. Но женщины, бесспорно, ценят тех, кто при внешнем обаянии, при всех метаниях, сомнениях и мягкости, создан из цельнометаллического сплава.
Тех, кто готов все променять на комфортный быт Америки тьмы, тьмы и тьмы. Но вот бывают все же модернисты — со старомодным чувством родины. (Да-да, эта антикварная реплика — про то, что не всё на свете продается.) Вроде бы причастны к общемировой культуре, но неразрывны — именно с культурой русской.
А Жаклин тоже ведь не просто прелесть, умевшая стирать свои чулки, — она была из тех, кто умел ценить все подлинное, не ситуативных фигурантов, а личности.
Вознесенский — из их числа.
В поэте есть чувство родины, как в Америке — капитал. Там гроздья черной смородины поблескивают, как металл.Треугольничек Шарон Стоун
Тут никак невозможно не вспомнить еще об одной американской красавице — и вдобавок умнице, известной своим «основным инстинктом» и высоким IQ. В апреле 2004 года Вознесенский вместе с Зоей Богуславской прилетел в Лос-Анджелес. Продюсер Стас Намин позвал их на фестиваль «Русские ночи». На этом фестивале почетным призом была награждена актриса Шарон Стоун. Собственно статуэтку, копию башни Татлина, вручил ей именно Андрей Андреевич.
Но не одну статуэтку — поэт посвятил ей стихи, и Шарон немедленно зачитала их со сцены в переводе.
Когда-то «Треугольной грушей» увенчалась первая поездка Вознесенского в Америку. Последний его приезд закольцовывал жизнь кругометом: «Треугольничек Шарон Стоун» — таким фривольным напоминанием о самой знаменитой сцене из фильма «Основной инстинкт» поэт назвал стихотворение. Вознесенский не был бы Вознесенским, если б не умел ценить в женщинах прекрасное. И тут ни болезнь, ни годы не могли помешать его бесшабашным хулиганствам. «Я писал „Треугольную грушу“ / для своей страны не пристоен. / Миллионам открыла душу / треугольная Sharon Stone».
Террористка вместо пластида ищет истину на простынках — шрам со стоном! — все базируется на инстинкте SHARON STONE. (Что любитель пивка «Трехгорного» звал «пистоном»).Актриса была признательна, шутила и уверяла, что русскую духовность может пить бесконечно, как русскую водку, — не пьянея. Вознесенский скажет кому-то из интервьюеров, что Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман (они тоже прибыли на фестиваль и тоже были награждены), Шарон Стоун как раз и убеждают в том, что американское искусство все-таки отличается от наших стереотипов: «Это совершенно иной Голливуд! Голливудскому мифу соответствовал скорее Рейган…» Дастин Хоффман, кстати, произнес речь о русской культуре и о самых дорогих для него именах, перечислив Толстого, Достоевского, Солженицына и Вознесенского. Кто-то крикнул ему, что Вознесенский тут, сидит в этом зале, — и Хоффман, едва ли не перескочив через два ряда, душил в объятиях поэта. Позже Хоффман признался: фестиваль удался уже потому, что ему повезло познакомиться с любимым поэтом.
Но все-таки еще большой вопрос, что было приятнее — признания Хоффмана или поцелуи Шарон Стоун. Поэт рядом с актрисой бодрился, но и тут был самоироничен:
Зацелованный старый клоун, что за мысли в мозгу моем брезжили: ХОРОШО, ЧТО МЫ ВСЕ НЕ БРЕЖНЕВЫ.Фотоциклетная поэма
Последняя поэма в жизни Вознесенского написана в январе 2010 года. «До свидания, Тедди Кеннеди». Хотя посвящена она скорее Жаклин, нежели Эдварду Кеннеди и его братьям.
Поэма фотоциклетная. Сколько мотоциклов пронеслось в его стихотворениях — теперь под рев всех этих тарахтелок несутся фотокарточки эпохи. Разъяснения Вознесенского: «Время изменилось, стало более визуальным. Поэзия синтезируется с фотографией, предстает запечатленным чудным мгновеньем. Становится заменителем бессмертия, о котором столько пишут. Документальная поэма, поэма сюрреализма, подает нам руку, напившись из реки по имени Факт. Конечно, фотоцикличность подразумевает еще и личность поэта».
Диалог с Эдвардом Кеннеди из поэмы:
— А что вас, Тедди, роднит с Андреем? — Мы от прекрасного дуреем. Мы пиджаки ему простим. Мы Джеки хоронили вместе…Память о Джеки несется вспять и вскачь и возвращает к общему — Хрущеву. Между прочим, Никита Сергеевич подарил щенка собачки-космонавтки Стрелки (летавшей вместе с Белкой) дочке Джона и Жаклин — Кэролайн. Щенка звали Пушок. Но Джеки это не смягчило: Хрущев ей не понравился. Надо сказать, Никита Сергеевич отвечал на вопросы про супругу Джона Кеннеди уклончиво, но адекватно: «Ну, это его жена, а не моя». Зато Хрущев помог Вознесенскому и Джеки сразу почувствовать друг в друге родственные души. «Однажды ее на каком-то сборище / спросил я, чтоб показаться умней: / „Как вам наш Хрущев?“ — „Хрущев — чудовище“. / Мы сразу же подружились с ней».
Далее, что очень важно, следовало уточнение интимное: «Она прошептала: „Он нас не лапал. / Просто сердился, что водку не пью, / И грязной своею царской лапой / подкладывал мясо в тарелку мою“».
Жаклин нервировала многих. Ее обожали и уличали в тысяче грехов. А она оставалась на зависть — изящнее, изысканнее и утонченнее злопыхателей. Как это все знакомо было Вознесенскому!
Зоя Богуславская встречалась с Жаклин, писала о ней в своих «Американках». Вспоминала случай, когда в ходе важного застолья спросила Джеки о покушении на дочку Кэролайн. Та ответила спокойно. Позже политесные американцы шептали Богуславской, что никто бы не посмел спросить такое. А что такого? — удивлялась Зоя.
Кто-то из одноклассников Жаклин говорил про нее в воспоминаниях, что она только на публике такая «радостная и непринужденная», а для тех, кто знал ее поближе, «она скорее робка и застенчива, чуть ли не боязлива». Легенды, впрочем, противоречивы.
Жаклин выкуривала по две пачки сигарет в день — но оставалась красавицей и в шестьдесят. Вознесенский пишет про «Мороз» — а вспоминает, кстати, о ней: «Не случайно мисс Онассис, / бросив климат ананаса, / ценит наши холода, / чтоб быть юной навсегда…»
Она сгорела внезапно и быстро. Что спровоцировало рак лимфатической системы — то ли падение на скачках с лошади, то ли, как писали, краска для волос, которой Джеки много лет закрашивала седину? Она умерла вечером 19 мая 1994 года в возрасте шестидесяти четырех лет.
Жаклин похоронили на Арлингтонском кладбище рядом с Джоном. На похороны прилетел Вознесенский. Известный саксофонист, поклонник мисс Левински, он же президент Билл Клинтон сказал: «Она несла свою тяжкую ношу с достоинством, грацией и необычайным здравым смыслом».
Свои архивы Жаклин завещала закрыть до 2044 года. Но дочка Кэролайн не утерпела: в начале двухтысячных опубликовали расшифровку не предназначавшегося к публикации интервью Жаклин Кеннеди. Политкорректная до тошноты Америка вздрогнула. Однако это интервью интересно хотя бы потому, что дает представление о взглядах Жаклин на мир. В чем находил с ней общий язык ее друг Вознесенский.
The Los Angeles Times, ознакомившись с тем, что думала и говорила 34-летняя вдова президента, назвала ее «распущенной, узколобой и желчной». За что? Только лишь за то, что Джеки умела называть вещи своими именами.
Она, как оказалось, неполиткорректна. Страшно сказать, она не знала слова «афроамериканец», а Мартина Лютера Кинга назвала «шарлатаном» за то, что после пламенных речей в защиту расовых свобод он устраивал грязные вечеринки, развлекаясь с девчонками. Страшно сказать, но она посмеивалась над идеалами феминисток, заявляла, что политика не дело женщин: «Мы просто не приспособлены для этого». А чего стоила такая ее фразочка: «Женщины делятся на две категории: одним нужна власть над миром, другим — только в постели»?! Совсем уж страшно, что Жаклин могла съязвить на тему секс-меньшинств. Кошмар! О некой конгрессменше Клер Бут Люс и ее подружке, первой леди Южного Вьетнама мадам Ну, Джеки посмела сказать: не удивлюсь, если окажется, что они лесбиянки.
Джеки рассказывает в этом скандальном интервью и о том, как за обедом ей надоел Никита Хрущев — и она попросила прекратить докучать ей статистикой по Украине. Никита Сергеевич в ответ захихикал. Черчилль у нее — «спятивший с ума старик», Индира Ганди — крайне неприятная особа. А Шарль де Голль, который был в ее глазах героем, при встрече разочаровал. Словом, рассекреченные материалы только подтвердили главный принцип Джеки: «Единственное правило для меня — не следовать правилам».
В конце концов, папа, Джон Бувье, учил ее с детства: будь загадочной. Была ли в том великая загадка, но Андрею Вознесенскому она доверяла — и была с ним откровенна. Для бывшей президентской жены — даже слишком. «Она мне писала потом в Россию. / Это было как стриптиз. / И что-то знала и просила: / „Остерегайтесь хищных птиц. / В имениях русского эстергази, / в чистоте дедовских криниц / вас попрошу я: остерегайтесь / хищных птиц. / Остерегайтесь. / Как вольные самцы и самочки, / на ваших саммитах / в отеле ‘Ритц’ / вы не теряйте русской самости. / Остерегайтесь хищных птиц“».
И от себя уже — интерпретировал слова Жаклин поэт:
Пускай ваш хаос не расхищен — Не станьте тварями, творцы! Не забывайте правды хижин, переселяясь во дворцы.За полгода до смерти Вознесенский писал о Джеки Кеннеди-Онассис. Такая странная история. Так судьбы непохожи. И столько переплетено — невидимыми струнами созвучий.
Вам снятся крепкие девицы, полуодетые в кримплен. Ты не буди меня, мне снится прощание с Жаклин.Глава четвертая КАРТА ОГНЕННАЯ РОССИИ, ПЕРЕРЕЗАННАЯ ПОПОЛАМ
Выход имеется. Только нет входа
В крепдешиновом небе Кипра чайки распахивались, как декольте. «И чайки смелый вырез у неба на груди». Это бодрило.
Соленая бретелька лопнула по шву и тихо скользнула с плеча: ах, где-то в сумке булавка, ага, вот она. Зоя осторожно подцепила бесстыжую бретельку: айн момент, я догоню.
Андрей нырнул, он любит заплывать подальше. Прохлада компенсировала пекло. Межа горизонта бултыхалась. Вверх-вниз. Облачко пошатывалось, как кувшин, упавший набок.
Как в известной притче, кувшин случайно опрокинул ангел, провожавший Магомета к Богу. Пока падал кувшин, пророк успел пролететь по всем краям бескрайнего жилища Божия, по разным временам. Увиденное озарило: образ небесной красоты есть образ истины. Успел вернуться, прежде чем из кувшина хотя бы капля пролилась. Секунды озарения пророка хватило — спасти кувшин. Успеет ли небесное сияние спасти вот так же мир, летящий в никуда? Без этой истории с кувшином непонятно, что за красота, согласно князю Мышкину, должна спасти мир. Он же не имел в виду какую-то «мисс грудь» XXI века… Достоевский повторял историю с кувшином из книги в книгу. За «Идиотом» про кувшин пророка в «Бесах» вспоминает студент Шатов. Тот самый, которого «бесы» и уничтожат.
Кто-то вскрикнул. Воздух на сковородке пляжа затрещал, как жареный каштан.
— Ваш муж тонет!
Да нет же, это не ей, как Андрей может тонуть, он прекрасно плавает.
— Ваш муж тонет!
Зоя бросилась в море. Андрей вертелся в волнах, как божья коровка со сломанным крылом, будто не слушаются руки-ноги. Откуда у нее силы взялись, она не знала, доплыла, он уцепился за нее, чудом дотащила до берега.
Сочувствующие ждали на берегу. Зоя с Андреем выжимали улыбки: с кем не бывает, просто ногу свело, сейчас переведет дух в тенечке, и все образуется.
«Но ничего не образовалось», — скажет Зоя потом.
Диагноз не оставлял надежд. Это лишь первый звоночек, самое начало Паркинсона, болезни пока что неизлечимой. Откуда, как она свалилась? Можно только гадать.
«С лета 1995 года началась для нас новая жизнь. Болезнь растянулась на годы, по кусочку, по миллиметру. Боль становилась шаг за шагом все невыносимей. Мы старались, чтобы этого никто не видел. Пятнадцать лет, до последней минуты, Андрюша не сдавался».
Она будет рядом. Откажет рука — она станет его рукой. Исчезнет голос — она будет его голосом.
* * *
Годы сжались в секунду. Кувшин все падал.
«В этом кувшине спрессовалось наше время… На наших глазах ход истории убыстряется, время как бы сжимается и несется к точке схода, — напишет Вознесенский. — С. П. Капица считает, что точка схода находится в 2007 году. Учитывая последние исследования о неточности даты рождения Христа, приблизительно девять лет, эта точка может колебаться».
Выходит — если довериться предчувствиям физика Сергея Капицы, — этой апокалиптической «точки схода» можно ждать в любое время, вплоть до 2016 года? Тогда зловещий прогноз казался несбыточным… Не мог же знать поэт, что уже после смерти — и его, и Капицы — история будто сорвется с катушек. А если мог — то откуда? Когда он успел заглянуть в будущее?
Надежда, написал он осторожно, есть. «Вероятно, после точки схода людей ждет — если они выживут — гармоничная перспектива». Ему и самому хотелось надеяться. Цеплялся — хоть за обещания астрологов: «Будущее тысячелетие сменит доминанты. Вместо нервозно-агрессивных Рыб над нами будет довлеть гармоничный Водолей».
Это как «Лифт застрял». «В лифте, застрявшем от перегрузки, / на потолке в виде капель — наш выдох. / Ты по-английски сказала: „Вы — русские. / Где выход?“ / <…> Вы хоть Россию избавьте / от правил взаимовыгод… / „Выхода нет, — проповедовал Павел. — / Значит, есть выход“. / И двоерукий Христос над оравой / путь указал человеку и выхухолю: / то ли налево, то ли направо? / Где выход? / Нету идеи. / Как неприкаянно / где-то, без тела, / воет без нас, потерявши хозяина, / бродит идея…»
Я вырываюсь из лифтовой клетки, выломав дверцы. Нет входа в рай. Снова шахта и сетка. Входа нет в сердце. Петр искривится улыбкою месяца. Черна свобода. Чавкает сердце. Выход имеется. Только нет входа.Вопреки болезни он напишет беспримерно много. Боль становилась все неотвязнее. В случае Вознесенского переставала быть фигурой речи фраза — боль поэта сливается с болью эпохи.
Страну распилили на троих, под неплохую закуску, в тех самых любимых поэтом беловежских кущах. Хорошо, как говорится, посидели. Потом окажется — этим распилом три подвыпивших партийца благословили и глобальную перекройку карты мира, и продолжение той самой мировой войны, которая, казалось, давно уже кончилась. Но это только казалось… «Мы ведь не видеоклип под названием „Распад“ смотрим, — записал, не зная о будущих поворотах истории, свои чувства поэт. — Распад проходит через сердце и жизнь каждого».
Я вышел в чат. Страна, поговори! Ты, ставшая любовью моей жизни, определяешь жизнь моей любви. (Поэма «ru»)В последние два десятка лет жизни у Вознесенского происходило что-то загадочное: что ни напишет в стихах — все начинало сбываться. Так ли, иначе ли. Он и прежде говорил что-то вроде: «Небо диктует, а я записываю». Что за силы и откуда ему диктовали? Иногда казалось, силы светлые и силы мрачные не переставали раздирать его на части. Попеременно побеждала то одна, то другая. Но если и тянулся он — то только к свету. Если и сидел в нем внутри «террорист» — это был «террорист доброты»…
Когда-то Вознесенский упал где-то в Крыму, сломал ключицу. Списал происшествие на происки колдующих муз.
В 1989 году в Москву, впервые за полвека эмиграции, приехала Нина Берберова. Перед самым прилетом она сломала руку. Когда дарила Вознесенскому свое исследование русского масонства XX века — книгу «Люди и ложи», «ей приходилось подписывать левой рукой, а правая, загипсованная, оттопыривалась под углом, как бы приглашая взять ее под руку». О чем Андрей Андреевич и написал ей в стихах: «Вы выбрали пристань в Принстоне, / но что замерло, как снег, / в откинутом жесте гипсовом, / мисс Серебряный век? / Кленовые листья падали, / отстегиваясь, как клипсы. / Простите мне мою правую / за то, что она без гипса».
В 1995 году он едва не утонул — стала отказывать рука. В начале 2000-х левая рука повисла на перевязи, Вознесенский простонал ей бодрую оду: «Мне снится сон: пустыня Гоби. / На привязи, на весу, / как бы возлюбленную в гробе / я руку мертвую несу…»
Прощаюсь с преданною жизнью. Рука — счастливая вполне. Я на руке своей повисну, как тощий плащ или кашне. («Ода к моей левой руке»)Но что рука? Сгусток неотвязных предчувствий зрел в стихах Вознесенского, будто шел за ним по пятам.
* * *
За год до того случая на кипрском пляже, в 1994-м, у Вознесенского вышло «Гадание по книге». Какие только фокусы он не проделывал со словом. Закольцовывал кругометами. Речь переводил в визуальные образы — видеомы. Здесь же — полушутя, полувсерьез рассыпал знаки судьбы по книге. К книге прилагались игральные кости. Вот ведь тот же Достоевский — возил с собой всегда Евангелие, подаренное женами декабристов. Любил гадать на нем. Перед смертью попросил открыть страницу, назвал строку. Ему выпало: «Отпусти»…
Поэт играл с огнем? Ну, в этом было все же больше игры, чем мистики. Хотя Вознесенский убеждал себя: ведь и Пушкин «обожал гадания, был суеверен, складывал кукиш в кармане, когда видел людей в рясе». Его тройка, семерка, туз — роковое предчувствие поэта: цифры предсказали год его гибели, 37-й, а туз был знаком дырки от пули.
«Задумывалась книга, как легкая, шутейная, но обернулось по-иному.
Книга показывала характер, не случайно меня предупреждали отказаться от такого греховного замысла. Печаталась она в Финляндии. На выезде из Хельсинки был гололед, трейлер со всем тиражом разбился, двое сопровождающих погибли. Об этом мне не сказали. Но этим объясняется, что на презентации в ресторане „Золотой Остап“ присутствовал всего лишь единственный экземпляр. Публика, как и я, не понимала ужаса происходящего, веселилась. Первой гадала Пугачева. Ей, молодоженке тогда, выпали строчки: „Я и мужа нашла на галерке, в эротическом сиром галопе“…
…Хулиганства моей книги делали мою жизнь невозможной. Например, приезжаю я в Алма-Ату, перед выступлением пресс-конференция. Среди журналистов очаровательная женщина, представляющая местный эротический журнал. Подходит она ко мне: „Можно, я погадаю на книге?“ Я говорю: „Если не боитесь, пожалуйста!“ Она бросает фишку перед всеми телезрителями Алма-Аты. Ей выпадает: „Все меня затрахали“… Она, смутившись, парирует: „Ну, это в переносном смысле, конечно“…»
Наутро после презентации Вознесенский поехал из Переделкина на обед к Владиславу Старкову, главе издательского дома «АиФ», который издал «Гадание по книге». Обед, увы, не состоялся… «На выезде мы врезались в летящий наперерез МАЗ, я получил очередное сотрясение мозга. Как потом я понял, все это тоже было загадано в книге. Наверное, это понял и Борис Гребенщиков, который, узнав о том, что со мной приключилось, поставил свечку в петербургском храме Преображения».
Это было уже четвертое сотрясение мозга. «Когда я очнулся, нагло / решил, что уже в раю, / узнав в склонившемся ангеле / за меня тревогу твою. / Спасая меня из ночи, / дыша из иных начал, / твой ландышевый позвоночник / беззащитнейше проступал…»
Машину всю исковеркало. Ты завтра — другим слабо! — надменно, как королева, пройдешь в медицинском жабо. («Каллы»)Первая авария была в семидесятом году — в машине Олжаса Сулейменова. Потом было падение в Крыму. Третье сотрясение — чудом выжив — Вознесенский получил 19 января 1988-го. Такси летело по шоссе на Внуково — навстречу «шел против движения трейлер-дуролом». Спасла песцовая шапка… «Шапка лежит на шоссе, как истец, / кровью запекшийся белый песец. / Дар браконьерский с таежной ТЭЦ, / спас меня другом убитый песец. / Трейлеру в прицеп / вмятое такси. / И лежит песец / посреди Руси…»
Что сказал таксист, сломав два ребра? «Пассажир, очнись! С тебя три рубля». («Шоссе на Внуково»)Зоя Богуславская вспоминает, что позвонил ее друг, доктор Бодулян, и предупредил: дело серьезное, надо отлежаться… Но Вознесенский через несколько дней собрался бежать из больницы — у него выступления, его ждут… «Я тогда сказала ему: только через мой труп. Он ответил — через труп, так через труп. Все, что касалось служения поэзии, было для него всегда на первом месте»…
Теперь всё, абсолютно всё вокруг Вознесенского стало сбываться, аукаться. На всех уровнях.
«Предсказания книги сбывались. Я, шутя, нарисовал видеому: зубцы кремлевской стены складывались в буквы МММ, напоминая о тогдашней „пирамиде“ Мавроди. Только сейчас стал ясен смысл рисунка. Именно Кремль создал „пирамиду“ ГКО (Государственные краткосрочные облигации) — аферу государственного масштаба», — обнаружит Вознесенский.
Да-да, он, Вознесенский, — такой-сякой — весь в противоречиях и самоисках. И в выпендрежах, и в горьком самоедстве. Любил эффектные жесты, и одновременно, как никто, был обаятелен и самоироничен. «Я — сальто перевернутой отчизны. /Я — старый клоун. / В клюкве, не в крови» («ru»).
Кончилось одно столетие, открылось новое. А литсобратья и блогеры, как недо- и перекритики, будто с цепи сорвавшись, кидаются на Вознесенского. И после смерти поэта — продолжат. Но искренне полагая, что говорят значительно и ново, они буквально, чуть ли не слово в слово, повторяют все, что слышал Вознесенский с конца пятидесятых. Будь они трижды постэмигранты, постлибералы, постпочвенники или постмодернисты, — озлобленность так часто их роднит, и мысли сходятся. Пусть себе… Их кувшины шлепаются шумно, с грохотом.
Из его кувшина по-прежнему не успевает пролиться ни капли.
Нет на рубеже эпох другого поэта, которому вдруг неземные озарения, соседствуя с простительной телесной слабостью, открыли бы — а что там, за чертой, которую увидеть смертным не дано? Куда заглядывать опасно… Становится не по себе, когда в его «Облаках» по искромсанной карте страны скользит вдруг тенью Краматорск… Ну а вот это — откуда? Почему именно Краматорск? Еще одно сбывшееся предчувствие?
«Улети моя боль, утеки! / А пока — / надо мною плывут утюги, / плоскодонные, как облака. / Днища струйкой плюют на граждан, / на Москву, на Великий Устюг, / для отпарки их и для глажки / и других сердобольных услуг. / Коченеет цветочной капустой / их великая белая мощь — / снизу срезанная, как бюсты, / в париках мукомольных, вельмож…»
Где-то их безголовые торсы? За какою рекой и горой ищет в небе над Краматорском установленный трижды герой? И границы заката расширя, полыхает, как дьявольский план, карта огненная России, перерезанная пополам. Она в наших грехах неповинна, отражаясь в реке, как валет, всюду ищет свою половину. Но другой половины — нет.* * *
Критик недоумевал когда-то, читая «Ров». Что за ерунда? Вознесенский в финале поэмы Алчь противопоставил Речи. Если погибнет Речь — восторжествует Алчь? Где одно — и где второе? Казалось, нелогично…
Но с самого начала 1990-х, едва отвалившись от Советского Союза, Прибалтика, а следом и другие «братские республики» все силы бросили на то, чтобы изжить русский язык. Русскую литературу. Русские фамилии: был Иванов — стал Ивановс. И наконец на Украине от войны с русским языком, окажется, — лишь шаг к войне с его носителями. Чтобы разрушить народ — прежде надо разрушить язык. И среди первых жертв безумных войн окажутся поэты. На абхазской войне застрелен «куртуазный маньерист» Александр Бардодым. В одесском Доме профсоюзов нелюди сожгут поэта Вадима Негатурова…
Можно как угодно относиться к идеалам, ради которых погибали защитники русской речи. Но убивали их всегда — по сути из-за Алчи.
Об этом Вознесенский и писал.
В имени Россия он увидел отсвет — Poesia. Хотя, казалось бы, какая тут Poesia, — когда страна, добровольно разрушив себя в мирное время, неслась в беспредел девяностых — с перечеркнутым народом, абсолютно лживой иллюзией свободы для всех — и абсолютно безграничной свободой для того, кто в состоянии приобрести себе дачку в центре Лондона и на Лазурном Берегу. Чтобы регулировать финансовые реки, вытекающие из России, мучительно припоминая нужные слова: как это будет по-русски? И об этом писал Вознесенский:
«На наших глазах может погибнуть край неизъяснимой красоты, разбитая вдребезги духовная общность, для которой буквально Слово — Бог, страна, давшая в даже тоталитарный век прозрения Хлебникова и стон Цветаевой, единственная страна, соборно слушающая стихи на стадионах. Зачем была ее жизнь? У каждого народа своя роль на Земле.
Неужели и языку нашему животворному суждено погибнуть, окаменеть, подобно латыни, хранящей слепок с живого некогда Рима? Гибель языка означает гибель сознания»…
* * *
Тут встрепенулся новый критик. Неймется же — год, как нет Андрея Андреевича, а он выносит приговор: «Народ все меньше интересовался самым модным поэтом! Литература (не в последнюю очередь благодаря тем же евтушенкам и вознесенским) уходила из жизни».
Что уходила и уходит — правда. Но есть ли хоть капля справедливости в том утверждении, что враги литературы — Вознесенский, Евтушенко, а с ними Ахмадулина, Аксенов, Окуджава?
Ну да! Конечно! Как не вспомнить! Вознесенский добивал литературу — сделав все, чтобы открылся, наконец, дом-музей Пастернака!
Вознесенский уничтожал литературу — когда проталкивал первое за много лет издание Бальмонта!
Или вступая в переписку с Верой Коренди, вдовой поэта, благодарившей за эссе о неиздаваемом Северянине!
И тем, что в собрании сочинений Высоцкого случайно оказалась Вознесенская «Песня акына» — настолько с нею сроднился Владимир Семенович, — тоже нанес удар по русской словесности!
А как поиздевался он над всей литературой — когда не только подписал письмо в защиту, но и подвез однажды в город — Зоя за рулем — самого Солженицына!
И еще. Передовые либералы, было дело, писали письма Ельцину: четвертовать и раздавить гадюк инакомыслия. А Вознесенский их не одобрял. Зато чуть позже подписал письмо с протестом против издевательских реформ образования и урезания литературы в школе. Конечно, это тоже он — назло русской словесности!
Не будем продолжать до бесконечности. Что тут скажешь, грешен.
А как насчет того, что «народ все меньше интересовался» Вознесенским?
Тут, конечно, мог бы что-нибудь сказать потрясенный режиссер Кирилл Серебренников. Он любит то и дело вспоминать мизансцену в том самом Политехническом. Битком набитый зал, юная аудитория двухтысячных. Входит поэт, припавший к Зое, старый, искаженный болезнью, рука примотана. И аудитория — не по команде — вдруг единым взмахом поднялась. Такие фейерверки обожания — к кому? К тому смешному и немощному?
Но отправимся, читатель, дальше. Маршрутами Вознесенского. Они бегут по карте вензелями, переплетавшими и связывавшими страну, которую, ну скажем прямо, зачем-то растащили и разворовали. «Для меня суть России — не в ее супостатах, а в Заболоцком, Тарковском или в юной поэтессе из Барнаула, выдохнувшей хрустальную строку…» Вопрос: а ждала ли поэта страна? Списанные кем-то со счетов читатели — интересовались ли?
Барнаул, 15–17 марта 1989 года
За два дня Вознесенский успел провести два поэтических вечера, съездил на родину Василия Шукшина в Сростки, записался на телевидении, ночи напролет общался с писателями и молодыми поэтами, назвавшими его «папой русского авангарда». Хозяевам Андрей Андреевич оставил полушутливую «Барнаульскую буллу», которая начиналась так: «15 марта меня выбрали в папы российского авангарда. / Почему в Барнауле? а то б пырнули…»
Вспоминает журналист Сергей Тепляков:
«В здании ДК „Моторщиков“ на тысячу с лишним мест публика сидела в проходах. Вознесенский будто перенесся в шестидесятые. Читал стихи, и блаженная улыбка не сходила у него с лица. Розы ему несли охапками. В одной из пауз Вознесенский зашел за кулисы и вышел оттуда на сцену с круглыми глазами:
— Вы не поверите… Такое, наверно, только с членами Политбюро бывало. Пока я здесь стихи читаю, там скульптор меня лепит!
Оказалось, пристроившись за кулисами, скульптор Саня Маркин быстро с натуры ваял из глины голову поэта.
После концерта, который затянулся до полуночи, местные поэты повезли Вознесенского к себе — поговорить, почитать стихи. В ожидании мэтра стихотворцы быстро пили водку — теперь я думаю — для храбрости. Вознесенского усадили за накрытый стол (не помню, пил ли он) и начали читать стихи по кругу. Андрей Андреевич мужественно старался не дремать. Наташа Николенкова, когда до нее дошла очередь, первым делом спросила со своей детской интонацией: „А вам, правда, интересно?“ Вознесенского тряхнуло. „Конечно!“ — ответил он. Наташу за эту ее фразу и ее стихи он запомнил надолго. Не помню, какие „хрустальные строки“ она тогда читала. Вполне возможно, и вот эти:
Жизнь угостит лимонадом, лимонным соком, Будет нежна, как котенок, будет жестока, Будет подарки дарить, воровать надежду, Спросит: „Вам повторить?“ — и нальет, конечно. Выпей, выпей — иначе умрешь от жажды.Глубоко за полночь организаторы заявили, что Вознесенскому надо бы и поспать. Он стал прощаться. Что тут поднялось! Поэты наперебой кричали ему свои фамилии, словно надеясь хоть как-то остаться в памяти. Стас Яненко, молодой и крепкий, все твердил: „У меня сборник вышел, сборник ‘Я — файтер!’“, — протягивая книжечку Вознесенскому обложкой вперед, как цитатник Мао. Стас умер в 1990 году.
В коридорчике Вознесенского поджидали журналистки из „Молодежи Алтая“ — он им обещал интервью. Глаза у них были растерянные: понимали, что сдержать слово поэту будет нелегко… Вознесенский обреченно посмотрел на них, мотнул головой и сказал: „Поехали“. Еще два часа отвечал на их вопросы в гостинице, а на прощание, уже под утро, достал из холодильника шампанское»… (Алтапресс. ру).
Рассказ поэта и радиоведущей Натальи Николенковой:
«Я шла на работу, звонок: „Умер Андрей Вознесенский“. Я как закричала на всю улицу: „Что?!“ Мой собеседник даже подумал, что я не расслышала. Ужасно…
В восемьдесят девятом году первый раз такой мэтр приехал в Барнаул, — и это было очень классно! Мне тогда был 21 год… С тех пор, к сожалению, я с Вознесенским ни разу не встретилась. Позвонила лишь однажды ему в Переделкино. Зачем? Видимо, хотела попросить о чем-то. Он обрадовался, подумал, что я где-то рядом, в Москве. А я была в Барнауле… Как жаль, сказал он, а то я бы еще раз посмотрел на вашу стрижку!
Друзья принесли мне вырезку из эссе Вознесенского „Россия — Poesia“, где мое имя упоминалось в одном ряду с Заболоцким, Тарковским — отчего до сих пор у меня начинается нервная дрожь. Мне было очень приятно, а знакомые шутили — мол, кто-то пишет просто стихи, а кто-то „выдает“ хрусталь…
А потом было эссе „Минута немолчания“, в котором Вознесенский написал о своем визите в Барнаул, где упомянул Володю Токмакова, еще кого-то и меня. „Глуховато-спокойно читает Наталья Николенкова, статная суриковская боярышня с котиковой стрижкой, будто отросшей после бритья наголо“… На тот момент стрижки как таковой у меня не было — такая круглолицая девица… Эту книжицу от Вознесенского мне передали друзья. На ней рукою поэта написано: „Очень нежно — Наташе Николенковой“. Мне она очень дорога».
Самара, июнь 1995 года
Вознесенский приехал вместе с Зоей Богуславской на фестиваль искусств «Из века XX в век XXI» («Самарские ассамблеи»), придуманный Василием Аксеновым и профессором Владимиром Виттихом. За пять дней успел и выступить, и спуститься в бункер Сталина, и найти неизвестного прежде автора песни «Ванинский порт». На вечере поэту передали записку — с автором ее, Аркадием, позже встретился Вознесенский.
Аркадий рассказал о своем отце, лагерном поэте Федоре Михайловиче Демине-Благовещенском. Показал рукопись — чернилами на бересте. «Я помню тот Ванинский порт / и вид погребальный, угрюмый, / как шли мы по трапу на борт / в холодные мрачные трюмы». Текст чуть отличался от общеизвестного. Молва приписывала авторство Ольге Берггольц. «Даже если Демин-Благовещенский был лишь соавтором текста, и то его имя и муки святы», — записал Вознесенский.
Вспоминает профессор Владимир Виттих:
«Я зашел за Андреем в гостиницу в половине восьмого утра. Он вышел навстречу в белоснежном костюме, белой кепке, из-под рубашки элегантно выглядывал шарфик кремового цвета. Мы спустились по Некрасовской к Волге и, не торопясь, стали прохаживаться вдоль набережной. Обсуждали устройство мира. Помню, как спонтанно, глядя на Волгу, он вдруг произнес: „Расцветает Самара, как салат из омаров“…
Тогда он подарил мне свой новый сборник, „Гадание по книге“, внутри которого были спрятаны кубики. Перелистав ее, я вдруг почувствовал, насколько его философия жизни совпадает с моей. Есть же теория о том, что весь порядок рождается из хаоса, — так и здесь хаотичные бросания кубиков все равно выстраивают некий порядок восприятия его поэзии» («КП — Самара»).
Из эссе Вознесенского «Провинция»:
«Самара — не „провинция“. Побывав в годы войны третьей столицей, она так и остается полустоличной, полупериферийной. Поэтому я осторожно ставлю термин в полукавычки… Ту же тенденцию к пониманию себя как центра и края вы увидите и в Нижнем Новгороде, с его великой филармонией и Сахаровским фестивалем, и в Новосибирске, и в Барнауле…
…Поэзия провинциальна по сути своей, она вечно провинившаяся, вещь в себе, она упрямо сохраняет наивную веру. „Языком провинциала в строй и ясность приведу“. Поэты не столько принцы Провинции, сколько ее пациенты. Герои Достоевского с „мировой душой“ — были провинциалами.
Вероятно, провинциализм во мне панически боится „вхождения во власть“. Как-то неловко руководить людьми. Я не вхожу ни в одну из редколлегий. Когда пришла делегация сватать меня депутатом в Думу, я в ужасе отказался. Не так давно без моего ведома меня выбрали и утвердили президентом Общества „Франция — Россия“. Я закатил истерику. Они очень удивились отказу. Еще веселее было, когда также против моей воли меня сделали вице-президентом РАО (Российское Авторское общество). Мне выделили шикарный кабинет и повесили вывеску под стеклом, гласившую, что я есть вице-президент. Я приехал с отверткой и, под стенания секретарш, снял вывеску.
Той же отверткой я привинтил медные литеры на сосну возле моего дома. Свой дом и деревья вокруг я озвучил буквами:
СОСНАСОСНАСОСНАСОС
Мы живем в языке. Сосна — насос неба. Она перекачивает небесное в земное. И наоборот…
…При нас состоялось открытие выставки М. Шемякина. Когда-то черно-кожаный художник, открывая мой вечер в Нью-Йорке, подарил свои иллюстрации к моему „Бою петухов“, созданные еще в Ленинграде. Я прочитал на самарском вернисаже:
Какое бешеное счастье, хрипя воронкой горловой, под улюлюканье промчаться с оторванною головой!.. …………………………… Но по ночам их кличет пламенно с асфальтов, жилисто-жива, как орден Трудового Знамени оторванная голова.Думал ли цензор, не пропускавший эти стихи, думал ли и сам автор, что через несколько лет ордена Боевого и Трудового Знамени будут лежать на асфальте перед продавцами, подобно пыльным отрубленным петушиным головам с красными гребешками?»…
Петербург, 25 мая 1998 года, 1 сентября 1999 года
Со студентами Гуманитарного университета профсоюзов в Петербурге Андрей Вознесенский встречался не раз. Вел эти встречи ректор Александр Запесоцкий. Вот лишь несколько вопросов и ответов поэта из стенограммы.
Александр Запесоцкий, ректор: «Чья поэзия близка вам по духу? Как относитесь к Есенину? А к современным поэтам?»
— По-моему, «Черный человек» Есенина — лучшая русская поэма XX века. Но по духу мне ближе поэзия Хлебникова. И, пожалуй, еще Заболоцкого. Что касается современных поэтов, — совершенно роскошная поэтесса Нина Искренко. Недавно вышла книга ее стихов. К сожалению, посмертно. В Петербурге есть прекрасные поэты: Виктор Кривулин, Александр Кушнер, Елена Шварц…
Записка из зала: «Что думаете о творчестве Довлатова?»
— Да, конечно, я в восторге. Недавно в Перми мне говорят: «Андрей Андреевич, вы должны зимой приехать. Вы же любите снегом обтираться. Мы читали об этом у Довлатова»… У него все вымысел жизни. Вот и это — анекдот из серии: «Пушкин пошел купаться с Лермонтовым»… Зато есть у Довлатова гениальная фраза, которой я, признаться, завидую: «Она читала меню по-еврейски, справа налево». То есть сначала цену читала, потом название блюда.
Записка из зала: «Есть ли у вас мечта?»
— Не забывайте, что я все-таки шестидесятник. А мы об общем деле думаем. Мечтаю, чтобы люди хотя бы полчаса нормально пожили в нашей стране. Даже если это так и останется мечтой.
Наталья Курчанова, факультет культуры, IV курс: «Скажите о ваших главных разочарованиях конца XX века и главных надеждах на век следующий»…
— Разочарований, конечно, много, главное, мы решили, что, если объявим в нашей России свободу, — все сразу будет в порядке. Но, кроме свободы, оказалось, полез криминал. Я думаю, все это еще изменится. Век-то большой… А в XX веке было и прекрасное. У меня есть такие строчки: «Вот и сгорел в виде спутников, кровушки нашей отведав, век гениальных преступников и гениальных поэтов».
Не будь преступлений века, не появились бы и такие поэты, как Мандельштам, Пастернак, Ахматова. Видимо, их творчество было альтернативой злу.
Записка из зала: «Почему вы не уезжаете жить на Запад?»
— Конечно, ситуация в России сейчас не лучшая, но… Если страна в дерьме, то и ты должен быть с нею. Я не осуждаю тех, кто уехал. Но сам — не могу, потому что ЭТО диктуется мне здесь. Этот кайф происходит только на наших дорожках, в нашем Переделкине, поэтому: «Как спасти страну от дьявола? / Просто я останусь с нею, / врачевать своею аурой, / что единственно умею».
Когда-то мне предлагали: «Выметайтесь к такой-то матери за рубеж», — но я и тогда не уехал. Как Пастернак. Он был мой мэтр и учитель.
Марина Штайнле, факультет искусств, III курс: «В каких вы отношениях с религией?»
— У меня вера в генах, потому что мой прапрадед был архимандритом в Муроме, отсюда такая фамилия. Про мои стихи говорили, что это американский модернизм; нет, это — речитативы, которые идут от русской православной ритуальной риторики и диктуются свыше.
В кругометах, к которым я сейчас пришел, один предмет переходит в другой, одно состояние в другое, жизнь — в смерть. Этого не делал даже Хлебников.
Шаланда уходит. С шаландой неладно. Шаланда желаний кричит в одиночестве. Послушайте зов одинокой шаланды, шаланды — шаландышаландышаландыша — ландыша хочется! («Шаланда желаний»)Вот это «ландыша хочется» — и есть Бог. Когда среди дерьма остается потребность в ландыше.
Ольга Чебуханова, факультет культуры, IV курс: «Вы можете точно сказать, что Бог на самом деле есть?»
— Вы знаете, Бог есть. После урагана в Москве на Новодевичьем кладбище все было разрыто и уничтожено, и только могила моих родных осталась нетронутой. Это удивительно: вокруг вырваны с корнем деревья, ограды сломаны, — и вдруг маленький оазис, где могилы отца, матери и бабушки. Тогда я точно подумал, что Бог есть. О чем и написал в поэме «Гуру урагана».
Ираклий Панавандишвили, юрфак, III курс: «Вы суеверны?»
— Когда черная кошка перебегает дорогу, я не иду и возвращаюсь. А когда возвращаюсь с полдороги, обязательно смотрю в зеркало.
Михаил Товбин, юрфак, IV курс: «Что должно сделать наше поколение, чтобы быть лучше вашего?»
— Если вы спасете Россию, — то будете лучше нас.
Киев, февраль 2000 года
В конце восьмидесятых и начале девяностых Вознесенскому с Киевом не везло. Как ни соберется приехать, так ему звонят: принять никак не можем. «Плачущая администратор просила сдать билет, сказав, что в театре начался срочный ремонт и вечер отменяется. „А в другом театре, где я выступаю на следующий день, тоже ремонт?“ — спросил я. „Ну, конечно“, — ответил упавший голос. В то время секретарем по идеологии украинского ЦК был Кравчук. Говорят, он сам занимался ремонтом театров…»
Стоявший на страже Леонид Кравчук, так хорошо запомнившийся Андрею Андреевичу, уже совсем скоро вместе с Ельциным распилит СССР, станет первым украинским президентом, первым «батькой незалежности», немедленно вдруг ощутившим неприязненное чувство к «москалям». Как всякий перекрашенный чиновник-партиец, он, видимо, не мог существовать без образа врага: вот в эту сторону тихонько и поплыл отколовшийся айсберг. Хотя никто тогда не мог предположить, что это — айсберг.
Вознесенский выступал в Киеве в 2000 году. «Покорив киевскую публику на своем вечере поэзии, Андрей Андреевич, улыбающийся и вдохновленный успехом, на следующее утро в сопровождении молодой голубоглазой спутницы — ассистентки Кати — появился в редакции киевских „Фактов“. Здесь его ждала „прямая линия“ с читателями. Сообщения и вопросы были разные, среди них и забавные, и обескураживающе странные».
* * *
«„Алло, это Коломиец Владимир Иванович, бывший учитель, из Киева. У меня были три кумира в поэзии: вы, Евтушенко и Рождественский. В честь вас и Евтушенко я назвал сыновей Андреем и Евгением. Спасибо вам!“
— Что ж, дай Бог, чтобы у вас был третий сын, которого вы назовете Робертом».
* * *
«„Фамилия моя Лиговский! Господин Вознесенский, вы считаете, это достойно для интеллигента — принять украинского журналиста Борсюка в передней, в белой пижаме, не предложив сесть и постоянно отвлекаясь на вызовы жены?“
— Что-то я не понял…
„В прошлом году у вас в гостях был украинский журналист Борсюк!“
— Не было, не было такого.
„Брал у вас интервью в передней!“
— Да не знаю я никакого Борсюка. И никакого интервью у меня в передней не брали. И белой пижамы у меня нет».
* * *
«„Александра Сергиенко из Киева. Кто в шестидесятых годах был для вас видным украинским поэтом?“
— Драч.
„Вы знаете, что он стал министром информационной политики? Буквально на прошлой неделе назначен“.
— Ваня Драч? Поздравьте его от меня».
Москва, июнь 2002 года
Вознесенский — гость «прямой линии» газеты «Известия». В редакции «опасались, что звонков будет немного: во-первых, лето. А во-вторых, ну кому, казалось бы, сегодня нужна поэзия? Где те стадионы, те Политехнические? Зря боялись! Люди звонили и спрашивали буквально обо всем».
* * *
«„Андрей Андреевич, это Иван Иванович из Москвы. С приходом рынка все красивое из жизни стало вытеснять безобразное. Взять хоть Переделкино…“
— Да, видимо, сейчас начнут застраивать поле пастернаковское. Не посадили на этот раз ничего. Года четыре назад убили директора совхоза, который не давал никому это поле. Боролись, трепыхались. Губернатор Громов обещал, что не тронут Переделкино, он же у нас там живет. Но сейчас вот приезжают люди с какими-то бумагами, говорят: моя дача тут будет, а моя — тут. Какая-то большая могучая мафия…
„Но вы за рынок, тем не менее?“
— Да. Бывают ведь и другие рыночники. Уже и неважно, откуда деньги пришли, — важно, куда они теперь уходят…»
* * *
«Здравствуйте! В ваших последних стихах и интервью мерещится апокалиптический настрой. Вы, случайно, не пожалели о том, что в 90-х у нас в стране свершилась мирная революция? Как-то мрачно в будущее смотрите».
— XXI век начался апокалиптически. Новое мышление оказалось в руках убийц и террористов. XXI век — это два креста и минарет. Так что он и будет проходить под знаком столкновения мусульманства и христианства, дай Бог, чтобы это все мирно кончилось. Возможно, войны будут теперь компьютерные, и не из окопов будут стрелять… А что касается оптимизма, — даже когда пишешь о страшных вещах, — главное, чтобы строчка стояла. В этом смысле со мной все в порядке.
Николаев, 3–4 августа 2004 года
Поэта принимали по приглашению городского головы Николаева — Владимира Чайки. Накануне била рекорды жара — а в ночь с третьего на четвертое августа, когда приехал Вознесенский, разразился ливень с громом и молниями. К утру Андрей Андреевич сочинил стихотворение «Металлолом», посвященное безвременно утраченному новому крейсеру «Варяг», построенному здесь для российского флота и проданному Китаю. «Понимаете, Николаев — русский город. Как и Харьков, и Одесса», — делился потом Вознесенский («Комсомольская правда — Украина»). Хотя николаевские ученые заверили поэта, что здесь еще родился Гомер и сюда тайно приезжал когда-то Пушкин.
«Несмотря на жару, отпуска и каникулы, зал был переполнен, — сообщила „Южная правда“. — Надо заметить, что вечеров поэзии в Николаеве не было уже лет двадцать или тридцать. Облако восторга, окутавшего зал от живого контакта с великим поэтом современности, — свидетельство того, что мы изголодались по атмосфере высокой духовности, наэлектризованному поэтическому слову… Оказывается, мы не утратили тягу к высокому Подлиннику, ту ностальгию по Настоящему, которую воспел Андрей Вознесенский».
Пятого июня 2014 года тот приезд Вознесенского десятилетней давности вспомнила газета «Вечерний Николаев». Время за эти десять лет будто перевернулось — и строки, написанные когда-то Вознесенским, покажутся теперь особенно пронзительными, вещими.
Валерий Бабич, один из ведущих конструкторов Черноморского судостроительного завода, рассказал, как появилось стихотворение Вознесенского «Металлолом». За окном гремели металлические молнии. И по ночному небу плыли туч авианосцы. Из их истории зловещим предвестием всплывала общая несправедливая судьба большой страны:
«…Удивительно, но Андрей Вознесенский оказался провидцем, когда в августе 2002 года написал: „Чья вина? / Я тру переносицу. / Снится мне: / самолеты в ряд, / взмыв с китайского авианосца, / к Николаеву полетят“…
В то время никто не мог предположить, что „Варяг“, проданный по цене металлолома, станет действующим китайским авианосцем. „Варяг“ прибыл в Китай на буксире 3 марта 2002 года и только через десять лет, 25 сентября 2012 года, в присутствии генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Ху Цзиньтао и премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао был торжественно передан китайским ВМС под наименованием „Ляонин“. К сожалению или к счастью, Андрей Андреевич Вознесенский не узнал, как осуществилось его пророчество… А трагедия постигла не только „Варяг“. В 1992 году на стапеле „ноль“ Черноморского судостроительного завода был разделан на лом авианосец „Ульяновск“ при общей готовности 17 % и готовности корпуса, примерно, 85 %. По размерам он был в полтора раза больше „Варяга“…
Но вернемся к стихотворению „Металлолом“. Его перевела на китайский язык по заданию журнала „Modern ships“, издающегося в Пекине, переводчица Виктория Чен… Она обратилась ко мне с просьбой пояснить значение и смысл некоторых строк. Вот, например:
Корабел — человек железный. Неоплаченная, сползла по небритой щеке, как лезвие, металлическая слеза.Я ответил Виктории Чен, что… слово „неоплаченная“ — от слова платить, но не от слова „плакать“. В стихотворении — у судостроителя прокатилась слеза при виде проданного на металлолом его детища — авианосца „Варяг“. Но эта слеза „неоплаченная“, так как возместить потерю корабля ничто не сможет. Наверное, так думал поэт.
Решение о продаже „Варяга“ принимало правительство Украины. Но и Россия была причастна. Она согласовывала все документы, так как требовалось подтверждение, что „секреты“ Черноморским заводом не передаются. Этим она подтверждала, что корабль ей не нужен. Теперь многие спрашивают: „А чего это вдруг китайцы ввели в строй наш авианосец?“ Потому что оказались умнее.
…Нужно еще сказать, что стихотворение „Металлолом“ было навеяно поэту действительным фактом. Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы директор Черноморского судостроительного завода Юрий Макаров стал свидетелем высочайшего технического взлета, а также краха и агонии предприятия, в которое вложил столько сил и здоровья. Ранним утром 14 июня 2000 года от новой набережной ЧСЗ тяжело отошел шестой недостроенный черноморский авианосец — „Варяг“, проданный после нескончаемых торгов в Китай. Его, надрываясь, тащил от родного причала голландский буксир с командой, в которой преобладали филиппинцы. Десять лет назад такое могло присниться только в страшном сне. Тяжелобольной Юрий Иванович провожал „в последний путь“ „Варяг“ возле своего домика на Волошской косе, что в 15 километрах ниже завода по лиману, и обслуживающий персонал базы видел, как по его щекам катились слезы.
Юрий Иванович Макаров умер 2 июня 2002 года, за два месяца до приезда Вознесенского в Николаев, и поэту рассказали эту историю. И хоть в стихотворении не упоминается имя Макарова, фактически он посмертно стал героем этого стихотворения.
Андрей Вознесенский написал стихотворение „Металлолом“ за одну августовскую ночь 2002 года и утром отдал в газету „Вечерний Николаев“… Заставляют задуматься и заключительные строки стихотворения, адресованные потомкам, которые в новых условиях читаются по-новому: „Я хочу, чтоб нас простила / сдуру проданная в бардак / николаевская Россия / и святитель ее ‘Варяг’“…
На Лимане луна, как клавиши. А сама кругла, как печать. Всем прощаете, николаевичи, только рано еще прощать.Гениальный поэт всегда видит дальше, чем нам кажется это на первый взгляд» (Вечерний Николаев. 2014. 5 июня).
* * *
Странная это хроника — поэт на переломе двух столетий. Вознесенский забыт! — кричали критики. А поэта ждали всюду. Слова ловили жадно. Будто чувствовали: только Речь, только Поэзия удерживают раскачанное время. Хотели услышать что-то очень важное, что поможет пережить смутное время.
Что вычитал у Вознесенского николаевский судостроитель? Из «Металлолома» — торопливого, как вдох и выдох, — вставала тень большой страны, которую продали ни за грош. Ну, в девяностые все продавали. А кто не продавал — тот лох.
Как хороши, как свежи были президенты, разделившие народ. Как хороши, как свежи олигархи с лондонским прононсом — им ли наши невзрачные грязи. Как радовался мир, пока российский лидер пританцовывал под «Девочку в автомате». Как вообще приятно, что Россию можно, как медведя, посадить на цепь — и напоказ. Совсем немного лет пройдет, и станет ясно — там, за горизонтом, даже распоследняя американская милашка Псаки знает истину: как распорядиться Россией.
Вот это Вознесенский и предчувствовал — все отчетливее. Такого Вознесенского старались не замечать — ни сотоварищи, ни недруги, ни патриоты, ни либералы.
Что сказать на это? Вознесенский, безусловно, был либералом. Вознесенский, безусловно, был патриотом. И державником. И человеком мира. И кем-то еще. Однако как поэт он оказался глубже, как человек порядочнее, — чтобы умещаться в трафаретных рамках «корпоративной истины», «морали для своих».
И потом, он ведь знал: спасательным кругом для мира и для «карты огненной России» останется только любовь.
Можно все потерять, — главное, чтобы оставался навык: любить. Страну, людей, метафоры и женщин.
Я тебя очень… Мы фразу не кончим
В двухтысячных стал пропадать голос. Расстроенный Аксенов выбегал из зала — переживал за Вознесенского, которого помнил еще… ах, каким звонким он помнил его! И вдруг — из зала вслед за Василием Павловичем несся голос того самого, прежнего Вознесенского. Что за чудо? Так происходило в последние годы жизни поэта не раз. Едва он выходил на авансцену, к своему читателю, и голос прорезался вдруг.
В 2002 году уже он написал: «Голос теряю. / Теперь не про нас / Гостелерадио. / Врач мой испуган. Ликует Парнас — / голос теряю. / Люди не слышат заветнейших строк, / просят, садисты! / Голос, как вор на заслуженный срок, / садится…»
Веру наивную не верну. Жизнь раскололась. Ржет вся страна, потеряв всю страну. Я ж — только голос…Сколько ему еще отмерено? Вознесенский просил в «Автореквиеме»: «Дай, Господь, еще мне десять лет! / Воздвигну Храм. И возведу алтарь. / Так некогда просил другой поэт: / „Мне, Господи, еще лет десять дай!“ / Сквозь лай клевет, оправданных вполне, / дай, Господи, еще лет десять мне…»
Будь я — Господь, а Ты, Господь, — поэт, я б дал тебе сколько угодно лет.Вознесенскому дано будет восемь. Болезнь отнимала тело. Тело с каждым днем все меньше казалось приспособленным к земному и суетному. Но на его изможденном болью лице светились совершенно детские глаза. Совершенно живые и ко всему любопытные.
Тут самое время дать слово Ане Калининой-Артемовой, которая отправилась однажды, в конце 1990-х, на встречу с поэтом. По заданию «Комсомолки».
* * *
Рассказ журналистки Ани Калининой-Артемовой о пирсинге и видиоме на животе:
«К концу 90-х я уже вышла из подросткового возраста, так что окружающие страшно удивлялись: зачем 26-летней старушенции надо было прокалывать себе пупок? Заживало все на удивление долго, и — поскольку такая красота „животная“ далась мне нелегко — я ею очень и очень гордилась.
Как раз в ту пору в „Комсомолку“ на „прямую линию“ с читателями должен был прийти любимый наш поэт Андрей Вознесенский. Общался он с нами обычно охотно, однако… в тот раз он вдруг свалился с жутким гриппом. Читатели звонили, мы всё объяснили, записали вопросы, и… Меня с этими вопросами отправили на встречу с выздоравливающим поэтом. Поэт, к его чести, не заставил меня добираться в Переделкино, а предложил встретиться в центре, в одном из ресторанов…
И вот он появился, кутаясь в шейный платок, шмыгая носом и шепча что-то из последних сил. Ему было действительно плохо, температура, совсем не до меня, не до кофе и не до читательских вопросов. Я призналась, что по его, живого классика, видеомам я писала курсовик на первом курсе журфака. Он хмыкнул и заскучал. Разговор не клеился. Вопросы читателей кончились, и…
И тут я, ничтоже сумняшеся, чтобы заполнить паузу, сказала: „А я тут недавно пупок проколола. У меня теперь там пирсинг“.
Простуженный мэтр вдруг превратился в бодрого любопытного ребенка! Глаза загорелись. Кажется, волосы на его голове зашевелились от неведомых мыслей. „Дай посмотреть!“ — прошептал он. Я стыдливо заголила пузико.
Тут начался перформанс. На глазах у жующих сограждан поэт взял широкий черный маркер и нарисовал у меня на пупке глаз. Было щекотно. Я начала восторгаться и одновременно сокрушаться: такая красота, а вдруг сотрется, до редакции не донесу, зима же!
Поэт широким жестом извлек свой носовой платок. „Этот вроде еще чистый“, — вынес вердикт, изучив его тщательно. Нарисовал на нем еще один глаз и отдал прикрыть красоту на моем животе.
После чего на белом листе Вознесенский — вместо обычного в таких случаях автографа — „читателям газеты от поэта“ — нарисовал Венеру Милосскую без головы и конечностей. Все с тем же зрячим пупком. Он, кажется, тут же забыл про меня, воображение явно уносило его куда-то вдаль, в запредельные сферы, где летают пегасы и ангелы.
…Он, кажется, даже не заметил, когда я ушла. В дверях я обернулась: поэт одиноко сидел за столиком и что-то размашисто рисовал на листах бумаги.
„Прямую линию“ опубликовали со свистом. Глаз на моем пупке производил на всех неизгладимое впечатление. Хотя дома — муж ревниво косился.
Дырка в пупке давно уже зажила. Позже я узнала, что примерно в те же годы, когда я встречалась с великим поэтом, у него вышел сборник стихов „Девочка с пирсингом“. Да, я, естественно, прочла. Ничего общего у меня с лирической героиней. Наверное, не я одна была тогда „девочкой с пирсингом“. Но все равно приятно думать, что такая ерунда — мимолетный эксгибиционизм девчонки, пытавшейся разговорить живого классика, — тоже был источником для вдохновения…
В тебе живет сияние. Безжалостно из тьмы пупок проколотый мигнет. Меж топиком и джинсами, как жалюзи, просвечивает солнечный живот».* * *
Это только казалось: старый, больной. Это только казалось: откуда взяться чувству, которое «как спирт ударит нашатырный»?
Точно замочки, дырочки в мочках. Сердца комочек чмокает очень. Чмо нас замочит. Город нам — отчим. Но ты меня очень, и я тебя очень… Лето ли, осень, — всё фразу не кончим: «Я тебя очень…»Глава пятая ХОТЯ Б МИНУТУ ЕЩЕ!
Рассказ Зои Богуславской
Май 2011-го, Переделкино. Дом русского поэта Вознесенского на улице Павленко. По цоколю дома по-прежнему бежали буквы, сплетаясь в кольцо: цокольцокольцо.
В жизни Андрея Вознесенского многое было закольцовано. И Россия, ходя по кругу, стала — Poesia. И стихи не костенели, переплывая в новый век: стиXXI.
Рыжая кошка Кус-кус закольцовывает свои зигзаги, приземляясь на стул поэта. Стул неказист и прикреплен под соснами к земле — чтобы не выписывал ненужные кульбиты, когда усаживался на него Андрей Андреевич.
«Привет, Кус-кус», — оттаяла Зоя. И объяснила: «Она у нас довольно своенравная особа. Но раньше часто сидела у Вознесенского на коленях. А теперь вот не у кого».
Прошел год, как ушел из жизни Андрей Вознесенский. Нелегкий год, который Зоя Богуславская прожила без него.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АНДРЮШИ. «В тот день, первого июня 2010 года, даже за полчаса до того, казалось, ничто не предвещало, что это случится именно сейчас. Сам он есть уже не мог, покормили, как было положено, измельченной пищей. Вдруг у меня на глазах он побелел, я вижу, что ему все хуже и хуже.
Я спрашиваю: «Что с тобой?»
А он мне: «Да что ты, не отчаивайся… Я — Гойя». И улыбнулся еле-еле.
И я ему в ответ: «Глазницы воронок мне выклевал ворон, слетая на поле нагое».
А он смотрит так пристально-пристально.
Еще вчера, тридцатого, из-за забора, из дома Пастернака, доносились звуки Шопена, исполнилось ровно полвека со дня смерти Бориса Леонидовича… Он прислушивался: «Что за музыка играет?» И я понимаю, что в его дурьей башке соединяется эта вот дата смерти Пастернака — и то, что и он умирает. И, чтобы хоть как-то увести его от этих мыслей, отмахиваюсь небрежно: «Ну что там — как обычно, музыкальный вечер».
Я же столько раз выводила его из этого состояния! И реанимация приехала довольно быстро. Пытались что-то сделать, но — ничего. Может, я что-то не так сделала? Я никак не могла поверить, что это — все. Позже установили, что случилась полная интоксикация организма — мгновенно. Спасти его было уже невозможно.
За три недели до этого дня, 12 мая, Андрюше исполнилось 77. Приехало много гостей, столы накрыли, все шумели и веселились. Андрей ничего есть не мог — покормили заранее. Зато он очень радовался — привезли с пылу с жару из издательства новую книгу его стихов — «Ямбы и блямбы»… Кто мог знать, что жить ему оставалось всего ничего.
После смерти Андрея у меня пропал сон. Дней десять, наверное, не сомкнула глаз. Как в бреду. Леня, сын, увез меня, чтобы хоть как-то привести в чувства. Потом я стала записывать все, что вспоминалось, на диктофон. Пять кассет наговорила сразу за несколько дней…
Столько ходило мифов, так они мне надоели. Про то, что он хотел быть похороненным в Переделкине, что умер от пятого инсульта, от четвертого инфаркта… У него не было никогда ни одного инсульта или инфаркта, вообще он был стопроцентно здоровый человек — если бы не эта болезнь. Может быть, поэтому мне удавалось 15 лет спасать его при таком смертельном диагнозе, поставленном в клинике Бурденко: атипичный Паркинсон. И ведь он так много работал все эти годы…
Понимаете, у него все пошло по этому треклятому Паркинсону: отказывали руки-ноги, потом голос, пропала чувствительность. Все это со страшными болями — отсюда его «Боль»: «Вижу скудный лес возле Болшева… / Дай секунду мне без / обезболивающего! Бог ли, бес ли, / не надо большего, хоть секундочку без / обезболивающего! / <…> Разум стронется. / Горечь мощная. / Боль, сестреночка, невозможная! / <…> „Вся душа — как десна воспаленная. / Боль — остра, / боль — страна / разоренная“…
Это право на боль и дает тебе право на любую любовь, закидоны и славу.Все эти 15 лет мы делали все, что возможно. Ездили в международные центры к лучшим специалистам по Паркинсону, находили редкие лекарства, массажистов, выдерживали жесткие диеты. В апреле 2010 года поехали на лечение в Германию, и все шло хорошо, пока однажды Андрей не поперхнулся. Тогда консилиум настоял на том, чтобы ему поставили в желудок гастростому — поскольку отказывали мышцы горла, он мог задохнуться от еды.
Он держался героически, не ныл, не капризничал. Его еще поддерживала иллюзия, что, если я рядом, все образуется, я всегда смогу помочь. Может, и правда, мне удавалось как-то забирать его боль. Мы могли часами теперь исповедоваться друг другу, раскрывать такие тайны, в которых прежде не признались бы ни за что. Если меня не было дома, я звонила каждые два часа, и он все теребил сиделку Леночку — скоро Зоя приедет? Кажется, я изучила про этого Паркинсона все. Придумывала что-то, чтобы скрасить его одиночество.
Знаете, так сложилась жизнь. Когда-то девятиклассницей в войну я очутилась с родителями в эвакуации в Томске. Отец был профессором, преподавал, занимался тяжелым машиностроением. Мать заведовала в военном госпитале отделением тяжелораненых. И я, после краткосрочных курсов, пошла в тот же госпиталь ночной медсестрой. И та прививка сочувствия и сострадания, полученная мной с юных лет, потом влияла на всю мою жизнь. Как сейчас помню, один больной лежал без рук и без ног. Голова — необыкновенной красоты. И вот он рассказывал, что они с женой чуть не 17-летними родили близнецов. И он считал, что не может вернуться таким, просил, чтобы я его „усыпила“ — все равно, мол, ему не жить. Но я все равно нашла его жену, она приехала, целовала все его культи, рыдала и увезла его домой… Такая была история.
И я, и Андрей — мы ведь прожили немаленькую жизнь, и каждое десятилетие было целой отдельной эпохой. Тридцатые годы, война… Если говорить о человечности, солидарности, патриотизме в том понимании, в котором я это вижу, — как ни странно, самым безусловным периодом была для нас, конечно, война, Великая Отечественная. Когда не было никаких инородцев — хотя рядом работали и воевали люди совершенно разных национальностей. Все были русские, советские, и каждый мог отдать жизнь за товарища, будь он узбек или еврей. Такое теперь и представить себе невозможно…
Почему я об этом вспомнила? Просто и я, и Андрей, — мы выросли на этом. Может, потому, и когда он так тяжело болел, он не позволял себе ни ворчания, ни хандры, ни депрессии… А мне… Мне всегда важно было понимать, что я нужна. Со мной в разведку ходить можно. Я никогда не становилась впереди него. Со дня нашей женитьбы до его смерти прошло 46 лет — мне говорили: отчего два творческих человека смогли так долго сосуществовать? Да оттого, что я никогда не ставила себя рядом: он нужен миллионам, у меня свой читатель, пусть это какая-то камерная группа людей, — я не претендую на большее.
И когда после смерти Андрея мне стали говорить: ты вышла из-за спины… Лучше бы я никогда никуда не выходила».
ПРОЩАНИЕ. «Четвертого июня часть людей, обманутая слухами, поехала хоронить Андрея Вознесенского сюда, в Переделкино. Возвращаюсь в тот день едва живая, а они стоят: „А где же его похоронили?“ Я говорю, как где, — на Новодевичьем. Была еще парочка статей, будто вот сам он хотел быть похороненным поблизости у храма в Переделкине… Я тогда прямо в крик кричала, что ничего он этого не хотел! Он всю жизнь считал, что будет похоронен рядом с родителями… Сколько сил он потратил, чтобы похоронить на Новодевичьем отца, потом рядом с ним мать. Там же, кстати, и его бабушка, Андрей сам сделал проект памятника, Зураб Церетели помог его изготовить и установить… И, боже мой, после этого я буду слушать кого-то — в этом храме, в том храме?
Так что похоронили на Новодевичьем, на том же четвертом участке. Хотя тоже — чего мне это стоило… Я же была, как чокнутая, всем этим занимался сын… И Леня говорит: отказали нам с Новодевичьим, Лужков еще тогда был мэром. Я как представила себе, что Андрей нас слышит, — про Ваганьково, где никого, ничего…
Потом звонит какая-то женщина из Моссовета, тоже говорит: должна вас огорчить, Зоя Борисовна. И она слышит, как дрожит мой голос: ну как же они могли, ну вы же женщина, как же они могли, у него там родители, мы же не ради почета и Новодевичьего… И она мне: „Как — родители? Что же вы раньше не сказали?“ Я говорю: ну, как же, это и в заявлении написано. Она поняла: что-то тут не то — нравится Лужкову Вознесенский или не нравится… И она перезвонила через полчаса — все были потрясены, — сказала, что вынула все документы, хотя они подписаны уже на Ваганьковку, и всё переделали… Дальше начались уже проблемы с кладбищем, но про эти детали уже не будем. Понимаете, чувство несправедливости — оно обиднее всего в таких ситуациях. Но мы с Леней все же выполнили последнюю волю поэта Вознесенского».
ЗЕЛЕНАЯ ЛЕСТНИЦА. «Эту лестницу, ведущую сразу на второй этаж из сада, я для Андрея построила, когда ему стало трудно подниматься в доме. О ней — в одном из последних, неопубликованных при жизни Андрея стихотворений. Я прочла „Дом с ручкой“ в фильме „Андрей и Зоя“: „Как живется вам, мышка-норушка? / С наружною лестницей дом / походит на кофейную кружку, / перевернутую вверх дном. / Каждый день в этой ручке волшебной / я спускаюсь ступеньками в сад, / где подтеками божьего щебня / вековые березы висят“…
Здесь мы жили глухие к наживе, обожали „морепродукт“, пусть беспамятно ноги чужие по ступенькам нашим пройдут. Пусть прослушка или наружка постепенно с ума сойдут: „Почему она светится, ручка? И куда те ступеньки ведут?“Фильм начали снимать при его жизни. Я не хотела сниматься, они меня и уговорили, Андрей и Ленька. Я говорила, давайте дождемся, когда голос у Андрея появится, он же у него то появлялся, то исчезал. Я хотела, чтобы он сам снялся в этом фильме. И представляете, он у меня на руках умирает, все это недоснято, я падаю с лестницы…
Когда снимали, в перерывах, я звонила Андрюше, спрашивала: котенька, ну как ты там, укол сделали, ну, я скоро приеду. Я не знала, что они всё сняли. Потом рыдала, а мне говорят — в этом самая фишка, видно же, что ничего не подстроено… (Плачет.) После похорон мне казалось, что все эти первые серии выглядят нелепо, я там рассказывала какие-то веселые истории… В общем, уговаривали меня долго, и я согласилась сняться в последней, четвертой серии, только если сделают врез, что первые три — снимались при жизни Андрюши.
Там не столько наша любовь, сколько через меня пропускается все наше с Андреем время… Отчего все-таки случилась с ним эта болезнь? Никто не мог ответить. Я же убеждена, что сказались и все эти его автомобильные аварии, и даже те скандальные крики Хрущева. Он физически тяжело перенес это тогда, недели две его рвало, и никто не мог понять, что с этим делать. Это сейчас кажется — ну, покричал, что с того? А тогда самодержцы были всесильны, и, если Хрущев говорил: „Вон из Советского Союза, господин Вознесенский!“ — значит, завтра его запросто могли выдворить прочь. А для Андрея Андреевича расстаться с Россией было так же невозможно, как расстаться со способностью писать стихи. В этом не было никакого пафоса — он так был устроен. Хорошо это или плохо, патриотично или нет, — он был создан из русского языка, русского воображения, русских метафор.
Я уверена, что внутри любой системы — кроме чисто фашистской — можно жить относительно свободной жизнью. Свобода же внутри нас. А то, что снаружи, — часто бывает слишком обманчиво. И Андрей, и я не позволяли себе подстраиваться под то, что противно, делать в жизни то, что нам претит.
Как-то приехал в Москву Уильям Джей Смит, очень крупная фигура в американской поэзии, — он переводил Вознесенского, — и Андрей Андреевич должен был выступить на пару с ним на вечере поэзии в американском посольстве. В этом самом посольстве он в это время был, когда вдруг меня вызывают к генералу КГБ Ильину, курировавшему Союз писателей. И он говорит мне: „Как ты могла разрешить Андрею, не отговорить его от этого выступления в американском посольстве, когда американцы только что провели испытания бомбы в Неваде?“ Я на него смотрю в недоумении — иногда извилины меня спасали — и говорю: „Виктор Николаевич, откуда же я знала, что американцы взорвали бомбу, если об этом нигде не писали?“ Он задумался. Я перешла в наступление: „Во-первых, я слышу это впервые от вас. А во-вторых, я никогда не буду этого делать“. Он удивился: „То есть как не будешь? Почему?“ — „Не буду, хоть режьте. Меня мама этому не учила“. И все. Никогда я не поддавалась на их уловки. Еще меня вызывали, когда я подписала письмо 63-х в защиту Синявского и Даниэля. После этого шесть лет не выпускали никуда за границу. Ну, не выезжала — ну и что?
К счастью или к несчастью, по предопределенности или случайно, — время изменилось совершенно. То, что могло быть препятствием в прошлом, — в век сайтов-блогов-твиттеров стало невозможным абсолютно. Самовыражаются все, как могут, для этого уже и таланты не требуются. Через минуту вы узнаете всё — что было и, нередко, чего не было. Какие тайны бытия? Закрытость исчезла из человеческих отношений, из человеческого творчества. Может ли человек жить и творить, может ли существовать поэзия, если исчезает тайна? Но такова реальность. Мир меняется технологически, технически и геополитически. А вместе с ним — перевернулась и шкала ценностей для живущего поколения, понимаете?
Не может быть ценным листок тетрадки, которую кто-то хранил, потому что там след слезы Мандельштама. Какая ценность в засушенных цветочках из тетрадок Марины Цветаевой, которые хранятся в РГАЛИ? Ничего этого не надо. Вообще есть попытка уйти из прошлого с такой скоростью, что когда-нибудь это все будет очень дорого стоить, наше время… Так же, как „моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед“, — настанет свой черед и этой слезе, и цветочку.
Не знаю, возможен ли беспристрастный, трезвый взгляд на прошлое — что в нем подлинно и ценно? Возможно, для этого прошлое должно стать исторической реликвией, достоянием времени, а не отражением твоих эмоций, счетов, обид и пристрастий твоих родителей. Взгляд у меня скорее пессимистичный — что из сегодняшнего времени останется через 50 лет? Хотя вот прошло два поколения, и время само стало возвращать интерес к Великой Отечественной войне — той, о которой первыми написали „Блокадную книгу“ Гранин и Адамович. Появился страх, что все уйдет и ничего не останется вообще. Время сытое, характеры технологичны, мозги рациональны. Дети растут в компьютерах, читают все меньше. Все это создает совсем другую основу, тут неоткуда взяться гениям. Чтобы они появились, нужны массивы красоты, природы и уединения…»
ПАРИЖ-2005. «Делегация была из пятидесяти поэтов и писателей. Мы приехали в Париж — это был март 2005 года, и Россия впервые стала почетным гостем на Книжном салоне, который проводился здесь в двадцать пятый раз. Для Андрея это была очень эмоциональная поездка. Париж он любил сильнее всех заграниц, впервые читал здесь свои стихи сорок с лишним лет назад, в 1996 году французская газета Le Nouvelle Observateur назвала Андрея „самым великим поэтом современности“. Но теперь он ехал больным, почти совсем без голоса, понимая, — приедет он сюда еще когда-то или нет, неизвестно…
Восемнадцатого марта писателей ждали на приеме в Елисейском дворце. И вот Путин с Шираком обходят всех… И Жак Ширак вдруг останавливается возле Андрея, который пытается встать, — мы его посадили, он долго стоять не мог. Но он все же приподнялся, и Ширак наклоняется к нему: „Ну что, поэт, вы помните, как я открывал ваш первый вечер в Париже, когда я еще был мэром?!“ Андрей отвечает: „Конечно, помню“… Как он мог не помнить — тогда все было впервые, знакомство с Эльзой Триоле, Арагоном, Сартром… Да, так вот Ширак и Путин разговаривают с Андрюшей, — а я вижу лица наших писателей… На лицах был шок, недоумение. Как же так, всем просто пожали руки — ну, имена их мало о чем говорили, а к Вознесенскому столько внимания…
А потом случилось вот что. В гостинице Андрей свалился, расшиб голову, залил кровью весь номер. Я в ночной рубашке в ужасе бегу вниз, там старичок, ночной дежурный, не понимает ни по-английски, ни по-немецки, а я от волнения забыла те пять фраз на французском, которые знала. И я просто беру его за руку, тащу в номер, — он видит лежащего на полу Андрея, которого я поднять не могу, и вызывает „скорую“.
„Скорая“ приезжает очень скоро, и мы едем с ним — он на носилках — в госпиталь. Там я вижу — перед нами штук одиннадцать носилок. В основном темнокожие люди. Один зарезал жену из ревности, другой что-то еще, — выяснилось, что дядька в гостинице вызвал городскую „скорую“ для тех, кого на улице подбирают…
Я подхожу к регистратуре, девушка видит, что я иностранка, и пациент — не совсем обычный для них. Объясняю, что он уже час истекает кровью. И его быстро укладывают, три молодых хирурга под местным наркозом начинают рану на голове шить. И вот уже у Андрея на полголовы повязка, которая медленно, но верно намокает кровью. Хирурги говорят: швы снять, не помню точно, ну, дней через пять.
А назавтра он должен участвовать в круглых столах, представлять свои книги на стенде салона… Сколько раз такое было — после аварий, когда он должен был лежать с сильнейшим сотрясением мозга, а он сбегал, потому что надо в издательство, надо куда-то еще. И ничто остановить его не могло — у него служение поэзии носило характер фанатичный… Однажды, когда в девяностых годах к нам в Переделкино ночью забрались три грабителя-наркомана. Приставили мне к горлу нож — а я, зная сумасшедший характер Андрея, боялась пикнуть, чтобы только он не услышал и не примчался сверху, где он спал. Грабители, совсем юные, видимо, думали найти у нас что-то очень дорогое, но наши богатства их заинтересовать не могли. Я говорила, берите, что хотите, только уходите… Потом одного из них, очень скоро, поймали. И я написала заявление, что не имею претензий — не хотела, чтобы этот мальчишка пострадал: у негоже жизнь только начинается… Но я не об этом. Просто вот эта его безоглядность во всем, это нежелание хоть раз по-человечески долечиться, — вот с этим всем в конце концов и связан его Паркинсон, его кончина.
Ну, так было и теперь. Двадцатого мы отправились на книжную ярмарку на встречу с читателями. Отправились — громко сказано. Я помню, как все писатели сидят и смотрят — а я не могу затащить его на себе в автобус. Так бы и смотрели, если бы не Дима Быков — он подхватил Андрея Андреевича и чуть не на руках внес его вместе со мной. Я была очень ему благодарна. А потом на ярмарке надо было идти до павильона пешком — километра четыре… Слава богу, переводчицы меня поняли, усадили его в коляску — он не соглашался, но его усадили… И, можете себе представить, читатели выстроились в очередь, он сидел с абсолютно белым лицом, — но подписал каждому, абсолютно все до последней книги.
В какой-то момент кто-то нам говорит: а вы не идете на вечер, который организовал профессор Никита Алексеевич Струве? Там представляли изданный только что сборник „Русские поэты сегодня“. И Андрей тут же говорит: конечно, поедем.
И вот мы приезжаем, входим. Андрей с перевязанной головой, как раненый боец. Я вижу — рядом со Струве сидит Костя Кедров со товарищи… Они не знали даже, что он упал. Сказали здесь, что он уехал куда-то… Я поддерживаю Андрея за руку, чтобы не упал. И все сто двадцать две телекамеры, что там были, тут же разворачиваются к двери, в которую мы входим — Вознесенский же почетный академик Европейской академии искусств, единственный член Академии Гонкуров (и еще восьми мировых академий), абсолютно известное там лицо. Но прежде чем камеры успели повернуться, Костя уже оказался между мной и Андреем… Это был класс. Будто не я пришла с Андреем, а он, Костя Кедров.
Нет, справедливости ради я должна сказать: он знал Вознесенского наизусть, много писал и рассказывал о нем и о себе. Я же всегда благодарна каждому, кто любит поэзию Андрея. Просто при этом не надо пытаться владеть его телом, его мыслями, его личностью, как никогда не позволяла себе этого я».
ЯМБЫ И БЛЯМБЫ. «Владимир Кочетов, редактор и издатель, работал с Андреем Андреевичем над последней книгой. Когда каждую строчку, каждое слово приходилось угадывать по губам… Он спрашивает Андрея: „Вы сказали ‘полет’?“ Тот качал головой: „Нет“. — „А как?“ И так, пока не поймет или не угадает слово. Фразу за фразой, каждую строчку. На таком подвижничестве этого редактора и самого Андрея создавалась книжка „Ямбы и блямбы“. Я положила Андрею Андреевичу в гроб сигнальный экземпляр, который он успел посмотреть…
Вообще он всегда все читал мне — и мог понять мою реакцию уже по физиономии. Я не выстраивала отношения на том, чтобы потакать или просто поддакивать ему. Но максимум того, что я могла сказать — что-то вроде: „Мне кажется, ты еще можешь подумать“.
Он часто говорил, что лучшая его поэма — „Оза“, но вовсе не факт, что я с этим согласна. Я всегда отрекалась, что в поэме изображена я. Хотя там есть: „Знаешь, Зоя, теперь — без трепа. / Разбегаются наши тропы. / Стоит им пойти стороною, / остального не остановишь…“ Там очень много взято из моей личной жизни, но это все равно художественный, претворенный во что-то образ, которому я абсолютно не соответствую.
У него были очень странные пристрастия. Например, он очень любил свои „Крестики-нолики“ — сборник коротких парадоксальных фрагментиков из жизни крестиков и ноликов. „Крестик был тюремной решеткой. Освободился. Пошел по стране. И только разводил руками“. Или, например: „Джойс назвал женщину флейтой с тремя дырками. Крестик не считал. Балдел от музыки“.
Андрей очень любил детские стихи: „Человек надел трусы, / майку синей полосы…<…>/ По утрам, / надев трусы, / не забудьте про часы“. А тот же Кочетов вспоминает, что Андрей очень дорожил своей поэмой „Я — Аввакум“. „…Многих эта речь оттолкнула, но в ней отблеск того огня, что сожжет самого Аввакума“.
Жить с человеком такой высоты одаренности, как Андрей Андреевич, конечно, непросто. Научил ли он чему-то меня? Прежде всего — любить природу. Дача для меня была заточением: в Москве жизнь кипит, а здесь? Но сейчас я могу сказать: дача в Переделкине — что-то божественное, данное мне для продления жизни и творчества. У меня там и цветочки посажены, между прочим.
Конечно, Андрей научил меня понимать его. Более разных людей, чем он и я, когда мы сбежались, не было. У него есть в „Озе“: „Противоположности свело. / Дай возьму всю боль твою и горечь. / У магнита я — печальный полюс, / ты же — светлый. Пусть тебе светло“. Я действительно никогда не отчаиваюсь, не унываю или не показываю этого. И он как-то погружался в эту мою логику: „Все временны, приходят и уходят, а поэзия вечна. То, что ты делаешь, ты делаешь не только для этого поколения“.
Но противоположны мы были вот в чем. Я — эталон обязательности. Андрей Андреевич считал, что есть нечто главное — и есть второстепенное, чем можно жертвовать. В результате он становился эталоном необязательности.
Вот характерная история. 29-летнему Андрею Андреевичу, мальчишке еще, предложили провести вечер поэзии в Большом зале Консерватории. Он сказал, что выступит, но в восторге улетел в Ялту… Кстати, с Крымом у Андрея Андреевича связано очень много всего. В Ялте случилось наше с ним… сближение. Никитский сад, Массандра — каждое из этих мест могло напомнить ему о чем-то, некогда вдохновившем… Так вот, мне каждый день звонит эта Консерватория: „А где он? Репетировать ему надо, не надо?“ Я отвечаю: „Он будет“. Он мне звонит как ни в чем не бывало: „Милая, как ты?“ И за два дня до вечера я получаю от него телеграмму: „Милая, приехать не смогу. Цветет миндаль“. Всё. Тут раскуплены все билеты, битком набитый зал, звонит администрация, собираются прийти Рихтер, Нейгауз, вся музыкальная элита — а у него „цветет миндаль“? Я не передам уже степень моей тогдашней ярости. Когда он позвонил, я сказала: „Если ты не прилетишь, забудь мое имя“. Он прилетел.
Конечно, мы были молоды, и, может быть, лет десять спустя я бы так ему не сказала. Конечно, моя жизнь с ним была так или иначе подчинена его таланту, гению, называйте как хотите. Время на мое собственное творчество шло — как сегодняшняя культура — по остаточному принципу. Когда он уезжал, — я могла садиться и писать. Я никогда с ним не то чтобы не соперничала… На первом месте у меня всегда было: благоустроить его существование. Так, чтобы и миндаль зацвел, и не сорвалась Консерватория…»
Мы не построили своего храма
Ливень хлынул стеной, когда вышли из церкви, где отпевали Вознесенского. Но едва добрались до кладбища — влажное солнце заблестело новенькой монеткой.
Гроза пролилась на Москву еще раз поздним вечером. Семьсот деревьев повалило. Так уже было — даже страшнее, в девяносто восьмом году, когда «гуру урагана сорок тыщ деревьев унес окрест».
В колокольном эпилоге «Гуру урагана» Вознесенский повторял слова молитвы, охраняющей родной язык, поэзию и землю: «Несемся в прошлое со страшной силой, / но мысль единственная в мозгу — / „Господь, помилуй, Господь, помилуй, / от повторения спаси Москву!“ / Кто под землею, но не в могиле, / чья ненакормленная семья — / его помилуй, ее помилуй, / помилуй верившего меня. / Господь, помилуй собор-расстригу, / где допустили сорвать кресты, / русскоязычную помилуй Ригу, / ей звон малиновый возвести!..»
О чем все гении и мазилы? Помимо разницы в них суть одна — «Господь, помилуй, Господь, помилуй, Господь, помилуй меня». И кантемиры, и мы, дебилы, и мандельштамовская оса: «Господь, помилуй, Господь, помилуй валаамового осла…»* * *
Летом 1977 года поэту Андрею Вознесенскому и прибывшим в Свердловск трудящимся «Литгазеты» коллеги устроили тайную экскурсию в прошлое. Ипатьевский дом, где в 18-м году расстреляли Романовых, царя с семьей, давно был пуст: готовились снести. Легально — входы были перекрыты. Но знавшие лазейки пол-Свердловска тут перебывали. Как ни относись к царю, сумевшему профукать всю державу, — дом, как черная дыра истории, притягивал. Слух о предстоящем сносе дома лишь подогрел любопытство.
Каждый, кто успел сюда проникнуть, отколупывал какой-нибудь кирпич или дверную ручку — уносил с собой «на память», как музейный экспонат. Так у Вознесенского и появился фрагмент деревянного фигурного переплета окна, «на который глядели убиенные перед смертью». Кто-то даже упрекнет поэта: сломал окно в историческом месте. Сказавши «а», неси и дальше околесицу. Тогда уж можно обвинить поэта и в том, что после этого его визита дом и был разрушен.
Если же серьезно — известна всем ирония судьбы: дом Ипатьева ломали по приказу того, кто неожиданно для себя самого однажды станет архидемократическим, жутко антикоммунистическим президентом всея Руси. Эту малосимпатичную неловкость своей биографии Ельцин объяснит в 1989-м лукавой «Исповедью на заданную тему»: «Вдруг я получаю пакет секретный из политбюро — уничтожить дом Ипатьева. Сопротивляться было невозможно. И вот собрали технику и за одну ночь разрушили»… То есть из этого должно быть ясно: сам Ельцин — только жертва секретных обстоятельств. Все «демократы» девяностых оказались жертвами. Мир, как известно, вечно тонет в фарисействе. Вот в этом самом он и утонул наконец — в девяностых.
Что со страной происходило, то и с Вознесенским. Крутило и шарахало. Но взгляд на время сквозь Ипатьевский оконный переплет сильно корректировал зрение.
Боже, храни народ бывшей России! Решетка впечаталась в серых зрачках Мальчика с вещей гемофилией. Не остановишь кровь и сейчас. («Ипатьевская баллада»)Половину той решетки Андрей Андреевич тогда же, в 1990-х, подарил Историческому музею. Вторую — как объяснил, «на всякий случай» — миланскому музею Фельтринелли, семейства, тесно связанного с именем Пастернака. В переводе на русский язык, отдал той самой итальянской музе, Инге Фельтринелли (ах, апельсины, апельсины!). Но что означало это его «на всякий случай»?
Как расчудесны были президенты, пилившие страну ножом и вилкой, как закуску к беловежскому застолью. Нет, Вознесенский, как и вся страна, надеялся на лучшее. Точек опоры не было? А перед чем благоговел герр Кант: звездное небо над головой и моральный закон в голове? Вот так, по Канту, и пытался рассуждать поэт.
Он не прокурор — для приговоров. Он не знает всех нюансов. Он знает лишь простые вещи. Утюжить танками сограждан в Белом доме, ликовать по случаю расстрела «несогласных» вместе с друзьями-либералами — позорно. Не говоря о том, что — противозаконно, чего либералы предпочли не заметить. Точно так же расправляться с женщинами, кто бы и почему это ни сделал, — мерзко. Уже из антилиберальных лагерей его попрекали — и после смерти, — нашел, о ком горевать. А он, как в молодые годы писал «Бьют женщину», — так и теперь не мог молчать, когда омоновец бил по лицу знакомой демонстрантки, когда убийцы караулили в подъездах Старовойтову и Политковскую, когда грозили сроком по делам дурманным поэтессе Алине Витухновской…
Кто-то язвительно кривился от его стихов про «Лето олигарха». Хотя поэт и сам не знал ответов на свои вопросы: «Господь нахулиганил? / Все имиджи сворованы. / Но кто вы — „черный ангел“? / Иль белая ворона?» Интервьюеры спрашивали в лоб: а правда, что поэту так симпатичен денежный мешок Березовский? Он отвечал: «С чего вы взяли?» И терпеливо, и наивно объяснял: ведь главное, что Березовский не влезал в дела «Триумфа», а премию спонсировал — так что же в том плохого? Дело не в том, что «Триумф» возглавляла Зоя Богуславская — жюри этой солидной премии много лет объединяло весь цвет отечественной культуры. Лауреатами становились признанные мастера и молодые имена — и, кажется, все, что было достойного в культуре этих смутных лет, — отмечено «Триумфом». Искать подвоха, подковыривать поэта — много ума не надо. Честнее было бы — перелистать газеты 1990-х, чтобы понять происходившее в стране: когда не оставалось, кажется, ни одного солидного народного артиста, не написавшего по разным поводам тридцать пять тысяч одних благодарностей известным и малоизвестным криминальным авторитетам. Или живчикам из расплодившихся западных фондов. Вопрос был: выживет ли в принципе культура? Хочешь — тони, хочешь — цепляйся. Культурная политика тех лет не оставляла выбора. «Триумф» для многих был действительной отдушиной — и затевался, кстати, он не в Лондоне: в то время благодетель значился как раз могучей тенью власти… Коридоры власти ходят зигзагами. Время всегда противоречиво — поэт же зеркало противоречий.
Вознесенский сам к себе — суровее всяких прокуроров. Завершая труды над своими мемуарными эссе, он написал, как на духу:
«Подумать только, что получается! Стал вспоминать о себе, писать книгу о человеке во времени, а получились наброски, зарисовки русских и иных интеллигентов на переломе, с кем встретился на пути — череда случайных фигур. Череда моих мыслей, поступков следует за ними. Их не поменять! Порой жгучий стыд за них заливает лицо.
Господи, прости меня!
Сколько прегрешений, совершенных и несовершенных было за мою жизнь, тут и гордыня, и гонор, и кощунства, и грех уныния, и глупость, и запутанность в мелочовке — сколько грязных страниц, ошибок, столько ужасов… Такая темнота поперла! Но — все-таки прожитая болевая, нескладная жизнь кажется счастливой, она моя, какая ни есть. И не надо мне иной».
* * *
Однажды Андрей Вознесенский побывал в Иерусалиме. Что потрясло поэта? «Как достоверны пейзажи в Евангельском цикле из „Живаго“ — и путь из Вифании, и дорога вкруг Масличной горы, и пойма Кедрона внизу — хотя Пастернак реально никогда там не был. Скрытая камера поэта документально „гостит в иных мирах“. Науке еще предстоит понять ясновидение поэта…
…Упрятав денежку, арабский мальчуган показывает путь к Гефсиманскому саду. „Вот место, где плакал Бог“… — ткнул он на заросший масличными деревьями склон над стеной св. Магдалины… Все было наполнено эхом разговора, начавшегося две тысячи лет назад. Оно излучало энергию и наполняло смыслом предметы вокруг».
Гефсиманский сад будто шептал Вознесенскому пастернаковское: «Ко мне на суд, как баржи каравана, / столетья поплывут из темноты»…
Первой поэмой выпускника Архитектурного когда-то были «Мастера», о строителях храма. «Купола горят глазуньями / на распахнутых снегах. / Ах! — / Только губы на губах!»
Когда-то он наотмашь восторгался: «Когда тоски не погасить, / греховным храмом озаримый, / твержу я: „Неба косари мы. / Косить нам — не перекосить“». («Храм Григория Неокесарийского, что на Б. Полянке»)
Перед самым закатом столетия он написал свой «Храм»: «На сердце хмара. / В век безвременья / мы не построили своего храма. / Мы все — римейки».
Бог нас не видит. И оттого все наши драмы — мы не построили своего храма.Идеей построить храм по своему архитектурному проекту Вознесенский болел всерьез. Были эскизы, была мысль о церкви в Захарове — подмосковной усадьбе бабушки Пушкина, Марии Алексеевны Ганнибал. Увы, в последние годы для измученного болезнью поэта это был бы слишком неподъемный труд. Хотя он продолжал надеяться.
Александро-Невский храм в Захарове начнут строить уже после смерти Вознесенского. Павел Карташев, протоиерей будущего храма, тогда уже расскажет «Комсомолке»: «Андрей Андреевич говорил о том, что будет организовывать благотворительные вечера, а вырученные деньги жертвовать на строительство храма в Захарове. Но не успел»…
* * *
Пришло время — возвращаться в текст эпохи. Храм поэта — в этом тексте. «В небе молнии порез. / Соль щепоткой, побожись. / Жизнь — высокая болезнь. / Жизнь есть боль, и боль есть жизнь».
Всё завершается?
ЗАВЕРЕЩАЕТСЯ!
Целая жизнь прошла — благодарным «заверещанием»:
«Все запрещается? Заверещается. / Идут циничные времена. / Кому химичится? В Политехнический. / Слава Богу, что без меня. / Политехнический, полухохмический / прокрикнет новые имена…»
И дебаркадерно, неблагодарно, непрекращаемо горячо пробьется в птичьей абракадабре неутоляемое «еще!» Еще продлите! Пускай «хрущобы». Жизнь — пошло крашенное яйцо! Хотя б минуту еще. Еще бы — ЕЩЕ! («Большое заверещание»)* * *
Какой-то корреспондент хотел съязвить: дескать, пока шел на встречу с поэтом, спросил у семерых — «кто это, Вознесенский?». Шестеро ответили. Седьмой фыркнул злобно: «Так он еще жив?»
«А мог ведь и послать вас на три буквы», — улыбнувшись, посочувствовал поэт.
СЛУЧАЙНЫЙ СКОЛ, заменивший послесловие
Век поэта пролетел по параболе — между кострами 1933 года и кострами 2010-го.
Год 1933-й.
За два дня до рождения поэта Андрея Вознесенского, 10 мая, посреди Европы, в Берлине, на площади близ Оперного театра и улицы Унтер-ден-Линден, бойцы Немецкого студенческого союза и гитлерюгенда торжественно сожгли 25 тысяч экземпляров книг ста сорока девяти авторов.
Горели: Максим Горький, Томас Манн с братом его Генрихом, Эрнест Хемингуэй и Карл Маркс, Джек Лондон и Зигмунд Фрейд, Эрих Мария Ремарк и Бертольт Брехт. Горели все, в ком обнаружили намек на «негерманский дух» — Undeutschen Geist.
Жгли под речовки, объяснявшие: у марксиста, еврея и пацифиста есть лишь одно право — сгореть. Книжные пожары 10 мая состоялись в десятках городов. Жгли весь 1933 год: по всей Европе, охваченной и сочувствующей идеологии фашизма, было сожжено 100 миллионов книг.
Зола и пепел — текст эпохи.
Год 2010-й.
В тот год, когда ушел из жизни поэт Андрей Вознесенский, костры мелькали всюду, даже примелькались.
В американском городе Нэшвилл евангелический священник Боб Олд с коллегой сожгли два экземпляра Корана, объявив его «лжерелигией». Их идеолог Терри Джонс предложил объявить 11 сентября международным днем сожжения Корана. Судья Верховного суда США Стивен Брейер в связи с этим заявил CNN, что запретить гражданам сжигать что-либо — значит, нарушить Конституцию.
Следом службы безопасности Ирана ликвидировали «большое количество» (не считали) обнаруженных изданий Нового Завета на персидском языке — как подрывающих устои.
Австралийский адвокат Алекс Стюарт выложил на Youtube ролик, в котором он выкуривает самокрутки из страниц, вырванных из Библии и Корана. Австралиец назвал ролик: «Что лучше горит?» Цель: убедить Интернет, что сжигать книги — дело плевое. Так Интернет не очень-то и спорит.
В том же году, совершив полуденный намаз, сомалийские боевики из группировки Аль-Шабаб разрушили и сожгли подземную христианскую библиотеку коптов в местечке Луук.
Молодые российские «оппозиционеры» из группы «Солидарность» в ночь на 31 июля пляшут у костра, в котором публично жгут книги «кремлевского идеолога» Владислава Суркова.
Одержимый белорусский блогер Евгений Липкович регулярно выводит своих товарищей по «оппозиции» в Севастопольский сквер Минска — книжки пожечь. На сей раз горели труды некоего Николая Чергинца — тот сказал, что от группы Rammstein один вред молодежи. В другие времена будут жечь, скажем, российского фантаста Сергея Лукьяненко — тот почему-то отказался ненавидеть Россию.
В 2010-м Пентагон выделил 47 тысяч долларов на уничтожение книги воспоминаний бывшего военного разведчика подполковника Энтони Шеффера о военной операции США в Афганистане. Десятки тысяч экземпляров «Операции „Темное сердце“» сгорели, потому что были «слишком откровенны», выставляли США в неловком свете и, понятно, содержали «секретную информацию». Шефферу запретили («попросили») общаться с журналистами, книжку обещали издать, если вычеркнет все, что про Америку вслух говорить не должны.
Это неполный перечень костров одного года. Речь даже не о содержании сгоревших книг. Зола и пепел текстов застили глаза эпохи.
Еще одна «пожарная» цитата — из рядовой перепалки на форуме cirota.ru. Изрекает некто «Дмитрий Сергеев»:
«Андрей Вознесенский, наряду с Валерием Брюсовым, Томасом Манном, Уильямом Фолкнером, Хулио Кортасаром, Сэмюэлем Бэккетом, относится к авторам, деятельность которых я не приемлю от и до, готов оспаривать их книги всегда и везде, считаю их деятельность опасной и вредной для жизни человека. Призываю сжигать их книги в качестве культурной акции»…
* * *
Сжигать, говорите?
Так поэты и без того — сплошь самосожженцы.
Двадцатый век разгорался «Облаком в штанах» Маяковского: «Allo! / Кто говорит? / Мама? / Мама! / Ваш сын прекрасно болен! / Мама! / У него пожар сердца!»
Век продолжал «Пожар в Архитектурном» Вознесенского: «О юность, феникс, дурочка, / весь в пламени диплом! / Ты машешь красной юбочкой и дразнишь язычком».
Где ты теперь, юбочка — красная, огнеопасная? Теперь, когда весь мир — и Запад и Восток — на пепелищах фарисейства? И дело, кажется, идет к новым кострам.
А вот не сгорим! Разве что — от пожара сердца.
Андрею Вознесенскому до ухода оставалось всего ничего, когда он написал свои «Фиалки» — отчаянно, как мальчишка, у которого все еще впереди:
Ухаживали. Фаловали. Тебе, едва глаза протру, фиалки — неба филиалы — я рвал и ставил поутру. Они из чашки хорошели. Стыдясь, на цыпочках, врастяг к тебе протягивали шеи, как будто школьницы в гостях. Одна, отпавшая от сверстниц, в воде отплывшая по грудь, свою отдать хотела свежесть кому-нибудь, кому-нибудь…ИЛЛЮСТРАЦИИ
Родители поэта, Андрей Николаевич и Антонина Сергеевна Вознесенские.1969–1970 гг.
Наташа, старшая сестра поэта. Конец 1940-х гг.
Первоклассник Андрюша Вознесенский с отцом и сестрой. 1940 г.
В эвакуации — с верной собакой Джульбой. Курган. 1942–1944 гг.
Андрею Вознесенскому — 16 лет. Фото на паспорт. 1949 г.
Мама поэта в конце 1940-х годов. «Лоб-одуванчик, полный любви»
Юная Марина Маркарянц, в будущем учительница английского. «Борька — Любку, Чубук — двух Мил, / а он учителку полюбил!»
Андрей Тарковский, одноклассник поэта, в школьном спектакле «Остров мира». 1951 г. Фото из архива одноклассника В. Петрова
«Англичанка» Марина Георгиевна Маркарянц (слева) и классный руководитель будущего поэта Фаина Израилевна Фурманова. 1951 г. Любительское фото из архива В. Петрова
Муромский Благовещенский монастырь, где настоятелем был прапрадед поэта Андрей Полисадов. Фото 2013 г.
Надгробие А. Полисадова (слева) на подворье монастыря. Муром. Фото 2013 г.
Андрей Вознесенский — студент Архитектурного института. Москва. 1952–1953 гг. Фото из архива А. Вознесенской
Андрей Вознесенский и Карина Красильникова, студенты Архитектурного, на этюдах в Никольском-Урюпине. 1954 г. «Кариночка Красильникова, / ой! горим!»
Дипломный проект Андрея Вознесенского — павильон строительной выставки. 1957 г.
Фотопортрет Бориса Пастернака, раскрашенный гуашью школьником Вознесенским и подаренный старшему другу-поэту. Хранится в переделкинском Доме-музее Б. Пастернака. Фото 2013 г.
Выпускник Архитектурного Андрей Вознесенский. 1957 г.
Татьяна Самойлова, лауреат премии Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Летят журавли», награжденном «Золотой пальмовой ветвью». Канны. 1958 г. «У ней — зрачки киноактрисы / косят, как кисточки у рыси…»
«Лежу бухой и эпохальный. / Постигаю Мичиган. / Как в губке время набухает / в моих веснушчатых щеках». 1960-е гг. Фото Г. Перьян
Булат Окуджава, Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский. 1960-е гг. «Нас мало. Нас может быть четверо»
Мотогонщица Наталья Андросова. Фото конца 1940-х гг. «Заворачивая, манежа, / свищет женщина по манежу!»
Михаил Светлов, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко в Политехническом музее на съемках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»), 1962 г.
Встреча в Кремле руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией — на трибуне поэт Вознесенский, в президиуме вразумляющий поэта Н. С. Хрущев: «Ишь, какой еще Пастернак выискался!» 7 марта 1963 г.
Андрей Вознесенский и Зоя Богуславская на поэтическом вечере у физиков-ядерщиков в подмосковной Дубне. 1963–1964 гг. «Может, ее называют Оза?»
На премьере спектакля «Берегите ваши лица»: Юрий Любимов, Андрей Вознесенский и Зоя Богуславская (за ними). Начало 1970-х гг. Фото Г. Перьян
Зоя Богуславская, жена поэта, в Театре на Таганке перед премьерой спектакля «Антимиры» по стихам А. Вознесенского. 1965 г.
Андрей Вознесенский и Владимир Высоцкий, исполнитель роли В. Маяковского, перед спектаклем «Послушайте!». Открытие сезона 1966 года в Театре на Таганке. Фото Г. Перьян
Творческие посиделки: американский поэт-переводчик Стенли Кьюниц, Зоя Богуславская, Владимир Высоцкий, Ольга Андреева-Карлайл, внучка Леонида Андреева. 1960-е гг.
Знаменитые поэтические вечера шестидесятых. Новелла Матвеева исполняет свои песни (в центре), среди слушателей А. Вознесенский (стоит) и З. Богуславская (слева от него)
Белла Ахмадулина: «Да будем мы к своим друзьям пристрастны! / Да будем думать, что они прекрасны! / Терять их страшно, бог не приведи!» Начало 1960-х гг.
Кумир поколения. Фото из архива журнала «Юность». 1960-е гг.
На воинских сборах в Закарпатье: лейтенант запаса Андрей Вознесенский с сослуживцем. 1965 г. Фото из архива А. Е. Крученых
Поэтка Юнна Мориц — и поэт Андрей Вознесенский: «Мнемозина на метле» — и «дитя райка и НТР». 1970-е гг. Фото из архива А. Вознесенской
Зоя и Андрей. 1960-е гг. «Заведи мне ладони за плечи…»
Поэт Вознесенский в гостях у друга — председателя колхоза «Советская Белоруссия» Владимира Бедули. Деревня Рясна под Брестом. 1970-е гг. Фото Э. Кобяка
Евгений Евтушенко и Владимир Бедуля, принимающий поэта в красном уголке: «Включили телевизор — а там Вознесенский». Рясна. Конец 1970-х гг. Фото Э. Кобяка
Катание на тройках. Во втором ряду слева — Владимир Бедуля и Андрей Вознесенский. Рясна. 1970-е гг. Фото Э. Кобяка. «Бедуля дует на подземных крыльях! / Я говорю: „Летающий мужик“»
Вспоминая Маяковского. С музой поэта Лилей Юрьевной Брик незадолго до ее ухода. Середина 1970-х гг.
Андрей Вознесенский и путешественник Юрий Сенкевич на Северном полюсе с полярной экспедицией «Комсомольской правды». 1979 г. «Мне полюс говорит: „Пусть мир вращается. / Я постою“»
После премьеры «Поэтории». Справа налево: композитор Родион Щедрин, певица Людмила Зыкина, автор стихов Андрей Вознесенский. 1968 г.
Зоя Богуславская, Андрей Вознесенский, Родион Щедрин и Майя Плисецкая в одно из 14 новогодий, встреченных вместе. 1970-е гг.
Афиша поэтического вечера Вознесенского «Собакалипсис» в Сан-Франциско. 1970 г. «Я хочу, чтоб меня поняли. / Ну, а тем, кто к стихам глухи, / улыбнется огромный колли, / обнаруживая клыки»
Вознесенский с поэтом-битником Алленом Гинзбергом: «Это кто мохнатый вылез?..» 1980-е гг.
Вручение поэту почетной докторской мантии в Оберлине. США, штат Огайо. 27 мая 1985 г.
Друг семьи драматург Артур Миллер с женой Ингой Морат (справа) и Зоей Богуславской. 1980-е гг.
Жаклин Кеннеди и ее любимый поэт. США. 1980-е гг. «Ты не буди меня, мне снится / прощание с Жаклин»
Последняя встреча Вознесенского с Робертом Кеннеди — за две недели до трагической гибели сенатора. США. Май 1968 г.
Боб Дилан, битник и гуру рок-музыки, в гостях у Вознесенского. Переделкино. 1980-е гг.
Поэт и актриса Татьяна Лаврова в Крыму. 1970-е гг. Фото А. Левина
Рок-опера «Юнона и Авось» на сцене театра «Ленком»: граф Резанов (Н. Караченцов) и Кончита (Е. Шанина). Москва. 1981 г.
Создатели не сходящей со сцены рок-оперы в театре спустя годы: композитор Алексей Рыбников, режиссер Марк Захаров, поэт Андрей Вознесенский, актер Николай Караченцов. 1996 г.
Вознесенский с Инге Фельтринелли, вдовой первого, итальянского издателя пастернаковского «Доктора Живаго». Начало 1960-х гг. (верхний снимок); конец, 1980-х гг. Фото из архива И. Фельтринелли
Участники скандального альманаха «Метрополь». Нижний ряд: Борис Мессерер, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Василий Аксенов с женой Майей; верхний ряд: Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский. 1979. Фото В. Плотникова
Поэт и Капа, Капитолина Афанасьева, издавшая в 1960 году во Владимире его первый сборник «Мозаика». Начало 1990-х гг.
Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский — последняя встреча. «Белка, божественный кореш», переживет друга лишь на полгода. 2010 г.
Вознесенский с дочерью Ариной. Конец 1980-х гг. Фото из архива А. Вознесенской
Поэт, его дочь и внук Франческо-Андрей. 2009 г. Фото из архива А. Вознесенской
Борис Гребенщиков и Андрей Вознесенский. 1990-е гг. Фото из архива З. Богуславской
Журналистка «Комсомольской правды» Аня Калинина с автографом-видеомой поэта. 1999 г. Фото В. Веленгурина
Автошарж Вознесенского. 2000-е гг. «Новые русские, извините, / я — старый поэт»
Любимая кошка по кличке Кус-кус. Переделкино. Конец 1980-х гг.
Оза, «судьбаба», муза и жена поэта. 1980-е гг.
«Помнишь, Зоя, — в снега застеленную, / помнишь Дубну, и ты играешь. / Оборачиваешься от клавиш… / Если жив я назло всем слухам, / в том вина твоя иль заслуга». Фото 2000-х гг. из архива З. Богуславской
«Благослови, Господь, мои труды. / Я создал Вещь, шатаемый любовью, / не из души и плоти — из судьбы»
Надгробие Андрея Вознесенского, его родителей и бабушки на Новодевичьем кладбище. Москва. 2010 г.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
1933, 12 мая — в Москве в семье Андрея Николаевича Вознесенского (1903–1974) и Антонины Сергеевны (1905–1983), в девичестве Пастушихиной, родился второй ребенок — сын Андрей (старшая сестра — Наталья).
1941 — вместе с сестрой и матерью уезжает в эвакуацию в Курган; отец, инженер-гидролог, работает в годы войны в блокадном Ленинграде. У входа в курганскую школу № 30, где учился будущий поэт, в 2013 году появится мемориальная табличка в его честь.
1943–1951 — вернувшись с семьей в Москву, учится в мужской средней школе № 554. (Сейчас в этом здании по адресу Стремянный переулок, 33/35 — школа № 1060.) Одноклассником Вознесенского был Андрей Тарковский; на всю жизнь они сохранили приятельские отношения. Школу Вознесенский оканчивает с серебряной медалью.
1947 — отправляет письмо и свои первые стихи Борису Пастернаку; поэт позвонил четырнадцатилетнему подростку и пригласил в гости; с тех пор Вознесенский постоянно общается с Пастернаком, который становится для него главным учителем.
1951 — поступает по совету Пастернака в Московский архитектурный институт (МАРХИ), а не в Литературный, как собирался. Продолжает писать стихи.
1957 — пожар в институтских мастерских на Трубной площади; защита дипломного проекта переносится на два месяца. После успешного окончания МАРХИ молодого архитектора распределяют на работу в Ригу; уезжает, но через несколько месяцев возвращается, твердо решив посвятить себя поэзии.
1958 — в «Литературной газете» и альманахе «День поэзии» выходят первые стихи Вознесенского.
1959, январь — в «Литературной газете» опубликована поэма Вознесенского «Мастера», принесшая ему первую громкую известность. Критики ожесточенно спорят: формализм или подлинное новаторство?
Декабрь — А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Окуджава и другие молодые литераторы участвуют во Всесоюзном писательском совещании, посвященном злободневной дискуссии «физиков» и «лириков».
1960 — почти одновременно выходят два первых сборника стихов Вознесенского: во Владимире — «Мозаика»; в Москве — «Парабола». Главного редактора владимирского издательства К. Афанасьеву понижают за это в должности; тираж изъять не удалось — он сразу же разошелся в книжных магазинах. Самое известное стихотворение — «Гойя» — становится «визитной карточкой» молодого поэта.
30 мая — умер Борис Пастернак. Незадолго до смерти он передает Андрею Вознесенскому из Боткинской больницы записку: «Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил». 2 июня Андрей приезжает на похороны учителя в Переделкино. О знакомстве и многолетней дружбе с Б. Пастернаком Вознесенский расскажет в очерке «Мне четырнадцать лет».
Сентябрь — принят в Союз писателей СССР — в один день с автором книги «Леонид Леонов» Зоей Богуславской, будущей женой.
1961 — первая поездка в Америку, в составе делегации советских деятелей культуры. В Нью-Йорке молодых поэтов Вознесенского и Евтушенко размещают в одном гостиничном номере. Итоги творческой командировки — в новом поэтическом сборнике Вознесенского «Треугольная груша», который выйдет в 1962-м.
1 мая — начинаются съемки фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича»; Вознесенский и друзья-шестидесятники сняты для фильма на поэтическом вечере в Политехническом музее по предложению министра культуры Е. Фурцевой, однако эта сцена станет главным раздражителем для партийных цензоров; фильм выйдет под названием «Мне двадцать лет», выступление поэтов из него вырежут; вернут сцену, как и первоначальное название фильма, лишь в 1988 году. Именно со съемками в этом фильме шестидесятники связывают традицию поэтических вечеров в Политехническом.
1962, 30 ноября — в этот день, по словам Вознесенского, «поэзия впервые в истории вышла на стадион Лужников»; многочисленная аудитория принимает выступление поэтов восторженно. В составе писательских делегаций Вознесенский впервые побывал в Париже и Риме; неожиданным стал головокружительный успех советского поэта на Западе. Вознесенский знакомится с Луи Арагоном, Эльзой Триоле, Жаном Полем Сартром, Андре Бретоном. Издатель пастернаковского «Доктора Живаго» Джанджакомо Фельтринелли предлагает издать его книгу в Италии; с ним и его женой Инге Фельтринелли (возглавившей после гибели мужа издательский дом) у поэта складываются дружеские отношения.
1963, 7 марта — на встрече с творческой интеллигенцией в Свердловском зале Кремля глава партии и правительства Н. С. Хрущев обрушивается на Вознесенского за «непартийность» и «формализм»: «Убирайтесь вон, господин Вознесенский, к своим хозяевам. Я прикажу Шелепину, и он подпишет вам заграничный паспорт!» Вознесенский просит дать ему договорить и читает с трибуны свои стихи; стихи вождю не нравятся. Позже пенсионер Хрущев повинится: был неадекватен, виноват.
1964 — Андрей Вознесенский женится на писательнице и театральном критике Зое Богуславской. С прежним мужем, ученым-конструктором Борисом Каганом, от которого у нее сын Леонид, Богуславская сохранит дружеские отношения. Узы брака свяжут ее с поэтом до последних дней его жизни. Выходит новая книга стихов Вознесенского «Антимиры». Новаторская поэма «Оза», обращенная к Богуславской, — одна из вершин его творчества; ключевая идея поэмы: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек».
1965, 20 января — Вознесенский выступает на сцене Театра на Таганке в первом представлении по его стихам — «Поэт и театр»; из него вырос спектакль «Антимиры», с которого и начался новый поэтический театр Юрия Любимова. «Антимиры» прошли в театре 800 раз; в этом спектакле Владимир Высоцкий впервые спел «Песню акына» на стихи Вознесенского. Вознесенского восторженно принимают в Лондоне на поэтическом фестивале. Он знакомится с выдающимся скульптором Генри Муром. В Англии Вознесенский отказывается подписывать контракт с издателем Флегоном, имеющим славу «нечистоплотного»; в отместку Флегон издает пиратский сборник Вознесенского, озаглавив его «Мой любовный дневник».
1966 — каждый новый сборник стихов Вознесенского становится событием: выходит «Ахиллесово сердце» и мгновенно раскупается. В Америке поэт знакомится с кумиром битников Алленом Гинзбергом, драматургом Артуром Миллером и его женой Ингой Морат, которые станут его друзьями.
1967, июнь — поэту запретили выезд в Америку на фестиваль искусств, пишет гневное письмо в газету «Правда». Письмо резко осудило руководство Союза писателей СССР.
Август — прилетает в Новосибирск; «Литературная газета» публикует провокационное письмо от заграничного читателя, обличающее Вознесенского как «пособника» тлетворного Запада; поэта, выселенного из гостиницы, приютила в Академгородке семья академика А. Д. Александрова; вместо отмененных выступлений поэта они организуют домашние концерты. В Новосибирске Вознесенский посетил первую выставку Павла Филонова.
1968, май — вместе с поэтом Робертом Лоуэллом Вознесенский побывал в гостях у Жаклин, вдовы Джона Кеннеди, в вашингтонском Джорджтауне; общается с сенатором Робертом Кеннеди, кандидатом в президенты США, — знакомы они давно, Роберт Кеннеди писал предисловие к американскому изданию стихов Вознесенского. Меньше чем через месяц Роберт Кеннеди погибнет от рук киллера на встрече с избирателями.
1969 — премьера «Поэтории» композитора Р. Щедрина, созданной на стихи Вознесенского. Поэт выступает вместе с певицей Л. Зыкиной; концерт для поэта в сопровождении женского голоса, смешанного хора и симфонического оркестра признан крамольным. Следующее исполнение «Поэтории» станет возможным лишь через семь лет.
1970, февраль — новый спектакль Театра на Таганке по произведению Вознесенского «Берегите ваши лица» запрещен после двух «открытых прогонов»; одним из поводов запрета стала песня «Охота на волков» Высоцкого, впервые прозвучавшая в спектакле.
20 мая — попадает в автокатастрофу под Алма-Атой с актрисой «Современника» Т. Лавровой и казахским поэтом О. Сулейменовым, который вел машину; все чудом остались живы.
1970–1975 — «ударная пятилетка» Вознесенского: одна за другой вышли четыре новые книги — «Тень звука», «Взгляд», «Выпусти птицу», «Дубовый лист виолончельный».
1972 — одна из самых ярких встреч в жизни поэта: в деревне Рясна Каменецкого района Брестской области он знакомится с председателем колхоза «Советская Белоруссия» Владимиром Бедулей, «летающим мужиком», как назовет его в стихах. С тех пор поэт частенько наведывается к Бедуле, в Беловежскую Пущу, на озеро Свитязь. По приглашению канадского премьера Трюдо прилетает в Ванкувер, где много общается и выступает с поэтами Лоуренсом Ферлингетти, Уильямом Джеем Смитом, Уистеном Хью Оденом, профессором Маршаллом Маклюеном. От последнего впервые узнает историю графа Резанова и его возлюбленной испанки Кончиты. В том же году по мотивам этой истории написана поэма «Авось».
1976 — вышла в свет одна из лучших поэтических книг Вознесенского «Витражных дел мастер».
1978 — по многим поздним свидетельствам, поэт значился главным кандидатом в лауреаты Нобелевской премии, на которую выдвигался уже не впервые; однако получает Государственную премию СССР, что меняет расклад сил в Нобелевском комитете: Вознесенского ввиду «официального» советского признания тут же отодвигают. В Нью-Йорке, по следам несостоявшейся Нобелевки, ему присуждают премию Международного форума поэтов за выдающиеся достижения в поэзии.
Участвует в альманахе «Метрополь», который запрещен цензурой как явление «антисоветское» (в 1979-м выйдет в США). Поэт отправляется с путешественником Дмитрием Шпаро на Северный полюс — для встречи с добравшейся туда экспедицией покорителей Арктики.
Издан новый сборник Вознесенского, также один из лучших, — «Соблазн»: «Человека создал соблазн…».
1979 — на советские киноэкраны выходит фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (получивший премию «Оскар»), где Вознесенский читает у памятника Маяковскому свое стихотворение «Параболическая баллада».
Публикует в журнале «Новый мир» новую поэму «Андрей Полисадов» (написанную по следам своих генеалогических разысканий и поездок во Владимир) — о прапрадеде, которого вывезли когда-то мальчишкой из Грузии в Россию; Андрей Полисадов — названный так в приемной семье — стал архимандритом, настоятелем Благовещенского монастыря в Муроме.
1981, 9 июля — в московском Театре им. Ленинского комсомола (Ленкоме) проходит премьера рок-оперы «Юнона и Авось» на музыку Алексея Рыбникова; в основу постановки Марка Захарова легла поэма Вознесенского «Авось».
1981–1987 — вслед за книгой «Безотчетное» выходит первое собрание сочинений Вознесенского в трех томах. Среди изданных в эти годы книг поэта — «Иверский свет», «Прорабы духа», «Ров».
1982 — в «Новом мире» публикуется «сюрреалистическая» проза Вознесенского: повесть «О».
Начало победоносного шествия по эстрадам, радиоэфирам и телеэкранам песни «Миллион алых роз» на музыку Раймонда Паулса и стихи Вознесенского; записана на пластинке Аллы Пугачевой, выпущенной фирмой «Мелодия»; за год раскуплено шесть миллионов пластинок.
1983, 7 апреля — у Вознесенского родилась дочь Арина Вознесенская; с ней и ее матерью Анной Вронской поэт сохранит теплые отношения до конца своих дней.
Поэт награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Едет во Францию вместе с труппой Ленкома по приглашению давнего друга, знаменитого кутюрье Пьера Кардена; спектакль «Юнона и Авось» больше месяца идет с аншлагами в парижском театре «Эспас Карден».
В качестве архитектора вместе со скульптором Зурабом Церетели создает памятник «Дружба навеки» (или «Дерево языка»), в честь 200-летия заключения Георгиевского трактата о дружбе и единстве России и Грузии; памятник установлен на Тишинской площади в Москве.
1987— при помощи усилий А. Вознесенского и А. Пугачевой фирма «Мелодия» выпускает первый диск опальной группы «Аквариум»; на конверте пластинки помещено эссе поэта о лидере группы Б. Гребенщикове.
1990, 10 февраля — благодаря обращению А. Вознесенского, Е. Евтушенко, академика Д. Лихачева к президенту М. Горбачеву в Переделкине открыт Дом-музей Б. Пастернака.
1992 — выходит книга Вознесенского «Видеомы», представляющая его работы в жанре визуальной поэзии (поэтические тексты совмещены с рисунками, фотографиями, шрифтовыми композициями, инсталляциями).
1993 — становится почетным членом Российской академии образования (десятой в его списке; до этого поэт стал почетным академиком Американской академии литературы и искусства, Баварской академии искусств, Парижской академии братьев Гонкур, Европейской академии поэзии и других престижных академий и университетов мира).
1995 — во время отдыха на Кипре у Вознесенского случился первый приступ болезни Паркинсона.
1996 — во время парижского фестиваля премии «Триумф» (организатор и координатор Зоя Богуславская) газета «Нувель обсерватер» в номере, посвященном Вознесенскому, называет его «самым великим поэтом современности».
1997 — благодаря многолетним хлопотам Вознесенского в Витебске открыт Дом-музей художника Марка Шагала.
2000–2010 — в последнее десятилетие жизни поэта, несмотря на развивавшуюся болезнь, выходят новые книги: «Девочка с пирсингом», «Моя Россия», «Возвратитесь в цветы!», «СтиXXI», «Тьмать».
2004, 15 января — поэт награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени — за большой вклад в развитие отечественной литературы.
2005 — Вознесенский и Богуславская в составе писательской делегации участвуют в работе Международного книжного салона в Париже. «Ну что, поэт, вы помните, как я открывал ваш первый вечер в Париже, когда я еще был мэром?» — спросил президент Жак Ширак.
2006 — издательство «Вагриус» выпускает собрание сочинений А. Вознесенского в семи томах (хотя томов на самом деле восемь — пятый том получился в двух книгах).
2008, 5 мая — награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — за выдающиеся заслуги в развитии отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность.
2010, 1 июня — Андрей Андреевич Вознесенский после продолжительной болезни скончался на даче в Переделкине; отпевание по православному обряду состоялось 4 июня в церкви Святой мученицы Татианы при МГУ. Похоронен поэт рядом с родителями на Новодевичьем кладбище в Москве.
БИБЛИОГРАФИЯ
Основные издания книг и произведений А. А. Вознесенского
Вознесенский А. Полное собрание стихотворений и поэм: В одном томе. М.: Альфа-книга, 2012.
Вознесенский А. Прожилки прозы. М.: ПРОЗАиК, 2011.
Вознесенский А. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Вагриус, 2000–2006.
Вознесенский А. Мозаика. Владимир: Книжное изд-во,1960.
Вознесенский А. Парабола. М.: Советский писатель, 1960.
Вознесенский А. 40 лирических отступлений из поэмы «Треугольная груша». М.: Советский писатель, 1962.
Вознесенский А. Антимиры. М.: Молодая гвардия, 1964.
Вознесенский А. Ахиллесово сердце. М.: Художественная литература, 1966.
Вознесенский А. Тень звука. М.: Молодая гвардия, 1970.
Вознесенский А. Взгляд. М., Советский писатель, 1972.
Вознесенский А. Выпусти птицу! М.: Современник, 1974.
Вознесенский А. Дубовый лист виолончельный. М.: Художественная литература, 1975.
Вознесенский А. Витражных дел мастер. М.: Молодая гвардия, 1976.
Вознесенский А. Соблазн. М.: Советский писатель, 1978.
Вознесенский А. Безотчетное. М.: Советский писатель, 1981.
Вознесенский А. Иверский свет. Тбилиси: Мерани, 1984.
Вознесенский А. Собрание сочинений: В 3 т. М.: Художественная литература, 1983–1984.
Вознесенский А. Прорабы духа. М.: Советский писатель, 1984.
Вознесенский А. Ров. Стихи и проза. М.: Советский писатель, 1987.
Вознесенский А. Аксиома самоиска. М.: ИКПА, 1990.
Вознесенский А. Россiя, Poesia. М.: Огонек, 1991.
Вознесенский А. Видеомы. М.: РИК «Культура», 1992.
Вознесенский А. Гадание по книге. М.: Аргументы и факты, 1994.
Вознесенский А. Не отрекусь. Минск: БелАДИ, 1996.
Вознесенский A. Casino «Россия»: Новые стихи и видеомы. М.: Терра, 1997.
Вознесенский А. На виртуальном ветру. М.: Вагриус, 1998.
Вознесенский А. Возвратитесь в цветы: Поэма. Челябинск: Фонд Галерея, 2004.
Вознесенский А. СтиXXI. М.: Время, 2006.
Вознесенский А. Тьмать. М.: Время, 2009.
Вознесенский А. Ямбы и блямбы. М.: Время, 2010.
Использованная литература
Авангард и остальное. Сборник статей к 75-летию Александра Ефимовича Парниса / Под ред. Хенрика Барана. М.: Три квадрата, 2013.
Академик Александр Данилович Александров. Воспоминания. Публикации. Материалы. Сборник / Сост. Г. М. Идлис. М.: Наука, 2002.
Аджубей А. Те десять лет. М.: Советская Россия, 1989.
Аксенов В. Апельсины из Марокко. Коллеги. Звездный билет. М.: Эксмо, 2009.
Аксенов В. Кесарево свечение. М.: Изографус, 2003.
Аксенов В. Ленд-лизовские. М.: Эксмо, 2010.
Аксенов В. Ожог. М.: Эксмо, 2009.
Аксенов В. Скажи изюм. М.: Эксмо, 2006.
Аксенов В. Таинственная страсть (Роман о шестидесятниках). М.: Семь дней, 2009.
Антология ПО («Журнал ПОэтов»). Сборник. М.: Академия Натальи Нестеровой, 2007.
Апдайк Д. Кентавр. СПб.: Кристалл, 2011.
Асадов Э. А. Собрание сочинений: В 3 т. М.: Художественная литература, 1987–1988.
Ахмадулина Б. Друзей моих прекрасные черты. М.: Эксмо-Пресс, 1999.
Ахмадулина Б. Пуговица в китайской чаше. М.: Астрель; Олимп, 2011.
Ахмадулина Б. Ночь упадания яблок. М.: Олимп; Астрель, 2011.
Барлас В. Глазами поэзии: Об открытиях искусства и современных поэтах. М.: Советский писатель, 1986.
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М.: Ад Маргинем, 1999.
Безелянский Ю. Знаменитые писатели Запада. 55 портретов. М.: Эксмо, 2008.
Богуславская З. Предсказание. М.: Астрель, 2010.
Богуславская З. Вымышленное. М.: Плюс-Минус, 2009.
Богуславская З. Невымышленное. М.: Плюс-Минус, 2009.
Бродский И. Осенний крик ястреба. СПб.: Азбука, 2012.
Бродский И. Избранные стихотворения. М.: Панорама, 1994.
Быков Д. Борис Пастернак. М.: Молодая гвардия, 2005 (Серия «ЖЗЛ»).
Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: ACT, 2013.
Ваш Андрей Петров. Композитор в воспоминаниях современников. Сборник. М.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010.
Вегин П. Опрокинутый Олимп. Записки шестидесятника. М.: Центрполиграф, 2001.
Войнович В. Портрет на фоне мифа. М.: Эксмо-пресс, 2002.
Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Эксмо, 2002.
Волкова М., Довлатов С. Не только Бродский. Русская культура в портретах и анекдотах. М.: РИК «Культура», 1992.
Высоцкий В. Избранное / Предисл. Б. Окуджавы; сост. Н. Крымова. М.: Советский писатель, 1988.
Гладилин А. Улица генералов. Попытка мемуаров. М.: Вагриус, 2008.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: ОЛМА-пресс, 2001.
Демидова А. Бегущая строка памяти. М.: Эксмо-Пресс, 2000.
Демидова А. Тени Зазеркалья. М.: Просвещение, 1993.
Евтушенко Е. Стихотворения. М.: Современник, 1988.
Евтушенко Е. Можно еще все спасти. М.: Эксмо, 2011.
Евтушенко Е. Собрание сочинений: В 3 т. / Предисл. Е. Сидорова. М.: Художественная литература, 1983–1984.
Ерофеев В. Акимуды. Нечеловеческий роман. М.: РИПОЛ-классик, 2012.
Есенин С. А. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Художественная литература, 1978.
Жижек С. Год невозможного. М.: Европа, 2012.
Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: Ад Маргинем, 2003.
Зеркало. Литературные сценарии «Мосфильма». Сборник / Сост. Г. Р. Амбарцумян. М.: Художественная литература, 2009.
Золотухин В. Таганский дневник: В 2 кн. М.: Олма-Пресс, Авантитул, 2004.
Золотухин В. Знаю только я. М.: Вагриус, 2007.
Зыкина Л. Г. Течет моя Волга… М.: Новости, 1998.
Иванова Т. В. Мои современники, какими я их знала. М.: Советский писатель, 1987.
Иеродиакон Алексий (Новиков). Благовещенский монастырь в Муроме. М.: Русский Дом, 2007.
Кабаков А., Попов Е. Аксенов. М.: ACT, Астрель, 2011.
Казаков Ю. Северный дневник. Рассказы. М.: Художественная литература, 1985.
Кантор М. Красный свет. М.: ACT, 2013.
Катаев В. Алмазный мой венец. М.: ПРОЗАиК, 2014.
Катаев В. Разное. Сборник. М.: Советский писатель, 1970.
Кирсанов С. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Художественная литература, 1974–1976.
Крученых А. 500 новых острот и каламбуров Пушкина. М., 1924. Репринтное издание. СПб.: Свое издательство, 2013.
Куняев С. Поэзия. Судьба. Россия: В 3 т. М.: Наш современник, 2001.
Ковальджи К. Моя мозаика, или По следам кентавра. М.: Союз писателей Москвы, Academia, 2012.
Леннон Д. Письма. М.: СЛОВО/SLOVO, 2012.
Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПб, 1998.
Лоуэлл Р. Избранное. М.: Прогресс, 1982.
Майлз Б. Бит Отель. Гинзберг, Берроуз и Корсо. 1957–1963. М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
Маршак С. Я. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Художественная литература, 1971.
Маяковский В. В. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Огонек; Правда, 1973.
Медведев Ф. Андрей Вознесенский. Я тебя никогда не забуду. М.: Эксмо; Алгоритм, 2011.
Межиров А. Артиллерия бьет по своим. Избранное / Предисл. Е. Евтушенко. М.: Зебра Е, 2006.
Мельшиор-Бонне С. История зеркала. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
Масленикова З. А. Борис Пастернак. Встречи. М.: Захаров, 2001.
Нагибин Ю. Дневник. М.: Книжный сад, 1995.
Народ мой — большая семья. Литература наших дней. Сборник. М.: Литературная Россия, 2007.
Нэмпад С. Маяковский в Америке. Страницы биографии. М.: Советский писатель, 1970.
Орелович Л. И. Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы / Предисл. К. Кедрова. М.: Лазурь, 2014.
Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. М.: Книга, 1990.
Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: В 11 т. М.: СЛОВО/ SLOVO, 2003–2005.
Пекелис В. Кибернетическая смесь. М.: Знание, 1970.
Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М.: ИНДРИК, 2003.
Плисецкая М. Я, Майя Плисецкая. М.: Новости, 1994.
Плисецкая М. Тринадцать лет спустя. М.: ACT; Новости, 2007.
Полухина В. Эвтерпа и Клио Иосифа Бродского. Хронология жизни и творчества. Томск: ИД СК-С, 2012.
Рассадин С. Книга прощаний: Воспоминания о друзьях и не только о них. М.: Текст, 2009.
Реймон У. Мерилин Монро. Тайна смерти. Уникальное расследование. М.: Этерна, 2013.
Рейн Е. Заметки марафонца. Неканонические мемуары. Екатеринбург: У-Фактория, 2002.
Решетняк Ю. Г., Кутателадзе С. С. Воспоминания об А. Д. Александрове. Новосибирск: Институт математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения РАН, 2000.
Робертсон Д., Хамфриз П. The Beatles. Полный путеводитель по песням и альбомам. СПб.: Амфора, 2013.
Ромм М. И. Как в кино. Устные рассказы / Сост. Я. И. Гройсман. Н. Новгород: ДЕКОМ, 2003.
Рождественский Р. Мгновения, мгновения, мгновения. М.: Эксмо, 2004.
Рождественский Р. Удостоверение личности / Сост. К. Рождественская. М.: Эстепона, 2011.
Саед-Шах А. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить! М.: Эксмо, 2010.
Самойлов Д. Избранное. М.: Художественная литература, 1980.
Самойлов Д. Перебирая наши даты. М.: Вагриус, 2000.
Свитязянский венок. Сборник поэзии. Минск: Пейто, 1998.
Слуцкий Б. О других и о себе / Сост. П. Горелик. М.: Вагриус, 2005.
Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов. М.: ВЛАДОС, 1996.
Спасский С. Маяковский и его спутники. Л.: Советский писатель, 1940.
Старкина С. Велимир Хлебников. М.: Молодая гвардия, 2007 (Серия «ЖЗЛ»).
Сулейменов О. Аз и Я. М.: Грифон, 2005.
Таривердиев М. Я просто живу. М.: Вагриус, 1997.
Таривердиева В. Биография музыки. М.: Зебра Е, 2004.
Трифонов Ю. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Художественная литература, 1985.
Успенский В. Труды по нематематике. Кн. 3. Языкознание. М.: Объединенное гуманитарное изд-во; Фонд «Математические этюды», 2013.
Фаликов И. Евтушенко: Love story. М.: Молодая гвардия, 2014 (Серия «ЖЗЛ»: Биография продолжается…).
Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический проект, 2011.
Хармс Д. Век Даниила Хармса. Сборник. М.: Зебра Е, 2009.
Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель, 1987.
Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. М.: РГАЛИ, Эллис Лак, 1997.
Цветаева М. Век мой громкий. Автобиографическая проза. М.: ПРОЗАиК, 2012.
Чуковский К. И. Дневник: В 3 кн. М.: ПРОЗАиК, 2000.
Чуковский К. И. Живой как жизнь. Разговор о русском языке. М.: Молодая гвардия, 1962.
Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997.
Шкловский В. Собрание сочинений: В 3 т. М.: Художественная литература, 1973–1974.
Шварц Е. Видимая сторона жизни. СПб.-M.: Лимбус-Пресс, 2003.
Щедрин Р. Автобиографические записи. М.: ACT, 2008.
Элиот T. С. Избранная поэзия. СПб.: Северо-Запад, 1994.
Эфрон А. Неизвестная Цветаева. Воспоминание дочери. М.: Алгоритм, 2012.
Эолова арфа. Литературный альманах. АнДРЕеВО ДРЕВО. М.: Издание Нины Красновой, 2013.
Янгфельдт Б. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М.: КоЛибри, 2009.
Слова благодарности
Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в работе над книгой прежде всего Зое Богуславской — за великодушие и понимание Поэта, а также Родиону Щедрину и Майе Плисецкой, Елене Пастернак, Марине Тарковской, Юнне Мориц, Владимиру Бедуле, Арине Вознесенской, Анатолию Гладилину, Вениамину Смехову, Олжасу Сулейменову, Юрию Кублановскому, Константину Кедрову, Борису Гребенщикову, Наталье Стрижковой и ее коллегам в РГАЛИ, Карине Красильниковой, Юрию Кочеврину, Марии Шаровой, Владимиру Снегиреву, Дмитрию Минченку, Валерию Скорбилину, Николаю Лалакину, Ядвиге Юферовой, Нине Шпак, Людмиле Дубовцевой, Владимиру Курилову, Инге Фельтринелли, Жанне Васильевой, Кристине Барбано и, разумеется, своей семье.
Отдельная благодарность Зое Борисовне Богуславской за предоставленные издательству фотографии из личного архива.





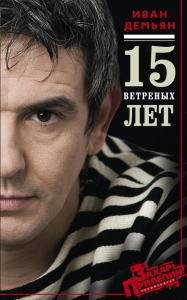
Комментарии к книге «Андрей Вознесенский », Игорь Николаевич Вирабов
Всего 0 комментариев