Летные дневники: Часть 1
1984. Восторги
30.10
Восемнадцатый год я бороздю… борозжу… короче, рассекаю небесные просторы. Накопился опыт, надо его как-то связно выразить, объединить разрозненные мысли. Да и память уже не та, факты забываются, а жалко упустить ощущения, настроение, нюансы, дух времени.
Итак, восемнадцать лет назад я был уже без пяти минут пилот. Сколько ни возвращаюсь памятью в те благословенные курсантские времена, не могу вспомнить плохого, «все лучшие годы…» Масса надежд, куча интересных дел, любовь, - да много всего было.
Распределился в Сибирь, попал в Енисейск, немножко научился там летать на Ан-2, понял, что способен на большее, вырвался на Ил-14, попутно учась в нашей благословенной ордена Ленина академии липовых наук (чтобы вырваться на лайнеры), попал на Ил-18, учебу немедленно бросил, не видя от нее проку; не успел оглянуться, уже на Ту-154, уже командир, пилот 1 класса.
Но первоклассный ли пилот? Вот и надо разобраться.
Почти одиннадцать тысяч часов за плечами. Из них четыре с половиной тысячи самостоятельного, командирского налета на четырех типах. Прошел сборы пилотов-инструкторов; это формальность, но чувствую, что могу передавать опыт - это, видимо, в крови у меня.
Но все время меня мучают сомнения. Не самоуверенность ли это, не зазнался ли, а чем я лучше других? И лучше ли? Ведь мне ведом и страх, и присуще некоторое легкомыслие, и не хватает этой угрюмой серьезности, этой постоянной бдительности, этого делового нахрапа. И руководящие документы знаю не слишком уж хорошо. И, главное, я в аэрофлоте много лет, но так и не пропитался этим аэрофлотским духом, вроде как инородное тело. А от коллектива отрываться нельзя. Вот и приходится приспосабливаться.
Какой это аэрофлотский дух? Пожалуй, это то вульгарное понятие, что бытует среди людей, соприкасающихся с пилотами: деловой, шустрый, пробивной, нахрапистый, симпатичный, подтянутый, пьющий, гуляющий, развращенный деньгами, не привыкший работать помногу, считающий, что все соблазны и блага жизни - для него, матерящийся при женщинах, острый на слово, знающий законы, обо всем судящий с апломбом, бывалый человек.
Написал так, и думаю: а среди торгашей? администраторов? ИТР? работников искусства? Да мало ли где. Такие же деловые. Такие же пьющие. Так же матерятся - своими ушами слышал. Такие же бывалые. Тертые. Хваты.
Чем же мы отличаемся? Все-таки, за внешним гусарским духом, за этими мещанскими атрибутами: машинами, дачами, водкой, бабьем и т. п. - есть покров какой то, известной только нам тайны - той тайны, что скрывается за закрытой дверью пилотской кабины.
Да, я не приемлю внутренне этот дух, хотя всякое бывало, но все же я остался самим собой. Мне чужды мещанские взгляды и ухватки, хотя я все имею. Но лишись я сию минуту всего этого, ничего внутри меня не изменится. Мама правильно сказала: «Сынок, для жизни надо очень мало: кусок хлеба, кусок сала да картофелина…»
Посмотришь на молодых: рвачество. Заработать и приобрести. Я понимаю, мы честно работаем, но во имя чего?
Это, как говорится, вечные вопросы, и каждый решает их сам для себя.
Для меня важнее всего - не оскудеть духовно.
На днях летал в Ташкент. Проверял меня Николай Иванович Устинов, милейший человек. Я не боюсь проверяющих, потому что я, линейный пилот, летаю лучше их всех. Этот закон хорошо сформулировал еще в училище командир звена Иван Евдокимович Кутько, когда у меня не все получалось. Он сказал: «Сынок, ты, садясь в кабину, думай так: «Чикалов летал на четыре, я летаю на шесть, а вот этот мудак, который меня собрался проверять, вообще летать ни хрена не умеет, вот я ему и покажу, как надо летать». Золотые слова. Насчет «Чикалова» он тоже прав: еще неизвестно, как бы он летал на наших лайнерах, а уж мы научились. Это не похвальба, а тяжкий, терпеливый труд, работа над собой.
Слетал я, как песню спел. Все удалось; правда, погода была хорошая, идеальные условия.
Устинов тут взялся пилотировать в наборе высоты. И вижу я: чувствует сам, что теряет навыки, старается наверстывать, а все равно триммерами[1] работает часто, а тут еще самолет кривой попался. И сладкий яд собственного превосходства тек по моим жилам, когда на глиссаде[2] я брошу штурвал и полувопросительно говорю: «сама летит?» - а он справа подтверждает: «сама…»
У меня новый экипаж, с ним работать и жить бок о бок, и нельзя пузыря пускать. Пусть видят с первых дней, как я летаю, - в этом основа авторитета командира.
Экипаж сырой. Тасуем штурманов. Киреев алкаш, я с ним был в колхозе. Отказался. Якунин только что прошел медкомиссию. Я с ним, кажется, летал еще на Ил-18, пару раз, не помню. Он просился ко мне. Я согласен летать с любым, лишь бы не жрал водку.
Леша Бабаев, второй пилот. Летать умеет, но нетвердо, видимо, много не давали. Основная задача: давать ему летать как можно больше. Слава богу, желания летать он в 49 лет еще не потерял. Здоровье хорошее, значит, можно рассчитывать, что, слетавшись, будем долго работать вместе.
Но и болтать любит. Я болтун, а он еще хлеще. Демагогический уклон. Как это у нас принято, все критикует. Ну, мы все такие.
Валера Копылов, бортинженер[3]. Молчит-молчит, да уж и скажет. Не чужд юмора, иногда - черного. Любит политические книги. Матчасть знает.
Лешу-то я знаю еще по Ил-18, а Валеру только месяц. Присматриваюсь.
Кум Михаил, мой сосед. Миша Якунин. Тоже далеко за 40. Простой, но с куркульской хитрецой. Как летает, не помню, но летал он с Жировым, а тот плохих не держал. Посмотрим.
Что такое хороший экипаж? Это - душа спокойна. Я со своими в прежней эскадрилье два года горюшка не знал. А как Володю Заваруева ввели командиром, так все наперекосяк. Начали тасовать вторых; другому жалко штурвал в руки давать, но у меня принцип - пополам. Даешь ему, а у самого душа кровью обливается. Лагошина жалко, что ему за дурной характер полтора года не давали руля; Нине Литюшкиной, хорошей летчице, в болтанку[4] трудно; Романову на все наплевать; Коля Романушкин сам отказывается пилотировать, только бумаги ведет. А мне жалко отдать штурвал, я сам люблю крутить; и вот себя ломаешь, а отдаешь. А Занин никому не дает, Жиров тоже. У них душа не болит.
Как было хорошо с Пашей, Стасом и Володей!
Стас как штурман звезд с неба не хватает, но - довезет. Он «фантомасник», где только не бывал на своем Ан-12. Но с «Фантомаса» и расхлябанность. И, тем не менее, я с ним сработался.
Паша, хоть и с земли инженер, но молодой, энергичный, матчасть знает, грамотный, современный. Порядочный человек.
Ну, а Володя - готовый командир, правда, горяч, вперед огня все готово.
Но люди неравнодушные. Все в экипаже четко, громко, весело, с полуслова. Легко было с ними работать, и - ни одного нарушения. И не надо было ими командовать - только не мешать. Это мой метод.
Сегодня лечу в Симферополь. Рейс с тремя посадками, и сидеть трое суток. Как дело к зиме, так начинаются длинные рейсы. Кое-куда мы летаем с самолетом: 12 часов отдыха - и домой. А в основном, эстафета. Пригнал рейс, отдохнувший экипаж принимает самолет, а мы - на его место и ждем следующего рейса. А он придет через трое суток, да еще с задержкой другой раз.
Как убить свободное время? Ну, ясное дело, рынок посетить, отметиться. В запчасти съездить.
В Ленинграде проще: много музеев, я там часами пропадал, а в Москве из Третьяковки не вылезал.
А что делать в Симферополе? Можно поездить по Крыму; я, например, не был в Феодосии, в Старом Крыму, в Керчи. Но не так просто вырваться из профилактория, надо писать рапорт, называть адрес и т.п.
Из Киева в Канев я ездил на могилу Шевченко. В Минводах, естественно, ездим в Пятигорск, Кисловодск.
Буду писать. Был бы уголок, чтобы не трогали. Писать обо всем, что в голову придет. Мало ли в жизни интересного, особенно у нас.
Вчера я не закончил мысль о методе руководства экипажем.
Есть пилоты, да и вообще люди, которые везде в жизни стремятся побороть, переломить, навязать, укротить, доказать, - словом, находятся в состоянии неустойчивого равновесия и удерживаются только нервами и волей. Им все кажется, что они на вершине ледяной горы и жизнь стремится скатить их вниз. Такого человека положи на ровный лед - он и там будет упираться и балансировать, хотя вроде бы и катиться некуда. Такая уж у него натура.
Посади такого за штурвал - он насилует самолет. Ручонками сучит, крутит туда-сюда, дергается, исправляет несуществующие крены, ловит невидимые тенденции, исправляя, вносит неустойчивость, борется с нею, - короче, он на вершине ледяной горы.
Экипажем такой человек командует постоянно. Тот не так сказал. Тот не туда смотрит. Тот не подсказал вовремя. Тот неправильно считает. Все должно делаться только по его команде. Все бразды у него.
Ясное дело - на все внимания не хватит, это ж не истребитель. Начинаются промахи и ошибки, а виноват, естественно, экипаж. Так нагнетается взаимное недоверие. В такого командира экипаж не верит, потому что в сложняке, будь ты хоть семи пядей во лбу, один не справишься. А командир, не уверенный, что члены экипажа способны ему помочь, еще больше нервничает и делает ошибки. Люди тоже не хотят, чтобы их убивали, шумят на командира. А ему это как скипидар под хвост. Я таких знавал.
Когда конструктор создает самолет, он отнюдь не рассчитывает на такого, сильно умного пилота. Он рассчитывает всегда на дурака. Существует коэффициент обалдения: то, что на земле знаешь на шесть, в воздухе едва натянешь на три. И пока будешь раздумывать, умный самолет сам за тебя, дурака, сработает.
Возник крен - не дергайся. Есть система устойчивости-управляемости. Сработает блок демпфирующих[5] гироскопов[6], подаст сигнал, АБСУ[7] его переварит, даст команду рулевым агрегатам, и они исправят крен. И все это со скоростью, во много раз превышающей скорость реакции даже боксера.
Найди в себе силы удержаться от немедленной реакции. Не может стотонная махина за полсекунды уйти с курса, потерять высоту, перевернуться. Действуй как в замедленном кино. Застынь как мумия. На тебя смотрит экипаж. У тебя все должно получаться незаметно и само собой. Так учил меня Садыков. Так учит и здравый смысл.
Самолет умный. Не мешай ему, а помогай. Дал команду - и жди. Наблюдай, оценивай способность машины. Брось штурвал, чувствуй, как держит курс, крен, тангаж[8]. Думай головой. Вырабатывай интуицию: сколько дать триммера, чтобы сбалансировать машину. Приспосабливайся к ней, как приспосабливается к новому инструменту столяр, крестьянин или шахтер. У каждого самолета свой норов, а я на то и человек, чтобы грамотно и рационально использовать все плюсы и нейтрализовать минусы, чтобы моя производительность труда на этом инструменте была наивысшей, а силы экономились на экстренный случай.
Каждый раз мы летим на новой машине. Кажется, все они одинаковы, - ан нет. Та кривая: стремится при нейтральных рулях уйти с курса, кренится, хоть в баках топлива поровну. Другая «не тянет». Третья дергается по тангажу. У той завален на один градус авиагоризонт[9], опять уходит с курса. Иная, вроде бы все отбалансировано, а вот какая-то неустойчивая. У той сильно задняя центровка. У этой ограничения по скоростям уборки и выпуска механизации. На другой при мягкой посадке нельзя сразу тормозить - лопнет колесо. У этой запаздывает управление передней ногой[10].
И каждый раз новое. Встречаешься в следующий раз с этой машиной, а на ней уже два движка сменили; ту в ремонт сгоняли; на этой раньше не было, а тут ведет после посадки влево; а та падает после уборки газа.
Эти внезапные мелкие пакости требуют постоянной готовности, внимания, молниеносной реакции. И как можно тратить эти необходимые качества на мелочное самоутверждение над машиной в том же элементарном наборе высоты.
А ведь и я был такой же. Дергался. Упивался властью над железякой. Что, мол, могу же в болтанку летать без отклонений. Что хватает внимания, реакции, что я молод, здоров, чуток, зорок… и многое, многое, присущее зеленой молодости.
Как-то раз Надя слетала со мной, еще когда я был вторым пилотом на Ан-2, и запрезирала, что дергаюсь. И, честно сказать, так меня это задело, что и до сих пор сам себе доказываю, что я не такой. Заноза эта сидит во мне, и все время хочется, чтобы кто-то со стороны наблюдал, как я пилотирую, и втайне восхищался и завидовал, как завидовал когда-то я, наблюдая, как пилотируют асы. Это мне нужно не из мелкого честолюбия, а… не могу даже объяснить зачем.
Я хочу быть мастером своего дела. Не все удается. Другой раз, вроде бы тысячу раз усвоенный прием не дается в каком-то полете. А потом опять все на месте.
Ну, это все о ремесле. О комплексе навыков чистого пилотирования. Но ведь мы летаем не на Ан-2. Практически вручную пилотируешь на взлете до перехода на связь с подходом, это две минуты. Потом нажал на кнопки и сиди, наблюдай. А заход на посадку автоматический до высоты 60 м, там вручную до конца пробега всего-то полминуты. Другое дело, что системы часто в аэропортах не работают, вот тогда корячишься по приводам, как на Ан-2.
В кабине я не один. Есть распределение обязанностей, оговоренное инструкцией. Есть набор обязательных докладов и команд. Все пишется на магнитофон. Кажется, любой садись на свое рабочее место, делай все по инструкции, и все: работа пойдет как по маслу.
Но жизнь отвергает такой упрощенный подход, хотя ревнители его встречаются на каждом шагу. Вот иной проверяющий делает замечания о посторонних разговорах при заходе на посадку. У меня на этот счет особое мнение.
Экипаж - это микроклимат. Это маленький мирок, спаянный общими привычками, манерами, знанием психологических особенностей друг друга. Здесь особый тон, настрой, свои шутки и реплики - все то, что создает привычную рабочую обстановку, комфортные условия, раскрепощенность, если можно так выразиться, - «прогретость» для работы.
И вот в этот привычный, раскованный и свободный мирок инородным телом вваливается проверяющий. В большинстве случаев ему глубоко плевать, какие там цветы. Ему надо проверить. А тут - представьте себе - шутют!
Умный человек обрадовался бы, что в этом экипаже почва для проверки благодатная, что в естественных условиях виднее то, что он проверяет. Да жаль, проверяющие наши редко задумываются на эту тему. А есть хорошие люди. Бывает, и довольно высокого ранга, а лететь с ним легко. И за экипаж спокоен: ребята весело, может, и с прибауткой, показывают товар лицом.
Эх, с покойным Александром Федоровичем Шевелем весело было работать. Это был артист - и проверяющий для него был публика. Вдохновенно он работал: он - солист, а мы подпевали. И всегда без сучка, без задоринки.
От командира все зависит. Спаять экипаж - это искусство. Люди разные, каждого надо узнать, оценить, настроить и приспособить друг к другу. И самому к ним приспособиться.
Авторитет командира должен быть такой, чтобы экипажу хотелось с ним работать. Чтобы к нему в экипаж просились. Но авторитет надо заработать. И первое - уметь летать. Второе - доброжелательность. Как ее другой раз не хватает у нас.
Мне повезло, я летал с Солодуном, это мой учитель. Человечность, вот что главное, вот чему надо учиться.
И еще: постоянная забота, чтобы даже в самых сложных, экстремальных ситуациях стараться снять напряжение у людей. Помнить, что он же переживает. Он же на тебя надеется: ты держишь в руках его судьбу. Скажи ему слово, разряди его, дай понять, что ты помнишь о нем, твоем товарище, собрате, не жалей доброго слова. Скажи ему спасибо за его, пусть скромную, помощь тебе.
Помню, Паша сзади шумит: «Скорость велика!» Что у меня, язык отсохнет сказать: «Сейчас упадет, глиссаду догоняем». А так бы он сидел, дергался, может, сдернул бы газы и внес нам разлад.
А кое-кому покажется: посторонние разговоры.
Иной раз скажешь, вроде бы про себя: «Все нормально, ребята». И людям легче.
1.11
Сижу в Симферополе. Хотел продолжить, но мыслей нет. Долетели неплохо, но не без шероховатостей. В Оренбурге заход с прямой, вроде бы все рассчитали, - как вдруг вылез встречный Як-40 на 2700[11]. Пришлось задержаться на 3000, а потом падать колом, чтобы успеть с прямой. Глиссаду догнали за 8 км до торца[12]; заход был в автомате, да еще машина с ограничениями. В спешке, уже после довыпуска закрылков[13] на 45, мне вдруг показалось, что скорость 360. На самом деле была 260. Сложные ассоциации заплелись в мозгу, и за долю секунды сложилось представление, что это еще только выпуск закрылков на 28, что они уже выпущены, а скорость на 20 больше допустимой. Убрал режим, погасил скорость… до 240, потом вдруг дошло, добавил режим[14], разогнал до 270; на все это ушло едва ли 15 секунд.
Какой вывод? Спешка до добра не доводит. Конечно, можно было бы не спешить, выйти на привод[15], сделать круг («чемодан», как у нас говорят) и спокойно сесть. Но это неизящно.
Гораздо изящнее, выходит, снижаться на острие бритвы и в спешке потерять скорость. Мастер…
В Краснодаре заход тоже был корявый. Снижение в насыщенной самолетами Ростовской зоне не поддается расчету. Там свои законы. Вот сделали новый коридор[16]. На расстоянии 150 км понатыкали пунктов[17]: Большевик, Ленинталь, Ладожская, Рязанская, и т.д., и т.п. Я и так там вечно путаюсь во всех этих Тихорецках, Усть-Лабинских, Шкуринских, - и черт его знает, каких станиц там только нет.
И начинается: за 20 до Большевика занять 7500. Сколько до этого Большевика? Ленты-карты нет. На простой карте мы нанесли маршрут, но там цифр не видно, во-первых, из-за тесноты - через 15-17 км поворотные пункты, во-вторых, в кабине темно. Пока Михаил разбирался в карте, подсвечивая «мышонком», я рухнул по 30 м/сек вниз: лучше раньше снизиться. И все равно не успели, Ростов заблажил. Ну, оправдываться некогда, перешли на связь с Краснодаром, а там гвалт в эфире. Пока продирались на связь, я терял скорость, чтобы, как разрешат, опять рухнуть поэнергичнее. Ни РСБН[18] нет, ни удаление запросить: эфир занят. Вот таким макаром кое-как вышли на Рязанскую, там приводок слабенький, стрелка болтается - хуже, чем на Ан-2. Только и выручал диспетчерский локатор.
Передал управление Леше и… понял, как важно в такой обстановке не отвлекаться на пилотирование. Сразу появилось свободное время. Он себе крутит, я себе веду связь и соображаю. Штурман подсказывает курсы. Инженер следит за всем и двигает газы. Все спокойно.
Не понравилось, как Леша заходил в директорном режиме. Нечетко держит стрелки[19]. После дальнего привода ветер менялся; он не среагировал и вообще немножко дергался. Я вмешался, помог. Мелькнула мысль, что у него сейчас то известное состояние, когда начинаешь воспринимать обстановку не всеми чувствами (особенно шестым), а только зрением. Возникает ощущение, что летишь не ты, а просто ВПП[20] перемещается перед тобой по стеклу. Ощущение мерзкое, пилотируешь усилием воли, цепляешься за стрелки, и не дай бог усложнения обстановки.
Вот мне и показалось, что он именно утратил на миг ощущение свободного полета, когда это не самолет - ты сам снижаешься, целишь на полосу, исправляешь свои крены, опускаешь свой нос. И я решил подстраховать его. И уже не отпускал штурвал.
Выравнивал он вяло, да еще убрал режим на один процент, торец полосы чуть ниже прошел. Пришлось подхватить и задержать - и тут же мягко чиркнули колеса. Я сразу же успокоил и объяснил, и ничего страшного.
А по полю зайцы бегают. И не особенно нас боятся. А тут руление говорит: «Стоянка 11б, носом к АТБ[21]». Посмеялись. И все вошло в колею.
В Симферополе я посадил мягко, несмотря на сильный ветерок. И вышел в салон с ощущением чистой совести перед пассажирами.
11.11
Вчера ночью летал в Хабаровск. Проверяющим был Людков. Присматривался, но не вмешивался. Естественно, я старался показать товар лицом. Особенно удался набор эшелона: движений штурвалом не было заметно, все параметры в норме. Снижался на автопилоте до высоты круга. Посадки были безукоризненны.
На разборе он дал мне три мелких замечания. Первое: отдаю штурвал от себя на разбеге[22], не берегу, мол, переднюю ногу. Второе: зачем сам включил фары, когда это дело штурмана. Третье: при пилотировании через автопилот надо избегать больших перегрузок - это ощущают пассажиры в салоне.
Насчет двух первых он прав. Я объясняю первое тем, что дома полоса была заиндевелая, и я для надежности слегка прижал ногу; в Хабаровске же при взлете был боковой ветер до 10 м/сек - там я действовал согласно РЛЭ[23]. А насчет фар - черт меня дернул показать, как я свободен, раскован и т.п. Да и как раз был гвалт в эфире, и я побоялся, что потом забуду выпустить фары, а сейчас мою команду не услышат, буду кричать, и нарушится вся красота. Протянул руку и щелкнул тумблерами.
Насчет автопилота я не согласен: по крайней мере, в этот раз я пилотировал плавно. Акселерометр[24] бесстрастно фиксировал перегрузки: больше плюс-минус 0,2 не было.
Кому нужны эти нюансы? Не знаю, как кому, а меня это натолкнуло на размышления о профессионализме.
Мы все владеем определенным комплексом навыков, приемов, способов работы. Каждый вырабатывает их в процессе обучения и оттачивает во всей последующей работе, доводит до автоматизма. Естественно, сколько людей, столько и способов. Но все это реализуется в выдерживании единых, строго отмеренных параметров полета. Скорость в наборе высоты плюс-минус 10 км/час. Крен на развороте 15 или 20, и т.д. И видно, как человек держит ту же скорость в наборе - самый спокойный этап полета. Если он учитывает тангаж, центровку, умеет сбалансировать машину, чтобы не отвлекаться на выдерживание курса, умеет поймать изменение температуры по высоте, умеет расслабиться после взлета, - глядишь, все у него в норме. У другого что-то мешает: скован, дрыгает штурвалом, гоняет МЭТ[25], тангаж гуляет, - такие будут и результаты.
Конечно, будь мы без проверяющего, я бы не позволил себе роскоши набирать вручную. Полет ночью тяжел. Хотя пилотирование ничем не отличается от дневного: по тем же приборам. Мы никогда не ловим пресловутый «капот-горизонт» и не смотрим в лобовое окно кабины. Мы привыкли доверять приборам в такой степени, что уже почти не подвержены галлюцинациям, которые подстерегают менее опытных пилотов. Поэтому пилотирование вручную не труднее дневного. Но оно отбирает силы, хоть немного, но отбирает.
Хабаровский рейс длится всю ночь: с 23.25 до 9.00 по местному. Из них полета 7.30. Я не знаю, трудно ли простоять у станка всю ночь, но знаю, каково просидеть ночь перед приборной доской, где ни одна стрелка не шелохнется.
Поэтому сразу после взлета - и до посадки - мы стараемся включать автопилот ( САУ[26]).
На старых машинах пилот выдерживает скорость в наборе через тангенту «Спуск-подъем», а на новых машинах САУ сама ее выдерживает в режиме «Стаб. V», остается только контроль.
Мозгу работы все равно хватает. Надо учесть изменение температуры с высотой, ветер, угол атаки, турбулентность, свободный эшелон, расхождение со встречными, обгон попутных, летом - обход гроз и т.д.
У нас обычно сразу дают занимать заданный эшелон, а в Приволжской зоне, на Украине, часто приходится набирать ступеньками, иной раз через 300 м: то встречный борт идет, то пересекающий; все кругом забито самолетами. А ведь приходится то задирать лайнер по 15-20 м/сек, то останавливать набор, то есть, полет ведется эдакой вертикальной змейкой, от изгибов которой страдают желудки пассажиров. Естественно, через САУ пилотировать таким образом сложнее, чем вручную, потому что это лишнее звено между мозгом и рулями.
Так что одних навыков мало, нужно их применять таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечивалась максимальная эффективность полета; с другой стороны, надо беречь пассажиров.
При современных скоростях полета любая эволюция неизбежно конфликтует с комфортом. Приходится выбирать наилучший вариант - и с точки зрения пилотирования, и с точки зрения пассажирских внутренностей.
В горизонтальном полете на эшелоне пилоту работы практически нет. Здесь основная тяжесть ложится на штурмана. Он выполняет расчеты, исправляет курс, ведет связь и занимается массой никому не нужной писанины.
К примеру, записывается температура на высоте, место самолета по данным земли, ветер и т.п. Ну, ладно, ветер мы по прилету сдадим на метео, и он пригодится для расчета другому экипажу. А вот место, курс, истинная скорость - нужны мне сию минуту, а через минуту они уже изменились и не нужны будут никогда. И вот теперь-то их надо записать. Чтобы, если вдруг заблудимся, то, мчась со скоростью 900 км/час, начать восстановление ориентировки штилевой прокладкой пути по карте, как на По-2. И пока мы ее таким образом восстановим, то улетим от этого места ой как далеко.
При сложнейшем пилотажно-навигационном оборудовании, трех радиостанциях, двух радиокомпасах[27], радиолокаторе, при слежении по диспетчерским локаторам, пеленгаторам, РСБН с земли, - штурман занят писаниной. Причем - до буквы, все по стандарту. И проверяющие с умной мордой пеняют за отступления от буквы.
Там, в верхах, сидят отставные штурманы, летавшие на Ли-2, возведшие в культ писанину и не представляющие, как же без нее летать. И ведь вся штурманская рать безропотно изводит бумагу без малейшей пользы для полета.
А сколько раз бывало: уже пора снижаться, а штурман еще не успел закончить писанину. Что угол сноса на кругу будет 8 градусов. А на самом деле он 15, и в другую сторону. Или что пролет дальней на 200 м. Или что вертикальная на глиссаде 3,4 м/сек.
Ну да бог с ними, писаками. Штурману и без них работы хватает.
Вчера летели обратно уже на рассвете. Земля была видна. Мы набрали 10600, и вот я подумал: а вдруг пожар! Надо за 4 минуты снизиться, найти площадку и сесть, и высадить пассажиров.
Нам для посадки по приборам необходимо минимум 2000 м сухого бетона, пусть даже 1800. А где найти такую площадку в горах? Под нами горы, тайга, даже реки порядочной нет. РЛЭ говорит однозначно: при пожаре не теряйте времени, скорее производите вынужденную посадку.
Вот я и думаю, что лучше: сгореть или убиться. К примеру, ночью, в облаках, в районе от Киренска[28] до Магдагачи[29] вероятность безопасной посадки равна даже не нулю, а вообще минус бесконечности. Посадочная скорость 250 км/час. Горы там страшные, до 3000 м; я не уверен, сел ли бы там на Ан-2 днем.
А вероятность того, что пожар действительно имеет место? В Шереметьево погибли на Ил-62 только потому, что поддались панике и выключили сразу два двигателя. Ведь пожара не было, а был прорыв горячего воздуха. Кто гарантирует, что и у нас не произойдет того же?
Поэтому, я считаю, паниковать не стоит. Если пожар действительный - тушить, пока не погаснет. Если не погас - лететь, пока не оторвется хвост. Но снижаться в горах - верная смерть. Даже наоборот: снижение, как рекомендует РЛЭ, в горах - верная смерть, а продолжать полет при горящем табло «Пожар» - если тушили всеми очередями - есть надежда, что пожар ложный.
Если горит крайний двигатель - пусть отгорает и отрывается. На эшелоне будет клевок, но можно при необходимости перевести часть пассажиров назад, можно использовать стабилизатор - короче, как-то бороться. А снижаться в горах, ночью, в облаках, - это безрассудство.
Десять лет эксплуатируется наш самолет. И я не знаю случая, чтобы вынужденная посадка на нем вне аэродрома заканчивалась благополучно. Правда, о случаях пожара я тоже не слышал. Но надо быть ко всему готовым.
17.11
Во Владивостоке. На улице и в комнатах холодно, а в комнате отдыха тепло, светло и празднично. Ребята ушли промышлять, а я предаюсь своему пороку.
Перечитал предыдущую запись и подумал: хорошо работать клерком. Но я пилот, и горжусь этим.
Главным, что привело меня в авиацию, было, конечно, самоутверждение. Поняв, что к 20 годам я ничего не стою, я рискнул бросить все и поступить в летное училище. В жизни я тогда ни черта не понимал, но интуитивно чувствовал, что в авиации спрос по большому счету, а значит, если возьмусь сразу, то способностей хватит. О страхе я не думал, мне нечего было терять. Потом, романтика. Я ведь уже порхал на планере - о, это чувство неповторимое и очень заразное.
Ну, а дальше все пошло легко. Я поразился, насколько отличается комплекс требований, предъявляемых будущим инженерам, от комплекса, предъявляемого будущим летчикам. Как много абстрактного, теоретического, неухватимого руками, дают студентам и как мало - курсантам. Зато как много тупого, солдафонского, немудреного (это на мой тогдашний взгляд), да еще с умной мордой, преподносят курсантам, предоставляя им на решающем этапе - обучении полетам - полную самостоятельность в решении задач, не поддающихся внятному толкованию, но требующих конкретного решения руками.
Не забуду инструктора Зализного, с его неповторимой манерой подачи теоретического материала:
– Выпольныл четвьертый - щиток бемсь, газу кес, подтягнул, подтягнул, убырай! Усе!
И практически:
– Зба-аровський! Киевлянын хренов, мать-перемать! Опьять з перелетом сел! Колодку на плечо и - бегом! Марш к лесопосадке и назад! Бежи и думай!!! А я слетаю, прослежу! Киевлянын хренов!
И Игорь Зборовский бегал. И думал. Сейчас он летчик-испытатель на антоновском заводе.
В группе Зализного никого не отчисляли по «нелетной». И благодарны ребята инструктору Гавриле Ивановичу Зализному бесконечно.
«Тупое и солдафонское» - это дисциплина. Это точные формулировки. Это регламент во всем. Это себе не принадлежишь. Это работа для людей, во имя их безопасности. Это честный труд. Служба.
Какой бы вышел из меня инженер? Насколько я сужу по известным мне людям, чтобы добиться чего-либо в конструкторской деятельности, надо быть семи пядей во лбу. На администраторском поприще я бы тоже не выдвинулся. Да и… скучно все это.
Я люблю работать один. Видимо, такая натура. Коль работа заставляет трудиться в экипаже, я это принимаю, стараюсь приспособиться. В конечном счете, в экипаже ли, один ли, но я вижу результаты своего труда, сам ставлю точку.
Так, видимо, любуется парой сработанной обуви сапожник, так радуется выздоровлению больного врач, оправданию подсудимого - адвокат, румяной булке - пекарь.
Нужен зримый результат. Таких как я - миллионы.
А вот у станка гнать заготовки - скучно. Или решать кроссворды где-нибудь в НИИ. А таких ведь тоже миллионы. И окончив институт, я был бы, скорее всего, одним из них.
Авиация удержала меня от вывихов - дисциплиной. А сколько таких бесхарактерных юнцов скитается по жизни без опоры и цели, подчиняясь лишь смутным инстинктам. И сейчас я радуюсь и горжусь своим выбором.
Летели сюда при отличной погоде. Долетели хорошо, Леша сажал, я заметил, что вмешиваюсь, да уж поздно. Все хочется помягче, а другие что - летать не умеют? И он умеет.
Пошел в АДП[30] подписывать задание на Читу, как вдруг там затуманило. Дождались погоды за следующий срок - опять видимость хорошая. Согласно документам, имеем право: решили лететь.
Я не стал дергаться и дергать экипаж - в течение всего полета мы не ловили по связной погоду Читы, Улан-Удэ и Иркутска, справедливо рассчитывая, что если ухудшится, нам заблаговременно подскажут. И точно: Магдагачи подсказали, что в Чите туман 100.
Ну что ж: уйдем в Улан-Удэ; стали готовиться. Могоча молчит; потом по командной поймали циркуляр Читы: видимость 3100[31].
Я подготовил экипаж. Тут надо всего несколько слов каждому. Леше – если попадем в туман, пилотировать по приборам до касания. Тут, главное, - не допустить крена, последующего скольжения и в результате - смещения вектора путевой скорости в сторону от оси ВПП, что может привести к выкатыванию[32]. Такие ошибки часты на Ту-134, где менее опытные экипажи все ищут землю, а самолет разбалтывают. А потом доворачивают на малой высоте, сучат ногами, иногда садят с креном, таким, что касаются крылом полосы.
Нас на такие фокусы не купишь. Моя задача при заходе в тумане – вовремя расслабиться. Кажется, парадокс, - но излишнее напряжение, как я уже говорил, может привести к утрате чувства полета, к скованности, заторможенности, замедлению реакции. А для расслабления нужно, чтобы самолет шел строго по курсу и глиссаде, а для этого надо немножко уметь летать. И помощь второго пилота в выдерживании курса при заходе, на мой взгляд, необходима. Тогда есть гарантия, что по курсу не разбалтываем, появляется уверенность и небольшой резерв времени.
Вот его-то я и использую для расслабления: поудобнее усаживаюсь в кресле, проверяю, не зажал ли управление, как стриммировал, какой режим двигателей, мельком - выпущены ли шасси, не изменился ли снос[33], - да мало ли дела за эти две-три секунды.
Надо всегда помнить, что тяжелый лайнер инертен, сдвинуть его трудно, и если уверен, что идешь правильно, всегда найдется время для расслабления.
Два слова Мише: если возникнет необходимость выключения носовых фар, создающих наибольший световой экран, - так из двух тумблеров настройся выключать правый. Были случаи ошибок, у меня, в частности, на Ил-18.
И второе: я надеюсь на твой отсчет высоты после пролета торца ВПП до касания. Бывает, приходится просить диспетчера убрать яркость огней высокой интенсивности[34], уже когда самолет на малой высоте, а если при этом из-за экрана придется выключить и фары, да еще при посадке на мокрый асфальт, да еще на старой машине, где фары и так дрянные, - то без радиовысотомера[35] не обойтись.
У меня Стас всегда строго и громко орал: «Пятнадцать, торец! Десять! Пять! Три! Три! Три!» - ну тут ясно: высоко выровнял. Чуть штурвал от себя, чуть на себя - руки лучше знают как, - затаил дыхание и слушаешь дальше: «Метр! Метр!» Чирк…и побежали.
А пассажиры в салоне думают: вот молодец командир. Как будто нет моего скромнейшего штурмана, который был моими глазами эти пять секунд. Валере тоже дело есть. Глиссада крутая, возможно, придется добавлять режим на выравнивании[36]. Не убирать, а именно добавлять. Чтобы был к этому готов. Тридцать тонн тяги у него в руках, и распорядиться ими нужно рационально. А сидит он сзади, обстановки не видит, а слышит только по нашим голосам. И хозяйство перед ним сложное, тут глаз да глаз.
На этот раз тумана не было, и сели мы спокойно, и я смело глядел в глаза пассажирам.
Ну, да и великое ли мастерство нужно, чтобы посадить в Чите при минус 30 и давлении 716 мм. Мастер…
Правда, летом саживали во время ремонта, когда рабочая часть полосы 2100[37], и жара, и болтанка. Не очень приятно заканчивать пробег за 50 м до торца. Но это наша работа.
А ленинградец тогда за нами садился, так в штурманской чуть не истерику закатил, и через неделю в Ленинграде в штурманской уже висели рекомендации, как садиться в Чите, суть которых сводилась к тому, что Волга впадает в Каспийское море.
Дома заходил Леша и отлично посадил при хорошем боковом ветре. Выровнял низко и четко, перед касанием добрал, акселерометр и не дрогнул. Всегда приятное ощущение после такой посадки, это хорошая, красивая точка.
26.11
Дня четыре назад слетали в Москву. Полет был ночной, тяжелый. Поспать удалось часа полтора перед вылетом, но что толку от такого сна: встал в 11 вечера, а вылет в 3 ночи. Опять перебои с топливом: пришлось садиться на дозаправку в Томске. Кстати, я там никогда до этого не был. Полет от Томска до Москвы прошел нормально, только клонило в сон.
Рейс на Москву мы заранее просили, поэтому, поспав часа три, встали и поехали в город решать свои дела. Ничего я не купил из того, что искал, а поймал в Детском мире модель Боинга-727. Почему-то я радуюсь этим игрушкам и с удовольствием их собираю. Все ищу 747-й, мне этот самолет представляется венцом авиационной мысли[38]; вот на нем бы с удовольствием полетал. Что ни говори, а против фактов не попрешь: у нас такой техники пока нет, не по зубам[39].
Обратно летел с нами Садыков. Отличный летчик, грамотный, думающий, для меня он - образец, каких мало. Нравится его манера проверять людей и как он ведет себя при этом. Все его любят и уважают; это один из тех инспекторов, кто за все время не вырезал, пожалуй, ни одного талона.
Я ему сдавал на 2-й класс, он проверял меня при вводе командиром на Ил-18, и в бытность его пилотом-инструктором в нашем отряде он тоже много летал со мной.
С него начиналось освоение у нас Ту-154; он же возглавил новое дело, большое и нужное, но опередившее лет на десять свое время: подготовку экипажей по II категории ИКАО[40], т.е. к посадкам по минимуму 30/400. Не считался со временем, торчал в Киеве, провозил по СИВ, ловил естественные условия, пробивал дело, которое пришлось ему по душе и по плечу; долго и подробно беседовал с каждым экипажем, зажег многих…
И дело заглохло. Оказалась не подготовленной земля. Все-то дело затевалось по инициативе чинуш из министерства: чтобы возить в столицу литерные рейсы как можно регулярнее. Оно бы и неплохо, да в Домодедово не смогли вовремя наладить систему, а только в Минводах и Киеве; потом и в Москве с одним курсом на одной полосе вроде бы сделали, а сейчас там даже не 60/800, а 80/1000.
А каждые три месяца надо было подтверждать минимум, добытый с таким трудом; в министерстве упростили: раз в год; но все равно, это ни к чему. И все мы летаем в Москву по 60/800, как и летали.
У меня тогда было тщеславное желание заполучить в пилотское штамп 30/400, да, вижу, овчинка вычинки не стоит… желание пропало. Если бы основные аэропорты были оборудованы, тогда другое дело, но вижу, очень часто и там, где есть система, вечно она не работает, вот и извращаешься по локатору, а то и по приводам. Нет уж, лучше повышать свое мастерство в реальных рамках. Тем более что заход 30/400 ничем по технике не отличается от захода 60/800, только напряжение больше. Заходит-то автомат.
Я давно не летал с Садыковым. Последний наш разговор был сложным. В то время как раз погиб Шилак, и по известным причинам мы невзлюбили наш лайнер и стали его побаиваться. Я летал тогда вторым пилотом уже второй год, букет прелестей нашей машины раскрылся к тому времени для меня вполне живописно; я понял, как коварна эта машина, как не прощает небрежности и как ценой гибели людей открываются неизвестные недоработки в самых, казалось бы, надежных ее узлах.
По этой причине мы все летали напряженно и скованно, а ощущения испытывали примерно подобные тем, какие испытываешь, ремонтируя голыми руками электрическую розетку под напряжением: вот-вот дернет!
Рауф Нургатович тогда после одного из полетов сделал мне замечание, что я стал грубо пилотировать по сравнению с прошлыми годами. Я и сам это за собой заметил, но сделать пока ничего не мог; это раздражало. Видимо, поэтому я резко выразился, что машину эту ненавижу, она рассчитана на робота, что попал я на нее случайно, и т.д., и т.п., и что я вообще устал от полетов. А мы, как назло, в том году и летали много и напряженно; усталость, конечно, была.
Садыков не стал меня разубеждать, а только с каким-то сожалением протянул:
– Ее люби-ить надо, люби-ить…
Мы расстались тогда с одинаковым чувством сожаления: Садыков разочаровался во мне, а я почувствовал это и переживал свое падение в его глазах.
Потом я пошел в гору, меня быстро назначили на ввод в строй, я сдал на I класс, это очень подняло меня в собственных глазах. А пройдя школу Репина и Солодуна, я набил руку, обрел уверенность в себе и пришел в своем мнении о Ту-154 к выводу, что самолет хоть и строгий, но справедливый: он быстро отсеял легкомысленных и явился хоть и жестокой, но надежной лакмусовой бумажкой для проверки, кто есть кто.
Сейчас я не променяю «Тушку» ни на какой другой самолет. Прав был покойный Шилак; прав мудрый Садыков. Только мастерство, рожденное многотрудной и длительной работой над собой, рождает уверенность в полетах на такой умной и сложной машине. А со временем приходит и любовь…
Скорость, мощь, высота, комфорт, маневренность, надежность, - но при условии знания, умения, доверия и контроля. Если я могу, то лайнер выполнит. Вот и вся формула.
Можно хорошо играть на балалайке, а можно и на рояле. Я чувствую, что могу на рояле.
Мнением Садыкова я очень дорожу, и был рад показать ему товар лицом. Правда, не обошлось без накладки.
Мы пришли за 10 минут до времени закрытия дверей, и пока раздевались, то да се, двери закрыли, пора буксировать, земля торопит, - это же Москва… а я не успел проверить АБСУ. Нет бы сказать: «минутку…» А я решил не задерживать и выполнил проверку во время буксировки. Милейший Рауф Нургатович не препятствовал.
Взлетели мы хорошо, в полете все было без отклонений. Я особо следил за тем, чтобы совсем не было видно со стороны, что я вообще работаю штурвалом. Акселерометр застыл на единице, плюс-минус 0,1. Ну, все было отлично.
На снижении, правда, сработала сигнализация предельной скорости - на 580, но я, зная, что предел 600, без паники уменьшил скорость, чтобы не гудела сирена.
На посадке был приличный боковой ветер, болтанка; я справился, посадил мягко.
Зарулили[41], я провел разбор, затем спросил замечания у проверяющего. Садыков, как всегда, достал свою знаменитую записную книжку и начал не спеша меня пороть. За проверку АБСУ на буксировке[42], за слабую организацию предполетной подготовки. Все это обстоятельно, но доброжелательно. За срабатывание сигнализации тоже оттянул: хоть и не превысили, но в расшифровке команда прошла - это уже нарушение, придется отписываться.
Ну, и показалось ему, что резко ставлю малый газ перед приземлением. Но в процессе разбора мы пришли к выводу, что запас скорости был, и чтобы не перелететь, малый газ был поставлен вовремя. Последовала пара полезных советов на этот случай.
Ну, а потом он сказал, что акт на проверку мне напишет, все хорошо. Когда остались вдвоем, доверительно добавил, что мы, мол, знаем друг друга давно и сами разберемся в ошибках.
Так что, мастер, в организации ты слаб, хотя летать вроде бы научился. Глупо, конечно; давно, видимо, в Москву не летал, забыл, что там варежку не разевай.
А все же полетом, пилотированием, я доволен.
Позавчера из резерва подняли на Москву вместо Ил-62. 164 пассажира, топлива проходит 31,5, а надо 35 тонн: сильный ветер в нюх. Давай мы бегать, искать, где бы подсесть на дозаправку. Перебрали варианты: погода позволяет только в Челябинске и Тюмени. Запросили. Леша сбегал на самолет прекратить заправку, чтобы не более 25 т. Пришел туда - она уже давно заправлена: 34 т. Давай слив. Короче, бегали мы, бегали, ПДСП[43] решила проще: сняли часть пассажиров, чтобы без задержки. Мы полетели довольные: выспались и урвали рейс.
В Москве заходил Леша. Погода была серенькая, нижний край[44] 100 м, видимость 1400. Я освободил себя для принятия решения в сложной обстановке, да и надо давать человеку набивать руку в сложняке. Ну, он зашел хорошо, а уж посадки я так и не ощутил. Было нечто трепетное, эфемерное: так нежно ласкают друг друга губы влюбленных.
Потом поэзия кончилась: на полосе слякоть, и тормоза были просто лишним грузом. Ну, почти. Кое-как срулили. Я восхитился посадкой вслух.
Вернулись сегодня ночью; моя посадка при сильном боковом ветре (на кругу снос был 20 градусов) и болтанке до умеренной - успешно соперничала с прошлой посадкой Леши.
Мне кажется, самое главное при посадке с боковым ветром, помимо того, что поймать ось и не сходить с нее, это замереть перед касанием и чуть добрать на себя: это очень смягчает боковую нагрузку на стойки, даже если появился снос. Самолет при этом очень послушен рулю направления, нет грубого рывка, нос плавно выходит на ось, и остается только придержать переднюю ногу и плавно опустить ее на бетон.
А вот на взлете в Москве были нюансы. Энергично взял на себя, отодрал ногу (100 тонн - это не шутки), подвесил, убрал шасси, фары, установил тангаж по скорости, убрал закрылки, и только стал контролировать уборку предкрылков[45] и соразмерно придерживать скорость, как отвлекла команда штурмана: «Курс 325, на втором - Картино![46]»
Почему 325? Ведь на Картино - 340, это я твердо усвоил, летая еще на Ил-18.
Ввел в разворот, контроль авиагоризонтов, связь с кругом, - и тут загорелось табло «Неисправность второго двигателя». Внимание отвлечено на контроль и синхронность авиагоризонтов, на табло предкрылков, на стрелку радиокомпаса (но почему все-таки курс 325?), а тут горит красное табло! Погасло, опять горит.
Жду доклад инженера, молчит. Спрашиваю, что с двигателем. Отвечает: «Вибрация велика». Ну, убери режим. Кстати, пора бы и номинал; глянул на высоту - батюшки, уже 800! Кричу: «Номинал!» Курс держу 335, смотрю – КУР[47] около ноля, на Картино идем.
Табло погасло. Теперь: почему высота 800? Оказывается, штурман уже доложил «Высота перехода» и самостоятельно выставил мне давление 760 - вот и 800 м. А я не видел!
Ну, слава богу; так, сколько задали? 1500. Все постепенно вошло в колею. Поскорее включил автопилот, чтобы прийти в себя. Собственно, я вполне контролировал ситуацию, но для надежности сразу снял с себя пилотирование.
Потом с Михаилом разобрались: курс на Картино - 335, а если взлет с курсом 137, то 346. Что ему стукнуло в голову, сам не поймет. КУР на ноль, держи и все, тут 20 км. Я больше верю курсовой системе, а АРК ночью врет.
30.11
Кто я? Зачем я? Какое предназначение мне на земле? Так ли живу?
Это вечные вопросы, рано или поздно встающие перед каждым мыслящим человеком. У меня сейчас они встали - не первый раз - под влиянием нескольких будоражащих факторов.
Прочитал очередную книгу Астафьева - я его ставлю наравне с Айтматовым. Под влиянием его произведений чище становится душа, чище и ранимее, чутче; и тем болезненнее воспринимаются неувязки жизни. Спадает с сердца угрюмая короста повседневного делового равнодушия. Острее чувствуешь, что годы уходят, хочется оглянуться и подбить итог.
Прочитал в «Работнице» статью. Видимо, статья программная: какой видится журналу типичная работница наших дней. Статья написана, на мой взгляд, прямолинейно. Упор делается на русский авось и широту души. Последнее я принимаю, широта сейчас - редкий дар. А вот авось…
Дело личных симпатий и антипатий, но грубое, мужеподобное лицо на обложке, в морщинах вокруг рта - мне лично не очень… Ну, да с лица воду не пить. Однако статья, где прямо упоминается, что много наломано дров… и точно, такая наломает!
Детей у нее пятеро, от двух браков, да внук, равный возрастом младшему сыну, - «детей никогда не боялась». Значит, много детей - так сейчас надо государству. Дерут обои, царапают мебель, не слушают мать, - у нее на них нет времени. Кормит кулешом (сразу первое и второе) из ведерной кастрюли. Напрашивается почему-то: «Нынче дали нам, друзья, целый чан ботвиньи…»
Короче, свила гнездо, «как жила - отчаянно и рисково».
Осенью бьет шишку в тайге: «Особая острота чувств, которая что-то важное приоткрывает ей в самой себе и наполняет сердце буйным восторгом». Естественно, такая она и в жизни. Оптимист безоглядный. Семью строила на авось. Оправдание: «другие всю жизнь вымеряют, а тоже просчитываются».
В работе: бесстрашие, широта, удаль. Она электросварщица. Бригадир. Естественно, одна из первых перешла на бригадный подряд. Бригада культурная: двое со среднетехническим образованием. Так что и бригадиру нельзя отставать: заканчивает вечернюю школу. С внуком Русланом. Повышает свою квалификацию на курсах. Трудно - да. Но - в лицо ветер, сопротивление, и т.д., и т.п.
Обязательно - общественная нагрузка: народный заседатель. Понять человека - это для нее главное. Особенно это способно тому, кто сам наломал дров и семью до ума не может довести, а уж есть ли время книги читать, когда любимый отдых - тайга, косьба, чтобы ветер в лицо.
Вот такой человек. Тип.
Я, конечно, с иронией воспринимаю такие статьи. Не дай бог попасться на перо борзописцам. Что же делать тогда мне, с моей, овеянной неземной романтикой, многократно описанной и воспетой небесной работой? С семьей, которую все поголовно считают чуть не идеальной? С общественной партнагрузкой, которую тяну всю жизнь? С моими музыкальными задатками? Нет, лучше не попадаться писакам.
Конечно, нужен идеал. Людям, пролетарскому общественному мнению, надо преподнести его, не слишком вознося, но и не в прозе жизни. Наша публицистика в этом плане ближе к житейским реалиям, а идею вталкивает насильно.
Конечно, иному кажется: вот, тянет баба, вишь - в журнале на весь Союз… Эх, меня бы…
А другой думает несколько иначе. Мне, например, идея больше доходит через эмоции, значит, мне ближе художественная литература. Только настоящая. А где ж ее взять - вот и ловлю каждую книгу настоящего мастера.
Ну а все-таки оглянись на себя. Кто ты есть? Как сотворил себя? Удовлетворен ли? Не застыл ли на месте? Как продолжил себя? Зачем жил и какой оставил след? И многие, многие вопросы…
Детство, послевоенные годы, небогатая учительская семья. Отец и мать с утра до вечера на работе, я сам по себе, у старшей сестры свои дела. Книги, болезни, игры - все в собственном соку. Улица и книги, уклад семьи - вот воспитание.
У отца старенькая машина; я - возле него. С детства научился владеть техникой, инструментом, соображать и делать руками. Любознательность. Рядом с городом аэродром, я там с пяти лет, самолеты - несбыточная мечта.
Работать меня приучали с детства. Жили честно, бедно, но старенькая машина у отца была: самоутверждение. Сосала из нас соки.
Сколько помню себя, одевался просто, и вообще было не до роскоши. К тряпкам не приучен. Научен читать, думать, делать руками, играть на музыкальных инструментах. Чувство коллективизма впитал в духовом оркестре, которому благодарен на всю жизнь.
Учился всегда на пятерки, легко. Из школы вместе с золотой медалью вынес представление, что с моим здоровьем я создан для умственного труда, а также что труд этот легкий.
Два курса авиаинститута начисто разбили это мое убеждение; в результате - тяжелый душевный кризис.
В двадцать лет пришлось принимать первое в жизни ответственное, радикальное решение. Бросил институт и поступил в летное училище. И отрезал себя от прежней жизни. Вышел на свои хлеба.
Летное училище кончал с довольно ясными представлениями о жизни, своем месте в ней и об ответственности. Вошел в аэрофлотскую струю и отдался ее течению, упиваясь романтикой сбывшейся мечты. Продвигался автоматически, потому что не пил и не нарушал. Не ловчил и не рвал из рук (как пел когда-то Утесов), был ровен и дружелюбен с товарищами, и мне повезло, что небо не проверило меня на прочность.
Повидал свет. Бывал и там, где бывали немногие, делал то, что доверяли немногим, познал и каторжный труд, особенно на Ил-14.
На Ил-18 облетал весь Союз. Приобщился к сокровищам цивилизации в лучших музеях страны, а в Третьяковку ходил как в дом родной.
Летал всегда легко. И с людьми работал легко, и не имел врагов. Есть у меня, по нынешним меркам, один недостаток: я всегда думаю о людях и помогаю им. Иногда в ущерб себе. В пассажирах я вижу не объект перевозок, не загрузку, а живых, страдающих от нашей нерасторопности людей. Чем немало удивляю коллег.
Ну и что? Двадцать лет я так работаю. И все это время в основе моего труда - расчет, ограничения, рамки и страх перед наказанием.
Она рабочий и я рабочий. У нее - удаль, широта, бесстрашие. У меня - документы, регламентирующие летную работу. И страх, вечный страх. Страх нарушить. Страх потерять здоровье до пенсии. Страх перед проверяющими. Страх перед врачами. Воспитание, воспитание, начальники всех рангов и мастей. И сознание того, что хоть ты и рабочий, высочайшей квалификации, а встать, гордо глянуть в глаза начальству, послать его подальше, почувствовать собственное достоинство - не моги. Тебя съедят, вышвырнут из системы.
Парадокс. Там, где во имя безопасности людей нельзя нарушать - нельзя и работать без нарушений. Надо брать на себя. И вот на этом, при желании, могут сыграть, поймать на элементарном.
Надо, допустим, экипажу лететь пассажирами на тренажер в Ростов. Есть разовые билеты, нет мест. Я должен их взять стоя. А то сорвется весь график. Это нарушение РЛЭ. Все: поймали, вырезали талон. Таких примеров миллион.
А она может сказать директору: «Да пошел ты… меня везде возьмут с распростертыми». Ее - возьмут. А меня не возьмут. Мы на привязи. Наша дисциплина держится на страхе.
Конечно, я выполняю свои обязанности, косясь на занесенный кнут, но выполняю осознанно, из чувства целесообразной необходимости. Я люблю свою работу, понимаю ее, разумно выбираю из вороха приказов и наставлений информацию, необходимую для работы, разумно забываю отжившее, хоть его никто не отменял; а заработав пенсию - главный наш стимул, - стал гораздо спокойнее и за свое будущее. Теперь уже, случись конфликт с начальством, я буду отстаивать свое достоинство, а если дойдет до выбора: работа или порядочность, - я выберу последнее. За 18 лет заслужил.
Трудно работать командиром корабля. Гораздо легче второму пилоту. Отвечать за всех труднее. Но это везде так. У нас та же бригада, тот же бригадный подряд, так же платят по конечному результату, только КТУ[48] определен раз и навсегда: у командира 1,0, у второго и штурмана 0,75, у бортинженера 0,6.
Единственно: рамки нашей работы исключают какое-либо рационализаторство. Расти можно только в мастерстве, либо в должности. Летаем на том, что дают, туда, куда посылают. Полет наш обнажен, видны все ракурсы и нюансы, оплошности и огрехи.
У нее муж шофер. Прокормить шестерых - надо воровать. Приписывать тонно-километры, ходки, что там еще, я не знаю, продавать налево бензин. Хватать, что плохо лежит, бросать в кузов, везти, договариваться с торгашами, использовать нехватку автотранспорта, короче, использовать автомобиль в личных целях. Или я ничего не смыслю в жизни.
Она тоже с завода несет. С заводов несут на миллионы рублей. Вот и живут. Это на работе она в кирзачах. А в суде заседать - не в войлочных же сапогах. А сапоги стоят минимум сотню. И мебель у них, небось, не самодельная. Она тоже чего-то стоит. И дочка может уйти кататься на горку в новом пальто.
У нас красть нечего. Я не вожу зайцев за деньги, как, допустим, проводники в поездах, это у нас исключено. Своего брата-летчика везешь за стеклянный билет - велик навар. Да и не любитель я выпивать. Я командир Ту-154, у меня средний чуть выше 600 р., это 550 чистыми. Из них 20 - партвзносы. Надя приносит 150. Ну, пусть 700 р. в месяц мы имеем.
Да, у нас все есть. Машину взяли за 7000. Построили гараж и дачу своими руками. Есть мебель, брали за 1200, давно. Сейчас это стоит вдвое, втрое дороже. Ковры брали по 750 и 900, сейчас они стоят дешевле. Хрусталя у нас практически нет, так, стекляшки: рюмки, салатницы и пара ваз под цветы. Пианино, аккордеон, цветной телевизор, магнитофон, радиола. Книг сотни три-четыре, в основном, классика, собирали где попало - но для чтения. Золото у Нади есть: три колечка, цепочка с медальоном. Шапки две: из соболя, что я еще на Ан-2 добывал, да из норки. Шуба цигейковая за 450 р.
Нет у нас ни дорогих сапог, ни заморских тряпок. У ребенка к 16 годам нет джинсов. Нет ни кожаных пальто, ни адидасов всяких.
На что же уходят деньги? Мы много ездим. Каждое лето на море. Фрукты и книги покупаем без меры. Надя часто лечится на курортах. На сберкнижке лежат две тысячи на всякий случай. А так тратим деньги не задумываясь. Берем и берем. Глядишь - новая зарплата. Мы деньги тратим на комфорт: надо – купил, и душа не болит.
Живем себе спокойно. Скучаем друг без друга, радуемся, когда вместе. С удовольствием рассказываем, и расспрашиваем, и слушаем друг друга. Дочь уже невеста, выросла незаметно, скоро уйдет. А пока - родное гнездо, место отдыха, бесед, уюта; конечно, бывают и споры, и проблемы. Но у нас дома хорошо, и все друзья знают это и любят нас за это.
Как нам удалась семья, это тема отдельная.
Но бия шишки в тайге, вряд ли этому научишься. Хотя… может, я слишком самоуверен.
Вчера проверял меня Кирьян (мы так зовем нового командира эскадрильи за сходство с известным киногероем). Летали в Благовещенск. Он со мной еще никогда не летал. Я, конечно, старался, ну, и от старания немного обос… При заходе в ясную погоду увлекся выдерживанием высоты на кругу, и только после третьего разворота вспомнил, что еще не выпущены шасси. А скорость 420 и боковое удаление 7. Стал энергично гасить скорость, набрал 50 м высоты, выпустил шасси, пора закрылки на 28, уже подходит ограничительный пелен[49]г, а колеса еще не встали на замки. Гашу скорость; как только погасли красные, ввел в разворот с одновременным выпуском закрылков и потерей высоты, следя за директорными стрелками, тут же дал команду выпустить фары, и уже пора закрылки на 45. Кирьян сам переложил стабилизатор, едва успели прочитать карту, включить фары, все это поспешно, а тут еще попутная составляющая ветра; короче, все второпях, внимание едва успевало переключаться.
Сел я нормально, с едва заметным - но толчком. Акселерометр показал 1,3, но это когда я гасил скорость на кругу, а так, скорее всего, 1,2.
И что же? Когда я заикнулся, что не выдержал высоту, что скомкал заход, Кирьян засмеялся. Вот так, мол, и надо заходить, нечего тянуть этапы по несколько километров на режиме.
Пока мы готовились, Красноярск закрылся: снегопад, коэффициент сцепления[50] 0,28. Естественным было ожидать очистки полосы, это часа три. До вылета было еще полтора часа, и я заказал телефонный разговор с Красноярском и придержал посадку пассажиров, думая о них как о живых людях, которым неприятно толкаться на досмотре, а потом опять в вокзал, и опять досмотр. Пусть уж подождут в вокзале.
Красноярск дал официальное закрытие на два часа и дополнительно обещал дать информацию о нашем вылете за полчаса до времени вылета по расписанию.
Кирьян не похвалил мою инициативу: мол, сажай, и пусть пассажиры ждут в самолете. Но тут пришло известие из Красноярска, что сцепление 0,32, и мы приняли решение вылетать. Дали команду сажать (за 45 минут до вылета), подписали и пошли на самолет. И видим, что не успеют посадить вовремя. И корячится задержка по нашей вине - по моей лично. Хотя я кругом прав: задержал я посадку заранее, когда еще шла регистрация; дал команду сажать за 45 минут, а по технологии регистрация заканчивается за 40 минут. В случае чего, могли списать на метеоусловия: действительно, Красноярск закрывался и нам обещал информацию за 30 минут до вылета. Но факт налицо: если бы мы не задержали посадку, то вылетели бы по расписанию.
Кирьян по радио стал подгонять их, да так наступательно, стал качать права. Это, в общем-то, бестактно (если в аэрофлоте существует такое понятие); диспетчер обиделся и стал обвинять нас. И, реши он довести дело до конца, навесил бы на нас задержку, а там разбирайся. Хорош дипломат Кирьян!
Ну, посадили они нам все-таки вовремя. Взлетели за 4 минуты до последнего срока. И пассажиры не мучились. Но кому кроме них это надо.
Набрали эшелон - автопилот не держит высоту. Пришлось корректировать тангентой вручную, но это неудобно; я отключил продольный канал[51] и стал выдерживать высоту штурвалом, по авиагоризонту и вариометру[52]. А надо сказать, что на приборной скорости 500[53] это не очень легко. Но постепенно втянулся.
Дома заходили при сильном боковом ветре, который потом стал встречным. Я немного дергался, видимо, устал уже; когда вышли из облаков, вывел правее полосы, исправился. Опять же: вошел в глиссаду на 50 м выше, и тут еще стих встречный ветер; пошли выше глиссады 20, 15, потом поставил режим 78, скорость стала падать, над торцом я чуть убрал вертикальную скорость[54], ожидая просадки, выровнял чуть энергичнее, где-то на 3 м, слышу, Кирьян толкает от себя, я не дал; и так, борясь, снизились до метра, потом я пересилил, и сели мягко: 1,15. Сцепление было 0,3, долго катились.
На разборе Кирьян сказал: продолжайте в том же духе. Солодун бы сказал совсем другое, а уж Репин бы вообще изнылся.
Я Кирьяна понимаю. Его вполне устраивает новый экипаж со столь требовательным к себе командиром.
Ну, бог с ним, а сам-то я когда же начну чисто летать? Что ни полет, то нюансы. Конечно, с проверяющим летать труднее, как с любым новым членом экипажа; истинно раскрываешься только при самостоятельной работе. Но – такое время: проверяющим летать надо, их много, рейсов мало; приходится мириться. У нас вторые пилоты совсем не летают.
Леша ушел в УТО[55] на месяц; пока дали мне Юру Шакирова, я его знаю с Ил-14.
Вчера из резерва подняли нас утром на Норильск. Накануне была сбойная ситуация: долгожданный циклон, что крался к нам с севера, наконец-то обрушил на нас свои миллионы тонн снега, намел сугробы, засыпал дороги, закрыл аэропорты.
Скопилась масса самолетов, тысячи людей; надо было что-то делать. Аэродромная служба свое дело сделала: казалось бы, в пургу, в метель, в ветер, - какой смысл чистить полосу. Но упрямо разгребали снег машины, мели, чистили, сушили. Метель все мела, трудно было предсказать, когда же все стихнет.
Приехало начальство, чтобы умелым, четким руководством помочь побыстрее справиться со стихией и отправить измаявшихся людей. Начальник управления, видимо, тщательно проконсультировавшись у синоптиков, дал решающую команду: отбой всем, пассажиров отпустить до утра следующего дня. Объявили. Народ побежал на автобусы.
Через час непогода утихла. Аэродромная служба, проявляя чудеса героизма, отстояла полосу, добившись небывалого коэффициента сцепления - 0,5. Но… дороги замело, автобусное движение до вечера прекратилось, народ застрял кто где, а порт стоял.
Теперь спешить было некуда. Одна неграмотная команда свела на нет все усилия. Всю ночь не спеша чистили перрон, забитый самолетами. К утру, отчаявшись добраться домой и отдохнуть, проведя ночь на ногах, отказались лететь экипажи. И вот нас подняли на Норильск.
Слетали мы хорошо. На взлете была сильная болтанка, но по морозцу мы быстро выскочили сверх облаков. Дул сильный встречный ветер, и мы, идя на 10600, прикидывали, что назад придется идти пониже: на высотах от 9 до 10 тысяч будет попутное струйное течение[56].
Юра садился в Норильске, выровнял для гарантии повыше, так как там посадка на пупок, досаживал на углах атаки, но мягко. Я не мешал.
Взлетал обратно тоже он; я оставил себе посадку в Красноярске, ожидая той же болтанки.
Интересное ощущение, когда самолет, выныривая из глубин атмосферы, снизу начинает входить в струю. Визуально гигантской воздушной реки не видно, но как вблизи поверхности воды есть волны и завихрения, так существуют они и в струйном течении.
Воздушный Гольфстрим принял нас в свои объятья, плавно покачивая, и понес, добавив к нашим девятистам свои сто восемьдесят километров в час. Грех было бы не воспользоваться на дармовщинку. Только жаль, наши эшелоны не всегда совпадают с максимумом струи: на этот раз на 10100 мы шли по самому ее верху, и вместе с ростом скорости нам досталась приличная тряска.
Заходили дома в болтанку, скорость плясала, у земли был небольшой сдвиг ветра; постепенно от плавных движений штурвалом и ожидания, что машина сама выправится, я переходил к энергичному, жесткому пилотированию. Все сужался и сужался клин возможных отклонений; движения штурвалом становились все энергичнее, короче и точнее, команды - четче, резче; наконец долгожданные пять метров, малый газ, три, два, метр, - и с затаившимся дыханием я уложил лайнер на то место, куда целился.
Сегодня стоим на Одессу. Сбойная ситуация продолжается. Опять пурга, а рейсы за вчерашнее число еще не разгребли. Самолеты еще не вернулись; у нас пока задержка. Памятуя опыт неудачников, приезжающих в такую пору на вылет, и толкающихся сутками в штурманской без надежды на место в гостинице, мы сидим дома на телефонах. Это счастье, у кого есть телефон.
4.12
Все летим и никак не улетим. Прошли сутки, ситуация не проясняется. Вчера весь день мела пурга, порт закрылся до утра. Сейчас начали разгребать, но метет опять, правда, слабее. Сижу на телефоне.
Все мои записи связаны только с работой; я не касаюсь других сторон, своих интересов, увлечений, а их достаточно.
Одно меня увлекло уже давно - желание писать.
Ну, графоманов хватает. Однако, читая мемуары пилотов, вижу, что в них отражена, в основном, только работа. Так для этого я веду дневник. А вот совершенно не освещается все то, что вокруг работы, но с нею непосредственно связано. Это быт, образ жизни летчика, его родные и близкие, это, наконец, мысли. Не в обиду будь сказано, герои всех этих книг получают и выполняют приказ, долг, на досуге мечтают о лучшей жизни, - и описание не выходит за рамки обыкновенного бесталанного газетного очерка, не тянет на большее.
В этом отношении Сент-Экзюпери стоит намного выше; но он писатель, интеллигент, граф, наконец. Он сложен; в молодости, читая его, я многого не понимал и пропускал. Да и сейчас, признаться, не все понимаю.
Хочется написать книгу для молодежи, такую, чтобы ее было интересно читать, чтобы в ней была и романтика, и правда, и чтобы как-то открыть ребятам глаза на жизнь.
В художественном отношении я не достигну высот: мне не дано. Но я могу грамотно и понятно изложить свои мысли без скучной дидактики. Мне хочется писать, как пишет хирург Федор Углов: он постоянно приводит примеры из жизни, приоткрывая дверь в кухню хирургии, - но не в ущерб основной мысли. А читается взахлеб.
Когда я был мальчишкой, то мечтал о такой книге, где описывалось бы, какие рычажки и кнопки надо двигать и нажимать, как ведет себя самолет, самое таинственное для меня железное существо. И еще я вынес из детства любовь к тем книгам о море, где бимсы и салинги, ванты и шкоты, - и до сих пор их с удовольствием читаю, и изучил, хоть и не моряк, всю парусную терминологию.
А еще пацаном нашел где-то «Руководство по летной эксплуатации штурмовика Ил-2», цветное, с картинками, где стрелками показано, куда что нажимать. И, сидя на чердаке, высоко над землей, упивался им и мечтал…
Вообще-то я склонен к скучному нравоучительству, одним словом, зануда. Вот если преодолею это в себе, то, может, что-то и получится.
Жаль, что мне не дано многоцветье художественного видения мира. Но, видимо, профессия накладывает отпечаток на все.
Я попытался сочинить несколько рассказиков, вернее, описать то, что было. Описал, как на моих глазах четвертовали самолет, на котором я летал, и который как памятник был установлен прямо у меня перед окнами. Описал, как искал и нашел потерпевший катастрофу Ан-2 и что при этом чувствовал. О последнем полете командира тяжелого самолета, который в сложных условиях боролся до конца и умер за штурвалом, - то, что возможно с любым. О катастрофе в Омске.
Все это сыро, слабо, требует доработки, поэтому я пока скрываю эту графоманию от родных и близких, чтобы избежать излишней нервотрепки.
Мне стыдно говорить: вот я пишу книгу. Писатель для меня все равно что бог. Нет, я веду заметки. Потом, может быть, соберу все вместе, исправлю, проверю временем свои ощущения, может быть, осмелюсь дать кому-то прочитать.
Хотя смог же Дэвис написать свою книгу «Пилотирование тяжелых самолетов». Очень любопытная книга.
И все же, создать книгу, добиться ее издания - для меня все это далеко и зыбко. Я понятия не имею, как это делается. И прославиться не хочу, и денег мне не надо, гонораров. У меня такие скромные запросы. Но очень хочется дать молодым интересную книгу, где главный героизм - героизм будней. То пишут о войне, то о Чукотке, - но все о малом периоде времени, об экстремальных ситуациях. А я хочу - о сегодняшнем, благополучном, сытом, обеспеченном времени.
Слетали в Одессу. После полуторасуточного ожидания на телефоне выехали, наконец, на работу, там протолкались еще три часа - своя игра - и, наконец, взмыли.
Весь рейс прошел под давлением чувства спешки. Дело в том, что, согласно поступившей информации, Одесса с 00 до 7.00 закрывается на ремонт; у нас же по расчету хватало времени, но в обрез: по часу на стоянки в Уфе и Донецке.
Естественно, в Уфе загрузили 6 тонн груза - задержали, и в Донецк мы прибыли с опозданием против нашего расчета. Жалко было оставлять пассажиров на 12 часов в вокзале, и я пошел в АДП, преисполненный решимости уговорить Одессу принять нас.
Но оказалось, что наша информация о закрытии Одессы устарела на три месяца, и мы тревожились напрасно.
Полеты были без замечаний. Поймали два сложных захода.
Обратно задержались загрузкой в Донецке и домой прибыли глубокой ночью. Новосибирск предупредил нас, что в Емельяново[57] видимость 200 м, и последний час полета прошел в напряжении. Пришлось выходить на привод на 10100 без снижения; наши ожидания об улучшении не оправдались, и мы, набрав в развороте 10600, направились в Томск.
Но тут судьба смилостивилась, видимость улучшилась до 1500, мы рухнули вниз и за два круга потеряли высоту. Болтало, я принял решение заходить с закрылками на 28, чтобы отодвинуть ограничения по скорости и улучшить управляемость.
Метров с двухсот стих ветер, пропала болтанка, и мы мягко сели на заснеженную ВПП с чувством какого-то разочарования легкостью посадки.
Через десять минут опять замело. Через двадцать - стихло. И так до утра.
В полете я прочитал статью в «Воздушном транспорте» о роли профессиональных и психологических факторов в подготовке пилотов. Особый упор делается на оценку общих способностей пилота. Прослеживается прямая зависимость: уровень общих способностей - уровень мышления - уровень критичности - уровень профессионального мастерства - уровень безопасности.
И хоть я, несколько самоуверенно, не отказываю себе в достаточно высокой оценке способностей и уровня критичности, а также несколько аффектирую отсутствие высшего социалистического образования - как не нужного лично мне для повышения мастерства, - все равно это не повод для самоуспокоенности. Мастерство пилота настолько зыбко, аморфно, подвержено воздействию стольких факторов, что говорить о нем как о чем-то стабильном, железном, - позволительно разве только журналистам.
Раз на раз не приходится. И на краю гроба, как говорится, не дам я гарантии, что стопроцентно обеспечу безопасность. Но как же тогда работать, возить людей?
Тут у каждого свой метод обретения уверенности в себе. Меня иногда выручает неизменное «Чикалов летал на 4…» Выручает психологическая обстановка в экипаже, над улучшением которой я постоянно работаю. Однако в сложной ситуации в животе все равно возникает холодок: «Как - это я, сейчас, через пару минут, начну весьма рискованное дело и справлюсь?»
Потом, уже в процессе борьбы, когда думать некогда, холодок проходит, а к торцу полосы все чувства настолько сконцентрированы, что кажется, мозг сжимается до размеров грецкого ореха. (А может, он такой и есть?)
Володя Заваруев сделал первый самостоятельный полет. Дай ему бог, как говорится. С удовольствием работал с ним; может, и он когда вспомнит меня добрым словом.
А Миша Макаров умер. В 47 лет - рак мозга. Жалко терять товарищей. А хоронить - тяжко.
А ведь умру я - вспомнит ли меня хоть кто добрым словом? Я ведь нелюдим. Ни с кем не пью, разборчив в дружбе, чаще сторонюсь людей. На работе со всеми ровен, доброжелателен. Навязываемые мне отношения не принимаю, все сам по себе. Мне тягостна была бы дружба с человеком, не разделяющим мои взгляды, и невозможны отношения с навязывающим свои. И наверняка многие считают меня высокомерным. Но это не так.
Тут бы от комплекса неполноценности убежать, а уж о самоуверенности и говорить не приходится. За высокомерие вполне можно принять мою стеснительность, от которой я сам мучаюсь.
Но уступать в навязываемых мне отношениях я не намерен. Если бы это понимали те, у кого вся жизнь построена на знакомствах, «нужных» людях.
Люблю одиночество. Устаю от информации. Устаю от толпы. Старею?
Мутный поток информации захлестывает и так едва тлеющие огоньки истинных человеческих ценностей. А без них зачем жить.
Кому нужно трудолюбие как самоцель? Жалок человек, понимающий, что нельзя сидеть без дела, - но не ведающий, как это можно просто сидеть и мыслить. Он сам вкалывает с утра до ночи, воспитывает так же своих детей, - внешне это выглядит очень порядочно, нравственно, а на деле - от бездуховного. Или труд уже сам по себе духовен? Труд раба? Но видно же, что когда человек считает сидение и болтовню с семьей, с детьми,- пустою забавою и идет от семьи в гараж, потому что там - дело, дело, дело, - это перекос нравственный. Эдакий гомо вкалывающий.
Но ведь вначале была мысль, потом - слово, а потом уж действие - не так ли?
Я уже не говорю о вещизме. О стремлении добыть, добыть, добыть, - честным трудом, заработком, приработком, шабашкой, двадцать пять часов в сутки…
Как мне мало надо. Я всю жизнь проходил в форменной одежде. Один гражданский костюм за десять лет…
Да в тряпках ли дело. Я мыслю - и мне не скучно жить. Скучны бриллианты.
Даже эта графомания - труд над душой. Я разбираюсь в себе. Но это – не эгоизм, потому что, становясь лучше, я больше даю и окружающим. Нечто толстовское.
Сегодня лечу в Ростов. Снова ночной полет. Сколько ночей я не доспал? А не жалею.
9.12
К вопросу о критичности мышления. Я всегда старался сопоставлять свои действия с идеалом. Зачем это стремление, нужно ли оно?
Безусловно, можно жить, как трава. Это один полюс. Другой - это идеал. Почему одни живут так, а другие - наоборот?
Ну, естественно, критичность воспитывается с детства. Но это основные задатки, примерно у всех они одинаковы. То нехорошо, то - хорошо. А вот взять взрослых людей, самостоятельных. Один говорит: хочу пива; пошел, взял, пьет, доволен. А я думаю: а не принесу ли этим неприятности своим близким? Это, пожалуй, ближе к другому полюсу.
Откуда у меня взялось это? Я рос очень инфантильным, до 15 лет чуть не в куклы еще играл. Рост самосознания начался лет с 18. Причиной его была неудовлетворенность собой. Слаб физически, неловок, стеснителен. Не дается то, это. Не умею работать, заставить себя. Робок. Комплекс неполноценности.
В то же время много читал; естественно, перед глазами идеал. Зависть. И решение: докажу им всем…
А рядом росли те, кто не знал комплексов, и слова-то такого не знал, и не стремился к идеалу. И доказывать ничего не надо было. Пока я повышал уровень своих претензий в духовной сфере, ровесники, не знающие комплексов, подвизались в материальном, потому что оно ближе к тому, ихнему полюсу.
Видимо, годам к двадцати у человека уже складывается стремление. Стремление к удовлетворенности собой, достигаемой набором примитивных приемов: нажраться, поймать кайф, сойтись с женщиной, надеть яркую тряпку, показать себе подобным, что имеешь все, ощутить их зависть.
И тогда вокруг складывается мнение о тебе - из завистливых взглядов. И начинаешь сам о себе так думать. И создаешь комплекс собственной полноценности, культ себя.
Для меня все это было неважно. Бывали вывихи, конечно. Как-то захотелось разбогатеть. Чтобы не зависеть от обстоятельств. Но вовремя пришло понимание, что урезая себя в погоне за богатством, ничего не приобретаешь, а теряешь многое.
Тому человеку такое и в голову не придет, потому что этого не может быть никогда.
Можно урезать в низменном. Недоесть. Недоспать с женщиной. Не выпить. Не расслабиться. Надеть немодное.
Кстати, смешно. Не могу понять, чем модное лучше немодного. Чтобы выглядеть престижнее в глазах тех, кто у другого полюса? Нет, умом-то понимаю… душой - нет.
Но нельзя урезать в человеческом. Это преступно. Раз отказав в доброте, станешь недобрым. Раз украв, станешь вором.
Нельзя сказать, что я родился таким. Я себя сделал таким. Иногда делал из чувства долга, повинуясь велению разума; иногда по велению сердца.
Но ведь воспитать можно любые качества. Сколько было разброда и шатаний, и вывихов, - пока не пришел к выводу, что вечны порядочность и доброта, любовь и самопожертвование, умеренность и скромность.
Спрашивается, зачем все это пилоту? Которому думать-то незачем - все для него уже придумано. Крути штурвал и немного соображай. Зачем это шоферу, слесарю, токарю, пекарю, солдату?
Не знаю. Мне это надо. Я - тот человек, к которому через века обращаются Рафаэль и Гомер, Данте и Пушкин. Это для меня они писали, это меня они себе представляли как взволнованного и благодарного потомка. Для меня миллионы людей сохранили и пронесли сквозь шелуху мод, ужасы мора и войн, сквозь сиюминутность и грязь бытия, - все лучшее, что создано человеческим гением. И я не могу быть травоядным.
Значит, мое место - в цепочке лучших. Я должен осмыслить переданное мне и, добавив свое, передать дальше. Должен!
У меня растет дочь. Сегодня ей 16 лет. Я лепил ее по своему образу и подобию, и, может, еще успею кое-что добавить. Но, в основном, эстафету я передал. И все-таки боюсь: слаб человек, а море шелухи все глубже…
Хорошо знаю, что останавливаться нельзя, что созданное оплывает от покоя. Поэтому и копаюсь в себе, борюсь с вечной душевной ленью.
Конечно, в мастерстве пилота очень важен критический подход к делу. Те, кто это отрицает, оставили полеты, большей частью, не по своему желанию.
Восемнадцать лет я вожу, вожу - людей, грузы, почту. Я ямщик. Никаких подвигов мне не довелось совершить. Но возил больных - старался помочь, возил пожарных - старался помочь, возил и вожу просто здоровых людей - стараюсь помочь. Стараюсь везти мягко и безопасно, сажать нежно. Но при этом строго сужу себя за промахи, ошибки, отклонения, лень, небрежность.
Я всегда старался не мешать людям. Не прыгать в глаза. Уступить, сделаться маленьким и незаметным, прошмыгнуть мимо, никогда не оттаптывал ноги в борьбе за существование.
Требовать с других не умею. Каждый должен требовать с себя и винить прежде всего - себя. А с других - конечно, требовать надо, и строго, особенно с разгильдяев. Но я для этого не гожусь. Это моя беда. Я лучше покажу, как надо, своим примером.
Пишу и чувствую, как дремучи мысли, как примитивны и бессвязны слова, как не хватает мне общей образованности, как закоснело мышление, как не развито перо. Не могу не только выразить, но и разобраться, что выражать.
Правда, разговаривая, в основном, российским матом, сильно не разовьешь мышление и речь. Видно, близок мой потолок. Да я и не претендовал на сильно высокое. Для работы над собой необходимо время - я его трачу на работу и семью, и львиную долю - на работу, в ущерб семье.
Для развития речи нужны и библиотека, и общение с людьми, близкими по духу. Над книгой надо думать, много.
Где же набраться времени.
И КПД мышления низок. Я все с большей завистью читаю статьи, рецензии в «Литературке» - ведь авторы свободно оперируют этой галиматьей, а для меня темный лес. Читая классиков, правда, чувствуешь себя тоже как бы в лесу, где-то в траве, у корневищ: дышишь свежестью, видишь мощные стволы, но не дано увидеть вершины и охватить взглядом все.
И все-таки я туда стремлюсь. И возникает жалость к скопищу людей у пивного ларька, в каждом из которых, может, и правда, убит Моцарт…
Но не всю же жизнь летать. Уйду на пенсию, появится время. Только бы не охладеть, не состариться преждевременно, не перегореть. И может, на смену удовлетворению от преодоления пространств на лайнере придет удовлетворение от постижения мира другим, косвенным путем.
11.12
Обратный рейс задержался из-за тумана, мы вылетели поздно и приземлились дома в 23 местного. Домой добрался в час ночи. Сонная Надя вышла, ткнулась носом в мое холодное пальто и пошла добирать.
Я вымылся, лег в супружескую постель, обнял жену и затих. И она не спала, и я не спал, и думали мы об одном. Что больше недели я болтаюсь из рейса в рейс, что она ждет и тоскует, и, помимо нерешенных семейных проблем, есть еще простые человеческие желания… но осуществление их физически невозможно, потому что силы отданы работе.
Я лежал, как выжатый лимон, чувствуя, что сердце судорожно колотится, а мышцы никак полностью не могу расслабить, особенно левое бедро. Это не первый раз; в общем-то, это после полета уже привычное ощущение. Летом из-за этого я уже загремел на две недели на чердак с кардиограммой.
Бывали у меня периоды, когда с работы с радостью шел домой, а из дому - на работу. Бывало и так, что работа казалась каторгой, и идти на нее не хотелось. Случалось, и домой с работы не тянуло. Всякое в жизни бывает.
Но сейчас соотношение между домом и работой предстало для меня в совершенно новом качестве. Работа раскрылась для меня своей творческой стороной, отношение к ней стало на порядок выше - как способ самоутверждения. А дом стал тихой гаванью, местом восстановления сил, эдаким профилакторием. Но ведь есть еще женщина, любящая и тоскующая, в вечном ожидании… Ей пока вроде нужен не только бумажник…
А у меня на нее нет сил. Нет желаний. Есть только ощущение тепла, да ощущение вины. Есть надежда, что вот наступит отдых, все образуется, вернутся силы…
Я всегда считал, что профессия в жизни человека должна занимать определенное - и не более того - место. Наряду с женой, детьми, работой над собой, отдыхом. Вот наглядный пример, как работа заслоняет все и какой становится от этого жизнь.
И ведь летаю-то я по 40 часов в месяц. И в рейсах сплю, отдыхаю, сутками. Ведь три года назад я мог летать и по 90 часов.
Все нервы. Организация работы и выходных. Переход в новый аэропорт. Дорога на работу и обратно. Ночи, ночи за штурвалом. Перетасовка расписания. Перебои с топливом. И все упирается в отдых. И все за счет отдыха. А человеку нужна нормальная жизнь.
Вот трудности. Вот трудовой героизм. Вот накал, вот полная отдача, энтузиазм и прочие фанфары. И еще, между прочим, надо немножко летать и обеспечивать безопасность.
Валера в Ростове поехал к родне, нажрался там - слаб человек! - и явился пред ясные очи дежурного врача. Я спал, врач меня растолкала, и стало вырисовываться ЧП с грохотом на все министерство. Уложили мы нашего героя спать и пошли уговаривать доктора. Уговорили, благо, еще более суток было до вылета.
Утром, проспавшись, Валерий Алексеевич пал на четыре кости. Клял себя, и родню, и каялся, и извинялся. Ну что ему скажешь. Я подумал и поступил, как мне подсказывал опыт: простил и не стал больше на эту тему разговаривать. Так у меня было с Витей, еще на Ил-18, было и со Стасом, года два назад, - правда, по другим поводам. Но ребята поняли, и благодарны мне по сей день, и верой и правдой искупили свою вину. Думаю, и ему урок пойдет впрок. Но, конечно, контролировать его придется.
Но головка у меня два дня болела.
Прилетели мы, как я упомянул, поздно вечером, а уже на утро стояли в резерв. Договорились в АДП подъехать на пару часов позже. И вот сидим в насквозь промерзшем профилактории, ждем вечера. За бортом днем было минус 41, сейчас не меньше.
Зашел в отряд, меня тут же вызвали в плановый отдел и оттянули за полет в Москву. Мы тогда везли неполную загрузку: из-за ветра пришлось взять больше топлива, и ПДСП ничтоже сумняшеся сняла 20 человек.
Так вот: у нас взлетная масса была без 23 кг сто тонн. Нас попросили взять еще одного человека. Ну, одного можно, спишем 50 кг топлива на работу ВСУ[58]. Попросили еще двоих. То ли семья, то ли на похороны, это неважно. Мне всегда больно, когда остаются пустые кресла. Да и кто их точно взвешивал, пассажиров.
Взял я и этих двоих. Леша стал химичить в ведомости, ну и нахимичил, где-то что-то отминусовал. И вот меня вызывает тетя Маша и тычет мне в лицо, что из-за меня предприятие потеряло пассажиро-километры. И что мы не боремся за загрузку. И что один плановый отдел только и борется. И что меня надо наказать, составить акт. И что нас много таких. И за нас надо, наконец, браться.
У них там подклеены отрывные талоны на всех, и выходит, что по талонам есть, а в ведомости не хватает. А отчет, и учет, и подсчет ведется по нашим пилотским бумагам, хотя буржуй бы просто подсчитал деньги за билеты в кассе, то есть - по конечному результату.
Остальные пассажиры улетели вечером на другом самолете. И там к бумагам приклеены эти три корешка, а фактически трое улетели со мной. Корешки на месте, деньги в кассе, пассажиры давно дома, а показатели хуже. Вот главное. Показатели. Премиальные.
Короче, я оказался мелким вредителем. Леша переживает. Ну, на будущее урок.
К концу августа, бывает, ломятся пассажиры на самолет. И билеты у них есть, на любое число, «с открытой датой». Ведут по блату, и сами идут, где-то пролазят. Надо людей везти. Что греха таить, беру на приставные кресла, вопреки инструкциям. Жалко людей. Ну, полетят с меньшим комфортом, но пристегнутые, как все. Но по закону нельзя. А я нарушаю. Самолет должен выручать людей. Что толку возить воздух. На Москву и Магадан всегда остаются пустые кресла. Ну, не рассчитан наш лайнер на такую дальность, приходится брать и втискивать в сто тонн веса лишнее топливо за счет пассажиров.
Так неужели пара лишних человек повлияет на безопасность полета?
Но встают на пути простых и очевидных на взгляд простого пилота решений рогатки параграфов, форм, букв, статей, через которые не пробиться. Кто-то же должен разрешить - в случае крайней необходимости, на усмотрение командира корабля, - брать на приставные кресла, потому что пассажиру кроме уменьшения комфорта хуже не будет. Сколько я их возил - на похороны, по горящим путевкам, экипажи в командировки… Брал и беру на себя. А тот, вверху, - тот не берет. Зачем ему. Он уже наверху. Головная боль. Или ему некогда. Или не с той ноги встал. Или плевать.
Конечно, есть предел всему. Самолет не может безопасно поднять больше, чем положено.
Летали с весом 98 тонн. Пробили 100. Значит, можно, резервы есть. Кто взвешивал пассажиров? 80 кг, и все. Иногда везешь подростков: билеты взрослые, а вес бараний; места остаются. Явно меньше полетный вес - а нельзя.
А из Ташкента везешь летом: человек без шубы считается 75 кг, но у каждого по четыре пудовые дыни на горбу, а взвешивают только багаж, а дыни - так, ручная кладь, ее, в среднем, по 5 кг пишут. Заведомо тонны две лишних, но не подкопаешься, да и кому это надо. И везем, но реально прикидываем, что к чему.
Но нельзя и без рамок. Я возьму двух, тот - десять. Значит, надо придерживаться строго.
Или завопить на разборе и потребовать от всех строгого исполнения всех документов? За дурачка примут.
Но душа болит, когда просятся один-два человека, слезно молят.
Я презираю проводника, дерущего с пассажиров деньги в поезде. Сам я ни копейки с этого не имею - мне и так хватает. Так зачем мне бесплатная доброта?
Людей мне жалко. Жизнь наша жестока. Законы несовершенны. И сяду я когда-нибудь за это. Но все равно беру. Я верю, что доброта передается и умножается.
Никто и никогда не интересовался мнением рядового пилота. Нет в министерстве отдела рацпредложений, все через эстафету начальства. С одной стороны это целесообразно. Но я не очень-то лез бы со своими рацпредложениями к своему задолбанному текучкой летному начальству.
Правда, был прецедент. Года два назад обратилось к нам командование отряда с просьбой. В связи с громоздкостью и неувязками в РЛЭ Ту-154, основном нашем рабочем документе, - подавать свои предложения и замечания. Это, мол, по всему аэрофлоту кампания.
Ну, и я подал пару. О нумерации страниц - это ж надо нагородить такого, что сам черт ногу сломит в нашей нумерации. Я в своем личном РЛЭ пронумеровал все страницы, почти тысячу, от первой до последней, по-старинному, чернилами, все сноски привел в соответствие - и стало просто. Ну, нельзя же так: «Смотри рис. 5.3.6. на стр. 5.3.7.11».
И об использовании кнопки внутренних интерцепторов[59] при посадке на скользкую полосу - чтобы в момент касания покрепче припечатать самолет к полосе.
С тех пор ни слуху, ни духу. Ждем.
Дельные и научно обоснованные предложения Учебно-методического центра ГА[60] - и те годами лежат под сукном. Пока сменится замшелое начальство. Пока подойдет очередь. Пока отдадут на подпись. Пока высохнут чернила. Пока размножат. Пока разошлют. А оно уже и устарело.
Поэтому надо исходить из требований реальной жизни. Приспосабливаться к обстоятельствам.
Вот уж что пилоты умеют, так это приспосабливаться. Такая уж профессия гибкая, требующая умения переучиваться, перестраивать навыки, иной раз на 180 градусов.
Особо это видно на примере самого сложного элемента полета - посадки.
Сначала сажали как обычно. Малый газ - и добирай на себя. Но машина с мощнейшей механизацией крыла[61] ведет себя несколько по-другому, чем те, на которых мы раньше летали. То почему-то падает до знаков, то, наоборот, перелетает.
Решили уменьшить вероятность перелета: разрешили включать в воздухе реверс[62] на высоте не выше 3 м. Пока переложатся створки, пока двигатели выйдут на режим - тут тебе и приземление, и уже тормозит. Отлично!
Но метод посадки стал уже другой. При включенном реверсе от нижних струй газов образуется под самолетом воздушная подушка. И добирая на себя, пилот поддерживает самолет на этой ненужной подушке, потом теряет скорость и грубо падает.
Стали в момент включения реверса в воздухе давать чуть от себя. Все образовалось.
Значит, теперь на этом самолете посадка наоборот: малый газ, реверс, - и чуть от себя.
Научились мы сажать машину быстро и надежно, стали так летать.
Потом пошла серия боковых выкатываний. Сейчас-то ясно: самолет отсеивал, скажем так, легкомысленных пилотов. Конечно, есть вина конструкторов: при включенном реверса руль направления[63] обдувается верхними струями газов и неэффективен на пробеге. Но кто умел выдерживать направление пробега до того - то и после нововведения так же выдерживал. А кто не умел, тому нововведение усугубило его ошибки. Те, кто привык шуровать ногами на посадке и пробеге, как выкатывались, так и выкатываются.
Разобрались в аэродинамике, запретили включение реверса в воздухе. От греха. Теперь разрешено включение реверса только после опускания передней ноги и убеждения пилота в прямолинейности усто-о-ойчивого пробега. Естественно, реверс срабатывает теперь только на последней стадии пробега, когда его уже положено выключать, чтоб не засосало поднимаемый мусор в двигатель. Когда он уже не подмога.
Постепенно пилоты раскусили поведение самолета на пробеге, стали четче выдерживать направление на предпосадочной прямой; отсеялись или таки научились разгильдяи - и выкатывания прекратились.
К этому времени занялись анализом грубых посадок и пришли к выводу, что самолет не любит малой скорости, резкой уборки газа, крутой глиссады. Погиб Заслуженный Пилот Геннадий Николаевич Шилак; своей смертью только, да гибелью сотни пассажиров доказавший, что руль высоты неэффективен при его отклонении вверх более чем на 20 градусов, но что увеличение скорости на глиссаде компенсирует этот недостаток.
Спохватились… Да, тогда мы поняли, на чем мы летаем.
Стали держать скорость на глиссаде чуть больше, чтобы не упасть. Ну, а реверс так и включаем позже, чтобы не выкатиться в сторону.
А раз скорость больше, то появился на посадке старый этап выдерживания. То есть, все вернулось на круги своя: малый газ - и добирай на себя.
И со всем этим мы великолепно справляемся. И нет больше выкатываний, и очень редки грубые посадки. И люблю я свой строгий, но такой стремительный лайнер.
Хотелось поработать с дневником, но обстоятельства никак не позволяют. Во-первых, дело это интимное, мои и не подозревают, что я занимаюсь этой блажью - дневником. Во-вторых, нужен настрой. В-третьих, нужно время. А я без выходных уже тринадцатый день.
Надо не забыть мысли. О работе тангажом в полетах. Об усидчивости. О настрое на работу и нашей специфике в этом аспекте. О партсобрании.
Но это - потом. Сегодня у меня день наслаждений и тревог. Кстати, день рабочий. Поставили в план на перегонку самолета из Северного[64] в Емельяново. По установившейся традиции, я утром сразу позвонил: естественно, машина не готова, позванивайте.
И вот весь день сижу на телефоне. Два члена экипажа, имея телефоны, все же поехали на работу, не созвонившись; им пришлось провести день в гостинице, пока не отбили окончательно.
Наслаждения для меня начались еще вчера вечером. Несмотря на то, что в доме не жарко, днем было всего +14, я был рад, что наконец-то смогу поговорить с семейством, попить вместе чайку, короче - простые человеческие радости.
Между делом смотрели телевизор: показывали танцы народных коллективов. И вдруг меня радостно и сладко поразила одна фигура в азербайджанском танце. Обычно в кавказских танцах солирует один, остальные хлопают - это типичная фигура. А здесь вдруг мужчины и женщины образовали два тесных круга, стоя на одном колене, подняв руки вверх, - и в кругу мужчин, как и положено, самозабвенно отплясывала женщина, и мужчины, как и положено, тянулись к ней руками, хлопая в такт дробным ударам барабана. Но меня поразило, что в другом кругу - среди коленопреклоненных женщин - плясал гордый и счастливый мужчина. Меня пронзило острое, до слез, ощущение радости бытия, взаимосвязи и братства со всеми людьми. Это трудно объяснить. Скорее всего, тронуло откровенное, вопреки традициям, что ли, восхищение и преклонение женщин перед мужчиной. Мы-то привыкли по-европейски, наоборот.
И как-то, десятым чувством, дошло: мы все равны, все равно нужны друг другу, равно тоскуем друг без друга. Какой талант надо иметь народу, чтобы вот так просто донести до сердца эту вечную истину - в веками повторяющемся танце.
Сегодня с утра бросил все и стал читать «Витязя в барсовой шкуре» - впервые в жизни. Кроме откровенного наслаждения, пришла мысль: живуч великодержавный шовинизм… Мы и сейчас не особо жалуем детей солнечного Кавказа, по-видимому, за стремление легко, богато и красиво жить, за не нашу предприимчивость, за цены на рынке и т.п.
Но когда еще не родилось «Слово о полку Игореве», уже был «Витязь». Когда славяне еще только слезли с деревьев, у грузин уже была письменность, и дети Кавказа вовсю торговали на Великом шелковом пути.
Как жаль, что Пушкин еще не знал о Руставели. Какая поэзия… Чем-то напоминает Гомера, но - свое, самобытное.
А вчера Оксана посоветовала мне прочитать какой-то рассказ Чехова. Дочь советует отцу. Как это здорово!
И вот весь день: телефон - телевизор - телефон - книга - телефон, телефон… Это тревоги.
А по телевизору фильм о ночных летчицах, выступление народного хора - какие одухотворенные лица у поющих людей! Сейчас вот встреча с Илизаровым.
Я ценю такие дни, когда чувства обострены и все легко трогает за душу. Мне как пилоту это важно.
Сгорая, свети… Какие у него глаза ласковые.
18.12
Позавчера слетали в Иркутск. Есть такой дурацкий рейс: час туда, час назад. Впору бы летать на Як-40 или Ан-24, а лучше всего - на безнадежно отставшем в стадии освоения Як-42.
Второй пилот был новый: Петров. По условиям погоды я сам взлетал дома: была сильная болтанка. Не то слово «сильная». После взлета акселерометр зафиксировал максимальные перегрузки 1,6 и 0,3. Скорее всего, врет, сильно чувствительный. Но трепало хорошо. Загрузка была 70 человек, и мы с вертикальной 30 м/сек быстро выскочили из зоны ветровой болтанки.
В Иркутске заходил Виталий. Не очень чисто; правда, курсо-глиссадная[65] барахлила, директорные стрелки гуляли: видимо, борт зарулил в зону влияния системы, давая помехи. Когда увидели полосу, Виталий все равно разболтал машину, потом собрался, курс выдерживал, а по глиссаде мне пришлось ему подсказывать, даже чуть подправить. Видно, давненько не давали ему летать. Сел нормально.
Взлетал назад тоже он, в наборе неважно выдерживал скорость. Но мне некогда было присматриваться. Перед запуском нам подсказали, что Красноярск закрылся по видимости. Зная обстановку, я принял решение лететь. Как обычно, не дергаясь и не ища в эфире погоду, летели, зная, что это заряд, что, бог даст, к нашему прилету улучшится.
Летчики суеверны: никакой материализм не поможет, если подошел заряд. Только на бога и надежда: авось поможет.
Бог был. Вышли на связь - дали видимость 1500 при минимуме аэродрома 1400. Стали снижаться, дали нам заход с прямой.
Я берег силы для посадки и до 400 м пилотировал через автопилот. Болтать начало с 1300, мы снизились, и за 18 км все было готово. Заранее приняли решение заходить с закрылками на 28.
Метрам к ста трепало вовсю; самолет то проваливался, то кто-то невидимый сильно поддавал нам под зад. Зацепившись взглядом за торец, я попросил второго держаться за штурвал помягче, а сам взнуздал машину железными руками. Ветер был боковой, градусов под 60, метров 15, с порывами до… бог знает сколько, но сцепление давали 0,6. Мешали слегка поземок и вихри снега, это немного напоминало Норильск, только с болтанкой.
Вошли в зону вихрей, но полосу видно было хорошо. Запас скорости был, моя задача была - подвести пониже и реагировать на случайные крены. Это удалось; секунда, другая, все замерло в ожидании… кажется, чиркнуло… нет? Кажется, да. Чуть отдал от себя для проверки, сразу почувствовал: бежим. Остальное было делом техники. Быстро падала скорость, но поземок не давал истинного представления о темпе ее падения и вообще о движении самолета относительно полосы. Здесь важно не упустить перемещение фонарей: они истинны, а поземок мнимый.
Зарулили, сказал: «Спасибо, ребята!». Замерил пульс:100. Вот и все. Да еще ноги в конце пробега были напряжены, потом почувствовалось.
Надя улетела в Ессентуки. Внезапная путевка, недолгие сборы - и мы с Оксаной одни. Новый год справлять без матери. Все повторяется, как в прошлый раз.
Вчера с боем вырвал отпуск. Сегодня слетаю в Москву с разворотом – и все.
Купил пару елочек, сделаю из двух одну. Елка для нас - ритуал, а Новый год - лучший праздник.
23.12
Погиб Витя Фальков. Только что. Я как раз был у Колтыгиных; Витя час назад ушел на Москву. И тут звонок: Раисе сообщают, что только что, сорок минут назад, разбился в Емельяново наш самолет. Раиса села, вся белая. Какой рейс? Иркутский…
Я схватил телефон, позвонил в ПДСП. Трубку сняли, слышен гвалт, шум, крики: «Давай скорее!» Что можно сообщить по телефону: командир Фальков, все погибли.
Через десять минут позвонил Витя домой, я еле добился от него причину: пожар на взлете - и связь прервалась.
Позвонили Васе Лановскому. Он добавил, что самолет горел до земли, очевидцы наблюдали. Вроде как заходил на посадку и упал в 4 км от ВПП. Вот и все. Ушли мы с Оксаной домой.
Раиса в шоке; слава богу, что Витя позвонил.
Сейчас снова позвонила: у нее знакомая в училище, так сказала, что подняли 400 курсантов в оцепление.
На Иркутск обычно человек 80-100. А если бы на Москву? Да, собственно, какая разница сколько.
Все произошло на глазах у провожающих.
Год кончился.
Хотел я завтра идти на кардиограмму, да, видно, не судьба. Сердце заболело; выпил я валокардину, вроде прошло.
Боже мой, жены ждут через час-полтора мужей… Иркутск ведь так близко.
Вспоминается, как падали давно в Шереметьево, когда горели двигатели на Ил-62. Сейчас то же самое, только пожар на самом деле. И, видно, самолет был неуправляем. Виктор Семенович не из тех, что теряются. Полярный летчик, опытный, на «Тушке» командиром года четыре, и налет у него наверняка за 15 тысяч часов. Да что часы… когда падаешь. И смерть - вот она.
Вот тебе и ответ на вопрос о вероятности пожара. Неделю назад прекратил взлет Володя Уккис: пожар двигателя. Успели опустить уже поднятую переднюю ногу на скорости 260, сделали все что надо и остановились в 50 м от торца. Вася Лановский был бортинженер, быстро перекрыл пожарный кран, пожар погас мгновенно.
Что же здесь? Какой подлый агрегат таился до самого сложного момента и сработал наверняка, как заложенная заранее мина?
Будет комиссия, причину установят, будет разбор. Как был после гибели Шилака…
А каково лететь ребятам, очевидцам? Сейчас порт откроют, пойдут рейсы. За штурвалами обычные люди, они переживают катастрофу, а надо лететь, надо везти людей. Отказаться? Руки ведь дрожат, и пульс частит, и сердечки так же болят, как и у меня здесь.
Но людей надо везти.
Вася, думай только о себе. Это случилось не с тобой, которого все так любят, а больше всего ты сам. Это случилось с Витей Фальковым, и ты пойдешь его хоронить, и его экипаж, и проводниц. Как хоронил Шилака, и Филиппова, и Шпагина. Много их было, хороших ребят, и ты видел обгоревший безголовый труп Валерия Ивановича, и клал его на железный стол, и манжеты все были в его крови… А потом валялся с жесточайшей ангиной.
Нет, Вася, люби себя, если хочешь летать. Пройди кардиограмму. Не нервничай, не переживай. Ты жив, сыт, доволен жизнью. Это не с тобой. Не твоей жене скажут завтра. Не твоя дочь осиротела. Не твоя жена легла полчаса назад в тревоге, в вечной тревоге, прислушиваясь, чутко ловя через дремоту знакомые шаги…
Есть ли бог? Нет, бога нет. Есть слепая случайность. Я летал в Иркутск несколькими днями раньше. Может, даже на той же машине. И лопатка еще держалась в турбине. Или не лопатка? И при чем здесь Иркутск?
Страшно? Да, умирать страшно. Беспомощным. Но если есть силы, возможности, пилот не бросает штурвал. И ребята, я уверен, боролись до конца.
Тягостное чувство. Четыре часа назад никто из них и представить себе не мог, что минуты жизни сочтены, что разбег начался… в ничто. А сейчас они уже закоченели. Боже мой, какая трагедия. Какая катастрофа. Как просто.
А может, кто ошибся? Не так сделал. Выключил не тот двигатель. Я даже не знаю, кто экипаж. Но наши же это ребята, свои. Бедные…
Мысли какие-то путаные. Спать не могу, уже двенадцать. А может, и женам уже позвонили знакомые, окольным путем узнавшие: «Твой где?»
Кто виноват? А если техник? Инженер? В Омске - диспетчер. Он уснул, на полосе были тепловые машины, и на них сел самолет. Мог же техник не законтрить гайку.
Сто человек… Мир вашему праху.
Вчера долго не мог уснуть. Писал, потом открыл томик Астафьева; сначала краем глаза, заставляя себя отвлечься и отгоняя навязчивые мысли, потом постепенно увлекся, отошел, отмяк душой и прочитал повести «Стародуб» и «А где-то шла война». Лег в три, ворочался. Но уже как-то спокойнее были мысли. И уснул.
Встал в одиннадцать. Вялость, некуда себя деть. Все планы нарушились, попробую писать, может, увлекусь.
Нет, не пишется.
25.12
Выясняются новые подробности катастрофы. Экипаж доложил о пожаре третьего двигателя на высоте 2400, это минуты три после взлета, когда едва лишь успели развернуться на 180 и взяли курс на Северный. Положение самолета почти в траверзе[66] полосы поставило экипаж в сложные условия: сесть с обратным курсом уже невозможно, а заходить с курсом 288 далеко. Но они, теряя высоту, и как можно ближе, все же развернулись на полосу 288 и упали в районе 4-го разворота[67]. Во время снижения у них загорелся еще и 2-й двигатель, и молодой бортинженер должен был разорваться: как потушить одной оставшейся очередью два горящих двигателя.
Надо полагать, пожарные краны[68] были перекрыты и двигатели остановлены: высота и малый вес позволяли зайти на одном двигателе. Но множество очевидцев утверждают, что видели за самолетом огненный хвост. Значит, топливо поступало. Либо это титановый пожар.
Если полетят лопатки компрессора[69], то от трения титановых деталей развивается высокая, до 3000 градусов, температура; при этом титан горит и все вокруг сжигает, не надо и топлива. И потушить его нашей системой невозможно.
Единственно, что можно предпринять, если вовремя заметишь, - это выключить двигатель в течение пяти секунд после начала роста температуры, чтобы прекратить нагрев титановых деталей от трения. Но как ты определишь, что от чего греется. Да и это легко можно прозевать.
Во всяком случае, горел второй двигатель, горело и все вокруг него, плавился дюраль, поплыл киль… И неуправляемый самолет упал.
Валера Ковалев возвращался из Владивостока, просил заход с прямой, и вдруг, выйдя на связь с кругом, оказался самым точным очевидцем трагедии. У него на глазах самолет горел и взорвался на земле.
Правда, члены комиссии, опросив Ковалева, возразили, что этого не могло быть. И не горело вроде бы ничего, потому что этого не может быть никогда. Я не знаю, что он им ответил, но, думаю, нашел что, и какими словами.
Ждут прилета Бугаева.
Вчера вечером звонил мне Леша Бабаев. Он ездил на место катастрофы. Их пустили, потому что в форме, а так все оцеплено.
Самолет вроде как сел на колеса, есть следы, потом отскочил и, видимо, взорвался. Огненный клубок катился по лесочку, по кустам; двигатели улетели вперед. Хвост унесло назад, либо взрывом, либо он еще раньше отвалился. Остались мелкие обломки.
Пилотская кабина сильно деформирована, но ребят собрали вроде бы относительно целыми. Две девочки почти без видимых повреждений, а одну собирали по кускам.
В куче бумаг, собранных на месте катастрофы, нашлась записная книжка штурмана Гены Озерова. Хороший штурман.
Сейчас легко здесь предполагать. Надо было направить самолет на полосу по кратчайшему пути, используя интерцепторы, падать камнем, нарушая все инструкции, но эти двадцать секунд были бы выиграны. А Витя заходил с докладами: «Выполняю третий… Выполняю четвертый…» Значит, действовал из расчета: а что нам будет, если нарушим схему захода, Руководство и т.п.
Мы запуганы. Что бы ни случилось, думаем прежде всего о том, что расшифруют, накажут. Но страшнее смерти ничего нет.
Говорят, на этой машине несколько раз записывали повышенную вибрацию двигателя, да техническая служба все отписывалась. И не удивительно. Условия работы ИАС[70] - это каторга. Мало того, что тяжелые формы делаем в Северном, в холодном ангаре (все равно его снесут, не до тепла), так и здесь, в Емельяново, на перроне нет никаких условий. Стремянку для осмотра надо тащить за километр. Темно, снег не чистят, негде обогреться… Техникам скоро будет наплевать на все, и они не виноваты. Виноваты те, кто получил ордена, кто нажимал «давай-давай» и трубил в фанфары. Первая очередь нового аэропорта сработала. Уккису еще повезло. Это был далеко не первый звоночек…
Хотел еще вчера начать проходить годовую медкомиссию, да побоялся за кардиограмму, выдержал день. Сегодня с утра решился. Волновался, пульс колотил, но кардиограмма в пределах нормы, хотя и ругали меня за пульс. Ну, теперь дело за малым: обежать кабинеты.
Ну, ладно. Конечно, катастрофа произвела большое отрицательное впечатление на всех. Но я как-то научился быстро отходить. Это от эгоизма, который из меня так и прет. Но помогает. Я ведь ничем не помогу уже. Не буду травить душу.
Да и не так уж просто я убегаю от этих мыслей. Но в данный момент мне сильно помогает дневник. Есть мысли, которые надо развить. Они для меня как песок для страуса: в них я прячу свою голову, убегая от навязчивой действительности. А там увлекусь и отойду. Так мне помог Астафьев, а вчера Хемингуэй, и снова Астафьев.
А мысль такова. Вот от рабочего класса, да и от всех трудящихся, требуют наивысшей отдачи, настроя на ударный труд, соревнования, - не обманывая народ, а доказывая ему, что этот путь правильный для всех и очевидно полезен. Согласен. Если я утром иду в цех, зная, что через пять минут включу станок, детали пойдут одна за другой, заготовок море, резцы есть, а затупятся - заточу, что электричество не отключат, эмульсию подадут, детали и стружку уберут, - так чего же и не работать. Что же еще надо?
А если я знаю, идя на работу, что ничего не знаю о своей судьбе на сегодня, кроме того, что за опоздание выпорют? Есть ли погода? Есть ли самолет? Есть ли топливо? Будет ли задержка?
А если хронически не хватает самолетов, они неисправны или нам предлагают лететь на наше усмотрение с небольшой неисправностью? Или вечные перебои с топливом. Или сбойная ситуация с погодой.
Мы ко всему готовы. Но какой настрой у человека, который едет на работу, почти заведомо зная, что от него ничего не зависит? Не хочешь - резерв полетит, откажись, езжай домой.
Так настрой на ударный труд ставится в зависимость от обстоятельств, так вдохновение постепенно переходит в озлобленность: «Да что мы, железные, что ли… Всех денег не заработаешь…» И в конце концов никто не стремится летать, разве что резко вставший финансовый вопрос заставляет идти и добывать налет.
Я люблю свою работу, но я абсолютно не рвусь летать. Мне, командиру, хватает 400 часов в год. И то, они высасывают все соки. А ведь летал на Ил-14 по 1000 часов. Там было только одно: ради бога, на коленях, командование просит слетать еще пару рейсов… Были самолеты, было топливо, а погода нас не волновала: минимум у меня был 40/500 - и никакой расшифровки. Правда, там я и понял, какой каторжный наш труд. Но мы были молоды, здоровье было, пенсию нужно было зарабатывать, деньги были нужны.
Самая лучшая работа была на Ил-18. Рейсы все длинные, в рейсе сидели сутки. Один рейс - полтора дня, налет 12-14 часов, две посадки. Саннорма 75 часов. Чего ж не летать. Пять-шесть рейсов в месяц, остальное отдыхай. Два резерва, два разбора.
Но почему сейчас, на Ту-154, я в декабре работаю по две недели без выходных, налетываю 35 часов, дома за это время сплю четыре ночи, да еще пять резервов, два разбора, физкультурный день… и - как выжатый лимон. Я с великой радостью вырываюсь в отпуск - с боем! - зимой. Я животно наслаждаюсь ничегонеделаньем. Я отправил жену на курорт, мы с дочерью, такой же домоседкой, как и я, залезаем в свои норки и, как выброшенные на берег рыбки, жадно хватаем жабрами, всем нутром своим, тишину, одиночество, отсутствие раздражителей.
Ненавижу культпоходы - пережиток 30-х годов. Человек должен воспринимать искусство индивидуально. Как можно идти в храм искусства, если знаешь, что твои товарищи за твоей спиной обсуждают, какой рукой ты крестишься и какими слезами плачешь. Да и какой храм… бутылки пустые катают под сиденьями.
Но это я так, ворчу. Мне важно побыть наедине со своими мыслями, не отягощая сознание комплексом выражения чувств. Плачу так плачу, смеюсь так смеюсь, но меня тяготит близость знакомых людей при этом.
И по музеям я брожу один. Могу час простоять перед «Проселком» Саврасова, «Христом в пустыне» Крамского, и мне важно, чтобы никто не дышал на зарождающиеся во мне смутные мысли и чувства.
Это что - эгоизм?
А толпой можно пойти на хоккей. Там все мысли и чувства выражаются просто, животно, и сводятся к небезызвестной формуле «Во дает!» И я с удовольствием присоединюсь. Но… хочу тишины. Надоели эти песни: «Ритм! Век! Время! Бамм! Все быстрей!»
Оглянитесь, люди! На себя. Не превратились ли вы в ячейки общества? Не нивелируется ли уровень вашего мышления? Не осредняетесь ли вы?
Почему преимущества социализма, касающиеся творческого развития личности, выражаются в отдельных, немногих индивидуумах слишком концентрированно, а остальная масса остается за бортом? Именно, масса. В джинсах, в кроссовках, в дубленках, - но, черт возьми, серая! Спортсменов немного, но - космические рекорды! А миллионы обрастают жиром и обречены на инфаркт. Певцов настоящих - единицы, а люди разучиваются петь, играть, отдаваясь магнитофону, телевизору, зрелищам. Книголюбов, библиофилов – все меньше, а миллионы обладателей личных библиотек уткнулись в телевизоры.
Корчатся в судорогах, вращаются в гробах Достоевский и Толстой. Они устарели. Школьники не читают Гоголя. Двухтомник Чехова осилить - подвиг. Пушкин и Лермонтов не нужны.
Мимо всего этого проходят в школе. Именно, проходят. Бедный гомо сапиенс.
Три аккорда, три аккорда я тебе сыграю гордо. Кончают музыкальные школы, чтобы отмучиться и забыть. Без слуха, насильно…
Тоже выискался, интеллектуал.
И еще один вопрос меня волнует. Почему современные советские писатели не могут найти современного героя, которому хотелось бы подражать? Пасутся, в основном, на полях прошедшей войны. Скоро обернется так, что на войне погибло-то двадцать миллионов человек, а героев, судя по современной литературе, аж двадцать пять! К тому идет.
Комиссар из «Оптимистической трагедии» с апломбом заявляла: «Мы создадим своих Толстых и Достоевских!»
Ну уж. История опровергает. Даже Шолохов не тянет. В чем же дело?
Совести в людях меньше стало. Жестокое время. Нас слишком много, и нам слишком некогда. Виктор Астафьев плачет о нас, но мы не плачем о его героях, о его природе, о его совести. И это последние из могикан, такие, как он, битые и закаленные, и проверенные войной, - люди высшей пробы.
Кстати, Астафьев о нас, пилотах, невысокого мнения. Мы высокомерны. Смотрим сквозь людей. В просторы. И он прав.
28.12
Проходил комиссию. Сегодня открутил велоэргометр, сразу дал Наде телеграмму, чтобы не волновалась. Теперь ей хоть две недели спокойного отдыха, можно ни о чем не думать, а это важно.
Пока толкался в поликлинике, видел многих наших. Из разговоров постепенно вырисовывается картина, прямо скажем, удручающая. И первоначальное чувство горечи, утраты постепенно сменяется чувством досады и разочарования.
Итак, они взлетели, выполнили разворот, и поступил доклад: отказ второго генератора. А следом доклад о пожаре третьего двигателя. На вопрос командира, так какой же двигатель горит, бортинженер ответил, что он ошибочно выключил исправный двигатель. А потом вроде бы доложил, что выключил два двигателя. Командир его выматерил и скомандовал запустить исправный. Ребята говорят, что на самом деле он не выключил исправный двигатель, а только задросселировал[71]. Потом в суете начал открывать пожарные краны и нажал кнопку «Запуск в воздухе» работающего двигателя. Дополнительное топливо - рост температуры, сгорели лопатки - пожар. А очередей пожаротушения осталось всего две, одна сработала автоматически на первый горящий. Он разрядил вторую очередь на зажженный им двигатель - и все, а второй себе горел, кран его был открыт.
Все это время командир разрывался между принятием решения на посадку и неадекватными действиями бортинженера. Он ему подсказывал, чтобы поставил малый газ перед запуском в воздухе. Видимо, отвлекаясь на инженера, он и потерял драгоценное время.
Неясна роль штурмана и второго пилота, но судя по тому, что они вышли в район 4-го разворота за 8 км, а можно было выйти прямо на дальний привод, - пилотировал второй пилот Юра Белавин. Командир в это время, видя, что работает один двигатель и единственный генератор, приказал запустить ВСУ, чтобы подстраховать энергетику на случай отказа генератора.
Когда уже вывалился сгоревший двигатель, и отказало управление, и самолет стал под углом 45 градусов падать, была слышна команда: «Юра, управляй!» Но управлять было нечем. И последняя запись: «Взлетный режим, убрать шасси!» Команда отчаяния.
Самолет горящий летел 5 минут. Почему не был закрыт пожарный кран?
Я все эти дни прокручиваю в мозгу варианты, как бы я поступил на их месте. В первую очередь, как пилот. Почему-то все время рисую картины, как бы я падал вправо с креном 45 и одновременным выпуском шасси и интерцепторов. Сколько надо времени, чтобы от траверза полосы, пусть от 2-го разворота, под углом 45 градусов, по диагонали, выйти на дальний? Скорость можно разогнать и до 600, тем более что набор на 550. Это займет не более полутора минут, а точнее - 70-80 секунд. С вертикальной 30 м/сек, не более, к началу спаренного разворота на траверзе ближнего привода, на удалении 1000 м от торца, высоту вполне можно потерять до 600, остальную - в процессе разворота, одновременно гася скорость до 320. С креном 20 разворот на 150 градусов длится не более 90 секунд. И полминуты до касания. Итого: три с половиной минуты. А они горели пять - и летели.
Но так зайти - надо заранее все рассчитать. А они шли к третьему и вышли к четвертому за 8 км. То есть, к третьему со снижением они шли 150 секунд, от третьего к четвертому, пусть, минуту, на развороты ушло полторы минуты. Итого: около пяти минут. Им не хватило пяти километров, это ровно две минуты. Слишком далеко ушли.
Говорят, они ушли на втором развороте на 18 км в сторону. Тогда ясно.
Можно было в этом случае заходить S-образным маневром с обратным курсом. Это заняло бы где-то около 4-х минут, но потребовало бы смелого пилотирования, с кренами до 45.
Но, во всяком случае, сели бы, даже на горящем самолете. Даже можно было бы не тушить пожар на том двигателе! Пусть последний доворот был бы на малой высоте, пусть с опасными кренами, пусть по диагонали, с выкатыванием, но сели бы на аэродром, даже если бы развалили машину, все равно хоть часть пассажиров бы уцелела!
Непредвиденная, непредсказуемая ситуация, не предусмотренная никакими инструкциями. Никто не мог рассчитывать, что подготовленный по программе, допущенный к самостоятельной работе молодой бортинженер не справится. Это потрясло командира, вывело из себя и отвлекло от принятия единственного решения. А их было два варианта, их надо было продумать сосредоточенно. Но получить такую вводную…
Хотя… мы же не знаем всех подробностей.
И все же, видимо, и командир растерялся. Да и мозг был забит информацией до предела, и чувство ответственности и беды… Вот где нужны хороший второй пилот и штурман. Интуиция штурмана: курс, вертикальную, ближайшую точку начала разворота, с каким креном, - и подсказать, нацелить командира и второго пилота.
Когда Гурецкий падал с тремя отказавшими двигателями в Ташкенте, я не думаю, чтобы у кого в экипаже был продуманный вариант на такой случай. А Валера Сорокин, штурман от бога, сумел рассчитать и вывести экипаж на посадочный курс в Чимкенте, и сели безопасно.
Я не виню Гену Озерова, Юру Белавина. Они верили, что пожар сумеют погасить. А вот командиру надо было рассчитывать только на свою хватку и технику пилотирования, да настроить экипаж, что время в этой ситуации - жизнь.
Не знаю, это все предположения. Будет разбор, будет схема, все узнаем. Но выводы я должен сделать уже сейчас.
Слаб человек… А справился бы мой Паша? Мы с ним два года пролетали, я в него верю.
Чины из комиссии вызывали на беседу несколько экипажей, и Пашу спросили, что бы он делал в такой ситуации: двигатель горит, доложил, а командир молчит. Паша, не долго думая, сказал, что не сгорать же, тушил бы. И ему сказали, что это неверно.
Я понимаю, в такой ситуации он бы, конечно, переспросил, кричал бы, спрашивал, тушить ли. И коню понятно, что на взлете тушил бы молча. Да нет, все равно крикнул бы я ему команду, наверняка бы и успокоил.
Десять секунд. Самолет за это время не сгорит. Пусть себе полыхает. Но успокоить экипаж необходимо. Остановить от непродуманных действий. Пусть еще раз проверит. Самому оглянуться. И не спеша, повторяю, не спеша, с оглядкой, пусть выключает.
Эти десять секунд окупятся. Если я уверен, что экипаж спокоен, я буду думать, как спасаться, и буду действовать.
Помню, взлетели на Ил-18 из Хатанги. Голенищенко командир, я второй, Миша Рыженков бортмеханик. В наборе отказал и зафлюгировался второй двигатель. Тряхнуло, загорелась куча лампочек, мы сначала ничего не поняли. Вбежал проверяющий из салона, Валентин Зайцев, крикнул, что сноп искр вылетел из второго двигателя.
Ну, скорость, сохранить, отключили автопилот. Так тушить? Не тушить? Табло «Пожар» не горит. А искры летели. Надо же перекрыть пожарный кран. Стали мы спокойно искать, какой двигатель, какой тумблер. И такой диалог:
– Ну что - второй?
– Второй.
– Это слева два - первый и второй?
– Да, слева.
– Ну, выключаю?
– Давай.
– Второй?
– Второй, второй! Давай!
– Выключаю второй.
Так мы к тому времени уже налетали прилично. И не тряслись. Не спешили.
На Ил-18 умно расположены приборы, необходимые при тушении пожара. На видном месте нарисован в плане самолет; в нужных, видных местах стоят под колпачками нужные тумблеры. Не перепутаешь.
У нас же лампы-кнопки пожара стоят в ряд, и первая - пожар ВСУ, затем по порядку: пожар двигателей - 1,2,3. Вполне можно в запарке, считая слева, второй двигатель принять за третий.
Хотя нет, это при пожаре в мотогондолах, прошу прощения. На двигатели - свои кнопки. Разобрался по Руководству. Не моя епархия.
Лампы-кнопки нужны для сигнализации и включения принудительно первой очереди. Для включения второй очереди есть одна своя кнопка. Там автоматика направит куда надо.
Не нравится мне этот пульт.
Вообще, система световых табло у нас абстрактна: всегда в ряд. Двери-люки, например.
Разве сравнить с Ил-18! Там на дурака рассчитано. А у нас на умного. И умный человек путается в лампочках.
Туполев, ознакомившись с расшифровками, сказал, что ему здесь делать нечего, и улетел.
Бугаев прилетел, ознакомился, сказал, что летчики не умеют летать, и тоже улетел. Правда, такая мелочь как пожар все-таки была.
Когда экипаж из Шереметьева взлетал в Адене и у них загорелся двигатель, то все было потушено и сделано как положено. И грудь в крестах.
А когда человек не только не потушил, но сам подпалил самолет, то голова в кустах.
Мы не умеем летать, и теперь все шишки падут на наши головы.
Ну что ж. Следует и дальше ожидать, что экипажи будут тасовать: такова необходимость. Надо беседовать с людьми. Но, главное, надо самому раз и навсегда запомнить, что в районе аэродрома спасет только мое летное мастерство. И пусть хоть горит, хоть гниет, надо успеть упасть на полосу.
На эшелоне другое дело. Я об этом уже писал. За четыре минуты надо снизиться, потерять 10 км высоты со средней вертикальной 40 м/сек. Практически можно за 3 минуты по 60 м/сек на скорости 600. И вот тогда, строго впереди, на точно отмеренном расстоянии, должна оказаться пригодная для посадки площадка. И максимум полторы минуты дается на выпуск механизации, довороты, определение пригодности гипотетической площадки, коррекцию траектории, гашение скорости, расчет на посадку…
Это нереально. Разве что над морем, большой рекой или степями Казахстана. Но таких мест немного. И то, хватает высоковольток, особенно в Европе. А сесть даже на наш Енисей зимой невозможно. На озера без шасси - можно, там лед ровный. Но ночью, в облаках, в снегу…
В схеме каждого аэропорта должны быть - и есть - площадки на случай вынужденной посадки. Но будь они даже обозначены огнями, я не даю гарантии, что найду ее и сяду, в сложной обстановке, на горящем самолете.
Вот и сейчас у них двигатель отказал как раз над одной из этих площадок. А упали они рядом с другой. Под ними была дорога, вполне пригодная для посадки. Но они тянули на аэродром. И я бы тянул.
Эти площадки - со времен По-2. Некому отменить, хотя бы для тяжелых лайнеров. Хотя азимут и дальность на них от аэродрома указаны. Но кто будет подсказывать их в критической ситуации, и, главное, как их, эти данные, использовать во время захода? Я не представляю. Это как, к примеру, в темноте хирургу найти оброненную иголку, вдеть в нее нитку и успеть зашить раненому человеку жизненно важный орган наощупь, не зацепив другие органы.
В общем, катастрофа эта для нас всех - тяжкий урок. И я иду завтра хоронить ребят с чувством досады на человеческую слабость.
Вот и конец тетради. Два месяца прошло, а столько событий. Хотя внешне заметна только катастрофа, но ведь и до нее я жил весьма напряженной жизнью. Сам удивляюсь. Видно, хорошая отдушина дневник.
Двадцать лет назад в моих зеленых мозгах шла напряженная работа: я познавал себя. Сейчас все возвращается на круги своя. Тогда я познавал себя через рост, сейчас - через профессию.
Да и наболело много. Конечно, мир я не переверну. Но мне почему-то очень важны и дороги мои теперешние мысли. Боюсь утерять их навсегда, очерстветь душой и не вернуться к ним.
Мне не скучно жить. Работа хорошая, здоровье пока есть, семья прекрасная - что еще надо.
В жизни у человека всегда бывают моменты, когда то, о чем мечтал, тот журавль в небе, к которому очень стремился, вдруг, наконец, попадает в руки - в виде элементарной синицы. И думаешь себе: и это тот идеал, к которому стремился? Об этом я мечтал? И это - все? И это - так бедно? Боже, какая пошлая жизнь…
Вот в такую минуту важно не поддаваться разочарованию, не смотреть на все вокруг через эту призму. Если все говорят «белое», а ты пока видишь, что черное, значит, ты, возможно еще не прозрел.
Пройдет время, глядишь - после разброда и шатаний, шараханья, разочарований и цинизма, - начинает твоя синица расти, наливаться, хорошеть. Плавно, незаметно. И в один прекрасный день оглянешься, схватишь себя за волосы и скажешь: дурак же я был.
И так всю жизнь.
Некоторые же говорят себе: э, нет, хватит. Был я дурак, уши развесил, губу раскатал, а жизнь то проще!
Нет, жизнь не проще. Просто извилины надо растить; глядишь, жизнь-то сложна. А кто остался при первобытных взглядах, тот обычно считает себя умнее всех, крепко держится за житейское, преуспевает в нем. А позже, когда зацепится за что-нибудь повыше, может, и устыдится себя, прежнего, - да только уже закостенел.
Да, большая работа нужна непривычным мозгам, куда легче было бы в молодости. Иной раз сил уже нет, быт засосал, хорошо в старом своем засаленном халате. Вот и остается каждый на той орбите, куда смог взлететь.
И страдает человек от того, что чувствует рядом что-то большое и настоящее - а оно ему недоступно.
Поэтому я и думаю мучительно: не верится в любовь, а она таки есть; говорят, что не украдешь - не проживешь, а я сомневаюсь; как это - не выпить, а я ведь не пью; без блата нельзя, а я как-то обхожусь; говорят, все высокие материи - муть, а я не верю; говорят, зачем думать, когда прыгать надо… а я все думаю, думаю…
Как быстро самолет теряет скорость в горизонтальном полете на малом газе, если шасси и интерцепторы выпущены, а необходимо погасить ее с 600 до 400 в кратчайший срок? Надо будет в полете хотя бы ориентировочно прикинуть время потери скорости в горизонте на эшелоне перехода, с выпущенными интерцепторами, пока без шасси. Если в аварийной ситуации будут выпущены шасси, это время должно сократиться примерно вдвое.
Задача пилота при экстренном заходе на посадку: из любой точки круга с максимальной скоростью выйти в точку начала четвертого разворота на минимальной высоте с таким расчетом, чтобы за 1000 м до торца (над БПРМ[72]) высота была 100-50 м и скорость 260-280 при полностью выпущенной механизации. Это оптимальный вариант захода.
Но возникает вопрос, который я задал вначале. Потому что непосредственно перед разворотом необходимо будет начать гашение скорости с 600 до 430, выпуск закрылков на 15, гашение до 370, скорее всего, с интерцепторами, уборка интерцепторов и выпуск закрылков на 28, гашение до 310, довыпуск на 45, и это уже в процессе разворота, особенно спаренного, на малой высоте. Все внимание здесь на то, чтобы поймать створ и торец с удаления 1000 и высоты 100 метров.
Интерцепторы понадобятся для коррекции глиссады, может, вплоть до выравнивания.
Это вариант, когда работают два двигателя и гидросистемы обеспечивают работу механизации. Но есть самый сложный вариант: горят первый и второй, остался один третий двигатель. В этом случае надо включить насосную станцию второй гидросистемы, а значит, выключить все лишнее, чтобы не перегрузить генератор. Нужно запускать ВСУ.
Важно, в первую очередь, еще не выключая горящий (но работающий) двигатель, успеть выпустить шасси для экстренного снижения. Иначе придется их выпускать от второй аварийной системы.
Интерцепторы в этом случае не работают до включения насосной станции. Но подключать вторую на первую, если размолотило, нельзя: может высвистеть жидкость.
Как заходить без интерцепторов? Чем тормозить? Какое брать упреждение на торможение только за счет сопротивления шасси?
Вопросов очень много. Самолет сложный, в каждом случае свой вариант. Поневоле позавидуешь «Боингу», где работа гидросистем[73] не зависит от отказов двигателей.
30.12
Вчера хоронили наш погибший экипаж. Когда выносили урны с прахом девочек, я не смог сдержать слез. Плакали многие, и начальство плакало, даже Левандовский. Жалко было девчат, ни за что убитых.
Парни проводники несли урны - маленькие, фаянсовые, похожие на крынки.
Народу было - тысячи человек…
Как бы я поступил? Как бы я командовал экипажем? Картины эти встают перед глазами, не дают покоя. Почему мы, сотни пилотов, мужчин, стоим, оплакивая погибших девчат и ребят, неужели же нельзя было спасти, предотвратить, неужели стихия сильнее нас? Неужели животный страх - что вот горю я, самый хороший, самый любимый всеми, и прежде всего, собой любимый, - вот горю, пропадаю, гибну! - неужели этот страх сильнее всего? Неужели и я, пролетавший двадцать лет, привыкший к штурвалу, как к рулю собственного автомобиля,- неужели и я растеряюсь, запаникую, закричу «Спасите?»
Да мне ведом страх. Страшно, когда самолет, подхваченный порывом стихии, дрожит и гудит, и меняется шум потока за окном; да, страшно…
Тысяча молний вонзается в поясницу, и кровь приливает к вискам и тяжкой волной ударяет в мозг, заливает глаза.
Но я не терялся! Я соображал и понимал, и хоть ужас обнимал меня, но я, дрожа, все-таки сбрасывал его путы. Так неужели же я не справлюсь? Не знаю, жизнь не проверяла меня так жестоко - и не дай бог! Но все же я верю в себя. Уверенность базируется на опыте. Опыт - на расчете и предвидении.
Каждый сейчас думает о том же: «А справился бы я?» И пусть каждый даст себе оценку.
Здесь было нужно только мастерство пилота. Я его имею. Нужен был расчет и владение собой. Я теперь уверен, что покойный Виктор Семенович не прикидывал заранее; да что говорить - все мы не прикидывали возможность экстремальной посадки в районе аэродрома. Мы не верили, что придется экстренно садиться из-за пожара, мы верили, что потушим в воздухе.
И когда он увидел, что не удалось погасить пожар, что время безвозвратно утеряно, он оказался бессильным.
Я еще не знаю всех нюансов. Но факт, что самолет, находясь на высоте 2400 над полосой, оказался горящим, средства пожаротушения бесполезно и безвозвратно израсходованными, впустую, а источник пожара - топливо, льющееся как из брандспойта, - не перекрыто элементарным щелчком тумблера.
Это паника. А паника - результат попадания экипажа в непредусмотренные обстоятельства. Весь расчет был на то, что удастся потушить, но совершенно не принималось во внимание, что рядом полоса, и что даже ничего не делая, не туша, можно сесть, пусть на горящем самолете, - но там ждала техника! И можно было спасти людей.
Конечно, самолет очень сложен. Особенно плохо то, что он очень хорош исправный; мы его любим за это, за все его плюсы. Но в случае неисправности отказы следуют один за другим, вытекая друг из друга и нарастая как снежный ком.
Отказ двигателя ведет к отказу гидросистемы. Но - не всякого двигателя - это еще один нюанс. Надо знать, отказ какого к чему ведет. Отказ отдельных гидросистем лишает нас отдельных и крайне необходимых инструментов управления: интерцепторов ли, или тормозов, управления передней ногой, выпуска шасси, скорости выпуска и уборки механизации крыла. И надо знать, отказ чего ведет к отказу какой системы. Необходимые при экстренном снижении выпуск шасси и интерцепторов, к чему мы готовы всегда и ждем безусловного повиновения машины органам управления, - зависят от работы того или другого двигателя.
Если же волею судьбы откажут два - а это вполне возможно из-за близкого расположения их друг рядом с другом, когда вылетевшие лопатки турбины, подобно снарядам, разрушают все, в том числе и соседний двигатель, - то экипаж поставлен в в исключительно тяжелые, сложные условия, когда из-за дефицита времени, а также массы накладывающихся друг на друга сигналов и нестандартной информации, командир физически не способен не только уяснить суть происходящего, но и часто судорожно и интуитивно отдается первому, самому сильному чувству.
Так неопытный велосипедист, увидев внезапно впереди препятствие, не соображает, как его объехать, не оценивает обстановку, не тормозит, а, вылупив от ужаса глаза и отдавшись на волю божью, инстинктивно выставляет ногу вбок, бросает руль и расстается с машиной, не осознавая полностью своих действий.
Трудно, очень трудно командиру, допустим, услышав доклад «Отказ первого двигателя! Растет температура второго двигателя! Пожар первого! Пожар второго!»
Что делать? Горят два. Первая очередь автоматически ушла на первый. Второй тушить вручную… Дать команду… Скорость, скорость! Взлетный режим! Надо снижаться… куда? Где мы, место? Туши второй вручную! Не перепутай! Обработай двигатели! Пожарные краны! Экстренное снижение… Шасси… От какой гидросистемы выпускать? Первая-вторая отказали. От третьей! Давай от третьей! Насосную станцию… какую? Нужны интерцепторы - первая-вторая не работают… Уровень жидкости проверить! Нужно насосную второй гидросистемы. Генератор может не потянуть… выключить лишние потребители - что именно? Запустить ВСУ… Курс к полосе! Какой курс брать? В район дальнего привода… Снижаться с максимальной вертикальной… Дать команду штурману: курс; второму пилоту: пилотировать, следить за скоростями… Как там пожар - погасло? Не погасло? Краны перекрыл? Надо выключить РА-56, все подканалы… Или не все? Ладно, все, черт с ними. Доложить земле… да, включить сигнал бедствия! Сколько времени прошло? Какой курс? Вертикальная? Не превысить скорость! Вовремя вывести из снижения. Высота? Подготовить бортпроводников и пассажиров… Что им сказать? Через три минуты экстренная посадка. Не допустить паники! Как земля - готовится? Переключили систему? Как ветер? Успеем? Не успеем? Радиус разворота… Впишемся? Надо интерцепторы. Терять, терять высоту! Включил насосную? Какой посадочный вес? Какую скорость держать на глиссаде? Угол атаки! Скорее, скорее к полосе! Закрылки 15! Скорость не менее 300! Сцепление на полосе… попутный ветер… Торможение аварийно, без управления передней ногой… Не забыть бы чего. Привести в действие сборник особых случаев… Скорость! Гасить скорость! Помнить, что на одном двигателе с таким весом машина еле летит. Не снизиться раньше времени - не дотянем. Впишемся? Как глиссада? Сколько прошло времени? Погас или не погас?…
Это - в идеале! Так заложено в Руководстве, в Технологии, во всех наших документах, в конструкции самолета.
А если какая накладка? Если кто-то закричал «Мама?» Если борт не вовремя вылез на связь и долбит свое, засоряя эфир[74]? Если обледенение, либо видимости нет, либо рельеф сложный, либо жара, либо бортинженер допускает ошибки? Тут и без личностного фактора забот хватает. И я не уверен, смогу ли переварить все сразу.
Но я готовлюсь. Я проигрываю варианты, как это делают перед полетом летчики-испытатели.
А если отказ второго и третьего? Либо отказ первого, а бортинженер по ошибке выключает третий? Они ошибаются; все ошибаются, и я тоже могу.
На Ил-18 четыре двигателя, а у нас три. И то, там умудрялись остановить сразу два, на одном крыле. А у нас, с нашей индикацией в ряд, сам бог велел. А если на взлете, летом, в Чите, например?
Командир, держись. Люди тебе доверяют. Люди доверяют машине. Люди верят, что ты, пилот первого класса, спасешь их. Так спаси!
Почему мы, летчики, недолюбливаем теорию? Казалось бы, парадокс, ведь техника все сложнее, значит, нам и учить ее надо лучше.
Но это так кажется за столом, в кабинете.
Любой летающий человек знает, что такое коэффициент обалдения, и что в воздухе он вдвое уменьшает как угол зрения, так и уровень мышления. Незыблемый закон: что на земле знаешь на шесть - при первом применении в воздухе едва натянешь на три. И поэтому родилась авиационная психология и появилась на свет эргономика.
Не знаю, на каких летчиков рассчитывают свои машины наши славные конструкторы. Я не конструктор, из меня не получилось. Я пилот и оцениваю самолет по-пилотски.
Для меня, да смело ручаюсь и за миллион летчиков во всем мире, - для нас самое важное в самолете - простота и очевидность информации и действий. А теория нам нужна для того, чтобы быть убежденными в том, что простота наших действий обоснованна и единственно верна.
Информация. Когда человека бьют по голове криком «Горим!» и перед ним загорается табло с буквами «Нажми меня» - то и дурак нажмет. Но когда у командира загорается надпись «Пожар», а бортинженер докладывает сначала «Отказ второго генератора», потом «Пожар третьего двигателя» - командир, естественно, переспросит: «Так какой же двигатель горит: второй или третий?» И начинаются дебаты.
Когда перед бортинженером загорается красная лампа и своим ярким светом слепит и глушит все надписи вокруг, то он начинает отсчитывать, какая же по порядку эта лампа… и ошибается. Если бы перед ним загорелось табло с надписью «Пожар второго двигателя», то все было бы ясно.
Следуя простой логике, необходимо все аварийные табло снабдить ясными и понятными надписями.
При пожаре срабатывает автоматически первая очередь пожаротушения. Я не понимаю, как можно порцией фреона погасить двигатель, в который струей льется топливо. Он, по-моему, будет так же гореть. И остается в запасе всего одна очередь, а двигателей три, да еще отсек ВСУ.
Я полагаю, надо бы не спешить с автоматическим срабатыванием. Лучше было бы отдать этот процесс бортинженеру в руки, да продублировать: чтобы срабатывало только после закрытия пожарного крана именно горящего двигателя. Либо уж тогда пусть пожарный кран закрывается автоматически, с последующим срабатыванием первой очереди.
Считаю, что все, что касается отказов на двигателе, следует свести в одну колонку ясных световых табло-кнопок. Загорелось табло - нажми его. Кстати, на Ил-18 как раз такие колонки сигнальных лампочек и стоят. Правда, органы управления тушением расположены отдельно - но на ясной, логичной мнемосхеме.
Вообще, весь комплекс действий в полете необходимо разделить на серии простейших стереотипных действий, движений, рассуждений.
Например: отказ двигателя. Загораются табло «Отказ двигателя №…» Если пожар, то «Пожар двигателя №…», «Отказ генератора №…», «Выключи отбор воздуха» и т.д. Бортинженеру остается доложить командиру и по его команде нажать - погасить горящие табло.
Для нас это просто, для конструкторов - сложно. И конструкторы идут по пути, чтобы им было вроде бы просто, а пилот - черт с ним, с пилотом, пусть зубрит и зачеты сдает.
Если бы умная доработка (где же были ваши дурацкие мозги раньше, товарищи конструкторы?) - вмонтирование в головки стоп-кранов красных лампочек отказа, а на доске пилотов установка трех табло «Отказ двигателя №…» - была выполнена на машине № 85338, я уверен, не было бы ошибочных действий бортинженера, вопросов к нему командира, и, как результат, не было бы катастрофы.
Кузнецов, генеральный конструктор двигателя, сказал: там нечему гореть, там одно железо… если бы закрыли пожарный кран. И он прав.
Интерцепторы, наши воздушные тормоза, работают только от первой гидросистемы. Это неправильно, и нужно тройное дублирование. Интерцепторы нужны нам всегда, особенно на экстренном снижении.
Краны выпуска шасси от каждой системы (а их - три системы выпуска) - разные и расположены в разных местах кабины. Мне кажется, это ненужная сложность. Лучше бы три крана рядом, из них два аварийных - под скобой и под пломбой. Зато не надо думать, где, что и как, и какой нейтрально или на выпуск, а какой в это время работает, и кто на кого влияет. В аварийной ситуации неплохо было бы дублировать отказ системы выпуска красной лампой на кране или рядом с ним.
Ну почему на «Боинге» еще 20 лет назад освободили пилотов от забот при отказе двигателя, какая гидросистема что питает? Все они работают от закольцованного пневмопривода с пневмомоторами на каждом двигателе и автономным резервным источником питания. Буржуй пошел на это усложнение конструкции!
Витя Фальков не справился с потоком информации и нервами экипажа. На решение этого кроссворда он потратил те две минуты, которых ему не хватило до полосы.
Я, конечно, выговорился. Наболело. Но ведь мне летать на такой же несовершенной машине. И, вполне возможно, в первом же полете меня ждет такое же испытание. Я не должен теряться, я знаю, что из любой точки круга смогу дотянуть до полосы, даже не туша пожар.
Решительность. Вот чего не хватило Фалькову.
Я страдаю тем же: отсутствием решительности в жизни. В житейских ситуациях, между людьми, я теряюсь. Но я не теряюсь там, где работаю руками. И совсем не имею права теряться в своем любимом и наилучше мною освоенном деле. Но надо назубок знать теорию и иметь набор заранее обдуманных действий в различных аварийных ситуациях.
Поработаю еще над РЛЭ.
31.12
Вчера весь вечер просидел над РЛЭ. Обдумывал варианты. И пришел к выводу, что матчасть надо знать.
Самый сложный вариант: отказ 1-го и 2-го двигателей, с пожаром. Но действия сводятся к простейшему.
Первое: успокоить экипаж, чтобы не допустить поспешных самостоятельных действий бортинженера. Настроить на немедленную посадку. Доложить земле.
На это уйдет десять секунд. За это время можно самому поставить малый газ и выпустить интерцепторы Они должны выпуститься за счет гидроаккумулятора[75] первой гидросистемы.
Второе: дать команду бортинженеру проверить уровень жидкости и включить насосную станцию. Иначе не выпустить шасси, да и на управление самолетом остается одна, третья система. А инженер в первую очередь думает о пожаре и забудет и о жидкости, и о насосной, это точно.
Третье: дать команду на аварийный выпуск шасси и перевести на снижение с максимальной вертикальной, с разворотом курсом на дальний привод.
Все: экипаж настроен, началось снижение. Теперь можно и тушить.
Четвертое: Дать команду остановить первый и второй и перекрыть их пожарные краны - но осторожно и не спеша, последовательно. И тушить горящий двигатель, опять же, повнимательнее. Не гаснет - тушить мотогондолу, там три очереди.
Да нечему там гореть, если закрыт хотя бы стоп-кран.
Пятое: когда погаснет, дать команду подготовить и включить ВСУ. На это нужно полторы минуты. РЛЭ требует запустить ВСУ для поддержки штанов, хотя лететь остается минуты две-три.
А затем уже все остальное. Уточнить место самолета и курс. Обработать остановленные двигатели. Разгерметизировать кабину. Припомнить заход на одном двигателе: предкрылки вручную, закрылки только 15; шасси выпущены, значит, не допустить подныривания под глиссаду, лучше идти выше, скорость не менее 300, лучше больше. Не забыть убрать интерцепторы (их прижмет набегающим потоком). Гашение скорости в развороте на траверзе дальней. И после выхода на курс уточнить глиссаду.
У Фалькова горел один двигатель. Не требовалось сразу включать насосную. Все работало. Все нормально выпускалось. Только не был готов экипаж.
Видимо, при предполетной информации надо предупреждать экипаж на случай пожара и отказа в наборе высоты.
Самый сложный психологически этап - начало набора высоты. Трудно перестроиться с земли на полет, нужно время. Но на то мы и летчики первого класса.
Люди к Новому году готовятся, а я дурью мучаюсь, ночь не сплю, все мне мерещится, как бы я действовал. Ну, да бог с ним. Вдохновение нашло, надо использовать, пока есть охота заниматься.
1985. Уроки
2.01.1985
Прочитал книгу Пусэпа «Тревожное небо». Как и все мемуарные книги, она тускла и безлика. Детство, юность описаны с заметным эстонским акцентом, что ли. Никаких эмоций. Одни факты, причем, то самые важные, ключевые, то мелкие, никому не нужные воспоминания, как фотоснимки.
Само ремесло летчика показано в книге лишь как необходимый атрибут. Так мог бы написать землекоп, как строили Суэцкий канал, и лишь название профессии показало бы, что и он тоже вроде как некоторым образом причастен к большому делу. Скучно.
Будь я посторонний, но интересующийся авиацией человек, испытал бы от этой книги разочарование: авиацией в ней лишь чуть пахнет. Тем более, я разочарован, будучи сам пилотом.
Сколько их, таких серых, бесталанных книг. И зачем они пишутся, и кому, чьему сердцу предназначены? Какой отклик они разбудят в душе молодого человека? Сопереживание? Чему? Стремление? К чему?
Нет, Каминский, с его чукотскими записками, все-таки лучше, живее.
Почему-то все советские авторы, причастные к авиации, пишут о ней скучно и по-деловому, как будто в авиации нет места эмоциям, переживаниям, романтике. Правда, я романтику эту познал со всех сторон, но нельзя же ее отбрасывать - она есть!
Почему-то летчик должен быть мужествен, смел, уметь брать ответственность, рисковать, выполнять любое задание, преодолевать и т.п. Но ему в мемуарах как-то отказано в проявлении чувств, в душевной борьбе, в сомнениях; за риском и борьбой как-то замазана живая, мятущаяся человеческая душа, живущая ведь не только работой.
И вообще, вся сухость этого рода беллетристики именно в отрыве работы от остальной жизни, в отрыве мыслей, связанных с работой, - от мыслей вообще.
А ведь летная работа как никакая другая тесно связана с жизнью и бытом тысячами очевидно заметных нитей. Поругался с женой перед вылетом - жди грубой посадки. Это железная связь.
Или уж такие люди были - цельные, знающие «одной лишь думы власть?» Мы многостороннее их. Сама жизнь сложнее. И ведь они, создавая свою книгу, должны же это понимать, учитывать, для кого они пишут, мировоззрение читателей.
Правда, читаешь мемуары летчиков-испытателей - там другая крайность. Интеллект так и прет. Все разговоры, мысли, ощущения - глубоко психологичны. Аж противно.
Кто же напишет о рядовом, линейном летчике, ничем не отличающемся от тысяч таких же, - со своими маленькими заботами, радостями и печалями, со своим взглядом на мир божий, с недостатками и ошибками, - о летчике, работающем в одном ряду со всем народом?
Я за это не берусь, нет таланту. Мои записки предназначены поддержать несовершенную память. Факт всегда помнишь, но ощущаемые чувства при этом быстро выветриваются, изменяется взгляд на вещи, теряется непосредственность.
А людям важно не просто узнать факт, выполнение задания, но еще и увидеть, как пилот поджимает хвост: при этом задать и себе вопрос: а я смог бы?
Сравнивая те далекие полеты с нынешними, удивляешься изменениям сути, целей, устремлений нынешнего поколения летчиков по отношению к ценностям и приоритетам наших коллег сороковых годов.
Мы стали считать топливо. Я застал Ан-2, Ли-2, Ил-14, даже Ил-18, - тогда еще не считали топливо так скрупулезно, и бортмеханик всегда имел в баках свой, никем не учтенный запас, справедливо полагая, что лишнее топливо в баках не лишнее и бензин - это не перегрузка.
Мы стали скрупулезно вести бумаги. Документ - вот главное - начал вытеснять русский авось на обочину полета. С нас стали строже спрашивать.
Мы стали больше верить приборам, диспетчерам, забросили ветрочет, отложили в карман портфеля навигационную линейку[76]. Конечно, она еще не забыта, но все чаще мы обходимся без расчета ветра в полете и угла сноса. Основным видом полетов стал полет над облаками; обледенение[77], болтанка и иллюзии в облаках, героические прорывы через грозовые фронты стали редкими явлениями. Ночь и день для нас одинаково привычны.
Но в стремлении довести работу экипажей до абсолюта, до уровня машины, до верхних степеней стереотипности и надежности - тут появились перегибы. Расшифровка и разбор каждого элемента полета, каждого отклонения рычага, руля, нажатия каждой кнопки, загорания каждого табло, - привели к тому, что пилот стал бояться летать. Не бояться пребывания в чуждой стихии, а бояться чего-нибудь сделать не так, не по шаблону. Так же, как когда-то, на заре авиации, пилот боялся неведомой стихии, которая норовила подловить неосторожного, перешагнувшего неведомый рубеж, - так сейчас он боится наказания стихией бюрократии за отступление от буквы: превысил крен, либо скорость, либо что-то не так сказал, либо не выдержал другие параметры, - пусть на полпроцента, пусть на два километра в час, на пару градусов, - но не идеал. Значит… дерьмо летчик.
Обязан, и все. Так поставлен вопрос. И мы научились летать так, что счастливчику Чкалову и не снилось! Из-под палки научились.
Самого полета мы не боимся. Все же знание матчасти, ее удивительных возможностей, позволяет нам уверенно делать свое дело, даже с элементами красоты. Но неприятно, когда на разборе упомянут твое имя в расшифровке.
Правда, тут тонкость. Не за то тебя осуждают, что нарушил. За то, что не сумел отписаться.
Бюрократическая атмосфера порождает уродливые понятия летчицкой этики.
Есть лазейка. Если где-то пустил пузыря, особенно по скорости (ой, сколько же этих ограничений!), можешь написать в специальном журнале, что была болтанка, сдвиг ветра, самум, ураган, тайфун, торнадо, - и хотя и до, и после этого отклонения все параметры полета были в норме, на расшифровке снисходительны: причина отклонения зафиксирована в документе.
Кого мы обманываем? Это липа, липа узаконенная. Пока. Лично я отписывался за два года раз десять, но на меня расшифровок пока не было. Умом понимая, что и сам я, и окружающие знают мой класс пилотирования, все равно с великим трудом отгоняю неприятные эмоции после какого-либо отклонения. Даже, другой раз, устав нервами от работы, плюнешь на отклонение, решив: будь что будет - ну, вызовут на ковер, выпорют; скажу: ну, наказывайте, виноват, только отстаньте, ради бога, не терзайте, сами же знаете, как это случается.
Нет, надо вынести на разбор и - перед лицом своих товарищей… чтоб неповадно было.
Такое отношение к работе и такие тонкости еще двадцать лет назад были недоступны и непонятны пилотам старшего поколения. И они так и ушли на пенсию, пожимая плечами и удивляясь, в какие рамки забивают нашу свободную профессию.
Конечно, такая техника пилотирования и такой высокий уровень использования автоматики и всех возможностей машины и земли, на высоких скоростях и в предельно загруженном воздушном пространстве, вырабатываются многими тысячами часов налета.
Если Пусэп мог за одно лето переучиться с Р-5 на ТБ-1 и на ТБ-3, и тут же - на флагман Пе-8, затратив на это все едва ли сотню часов, да еще без разбору, с какого кресла летать, то можно представить, с какой точностью он выдерживал параметры полета и каковы были тогдашние требования.
Сейчас только на одном типе самолета, налетав вторым пилотом тысячи полторы часов, пока перелезешь на левую табуретку[78], да пока введешься[79], да набьешь руку, да пока тебе сам министыррр!!! - не ниже рангом - не подпишет приказ о назначении… полгода проходит, и это еще своя игра.
Я вводился год; правда, заморочки были связаны с отсутствием диплома о высшем образовании. Раньше же достаточно было чуть не устного указания командира отряда - и летай себе хоть с какого кресла.
Людям, конечно, раньше больше доверяли, брали ответственность на себя. Правда… кто не оправдывал доверия, того легко расстреливали, и вся недолга. А сейчас никто не хочет брать на себя. Только министр.
Может, это оттого, что возим много пассажиров, может, оттого, что все больше людей устает от ответственности, хочет сбросить с себя.
С меня ее никто не снимал и не снимет. Я себе не прощаю.
9.01
Почему-то вспомнились прыжки с парашютом в училище. Когда пришло время прыжков, я волновался, как и все, но солидный - может, сотни – запас прыжков с вышки вселял уверенность в приземлении; я боялся только момента покидания самолета. Хватит ли сил шагнуть за порог?
Я, конечно, хотел покинуть борт «ласточкой», как «бывалый», хотя нам ясно было приказано: прыгать в группировке, руки на запасном.
Когда открыли дверь и в кабину Ан-2 ворвались рев, ветер и свет, и пошли ребята, я, в общем-то не задумываясь шагнул вслед с одной мыслью: разжаться… «ласточкой…»
Разжаться-то я разжался, но потом, как мне показалось, долгое, весьма долгое падение заставило сжаться в комок, а ужас выразился в долгом-долгом, сколько хватило легких, судорожном вдохе в себя: «Х-х-х-х-х-х!» И мысль: да когда же это кончится? Потом плавный, нарастающий рывок, ноги подлетели вверх, и, перевернутый спиной вниз, я увидел над собой уходящий самолет и вылетающих из него комочками моих товарищей с рвущимися пуповинами чехлов. Мы рождались в небо из чрева самолета.
Восторгаться красотами было некогда: поднявшийся ветерок нес нас за аэродром на кукурузное поле. И я с величайшим удовольствием принялся скользить, тянуть стропы, вертел головой, чтобы никто не сел мне на купол, перекликался с такими же возбужденными товарищами, удивлялся, что земля почти не приближается, но потом она пошла все быстрее, и я всерьез занялся приземлением. Взгляд вперед, поймал землю, точно как на вышке, приготовился, сгруппировался, ножки вместе, ступни параллельно земле, в нужный момент с силой подтянулся - топ! - просел глубоко и остался на ногах! Сказалась-то школа тренировок в парке Горького!
Глянул вниз: в десяти сантиметрах разрытая до приличной глубины сусличья нора. Не сгруппируйся я, не погаси вертикальную скорость, - мог сломать ногу.
На втором прыжке нас всех отнесло на самый угол летного поля: видимо, расчет инструктора был не совсем точен. Мне выходило приземляться на проходившую по краю дорогу, с приличными колеями, весьма разбитую и в колдобинах. Пришлось тянуть по ветру на поле, а там гасить поступательную скорость за задние стропы; но все же я сумел и погасить, и подтянуться, и устоять на ногах. Вокруг падали и кувыркались товарищи мои; я загордился, завопил «Ура!», в восторге не замечая, что купол моего парашюта опускается прямо на меня и стропы уже обвесили меня со всех сторон. Дунул ветерок, купол понесло, стропы сдернуло с меня, но одна, зацепившись за шею, ожгла, как кнутом; я взвизгнул и кувыркнулся за нею, поймал и погасил купол, - но не погас ожог, вздувшийся громадным волдырем как раз через всю шею, там где воротник. Так и остался на шее темный след на память о крещении небом.
Говорят, что второй прыжок страшнее первого, но мне было страшно одинаково. И все же я прыгал без колебаний.
Перед первыми полетами учились мы рулить по аэродрому. Гвалт в наушниках оглушил, я не мог разобрать, где внешняя связь, а где команды инструктора по самолетному переговорному устройству СПУ[80]. Рев мотора врывался в плохо подогнанный шлемофон, и я при первой возможности добыл резинку от трусов и стягивал голову резиновым кольцом. Это помогало; потом уже освоился.
Первый взлет… Маленький самолет, урча мотором и кланяясь каждой кочке, вырулил на старт. Я установил его на взлетный курс, наметил ориентир - это было мне знакомо по полетам на планере. Получили разрешение, я мягко двинул сектор газа вперед, мотор взвыл. Инструктор дожал газ до взлетного, мотор завизжал; нас затрясло, казалось, сейчас самолет развалится. Я бросил тормоза, мы рванулись, помчались, понеслись таким немыслимым темпом, что мозг не успевал переваривать ощущения. Визг мотора, тряска; казалось, что мы сшибаем кочки и уже летим, но вот инструктор потянул ручку, передняя нога поднялась, бег перешел в прыжки, потом земля ушла вниз, и я инстинктивно и нервно стал исправлять крены.
Посадка мне так не запомнилась, видимо, оттого, что взлет на планере скоротечен и, в общем, делать нечего, а вот посадка занимала там все внимание. А здесь получалось наоборот.
Потом все вошло в колею. Но ощущение после планера было, как если бы пересел с велосипеда сразу на мощный мотоцикл.
В летном отряде был разбор. Я был в рейсе и не был на нем, но по рассказам присутствующих, изложенных Витей Колтыгиным, экипаж не обвиняют. Условия, в которые он попал, слишком сложны, чтобы принять правильное решение.
Двигатель разрушился еще на первом развороте. Охотник нашел в лесу колесо первой ступени компрессора с пятью оборванными лопатками. Нашли и отрубленный пучок электропроводки.
Судя по расшифровке МСРП[81], перед бортинженером загорелось сразу 16 табло отказов. Смутно, из разговоров, вырисовывается, что отказал и горел сначала третий двигатель, а у второго вроде бы обрубило тяги управления и он самопроизвольно вышел на взлетный режим, а потом, вроде бы, и он загорелся.
Выходит так, что экипаж не смог правильно определить, какие же двигатели отказали, какой остался работоспособным. По тахометрам командир мог видеть, что работает два: первый и второй. Но пока неизвестно, по чьей инициативе был выключен второй: то ли из необходимости экстренного снижения, то ли из-за пожара.
Пожарные краны не были перекрыты. Двигатели останавливают стоп-кранами через механическую проводку; вероятно, у второго двигателя она была перебита. Может, он и не выключился, молотил на взлетном, не дал снизиться?
Вроде бы нашли панель АЗС, на которой АЗС-ы пожарных кранов были выбиты. Может быть, в цепи 28 вольт было короткое замыкание. Может, замыкание было в ветви, питающей как раз пожарные краны, и инженер их закрыл, а они не сработали? Это Витя подсказал, а я об этом не думал.
Вот тебе и растерянность экипажа. Кто может предвидеть, что, допустим, невозможно не только убрать газ двигателю, а и выключить его? Надо снижаться, а он на взлетном. Что делать? Выключить насосы подкачки и перекачки? Тогда тот, что на малом газе, будет питаться самотеком, а тот, что на взлетном, должен заглохнуть. И это надо знать и быть к этому готовым. И даже если он горит, и насос-регулятор в положении взлетного режима, при выключенных насосах литься в него будет всего тоненькая струйка.
Еще один нюанс, Витя надоумил. Один генератор, а двигатель его работает на малом газе, - велика вероятность отказа генератора при большой нагрузке: такая конструкция. Значит, обязательно выключить лишние потребители, а уж потом включить насосную. Много тянут насосы подкачки и перекачки, их можно выключить на снижении. Но понадобись режим единственному двигателю - а он понадобится, взлетный, на глиссаде, - надо включить его насос, либо, чтобы не ошибиться, все четыре насоса подкачки, т.е. опять струю в горящий двигатель. Но это - за две минуты до приземления.
Я недаром сидел над Руководством. Нашел в нем несколько несуразностей, противоречий. Оно просто не предусматривает той ситуации, которую я все время обыгрываю в мозгу: отказ двух соседних двигателей с их разрушением и полной остановкой, пожар, экстренное снижение с использованием интерцепторов и шасси, а значит, насосной станции, а значит, запуска ВСУ, требующего минимум две минуты. Рекомендации тут запутанные.
И еще Витя подсказал, что РА-56 в такой ситуации являются лишними и очень прожорливыми потребителями гидросистем: их гидропотери очень велики, и их необходимо выключать обязательно, если осталась только одна гидросистема. Я этого не знал, нам не давали. Ломал голову, зачем дается такая рекомендация РЛЭ.
Я многого не знаю. Петушок клюнул, так завертелся. А как же другие? Ведь у каждого свои переживания, связанные с катастрофой. Каждый решает для себя, как он поступит в подобной ситуации. Каждый оценивает по-новому и машину, и свои способности, и знания, и как же быть дальше.
Или летчик должен быть тупым и храбрым? И что - в нужный момент сработают реакция, опыт и всплывут знания? Нет, не сработают. Надо предвидеть. Я и за рулем автомобиля никогда не рассчитываю на реакцию: какая бы она ни была у меня, я твердо знаю теорию, что такое тормозной путь, что такое инерция и прочее. Я стараюсь предвидеть и гляжу на два светофора вперед. И не подводило.
Надя видит, как меня грызет изнутри, как не дает покоя мысль о катастрофе. Видит, что я закомплексовался на Руководстве и все время думаю, думаю, глаза стеклянные. Конечно, она переживает, как всякая жена летчика. Но она всего не знает и не видит, хотя я от нее ничего не скрываю. А мне нужно обрести уверенность. Я не трушу и готов лететь хоть сейчас. Но нужно знать, как действовать, если придется.
Видимо, опять перелом. Он назревал. Но катастрофа сразу обнажила, показала, что так летать, как я до сих пор летал, нельзя.
Мне везло. Было легко летать из-за того, что нервное напряжение помогала снять эдакая беспечность. Я всегда верил и верю машине, знал и видел своими глазами на Ил-18, как срабатывает автоматика. И поэтому как-то не слишком задумывался о тонкостях. Лечу над горами, любуюсь красотой и гоню мысль, что, не дай бог, случись пожар, куда падать? Над морем тоже. В грозу. Но гроза год назад тряхнула меня, в Благовещенске. Может, с этого я задумался?
Мы подходили к Благовещенску, уже начали снижение. Впереди стоял фронтик, мы рано вошли в слоистую облачность, поглядывая на экран локатора. Ниже нас видны были отдельные небольшие засветки, пройти над ними не составляло труда.
Я доверяю ребятам; вот и в этот раз пилотировал Володя Заваруев, опытный и хороший пилот, без пяти минут командир, имеющий командирский опыт полетов, еще на Ил-18, втрое больше моего. Он успевал и пилотировать и вместе со Станиславом Ивановичем поглядывать в локатор; я осуществлял, так сказать, общее руководство. Заходить и садиться была очередь Володи, а метеоусловия мы не делили никогда, чтобы он набивал руку.
Где и как они зевнули, я не знаю: по наклону антенны видно было, что засветка ниже нас. Но вскочили. Нас взяло, как щенков за шкирку, подняло, потрясло… Я запомнил лишь страшный, непривычно изменившийся шум потока за стеклом фонаря; кровь ударила в лицо, ощущение ужаса от чего-то непоправимого…
И опустило. Все тихо, выскочили между слоями: рядом громада клубящегося облака; видимо, чуть зацепили самую вершинку.
Акселерометр зафиксировал перегрузку 2,35, для меня невиданную, невозможную. Хвост мой и так аварийно убрался где-то аж к горлу, а тут сразу бросило в пот. Пахло предпосылкой…
Мы еще не осознали полностью, что произошло, как вошла проводница, на бледном лице одни глаза, потирая плечо, сообщила, что «Томка сломала ногу». Поила как раз пассажиров, бросок, сама на полу, ноги кверху, поднос на ней, пассажиры напуганы.
Этого еще не хватало. Но все равно, надо было садиться; по радио вызвали врача к трапу. Сели, был дождик, я тормозил очень аккуратно, да и садился помягче. Зарулили, пассажиры вышли, врач осмотрела Томку, та, молодец, держалась. Не перелом оказался, а растяжение; решили лететь в Красноярск, а там я на машине довезу ее до дому.
Вышел, попинал колеса: на правой ноге правое переднее лопнуло, дыра с кулак. Я уже ничему не удивлялся. К счастью, был тут инженер, знакомый Паши, вместе институт кончали, он нам помог. Вызвали расшифровщиков, замерили перегрузку по К3-63: оказалась 1,8. Пролистали РЛЭ: допустимая 2,5, можно не записывать.
Полеты на «Ту» в Благовещенск только начинались, у них еще не было подъемника; с трудом буксиром накатили машину правой тележкой на деревянный клин, сняли колесо: разрушение датчика юза, производственный дефект. Запасное колесо мы возили в багажнике, заменили.
Домой долетели хорошо, и у Томки нога прошла; я довез ее домой, из машины она вышла, уже не хромая.
И поехали мы экипажем ко мне; стол был накрыт, потому что в этот день мне исполнилось 39 лет. И мы расслабились…
Так может, с этого дня рождения стал я задумываться об ответственности? О том, что я летаю, в общем-то, как слепой кутенок, полагаясь на случай? И я стал обдумывать варианты. И стал приходить с полетов более усталым. Постоянная бдительность выжимает все соки.
А время сейчас подобно заходу по курсо-глиссадной системе. Чем дальше вперед, тем все большее напряжение, тем четче, вывереннее, короче движения, и мысли, и чувства; и чтобы не выйти из клина, за пределы, на второй круг, надо стиснуть зубы и напрячься еще сильнее.
У жизни нет второго круга.
Читаю Валентина Распутина. Открыл его для себя недавно и случайно. Мир его героев мне понятен, хотя я принадлежу совсем к другому, суетному и бегущему поколению. Хорошо, что есть, остались еще мостики между нашим временем и тем, откуда мы вышли и которое продолжаем.
17.01
Был в отряде, хотел оформить выход из отпуска. Работы нет, машины стоят, за нас летают Ил-62, где только можно; рейсы отменяются, топлива нет. Кроме того, указание: летать строго в составе закрепленного экипажа - а у меня двое отсутствуют: Леша еще в отпуске, а Валера лег на чердак. Мы с Михаилом взяли еще по 12 дней - до конца месяца.
Медведев поймал меня, стал задавать каверзные вопросы по Руководству; я справился. Потом я расспрашивал его о катастрофе, но Медведев знает немногим больше нашего. По разногласиям в Руководстве он со мной согласен, но надо ждать изменений РЛЭ сверху.
Катастрофа вскрыла многое. Будут изменения в РЛЭ. Кстати, к экипажу Фалькова претензий нет; мало того, начальник УЛС Шишкин считает, что действия экипажа высокопрофессиональны.
Мы мало знаем, многое домысливаем. У них практически отказала вся энергетика 28 и 36 вольт, отказали авиагоризонты; второй двигатель дал ложный сигнал пожара, горел же третий, вернее, он высыпался, а из трубы била струя керосина… Второй двигатель был неуправляем, режим его несколько раз произвольно менялся от взлетного до малого газа, и на третьем развороте он был выключен по команде КВС[82].
Экипаж пытался управлять машиной, но горел отсек, где проходят гидросистемы. И на четвертом развороте управление отказало, и они поняли это, когда самолет стал падать с креном 65 градусов, и сказали, что это все, конец…
Сами пожарные краны были все открыты, а на пульте бортинженера вроде бы в закрытом положении были тумблеры двух: второго и… первого - а ведь он работал! МСРП записал совсем другое… Короче, все пока запутано.
На тренажере в Москве смоделировали ситуацию и дали нескольким экипажам, подготовленным. Никто не справился.
Медведев считает, что быстрее, чем за пять минут, не успеешь снизиться. Я с ним спорил, но нам мешали. Он говорит, что авторитетные испытатели сказали, что заход Фалькова - оптимальный.
Ага. Оптимальнее не бывает.
Слышал разговор, что партию из восьми двигателей выпустили с отступлением от технологии. И эти двигатели оказались на 124-й (Уккис), на 338-й (Фальков); при разовом осмотре обнаружены трещины на 324-й и 327-й. Это у нас.
На днях горел двигатель у душанбинцев, погасили, долетели домой из Ташкента. Это пятый из той партии, а где-то еще три. Кто-то же должен ответить? Хоть выговор схлопочет?
О выключении насосов Медведев спрашивал - я был готов, ответил правильно. Этого в Руководстве нет. И вообще, я понял, что наконец-то стали прислушиваться к здравому смыслу, пусть и вопреки Руководству. И что руководства пишут живые люди, которым свойственно ошибаться.
Очень красной кровью написаны наши документы…
Вышел из отпуска, хотя и понравилось отдыхать, но полетел в Благовещенск с удовольствием. Проверяющим был комэска, я старался. Полет удался: в Благовещенске сел на редкость мягко, да и вообще работал спокойно; перерыв в работе не сказался. Дома садился в болтанку, настоял на посадке с закрылками на 28, хотя пришлось поспорить.
Со ста метров началась болтанка, Кирьян пытался зажать управление, я потребовал отпустить, и он не мешал. Посадка мягкая, на пробеге почему-то уклонился метров на пять вправо от оси при ветре слева. Не заметил причины. Обычно я такой роскоши себе не позволяю: приучен садиться строго на ось, бежать строго по оси. Леша как-то в разговоре спросил, не приходилось ли мне на Ан-2 крутиться на пробеге. Я удивился, что он говорит об этом как о само собой разумеющемся. Он крутился в молодости; я же считаю это позором.
За всю летную жизнь я имею лишь два позорных случая ошибок - и оба на Ил-14: посадка до ВПП в Заозерке и выкатывание за пределы ВПП в Енисейске[83].
Для меня Ил-14 был этапом становления как настоящего пилота, закладки основных профессиональных качеств транспортного летчика. Ничего, что командиром я пролетал на нем всего год, - это был год хорошей школы.
Случаи эти удалось скрыть; их мне хватило на всю летную жизнь. Кто знает, если бы мне вырезали талон или перевели во вторые пилоты, больше бы пользы было Аэрофлоту? А так я через пару месяцев ушел на Ил-18, и сейчас, уже летая на больших лайнерах, наперед думаю головой, чтобы не получить под задницу.
Зашел разговор с Кирьяном о моем праве давать взлет и посадку второму пилоту. Он удивился, узнав, что я окончил инструкторские курсы.
Ушел на пенсию Сергей Ильич Андреев. Он был у нас зам. ком. Летного отряда. Сейчас на этой должности Антон Цыруль, мой однокашник еще с Енисейска.
Сергей Ильич, Заслуженный Пилот, полюбился нам тем, что не любил болтать, говорил только по существу, давал хорошие, дельные советы и защищал нас от нападок ретивого начальства.
Когда Слава Солодун в Норильске рулил и внезапно вставший торчком свалившийся со штабеля кислородный баллон повредил ему копеечный колпак АНО[84], вони поднялось на сто рублей. Грех было клепать на такого великолепного пилота, но приехавший из управления Левандовский, при всех своих положительных качествах частенько не видящий человека за буквой, решил сделать из Солодуна козла отпущения и, собрав пилотов на представительный форум, начал настраивать аудиторию таким образом, что, мол, само ваше командование вроде бы как осуждает таких вот разгильдяев, которые не умеют вести элементарную осмотрительность на рулении (ага, баллон-то упал со штабеля уже за пределами видимости из кабины!), и т.д., и т.п.
Произнеся соответствующую речь, он решил, что, видимо, уже создал такую атмосферу, чтобы можно было спросить, разделяет ли это благородное возмущение командование летного отряда.
Сергей Ильич встал и произнес свою знаменитую фразу: «Я полагаю, что экипаж не виноват». И сел.
Иван Альфонсович Левандовский, заместитель начальника Красноярского управления гражданской авиации, большой человек, опешил, но быстро оправился и снова стал разливаться, еще гуще концентрируя тему. Когда ему показалось, что он переубедил оппонента, он снова поднял Андреева. Тот невозмутимо и твердо ответил: «Повторяю, экипаж не виноват!»
Под всеобщее ржанье Левандовский моментально переориентировался, шутейно развел руками и разрешил Солодуну рулить с любой скоростью на любом аэродроме.
Вот здесь он попал в самую точку. Вячеслав Васильевич Солодун, пилот и инструктор от бога, умеет на самолете делать то, чего другой не сумеет и на велосипеде, и может этому научить любого.
А Иван Альфонсович, тоже прекрасный пилот, не сумел как-то вписаться в карман на сухой полосе и закрыл аэропорт на несколько часов. И на старуху бывает проруха.
А мы, летчики, уважаем себе подобных не за широкие погоны, а за ремесло. И Сергей Ильич, сам высокопрофессиональный летчик, наглядно выразил нашу общую точку зрения.
Сейчас он ушел в УТО, будет читать нам РЛЭ.
Антон Цыруль сказал, что у нас в управлении, да и в других тоже, взялись обобщить рекомендации по действиям экипажа в особых случаях полета, не отраженные в РЛЭ, - как дополнение к Технологии работы экипажа. Предложения пилотов учитываются. У меня есть кое-что по этому поводу, я заикался Медведеву, да ему было недосуг.
Правильно: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. От Туполева дождешься изменений.
Два дня назад слетали еще раз в Благовещенск. Спокойно, хорошо, и на той же машине. На пробеге, когда реверс включался на полную обратную тягу, самолет прилично вело влево, парировал правой ногой до упора. Дома на пробеге повторилось, но теперь уже и тормозом правым чуть помогал. Теперь ясна причина прошлого уклонения: в напряжении захода и посадки я после перерыва в полетах не заметил тенденции влево, хотя ногу дал, а после выключения реверса дача правой ноги стала излишней, вот и уклонился вправо.
А еще хвастался, мастер, что перерыв не сказался…
Но бортинженер говорит, что параметры двигателей при включении реверса были одинаковы. Такие случаи бывали, я помню, еще когда летал с Солодуном, - на 195-й и 324-й, а вот на этот раз - на 327-й. Необъяснимо: тянет, и все.
Летели над БАМом; против обыкновения, Муйская долина была открыта, и мы любовались Витимом во всей его красе и окружающими горами - Северо- и Южномуйским хребтами, Удоканом, Кодаром. Правда, отвлекало от этой пустой забавы дело: я все искал пригодные посадочные площадки и прикидывал их размеры и расстояние до них, подходы. Не густо, конечно, да и с высоты 10 км сильно не разглядишь, и ночью там будет нечего делать, - но не могу отвязаться от этих мыслей.
1 февраля в Минске упал Ту-134. После взлета возник пожар 2-го двигателя, стали разворачиваться с обратным курсом; видимо, на одном машина не тянула, решили садиться на лес в условиях ограниченной видимости. Пожар погасить не удалось, и после посадки самолет сгорел. Из 74 человек госпитализировано 22, в том числе, два пилота и бортпроводница. Так что есть шанс в такой ситуации остаться в живых.
Если бы Фальков сел на дорогу, в 4-х км от ВПП, затаскали бы его? Правда, попробуй еще сесть на нашем лайнере. Но - мог.
Вчера был разбор объединенного отряда. По катастрофе материалы еще в Москве, по Минску молчание. Сейчас притчей во языцех стали Ил-76. У одного гидросистема отказала, у другого еще что-то, но самый анекдотический случай произошел с моим соседом Пашей Краснощеком.
Его отправили в командировку в Братск: возить оттуда горючее в Полярный. Работа хорошая: я сам когда-то возил горючее на Ан-2. Груз всегда готов, задержек нет. Вот они и возили себе спокойно. По инструкции перевозка топлива осуществляется с разгерметизированным кузовом - для вентиляции, что ли.
Летели они на 11100 м, подошло время приема пищи, оператор пригласил командира на кухню. Тот, идя мимо двери, ведущей в кузов, обратил внимание на сильное шипение. Там в двери два отверстия, закрыты створками; при необходимости створки можно открыть для более быстрого выравнивания давления между кузовом и кабиной. Вот и шипело: воздух выходил из кабины в щель.
Паша решил устранить дефект. Стал дергать эти заслонки за ручки, но этим только расширил щель. Видя, что сил не хватает, вспомнил, что есть еще автоматика: можно эти заслонки закрыть или открыть электромеханизмом, который сильнее рук, а управляется кнопочкой на стене.
…И нажал кнопочку. Он все продумал, но никак не ожидал, что механизм сработает на открытие, так как там есть тумблер, переключающий работу механизма на «открыть " и «закрыть». Он стоял на открытие.
Кабина мгновенно разгерметизировалась, давление в ней сравнялось с забортным, стало, как на 11100. Паша загремел по лестнице вниз, к штурману. Бортинженер повалился лицом на пульт; второй пилот, по его объяснению, вроде бы все ощущал, но как в тумане, а пошевелиться не мог.
Туман в кабине-то был - это всегда случается при разгерметизации.
Радист в это время кончил есть и повернулся отдать поднос оператору. И увидел, что тот валится на него. Отшатнувшись, он поймал краем глаза загоревшееся табло и меркнущим сознанием разобрал надпись на нем: «Дыши кислородом!»
Не звоночек зазвенел, не сирена взвыла, не лампочка загорелась, - огненные буквы! Маска была рядом; хватило сил дотянуться и сделать несколько вдохов - сознание прояснилось.
Самолет себе летел на автопилоте. Правда, они как раз меняли эшелон, и второй пилот, Саша Ишоев, управлял рукояткой тангажа.
Радист схватил его маску, прижал ему к лицу и кое-как привел в чувство. Думать тут нечего: ударил по газам и - экстренное снижение.
Где-то ниже 6000 пришел в себя командир, кое-как добрался до рабочего места. Из снижения вывели на 4500, загерметизировали кабину опять, отдышались и благополучно сели в Братске.
Паша, конечно, очень умный. Он заочно окончил МАИ с красным дипломом. Но, как известно, интегралы (которые он, кстати, и сейчас знает) не помогают летать, а скорее мешают, путают мозги. Считая себя на голову выше остальных, а в экипаже - и подавно, - он в полетах все время экспериментирует. И все молча. Он молчун в жизни, молчит и в полете. Да только что-то все ему не везет. И на Ан-12 летал с приключениями, а на Ил-76 снискал себе твердую славу экспериментатора. То в Норильске самолетные тельферы с рельса уронил, кнопочками баловался, то еще какой-то эксперимент, снова с тумблерами. То выкатился в Ванаваре.
Его, конечно, вытаскивал Халин, начальник управления, земляк и однокашник. Но сейчас не вытащил. Ведь потеряй сознание радист, была бы катастрофа, и ни одному, самому наиопытнейшему эксперту в голову не пришла бы абсурдная мысль, что опытнейший пилот, умнейший, думающий, с образованием авиационного инженера, - сам разгерметизировал кабину. Да и ищи-свищи по зимней тайге обломки.
Перевели его во вторые пилоты - в который раз. Да еще как пройдет ЦВЛЭК[85] - разрешат ли вообще летать. Экипаж его материт. Им же тоже на ЦВЛЭК надо проверяться.
Радиста наградили подарком, представили к знаку «Отличник Аэрофлота», но ведь и он не летает, и его ЦВЛЭК держит.
Нельзя ничего делать молча. Это первейшая заповедь; он ее нарушил. И не трогай ничего, если все работает. Это вторая заповедь.
Ведь был с кем-то случай на Ан-2: летят, вдруг один из пилотов заметил, что магнето на нуле! Лапка стоит вертикально, а мотор работает! Он уже потянулся рукой - поставить лапку на «1+2», а другой ему - по рукам! Не трогай! Работает - не лезь! Оказалось, лапка на оси разболталась.
Наша работа - ремесло. Думать, конечно, надо. Но основа основ ремесла - стереотип действий. Вот я мозгую, как ногу давать. Штурман отрабатывает порядок включения тумблеров: слева направо, сверху вниз. Бортинженер добивается автоматизма в своих стандартных операциях. Это все выучено наизусть. И все равно мы друг друга контролируем. Я слежу за штурманом, он - за мной и вторым, второй - за обоими нами. Есть технология работы, есть контрольная карта.
Но если возникнет что-то неординарное, тут уж общий повышенный контроль. Лучше лишний раз переспросить.
Так ли уж шипело там, что никто и внимания не обращал. Надо было Паше хоть пробурчать: вот, мол, шумит что-то.
У меня штурман курс изменяет на градус - докладывает. Да что говорить.
Ну и вот, Дима Ширяев, зам. командира ОАО по летной, на представительном форуме, эдак презрительно и говорит: «А вы тоже: знали, кого в Братск посылать работать, - Краснощека! Работу ему получше! Знали же, что он из себя представляет. Да его дальше Ванавары пускать нельзя…»
Если бы такие слова, и таким тоном, были сказаны при всех обо мне… я бы уволился.
Чего он ждет. Ему 49 лет. Ну, не получается.
Вася Акулов вон, пилот первого класса, иной раз заходил на Ил-18 вообще поперек полосы, но - спец по ремонту телерадиоаппаратуры. Его за уши вытянули на Ту-154, ввели командиром. Он раз так ушел на второй круг, так зажал штурвал, что экипаж еле вырвал у него рога, аж на 2400… Так сам наконец понял, что не тянет, ушел на пенсию.
У нас осталось два Ил-18, к лету их порежут. И два десятка экипажей на них. Они бы давно ушли на Ту-154, но - образование! Мы материм Васина - летчика-профэссора, замминистра. Он, конечно, гнет линию на всеобщее высшее специальное образование, а что касается недообразованных, то, мол, лес рубят - щепки летят.
Я ведь тоже попал под винты, когда среди моего ввода в строй пришел приказ отставить ввод тех, у кого нет высшего. И меня отстранили. Потом, когда нас таких набралось больше сотни на все министерство, разрешили доввестись. Год целый мучили.
У нас на «Ту» сейчас не хватает вторых пилотов, а он своей дубовой академической башкой не понимает, что надо дать людям возможность заткнуть дыры. Всем же будет лучше.
Актюбинск и Кировоград клепают пилотов образованных. Выпускают их на Ан-24 и Як-40 - это машины уходящие. Народу много, машин нет, ребята вынуждены уходить на Ан-2. Но придет время, заявил нам Ширяев, придут молодые, образованные к нам на Ту-154 - и придется нам, необразованным, уходить с должности, уступать дорогу.
Я с места бросил: «А кто их летать-то научит? Васин?»
И действительно. О Васине я молчу. Он, будучи в свое время у нас заместителем начальника управления, спалил на запуске двигатель Ил-18: место кнопки срезки топлива давил кнопку частичного подфлюгирования. Температура себе растет, он себе флюгирует, обороты падают, а он знай давит. Перепутал кнопочки… профэссор.
Везет нам на начальство. Бугаев, видите ли, Главный Маршал авиации. Гражданской. Злые языки называют его профсоюзным маршалом вертикального взлета. Если и подписывает приказ, то с резюме: порроть! Ну, пори, пори.
Значит, мы будем их учить летать, а потом еще видно будет, «поплавок» летает или пилот.
Так вот, до Васина дошло. Разрешил переучиваться на «Ту» всем, кто имеет хотя бы один курс любого института. С последующим, видимо, переводом в Академию или КИИ ГА[86]. Жизнь в рамки приказа не загонишь.
Я никоим образом не против высшего образования. Даже наоборот: надоели тупые и храбрые летчики. Пилоту нужны высокая общая культура, широкий кругозор, ум, знания, умственная трудоспособность, высокие человеческие качества. Пока путь к этому один: высшее образование. А как еще заставить человека работать над собой.
Другое дело, нельзя подходить к этому кампанейски, рубить сплеча: или диплом, или уходи. Это пока людей много. А потом хватятся, как у нас сейчас. И, глядишь, летает и без «поплавка» как миленький, не хуже, а иной и лучше других.
Мне самому «поплавок» не нужен. Меня и так грызет изнутри. Я сам себя давно воспитываю, и еще нет такого вуза, который дал бы мне все то, что я в себе двадцать лет вырабатываю сам.
Я сам себе читаю и диалектический материализм, и литературоведение, и печное дело. Мне все интересно. И убивать время - драгоценное мое время – на унылые контрольные, интегралы, сессии, взятки, подарки… пять лет - на поплавок - увольте.
Вот был я на инструкторских курсах. 36 дней отдубасил. Столько предметов… Видимость создана полная. Но что я оттуда нового вынес? Самый интересный предмет - психология, да и то, уроков пять-семь было. Организация летной работы? Так есть же книга РОЛР ГА[87], там все расписано, самостоятельно можно читать, это рабочий документ. Методика летного обучения? Эти принципы мы за многие годы и так изучили; Сидоренко нам так и сказал: ничего нового не ждите.
Единственно: полеты с правого пилотского сиденья [88], час двадцать, - так их и дома можно выполнить.
Громадный аппарат крутится, люди получают деньги, заняты тысячи, в трубу летят миллионы, - зато видимость создана. И я получил корочки, дающие право работать инструктором. Но, ей-богу, каким я был, таким остался. Если командование усмотрело во мне данные, хоть чуть подходящие для инструкторской работы, оно не ошиблось.
А вот улетел туда Иван Реттих, от которого экипажи отказываются - и не один экипаж! - за его самодурство и стремление свалить свои ошибки на других. Это явный просчет, это во вред делу. Кого и чему он научит?
Я не набивался в инструкторы, в комсостав, но научить летать могу. Школа Солодуна должна жить. И кредо ее - мастерство, требовательность и человечность.
Обрисовал нам Дима наши перспективы. Северный порт закроют для «Ту» одновременно со сдачей нового моста через Енисей. А запланировано это мероприятие в нынешнем году, и новая дорога пройдет через ВПП, оставив только половину ее для Л-410. Значит, кончаются эти перелеты.
Но все обслуживание теперь - в новом порту, а там и конь не валялся. Поэтому, если с исправностью самолетов до этого было плохо, то станет еще хуже.
Система работает с курсом 108. При проектировании этот курс брался за основной, хотя роза ветров - юго-западная. На вопрос, почему так, и выкрики с мест «Вредительство!» - Дима внятно не ответил.
Вот и выходит, что вредительство. Когда туман, ветра нет, и садиться можно было бы с любым курсом. А вот когда заряд, то ветер западный, сильный, но с курсом 288 минимум выше и система не работает, значит, массовые уходы на запасной. Так заложено.
Так заложено и на БАМе. Читаешь «Известия» и диву даешься. Понастроили объектов, а они еще десять лет будут не нужны. Зато средства освоены, сиречь, вбиты в землю. Дай мне миллион, я разожгу костер и за час «освою» Вот так и система с курсом 108: простаивает, зато средства освоены.
Вчера летали в Норильск. Предварительно связался с ПДСП: сказали, все готово. Приехали - нет машины, ждать из Владивостока. Я пошел в гостиницу, а бортинженеры (я летаю с инженерами из УТО - инструктором и стажером) пошли пробивать по своим каналам. Не успел я вздремнуть, как они уже выбили машину. Неисправность ее заключалась в том, что не запускалась ВСУ. Для опытного бортинженера-инструктора не составило труда найти неисправность: что-то перемерзло; отогрели за 10 минут, и все.
Машина-то - опять 327-я, третий рейс подряд. Я решил всерьез проверить, когда же ее ведет влево на пробеге, а инженера попросил контролировать работу реверсов. И на посадке в Норильске ее повело влево при уборке реверса на скорости 170. Но параметры двигателей были при этом одинаковы.
Странно. Проверил еще раз при посадке дома: при выключении реверса никуда не повело, ничего я не почувствовал и удивился. Но инженер сказал, что реверс убирался чуть несинхронно.
Ну, видимо, в этом все дело. Чуть раньше уходят створки на уборку, а сигнализация чуть запаздывает: разные люфты, зазоры на концевиках.
Кто строго следит за направлением на пробеге, тот справится вполне. А разгильдяй и так выкатится, реверс ему не помешает и не поможет. Но у нас таких уже и нет, отсеялись. Так что не стали мы ничего записывать.
Сам полет прошел без особых отклонений. Правда, на первом развороте у меня завалился авиагоризонт, градусов на шесть, без срабатывания сигнализации отказа. Потом восстановился. Скорее всего, барахлил ВК, но потом не подтвердилось.
Как раз проходил теплый фронт, воздух напоминал слоеный пирог с разными температурами по слоям, поэтому пришлось гоняться за тангажом, гуляли скорость и вариометр.
В Норильске заходил в автомате: при входе в глиссаду почему-то захвата глиссады не произошло, пришлось срочно отключать САУ и продолжать заход в директоре. Сел хорошо, но скорость над торцом была минимальная, добрал перед касанием, а уж удержать ногу эффективности руля чуть не хватило, грубовато опустил.
На обратном пути на снижении я пустил пузыря в расчете рубежей. Почему-то посчитал, что за 65 км должна быть высота 6000, а не 3500, как обычно с курсом 288. Спохватился и вовремя принял решение снижаться по пределам. Пилотировал Леша, справился. Это у меня заскок; обычно я в расчете снижения не уступаю штурману. Мастер…
Леша на четвертом потерял высоту, да так упорно лез ниже, видимо, все внимание его уходило на курс, что я вмешался, довольно энергично. Потом и на прямой он чуть уклонялся, не держал директор в центре и разболтал машину; я опять вмешался.
Потеря высоты на четвертом была 50 м, а по курсу перед дальней он гулял визуально аж за обочины ВПП - примерно, тоже по 50 м. Это роскошь; а летать ведь умеет. Буду требовать.
Сегодня летим в Москву, там надо побеседовать о действиях в особых случаях полета, тем более, стажер, ему надо особенно. Да и нам надо проработать варианты.
Бортинженер сказал, что слышал разговор, что на 519-й на пробеге из движка выскочила лопатка из 8-й ступени компрессора, из бетона даже искры полетели.
Кто видел эти искры, неизвестно, но лопатку вроде бы нашли. Ну, эпопея… И ходят слухи, что что-то случилось в Одессе. Сегодня узнаю. А в общем, надо быть готовым в любой момент к отказу двигателя. Вероятность этого возросла.
15.02
Рейс прошел, а записать некогда: обстоятельства.
Летали в Москву, рейс для меня довольно редкостный. У меня I категория, 60/800, а в Москву надо вторую, хотя бы 45/600; правда, там уже с полгода с тем курсом, который должен принимать по второй категории, минимум вообще 80/1000. Но жизнь заставила, и теперь в Москву посылают и нас, грешных, с обычным минимумом. А те, кто ценой долгих тренировок добыл 45/600 или даже 30/400, через год теряют минимум, если не было в течение года трех заходов при погоде, близкой к минимуму.
Это жесткое правило - повышение минимума при отсутствии заходов - я испытал на себе. В течение года ну никак не получалось у меня зайти при погоде 80/1000 или ниже. И вот, с 9 февраля мне автоматически повышают минимум до 80/1000. Пришлось срочно, всякими правдами и неправдами, ловить заход. Ну, поймал. Теперь опять 60/800.
Каждый уважающий себя командир корабля обладает некоторым, моральным, что ли, запасом квалификации. Если у меня минимум погоды 60/800, то я свободно зайду и сяду и при 45/600. Но правило подтверждения своего минимума три раза в год при погоде, близкой к минимуму, существует.
Что мне дадут эти три захода?
Ну, зашел я тут в Оренбурге при видимости 720, по ОВИ - 800, это мой минимум. День был морозный, легкая дымка, полосу мы видели за 10 км, но прибор на старте упорно давал 720. Я доверил посадку второму пилоту, потому что условия были идеальные. И вот этот заход подтверждает мою квалификацию?
Иногда, правда, бывает такой заход, в таких условиях, что из шкуры вылазишь. Запомнился раз заход в Хабаровске по локатору, РСП. Больше ни одна система не работала. Уж я старался… Но и вышли как по ниточке. А ведь минимум по РСП 120/1500, и облачность точно была 120 м. Вот где пригодился опыт, вот где проявилось мастерство. Хотя спина была мокрая.
Конечно, при заходе по системе ИЛС[89] в директорном либо автоматическом режиме, когда погода близка к минимуму, особенно по высоте нижнего края облачности, есть один весомый нюансик. Полоса открывается внезапно и поражает неожиданной близостью. Это как удар кулаком в лицо. И ждешь - и все равно внезапно и поразительно. Вот здесь решение мгновенное, не умом, а хваткой. Руки сами доворачивают, на сколько нужно. Это реакция пилота. Но готовить себя, что полоса откроется, и откроется строго по курсу, близко и широко, - надо от дальнего привода, сжимаясь в комок нервов и вписывая самолет все более мелкими импульсами рулей в сужающиеся клинья курса и глиссады.
И все равно, она открывается неожиданно и близко, как удар в лицо.
За всю жизнь я лишь однажды ушел на второй круг из-за непосадочного положения машины. Мы заходили в Благовещенске с курсом 180, в сильный дождь, при низкой облачности и боковом ветре, дувшем справа, из Китая. Заход здесь сложен из-за близости госграницы. Вправо нельзя уклоняться ни на градус, четвертый разворот выпоняется близко к полосе, и вход в глиссаду на высоте всего 300 м. И система посадки ОСП+РСП[90].
Еще в полете, где-то в районе Муи, мы со Стасом усомнились в точной работе курсовой системы и стали с нею мудрить. И намудрили, градусов на пять. В результате, при заходе четвертый разворот получился ранним, левее полосы, диспетчер это поздно заметил и подсказал, а времени на исправление не хватало. Кроме того, близкие грозовые очаги ухудшали работу радиокомпасов.
Короче, мы не успели оглянуться, как ветер стащил нас еще левее, и диспетчер угнал нас на второй круг. Напряжение на заходе было столь велико, что сидевший справа проверяющий, командир эскадрильи Селиванов, опытный пилот, замешкался с уборкой закрылков при переводе в набор высоты, и я, видя, что скорость стремительно нарастает, а он не выполняет мою команду, сам убрал их, едва не выскочив за предел скорости.
На траверзе мы встряхнулись и зашли с упреждением, строго, учтя все ошибки.
И мы со Стасом сделали вывод, что нечего крутить курсовую систему в полете, если мозги не варят: на пробеге показания компасов отличались от посадочного курса аккурат на те самые, подкрученные пять градусов.
Но главное было не в курсовой системе, а в несобранности, в неумении учесть наперед все трудности и настроиться на работу в экстремальных условиях.
Это называется предпосадочная подготовка, и я выполнить ее не сумел.
Обычно же я при заходе по системе в директоре не допускаю разрешенных РЛЭ отклонений в пределах силуэта самолетика или там до первой точки - об этом не может быть и речи! В пределах центрального кружка на ПКП колебания еще допустимы. Это по нормативам - на оценку шесть. Этим я закладываю в себе уверенность, что полоса откроется таки строго по оси.
Читаем информацию: Ту-134 сел на боковую полосу безопасности, т.е. За обочиной бетонки. При заходе командир разболтал машину, а в момент выравнивания попытался поймать ось доворотом, при помощи отклонения руля направления на 20 градусов, - то есть, сунул ногу до упора.
Тут комментарии излишни. Первое, что вдалбливают в голову молодым вторым пилотам, пришедшим на тяжелую технику: забудьте в воздухе о ногах! Ногами рулят на земле!
Если человек инстинктивно сучит ногами в сложный момент, значит ему пока еще не место в левом кресле.
И все-таки комментарии напрашиваются.
Закон физики гласит, что у тела есть инерция. И если тело движется, то, прикладывая к нему усилие на расстоянии от центра тяжести, мы создадим значительный вращающий момент и незначительный, искривляющий траекторию. Траектория изменится очень незначительно. Центр тяжести же как шел в сторону от полосы, так и пойдет, хотя нос-то вроде довернул на полосу.
Так зачем себя обманывать? Скорее всего, это движение инстинктивное, как крик «Мама!».
Я понимаю девушку, севшую за руль «Жигулей» и на гололеде, в заносе, когда машина перестает подчиняться рулю, зажавшей тормоза, в тайной надежде, что бог поможет и как-то остановит. Это простительно кандидату теоретических наук, но непростительно практику, долгие годы имеющему дело с тоннами масс и сил, от умелого управления которыми зависит жизнь пассажиров.
Не можешь удержать эмоции, не справляешься с собой в сложной ситуации, - не жди инцидента, цепляй на пиджак свой академический ромбик и иди преподавать аэродинамику. Не можешь преподавать - иди тогда в методисты.
Я - за чутье в работе. За хватку, интуицию, вдохновение.
Очень завидую кузнецам. Это ремесло творческое. Нынче, когда нажатием педали человек управляет тысячетонным молотом, - как он чувствует силу, пропорцию, меру, состояние металла, как соразмеряет мощь инструмента с рабочим ходом, как ювелирно обжимает податливую огненную заготовку! Нет, это достойно зависти. Могуч человек!
В Москву проверял меня Геронтий Петрович Камышев, пилот-инструктор УТО. Немногословный, спокойный, тактичный, прекрасный пилот, методист. У него не было ко мне замечаний. Правда, в Москве я заходил под шторкой, старался. Поймал себя на мысли, что трудновато, видимо, давно не делал этого. Надо поставить за правило: в каждом полете - строго инструментальный заход. Будем с Лешей по очереди набивать руку.
Вчера вечер просидел над Руководством. Много противоречий и поверхностных указаний. Отказы двигателей рассматриваются неглубоко: к примеру, не предусматривается, что отказавший двигатель заклинен или разрушен; считается, что он авторотирует и его обороты достаточны, чтобы поддерживать в гидросистеме давление, обеспечивающее управляемость самолета.
Наоборот, отказы гидросистемы подразумевают лишь ее разрушение; не рассматривается связь отказа системы с отказом двигателя, пожаром и необходимостью немедленной посадки.
Вот и получается, что прежде чем откажет первый двигатель и повредит и подожжет второй, уже надо запускать ВСУ, чтобы поддержать слабый третий генератор, который может отключиться при включении насосной станции, жизненно необходимой в этот момент.
Поистине, на берегу - всякий моряк. И легко летать в кабинете.
Бессилие пилота может быть трех видов. Бессилие от незнания, бессилие от отказа, бессилие от страха. О страхе я уже писал. Незнание - наш аэрофлотский бич. Мы верим, что машина создана на дурака, нам легко и хорошо быть дураками. Ильюшин это понимал, Туполев - нет.
Конечно, Туполев впереди. Он торит дорогу. Он экспериментирует. Но Ильюшин идет по пути надежности. Он сторонник массовости. Кто из них прав?
Авиация сегодня зашла в тупик. «Выше, быстрее» отступило перед «дальше, дешевле». Здесь прав Ильюшин. Ту-144 опередил свое время и тихо слинял из-за обжорства. Слишком высокая скорость слишком дорого обходится. Да и так ли она нужна? Лететь 4 часа, а задержки сутками. Дорога в аэропорт, ожидание регистрации, досмотр, выдача багажа… Какая разница, 800 или 900 км/час? А на малых расстояниях хватит и 500.
Но для 900 уже нужны принципиально новые решения. Нужны бустера, ЭВМ и т.п. Нужна мощность двигателей, а из них уже выжато все. Нужен технологический скачок.
Мы отстаем от Запада по двигателям. Они у них гораздо экономичнее, надежнее. «Боинг» летит из Японии в Европу через Сибирь без посадки, с зазубренными от засосанного мусора лопатками компрессоров - и не ломается.
А у нас это бич. Летят, летят лопатки. Бьют машину, рубят и бустера, и ЭВМ, и все. Оставить бы хоть какие аварийные троса управления… А то ведь лопаткам все равно, тройное ли, восьмерное ли дублирование: они рубят одним махом и три трубки, и тридцать три. И замыкает провода, по которым управляются пожарные краны; трос, видите ли, устарел.
Вот здесь пилот поистине бессилен. Но надо на всякий случай знать матчасть. И я сижу, исчеркал все РЛЭ; да я уверен, многие так же сидят, разбираются.
Ну, нет у нас четких, выверенных рекомендаций. Варимся в собственном соку.
Сегодня лечу в Москву. Прошлый раз из Москвы возвращались на той же 327-й, и ее опять вело влево на пробеге. Ну да я же не один на ней летаю, все летают и справляются, и записей в журнале нет.
Вообще-то хорошо, что мы летаем все время на разных машинах. Норов машины определяется сразу; это опыт. На одной и той же привыкнешь к нюансам - на другой будет трудно. Я летал много в командировках на одной машине, месяцами, и знаю.
Самые лучшие годы отданы полетам…
17.02
Вчера прилетели в Москву. Летели нормально, заходили с прямой, на 137, и тут я не учел ветер. Направление ветра 50 градусов - это под 90 слева. И скорость его: на высоте 100 м - 12, на 60 - 6, у земли - 4 м/сек. Явный сдвиг ветра. На кругу ветра не давали, и это меня тоже не насторожило.
Когда нас понесло на 4-м развороте, я понял, что ветер сильный. Но так как накануне решил отдать все внимание заходу по приборам, то лишь краем сознания отметил, что хоть ветер и силен, но я без проблем справлюсь. Продолжал заход по приборам до высоты 60 м. Миша громко докладывал снос: 10 градусов, 8… Тут подошла ВПР, я перенес взгляд на полосу: вышел точно, нос отвернут влево, против ветра.
И тут снос стал резко уменьшаться с высотой. Я аж дернулся было сделать координированный доворот на ось: штурвал и нога, - но увидев, что снос я парировал и иду параллельно оси, левее, метров десять, решил, что зачем дергаться - ну, сяду левее. Сел, как всегда, очень мягко, но метров 7 левее оси, побежал строго параллельно, и вместе с падением скорости и чувством, что посадка удалась, внутренне краснел от того, что вот рядом, справа, бежит подсвеченная яркая ось, а я бегу рядом и стыдно выходить на нее, потому что экипаж подумает, что я, мол, исправляю ошибку, втайне надеясь, что никто не заметил.
Вот такая неудача. И стало понятно, как это шуруют ногой в подобной ситуации. У меня хватило воли удержаться, а у него нет. И все равно стыдно.
Кстати, в нормативах нет речи о том, на каком боковом расстоянии от оси можно сесть, и на какую оценку. Оценка приземления зависит совсем от другого: от перегрузки, расчета по длине полосы, да от возможного козла. По ширине же только разрешается приземление до одной четверти ширины ВПП в ту или другую сторону от оси, то есть, от 12 до 15 метров. Зачем же эта рефлексия? Зачем я себя укоряю?
18.02
Вернулись из Москвы. Весь полет судачили о Викторе Лукиче Евреимове.
Лукич последние годы был у нас заместителем по летной командира ОАО[91], потом сам командовал предприятием. Это при нем начали строительство нового Емельяновского аэропорта, это он отхватил орден, но, как утверждали злые языки, вскоре был изгнан за злоупотребления и скромно устроился пилотом-инструктором УТО.
Пилоты недолюбливали его за высокомерие и нравоучительство. Очень уж любил упрекать нашего брата в безграмотности, витийствовал на разборах, гаерствовал на трибуне.
В УТО он притих, стал вроде как панибратствовать с нами, но все равно, так и перло из него, что вот видите, какой я умный.
Как все утовские, подсаживался он в экипажи, летал в рейсы с нами, в беседах, с тем же неисправимым апломбом, изрекал свои оригинальные истины.
Как раз в это время случилась поломка у Миши Ерахтина. Он должен был перегнать машину на Внуковский завод, в ремонт. Попутно загрузили ему пассажиров до Москвы; но очень долго мурыжили экипаж в АДП: целый день не могли подготовить машину, как это обычно бывает при перегонках.
Протолкавшись на ногах целый день, экипаж полетел. У нас с налетом весьма не густо, поэтому, как ни устал, а лети: считай, что тебе не повезло, но заработок есть заработок. И ребята, уставшие и злые, погнали рейс.
Во Внуково заходили ночью, в дождь. Конечно, Миша не настроил экипаж на серьезную работу на заходе. Разгильдяй штурман не установил частоту курсоглиссадной системы, и на 4-м развороте все занялись решением вопроса, почему она не работает. Провернулись, стали исправлять, а клин сужается, уже близко; диспетчер, видя, что самолет не вписывается в нормативы, дал команду уходить на второй круг.
Так как мы всего боимся, экипаж занервничал, предвидя дома неприятное объяснение этого ухода. Видимо, разрядились матами друг на друга. И на посадке командир упустил тонкости: ночь, дождь, мокрый асфальт, слабые фары, усталость и раздражение.
Самолет приземлился грубовато, козел; командир стал невпопад ловить рулем высоты и гасить прыжки (классическая ошибка), и все вдогонку да в резонанс; в конце концов, лайнер грубо упал на полосу и сломал переднюю ногу.
Мишу перевели во вторые пилоты; мы стали внимательнее прислушиваться к отсчету высоты штурманом по радиовысотомеру в момент выравнивания, уточнили исправление козла по рекомендациям РЛЭ, и вроде все притихло.
И тут настал звездный час Виктора Лукича. Заходя во Владивостоке, в приземном тумане, по приводам, он, видя, что погода плохая, все же понадеялся на свой опыт и мастерство - и полез. Ниже ВПР[92] ничего он не увидел, но лез упорно, нарушая минимум, и где-то над полосой поставил почти малый газ и стал добирать. Он себе добирает, а машина себе летит, а он все добирает… Штурман несколько раз повторил высоту: «Десять метров, десять метров!» А Лукич все добирал, пока, наконец, не потерял скорость и все же сел, грубовато, правда… но для инструктора сойдет.
Сел он с перелетом 1100 метров, это почти центр полосы. Ясное дело, пока опускал ногу, пока включал реверс, полоса подошла к концу, из тумана выплыла «зебра», да еще под горку… Короче, пока он понял, что перелетел, что полосы ему не хватит, скорость для своевременного ухода на второй круг уже была потеряна. Ну, точно как у меня в Енисейске. Опыт у него, старого пилота, конечно, не чета моему - мог бы уйти… но, видимо, заклинило.
Так и выкатился на 200 метров в болото и сломал переднюю ногу.
Это было событие. Уж перемыли ему косточки, уж припомнили все, уж воспрянули духом недруги, уж потешились злые языки…
Но Лукич и Миша - разные весовые категории. Миша себе вторым летает, хотя случай такой у него впервые, а козлов - он клялся - и вообще в его практике не было.
Но есть нарушение, не сумел организовать работу экипажа - поделом. Он и не протестовал.
Другое дело - Виктор Лукич Евреимов, лучший методист ИКАО (как образно называл его Шевель). Тут оказалось, что и штурман виноват - не подсказал ему в тумане пролет торца полосы; и синоптики - видимость не ту дали; и т. п.
Лукич во время оно не раз учил нас, безграмотных, с высокой трибуны, как защищать себя, если что. И защитил!
Сняли его во вторые пилоты на три месяца; он отгулял в отпуске. Через два месяца заговорили уже о восстановлении, и в срок он полетел в рейс командиром. Да еще забрал мой прекрасный экипаж, а меня - в другую эскадрилью, к Кирьяну.
Справедливости ради: причина была не в этом, а просто замполиту возжелалось сделать меня пропагандистом в разгильдяйской эскадрилье - улучшить, так сказать, породу.
Ну, а экипаж мой, зная, что я закончил инструкторские курсы и меня в любой момент могут повысить в должности, решил остаться в родной эскадрилье, тем более, что Володе уже светил ввод в строй, - да и попали ребята в лапы Лукичу. И в полетах стало вдруг так, что где командир ошибся, там виноват экипаж. Достал он моих ребят своими придирками.
Однажды скромнейший Станислав Иванович не выдержал, и когда Лукич пристал к нему в очередной раз в полете, отложил в сторону линейку, повернулся к командиру корабля и спокойно сказал:
– Знаешь что, Лукич? Да пошел-ка ты на х…
Евреимов оторопел:
– Что-о? Что ты сказал? Это ты - мне?
– Ага. Тебе. Пошел на х… Не хочу с тобой летать. Заколебал. Не мешай работать. А то - лети сам.
Лукич мгновенно спустил инцидент на тормозах, больше к мужикам не приставал, как отрезало, - и получился хороший экипаж.
Но это так, к слову.
Начал таскать Виктора Лукича прокурор. Начал Виктор Лукич мотаться во Владивосток. Начало покровительствующее начальство потихоньку готовить поврежденную машину к перелету - чтобы не мозолила глаза в чужом порту, не привлекала излишнего внимания.
Пошел у нас в отряде шепоток: кто погонит? По идее - ясное дело, виновник.
Но оказалось все не так просто. Поломка легла на УТО, значит, утовские и должны перегонять. А виновник-то уже не в УТО, а опять у нас в отряде, отскочил…
Нашли в УТО крайнего: безотказного Геру Камышева. Посулили, видать, золотые горы, нажали на высокий авторитет, - неизвестно как его обработали, он помалкивает. Подобрали инструкторский экипаж. Бортинженер стал заранее интересоваться состоянием машины и заподозрил неладное. Больно уж мялась инженерно-авиационная служба. А тут прошел слух, что перегнать машину предложили заводскому экипажу, и предприимчивые испытатели заломили приличную цену: тридцать тысяч. Ясно, таких денег у управления не нашлось.
Утовский экипаж, прилетев на место и увидев состояние машины, только ахнул. Все шпангоуты под пилотской кабиной разрушены, створки разодраны, все забито землей; чтобы не выпала антенна ДИСС, снизу вручную подклепан лист дюраля.
Инженер, руководивший подготовкой машины, признался: переднюю ногу загнали в цапфы кувалдой, намертво, лишь бы улететь. Замка убранного положения нет, кабина негерметична, светят дыры…
Короче, предстояло гнать машину за три с половиной тысячи верст, с выпущенными шасси и разгерметизированной кабиной, на высоте 5 км, без отопления - как Ан-2, на скорости 400 км/час, с минимальной заправкой. Оплата экипажу полагалась почасовая: командиру 5 рублей за час, членам экипажа поменьше. Полет был рассчитан на 9 часов.
У нас рейс с пассажирами стоит дороже.
И еще на пути предстояла посадка на дозаправку на сложном Читинском аэродроме.
Справились, перегнали, намерзлись, правда. Теперь машина гниет в углу старого аэродрома, и похоже на то, что так и сгниет незаметно. Главное дело сделано - улику утащили из-под носа прокурора. Летает же - значит, никакого криминала.
Конечно, Мише Ерахтину очень повезло, что он гнал машину в ремонт, на завод, и именно на заводском аэродроме поломал ее. Сейчас она уже летает. А случись это во Владивостоке… Сгноили бы человека. Кому нужно было бы спасать его, как спасали орденоносца Евреимова - лучшего методиста ИКАО и окрестностей.
Он, конечно, возместит убытки, как это у нас принято, но - только после суда. А уж скоро год как тянется дело…
Был у нас не так давно совсем уж анекдотический случай. Молодой командир Шура Шевченко, выруливая ночью в Уфе, ошибся рулежкой и свернул на ту, что не предназначена для тяжелых самолетов, не вписался в сопряжение, увяз в грунте одной тележкой и… И вот тут бы ему подумать. Осмотреться. Принять грамотное решение. Вызвать тягач…
Но мы ж всего боимся. Это же огласка на весь Союз. И командир ничтоже сумняшеся влупил всем трем номинал. А сзади как раз была стоянка Ан-2, но ночью же не видно… И струя от трех двигателей сорвала со швартовок и поломала два аэроплана.
Тут уж закричали все вокруг, и он опомнился и выключился. И был шум на весь Союз.
Сняли его во вторые пилоты. А чтобы замять конфликт с Уфой, пришлось взамен отдать два своих исправных Ан-2.
Как пойдет дело дальше, можно определенно предположить. Будет суд, будет частичное возмещение убытков.
Я не знаю, кто его вводил в строй, но меня Солодун учил: всегда смотреть вперед, но помнить о том, кто сзади. Учил использовать инерцию для разворота, учитывая и коэффициент сцепления, и инертность двигателя, когда газ уже убран, а обороты и струя еще есть, - и многим, многим важным мелочам учил меня Вячеслав Васильевич, дай ему бог здоровья.
Да, иметь в руках станок, стоимостью в четыре с половиной миллиона рублей и мощностью около тридцати тысяч лошадей, да весом сто тонн, - не так уж просто. А куда денешься. Раз уж впрягся - тяни свою лямку честно, отдавай все способности и силы.
Помню, как меня учили еще на Ил-14 заруливать на стоянку разворотом под 90 так, чтобы переднее колесо останавливалось строго на линии разметки, и линия эта чтобы шла точно вдоль фюзеляжа. И взыграло самолюбие, и с тех пор я делом чести считаю зарулить не просто в габариты стоянки, а унюхать именно строго по линии, чтобы она проходила точно между передними колесами и продолжалась под фюзеляжем как на чертеже.
Солодун меня долго учил этой премудрости, и сейчас я в 90 процентах попадаю. Дело это тонкое. Иной раз, машина вяло вписывается в разворот, приходится помогать тормозом; иной раз места на стоянке мало, чтобы исправить ошибку, протянув по линии десяток метров. Разные аэродромы, условия, покрытие, разметка, - но я-то один и тот же, и должен всегда заруливать, как Солодун, и даже лучше. И садиться всегда мягко, и заходить точно. Честь фирмы…
Скотников, старый летчик, недавно сел с перегрузкой 1,9. В журнале записал, что сел так из-за сильного сдвига ветра. Не укладывается. Обычно такая посадка, вернее, падение, происходит из-за малой посадочной скорости. А при сдвиге мы заведомо держим на глиссаде повышенную скорость. Кроме того, когда выравниваем, сдвиг ветра уже позади, наверху, а здесь только ветер порывистый: порыв пропал - машина хлопнулась. Тут уж зависит все от пилота: выровнять пониже и не дать отойти машине вверх при порыве. Для этого, для управляемости, и скорость нужна, - что если подбросит, то хватит рулей исправить взмывание и добрать, как при исправлении козла.
Я всегда в таких условиях захожу с закрылками на 28: рули гораздо эффективнее.
Кирьян в конспекте к разбору записал: «Ершов, выпуск механизации в болтанку». Счел нужным осветить наш спор о выпуске закрылков. Интересно - хвалил меня или ругал? Во всяком случае, летать мне, и я раз и навсегда решил и другим рекомендую: в болтанку - только 28.
Слава Солодун вчера рассказывал, что на тренажере отрабатывается такой элемент: при заходе на посадку на двух двигателях, уже в глиссаде, вырубается еще один. Закрылки выпущены на 45, и скорость моментально падает. А если их убрать, то получается просадка, и можно упасть до полосы. Так вот, он проверил: лучше моментально убрать до 15 градусов и дать взлетный режим двигателю. И скорость остается та же: 270-280, просадка есть, но не падение, и потом даже разгоняется.
Значит, при заходе на посадку на двух двигателях надо скорость держать на 10 км/час больше и быть готовым к отказу еще одного двигателя, а значит, к моментальной уборке закрылков до 15.
Так может, лучше сразу заходить с закрылками на 28? Разница подъемных сил при 45 и 15 слишком значительна, а между 28 и 15 меньше, а скорость захода больше.
А если отказал 1-й или 2-й и есть риск отказа соседнего, чья гидросистема нужна для уборки закрылков? Значит, нужно соображать и заранее включать необходимую насосную станцию второй гидросистемы.
Молодец Туполев, заставляет трещать мозгами. Одна беда: сам-то он в кабинете сидит, у него нет коэффициента обалдения.
В Горьком Ту-134 взлетал, пожар двигателя, потушили, сели на аэродром вылета. Эпопея продолжается…
В Одессе, по слухам, на взлете на Ту-154 оторвалась часть компрессора двигателя, сели благополучно.
На 519-й лопатка оторвалась, точно, но больше ничего не известно.
Обстановка тревожная, что и говорить. Ну да достаточно мы спали в полетах.
Туполев вроде бы дал пару хвостов Ту-154 для продувки и экспериментального пожара, в аэродинамической трубе, что ли. Потому что и до сих пор никто не знает толком, что и как горело у Фалькова.
19.02
Вчера зашел в эскадрилью, глянул план на два дня вперед: выходные, потом резерв. А на завтра взяты билеты на Кубанский казачий хор. Сегодня звоню в план: завтра резерв. Такова одна из особенностей летного бытия. Что ж, не впервой; Надя сходит с Оксаной или одна.
По правилам, изменения плана доводятся за три дня, но как его доведешь, если отряд далеко, на улице -40 и вся связь с отрядом - по телефону. Да и план тасуется каждый день.
20.02
Радио сообщило: в Испании, возле Бильбао, потерпел катастрофу Боинг-727, 150 человек погибли. Что могло произойти? Мы все братья по оружию, а стихия всегда против нас. Самолет этот - почти копия нашего Ту-154, три двигателя сзади.
Так что падают и «Боинги», и наши. Но у нас - эпопея.
А вообще я замечаю, что катастрофа Фалькова произвела на меня слишком сильное впечатление. Что - до этого не падали самолеты? Взять хотя бы Шилака. Но там расследование провели оперативно, и разбор был вовремя, и все стало ясно. А здесь гнетет неизвестность.
22.02
Недавно была радиограмма о том, что где-то возле Сургута сел на вынужденную на озеро Як-40. Из текста было ясно, что пошел на запасной, тот закрылся, пошел на другой, и не хватило топлива. Ведется расследование.
Подробности узнал вчера из «Известий» Как у нас поставлена служба информации: либо приказ об этом будет издан через полгода, либо мы вообще о нем не услышим. О хорошем сообщают редко.
Тут обошлось. Действительно, шел он из Новосибирска в Стрежевой, тот закрылся боковым ветром; ушел в Нижневартовск, там тоже усилился боковой ветер; остался Сургут, 45 минут полета, и топлива в баке на час. Обычное дело. Да топливомер, оказывается, врал, завышал, и посреди дороги топливо кончилось.
Дело было днем, шли сверх облаков на 4200. Спасение, что в Сибири зимой очень редко бывает низкая облачность, и они, пробивая облака, знали, что пара минут будет осмотреться. Выскочили на 500 или 700 м; с вертикальной 5-6 м/сек - это около двух минут снижаться.
Вот тут уж у командира сердце сжалось: кругом тайга, и ни пятнышка светлого. Но где-то же рядом Обь, с многочисленными старицами, заливными лугами…
Ясное дело, искали, впивались глазами в темный лес, на который садиться ой как не хотелось.
Нашли белое пятно, дотянули на углах атаки, не выпуская шасси и механизации, чтобы сохранить качество крыла. Умело распорядились имевшимися высотой и скоростью и мягко сели на старицу Оби. Як-40, кстати, идеально приспособлен для посадки на брюхо. У него на брюхе небольшой пузырь, позволяющий манипулировать на посадке тангажом; крыло имеет поперечное «V» вверх. Сели на скорости 200, только снег зашуршал. Самолет невредим. И через 7 минут, как в кино, рядом сели два Ми-8.
Я вот раздумываю: на нашем типе рекомендуют садиться на вынужденную с выпущенными шасси. Это правильно. У нас длинный фюзеляж, и, добирая на посадке, трудно поймать положение, чтобы в момент касания тангаж был равен нулю, что обязательно при посадке на брюхо.
При посадке на неровный грунт, что вероятно в ста процентах, шасси примут на себя первые толчки, затем разрушатся, и дальше все пойдет как при посадке на брюхо, только уже на меньшей скорости.
Но есть некоторые нюансы. Зимой нужно садиться на лед реки или озера, ибо на болото: их легче заметить, особенно ночью, у них самая ровная поверхность. Посадка с выпущенными шасси чревата риском, что самолет провалится сквозь тонкий лед и шасси срежутся, но это опасная травма для самолета, в баках которого полно керосина.
Не лучше ли садиться на ровную поверхность без шасси? На малую реку или озеро, да и на болото, я считаю, лучше. Закрылки необходимы: и посадочная скорость меньше, и касание услышишь (при выпущенных на 45 края внутренних секций лишь на метр не доходят до бетона на стоянке), и они легко сминаются, а смявшись, примут на себя первую нагрузку, а потом легко оторвутся.
Правда, если садиться с тремя отказавшими двигателями, то закрылки и не нужны, так как они настолько уменьшат качество, что понадобится большая вертикальная, а с нею не сядешь, а упадешь, не хватит рулей выровнять.
Но это особый случай даже среди всех наших особых случаев полета. Я рассматриваю типичную и вероятную ситуацию: пожар, либо отказ двух двигателей, когда на одном не тянет.
Болото зимой обычно покрыто толстым слоем снега, и садиться на него без шасси безопаснее. Но есть одно «но». Отрицательное «V» крыла, когда законцовки его ниже фюзеляжа. И все же, я думаю, если не злоупотреблять вертикальной скоростью и подвести пониже, законцовки коснутся снега одновременно с закрылками.
Другое дело, если площадка ограничена: шасси помогут быстрее затормозить. Тут уж не до жиру.
Посадка на снег аналогична посадке на воду, а там рекомендуется шасси не выпускать. А вот на большую сибирскую реку садиться не очень приятно. Надо лепиться к берегу, потому что на середине реки мощные торосы. Мне приходилось на Ан-2 летать низко над замерзшим Енисеем, и я навсегда понял, что сесть на него можно только на забереги.
Ну что ж, забереги так забереги. Конечно, на лед великих рек можно сесть и на колеса: толщина его приличная, выдержит и даст возможность спасти потом машину. Летали же мы всю зиму в Туру, садились на лед Нижней Тунгуски на Ил-14.
И все же я сторонник того, что на воду, снег, тонкий лед, болото садиться надо без шасси. Это ровная горизонтальная поверхность.
На суше предпочтительнее дороги, особенно если ровный участок, километра три. Но тут повнимательнее с машинами. Ночью или утром дороги свободнее. Зимой на снегу дорога выделяется днем и ночью. Ширина дорог обычно не меньше 12 м с обочинами; теоретически хватит, а практически я стараюсь садиться строго на ось и бежать строго по осевой.
На лес в Минске садился человек, остался жив, но, скорее, чудом. На скорости 250… Погибло 70 процентов людей.
На поле, конечно, на колеса. Плавные изгибы поля на наших скоростях будут кувалдой бить снизу, и шасси все же помогут, смягчат удары. Но, скорее всего, самолет разрушится, может, частично.
Хорошо на Як-40 садиться. Двигатели стоят - невелика беда: машина все равно управляема. У пилота об одном голова болит: куда сесть. Посадочная скорость невелика. Управление - троса, тяги, а у нас бустера. А они работают от гидросистем, а системы отказывают. Правда… тройное дублирование…
Говорят, в ГосНИИ ГА[93] сожгли уже три двигателя. Как пожарный кран перекроют, так само гаснет.
Говорят, назначена новая комиссия.
Говорят, говорят…
Пилотов упрекают: дескать, записываете же координаты площадок для вынужденной посадки, а не садитесь.
Попробуй, сядь сам.
В Горьком Ту-134 не сел же на законную площадку - военный аэродром, в 17 км от своего, по курсу, - а все же мостился на родной, справедливо полагая, что там ни швы не заливают, ни полосу не чистят, а ждут с пожарными и санитарными машинами. Так и с любой другой площадкой - кто нас там ждет?
А в Донецке честно признались: ну нет у нас площадок с курсом 80. И правильно: там одни терриконы.
А на концерт я сходил вчера, и очень доволен. Только жаль, что нам с Надей пришлось сходить врозь.
Володю Уккиса представили к награждению знаком «Отличник Аэрофлота». У них произошел отказ и пожар первого двигателя на разбеге. Скорость в момент загорания табло «Пожар» была 260. Первым это заметил проверяющий бортинженер Вася Лановский и доложил: «Пожар первого двигателя!»
Как говорил потом командир, он не успел и пальцем шевельнуть. Полполосы было еще впереди; производивший взлет второй пилот Леша Кухарчик одновременно с командой командира «Стоп!» мгновенно убрал газы, включил реверс, штурман дернул интерцепторы, инженер выключил двигатель и применил систему пожаротушения, две очереди, одна за другой. Командиру осталось только интенсивно тормозить. И то, едва хватило полосы 3000 м.
А у нас основные полосы по 2500. Поэтому рубеж 260 - только на больших полосах, а на остальных - не более 240. Да и то, я сто раз замечал, что когда штурман доложит «Рубеж», остается едва ли тысяча метров; этого мало. Правда, есть еще КПБ, но печальный опыт Евреимова говорит, что концевая полоса безопасности обеспечивает безопасность людей, да, - но не самолета. Да и по закону, оказывается, она должна держать самолет на одной трети ее длины, а дальше, как во Владике, болото.
И все же, когда самолет остановился и Уккис сам открывал дверь, чтобы скорее глянуть, что же там с двигателем, руки у него тряслись, по словам бортпроводниц.
Очень велико напряжение.
У них прогорела камера сгорания по шву, по сварке. Производственный дефект.
Как он готовил экипаж к взлету, я не знаю, но все сработали на едином дыхании. Им тоже всем ценные подарки.
Каждую минуту во всем мире стартуют самолеты. Как настраивает экипаж перед взлетом китаец, американец, араб, француз? Мы все братья по профессии, и нас всех ждет в воздухе неизвестное испытание. Как нам справиться? Как совладать с собой, со своими нервами, со своим страхом? Мы должны победить.
Мне кажется, на исполнительном надо еще раз подсказать: вспомним действия на случай отказа. Будем к этому готовы. На разбеге, на взлете, в наборе. Экипаж должен быть настроен и готов. Самое страшное – неожиданность, и поэтому надо себя настраивать. И я, командир, должен быть первым.
25.02
Летали в Магадан. Туда - пассажирами, с Красоткиным, обратно без отдыха гнали рейс, а Красоткины отдыхали в салоне.
Я сначала, было, пристроился в салоне среди пассажиров читать «Идиота», рассчитывая, что засосет и задремлю. Но кому-то вздумалось снять обувь… Короче, убежал я в пилотскую кабину и просидел там всю дорогу до Магадана, наблюдая работу экипажа.
Надо сказать, после катастрофы Фалькова министерство приняло ряд мер по мобилизации экипажей на действия в особых случаях. В частности, во время предполетной подготовки в кабине командир опрашивает членов экипажа по какому-нибудь особому случаю, скажем, по пожару двигателя после взлета. И каждый четко докладывает свои действия согласно РЛЭ.
Считаю эту меру правильной и хотя там предписано вести опрос поочередно по всем возможным отказам, думаю, перед взлетом можно ограничиться следующим: отказ (пожар) на разбеге (до рубежа и после), то же на взлете (самый опасный случай) и в наборе.
Все другие случаи не столь опасны и не требуют такой бурной деятельности экипажа в кратчайший срок, как вышеперечисленные. Самый опасный в психологическом плане период - переходный от земли и неподвижности к скорости и полету. Дальше уже экипаж настроен на полет, более расслаблен и раскрепощен, способен не так нервно реагировать и имеет хоть немного времени на принятие решения.
Так вот, у Красоткина мне понравилось, как четко и ясно экипаж представляет свои действия в особых случаях. Видно, что отработано. А у меня экипаж только-только наконец собрался в кучу, Валера занял свое законное место бортинженера. И пока еще не все настроено так, как у Красоткина. В ближайшем резерве займемся вплотную.
Погода в Якутске и Магадане была хорошая, экипаж, когда вез нас туда, сел прилично, и мне было бы стыдно ударить перед ними в грязь лицом. Я в Якутске сел очень мягко, и Леша в Красноярске тоже унюхал полосу, правда, не обошлось без моего вмешательства над торцом, потому что он прошел его явно выше и норовил далеко перелететь. Ну, справились. А в Якутске я поймал себя на том, что сажусь-то отлично, но чуть левее оси, может, метр, и пришлось на малой высоте, уже над торцом, микроскопическим кренчиком выйти на ось, зафиксировать положение и уж тогда мягко добрать.
Сравнивая манеру пилотирования, могу сказать, что рулю я по заснеженной и обледеневшей поверхности плавнее, не даю передним колесам сорваться в юз при развороте, помогаю тормозом, останавливаюсь мягче.
А ведь Красоткин видел, что я наблюдаю за его пилотированием, но либо не придал значения, либо у меня и вправду лучше. Зато он проверяет работу радиовысотомера на снижении, а я забываю. Мелкие недоработки есть у всех, но, в общем-то, мы все летаем почти одинаково, согласно Технологии. Слишком узки рамки.
У Хейли[94] я вычитал, как проверяют технику пилотирования на проклятом Западе. Там это обязанность не пилотов-инструкторов, как у нас. Проверяют друг друга сами капитаны. Сегодня он тебя, завтра - ты его. И от своего брата-пилота получить замечание стыднее. Знаешь, что это не барин, вечный проверяющий, тебя порет, а товарищ по оружию. А завтра он будет выслушивать твою оценку.
А у нас господа проверяющие всю жизнь только замечания раздают. Их самих-то проверяют реже, да такие же начальники; а вот если бы я, летающий часто, да так же часто проверял бы своих коллег, это было бы ближе к жизни. А то сколько раз бывало: туда он тебя проверяет, после полета раздает замечания, а назад сам садится на твое кресло, а ты за его спиной на стульчике; глядишь - ан ведь сам обгадился, да не моги ему подсказать.
У всех ли высок уровень самокритичности? Это Слава Солодун – прекрасный летчик - может, где-то чуть допустив шероховатость, виновато так говорить, что вот, мол, там и там не получилось, виноват в том и в том. И не стесняется подчиненных, меня не стесняется. И дело не в том, что я у него вторым летал, дело в требовательности к себе и в желании учить другого на своих ошибках. Это от доброты. У Репина то же - от уязвленного самолюбия, он изноется от стыда перед другим, что пустил пузыря.
А есть люди, крепко усвоившие кондовый аэрофлотский принцип: «ты начальник - я дурак; я начальник - ты дурак». Вчера он летал у тебя вторым, а завтра волею судьбы он уже пилот-инструктор. И уже, невзирая на возраст, с барской интонацией, поучает бывшего своего командира. А послезавтра тебя возвысили до замкомэски. И теперь уже он заискивающе лебезит: «Товарищ командир, разрешите получить замечания». А потом его - в комэски или выше… И тон снова меняется на 180…
Мы ведь все в отряде друг друга знаем. Все летали на Ан-2, а кто еще и на Ли-2, на Ил-14, Як-40, Ил-18, а теперь уже и на Ту-154, Ил-62, Ил-76, - все в одном отряде. Кто у кого вторым был, кто командиром звена, кто комэской, кто инструктором. И очень выделяются те люди, кто за нашивкой теряет человека.
Зато мы и ценим тех людей, кто всегда, независимо от должности, остается самим собой.
Как-то принято у нас старшего по званию называть на «ты», но по отчеству: Петрович, Василич, Михалыч. Мы - товарищи. Старших по возрасту, конечно, на «вы», но дух обращения тот же. Реже, когда уж долгая совместная работа сближает сильнее, зовем по имени: Слава, Миша, Вася. Иной раз бывает, и пошлешь: «Да пошел ты, Миша…» Если по делу - ничего, доходит человеку. Но никогда после таких отношений, даже если стали врагами по какой-то причине, возврата к «вы» не бывает.
Однако случись что, не дай бог, со мной на работе,- мой злейший враг, публично мною обматеренный, первый полетит на помощь и спасет. Работа наша накладывает отпечаток. Потому что наша летная жизнь - настоящая, на хорошей закваске. Мы живем по большому счету, широко, концентрированно, мы дышим вольным воздухом, и всякие земные интриги, как мне кажется, нам чужды.
Может, кому это покажется солдафонской простотой, но, ей-богу, нам близки слова из Песни о Соколе: «Я знаю солнце, я видел небо!».
Не может человек, идущий с открытым забралом навстречу стихии, быть гадом ползучим, выжидающим… Исключения ну очень редки.
Сказал о стихии и вспомнил Ил-14. Для него, действительно, и гроза, и обледенение были стихией, сильной, опасной, которую можно было победить только хитростью, опытом, осторожностью или - дуракам везет? - определенным риском.
В грозу без локатора лезть - сейчас об этом и мысли нет. Но Ан-2, Ли-2 и Ил-14 всю жизнь лезли. Конечно, не в грозовые облака, а на малых высотах, между зарядами дождя, в слоистой облачности, под подошвой грозы. Старые летчики учили: лезь, где темнее, - найдешь дырку. Поворачивай, где сверкает, - там уже больше не сверкнет.
И точно! Лезешь в облака, темно, дрожит самолет, сам оцепенеешь, а лезешь! А как иначе пройти. Как ударит по окнам заряд крупного дождя…
Это надо пережить самому, привыкнуть к такому вот, настоящему, без дураков, небу. И сразу как-то в голове проясняется у того, кто это попробовал. У кого очко сжималось в небе, тот на земную жизнь, с ее суетой, совсем по-другому смотрит.
Сверкнет рядом, бесшумно, - вздрогнешь, пересилишь страх, поворачиваешь туда: там разрядилось. Кажется - слепо, бездумно, рискованно…
Но так мы летали все. Кто не смел, тот уже давно ушел на землю. Но кто отважен, кто лез, кто боролся, - тот знает, как прекрасен мир, когда пробьешься, выскочишь на божий свет, оглянешься и ужаснешься, через что ты пролез, и возрадуешься бытию… а впереди ждет такое же, еще хлеще. Это - жизнь!
Конечно, не вслепую же, закрыв глаза, на рожон лезли. Сначала смотришь, где дыра, где пониже облачные вершины, где пошире пространство, где чутьем, где опытом, где по тени на земле, - это тоже наука. Причем, это наука активного полета, это не по локатору отворачивать в спокойном воздухе. И карты синоптические[95] мы изучали - для себя же, и в типах атмосферных фронтов разбирались, потому что летали не над ними, а в них, родимых.
И ни один самолет на моей памяти не пострадал от грозы.
Так до нас летало поколение стариков, и спасибо им за науку.
Говорят, у нас приборная доска бортинженера не соответствует ГОСТу с точки зрения эргономики. И вроде бы из-за этого приостановлено производство Ту-154М.
Иной раз я резко отзывался о туполевском КБ. Но ведь недостатки оборудования и другие, вскрывшиеся после катастрофы, говорят и о другом. Ведь десять лет эксплуатируются наши машины, и не было прецедента. Значит, надежная машина. А тут слепой случай с разрушением двигателя.
Недостатки, конечно, есть. Падали в свое время и Ил-18, и много, пока не довели до ума. Но такова эта отрасль человеческой деятельности – авиация, - что идет впереди прогресса. И наши беды, и наша боль когда-то же окупятся, подтолкнут к действию; перетрясется, уложится, и, как так и было, ляжет камушком в фундамент. Напишется еще одна строка, примут меры, новое поколение будет исполнять и не задумается, что кровь погибших жива и бережет живых.
А наше дело - помнить о погибших. Человеку легче жить, зная, что его смерть будет не напрасна. Не от водки же, в конце концов, умирать.
Я помню и Шевеля, и Шилака, и Фалькова. Каждый из них - этап, каждый дал мне новый толчок к жизни, каждый открыл глаза на что-то новое. Но каждый и оторвал кусочек сердца.
Может, и я кому-то пригожусь.
Иной раз смерть человека открывает людям не меньше, а иногда и больше, чем жизнь.
1985. Профессионализм
3.03
Разбег занимает 27-30 секунд. С начала разбега до начала первого разворота проходит минута. За это время пилот должен переработать достаточное количество информации и произвести ряд соразмерных и согласованных действий.
Первое с начала разбега: оценить работу двигателей и управляемость, установить самолет в равноускоренном прямолинейном движении строго параллельно оси ВПП. После доклада бортинженера о нормальной работе двигателей слух воспринимает отсчет скорости, шум двигателей, стук передней ноги по стыкам. Надо уметь отключиться от внешней связи: иногда она оглушает, и приходится держать нажатой кнопку СПУ, чтобы расслышать голос штурмана, докладывающего скорость.
Постоянная готовность к прекращению взлета: приняв такое решение, установить малый газ, сразу же обжать полностью тормоза, дать команду «Прекращаем взлет, реверс включить, интерцепторы!» Они здесь играют последнюю роль, главное - остаться на полосе, а тушить здесь - дело десятое.
Рубеж. На больших полосах это обычно и подъем ноги. Здесь все внимание на приборы, особенно тангаж; секунды набора после команды «Убрать шасси» – и сразу же «Выключить и убрать фары». Ждешь толчка передней ноги о замок. Если есть обледенение, команда «Включить ПОС[96] полностью». Если боковой ветер, перед подъемом - педали нейтрально; краем глаза ловишь доворот самолета против ветра и правильность курса по огням БПРМ. Если болтанка, стремишься уйти вверх поскорее. Если по курсу гроза, внимание отвлекается на нее - поневоле. Ночью - все внимание на приборы.
Соответствие угла тангажа вертикальной скорости и темпу нарастания поступательной. Расчет поправки в тангаж в зависимости от роста скорости. Надо не дать разогнаться больше 330-340 до высоты 120-150 м.
Уборка механизации. Команда «Закрылки 15», взгляд на скорость: дать ей нарасти до 350-360. Доклад штурмана о правильности уборки закрылков и перекладки стабилизатора. Команда «Убрать полностью». Сразу штурвал на себя: предупредить рост скорости до предельной по уборке предкрылков. Взгляд распределяется на скорость, тангаж и табло предкрылков; иногда хватает внимания взглянуть на закрылки и стабилизатор. Вариометр в поле зрения, но косвенно.
Погасает табло предкрылков, скорость 450, теперь внимание на высоту: пора первый разворот, но - с креном не более 12 до высоты 250 м.
Доклад о взлете, условия набора и доклад об уборке механизации обычно совпадают. Тут же - контроль синхронности работы авиагоризонтов; я это делаю сам. В процессе разворота внимание занято креном, курсом, усилиями на штурвале и их триммированием, разгоном скорости до 550 к концу разворота, связью, - и обычно упускаешь высоту 450, где надо установить двигателям номинал. Об этом всегда напомнит хороший бортинженер.
Первый этап взлета закончен. И вот если в это время откажет двигатель, то внимания на все может не хватить. В этом случае целесообразно передать управление второму пилоту. И не забывать, что отказ двигателя на взлете - это резкая потеря 10 тонн тяги. Значит, первое - штурвал от себя, обеспечить скорость, а уж потом можно выключать. К этому мы не готовы. И не готовы в первоначальном наборе вообще к любому отказу. Внимание слишком занято нормальной работой. В этом сложность и опасность взлета.
Иногда на взлете мешают птицы. Бежишь и следишь за летающими над дальним торцом воронами, ожидая, что вот-вот поймаешь. Бывало.
У меня с птичками было несколько встреч, к счастью, благополучных. Для меня. Как-то, взлетая в Богучанах, поймали мы на Ил-14 стаю скворцов, уже на скорости 250, после уборки шасси. Второй пилот Гена Казакевич нырнул под приборную доску; мне прятаться было некуда, сжался в комок, и словно из пулемета ударило по носу. Один попал точно в правое лобовое стекло: только желтое пятно от него осталось. После посадки мы насчитали одиннадцать пятен на носу и центроплане.
Правда, для Ил-14 птицы не так опасны, как для реактивных машин, потому что попадание птицы в поршневой двигатель редко приводит к его отказу, а вот труба реактивного двигателя засасывает птицу, даже летящую чуть сбоку. Не те скорости потока, не те бешеные обороты обнаженных, нежных лопаток компрессора.
На Ан-2 столкнулся с орлом, сам виноват; обошлось.
Вот такие птички.
Про птичек я писал в самолете, летя из Москвы и отдыхая, т.к. Кузьма Григорьевич проверял обратно Лешу.
В Москву нас подняли из резерва вместо Ил-62, и мы с удовольствием полетели. По каким-то эскадрильным соображениям у меня заменили сразу штурмана и бортинженера; в таком случае полагается проверяющий, и полетел с нами Рульков.
Кузьма Григорьевич начинал в 50-м году еще на По-2, прошел все типы, от Ан-2 до Ту-154, Заслуженный Пилот СССР. У нас в эскадрилье он пилот-инструктор, долетывает последние месяцы до ухода на пенсию. Естественно, осторожен. Эдакий добротно-крестьянский подход: тише едешь - дальше будешь. Сделал мне замечание за быстрое руление по перрону.
Слетал я нормально, но на снижении в Московской зоне почему-то и штурман, и Рульков торопили меня с потерей высоты: мол, заход с прямой, давай скорее, а то не успеем снизиться. В результате потом мы тянули 7 км на прямой на режиме.
Конечно, запас нужен, но я бы вполне вписался и без понуканий.
Перед торцом показалось, что скорость великовата, убрал пару процентов, сел с чуть заметным толчком. Подозреваю, что это результат излишней уборки газа, но все в голос сказали, что над торцом скорость была нормальная. Значит, сам чуть выше выровнял и сронил машину.
На обратном пути от нечего делать сидел в салоне и писал о птичках. А последний час крепко спал, несмотря на то, что перед вылетом мы со штурманом проспали по 5 часов.
Сижу сейчас в Симферополе. Вчера добрались сюда почти без приключений. В Оренбурге нас предупредили, что в Краснодаре нет топлива. Чтобы не садиться где-то на дозаправку, решили залить максимально возможное количество топлива: авось хватит до Симферополя. Подхимичили с остатком, с расчетами, с загрузкой, урезали, что можно, чтобы и не нарушить, и дело сделать.
Основной упор делался на фиговый листок разрешения садиться с весом 80 т, если в полете удалось сэкономить топливо . Это разрешение существует недавно, после катастрофы Шилака. Но в расчетах ориентироваться надо все равно на 78 т, согласно РЛЭ.
Ну, да за три года еще никого на этом не поймали, и наше летное начальство взяло на себя ответственность: на Норильск уже и в расчетах брать посадочный вес 80 тонн. А Андреев прямо на разборе намекнул: вам, мол, дали такую лазейку, а вы не пользуетесь…
Вот мы и использовали ее. Сели в Краснодаре с посадочной массой 79,8 т, осталось 13 т, чего вполне хватало до Симферополя.
Нас, дураков, похвалили, что мы привезли свое топливо, дали еще тонну с барского плеча: в Симферополе прогнозировался туманчик. Короче, они свое топливо имеют, но берегут.
Когда мы выруливали из Оренбурга, на полосе перед нами застрял борт, доложив, что на ВПП какие-то предметы. Двадцать минут РП[97] на машине собирал эти предметы, потом выпустили тот борт и нас за ним. А при подлете к Краснодару нас спросили, в порядке ли левая нога. Оказывается, Оренбург вдогонку за нами дал РД[98], что мы, мол, левой ногой раздавили фонарь, осмотреть колеса.
После посадки, естественно, нога оказалась цела, без каких-либо следов наезда на фонарь. Да и я пока еще в своем уме и рулить вроде умею. Но пришлось давать устное объяснение в АДП. По прилету в Симферополь я со сменным экипажем передал привет оренбургскому руководителю полетов, чтобы соображал, кто за кем рулил, и не путал честных людей.
По полетам все нормально, без замечаний.
9.03
Из Симферополя вылетели с задержкой на 12 часов. Какой-то узбекский борт застрял на полосе в Краснодаре: не смог развернуться и вызвал тягач. И тягали его полсуток, потому что техника буксовала на льду, которым покрыты обочины - кто их чистил когда. Так что по червонцу праздничных он у нас отобрал, т.к. последние два часа полета были уже сегодня утром, а это уже будни.
Опять Краснодар не заправлял, и мы решили по возможности залить побольше топлива в Симферополе. Возможность эту мы изыскали. Пока Леша уговаривал перевозки не искать на складе и не грузить нам груз (а пассажиров было всего 60 чел. - около 6 тонн), Валера заливал то, что требовалось до Краснодара по расчету. Я тем временем подключился к Леше, и мы в два смычка уговорили диспетчера на эти 6 тонн загрузки. Как только договоренность была достигнута, я пошел в АДП просить дозаправку, а Леша помчался на стоянку сообщить Валере, сколько же действительно нужно заправить. Топливозаправщик еще не отошел, и они с Валерой сразу выписали 24 тонны топлива.
Пока я ждал точную загрузку и предварительно консультировался на метео, как погода, чтобы, пока заправка еще идет, подсчитать, может, удастся еще с полтонны втиснуть, Миша рассчитал топливо от Симферополя до Оренбурга. Получилось 26 тонн; сожжем 6, останется в Краснодаре 20: до Оренбурга 14, до запасного 6.
Тут перевозки подсчитали загрузку: даже меньше шести тонн. Пришел Леша, прикинули, можно залить еще пару тонн керосинцу. Он опять побежал, чтобы успеть, пока не отъехал заправщик. Да на бегу прикинул и добавил для гарантии еще тонну, как оказалось потом, уже и лишнюю.
Тем временем в перевозки зашел начальственного вида человек с гербовыми пуговицами, видимо, сменный начальник аэропорта. Поинтересовался нашей загрузкой, свистнул и нажал на склад. Произошел интересный разговор о государственных интересах.
Ага, за мой счет. Я привел ему свои аргументы: перелет на дозаправку куда-нибудь в Грозный, нехватка рабочего времени и ночевка на 12 часов в Оренбурге.
Но так как государственные интересы человека с гербовыми пуговицами не распространялись за пределы его родного порта, упираясь в показатели отправки груза, от чего зависели его премиальные, то мои доводы - что люди не виноваты, а придется ведь им толкаться ночь на ногах в Оренбурге, - не имели успеха.
Да и сам я чувствовал некоторую шаткость моей позиции: ведь не воздух же и не топливо надо возить… ведь мы, в конце концов, о своей шкуре тоже думали.
Тут человеку с гербовыми пуговицами подсказали, что самолет уже заправлен под завязку, а сливать топливо, да еще когда уже объявлена посадка, - дело многочасовое и неблагодарное, в праздник-то 8 Марта. Он очень рассердился и пообещал показать всей смене «праздничные». Я под шумок схватил свои бумажки и удрал в штурманскую, весьма довольный своей предприимчивостью.
Экипаж сработал оперативно. Только вот горько, что в своем отечестве мы используем свои деловые качества во вред интересам отечества. Не знаю, горько ли тому, по чьей вине Краснодар упорно заставляет нас вредить: возить вместо загрузки керосин. И болит ли голова у конструкторов о самолете, который сочетал бы полные баки с полной загрузкой. Мы, пилоты, об этом всегда мечтаем. Да только если полностью заправить в баки «Тушки» без малого сорок тонн топлива, то сможем поднять лишь около пяти тонн загрузки.
Зато в Краснодар мы гордо привезли остаток 20 тонн. Не высаживая пассажиров, догрузились и помчались в Оренбург, а оттуда быстренько домой.
Нет, надо было-таки слить топливо в Симферополе и найти лишнюю тонну груза… гербовым пуговицам на премию.
Дома заходил я: обещали болтанку и боковой ветер. Хотел сперва заходить с закрылками на 28, но по характеру болтанки рискнул на 45, и все обошлось нормально. Сдвиг ветра был с высоты 100 м, но я справился и посадил очень мягко. Фары на этой машине светят в разные стороны, а перед носом темно; пришлось ориентироваться по радиовысотомеру. На высоте два метра мне удалось заставить машину замереть - это на скорости за 250, - замереть и чуть-чуть добрать штурвал… и покатились.
15.03
Сидим в Ташкенте третий день. У нас здесь смена из-за тренажера. Получается, за три дня налет 6 часов, но раз в квартал приходится потерпеть. Можно представить, с каким нетерпением ждут экипажи вожделенный Ташкент. Тренажер? Ага, щас. Рынок! Дыни! Виноград! И т.п.
Сегодня вместо «Ту» прилетел Ил-62: много пассажиров скопилось. Он пришел и ушел с разворотом, а нам снова два дня сидеть. Такова судьба. На рынок поедем, когда точно узнаем, что идет рейс, и именно «Тушка».
Итак, первый раз на тренажере в составе нового экипажа. Сколько передумано после катастрофы, сколько раз проиграно в мыслях. Как сработаем мы в аварийной ситуации, не растеряемся ли, справимся ли с обилием информации?
Инструктор нам заранее рассказал программу полета. На 8600 нас поджигают, потом отказывают насосы, двигатели, генераторы. Мы должны на снижении в районе аэродрома запустить ВСУ, чтобы обеспечить себя энергией для питания приборов и насосных станций, и сесть на аэродром с тремя отказавшими двигателями.
Общее впечатление таково. Как ни готовься - ситуация развивается так быстро, события так наваливаются одно за другим, что не успеваешь принять решение.
Заранее договорившись, что пилотировать будет Леша, я все равно не мог оторваться от приборов и контролировать действия бортинженера. Леша пилотировал, экстренно снижался, а я лихорадочно соображал, за что хвататься. Пожар погасили, но надо было срочно запускать ВСУ. Пока морочились с пожаром, я прикидывал, где мы, сколько до полосы, хватит ли расстояния, чтобы успеть потерять высоту, - ведь мы были на 8600 на третьем развороте. Почему-то главное казалось - потерять высоту, и я этим так увлекся, что забыл, что уже можно запустить ВСУ, что можно попытаться запустить хотя бы один двигатель - ведь горел-то лишь один, остальные остановились из-за неисправности с насосами.
Короче, попытки запуска двигателя не удались, а ВСУ таки запустили.
Тут сработала втемяшившаяся мне еще два месяца назад мысль: интерцепторы для уточнения глиссады! Дал команду включить насосную 2-й гидросистемы и подключить ее на первую.
Кто убирал интерцепторы во время площадки при запуске ВСУ, не помню. Но уже высота была 1500, а удаление 11 (Леша и Миша все же тянули на полосу!); я начал кое-что соображать и понял, что так мы не долетим. Стал экономить вертикальную, вывел машину на большие углы атаки, и так, на скорости 320, экономя снижение, потихоньку тянули.
Показалась полоса, явно близко, явный перелет, дальний прошли выше метров на сто, но вертикальная-то метров 8, и через какие-то секунды уже видно, что дай бог дотянуть; потом сомнение: нет, идем хорошо, чуть с запасом. Ближний выше метров на 20; тут я не выдержал и одновременно с энергичным S-образным доворотом на ось полосы выпустил интерцепторы, тут же убрал их и стал заранее гасить вертикальную скорость, одновременно поняв, что падаем по диагонали справа налево, но - на полосу! Что-то еще подправлял, с 15 метров потянул на себя… удар, грохот, полоса ушла вниз, кажется, метров на 20; стал исправлять… Короче, в жизни так не бывает, да и инструктор подсказал, чтобы отдал штурвал от себя: так у них в систему заложено.
Короче, на полосу попали и не выкатились.
Но вывод однозначен: побочные действия отбирают у командира все резервы для принятия своевременного решения. Расчет высоты по удалению вести невозможно из-за нерасчетной вертикальной скорости: гашение вертикальной, чтобы выполнить площадку для запуска ВСУ и попыток запуска двигателей, противоречит стремлению поскорее снизиться, да и мысли нет о том, чтобы тянуть, экономить высоту.
Слишком сложно все это. Был бы Як-40 - ясно, плюнь на все, установи расчетную скорость, по фактической вертикальной веди расчет дальности планирования и уточняй его.
А здесь не знаешь, за что хвататься. Плюнуть на все и снижаться, как на Як-40, не позволяет РЛЭ. Выполнить все его рекомендации невозможно, разве что получить в свое распоряжение тренажер (а лучше самолет) на месяц – и день в день отрабатывать варианты. Мы не летчики-испытатели, а Руководство наше, видать, писали они, а также посторонние тети Маши, потому что иные положения РЛЭ не лезут ни в какие ворота.
Мы, конечно, сели на полосу. Но это самообман. Земля вовремя подсказала (и не диспетчер, который в аварийной ситуации перепуган не меньше экипажа, а инструктор, видевший именно на этом агрегате десятки ошибок и умеющий их предвидеть) - что мы слишком резво снижаемся. А так бы мы упали где-то в районе дальнего привода, в 4-х километрах от полосы.
Самообман и то, что командир сможет контролировать работу бортинженера. Не успеет. Инженеры у нас только и ждут команды, и тут же моментально они выполняют все свои операции, чем скорее, тем, значит, лучше подготовлен.
А, допустим, в наборе высоты мне некогда будет говорить «Стоп, ребята!». Я буду занят сохранением скорости и управляемости. И волей-неволей остается дать команду «Туши пожар». А там уже как бог даст инженеру правильно все выполнить. Да и штурман сидит между нами, ему некуда и некогда отклониться, чтобы я видел пульт бортинженера. Штурман сам занят не меньше меня.
Стали запускать двигатели на земле, инструктор сделал нам пожар ВСУ. Но так как лампы-кнопки пожара стоят в ряд, то Валера благополучно доложил мне: «Пожар 1-го двигателя». Кнопка ВСУ стоит первой в ряду - вот нестандартный, идиотский пульт! И вот результат. И пока земля не подсказала, мы тушили исправный двигатель. Как это просто.
Неужели конструктору непонятна примитивная логика: первый двигатель, второй двигатель, третий двигатель, а за ними уже четвертый двигатель - вспомогательная силовая установка, ВСУ. Ведь что главнее - мотор или вспомогательный агрегат? Слева направо?
Ага, а если самолет будет пилотировать араб? У них справа налево.
Взлетели; подпалили нам двигатель, и стали мы выполнять стандартный разворот с обратным курсом. Очень, очень долго он выполняется. Пожар погас, а мы все еще заходили. Договор был, что если не сработает визуальная индикация полосы, то ничего не получится. Ну, решили попробовать. Действительно, не получилось: метров с 80 я понял, что полосы-то перед нами нет, и с сорока метров попытался уйти на второй круг, но решение об этом принял поздно, отягощенный мыслью, что пожар же, надо садиться. Потом понял, что пожар-то потушен, можно и нужно уходить, но было уже поздно… удар… Но я дал газы и потянул на себя. Еще удар - ушли! Инструктор, не ожидавший такой прыти, приказал поставить малый газ и садиться. Он тоже виноват: сказал бы на ВПР, что с индикацией не получается, мы бы сели вслепую.
Потом были еще отказы, пожары. Облетали схемы Львова и Камчатки, под конец еще раз нас подожгли, а второй двигатель пришлось выключить по признакам отказа; зашли и сели на одном. Все нормально. Здесь мы уже ориентируемся.
На пробеге в Камчатке, когда уже был выключен реверс, инструктор ввел отказ 1-й гидросистемы, от которой работают тормоза. Я себе торможу, Миша докладывает, что осталось 500 м полосы, а она все катится. Я понял, в чем дело, схватил аварийные тормоза, доложил. А Валера, думая, что уже все, игрушки окончены, решил, что так и надо, не доложил и не принял мер, за что и был выпорот, и правильно. Для полноты впечатления инструктор тихонько выкатил нас за полосу, в лес, несмотря на мое отчаянное аварийное торможение. Ну, бог с ним.
Завтра, если будет работать тренажер, сходим еще раз. Надо использовать вынужденное сидение.
Поехал в город, поймал на рынке «Божественную комедию» Данте, я давно мечтал. И четырехтомник Джека Лондона для Оксаны.
Вспоминаю тренажер и наш заход на трех авторотирующих двигателях. Какие же мы профессионалы, если едва справляемся в сложной ситуации? Очень трудно - а это же еще не в воздухе. Ну, да курочка по зернышку клюет…
Я вот неоднократно сиживал над Руководством и выскреб, что там слишком много данных надо переварить. Давай я упрощать, чтобы и не нарушить, и была существенная зацепка в памяти.
К примеру: для запуска двигателя в полете даются свои разные скорости на разных высотах; для запуска ВСУ - свои скорости, тоже отличаются. Понятно, это делается для того, чтобы энергия потока помогала наиболее эффективно раскручивать ротор. Но много цифр, много… И я из всех этих допусков и диапазонов выбрал одну скорость, которая годится и для запуска двигателя на всех высотах, и для запуска ВСУ. Это простая цифра – 500 км/час. Запоминается легко. И какой же я молодец: как раз когда мы сыпались с тремя авторотирующими и думать было абсолютно некогда, всплыла в памяти одна эта цифра: 500.
Инструктор потом спросил, почему я запускал двигатель именно на 500, когда можно на 475-550. И я так ему и ответил, что сам выбрал эту скорость как наиболее запоминающуюся. Он меня понял.
Посторонний человек скажет: подумаешь, одну цифру запомнил. А я, пилот, отвечу: полетай, узнаешь.
Я думаю, рабочий на конвейере меня поймет. Время идет, конвейер не остановишь, надо подлаживаться. Из таких вот мелочей вырастает мастерство.
Как много людей у нас живут как трава. Цивилизованные, интеллектуально гораздо выше, чем даже 20 лет назад, они совсем не думают о деле. Или думают примерно так: не горит, пойду перекурю, видно будет. Сегодня не кончим - завтра кончим.
Я таких людей жалею и немножко презираю. У нас - горит, горит всегда.
Почему у нас так много равнодушных? Что толкает человека бежать от беспокойства жизни, замкнуться в себе, забыться в алкоголе?
На мой взгляд, два фактора: сытая жизнь и излишек информации.
Если бы жрать было нечего, все бы мотались.
Жить стало хорошо. Работаешь, не работаешь - а денежки идут. Худо-бедно, с голоду не помрешь. Даже слишком много развелось толстяков. И зачем мотаться.
Зато много информации. Газеты, телевизор, книги, радио, кино, электробритва…
Культура, политика, политика, политика, спорт, общественная жизнь, моды, хобби, реформа школы, - все надо знать. Долбят, долбят, долбят, вбивают, вбивают, вбивают, одно да потому. Оба канала телевидения ничем не отличаются. Знать, знать, знать, учить, учить, зубрить. Висит, висит, висит…
И человек устает. И бежит от этого. Плюет на все. Наш век, наш век - пожалуй, да, наш век давит на человека.
При капитализме - никуда не денешься, надо бороться, побеждает сильнейший, слабый погибает. Там - наркомания, алкоголь, преступность, проституция, страх, депрессия, безысходность.
А при социализме? Кого бояться? Кто заставляет бороться? Да некого бояться. Стой себе в строю. А бороться - зачем? И так проживем. Водочки попьем. Партия думает за нас.
Вот и вся философия. Говорильни много, а реальная жизнь другая. Бытие определяет сознание.
Надо, чтобы людям неуютно, невыгодно было отсиживаться, чтобы невыгодно было пить, прогуливать, чтобы страшно было бичевать по подвалам, тунеядствовать. Надо чтобы дети как огня боялись заразиться ленью, водкой, недисциплинированностью, тунеядством, безответственностью. Именно боялись заразиться, как проказой.
И наоборот, надо чтобы было выгодно, увлекательно, - урвать побольше работы, сделать покачественнее, а на людях чтобы за это не уставали хвалить и материально поощрять. Чтобы дети с малых лет видели отца и мать на Доске почета и за руку ходили бы с ними в кассу посмотреть, сколько отец получает за свой труд.
Да поменьше бы болтали сверху донизу.
25.03
Сегодня летим в Москву. Начинается гнилостный период: непогода, запасных нет, 100 тонн не проходит… Ну, судьба наша такая.
После пяти суток сидения в Ташкенте дали нам неделю отдыха. Я прихварывал немного: душил кашель по ночам. Немного подлечился, навел порядок в гараже, сделал трубу к буржуйке. Съездил на дачу, день шевелился хорошо. Слава богу, зима кончилась. В общем, за недельку я хорошо отдохнул, начал двигаться. Думаю, после этого рейса дадут еще резерв, ну, два. Съезжу еще на дачу, там такая тишина… Люблю работать один.
За недельку соскучился и по штурвалу. Хорошо ехать на работу и гадать, какая машина попадется. Есть любимые, есть так себе, а 124-ю, 138-ю и 324-ю мы клянем. Первые две с ограничениями по скоростям, а последняя падает на посадке, надо скорость держать побольше.
Приятно сесть в кресло, подогнать по себе ремни, положить руки на штурвал с ободранной и вытертой краской, ощупать кнопки и гашетки на нем, потаскать органы управления, подогнать педали. Наверно так токарю приятно браться за отполированные его руками рукоятки и маховички родного станка.
Солнце будет с моей стороны всю дорогу. Земля в дымке: весна, все парит, первая кучевка далеко внизу… От Урала, как всегда, начнутся облака, земля скроется. В Домодедово сложный заход… Ну, не будем гадать.
Отдыхаю душой. Все хорошо. Спокойно. Тревоги ушли вглубь. Время все лечит.
29.03
В Москву слетали нормально. Проверяющим опять был Камышев. Замечаний нет, но посадки обе у меня получились не на 6, а на 5. В Москве он почему-то зажал управление, и я был скован. Акселерометр зафиксировал 1,3: видимо, я чуть выше выровнял и сронил.
Дома был ветерок, заход под шторкой. Геронтий Петрович уже не так жестко держал штурвал, но чувствовалось. Тоже перегрузка 1,3, но это, скорее, от болтанки на кругу. Но оба раза сел точно на ось.
В Москве красиво взлетел: все как в кино - все параметры и пилотирование. Редко бывает такое удовлетворение взлетом. Машина попалась удачная, устойчивая; от этого многое зависит.
Из газет узнал подробности горьковского случая. Взлетал «Туполенок», на высоте 300 м отказ и пожар первого двигателя. Условия не позволяли развернуться на 180 градусов и сесть (объяснил, что отвернули от города), пришлось делать круг, летали 9 минут. Сигнализация пожара не отключалась до земли, табло горело, несмотря на включение трех очередей в мотогондолу и двух - в двигатель. Оказалось - замыкание из-за обгорания изоляции при пожаре. Двигатель таки разрушился, второй случай после Минска.
Кстати, Витя Колтыгин говорил, что где-то слышал, что в Минске один разрушился, а второй запомпажировал, видимо, из-за попадания льда в газовоздушный тракт (у них нет обогрева заборников и ВНА - а было сильное обледенение). И ребятам пришлось садиться прямо перед собой.
Ну, а в Горьком - победа. В газетах хвалебные оды, ордена… Жаль только, что мы, летчики, узнаем о событии из газет, и то, спустя полтора месяца. Как и о том Як-40.
3.04
Идут занятия к весенне-летней навигации. Мероприятие обязательное и непременное - еще со времен По-2. Тогда была необходимость теоретически и практически готовить пилотов к переходу с лыж на колеса и наоборот. Нужно было повторять особенности полетов в осенне-зимний или весенне-летний период, психологически настраиваться: после снега - на грозы или же после жары - на обледенение.
Сейчас это выродилось в формальное бюрократическое тупое напоминание: поучимся, вспомним, поделимся опытом.
Учиться, конечно же, надо, но не так же… Жуем одно и то же десятилетиями. Синоптик читает надоевшие стадии развития грозового облака, набивший оскомину сдвиг ветра, дает давно всем известные рекомендации. Инженер рассказывает, какими ручками и кнопками управляется автопилот. Все это мы знаем, ничего нового не дают эти лекции. Вот и сидят все, пишут индивидуальные задания, - это единственное полезное дело, от которого есть видимый толк. Кто читает, кто тихо беседует. С обеда в задних рядах уже и под хмельком - пивбар-то рядом.
И так четыре дня. Иногда проскользнет свежая мысль, тогда все отрываются от книг и газет, но, уловив суть, тут же опускают глаза. На конференции старики делятся опытом, рассказывают давно всем известные случаи. С докладами на животрепещущие темы выступают самые грамотные на данный момент - командиры-стажеры. Им по статусу положено.
Скучное обязательное партсобрание с избитой повесткой: задачи парторганизации в предстоящий период. Говорится ни о чем. Штатные говорильщики толкут воду в ступе.
Ну, знаю я свои задачи. Командирам усилить требовательность, повысить бдительность, настроить экипажи на работу, экономию, производительность, дисциплину.
Организация наша собирается вместе два раза в год, вот на этих занятиях. Все остальное время мы в полетах, такова специфика. Тут все на самостоятельной работе экипажа. На его сознательности, требовательности к себе, дисциплинированности. Если же возникает необходимость собрать парторганизацию между сроками занятий, кворума никогда нет, собрания проводят обычно в два этапа. Толку от них ноль.
Ни одно из решений наших не осуществляется, поэтому мы молчим. Да и о чем говорить, что решать-то? Решим ли мы вопрос с любой неувязкой в работе? С полосой, системой посадки, ангаром? С перебоями в поставке топлива? С отсутствием исправных машин?
Все решает начальство. У нас Устав. С нашим мнением не считаются. Если до сих пор в крайкоме не решат вопрос, делить ли парторганизацию двух отрядов - Красноярского и Емельяновского - или оставить единой… Пока один партком. Он в городе. Какое уж тут партийное руководство - на два фронта. Да еще, вот-вот, года через два, может, объединимся вновь, у нас, в новом порту.
В книжках часто пишут о силе парторганизации. А в жизни оно немного не так.
Но оттого, что наша партийная организация слаба, разобщена, формальна и бездеятельна, я ни сам хуже не стану, ни работать хуже не буду. На своем месте, в небе, я отдаю все, что умею, и если бы в Аэрофлоте все работали хотя бы так, как мой экипаж, то многое бы изменилось к лучшему.
Другое дело, что коммунист должен быть маяком и вести за собой. Так у нас - все коммунисты, все маяки, все ведут за собой. Такова специфика: пилот должен быть коммунистом. Иначе как же… И партия должна быть довольна нами: мы все на виду и в узде, а уж о партвзносах и говорить нечего.
Но мы не сплоченный отряд. Мы свое дело делаем в одиночку: экипаж и стихия. И в небе партия ни при чем.
5.04
Затронули вопрос о заходе в болтанку с закрылками на 28. Начал его Кирьян, а раздражаю его я. Дело в том, что РЛЭ не запрещает заход с закрылками, выпущенными на 28 градусов, даже рекомендует в некоторых случаях: например, если не позволяет центровка, или с одним отказавшим двигателем, когда высокая температура не позволяет уйти на второй круг с закрылками на 45. Но не оговорено нигде, ни что заход на 28 является особым случаем полета, ни что это нормальный заход. Кирьян на последнее и упирает. А я отстаиваю свое убеждение. По всем юридическим правилам, если в документе что-либо не запрещается, то автоматически подразумевается, что это разрешено.
У нас РЛЭ и так разбухшее, пять килограмм фолиант, на всякий чих не наздравствуешься, поэтому и не оговорили, что заход с закрылками на 28 разрешен как нормальный, обычный заход, а просто поместили его в раздел «Нормальная эксплуатация». Это раз.
Второе: в болтанку мы вынуждены, согласно РЛЭ, увеличить скорость на глиссаде на 10-15 км/час. Если посадочная масса 78-80 т, то скорость эта, с учетом увеличения при болтанке, достигает 280 км/час. А предел по прочности закрылков, выпущенных на 45 градусов, - 300 м/час. Свободный диапазон всего 20 км/час, а в болтанку скорость прыгает плюс-минус 30 и более - за секунду! А у нас ведь есть машины с ограничением по прочности закрылков, выпущенных на 45, - не более 280 км/час. То есть: диапазона вообще нет. Посадить бы того летчика-испытателя, который давал «добро» на такой диапазон, - вот посадить бы его за штурвал такой машины и заставить возить людей изо дня в день, а не балласт в фюзеляже… И пусть в болтанку выдержит эту единственную скорость 280 - без «плюс-минус».
Предел же по прочности закрылков, выпущенных на 28 градусов, - 360 км/час. В то время как на глиссаде мы будем держать те же 280 км/час. Запас - 70 км/час!
Причем, посадка абсолютно ничем не отличается от обычной. Ну, пробег увеличивается на 100-200 метров.
У нас аэродром особый. Болтанка на нем постоянна, чуть лишь поднимется ветер. Долго, очень долго выбирали это место… И выбрали. Ну, да теперь «Бачили, бiсовi очi, що купували, - тепер йiжте, хоч повилазьте».
Кирьян рекомендует, вполне серьезно, в случаях болтанки на ограниченной машине уходить на запасной. Но запасной у нас - Абакан, а там горы повыше наших и болтанка, иной раз, похлеще. Кроме того, уйди я на запасной и скажи в эфир, что ухожу из-за сильной болтанки, руководитель полетов обязан угнать всех: заход на посадку в сильную болтанку запрещен.
И третье, самое главное: это не государственный подход. Командир эскадрильи хочет себя обезопасить на все случаи жизни, на любое «мало ли что». И цена этой безопасности его задницы - уходы на запасной, море сожженного топлива, ресурса машин, тысячи разрушенных встреч, перегрузка запасных портов. Смех сказать, сколько тогда сидеть на запасном, если дует целый день.
И в то же время, в машину заложены большие возможности. Одним нажатием рукоятки устраняются все проблемы. Но нет буквы. Нет рекомендаций.
Я, конечно, не могу рекомендовать своему непосредственному начальнику. Но и наказать меня за заход с закрылками на 28 он не сможет: тоже нет буквы. Просто у меня будут неприятности. И тогда я пойду к командиру летного отряда и в партком.
Мало ли таких вот тормозов в нашем народном хозяйстве? Поистине, кто не хочет делать, ищет причину.
Не тема ли это для партсобрания? Если дойдет до конфликта - то тема. А пока командир настраивает эскадрилью не заходить с закрылками на 28. Правда, в кулуарах командиры реагируют на это по-пролетарски: мол, шиш тебе. Надоел он всем.
Дело еще и в том, что комиссия приняла решение и сделала выводы по катастрофе Фалькова. Первопричина - превышение в 6 раз содержания углерода в металле колеса первой ступени компрессора, приведшее к его разрушению. Но причина потери управляемости - то, что экипаж не перекрыл пожарные краны, и пожар с 3-го двигателя распространился на 2-й, а также на отсек гидросистем. Отсюда выводы. Все ждут перетряски. И командир летного отряда Володя Медведев, довольно энергично взлетевший в это кресло, сам ждет перемен в своей судьбе. Пожалуй, ему сейчас не до моих проблем. И парткому сейчас не до меня.
Поэтому я сам как принял решение заходить в болтанку на 28, так и буду поступать: кто-то же должен брать на себя.
А в том, что это безопасно, нет сомнений: ведь по условиям центровки и РЛЭ разрешает заход с закрылками на 28, а по условиям болтанки, когда налицо опасность по прочности с закрылками на 45, сам бог велел заходить на 28. Просто недодумали составители РЛЭ. Жизнь сама расставит все по своим местам.
А научил меня этому Солодун, он первый начал применять эту конфигурацию.
12.04
Вчера прилетели из Москвы. Нормальный, хороший полет. Я взлетал и садился дома, и оба раза удалось все… кроме, разве, самой посадки: 1,3. Сделал все как обычно, но не унюхал. Может, что в сумерках, - садились рано утром, с фарами, хотя было уже довольно светло. Это самое трудное время; но мне должно быть всегда одинаково.
Зато заход удался: как убрал газ на эшелоне, так до четвертого разворота и не добавлял. Самый рациональный заход.
Сегодня летим в Ростов. Сейчас день, предполетный отдых. Сделал новый скворечник, повесил на балконе, уже две пары вынюхивают, но что-то медлят. Жизнь идет своим чередом.
14.04
В Ростове. Добрались хорошо, сэкономили тонны три топлива. Отдохнули, сейчас до вылета еще остается несколько часов, спать еще рано, а засасывает… не вовремя. Настроил себя писать, нашел пустую комнату.
Настраивался на почве прочтенной только что вступительной статьи к роману Чернышевского «Что делать?» Там было сказано о диалектическом подходе, о развитии характеров и т.п. Меня задело: а как я развивал свои профессиональные навыки? И параллельно: а не съезжаю ли на позицию эдакого мэтра? Отнюдь, нет. Хватает недостатков. Но ведь и достоинств хватает.
Вспомнил училище. Так нелюбимая иными аэродинамика пришлась мне по душе. С удовольствием чертил я параллелограммы сил, управляющих полетом, разбирал моменты: кабрирующий, пикирующий, кренящий, разворачивающий, - и постепенно прояснялась картина полета. Все сводилось к соотношению четырех основных сил: подъемной, веса, тяги и лобового сопротивления. Формулы были просты и наглядны; набором одних и тех же формул объяснялось то или иное явление полета. Макеты и диаграммы оживали на глазах, и постепенно вырабатывалась уверенность, возникало желание попробовать на практике то, что давала и объясняла теория.
Конечно, на планере у нас тоже была какая-то теория, но это было дилетантское, спортклубовское ознакомление для общего понятия. А здесь все давалось профессионально. Открывался мир закрылков и предкрылков, их значение в жизни; живые примеры дополняли картину, и как-то казалось, что мы как будто и раньше жили в этом материальном мире полета.
Никаких не было заумных понятий, и ничего не объяснялось оторванным от жизни абстрактным языком: «Это так потому, что… интеграл».
Язык преподавателей, в основном, старых пилотов, был примерно таков: «Эта сила тянет вверх - значит, вокруг центра тяжести момент… какой? Правильно. А парирует его момент от руля, его надо отклонить… куда? Вот сюда. Тогда здесь тянет вниз. А от чего зависит момент руля? Вот плечо. Оно зависит от того и этого. А на плече сила: зависит от скорости, плотности, площади… Значит, чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо… либо скорость, либо площадь, либо угол. В жару - хуже, потому что плотность меньше, жидкий воздух. А вот пример из жизни: был случай, я еще тогда на По-2 летал…»
Не было лишних слов, сложных ассоциаций, абстрактных понятий, - все конкретно, «и скоро сделаете это своими руками».
Так по крупицам нам передавался опыт старших поколений, осмысленный, переработанный учеными для простого и наглядного теоретического обоснования, доступного пониманию человека, окончившего десятилетку. И все было от жизни и для жизни. Называлось это «теория полета».
Побольше бы в реальной жизни таких вот жизненных, практических теорий.
Вот здесь мне открылось понимание искусства доводить описание любого сложного процесса до понятия «на пальцах». Как скульптор отсекает лишнее, чтобы обнажить самую суть. Я стал учиться этому, помогая товарищам на самоподготовке, иной раз повторяя всю лекцию преподавателя своими словами.
Хорошо теоретически подкованный, я доверял руководствам и другим практическим книгам, по которым учились мы летать. И всегда старался осмыслить. Спорил сам с собой и с учебником, и пока не уяснял все и не уверялся прочно, что так и только так верно, - не успокаивался.
Я и сейчас иной раз спорю с Руководством по летной эксплуатации, но уже с иных позиций. Теперь у меня есть опыт, знания, а главное - практика. Недоговоренность и даже фальшь в руководящих документах бьют в глаза сразу (а таких моментов, честно говоря, хватает). А главное - я твердо убежден, что РЛЭ хоть и составляют профессионалы, но всего сразу предвидеть нельзя. Так и с любым жизненным документом: жизнь его все время подправляет. Мы, линейные пилоты, налетавшие на этом типе тысячи часов, имеем право не соглашаться с некоторыми выводами летчиков-испытателей, налетавших на нем во много раз меньше, в других условиях, в другой атмосфере, - и десять лет назад.
Иногда текущие изменения в Руководстве продиктованы сиюминутными, конъюнктурными, политическими и черт его еще знает какими соображениями. Произошло что-то, надо принять меры и доложить на самый верх. Запретить что-то, чтобы оградить на первое время других летчиков. Запрет однозначен и отсекает много хорошего наряду с дурным.
Другого такого дурака, допустившего промах, может, во всем Аэрофлоте нет, но страдать должны все. И как тогда назвать того, наверху, кто запретил? Ему хорошо: он принял меры, умыл руки и - обтекаем. А нам - летать.
Иной раз - недоработка теоретиков, кабинетных ученых. Я еще раз не соглашусь с их рекомендацией - садиться только с закрылками на 45. Они не предвидели, что в болтанку диапазон допустимых скоростей мал. Что жизнь введет - позже, чем они написали Руководство, - понятие сдвига ветра, когда скорость пляшет. Сами не летают…
Редко пересматривают наше Руководство. Редко и поверхностно. Заменят мало значащее в реальных полетах слово и рассылают - через два года - изменение массовым тиражом. И делают это посторонние тети Маши, что видно по элементарным ошибкам и прямым нелепостям.
Кто должен пересматривать Руководство? Высокие ли чины в министерстве, что летают раз в месяц, да и то, проверяющими? Им ли заметить нюансы, с правого-то кресла, - нюансы, которые созревают и утверждаются в мозгу линейного пилота годами, за тысячи летных часов?
Нет, это наше дело, дело рядовых пилотов, пилотов-инструкторов, к мнению которых почти не прислушиваются, которых осаживают на разборах, которых запугали, загнали вглубь себя и оставили один на один с нелепостями Руководства и их приложением к стихии, - да еще заставляют обосновывать принимаемые решения.
Нет обратной связи.
Вот поэтому мы молчим на разборах и собраниях, вот поэтому и наше летное начальство разводит руками на робкие наши предложения (в кулуарах, конечно): мол, не было приказа, а старый никто не отменял.
И потихоньку между нами идут разговоры: в случае чего действовать не по Руководству, а по здравому смыслу. Лучше пусть потом уволят, но останешься жив, спасешь людей.
И вот поэтому я могу твердо заявить: летать, не нарушая, нельзя. Самые лучшие наши пилоты, Герои и Заслуженные, - нарушают.
Конечно, нарушения эти незначительны, на безопасность не только не влияют, а наоборот, увеличивают ее, но… бумаги нет. Либо бумаги противоречат друг другу.
Конечно, есть среди нас разгильдяи, есть прямые дураки (есть!), есть блатные, есть неспособные, - короче, всякие есть; но основная масса летчиков - думающие, ответственные люди. И вот эту-то думающую основную массу заставляют страдать дурацкие приказы.
Ну почему - один выступит, а все страдают?
Потому что в министерстве легче издать приказ и подсунуть на подпись министру, чем почаще ездить советоваться с рядовыми. Ну, не с рядовыми, так с командирами эскадрилий, отрядов, а главное - с пилотами-инструкторами. Собрать их, расспросить, как полеты, что мешает, обмозговать, что лишнее убрать, что добавить. Как предыдущие изменения прижились. Да поменьше отдавать любое наше предложение на откуп ГосНИИ ГА… там его замурыжат. Ясное же дело: раз рядовые предлагают, значит, опробовано жизнью. Жизнью, а не НИИ.
Но это далекая-далекая мечта пилота…
На моей памяти ни-че-го устаревшего не убрали, а только все добавляют.
А пока в министерстве накапливаются просочившиеся сигналы. Потом их обсудят дяди в широ-оких погонах. Проанализировав, учтя обстановку, политику, примут решение. Да только анализировать будут на основе бумажных сообщений, поступающих из управлений, где иногда выгодно какой-нибудь нюансик осветить несколько под другим, выгодным управлению углом.
И пойдет писать губерния. Через полгодика, глядишь, спустят в отряды, доведут. И забудут через пару лет, в текучке.
Так забыли о включении реверса на высоте 3 метра перед приземлением. Напугались, когда ученые мужи доказали, что руль направления при включении реверса теряет эффективность. И что поэтому-то и выкатывались.
Но ведь реверс включается на полную силу лишь после выхода двигателей на режим, а это 6-8 секунд, самолет давно уже не летит, а бежит.
Так они же не летают. А мы видим на каждой посадке, что реверс на нашей машине сейчас - лишний груз.
Так же вот написали в Руководстве, что при посадке без закрылков (аварийный случай) надо торец полосы проходить по продолженной глиссаде, на высоте 15-10 м, оставляя тем самым полверсты и более полосы сзади еще до приземления. И это - на скорости касания за 300 км/час… Тоже умные, ой, какие умные люди…
А ведь раньше была рекомендация: малый газ ставить еще за 500 метров до торца ВПП - тогда посадка будет где-то в начале полосы, и весь бетон впереди. Забыли восстановить?
Я лично так и буду сажать, случись что. Хоть жив останусь, людей спасу. А там - пусть выгоняют.
Я сгущаю краски на отрицательных сторонах Руководства, а ведь оно, по сути - хороший, только очень неудачно составленный документ, попытка подражания Западу, неудобный для пользования русским человеком. В основе своей - правильное руководство, и мы строго ему следуем, особенно в ограничениях.
22.04
В наших профилакториях начисто отсутствует даже мысль о вероятности письменных занятий летчиков в период отдыха. Летчик должен быть тупой и храбрый. Поэтому нет там подходящего места и мебели. Не писать же на коленке, да еще когда каждый через плечо может заглянуть тебе в душу. А душа должна быть открыта коллективу!
Дома последнее время я тоже редко оказываюсь в одиночестве, поэтому ловлю каждый такой момент, чтобы предаться своему пороку.
О работе. Слетал в Норильск: обычный, ничем не примечательный полет. Разве только в последнее время стал я грубовато приземляться: до 1,3. Ну, да в любом деле бывают свои приливы и отливы, а уж у нас и подавно. Все же я тщательно перебрал возможные причины, и, мне кажется, нашел. Просто нет вдохновения в обычном, рядовом полете. Для очень мягкой посадки нужна какая-то божья искра; обычно она вспыхивает в момент напряжения. Шевель в сложных условиях заходил всегда чуть коряво, но после ВПР, поймав полосу, он все напряжение посадки концентрировал в момент касания - умел садить!
Может, я и не прав. Но покоя не дает, гложет, - до первой мягкой посадки. И нынче я убедился, что напряжение утончает способность чувствовать машину и видеть землю, появляется особый нюх.
Слетали мы в Сочи. Туда - обычный полет; дал в Куйбышеве разговеться Леше после месячного перерыва: он все не мог пройти годовую комиссию из-за застарелого гайморита. Ох уж эта комиссия… Но о медиках в другой раз.
Леша заходил неровно: то вроде соберет стрелки в кучу, то опять растеряет. Конечно, не на двойку растеряет, а так, на четыре. Это после перерыва обычное дело. На посадке низко выровнял, чуть взмыл, но сел терпимо: 1,3.
Я для себя оставил Сочи как более сложный порт, а ему - попроще, Куйбышев.
В Сочах погода была отличная, правда, как всегда, по высотам ветер менялся, даже чуть был сдвиг ветра; пришлось работать газами. Сел 1,2; помня, что в Сочи не разгонишься, тормозил энергично, и только в конце пробега дошло, что полоса-то после ремонта длинная…
Заруливать там надо доворотом не на 90, а на 135 градусов. Сумел, зарулил и встал идеально по разметке, почувствовав редкое самодовольное удовлетворение. Редко выпадает такой успех. Мелочь, а приятно.
Отдыхали на пляже, пытаясь впервые в этом году загорать на жиденьком в апрельской дымке южном солнышке. Море было спокойно и местами покрыто тонкой пленкой мазута.
Как немой укор человеку - защитнику природы, подплыла к берегу, к людям в руки, стройная, ушастая и вся какая-то натянутая чомга, вышла на берег, присела, оглядываясь на подходящих к ней людей. Подпустила к себе девочку с хлебом, но не взяла еду, а только смотрела. Подошли люди, хотели отчистить мазут, залепивший птице грудь и немного крылья, по всей ватерлинии. Далась в руки, беспокойно заглядывая в глаза и поклевывая пальцы, если сильно уж беспокоили. Молчала, глядела, как будто спрашивала, кто же поможет.
Я взял на руки мягкое, холодное и не по размерам легкое тельце, попытался стареть мазут… да разве ж его сотрешь… Да и уйдет опять в воду, через пять минут будет такая же.
На руках птице было неуютно, она хрипло, низко крякнула, забилась, ущипнула длинным клювом. Я отпустил ее, и она, оглянувшись еще раз, тяжело ступая длинными и широкими лапами, похожими на ласты, ушла в море, поплыла вдоль берега, высоко держа украшенную короной головку на натянутой шейке, тревожно вглядываясь в людей.
Эх, человек, человек, ты все можешь…
Домой улетали под вечер. Взлетели на море, машина явно не тянула. Над Пицундой стояли засветки; я, думая набрать высоту до гор, тянул штурвал, скорость зависла на 450, вариометр показывал жалкие метры набора. Борты давали электризацию; начался треск в наушниках, потом визг…
Вошли в облака; забегали видимые даже днем чертики на стеклах. Давно не летали мы в условиях гроз, и спина стала мокрая. Побалтывало, я держал 500, ожидая бросков, но обошлось. Обошли левее, кое-как вылезли выше облаков; сильных засветок не было, одна сплошная размытая. Циклончик уперся в хребет и стоял у берега, еще бессильный разразиться настоящей грозой.
В Куйбышеве садились ночью, Леша, разговевшись, заходил уже увереннее, но еще коряво; я предупредил, чтобы на высоте 10 метров он предварительно уменьшил вертикальную скорость наполовину. Так и вышло, и сели мы очень мягко и точно на знаки.
Домой домчались быстро: попутная струя давала путевую скорость за 1100, и еще скоротать время помог томик Джека Лондона, бессовестным образом читаемый мною всю ночь. Я обычно не позволяю себе, но здесь мы были одни в эфире; тихо и пустынно было вокруг, и диспетчеры сонными голосами встречали и передавали нас друг другу. Я только время от времени поглядывал на курс и отметку на ленте-карте, замечая, сколько осталось времени до поворотного пункта.
На снижении нам наобещали и обледенение, и болтанку, и переход через ноль на земле; и гололед, и боковой ветер. Все это мы учли и начали снижаться пораньше, ожидая обледенения, чтобы потом болтаться в облаках на 0,4 номинала - с небольшой вертикальной, но уже внизу, успев потерять большую часть высоты. Так и было: с трех тысяч начался лед, но уже близко полоса; выпустили шасси и без грамма лишней тяги двигателей вышли к 4-му развороту на 400 м, что и требовалось.
Болтало. Я гонял тяжелую, как утюг, машину вверх-вниз; высота плясала, и никак не приспособиться было держать тангаж. Мягкие броски вверх и вниз чем-то отличались от обычной беспорядочной болтанки. Надо было помнить и об обледенении, держа скорость на 20 км/час выше расчетной. Но по углам атаки видно было, что льда нет, запас по сваливанию солидный, и я держал повышенную скорость, в основном, из-за управляемости, вполне справляясь, чтобы скорость не выходила за ограничения по закрылкам.
Ветер менялся. Гуляла курсовая стрелка, гуляла вертикальная скорость; я подбирал курс и режим двигателей. После дальнего привода в стекле вырисовалась полоса, заряды снега то затуманивали огни, то вновь они прояснялись, качаясь за стеклом то влево, то вправо, в зависимости от кренов самолета. Надвигалось то состояние, когда пилот теряет чувство полета и ориентируется лишь по картинке на стекле, - как на тренажере.
Я сумел стряхнуть с себя гипноз, отведя глаза в сторону, бросив на секунду штурвал - «сама летит?» Сама не летела, болталась, - но секунда на пробуждение была выиграна. Дальше оставалось лишь погасить колебания по курсу относительно оси ВПП. Это удалось метрах на тридцати. Оценил глиссаду, приближение торца, знаки; борясь с болтанкой и сносом мелкими движениями, зацепился взглядом за ось… доворот на полградуса… крен убрать…
Машина замерла на секунду… Малый газ!
Это мгновение, когда ждешь касания, растягивается неимоверно. Скорость есть - лишние 20 км/час, их надо потерять на миллиметровой высоте: если вдруг внезапный порыв, бросок ветра - машина плюхнется, но с малой высоты. А не будет порыва - затаив дыхание, добрать чуть-чуть, сведя к нулю высоту и вертикальную скорость… Это - высшее искусство.
Едва ощутив - не касание даже, а уплотнение воздуха между колесом и полосой (так кажется пилоту при мягкой, неслышной, - одной на сто - посадке), чуть отдал штурвал, боясь, не совпало бы разжатие колес и амортстоек с последующим взятием на себя для поддержания носа - тогда козел! - и… почувствовал, как отошла она на стойках, - но только на стойках, колеса катились… Отпустил медленно штурвал, передняя нога загрохотала внизу, под кабиной, пересчитывая неровные стыки плит. Остальное было делом техники.
Так что я удовлетворен. После заруливания пульс был 94.
И сегодня я с чистым сердцем ушел в отпуск на две недели.
26.04
Когда едешь на работу в автобусе, в голове так и роятся мысли, тут бы и записать… Но в текучке дня уходит их острота, сглаживается, плавно угасает. И все забывается или же по прошествии времени кажется мелким.
Вспомнил, как над Волгой пересек нам курс Боинг-747, темная громадина, мерцающая светом множества огней, маячков, красных и белых, с горящими фарами, - так у них, видать, принято обозначать себя при пересечении трасс. Ну чем не новогодняя елка. Или НЛО для неискушенного обывателя.
Я всегда с особой завистью и уважением относился к Боингу-747 и тем, кто на нем летает. Это флагман мировой пассажирской авиации, ни равных ему, ни больших нет нигде. Весь мир покупает эту машину. У нас авиация своя, и хоть и тужимся, но - «далеко куцому до зайця», как говорят на Украине. Отстает технология. Горбачев правильно сказал, что назрела у нас научно-техническая революция.
Ага, назрела. Я понимаю это так: на «Боинге» мне не летать.
14.05
Отдохнул три недельки: выгнали в отпуск, чтобы летом не просил. Все время отдыхал душой за простыми делами: то с железом, то с деревом, то с камнем. Немного сбросил жирку, посвежел.
Вчера с места в карьер рванул в Благовещенск; ну, а раз это любимый рейс проверяющих, то Кирьян, естественно, летал с нами. После перерыва я удивительно легко взлетел, все параметры в норме, и очень свободно распределялось внимание. Сел в Благовещенске очень мягко, но после заруливания забыл убрать интерцепторы и зарулил, вдобавок, не по разметке, правда, там нестандартные стоянки, но прежде справлялся.
При взлете обратно краем глаза на разбеге заметил, как Кирьян закрывает открывшийся от тряски колпачок бустеров. Загорание табло «К взлету не готов» я не заметил - не только из-за солнца, светившего прямо на козырек приборной доски, где это табло расположено, а, в основном, из-за того, что на взлете взгляд очень узок, направлен строго вперед, а табло это - с краю. У нас с Солодуном подобный случай был, и он тоже не заметил, а я, справа, - заметил и табло, и колпачок, и закрыл. Так что все естественно, но Кирьян сделал замечание, что я должен видеть все. Так-то оно так, я согласен… но не знаю, как это можно: и смотреть на ось полосы, и прочитать загоревшееся в углу красное табло, - а у меня ведь очень широкий угол зрения. Для этого есть второй пилот, он более свободен, он заметит и доложит.
Дома сел исключительно мягко, на 7. Правда, немного сучил ручонками, норовя поймать последний дюйм. Победителей не судят, и Кирьян, обычно не сторонник мелких движений, промолчал. Я мог бы, конечно, задержать штурвал и ждать толчка, но уж больно хорош был полет, чтобы портить его этим толчком.
20.05
Слетал в Краснодар. Леша наш лег в больницу с глазом, пока лечится, вторых тасуют. Вчера летали с Обморшевым; я, по своему обыкновению, дал ему два взлета и две посадки. На первой посадке пришлось вмешаться: он довел вертикальную на снижении перед торцом до 5 м/сек, а выравнивать начал медленнее, и я, опасаясь просадки и грубого приземления, помог, довольно крепко взяв штурвал на себя, а убедившись, что вертикальная погасла, не мешал досаживать дальше, и сели очень мягко.
В дальнейшем он справлялся хорошо, видно, что неплохо умеет летать.
Я тоже не подкачал. Правда, и пузыря немного пустил. Заходили с прямой в Оренбурге; ветер на эшелоне был попутный, путевая за тысячу. И снижаться начали пораньше, и все по расчету, да я, понадеявшись, что уже лето, не учел возможного обледенения в облаках. А оно как раз было, и пришлось ставить 0,4 номинала при включении ПОС, и вместо 30 м/сек снижались едва по 20. Короче, пришлось догонять глиссаду и торопливо выпускать шасси и механизацию. Догнали за 7 км до торца, заходил Коля, справился.
Мои посадки были хорошие, пассажирам, по-моему, не к чему придраться.
Грозы в районе Ростова обходили верхом. Пришлось залезть на 12100, но там автопилот почему-то работал неустойчиво, раскачивал по тангажу, и как только прошли фронт, снизились до 11100, попав в струю, которая дала нам путевую 1100 км/час и экономию за рейс туда-обратно тонн шесть. Правда, мы, где могли, оставляли сменщикам где полтонны, а где и полторы, и по бумагам у нас экономия всего 4 тонны.
Кому нужна такая экономия? Правда, топливо-то реальное сэкономлено, а бумаги - бог с ними. А ребятам против ветра лететь - реальная помощь.
В отряде упорные разговоры, что меня назначают на должность пилота-инструктора. Начались перемены в верхах управления, но толком ничего не известно. Узнаю послезавтра, перед рейсом. На инструктора я согласен. Правда, сам иногда пускаю пузыря… Ну, надеюсь, стану чаще летать, возрастет ответственность, и все придет в норму.
Хотя само собой ничего не делается.
24.05
Позавчера снова летали в Благовещенск. С утра был шторм, ветер более 20 м/сек; такой прогноз ожидался в Емельяново на весь день. Второй пилот был опять новый - Даль Евплов, и я, верный принципу давать летать второму, распределил роли так, что взлетаю здесь я, а в Благовещенске садится и взлетает он, чтобы тяжелая посадка дома досталась снова мне.
Взлет в сильный ветер скоротечен. Скорость наросла быстро, я еще чуть промедлил с отрывом, чтобы при случайном порыве или резком ослаблении ветра в момент отрыва самолета иметь запас скорости во избежание просадки и касания колесами бетона. Взял штурвал энергично, и машина сразу круто полезла вверх, почти вертикально. Скорость все нарастала, я драл нос все выше и выше, следя только за ограничением по закрылкам и ростом высоты, чтобы поскорее их убрать. И… забыл о фарах.
Уже давно мы выпускаем фары на взлете и посадке, чтобы отпугивать птичек, днем ли или ночью, все равно. В этот раз птички если и летали, то хвостом вперед, и уж над полосой их и в помине не было. Но стереотип сбивать нельзя.
Миша убрал фары сам, уже на скорости за 400. А я в это время был занят уборкой механизации и скорейшим выходом из зоны приземной болтанки вверх.
Выскочили сверх облаков, тысячах на трех, и все успокоилось. Дальше полет был без эксцессов.
Как все-таки много внимания отбирает пилотирование в сложных условиях. Что меня увело от установившегося стереотипа действий, не могу понять. Может, резко возросла скорость, и я вынужден был увеличивать тангаж выше привычного, - но факт, внимания не хватило. Мастер…
Пока летели, обсудили новости. В управлении перемены, всех поснимали, остался один начальник. Большие перемещения.
Непосредственной причиной явились нарушения дисциплины и воздушное хулиганство пилотов на Ан-2, два случая подряд. В одном случае нажрались на точке два экипажа и пьяные устроили воздушный бой: на одном самолете два командира, на другом - два вторых пилота. Гонялись друг за другом, кружились над школой, распугали детей, атаковали и перевернули на дороге лесовоз (водитель, бедняга, думал, что авария и самолет садится на дорогу, ну и свернул в кювет), - короче, заработали себе лет по десять. Это идиотизм.
В другом случае, тоже на точке, командир - женщина, естественно, ночевала не с экипажем, чем и воспользовался второй пилот: угнал самолет и катался ночью, взлетал, садился, поломал самолет, тоже пьяный.
А тут еще сокращают эскадрилью в УТО, и инструкторы уходят к нам, в наш отряд, занимая должности пилотов-инструкторов в эскадрильях; так что придется подождать: не та у меня весовая категория. Ну, да бог с ним, мне не горит.
У армян рассыпалась турбина на взлете, на высоте 80 м, но справились, сели, пожара не было, успели выключить. Молодцы.
Ждем на днях приказа по Фалькову.
Вот, обсуждая эти проблемы, мы и долетели до Благовещенска. Даль заходил, старался, летает он хорошо. На посадке давали боковой ветерок. Была термическая болтанка, тысяч с двух. Все было хорошо до выравнивания, но он как-то умудрился сесть до знаков, метров за 50, с легким козликом, - и нас после отделения потащило вбок. Тут ничего не сделаешь, только подобрать штурвал, чтобы смягчить боковую нагрузку на шасси. Совсем смягчить ему не удалось, и нас неприятно тряхнуло с боковой нагрузкой.
Для меня тут целый комплекс недостатков: приземление до знаков; козел; уход от оси - значит, не сумел заставить машину двигаться параллельно оси ВПП; посадка с боковой нагрузкой на шасси; перегрузка в момент касания 1,3.
Но по нашим нормативам это все - на оценку 4. Ну, первый блин комом.
Взлетел он отлично и в наборе пилотировал чисто. Домой шли против струи, долго, и меня все клонило в сон. Я берег силы для посадки: обещали ветер более 20 м/сек, а значит, сильную болтанку, сдвиг и прочие прелести.
Короче, настроился на борьбу, заходил с закрылками на 28, ожидая болтанки, удара ветра… Ожидание опасности хуже всего. Но… Триста метров - тишина, двести метров, сто - тишина… Ну, думаю, метров с восьмидесяти… видимо, у самой земли… мезоструя…
Сели тихо, спокойно. На земле штиль. Даже обидно стало. Спросил у диспетчера ветер на старте. Порывы до 16. Плюнул, зарулил. Вышли - ветер фуражки срывает. Вот как бывает.
Домой приехал с желанием завалиться и уснуть пораньше. Но передавали выступление Горбачева в Ленинграде, и я настолько увлекся, что единым духом впитал в себя часовую речь и долго не мог уснуть. Понравился человек всем. Это уже полдела. Лишь бы не заелся, как его предшественники. Народ готов работать.
Я тоже готов работать. Вчера вечером вылетели во Владивосток. Заходил в Чите, старался, но приземлился на правое колесо - ветерок бросил в самый момент касания.
Во Владике садился Даль: высоковато выровнял, тянули, тянули, сели мягко, но с перелетиком. Да еще впереди висел Ан-24, еле успел срулить до нашей ВПР, а ведь мы за 42 км выпустили шасси и закрылки, чтобы не догнать… но не те скорости.
В Чите задержались на час: отказал указатель tо газов 2-го двигателя; но устранили быстро.
А после посадки во Владивостоке обнаружили разбитый обтекатель правого БАНО[99]. Старая трещина, заклеенная, остались следы, выкрошило плекс в полете. Час ждал, чтобы подписать акт, где указано, что мы не виноваты, - и все пытался вспомнить, может, где, и правда, на земле зацепили. Да нет, не было. Может, в полете болтанка помогла?
В районе Благовещенска стоял фронт. Ночь, хоть глаз выколи, и молнии подсвечивали снизу плоские вершины облаков. Как всегда, по закону подлости, эшелоны 10100 и 11100 были закрыты, и московский Ил-76, которому вес не позволял набрать 12100, блажил в эфире, добиваясь разрешения обойти 200 км севернее.
Благовещенск запурхался в сложной обстановке и был рад, что хоть мы можем занять 12100. Попутный борт впереди предупредил, что пролез между вершинами по локатору, а есть и выше полета.
Пока мы набирали эшелон, я убавил свет в кабине и пытался разглядеть изредка подсвечиваемые молниями контуры грозовых наковален впереди.
Для полноты счастья сдох локатор и выдавал едва заметные пятна вместо ярких засветок. Миша заколдовал над антенной, яркостью и контрастностью, а мы с Далем пытались рассмотреть хоть что-нибудь визуально, но увидели только встречный борт, как раз на пересекаемом нами эшелоне 11600. Полоска ярких огней и мигающий маячок прошмыгнули мимо. Благовещенск нервно потребовал подтвердить наше удаление 150 км. Удаление наше было 70. Диспетчер понял, что ошибся и, дав нам набор с пересечением занятого встречного эшелона, свел нас со встречным. Наверно, у него взмокло кое-где.
Мы промолчали, и он больше не тревожил нас, поняв, что мы прощаем его страшную ошибку. Который уже раз так бывало, особенно в сложной обстановке.
Мы прошли над грозой, чуть выше верхней кромки, и когда молния вспыхивала под нами, все вокруг заливал мертвенный зеленоватый свет. Потрепывало, но слегка. Снизились мы до 11100 через сотню километров, предварительно расспросив обстановку.
Дома, при заходе с прямой, нас предупредили, правда, поздно, что впереди заходит Ан-24, и мы висели у него на хвосте, точно как во Владивостоке. Но здесь уже пришлось уйти на второй круг, причем, забыли убрать фары и так и заходили снова, превысив на кругу предел скорости по фарам на 70 км/час. Хорошо, что этот параметр не пишется.
30.05
Некогда писать, носимся из рейса в рейс. Но серьезное событие было. В Алма-Ате на рулении наехал на бетоноукладчик, слегка повредил законцовку крыла, разбил БАНО. Виноваты службы аэропорта, но морально позор мне. Готов к выговору, пока - расследуют. Формально - рулил строго по разметке под руководством машины сопровождения. Мелькнул под крылом этот злосчастный агрегат, но, не предупрежденный нигде, я доверился разметке и пустил пузыря. Мастер… Медведев так меня и обозвал, и правильно. Хорошо, хоть убытка не нанес: алмаатинцы, чуя, что пахнет жареным, постарались мне все отремонтировать поскорее, и задержка получилась всего 7 часов.
Слетали в Ташкент, ничего особенного, но на посадке, зная, что горячая полоса поддерживает самолет, я все же чуть добирал, подвесил и не дал машине снизиться на последний дюйм, упал с предпоследнего. В результате - грубоватое приземление, 1,25. Кирьян летал с нами, промолчал, но когда я объяснил свою ошибку, согласился.
Назад я летел пассажиром, пилотировал Даль, сел отлично. А я с удовольствием подремал в салоне.
Сегодня летим в Сочи. Там вечно грозы, а на днях Паша Густов влез в град в Донецке, побил обтекатель локатора.
Я же, взлетая на Алма-Ату, чтобы не влезть в осадки, набирал высоту в окнах между облаками; пришлось заваливать крены до 30 градусов и скорость терять почти до разрешенного предела, но выскочили. Нарушений РЛЭ нет, а полет этот, в связи с повреждением, расшифрован в Алма-Ате. Единственно: АУАСП[100] был задран на рулении, и чтобы не пищала сигнализация закритического угла, мы его временно выключили… а на разбеге Миша включить-то и забыл. И только после отрыва, на скорости 360, когда я мимолетно бросил взгляд и увидел, что угол атаки зашкален, понял и дал команду включить.
Не слишком ли много мы забываем последнее время? Склероз или разгильдяйство? Или усталость?
6.06
Итак, Алма-Ата. Все было как всегда, после посадки рулил по разметке; замешкалась машинка. Мы еще сомневались, рулить ли прямо, по 3-й РД, или направо, за хвостами. Вылетела машинка; я краем глаза видел слева от 3-й РД технику, но все внимание было на машинку: куда пригласит рулить? Прямо… С облегчением порулил вслед, краем сознания отметив, что слева близковато желтая машина, агрегат такой, в яме, ниже крыла. И все. Трубок для тента над этой техникой я не заметил. Я их не ждал - вот ошибка. Раз приглашают рулить, значит, можно. Подвел стереотип мышления: мало ли проходит под крылом тумб, знаков, фонарей, колонок, - но рулим же мы по разметке, понимая, что все предусмотрено, что не зацепим.
А жизнь есть жизнь. И алмаатинцы вынужденно поставили на рельсы бетоноукладчик чуть ближе чем можно. И, по разгильдяйству служб, никого не предупредили, не нанесли временную разметку, не внесли в лист предупреждений и информацию АТИС[101], понадеялись на оперативность машинки сопровождения, а она чуть опоздала. И уж когда он крикнул держать правее оси, я взял правее, но - думая, что это для гарантии: слишком близко от левых колес был обрывистый край котлована, в котором стоял злосчастный агрегат. И ни сном ни духом не подозревая и не сомневаясь, я выпустил из внимания препятствие, ушедшее под крыло и чуть зацепившее законцовку.
Об эмоциях умолчу. Главное - выводы.
Самоуверенность, вот причина. Я, все видящий, умеющий распределять внимание, способный предвидеть, мастер сраный… доверился порядку вещей, предположительному порядку - как должно быть. Отбросил сомнения, глазомер, расслабился от облегчения ожидания, от разрешения сомнений: вот машинка, вот путь руления, вот дядя, который отвечает за безопасность. А там, сбоку… это предусмотрено дядей, это хоть и близко, но не опасно.
Дядю также будут пороть, но, в конце же концов, куда ты смотрел, командир?
На машинку.
Да, рулю я быстро, уверенно, за что не раз получал замечания от осторожных проверяющих. Но в этот раз не в скорости была причина – скорость задавала машинка. Причина была в неправильном распределении внимания, в беспечности, в отсутствии чутья.
Я ведь на стоянке вышел, колеса попинал, и уже подался было в АДП, но техник остановил, подвел к законцовке крыла… и мы все очень, очень удивились.
Первой моей мыслью было: с чем-то столкнулись в воздухе. Птица? Может. метеорит? Потом, мысленно перебрав все варианты, остановил взгляд на бетоноукладчике: мы зарулили-то на стоянку как раз напротив него. Еще не веря, подошел… и только когда туда же подскочила машинка и вышел водитель - чуял-то, видимо, что сам-то виноват тоже, - вот тогда только я понял, что неладно. И тогда лишь увидел эти трубки погнутые, желтые, с крючком для тента, и краску на крючке - красную, с нашей законцовки.
Что поразительно: прочитав мою объяснительную, Кирьян прямолинейно заявил, что я не виноват. Рулил по разметке, по указаниям машины, - все.
Я понимаю: Кирьян верен себе. Буква закона. Не положено - значит, не положено. Положено - значит, положено. Выполнял правильно - значит, не виноват.
Но по НПП[102] я как командир несу ответственность за безопасность руления, за осмотрительность. А Кирьян считает: значит, глазомер подвел, а кто его измерял у пилота?
Но не в глазомере дело. Дело в излишнем доверии к людям и нашим порядкам. Дело в беспечности и самоуверенности.
Оппоненты (из начальства, естественно) говорят: а если бы паровоз выехал на РД - ты бы рулил?
Это некорректно. Если бы я видел трубки и сомневался, я бы остановился. Могу привести контраргумент: а если бы поперек РД был протянут на уровне горизонта трос? Кто бы тогда отвечал за столкновение?
Я не видел. Желтые трубки на желтом фоне сухой травы. Но я должен был заставить себя усомниться в высоте любого препятствия в пределах габаритов моей машины. Рулить медленнее и предвидеть наличие не видимых глазами деталей. За что и несу ответственность.
Прилетел из Алма-Аты зам. КЛО Антон Цыруль, привез паку бумаг. Поднимают всю мою биографию. Бюрократическая машина заглотила выеденное яйцо и нашла в нем массу килокалорий для своего двигателя. Бумаги изведут килограммы, людей оторвали от дела на неделю, командировочные, суточные, гостиница и многое мне не известное. Какой убыток от этого государству?
А от меня? Заклепать дырку 2 кв. см, выправить молотком законцовку, покрасить, заменить оргстекло на лампе БАНО. Рублей на 20. Я бы с радостью отдал их там же.
Задержка на 7 часов. Это сумма. Бухгалтерия подсчитает. Поделить на виновных, так на мою долю придется под тысячу рублей. Да лишат премиальных…
Но денежная сторона мне не так болезненна, как моральная. Это профессиональная несостоятельность. Должен был предвидеть, насторожиться. То-то, мастер…
Из последних событий
Слетал в Ташкент на тренажер. Опять поджигали на 8600 и выключали все двигатели, но все это - сразу, внезапно и все вместе: экстренное снижение на максимальной скорости опять вошло в противоречие с необходимостью гасить скорость, выводить в горизонтальный полет и запускать ВСУ. Я плюнул на все расчеты и сел прямо перед собой в поле, понимая нежизненность задачи, да и самой ситуации.
Зато удалось отработать пожар на взлете и заход на посадку с обратным курсом, с закрылками на 28. Хватает и времени, и внимания, и индикацию они сумели задействовать. Два раза мы так зашли. Это - жизненно: буквально на днях так армяне и сели, когда разлетелась турбина.
9.06
Началось лето, с грозами, перегруженными портами, без выходных, с недосыпанием и плавно и неуклонно наваливающейся хронической усталостью. Полеты, полеты, полеты…
Прилетели из Камчатки. Проверяющим летал замкомэски Булах. В Петропавловске я не был лет семь, но изменений в схеме практически нет, только новая длинная ВПП.
На заходе был сильный попутный ветер на кругу. Как мы ни старались, а все же нас вынесло выше глиссады. Тут еще обледенение в облаках, пришлось добавлять режим. Дурацкое положение, когда в руках прекрасный самолет, а нельзя поставить малый газ: нарушение Руководства. Столько рогаток везде… и прекрасная машина бессильна перед ними.
Короче, километров с 15 я осознал, что придется уйти на второй круг. С девяти километров нас и угнали.
Всегда стыдно, когда угоняют по твоей вине, за то, что не вписался. И хоть юридически мы правы, и условия были сложные, и глиссадный маяк отключался на время, - но на то ж ты и командир, чтобы все учесть.
Надо было просто нарушить Руководство, поставить малый газ… За 17 км до полосы чуть нырнуть и потерять 200 метров высоты - плевое дело. Тем более что и обледенение-то было слабое. Но времена Чкалова прошли, и мы просто сожгли пару лишних тонн топлива на повторном заходе. А фары опять забыли убрать.
Шесть посадок удались. Дома садился с боковым ветром, справился, замечаний нет. Владимир Федорович Булах вообще не сторонник пороть, и в разговоре у него часто проскакивает несовременное слово «душа». Так что мы понимаем друг друга.
Как-то из Сочей летел с нами в кабине инспектор МГА, бывший красноярец. Разговорились. Я как всегда со своими претензиями и предложениями. Насчет прибора, сигнализирующего при смене высоты полета, что остается 200-300 м до заданного эшелона, чтоб не проскочить. Сколько было предпосылок из-за того, что экипажи зевали в наборе или на снижении эшелон, проскакивали и сближались со встречным. По логике, раз вероятность этого велика, дублируй, ставь блокировку. В воздухе ведь всякое случается - и внимания часто не хватает.
Ведь поставили же сигнализатор высоты на радиовысотомер, жизнь заставила.
Но… министерству наплевать на наши заботы. Оно не заказывает прибор, промышленность не дает. Кондовый Туполев до этого не додумался, хотя вертикальная скорость у «Тушек» самая большая, - а Новожилов на Ил-86, с его вертикальными 5-10 м/сек, поставил.
Так же с таймером. У меня на кухне поставил молоко на плиту, включил таймер на 10 минут, и он даст сигнал… аккурат, когда молоко выскочит. И в полетах есть моменты, когда надо включить или проследить то или иное строго по времени: «Розу», метеоканал, пересечение трасс и т.п. Копеечный прибор - а как бы помогал экипажу. Нет, не нужен. Пусть экипаж бдит и справляется. А не успеет, зевнет, - пор-р-роть!!!
Зато у нас шесть высотомеров! Это идиотизм.
Даль имеет калькулятор, считает на нем все что надо, весьма оперативно. Хотя нам навязывают работу ненужную, бухгалтерскую, например, считать производительность, удельный расход и т.п. На хрен оно пилоту нужно.
Установить же такой прибор в кабине не считают нужным. Хотя журналистам объясняют, что самолет снабжен ЭВМ!
В понятии обывателя компьютер - это то, на чем считают не в столбик, а нажимая кнопки. Так вот этого-то у нас и нет. Считаем мы в столбик, а чаще - в уме.
Инспектор же рассказал нам, как он долго пробивал, чтобы Ил-86 на стоянке ограждали тумбами и шнурами с надписью «Не заходить», как это делается, когда прилетает кто-то из правительства. А Ил-86 самолет большой, двигатели низко, если двигатель запущен, может и засосать человека, да и так нетрудно в двигатель кое-чего незаметно подложить. Короче, дело нужное. Так это ж целая бюрократическая эпопея. Нужен приказ, а приказ - это документ, а документ надо рождать, значит, создавать межведомственную комиссию, и т.д., и т.п., отрывать людей, тратить время…
Короче, бессилен старший пилот-инспектор министерства. При Петре Первом было проще. Предложил царю, тот выслушал, понял, предписал. А кто растягивает волокиту - в кнуты его. Сейчас же только на подпись министру очередь две недели Порядок…
И когда мы выразили робкую надежду, что вот, мол, Горбачев расшевелит, сдвинет, заставит… умудренный жизнью, близкий к верхам министерства человек скептически ухмыльнулся: у нас в министерстве все увязнет в бумагах, не так легко сдвинуть.
И все же хочется верить в сдвиги.
Встретил я инспектора по безопасности, он говорит, расследование моего случая закончено, бумаги в отряде. В акте указаны причины предпосылки, первая причина - невыполнение экипажем команды машины сопровождения. Вот так.
Ну, да не спорю: пусть потешатся. Я бессилен что-либо доказать, а у них под рукой расшифровка переговоров. Все равно, виноват экипаж. Какая разница - не выполнил команду или не видел препятствия.
При расследовании преследуется одна цель: с себя спихнуть на дядю, но отнюдь не выясняется истина. Я выполнил команду сразу, как услышал. Другое дело, что команда поступила поздно.
Ну, высокая комиссия определила, видимо, что отвернул поздно. Я не в той весовой категории, чтобы меня удосужились вызвать и выслушать; достаточно объяснительной.
Закон всегда один: что бы с тобой ни случилось, ты всегда виноват. Летая пилотом, нельзя не нарушать. Нарушая, нельзя попадаться. Попавшись, не дергайся, получай свое и радуйся, что мало дали. А обтекателями себя не обставишь, как ни старайся, только потеряешь уважение товарищей.
Как бы я ни судил себя сам, этот случай не должен вызвать во мне неуверенности в себе. Во мне ничего не должно измениться. «Чикалов» летал на четыре, я летаю на шесть, а те кабинетные казуисты, что расследовали мой случай, не удосужившись даже выслушать, - вообще не летают. И пошли они все. Буду летать, как всегда, а этот случай минуется. Останется лишь зарубка на память.
Если материальное стимулирование командного состава зависит от случайности (Ершов нарулил на бетоноукладчик - не жди премиальных), то у начальников пропадает всякое желание работать: нарушения то постоянны. Ну как воспитывать того же Ершова, если он сам пропагандист, и все понимает прекрасно, и нарушил-то раз за всю жизнь… а премиальные тю-тю… Вот - тормоз. Это в масштабах всей страны, везде эта беда у начальства. Нужны новые методы.
Пилот видит полосу, а прибор не дает видимости, соответствующей минимуму. Так для прибора ли мы работаем или для конечного результата? Выходит, для прибора.
На тренажере утомляют полеты по кругу. А ведь отрабатываем один-два элемента. Так, может, сконцентрировать? Взлет, отказ, справился - сразу 4-й разворот. И за три часа можно так оттренировать тот отказ…
А то сел с отказавшим двигателем, справился - теперь запускай его. Долго ли привести все в исходное состояние с помощью нажатия кнопки? Нет, запускай, трать время. Вот - КПД тренажера, за который отряд платит большие деньги. А инструктора на тренажере получают за налет. Вот мы и наматываем пустые круги.
И вообще, смешно. За рубежом самолет сел в тумане, сам, автоматически, и сам же рулит на стоянку по осевым, практически вне видимости. Кто отвечает за безопасность руления? Пилот не видит препятствий. Но они же как-то летают на проклятом Западе!
Но это уже обида во мне говорит.
К лету я стал суше. Мысли отрывисты и поспешны. Дела, дела, дела. Зимой дел меньше, душа оттаивает. Обе крайности для летчика вредны, но раз они есть, значит, есть диапазон. И один человек разумно может вместить в него и дело, и хобби; великое счастье, когда дело и душа - вместе. Но это редкая цельность. У меня все проще. Вот на даче дорожку бы добетонировать. Вчера в баньке парился… Сегодня книгу прочитал. Завтра полечу в рейс. Нет, жизнь не скучна.
В Ташкенте наладил старое, древнее пианино, еще дореволюционное, подстроил, и пока ребята гоняли шары на бильярде, с удовольствием бренчал. Хорошо! Завтра поеду на дачу. Надо жить, пока молод.
Да, кстати, инспектор тот, из Москвы, когда говорил, что приказ по Фалькову скоро будет готов, сообщил, что по приборной доске бортинженера заседала макетная комиссия и дала ей высокую (!) оценку. Комментарии излишни.
20.06
Алмаатинская эпопея закончилась. Расследованием установлено, что виновен командир самолета. Не выполнил команду машинки. Ну, что ж, верно: не понял, значит, и не выполнил.
Был отрядный разбор. Я с пеной у рта доказывал Медведеву, что просмотреть - мог, но не выполнить команду…
Потом, ознакомившись с материалами расследования, я понял, что поезд ушел. Там совершенно не рассматривалось, что команда подана поздно. Их интересует голый факт: не выполнил, нарушил, столкнулся.
Я не в обиде на них. А до меня и моих переживаний дело только мне самому, и это справедливо.
Медведев наказал меня по высшей мере: вырезал талон. Ну что ж, не спорь с командованием. Орудуя ножницами, мимоходом бросил, что, ясное дело, виноваты алмаатинцы, но…
А мне все равно. Талон не вернешь, и надо успокоиться и летать так же, как и раньше.
«Чикалов рулил на четыре?»
Убытку на червонец, а я потерял тысячу рублей, но все справедливо: годовые премиальные выплачиваются лишь при отсутствии предпосылок к летным происшествиям.
Ну, ладно, мастер, какие же выводы?
Что касается мастерства, то я здесь выводы сделал. Главное, остаться самим собой. Если я перестану себе доверять, то возникшая вследствие этого скованность отбросит меня далеко назад. Нет, я все равно летаю на шесть. И как вертел головой, так и буду вертеть. И думать.
Кстати, летал в Одессу и на рулении заметил, что не всегда и не за всем успеваю следить. Но ведь в Алма-Ате я не прозевал препятствие, а усомнился в том, что оно установлено с нарушением.
Наказание мне на пользу, а то я слегка зазнался. Покаялся перед товарищами, и на партсобрании, и на разборе, и на совете командиров. Не в том каялся, что недисциплинирован, а в том, что самоуверен.
Спасибо, народ меня поддержал, и много было сказано добрых слов. И все уговаривали Медведева не резать мне талон. Но… третий вывод: хоть тридцать лет работай безупречно, а раз обгадился - уже автоматически ты разгильдяй.
Однако не будем поддаваться эмоциям. Дело сделано и сдано в архив. Завтра попадется кто-нибудь другой, и мое дело плавно отойдет на задний план, а вскоре и забудется.
Работы много. На этот месяц план 70 часов, много ночи. Сегодня ночью лечу в Хабаровск, а посему иду спать.
24.06
Слетал в Хабаровск. Рейс считается у нас самым тяжелым, но обошелся на удивление легко. Видимо, пара часов сна перед вылетом помогла.
Вчера слетал в Москву, тоже с разворотом. Здесь уже накладка: не первая бессонная ночь подряд, а стоянка там три часа. Засасывало. Правда, для развлечения, Миша неправильно выписал «Розу», и мы от Васюгана шли с другой цифрой. В Москве блок ответчика нам заменили по нашей записи, но ведь он исправен; если раскрутят, будет нам дыня: ему за неправильную выписку, а мне за слабый контроль. Двести раз выписывал правильно, это его обязанность, а на двести первый - перепутал число.
Ну, а я на каждом типе имел выговор за слабую воспитательную работу.
На Ил-14 второй пилот Андрюша Врадий выронил на перроне важный пакет - их нам давали кучами, и выронить-то на ветру немудрено. Ну, а мне - рикошетом выговор.
На Ил-18 на втором самостоятельном полете подвел бортмеханик Витя Колтыгин: за 20 лет добросовестнейшей работы первый раз доверился людям - как вот нынче я, - и самолет вылетел без документов. Задержка в Москве на 40 минут, обратный вылет нам разрешили без этих книг… а мне опять рикошетом.
Так что и здесь следует ждать.
Но не буду же я все делать сам за экипаж, тем более что за Михаилом раньше грехов не было, мужик серьезный. Судьба. Я за это лишних командирских 150 рублей получаю.
После посадки в Москве при выключении двигателей не сработала вся сигнализация отказов двигателей. Каждый двигатель имеет свою световую сигнализацию отказов: падение давления масла, топлива, другие табло. Они постоянно горят на земле, а при запуске последовательно гаснут по мере того, как параметры двигателя приходят в норму. Выключишь двигатель - опять загораются. Так вот, у нас не загорелись.
Вызвали специалистов. Обнаружилось, что выключены все три АЗС систем контроля двигателей. Они находятся в шкафах электрощитов генераторов, а шкафы эти - в салоне, у задних туалетов, закрываются ключиком, типа мебельного, и прижаты еще откидными подпружиненными сиденьями бортпроводников. Так вот, один из них был открыт и просто прижат сиденьем. Любой посторонний: ребенок, нетрезвый пассажир, - мог туда попасть. И, видимо, попал, потому что при запуске в Красноярске все работало, а в полете мы, выходит, летели с выключенной сигнализацией. Случись чего с двигателем…
Техники подумали, посовещались, и чтобы не вешать на Валеру подозрение в плохом контроле, записали в журнал: «Устранен обрыв провода». А то ведь начнут раскручивать, и концов не найдут, а нервы даром потреплют, и виноватым останется экипаж.
Конечно, умный конструктор. У нас, кстати, и в переднем вестибюле в полу есть люк, через который любой желающий может проникнуть в техотсек, где все жизненно важные агрегаты.
Проводникам положено следить за пассажирами все время. Но ведь те постоянно шмыгают в туалеты, за всеми не уследишь, а надо кормить, поить, консервы вскрывать и т.п. Поэтому вся надежда на то, что никто себе зла не желает и не полезет, куда не надо.
Но вот третий туалет в хвосте убрали, сделали кислородный отсек; теперь там очереди. Мамаша отвернулась, а ребенок все дергает, случайно открыл, случайно нажал, щелкнуло, испугался, молчит…
Правда, Валера перед вылетом проверял, вроде закрыто было.
Вчера исполнилось полгода с момента катастрофы. Накануне мы с Витей были на этом месте, походили, посмотрели… Остались там лишь мелкие обломки, что не вывезли зимой, а теперь вытаяло. Да большие куски, что взрывом загнало в землю. И на обгоревшем пне лежал трогательный, уже высохший зверек - соболюшка, совсем уж невинно принявший смерть вместе со свалившимися с неба людьми.
Вчера ехал по дороге мимо этого места. У обочины стояла машина; на поляне, вырубленной взрывом, скорбная фигура женщины, среди обломков, с банкой, в которую воткнут букетик цветов…
Поминать ребят некогда: из рейса в рейс. И сегодня Норильск, снова ночь, и ночи нет - северное солнце. Ну, да помнить их мы будем всегда, а ритуал поминок с обязательной водкой, по-моему, не так уж важен. Я там был и помянул без всякой водки.
Хотел взять на память хотя бы валявшуюся под ногами лопатку компрессора… и раздумал. Железка примелькается, а памяти не прибавит. Памяти прибавляет горящий в груди пепел.
Три тетрадки - меньше чем за год. Кому это все нужно? Но уже привык, и перечитывать самому интересно, даже иной раз удивляюсь: я ли это писал? Настроение не сохранишь, а вот, читая, вполне настраиваешься, как опять там побывал и то же почувствовал.
А через десять лет?
Всякий раз при заходе на посадку дома мы видим возле дальнего привода поляну, где приняли смерть наши товарищи. Но жизнь продолжается, и так же летают над этим местом самолеты, и обгоревшая и изодранная земля, возвращаясь к жизни, заживляет, заращивает травой нанесенные ей людьми раны, и дикие цветы там цветут, как прежде, и птицы выводят птенцов.
Летные дневники. Часть 2
1985. Усталость.
8.07.1985. Что такое середина лета для летчика?
Работа, работа, каторжный труд, бессонные солнечные ночи, задержки, нервотрепка из-за сбоев, неразберихи, отсутствия машин и топлива, – и за всем этим – тысячи и тысячи людей, перемещенных в пространстве и времени, ошалелых и счастливых.
Надо заглянуть в глаза сходящим с трапа пассажирам – и оправдаются резь в глазах, и мокрая спина, и гудящие ноги…
Встречаем сотый или тысячный рассвет в полете. Проводница вошла в кабину, любуется восходящей на бледном горизонте Венерой, ахает и восторгается. Ахай, ахай, какие твои годы…
А у меня гудят, ревут, места себе не находят бедные мои ноги. Вроде и не топтался, вроде и поспал, ну, полежал перед вылетом, а вот в полете, на эшелоне, не могу их пристроить. Снял башмаки, засунул горящие ступни между педалями, поближе к патрубку обдува, – вроде полегче. Нет, ноют, ломят, крутят опять. Между педалями тесно, пальцы упираются в пучки проводов. Да, конструктор не рассчитывал, что пилоту в полете хочется вытянуть ноги и поднять их чуть повыше.
Правильно, нечего с больными ногами летать. Приходится терпеть, и только экипаж удивляется, чего это командир вертится в кресле, не находит себе места…
Вчера пригнал мне в Краснодар машину Слава Солодун. Зная, что там топлива нет, залил, сколько мог, в Оренбурге, привез нам 13 тонн. Но в АДП ничтоже сумняшеся решили направить нас на дозаправку в Грозный, и я принял эту лишнюю посадку как должное, решив поберечь нервы и не выспоривать топливо до Оренбурга.
Так он пошел, уговорил их, доказал, что дешевле добавить нам 6 тонн и отправить по расписанию, чем давать 8 тонн до Грозного (если бы, конечно, он не привез 7 лишних тонн с собой). Пробил, убедил, добился, пришел и мне сказал. И теплое чувство шевельнулось во мне. И неловко, что я оказался рохлей, и благодарность к нему, моему учителю.
Сколько, помню, обижался я в свое время втайне на него, за педантизм и мелочные придирки, – все ушло, растаяло как дым, и осталась лишь чистая благодарность.
А сейчас уже Валера Кабанов спрашивает меня, какие замечания по его полетам со мной (он скоро будет вводиться, и я даю ему летать полностью, без ненужной подстраховки). И я вспоминаю, как при моих посадках Слава поднимал руки от штурвала демонстративно – что ты же, мол, сам сажаешь, а я – руки, вот они! И я так же делаю Валере. И так же педантично требую в мелочах. При вводе нет допусков – только на «шесть», строгие параметры. Может, когда и он помянет добрым словом.
13.07. Снова катастрофа. Ту-154 упал с эшелона 11100. Командир только и успел передать, что самолет беспорядочно вращается. 174 пассажира и экипаж погибли.
И снова вопросы, вопросы…
Сваливание? Была умеренная болтанка. Но при сваливании срабатывает АУАСП, выдается световая и звуковая сигнализация выхода на закритические углы атаки; да и действия по выводу из сваливания просты, если вовремя.
Бросок из-за ложного сигнала в канале управляемости АБСУ? Отказы АБСУ были и у нас – из-за попадания жидкости на блоки, расположенные как раз под передним туалетом. Умные конструкторы заложили бомбу еще в проекте.
Но все же можно было бороться, выключив РА-56 и продольную управляемость, останутся одни бустера, можно лететь.
Разрушение самолета? Скорее всего, да. Оторвался элерон, закрылок, – столкновение? Летают шары-зонды, мы позавчера сами видели; и если ветер с юга – а дело было 300 км южнее Кзыл-Орды, в Кызылкумах, – то вполне могло что-то залететь из-за границы, да еще 23 часа по Москве, самая ночь.
Самолет падал, и 3 минуты засветка на локаторе диспетчера была, но экипаж не отвечал, скорее всего, погибли при перегрузках на вращении. А такое вращение вероятнее всего, когда отваливается крыло.
Но если что-то отрывается, слышен удар, а экипаж доложил только о вращении.
Диверсия? Попали в грозовое облако? Сбили?
Короче, вариантов много, а 184 человека погибли. А ясны только несколько катастроф.
Омск – тут диспетчер виноват.
Норильск – автомат тяги.
Починок – экипаж не смог запустить двигатели в полете.
Но и то, две последние – это вина и машины, и экипажа.
Алма-Ата. На взлете упал Ту-154. Свалили на сдвиг ветра. Но ветер должен был быть на высоте 100 м – попутный 20 м/сек, чтобы упасть. Ну, ладно там горы рядом, можно предположить и такое.
Фальков упал – там бортинженер помог, хотя… никто бы на его месте не справился.
А кто помог этим ребятам из Карши?
На моей памяти на нашем, самом массовом самолете погибло около 700 человек.
Не надо, конечно, брать в голову. Все это – случайности, совпадения и недоработки. А так самолет хорош.
Я и не беру в голову. Я на нем летаю.
20.07. Хорош самолет, но летом, если только температура на высоте чуть выше стандартной, – не летит.
Вчера скребли высоту от Сочей до Минвод, причем, из-за засветок над Пицундой пришлось 10 минут набирать высоту над приводом; успели набрать 5000 м, – так вот, до Минвод еле наскребли 10100. На высоте 9 км температура за бортом была -22, а должна быть около -50. И мы скреблись по 3 м/сек, как на Ил-18, я все поглядывал на АУАСП – и, к своему удивлению, не видел ни большего на той же скорости угла атаки, ни уменьшения запаса по сваливанию. Запас был 5 градусов на эшелоне. Странно, ведь при такой аномальной температуре за бортом запас должен бы уменьшиться, потому что близок был практический потолок.
Это навевает мысли. Если при отклонении температуры на высоте к плюсам от стандарта АУАСП не предупреждает пилота о близком сваливании, то…
Во всяком случае, нам через день запретили летать выше 11100 – до особого указания.
Из разговоров в штурманской. Верить ли указателю углов атаки? Какова скорость сваливания по прибору на эшелоне? Около 350, ну, даже 400. Можно ли, будучи в здравом уме, сразу потерять скорость с 530 – как минимум на этой высоте – до 400? Даже в болтанку? Вряд ли.
Если нам талдычили, что выкатыванию на посадке способствует система устойчивости-управляемости, СУУ, уменьшающая отклонение рулей пилотом, если угловая скорость велика, то, если сваливание все же произошло, не мешают ли демпфера выводу из штопора? Пилот дает ногу полностью на вывод, но как только установившаяся скорость вращения начинает уменьшаться, демпфера уменьшают отклонение рулей, чтобы сохранить «заданный» параметр – угловую скорость вращения. Таков принцип их работы или не таков? Сохранить что? – нулевую угловую скорость или «заданную», установившуюся? По идее – угловую. Или нулевую? Надо лезть в учебник.
Летчик-испытатель Попов говорил, что на испытаниях наш самолет вывели из штопора только с помощью противоштопорного парашюта. Он с трудом входит в штопор, но и с трудом выходит.
Такие вот разговоры. Но увереннее всего говорят: столкнулся или сбили.
Черт возьми. Мы летаем на этих самолетах всю жизнь, и каждый раз, садясь в кресло, я должен быть уверен, что долечу, довезу людей и сам останусь жив. А самолеты падают. Что же нас держит?
Привычка. Не берем в голову. Это – не со мной. Уж я-то справлюсь. Случись чего – легкая и безболезненная смерть, это не так страшно. Вот наши аргументы.
Туркмены всю жизнь летают в условиях высоких температур, а случай такой – первый.
Нет, скорее всего, какой-нибудь красноармеец ошибся… Случаи ведь были. Ту-104 под Красноярском. Ил-18 под Казанью. Ту-16 и Ан-24 на Дальнем Востоке.
Тогда мы ничего не узнаем, а будут нам пудрить мозги насчет устойчивости и управляемости на больших высотах.
Вот типичный механизм принятия мер. Провести занятия по этой самой устойчивости, по действиям при сваливании и пр. Надо быть полным идиотом, чтобы верить в пользу подобных занятий и в их самую суть, – о чем там и говорить. И в возможность охватить всех в самый пиковый период, когда на базе нет никого. И в то, что эти занятия будут проведены не формально.
Конечно, комэски плюнули, записали каждому экипажу занятия в тот день, когда он был на базе, да и все. Ну, два слова-то по теме сказали. Видимость работы. Один упал, а все страдают.
Запретить летать везде – и на крайнем Севере, и на юге, – выше 11100. Запретить! Цурюк!!!
Цурюкнуть проще всего. И на трассах стала нервотрепка и толкотня. Но летать-то надо. Вот диспетчеры и пилоты и идут на нарушения, сокращают интервалы, берут на себя ответственность. Короче, как на Руси принято, когда начальство вводит путаницу, мужик плюнет, выматерится – и начинает надеяться только на здравый смысл и свою хватку.
В грозу теперь шаримся, как на Ил-18. Но с нашим слабеньким локатором да со способностью как никто притягивать молнии – нечего там делать. Надеемся только на авось, а уж если припечет, будем возвращаться.
Вот они, меры, принятые, чтобы не допустить падения самолета по подобным (еще не расследованным) причинам.
Я уж не говорю, что опять вернулись к поканальным проверкам АБСУ перед каждым полетом. Под роспись! Главное – роспись. Ну, мы и расписываемся, а летаем, как летали. Я сто росписей поставлю, потому что, если что случится, отвечать буду перед самим богом.
Месяц прошел напряженно. Каждый день полеты; было два выходных: 13-го и 15-го. За 20 дней налетал 70 часов. Общее качество полетов ниже обычного – гоним вал. Нет уже утонченных посадок, все больше 1.25 – 1,3; грубее становится пилотирование, грубее ощущения. Это закон жизни: когда аврал, не до тонкостей. А сейчас самый аврал.
Валере летать даю, но что-то шероховато у него на прямой. Много внимания отнимает тангаж, гоняет он триммер туда-сюда, теряет директорную стрелку, теряет створ, дергает газы. Зато автоматически кричит свои пункты контрольной карты, по-моему, даже не глядя. Низко подводит над торцом и, естественно, высоко выравнивает. Посадки на 5, но ой как далеки они еще от истинно отличных. Широки параметры пятерки, и пока он летает на уровне проверяющего высокого ранга: вроде и на пять, не придерешься, а у нас спины мокрые. Я ему спуску не даю, а он самолюбив, принимает молча.
Ничего, браток, тяжело в учении… Ведь, в конце концов, научится, будет летать, как дышать, поймет, что это – только способ выполнения задачи. Главное в летной работе – задачу выполнить, а пилотирование, так выстраданное в пору учебы, лишь поможет в этом деле.
Вчера в «Правде» тиснули статейку о мужестве летчиков. Дела-то: выключили один двигатель по признакам отказа и сели. Уря. И диспетчер их виртуозно заводил. Ох уж эти писаки.
27.07. Двадцать лет назад я выполнил первый самостоятельный полет на Як-18А. Двух десятков лет мне за глаза хватило, чтобы расстаться с романтикой полетов и вполне серьезно настроиться на пенсию. Каторжная работа без выходных, гниение в гостиницах, вечные тревоги…
А когда же жить? Все больше и больше появляется соблазна в обыкновенной, растительной, дачной жизни, без особых забот.
Вчера после ночи поспал пару часов, вскочил на мопед – и на дачу. Там уже Надя, и мы вполне счастливы. Сегодня с утра опять в седло – и на вылет, на сколько – неизвестно; может, и по расписанию сбегаем в Москву с разворотом. А может, опять пару суток погнием в вонючей гостинице, на телефоне верхом.
Такую работу можно выдержать месяца два, но – зная, что будет отпуск и все компенсируется. И если бы это был аврал и надо было героически преодолевать, грудью бросаться, то вполне можно вытерпеть и даже увидеть в этом какую-то романтику.
Но это – будни. И так будет всегда, и будет еще хуже. И отпуск будет лишь осенью…
Все. Сорвали с места телефоном, перегонять машину из Северного в Емельяново, бегу…
28.07. Итак, позвонил в ПДСП. Под наш рейс машины не было, но в Северном стояла готовая после формы, некому перегнать. У меня экипаж весь на телефонах верхом, и Михаил с машиной. Собрались и поехали перегонять себе под рейс. Против обыкновения, машина действительно была готова, и мы сумели перегнать и вылететь почти по расписанию, с задержкой 30 минут.
Естественно, если это надо им, то и два трапа, и пожарная машина, и пассажиров сажают одновременно с заправкой (как исключение – разрешается), и тети Маши с уборкой и питанием, – все успели. Это когда надо им. А когда надо нам, то весь в мыле.
Пришли в АДП, прошли по новой санчасть, чтобы лететь по новому заданию, как будто мы и не перегоняли машину (это чтобы хватило рабочего времени), подписали, пришли на самолет – нас уже ждут, трап отогнать, и все.
Вот так бы и всегда летать.
Рейс был не простой. На обратном пути из Москвы надо было залететь в Оренбург и вывезти оттуда пассажиров с краснодарского рейса (сломался самолет). Времени и на Москву-то с разворотом в обрез, а тут еще третья посадка. О том, что она уже четвертая в этот день, будет знать только старое задание на перегонку.
Короче, все успели. Везде шли нам навстречу, лишь бы обернулись. Налетали 9.10, записали летное время 9.00, а рабочего времени вышло с 16.00 местного до 8.00 утра. Шестнадцать часов, четыре посадки. Втиснули все это в прокрустово ложе наших норм, вышло 13 часов рабочего времени. Час с лишним выкинули «на обед»; перелет в это задание не вошел… вот и норма.
Конечно, ночью спать хочется, но я напялил кислородную маску и подышал минут 15, немного помогло. Но все же клевал носом от Новосибирска и очнулся только перед входом свою зону; Красноярск давал туман 900.
Зло взяло, что придется уходить на запасной и 10 часов отдыхать, а пассажирам мучиться в вокзале. Сон прошел, но мысли были вялы. Я отдал управление второму пилоту, а сам щелкал радиостанцией, искал погоду запасных.
Не снижаясь, вышли на привод; туман давали так же, 900, хуже минимума; я поговорил со стартом, сделали контрольный замер: 900 с курсом 288 и 500 со 108.
Плюнул, дал команду поворачивать на Томск – там хоть есть топливо и гостиница, а в Абакане ни того, ни другого нет.
Дошли до Ачинска, и – есть бог на небе – нам предложили вернуться: дымка 1100. Топлива в баках оставалось еще 10 тонн, хватило бы дважды до Томска, и мы вернулись.
Заходил Валера, я взял управление с ВПР. И правда, кругом молоко, и полосу я увидел с высоты метров 90. Огни в утренней дымке почему-то не были видны; увидел белые знаки, зацепился за ось. Трудно в тумане определять крены визуально, поэтому чуть доворачивал туда-сюда, но Валера четко следил по приборам до самой земли. Помощь его, правда, не понадобилась, я справился и сел как всегда. В момент посадки старт дал минимум: 1000 метров. За нами успели сесть еще два борта, и снова закрылось.
Вот из-за возврата мы и накрутили 9.10, но записали 9.00, а то ни в какие ворота не лезет.
Через час, в автобусе, возбуждение после захода прошло, и я задремал.
Итак, за июль 89 часов, два выходных. Устал. Никаких восторгов. Когда труд превращается в давящую необходимость, романтика пропадает. Но людям нужна не романтика, а мое умение. Слава богу, оно остается при мне, устал ли, не устал, – но дело свое делаю. Столько людей за лето перевез – этого мне достаточно. Иногда говорят спасибо.
Дорогие мои пассажиры, сегодня-то уж точно все зависело от моего умения. Отдыхайте себе спокойно, все позади. У вас в памяти лишь перипетии сидения в Оренбурге и долгая, тягомотная дорога. А у меня – свое.
Из разговоров в штурманской. Каршинские ребята потеряли скорость, срабатывал АУАСП. Запомпажировали двигатели, может, из-за болтанки; это усугубило положение: скорость быстро упала. А экипаж полторы минуты занимался чем-то, настолько, видимо, важным для них, что машина свалилась, и, выходит так, что чуть не на хвост, что ли. Хотя должна валиться на нос. Скорее всего, это плоский штопор.
Вроде бы Солодун в Ташкенте или сам разговаривал, или слышал чей-то разговор с Туполевым, и тот развел руками, говоря, что машина-то, мол, скоростная…
Как же тогда ее испытывали? Вот второй случай, а первый, на управляемость, – с Шилаком.
3.08. Налетал в июле 89 часов. Последние три дня отдыхали: вылетали свое до упора, ставить в план нельзя: полная продленная саннорма.
Напряженные полеты дают себя знать в отряде. Юра Ч. нарулил в Емельяново на фонарь, за что лишен талона. Что – за ним и раньше наблюдалось? Юра старый волк, командиром на «Ту» лет шесть уже.
Всем известный своей пунктуальностью, хороший, аккуратный бортинженер Ч., проверяя лампы и табло, ошибочно разрядил противопожарную систему в отсек ВСУ. Кнопки рядом. Хваленая приборная доска.
У Марка Б. молодой бортинженер при облете после смены двигателя на высоте резко проверил приемистость – помпаж. Вырезали обоим талоны.
У Сереги А. на днях предпосылка. Уже готовились снижаться с эшелона в Алма-Ате, как вдруг его бортинжнер, старый, опытный волк, случайно зацепил тумблер разгерметизации. В результате всем дало по ушам, в салоне вой, экстренное снижение.
У каршинских ребят командир перед своим последним полетом ходил по АДП и сам себя спрашивал: лететь или не лететь? Двадцать часов на ногах…
На нашем сложном самолете психологические и нервные перегрузки недопустимы: мы летом на пределе.
Валера Кабанов был на профсоюзной конференции ОАО. Обсуждались вопросы нашей работы, быта. Так вот, по министерству мы на последнем месте по регулярности и по налету на списочный самолет. Нет надежд на улучшение обстановки, особенно насчет обслуживания на земле. Нет ангара, а значит, люди будут героически на морозе преодолевать трудности. Плюнут и побегут.
В общем, лучше не будет. Все начальство управления разбежалось с тонущего корабля. Даже Садыков ушел рядовым на Ил-62.
И все это – в связи с переходом в новый аэропорт.
А нам, летчикам, несмотря ни на что, надо возить людей. Люди не знают о наших проблемах, люди нам верят.
А летное начальство жмет. Указания, указания, порой противоречивые, порой безграмотные.
А мы нервничаем. Экипаж КВС А. во Владивостоке не смог отдохнуть за сутки: заели комары в гостинице. В санчасти командир психанул, пожаловался. На жалобу отреагировали просто: отстранили от полета на 12 часов и заставили отдыхать в той же гостинице. А где же еще. Задержка самолета, а дома машин не хватает.
Командир отряда приказал по прилету домой отдыхать 12 часов, а потом приходить в АДП на «свободную охоту» – на любой свободный рейс.
Командир предприятия запретил нам отпуска, даже по путевкам. А сам улетел в отпуск в Сочи.
Я уже втянулся. Сплю, где и как придется, из-за комаров не психую, а тщательно заделываю туалетной бумагой щели в окнах, зашиваю сетку и сплю себе спокойно. Насколько можно спать спокойно в сотне метров от аэровокзала и автостанции, с их динамиками, орущими круглые сутки, с гулом моторов от запускающихся самолетов и вечно снующих под окном машин, во влажной духоте, на мокрых простынях, под непрерывные трели телефона у дежурной, на прогибающихся до пола панцирных сетках ископаемых коек.
Все свободное время – на даче. Там тишина, покой, физический труд, творчество, воздух, ягода. Отдушина.
Надя, молодец, понимает и всячески старается снять мое напряжение, без излишнего сюсюканья. Вот истинная подруга, настоящая жена пилота!
На днях сосед по даче Юра К., бывший пилот, нынче работающий в расшифровке, сказал, что и я попался.
Дело было так. Мы с Володей Щербицким вылетели из Москвы друг за другом с интервалом 5 минут. Он пошел центром, а я севером. И мы их догнали и сошлись на кругу. Интервал был 6 км, и я, решив отстать, заранее выпустил шасси и механизацию и подвесил машину на минимальной скорости, рассчитывая успеть за ним так, чтобы он освободил ВПП к моменту моего решения о посадке на ВПР.
Но по некоторым причинам план не удался, и по команде диспетчера мы с 900 м ушли на второй круг, допустив ошибку. Сначала я дал команду убрать закрылки до 28 на скорости 270, что допустимо. Но по РЛЭ сначала надо убрать шасси. Я подумал и убрал их, а потом и закрылки. Выполнил круг и сел как обычно.
Но к этому не придрались.
Криминал оказался в том, что, убирал закрылки в крене. И еще что-то по скоростям. В крене на «Ту», в отличие от Ил-18, убирать можно. А начальник расшифровки новый, этого не знал. Ну, а по скоростям – я потом опросил экипаж, и никто ничего не заметил. Устали?
Юра, молодец, уговорил пленку мою спрятать под сукно: мол, один талон у человека, да и устал он, жена что-то рассказывала; да ты сам летчик бывший, понимаешь, войди в положение… и т.п. Уговорил. Ну, спасибо.
Но выводы делаю. Нарушил РЛЭ – раз. Не заметил того, что заметила расшифровка, – два. Надо отработать уход на второй круг – три. (У нас шесть вариантов ухода в зависимости от различных факторов, и везде разные скорости).
И четвертое: начинаю спекулировать единственным талоном. Вот меня уже и пожалели.
Надя молодец. Разговор был при ней. Она сказала только: Вася, да успокойся, плюнь, не бери в голову. И правда, я плюнул и забыл. Было – было. Вызовут – выпорют. И все.
Да мне день отдыха на даче дороже переживаний, что меня выпорют.
Но, «Чикалов!» Не давай себе спуску! Низьзя!
Вчера в Чите гонял тангаж на глиссаде, допустил уменьшение скорости на 10 км/час – в штиль. Записал умеренную болтанку. Но – нарушаю. Чувствую, реакция не та. Перестал обращать внимание на мелочи. Грязь. Правда, посадки удаются.
Выруливая на полосу, забыли запросить разрешение у старта. Опомнился перед самой полосой.
Столько забот у командира: не забыть, предусмотреть, потревожиться, решить, исправить, проконтролировать, нажать, уговорить… Ну и притереть же машину…
Сложная работа; ну да сам выбирал. В войну тоже было тяжело, а дело делали. Так что надо продержаться до середины сентября, полтора месяца. И повнимательнее. А там – отпуск.
Черт возьми. Летчики-испытатели, представители МАПа, сам Туполев, наконец, – все в голос твердят нам: да что вы так боитесь этих расшифровок? Вы – пилоты, мы вам даем инструмент – работайте свободно, раскованно; а ваш ё… министр вас задолбал заэкономился, загнал на черт-те какие эшелоны, что уже падаете, за каждую шероховатость стружку снимает, до эталона доводит. Разве на нервах сделаешь эталон?
На что мы им отвечаем: Э…! И еще раз: э…!
Так что же – нас уже так задолбали, что и в жизни ничего хорошего нет? Ерунда. Работа красивая, и сегодня, взлетев в Чите, наблюдая, как земля тонет в утренней дымке, а самолет, пробивая многочисленные разноцветные слои облаков, скользит над верхней кромкой, отбрасывая на нее тень в радужном кольце, – вот глядя на эту красоту, я и подумал: нет, шалишь, это тебе не в офисе клерком сидеть. Тут истинная красота. Тут природа, машина и человек, и ничего лишнего нет. Надо только здраво относиться к мелочам жизни. Главное – дело у нас красивое.
Вот только уставать я стал от него.
12.08. Слетал в Сочи, поплавал в море. Короткий отдых, но помогает. Дали пару выходных – обшил два фронтона на даче. Устал физически, но отдохнул душой. Ничего, курочка по зернышку скребет…
Вчера слетал в Краснодар. Жара… Удались посадки в жару на короткие полосы. Задавался целью: посадка точно у знаков с целью экономии тормозов. Горячая бетонка держит, не дает садиться машине, а выражается это в неадекватной реакции самолета на определенную порцию руля. Приходится досаживать чуть от себя.
Три посадки мне удались вполне. Но чтобы сесть у знаков, приходится нарушать: прижимать под глиссаду на полторы-две точки по ПКП. Торец проходишь на 5 м ниже, выравниваешь ниже и придерживаешь посильнее у самой земли. Если все совпадет и унюхаешь высоту конца выравнивания, то затаивай дыхание и жди самой мягкой посадки.
В Куйбышеве на днях пришлось досаживать силой и грубовато. Взмыла чуть: не учел, что полоса держит.
В Краснодаре 33 жары и комары. Сетку я заделал хорошо, но в камере после ремонта воняло краской, духота, и пришлось спать с открытой дверью в коридор. Налетавший ветерок обдувал наши мокрые тела, и так мы перемучились ночь, едва поспав час перед утром, искусанные налетевшими из коридора комарами и мухами.
С утра я ушел на Кубань и там отдохнул от ночной жары в прохладной чистой воде и подремал немного под южным солнцем – вот предполетный отдых.
На обратном пути от Омска стало засасывать, и я бессовестно дремал, краем глаза изредка поглядывая на приборы. От Новосибирска до Кемерова (220 км) провалился на 15 минут в мертвый сон. Ноги ревели, и я едва дождался снижения. Валера зашел хорошо, все было отлично, и вдруг с высоты 100 м машина пошла вправо; хорошо, что я всегда начеку: еле успел выхватить и исправить курс, отдал опять, и он сел без замечаний.
Что такое у него с курсом на прямой? Ведь накажет судьба. Вот такие отклонения наша машина не прощает.
Чем ближе к земле, тем напряженнее внимание, тем точнее и мельче движения, – но это уже шлифовка установившихся параметров. А тут – уклонение до 30 метров перед ВПР – предельное! И потом – беспомощное шараханье к оси, естественно, переход через ось, синусоида, раскачка и посадка сбоку оси.
Кстати, в Куйбышеве на днях Валера и сел на четверть ширины полосы левее оси: исправлял возникшее на высоте 60 м боковое уклонение и не устранил боковое перемещение самолета из-за неподобранного курса – всего-то на один градус. Я все это видел, условия были идеальные, и я дал ему возможность убедиться, к чему приводят такие ошибки. Он с трудом понял. С трудом: он не видит этот один градус или же не придает ему значения. До поры до времени… Это не тот самолет.
Но пока он летает со мной, буду долбать его, но научу. Заем. Пусть проклинает, но так летать нельзя. Остальное все хорошо, но это «остальное» – лишь преамбула. На прямой нет мелочей. Уклониться после ВПР – смазать весь заход, все насмарку. В конце концов, должен же быть у пилота глазомер: зацепился за ось – держи ее.
Мишка все мечтает уйти на пенсию в марте. Он уйдет. Меряя все рублем, уйдет. Достроит дачу, там у него огород, сад, в городе у него тоже огород, машина, гараж есть, сам местный, связи есть, физически здоров, как буйвол, не брезгует шабашкой и сейчас; отношения с людьми – через «литряк». Езда и нервотрепка ему надоели – уйдет. Уйдет и будет жить не хуже.
А как я?
Летать я, несмотря ни на что, люблю. Возможности для профессионального роста рядовым линейным пилотом есть, сколько угодно. Как в старой книге, как в любимой женщине, – так и в любимой работе: перечитывая, открываешь все новые для себя страницы.
И устал от работы, но это – временно, это летние перегрузки. Даже втянулся уже. За июль получил чистыми 780 р. Где еще можно меньше работать, а получать столько же? Нет, деньги даром не дают.
Но не деньги большие мне нужны. Не было бы необходимости летать по 90 часов, я бы летал по 50 – мечта любого летчика, особенно на Ту-154. При таком налете и нагрузка равномерна, и не тупеешь, как сейчас. Только это несбыточная мечта.
Жалко, что жизнь проходит. Урывками видишь семью. Урывками спишь с женой, и то, только когда чувствуешь себя хорошо. Урывками все: дача, машина, театр, отдых, – вся жизнь.
А полеты? Полеты, полеты, полеты – это и есть жизнь.
Что я буду вспоминать потом? Дачу, отдых, театр? Поездки за грибами?
Нет. Полеты я буду вспоминать.
И ведь семья удалась. Урывками, урывками, а дочь уже невеста, дома все есть, а главное – мы остались людьми. Ну, я не пью. Это очень важно, конечно, но главное – оставаться во всем человеком, с душой. Надя и Оксана меня любят, я их тоже, и мы счастливы.
Как уйти? Как бросить работу, полеты? Надя боится, что я опущусь, забичую. При всех наших с нею разногласиях во взглядах, она очень ценит во мне духовное начало, видя в нем основу и семьи, и гармонии, и пример для дочери, и главный стержень, вокруг которого сосредоточена вся наша жизнь. Опустись я, запей, стань равнодушным – все.
А мне не скучно жить. Не пропадем. Я и без полетов останусь человеком, но… лучше летать. И мы уже привыкли, что периодически меня не бывает дома. Да и я привык, а то скучно одно и то же. Другое дело, я не позволю себе скучать в безделье.
Буду писать, ведь есть о чем.
16.08. Опять ЧП. Заблудился К., в районе Красноярска. Штурман не ввел поправку при переводе курсовой системы и, получается, взял курс на 50 градусов больше. Сплошные нарушения НПП: снижение без связи, ниже безопасной высоты, пока не сработала сигнализация опасного сближения с землей; беспорядочные действия, растерянность, непременное стремление найти землю… Чуть не нашли, короче. Летали лишних 55 минут.
Здесь, на земле, уже считали их погибшими. Спасло то, что старый бортинженер перезаправил машину на 3 тонны, и когда они сели, остаток был чуть больше двух тонн.
Случайно остались живы. Ночью где сядешь?
17.08. Ну вот, наконец-то представилась возможность обстоятельно описать последние события. Отсидел ночь в резерве, утром предложили остаться: через пару часов рейс на Запорожье, гнать туда, а обратно – пассажирами. А у нас же сегодня вечером запланирован Иркутск: налету 2.25, а день пропал. Так лучше за тот же день пол-Запорожья урвать, 6 часов.
Погнались за журавлем в небе. Аникеенко нам машину под рейс пригнал, 384-ю; а на посадке диспетчер старта услышал хлопок, раскрутили; теперь машину осматривают, рейс перенесли на 17.00, наш Иркутск отдали Агафонову, а мне Медведев дал указание добивать Запорожье до конца.
Завтрашний выходной пропал. Но… се ля ви.
Зато нашел пустую камеру с приличным столом, можно писать, и, видимо, долго.
О командире К. Опытный, старый пилот, долго был командиром методической эскадрильи в УТО. Года полтора назад, когда его подчиненный пилот-инструктор УТО Лукич разложил во Владике самолет, его сняли, и он перешел к нам в отряд рядовым, вместе с тем же Лукичом.
Наверно, летая много лет проверяющими, и тот, и другой в чем-то подрастеряли навыки, привыкли надеяться, что проверяемый-то экипаж дело свое знает и не подведет. А тут жизнь и тому, и другому устроила экзамен.
Ну, о Лукиче разговор уже был.
В экипаже у К. летает штурманом Ш. Он пришел к нам из летнабов, и, видимо, привычка цепляться за землю осталась у него до сих пор. Да еще самоуверен и настырен. Были случаи, чуть не до драки с командиром доходило, вырывал управление автопилотом и чуть ли не штурвал. Отказывались от него.
А К. – склеротик. До анекдотов. Ехал как-то на вылет, решил перед вылетом зайти в эскадрилью. Сделал там свои дела… сел на автобус и поехал домой. На полпути опомнился, что на вылет же… выскочил, стал голосовать; хорошо, ребята на машине подобрали, успел, без задержки.
А то в Киеве: прилетел туда с экипажем в качестве проверяющего, а утром в умывальнике увидел члена экипажа и спрашивает: «А вы когда прилетели?»
В Домодедове на предполетной подготовке надо было срочно бежать в АДП, что-то улаживать, так бросился не в дверь, а в шкаф…
Хороший человек, но несобранный. Хороший был проверяющий: не мешал. Синекура.
А в этот раз они летели из Москвы. Набрали продуктов, мяса. Уже вошли в зону Енисейска, скоро снижаться, переводить курсовую систему на меридиан аэродрома посадки.
Селиванов рассказывал, что вроде бы Красноярск через Енисейск запросил их, готовы ли тут же, сразу после посадки, выполнить рейс обратно на Москву: нет экипажей, а у них рабочего времени должно хватить…
Ясное дело, в экипаже начались дебаты. Мясо надо домой везти, куда ж его денешь. Вот, видимо, и забыли про курсовую. А тут уже пора снижаться.
Курс был взят на Горевое, естественно, с ошибкой на 50 градусов. Но Енисейск передал борт Красноярску, не видя (или не взглянув) ни засветки на локаторе, ни пеленга.
Красноярск, так же не глядя, принял и дал снижение до 6 тысяч. Ну, а раз снижались не в ту сторону, на 6000 УКВ связь прекратилась из-за большой дальности.
Первое, если пропала связь при снижении: проверить на второй станции. Проверить через борты. Уж если через борты-то есть, а диспетчер не видит, КВС должен забеспокоиться.
Ну, ладно, ночь, бортов мало. Связи на обеих УКВ нет. Связаться по дальней, по «Микрону» Пока шель-шевель, пока найдешь частоту, пока настроится, прогреется, – да есть же РСБН, дает азимут и дальность, место дает! Привода ночью врут, но «Михаил»… Он если и врет по азимуту, так до 10 градусов, а по дальности – или показывает точно, или горит «Дальность автономно». Три аэропорта с «Михаилом»: Енисейск, Красноярск, Кемерово. Не веришь одному – проверь по другому, третьему, сравни места на карте.
Каждую минуту – 15 км, 15 км, 15 км… Самолет летит, надо шевелиться. Стоило глянуть на «бычий глаз» - магнитный компас на фонаре, на ИКУ, на КМ-5, – и сразу все стало бы ясно: расхождение в курсах!
Но это ясно дома, в кровати. А там дело к панике. Нет связи, а скоро Горевое. Радиокомпас крутится, может, уже прошли? По расчету пора поворачивать вправо. Связи нет.
Действия при потере связи? Прослушать на всех каналах, на частоте ДПРМ по радиокомпасу, вызывать по связной… Три радиостанции же не могут сразу отказать, если все остальное работает. Не снижаясь, на последнем заданном эшелоне следовать на привод аэродрома посадки. Только АРК тот привод не берет.
Они снижались. Это уже ошибка командира.
Вышли по расчету штурмана на привод, АРК так и крутит; пытались выполнить заход по схеме – в облаках и без связи…
Сработала сирена ССОС – земля близко! Немедленно набор с максимальной скороподъемностью! Еще памятна катастрофа Ту-134 в Алма-Ате, когда самолет зацепил за гору, чуть выйдя за пределы схемы захода.
Набрали 5100. Поняли, что заблудились.
Действия при потере ориентировки? Включить сигнал бедствия, набрать высоту, перейти на 121,5 – уж на этой частоте все дежурят.
Нет, молча стали виражить, снижаться опять. Увидели землю в разрывах: уже светало. Увидели воду, думали, Енисей. Бортинженер сказал: да это же озеро Белое! Штурман его отматерил, но сам к этому времени скумекал кое-что и, втихаря, видимо, согласовал курсовую. Дал курс 60 – правильный, на Красноярск. Опять сработала ССОС. Набрали 1800 и пошли на Емельяново. На Балахтон вышли уже по АРК, и дальше сели с прямой на 108.
Диспетчеры Емельянова и Северного переговаривались между собой: шутка ли – потерялся самолет, пахнет катастрофой. И тут, наконец, по связной КВ-станции вышел на связь второй пилот. Но как ты определишь, где он летит, не зная места, а из-за малой высоты на диспетчерском локаторе их не видно. Использовали ли они свой бортовой локатор, я не знаю.
Короче, диспетчеры стартов повылезли на крыши вышек и слушали ушами, и услышали, что где-то крутится. Ожидали, что вот-вот упадет, без топлива. Но, к счастью, нарисовался с курсом 108 и благополучно сел.
Как мог самолет, с тремя работающими радиостанциями, с исправным оборудованием, с РСБН, локатором, двумя радиокомпасами, с НВУ и шестью указателями курса, – заблудиться вблизи аэродрома и потерять связь? Что делали на нем специалисты первого класса?
Уму вполне постижимо: элементарная профессиональная несостоятельность. А ну-ка: сразу два особых случая в одном полете!
Комиссия из Москвы уже прилетела, приказ готовится. Отлетались. Разве что спасший их бортинженер Вена Грязнухин отскочит… если не копнут, откуда взялось лишнее топливо. Но вряд ли копнут. Спишут на неточность топливомеров. Он их если не спас, то хоть натолкнул на путь истинный, да и топлива прихватил втихаря, по старой бортмеханицкой привычке, памятуя, что топливо – это не перегрузка.
Поэтому мы и оставляем друг другу заначку. Москва не смотрит, что нам запретили высоко летать и расход стал больше. Топлива выдает 31,5 т и ни килограмма больше; им главное – загрузка. Поэтому Аникеенко, прилетев в Москву с остатком 7 т, записал 6, а тонну подарил экипажу К. Мы все так делаем. Вот – не подарок судьбы, а забота товарища о ближнем. Жить-то надо, и К. с пассажирами остался жив.
Мы с Мишкой за курсовой системой следим строго. Случаи были, и я всегда за то, чтобы перевод курсовой был заметным этапом перед снижением. И по технологии 2-й пилот при этом сличает ИКУ с КИ-13. Мы об этом забыли, ну а теперь я сам буду следить.
Мне пришлось блудить пару раз. На Ан-2 как-то заблудился в трех соснах, летя на Лосиноборск, и хорошо помню состояние при этом. Уже начал было набирать высоту, стал в спираль, да Брагин летел навстречу из Айдары, спросил, чего это я кручусь над Лосиноборском, и я от стыда опомнился и определился, что нахожусь на трассе.
А на Ил-18 летели однажды в Якутск через Ербогачен-Мирный, я был еще вторым пилотом, Голенищенко командир; штурман наш выполнял второй самостоятельный полет. Отказала курсовая система. Я все по локатору искал Вилюйское водохранилище, не мог найти. Мирный нас по локатору заметил, дал место, еще спросил, не через Киренск ли мы идем. Мы не поверили: оказалось, идем по киренской трассе, гораздо восточнее ербогаченской. Короче, совместными усилиями определились, использовали все средства и, уклонившись на 190 км, все же вышли на Мирный по киренской трассе, и диспетчер отпустил нас с миром дальше на Якутск, за что ему и сейчас большое спасибо. И никто об этом случае до сих пор не знает, а так я вряд ли летал бы на «Ту».
В Японии катастрофа. Разгерметизировался, потерял управление и упал Боинг-747. Погибло 520 человек; четверо чудом остались живы, бортпроводница даже разговаривает. Оторвался хвост. Самолет этот хорошо приложили 7 лет назад, повредили хвост, сделали ремонт; вот он, бедный, летал, летал, и не выдержал. Сперва деформировался, треснул фюзеляж, вот и разгерметизация, а потом стало клинить тяги управления. Вторых пилотов в этой авиакомпании убрали в целях экономии на коротких рейсах, вот бедный капитан сам и рули тягал, и решение принимал, и связь вел, и команды отдавал, да так и боролся до конца. И бортинженер с ним.
Мы все братья по профессии. И у них не сладко, и у нас. Но о нас пишут в газетах, только когда мы мужественно преодолеем препятствия, созданные нами же. А когда мы погибаем, виноват экипаж.
Вот ташкентский экипаж. Прилетели в Карши пассажирами. Толкались на ногах долго, рабочее время до смерти составило 21 час. Уже, говорят, арестовали врача, комэску и командира отряда. Все знают, как это – лететь пассажирами, а потом гнать рейс.
Ясное дело, может, и дремали. Но нам вешают лапшу на уши, что потеряли скорость, свалились, растерялись, выключились, температура на высоте, болтанка и пр.
Болтанка была, с перегрузкой 1,3, это ерунда. Приборная скорость резко упала, как если бы кто дунул сзади или взорвалось что за хвостом. Вот от чего могли остановиться двигатели, а не от болтанки. Но… могло быть, и что дал взлетный режим резко, а на той высоте нельзя, вот двигатели и запомпажировали.
Факт, что падал не на нос, а вроде как на хвост. Почему? Должен при сваливании падать на нос. Значит, рули повреждены, оперение? Короче, что-то темнят.
19.08. Лечу в Сочи. Машины пока нет, резерв выехал из Емельянова в Северный перегонять 417-ю. Вот жду, как они приступят к предполетной подготовке, так мы выедем.
Сегодня полистал РЛЭ: сваливание с чистым крылом наступает на 290, АУАСП срабатывает на 330 (для веса 86 т); ну, у каршинцев-то вес был поболе. Они свалились на скорости 400 с лишним. Медведев запретил нам в наборе снижать скорость менее 480. Запас почти в 200 км/час! Я сто раз летал на 420, и запас по сваливанию был. Это – шараханье, как бы чего не вышло, и неверие в машину. Обрубаются ее потенциальные возможности. И так ведь потолок снизили на 1000 м, возможности набора ограничили, скорость на посадке увеличили… Так хорошая ли это машина, если, вдобавок, и жрет она больше всех?
21.08. Слетали в Сочи. Туда нормально, с задержкой на пару часов. Обратно нас отправили через Краснодар-Уфу-Норильск. Есть такой рейс, с четырьмя посадками.
Семья норильчан потеряла в накопителе билеты. Долго их мурыжили, билетов нет, надо снимать с рейса, баба ревет, дети ревут, мужик за сердце хватается.
Взял я их без билетов, уговорил дежурную. Тут и билеты нашлись; короче, задержка получилась.
Тут лету до Краснодара 30 минут, горы, грозы, самолеты, а тут пассажиру этому плохо, давай скорую к трапу вызывать, два баллона кислорода на него стравили. Оказалось, у мужика инфаркт, сняли его в Краснодаре, а семья полетела дальше, а куда деваться. Они там ему не помогут.
Скомканный полет получился. Я все отвлекался то на пассажира, то на засветки, то на ритуал предпосадочной подготовки.
Так задержка потом и висела весь рейс, и мы все подсчитывали, хватит ли рабочего времени.
В Норильске задержали нас еще на полчаса: разбирались с грузом проводник и склад. Ну, Норильск не был бы Норильском, если бы не задержал: у них меньше двух часов самолет сроду не стоял.
Дома урезали 5 минут последнего полета, выбросили полтора часа на обед, и с продленным мною – с согласия экипажа, естественно, – временем работы 13 часов получилось 7,05 налету при фактическом рабочем времени 14.30.
Домой приехал в 4 утра, поспал 7 часов, а вечером уже стоим в плане 102-м рейсом на Москву. Успел смотаться на дачу, собрать урожай, полить, нарезать цветов – и домой.
Позвонил в ПДСП за 3 часа. Сказали связаться с АДП: рейс мой совмещают с норильским, а кто полетит – решит АДП. Телефон в АДП – только из АДП Северного. Я предупредил ребят по телефону и помчался в Северный. Удалось связаться с АДП Емельяново: рейс у меня забрали, а мне – в профилакторий, т.к. у них улетели все резервы. Я запротестовал и предложил сидеть дома на телефоне, а мне, если что, пусть позвонят. Но там, в АДП, сидит мальчик – ни рыба ни мясо, он промямлил, чтобы я связался с Медведевым.
Полчаса я рвал диск телефона, но не смог связаться ни с отрядом, ни с ПДСП, которая обычно заваривает всю кашу. Плюнул, поехал домой, оттуда с первого звонка связался с ПДСП. Мое предложение о домашнем резерве отвергли, мотивируя очень логично: «Стану я еще звонить вам».
Пришлось ехать. Собрал ребят, приехали, заведомо зная, что будет, как недавно, когда из резерва пришлось поддежуривать Запорожье: просидели тогда день, а вечером пришел резерв и чуть не выхватил у нас из-под носа Хабаровск вместо Ил-62. Пришлось срочно качать права – и все-таки мы высидели Хабаровск и слетали.
Так и сегодня. Сначала предложили нам додежурить до ночного резерва. Додежурили. Теперь предлагают Хабаровск, но с задержкой, пока на час. Это, вполне возможно, – до утра. А мы без выходных с 9-го, 12 дней. Утром ожидается туман – как раз к нашему предполагаемому возвращению, так что возможна посадка в Абакане. Ночной Хабаровск с разворотом и тремя посадками – это тяжело. Вечером-то поспали часок, теперь не уснешь, а если надо?
23.08. Вчера таки слетали в Хабаровск. Ребята меня свозили, а я бессовестно дремал всю ночь. Но какая там дрема – краем глаза все же косил на приборы, а наушники так и не снимал. Трепало весь полет, болтанка противная; спасибо Васину, что запретил летать выше облаков, вот и болтались по верхней кромке.
Прием пищи в болтанку выглядит так. На колени кладешь полотенце и ставишь поднос, на нем – в еще меньших подносиках, или корытцах, – пища и кофе; обычно еще и девчата готовят бульон, так что две чашки с каленой жидкостью болтаются на подносе, болтающемся на коленках, которые болтаются по кабине, трясущейся с частотой примерно три качка в секунду, – длинная оглобля фюзеляжа именно с такой частотой гасит толчки от болтанки.
Хватаешь обе чашки в руки и, балансируя, ждешь, когда утихнет тряска, чтобы хоть одну поставить на секунду и освободить руку. Молниеносно зубами разрывается пакет с кофе, так же вскрывается сахар; все это с промежутками перемешивается и сразу отпивается большим глотком. Теперь можно эту чашку поставить на поднос, уже не так боясь, что расплещется.
Теперь бульон. С ним сложнее, потому что он горячее и покрыт обманчивым на вид слоем растопленного жира. Кто хватал каленый бульон, тот знает, что под жиром кипяток… но уже поздно: нёбо облезет.
Сыплешь соль, мешаешь вилкой, языком эту вилку пробуешь. Если слишком горячо, выход есть. Сыплешь ложкой в бульон рис. Если есть яйцо, режешь его – и туда же. Все это – в непрерывной тряске. Чашка переполняется, температура ее снижается; надо хватать и, обжигаясь, глотать, пока уровень не понизится настолько, что можно поставить. Да там уже почти каша.
Если болтанка сильная, то не знаешь, за что вперед хвататься, и пьешь попеременно из обеих чашек – а, черт с ним, все равно там все смешается.
Потом уже спокойно можно есть курицу. А запивается все фруктовой водой или соком.
Это нормальное, полноценное, здоровое, в основном, ночное, питание летчика. И всегда, когда ест командир, начинается болтанка, по закону подлости.
Валера посадил оба раза мягко, но… ему, видимо, не хватает внимания, или же он тратит много сил на снижение с эшелона вручную, да еще накладывается усталость, да рейс тяжелый. Короче, на прямой он уже заторможен, а на выравнивании и выдерживании скован и не видит кренов.
Попробуем снижаться с эшелона в автомате.
Если бы я вводил его в строй, да с левого сиденья, да с рулением и торможениями, то… больше четверки никак нельзя поставить, а ведь он со мной самостоятельно налетал уже часов 150.
Взлетает, правда, отлично, пилотирует отлично, а на посадке вот такие казусы.
Правда, и самолет же сложен, черт бы его не взял. Но надо доводить дело до конца.
Самому уже хочется полетать вволю, но я сам связал себя этим обязательством: доводить второго пилота до кондиции. Или у меня такие уж высокие требования?
Как же тогда летает Солодун, если и пять лет назад он уже был прекрасным командиром и инструктором, а ведь он и сейчас все время работает над собой. Это уже мастерство на грани искусства. И нет конца совершенствованию. Даже я по сравнению с тем же Валерой гораздо больше вижу, чувствую, понимаю, – а ведь он практически готовый командир, чуть только руку набить с левого сиденья. Все мы растем постепенно, было бы желание.
30.08. Вот, плакал, что уже полетать хочется самому, а тут как раз представилась возможность. Проверял меня Рульков в Одессу и обратно, семь посадок – по горло налетался.
Туда – три посадки днем, все безукоризненны, точно на знаки сажал, берег тормоза. Обычно мы садимся с перелетом, метров 400-600, но случай в Горьком отбил у меня охоту перелетать.
Нормативы предусматривают посадку на 5 – от знаков и плюс 150 м. Вот я и поставил себе задачу: сажать точно на знаки.
В Одессе заходил в автомате, но после посадки спина почему-то была мокрая. Пришли в профилакторий, и я сразу завалился спать и проспал 11 часов. Утром смотались на Привоз за помидорами и снова прилегли перед обедом на минутку – проспали еще четыре часа.
Рейс нам шел с задержкой: в Ульяновске нет топлива, и они садились на дозаправку в Казани. Так что мы заранее настроились на четыре посадки.
Я успокаивал себя тем, что утром дома туман, как раз ко времени нашей посадки, а тут нам рейс пришел позже на два часа, да мы, перелетая куда-нибудь на дозаправку, потеряем еще два часа, так что прилетим уже к обеду, туман рассеется. А то пришлось бы отдыхом экипажа задержаться на 10 часов где-нибудь на запасном в Кемерово, или еще хуже – в Абакане, валяться в самолете на креслах (там нет летной гостиницы, а бортов нападает много – повернуться негде).
В Днепре заправили побольше, чтобы из Ульяновска хватило перелететь в Казань на дозаправку. Но в АДП нам сказали, что уже и Казань отказывается заправлять. Но все же решили направить нас в Казань.
Разговор вел Рульков, сразу на высоких тонах, правда, потом извинялся. Ну чем виноват диспетчер, и так уже взвинченный ожиданием скандала с очередным экипажем? Он стрелочник, как и мы.
А тут в Казани гроза. Я предложил не терять времени и лететь в Куйбышев: там ДСУ, там разберутся и заправят. Решили лететь.
На подлете к Ульяновску договорились транзитных пассажиров не высаживать: заправки не будет, так пусть себе спят. Высадили ульяновских, засадили красноярских – через сорок минут мы взлетели.
Обычно стоянка длится полтора часа. Для заправки надо высадить пассажиров – из условий их безопасности. А посадка обязательно через досмотр. Волна международного терроризма на авиатранспорте хлестнула и по нам: уже лет десять как вооружают экипажи и производят длительный, утомительный и унизительный досмотр пассажиров и ручной клади. Хотя существует сто способов террористам достичь своей цели, обходя досмотр.
Часто в промежуточном порту недосчитываются пассажира. И если он летел с багажом, надо перетряхнуть весь багаж и снять его чемодан: а вдруг там бомба!
Так что мы не очень любим промежуточные посадки, и каждую возможность не высаживать пассажиров используем.
Куйбышев отказался дать второй трап и пожарную машину (в этом случае разрешается не высаживать людей при заправке), да и проводницы сказали, что пассажиры выпили всю воду, детишек много, надо высадить людей, чтобы не мучились. И попросили меня заказать воду для пассажиров.
Куйбышев никогда не блистал организованностью и в нашем сознании прочно занимает одно из первых мест по беспорядку. Никому не в радость садиться в Куйбышеве вне расписания.
Но, к нашему счастью, как раз все рейсы разлетелись, и мы были первыми из нескольких севших на дозаправку бортов. Заправка подошла сразу.
В АДП, против обыкновения, не толкалось болтающих между собой и по телефону баб, а сидела одна сонная девушка, которой хотелось только одного: спать; а тут мы со своими заботами.
На мою просьбу о воде она дала мне телефон цеха питания. Трубку сняла дремучая тетя Маша, которая со всем сознанием возложенной на нее огромной ответственности гавкнула, что есть комплектовка, что без комплектовки ничего нельзя, и чтобы я позвонил в комплектовку, а она знать ничего не знает.
Девушка из АДП посоветовала мне сходить в перевозки. Там дали команду в пресловутую комплектовку, я еще раз позвонил в цех питания, и та же тетя Маша с неповторимым апломбом информировала меня, что машина, если освободится, будет минут через сорок, а на мое робкое замечание, что рейсов же нет, все вроде бы улетели, оборвала, что, мол, много вы там понимаете, машины все обслуживают рейсы. Вот так.
Пришлось позвонить в ПДСП. Там, к счастью, сидел мужик деловой, спросил, заправили ли нас, пообещал нажать на цех питания и, видимо, хорошо нажал, потому что простояли мы всего полтора часа.
И синоптики не болтали между собой, а сидела всего одна. Но с тяжелым вздохом разыскала она и бросила нам погоду, и с таким видом, будто делает нам великое одолжение, отрываясь от мировых проблем – ведь не по расписанию прибыли! – допечатала наши прогнозы в бланк.
Короче, мы всем мешаем работать. Как бы было хорошо, если бы не было в аэрофлоте летчиков. Как бы работалось!
Домой долетели без приключений, только хотелось спать. Кузьма Григорьевич, согнувшись в немыслимой позе над штурвалом, храпел во всю мочь, а я с тоскливой завистью за ним наблюдал. Михаил временами закрывал глаза, тоже задремывал, и я следил за курсом, иногда оглядываясь и на пульт бортинженера.
Потом Рульков вздрогнул, выпрямился, открыл глаза, строго оглядел нас, для виду что-то подкрутил, что-то включил, еще раз покосился на нас: видите – не сплю, работаю, – и снова закрыл глаза.
Но все же он таки вышел покурить в туалет, и я немедленно провалился в такой необходимый сон: пять минут, – но без них, с четырьмя-то посадками, ну никак не обойтись. И помогло.
Все четыре посадки назад – в автомате. Весь полет на автопилоте. Два раза в момент касания возникали крены, и я едва успевал среагировать, но – успевал.
Зашел в эскадрилью на всякий случай, глянуть план. Помощница по штабной работе Нина колдовала над пулькой. Глянул – у меня через день стоит Иркутск. А ведь мы уже выполнили продленную саннорму: 87 часов. На мой протест Нина уверенно бросила: слетаешь. Это меня взбесило: посторонний человек, бумажная крыса командует пилотом, толкает на нарушение. Я предупредил, что летать в этом месяце не буду. Если завтра поставит в план – не полечу; если будет задержка, пусть ее повесят на того, кто поставил в план вылетавший саннорму экипаж.
Мы устали. Честно отпахали лето, за три месяца 250 часов. Уже при этом налете год идет за два. Пора в отпуск.
31.08. Нина все же поставила нас в план. Я наказал дежурному написать против моей фамилии, что экипаж вылетал продленку, чтобы в АДП знали и заранее готовили другой экипаж. И хоть и хочется, чтобы задержку повесили на Нину, но так нельзя. Я всю ночь ворочался, а утром позвонил в ПДСП, чтобы еще раз предупредить. Там ни о чем не подозревали и удивились, как это – ставят в план небоеспособный экипаж.
К счастью, там был зам. ком. ОАО по летной Яша Конышев; он было попытался меня уговорить, что, мол, некому летать, перенесем налет на тот месяц… известная песня. Но я твердо отказался, мотивируя тем, что не могу рисковать единственным талоном, да и вообще нарушать не могу. И он меня отпустил. Да и куда он денется.
В пиковый месяц август весь план трещит, а потом летит к чертям. Любой показавшийся на горизонте свободный экипаж хватают – и в резерв. Я так уже пару раз попадался. И мне прекрасно знакома обстановка в АДП, ПДСП и отрядах. Тут закон один: можешь удрать, хочешь отдохнуть, – плюй на все. Другого дурака найдут, заткнут дырку. Кругом тришкин кафтан.
Причина ясна. Самолетов исправных нет, а неисправные некому чинить. План большой, а топлива по Союзу не хватает. Туманы эти в августе, задержки, задержки…
И пилотов не хватает: не переучивают из-за отсутствия ромбика; вновь введенных командиров мурыжат, не подписывают приказ по этой же причине. И в эскадрильях вынуждены заранее планировать по 90 часов на экипаж, без выходных. Кто сумел себе заранее добыть, выбить ограничение по медицине – счастлив: отлетав свои 70 часов, он недельку отдыхает.
Я всей душой за выполнение плана. Но… что-то не так в датском королевстве.
1.09. Я всей душой за выполнение плана. Но то, что у нас творится, уже даже штурмовщиной не назовешь. Это полный хаос.
Около одиннадцати вечера звонит Медведев, интересуется, боеспособен ли мой экипаж, и чтобы я по возможности созвонился со всеми: не прикрыто много рейсов из-за задержек, возможно, ночью придется лететь, несмотря на то, что сегодня мы в плане на Владивосток. Какой там план!
Я понимаю обстановку. В вокзалах тысячи людей, наивно полагавших в свое время, что к концу августа улететь так же легко, как в январе. Эти люди сидят сутками, и уже на четвереньках успели бы доползти, да немалые деньги уплачены вперед…
Людей этих, с детишками, жалко. Из года в год это повторяется, и из года в год все хуже с топливом, с самолетами, с обслугой, с порядком. Наше местное руководство ночует на производстве, домой не идет – разгребает эту кучу малу. Медведеву уже ночь в день, раз поднимает экипаж буквально из постели.
Конечно, надо проявлять сознательность, лезть из шкуры, нарушать отдых, с угрозой безопасности, – но вывозить людей.
С другой стороны: куда их черти несут? Сто раз писали в газетах, чтобы старались пораньше улетать из курортных зон, чтобы равномернее была нагрузка на аэрофлот.
Ну, вылезем мы из шкуры, вывезем, дадим план. На следующий год нам спустят от достигнутого, плюс рост: нельзя же топтаться на месте. И опять мы будем лезть из шкуры, недосыпать, гнить в гостиницах, тянуть план. За ту же зарплату.
Что сейчас, война? Не лучше ли оглянуться, да на следующий год план уменьшить, сократить рейсы, подогнать землю, снизить темп этой бешеной гонки на месте?
Да кто ж это позволит.
На мой звонок Мишка послал Медведева подальше и заявил, что устал с заготовкой огурцов и лететь не может.
Валера, помявшись, сказал, что лучше бы завтра… Видно, уже злоупотребил.
Короче, я сказал Медведеву, что экипаж не готов. Да и самому не улыбалось ехать на ночь глядя, уработавшись за день (а повкалывать пришлось), толкаться всю ночь в АДП или в коридоре переполненной гостиницы, на раскладушке. А утром еще и домой отправят.
В конце концов, угроблю свое здоровье ни за что, из-за головотяпства чинуш, бюрократов, там, наверху, и ни одна собака через год не вспомнит, как надрывался ради их премиальных.
Вот наглядный пример, как бытие определяет сознание коммуниста.
Но у нас работа такая, что отнюдь не на амбразуру кидаться. Мое здоровье – мой рабочий инструмент. Нет его – и я не летчик, никто, бич.
И я отказался, сказав Медведеву, что экипаж не готов.
2.09. Упал Фальков, разлетелся его двигатель – и после катастрофы организованы мероприятия. В частности, бортинженеров в полете обязали замерять виброскорость ротора по какой-то новой методике. Это не мое дело, но если до катастрофы мы следили лишь, чтобы виброскорость не превышала параметры РЛЭ, то сейчас, по новой методике, слишком часто она стала выходить за пределы.
Приходится ставить машину, и новая забота свалилась на инженерно-технический состав: замерять, проверять, регулировать, вплоть до снятия двигателя. И это при том, что у нас ИТС и так не хватает.
И, несмотря на новую методику, армяне сделали вынужденную посадку по причине разрушения двигателя. Новая методика замера виброскорости двигатель не спасла.
У армян на высоте 80 метров командир (!) заметил падение оборотов и дал команду выключить двигатель. Бортинженер запротестовал, не видя признаков отказа. Начались дебаты; двигатель между тем разрушался. Вмешался пилот-инструктор; после неоднократных команд двигатель все-таки выключили, набрали высоту круга и – деловые люди! – зная, что магнитофон записал их дебаты и это грозит им неприятностями, стали «вырабатывать топливо», сделали два или три круга, пока предыдущие записи стерлись (записываются последние полчаса или около того), да, видимо, и после посадки не торопились выключать магнитофон, для гарантии. И в результате – получили ордена; в прессе все было надлежащим образом освещено (причем, как я заметил, в братских республиках если что случается, то ордена получают очень оперативно, а русский парень, что посадил зимой Як-40 на озеро без топлива… тишина). И вот вам герои – армянские соколы.
Так вот, я все думаю, дают ли пользу такие вот мероприятия после катастроф, или же вред? Объективно, может, и польза, а у нас, конкретно, вред. Мы как летали, так и летаем, но опять-таки: все меньше самолетов исправных, все больше задержек и мучения людей.
После катастрофы Шилака мы стали следить за рулем высоты и скоростью на глиссаде, и на многое при этом открылись глаза – тут польза очевидна. Да еще узаконили заход с закрылками на 28 – хоть из соображений центровки, но самолету все равно, из каких соображений, главное – можно.
После вынужденной посадки Кости Гурецкого из-за отказа в наборе трех двигателей сделали то, что и дурак должен был изначально предусмотреть: двигатели не запустишь, пока не включишь насосы и автомат расхода топлива. В этом ведь была причина останова двигателей: расходный бак оказался без подпитки топливом из основных баков из-за неработающих (не включенных) насосов подкачки-перекачки. Это была прямая промашка КБ. Да и сигнализация критического остатка топлива в баке на всех самолетах есть, а у нас ее не было!
И только когда у Гурецкого в Ташкенте бортинженер забыл при запуске включить насосы, и на высоте 9600 двигатели заглохли без топлива из-за полной выработки из расходного бака, и экипаж падал ночью, уже не надеясь на спасение, но тянул в сторону Чимкента, и молодец Валера Сорокин правильно рассчитал курс, и вел связь, и подсказывал командиру, и сумел-таки вывести машину на Чимкент, а бортинженер все-таки сумел в темноте и страхе опомниться, определить причину, подкачать топливо и запустить один двигатель на высоте всего полтора километра до земли, и командир сумел благополучно посадить машину на одном двигателе, – вот только тогда в туполевском КБ прозрели, что надо-таки ставить блокировку и сигнализацию.
Поставили. Но теперь при чтении контрольной карты командир обязан оглядываться и подтверждать, что перед запуском насосы таки включены. Хотя блокировка действует, и без насосов запуска не произойдет.
Спрашивается, зачем? Был недолет, теперь перелет. Недобдевали, теперь перебдеваем. Зато Гурецкий вписал новые страницы в РЛЭ, и мы долбим главу «Отказ трех двигателей в полете», которая нам вряд ли пригодится, и мучаемся на тренажере.
Что-то придумают после каршинской катастрофы?
Вот и день рождения прошел. Сижу во Владивостоке; до странности легко, по расписанию добрались. Час пик позади. Новый месяц начался; у всех впереди саннорма, и Медведев с Конышевым первую ночь спят спокойно. Через пару дней начнут отменять рейсы, все пойдет на убыль, появятся свободные самолеты, у техников станет хватать времени довести их до ума. Все плавно войдет в колею, и мы уйдем в отпуска, честно отдубасив лето.
День прошел, самолет нам идет по расписанию, и мы легли поспать перед полетом. Владивосток есть Владивосток: та же духота, те же комары, тот же шум на привокзальной площади. Мучились-мучились, вроде бы даже задремали, но тут динамики громко объявили, что начинается уборка привокзальной площади, владельцам машин срочно их убрать. Закружили под окнами, загрохотали две автометлы: туда-сюда, туда-сюда…
Гул машин, духота, изредка противный зуд комара, шлепки… Вертится экипаж, шуршит простынями, скрипят койки. Не спят ребята.
Через два часа подъем. Чем лежать и мучиться, пошел я в комнату отдыха; тут сидит под единственной лампочкой человек, читает. Он мне не мешает, и мы рядом, каждый занят своим делом.
Что в моей жизни эти два часа. Столько я недоспал уже на этой работе, что спокойно сижу себе и без нервов использую время хоть с каким-то толком. Прилетим домой, дома тихо, до обеда никто не побеспокоит, телефон и звонок отключу…
Это хорошо тому рассуждать, у кого отдельная квартира с отдельной спальней. А у кого коммуналка или общага, малые дети носятся?
Те времена, когда летчиков называли сталинскими соколами, давно миновали. Тогда их уважали больше, чем теперь, летали они, в основном, днем, а ночами спали в благоустроенных квартирах.
Сейчас нас слишком много расплодилось. Профессия наша становится массовой, а работа… что ж, у многих теперь работа требует предварительного отдыха. Вон и в газетах пишут, как влияет на производительность труда утренняя нервотрепка в троллейбусе. Подсчитаны и убытки.
А мы – что ж, мы очень здоровые, специально отобранные, тренированные люди. Мы выдержим. Нам за это большие деньги платят. Вот на них-то нам и надо строить себе отдельные кооперативные квартиры, чтобы спокойно отдыхать, да машины, чтобы, значит, не нервничать перед вылетом в троллейбусе.
Наша летная медицина… Она призвана следить за здоровьем летного состава, индивидуально подходить к каждому, знать всех, бороться за нас, чтобы конечный результат работы соответствовал девизу: сохранить здоровье летчика – сохранить миллионы государству!
Это теоретически. А практически – синекура.
Врач летного отряда. Посторонний человек, которого никогда нет на месте. Я не знаю случая, чтобы врач дрался с начальством за пилота. Врач себе молчит, летом регулярно отдыхает на курорте, по путевке; а пилоту предлагают: зимой – Теберду, горный курорт, на 12 дней. Это реалии.
Как мы проходим годовую комиссию, это тема отдельного разговора. Роли здесь распределены четко, и все расставлено по местам.
Летчики – просители. Они трясутся. Они вытерпят все, лишь бы допустили летать.
Врачи – господа. Мэтры. Они могут раздеть человека и уйти на сорок минут гулять. Им некогда. В одиннадцать утра у них чай. Это ритуал: собираются заранее, несут в определенный раз и навсегда глазной кабинет свои варенья, чашки. А ты сидишь, как собака, и смотришь на них преданными глазами.
Кто их контролирует, кто с них спрашивает? Какая у них ответственность? Какие они врачи? Они – эксперты, то есть, люди, определяющие соответствие параметров. Один бог знает, какие они врачи, но то, что лечить людей они не могут, знает весь аэрофлот. И под этими словами подпишется каждый летчик, кто раз в три месяца расписывается в графе «Жалоб нет».
Жалоб нет, и не будет. Попробуй, пожалуйся.
Все они обычно – жены тех же летчиков, погрязшие в сплетнях. Вечно враждующие группировки, склоки, зависть, подозрения… Слишком осторожно приходится с ними контактировать, подбирать слова.
А жить и летать надо. И, как собаки на тряпке у порога, сидим мы перед кабинетом и смотрим преданными глазами, как господа врачи идут пить свой чай.
4.09. Несколько слов о предполетном медосмотре. Что греха таить – иногда некоторые из нас идут на него с трепетом в душе. Поэтому им можно заказать. Заказывают без зазрения совести, называют место, где добыть, цены знают. А мы – от них узнаем. И это же не одному летчику заказывают, а многим и часто.
Вообще, работники аэропорта заказывают летчикам и бортпроводницам много и бессовестно. Помню, с ныне покойным Шевелем экипаж возил из Ташкента по полторы тонны фруктов. Бортпроводники возили вишню из Симферополя десятками ведер, заказывали электрокару – довезти из профилактория до самолета. Все – нужным людям.
Сколько я ни летаю, а всю жизнь домой везу два места: портфель и сумочку. Либо один портфель. Сейчас Ташкент ограничил вывоз десятью килограммами. Ровно столько приказом министра разрешается летчику провезти с собой. А пассажиру – двадцать.
Приказ приказом, а жить надо. Если я летаю в Ташкент один раз в месяц, то, в зависимости от сезона, везу оттуда портфель помидор и ящик винограда, да еще пару дынь в сетке. Это килограмм тридцать. А хочется еще же и арбуз…
Какой, к черту, приказ, если у нас в Сибири не растет виноград. Даешь взятку на проходной, даешь водителю служебного автобуса, чтобы довез фрукты до самолета. Ну а что делать.
Надо строить магазины прямо в порту, специально для летчиков. И чтоб там было все необходимое, чтобы не носились как угорелые верблюды по городу, а потом без задних ног шли на вылет.
Но это маниловские мечты. Проще запретить. Цурюк! Десять кило, и все.
А врачу везти надо? Пока пьем – надо. А диспетчеру как отказать? И командиру? И товарищу, который в отпуске? Вот и возим. А тут приказ, видите ли. Но приказы издают в Москве, а там 150 грамм мяса полчаса в магазине вилкой ковыряют. Им не понять, что нам в глубинке тоже хочется мяса.
Когда я пишу о сидящих там, в Москве, – зло пишу, – я не углубляюсь в дебри, что, мол, они-то все понимают, но им или удобно так, или инерция держит, или – не до таких мелочей, или же понимают, что надо бы, но не сдвинешь, и что жалко нас, да уж, видно, судьба…
Им на нас – насрать. Сами-то правдами и неправдами выбрались в столицу – пусть и другие попробуют, авось и им удастся устроиться на тепленькое местечко и ковырять вилкой московское мясо.
Ну, и мне наплевать, что они там обо мне думают.
Когда я рву диск телефона и в бога и в душу матерю сам не знаю кого, я думаю: семьдесят лет Советской власти, сорок лет после войны, двадцать лет я уже летаю, а дозвониться на работу – проблема. Кого материть-то?
Собираясь два раза в год в кучу – на занятия к ОЗН и ВЛН, – мы на партсобраниях жуем и жуем: телефон, телефон… Что можем мы, летчики, требовать еще от руководства? Да ничего. Где ты еще найдешь столь высокооплачиваемую работу? Чтобы зимой ничего не делать, а деньги получать, да еще и пенсия льготная. Старики привыкли, молодежь рвет налет на пенсию, все молчат или ворчат в кулуарах. Записные борцы обличают с трибуны. Результат – ноль.
А с другой стороны: уйду я на пенсию, и что я буду вспоминать – телефон? По телефону буду я тосковать, телефон будет сниться мне ночами? Или коробки с помидорами?
Как часто мелочи заслоняют от нас главное, чем живем.
Вчера ночью взлетали в Чите. Вес был восемьдесят тонн, прохладно, и чтобы не греть двигатели перед взлетом восемь минут, я решил взлетать на номинале, а в случае нужды – добавить до взлетного, как разрешено РЛЭ.
Взлетал Валера. Оторвались где положено, и я спокойно констатировал, что номинала вполне хватает. Дальше холмы и уборка закрылков на высоте 315 м; мы спокойно набирали эту высоту, правда, по 5 м/сек, но для номинала это нормально.
Но, видимо, на высоте ветерок был чуть попутный, да номинал; все сложилось так, что угол набора, вероятно, был чуть меньше обычного. Вдруг хрипло заорала сирена ССОС: горушки набегали под нас слишком быстро, а высота была еще маловата. Закрылки уже убирались, и Валера нервно и осторожно драл машину вверх на минимальной скорости, избегая возможной просадки. Сирена все орала, и хотя я в бледных сумерках наступающего рассвета уже смутно видел проносящиеся под нами лесистые вершины холмов, особо не угрожающие полету, но внутренне ежился. И не добавишь до взлетного – расшифруют, будет неприятность. Уж пожалел, что не на взлетном режиме взлетали. И все из-за экономии одной минуты.
Нет уж, на будущее: Чита – только на взлетном.
Сегодня летим в Сочи через Норильск. Дурацкий рейс с четырьмя посадками, собачья вахта. Небось, проверяющие этим рейсом не летают, а Медведев вообще согласился, чтобы отряд выполнял этот рейс, исключительно для плана.
Ну а мы, рядовые, выдержим. Вылет в час ночи, последняя посадка – через 13 часов. И двое суток на море.
Есть один очень важный моральный аспект, который отличает летную профессию от других. Мне кажется, трудно отыскать другую такую работу, на которой можно трудиться только отлично, с полной отдачей, не отвлекаясь, и где вообще отвлечение во время процесса считается кощунством и вариантом самоубийства.
У нас сколько угодно и хороших, и плохих: врачей, учителей, директоров, официантов, токарей, химиков, ученых, комбайнеров, строителей, настройщиков пианино, солдат, артистов, шоферов, – список этот бесконечен.
Но нет плохих пилотов. Они или убиваются, или сами уходят. Это аномалия – плохой летчик.
6.09. У меня пропал сон. Сплю по-птичьи, легкая дрема, урывками, а заставить себя спать перед вылетом не могу. Зато в полете проваливаюсь. Это уже серьезная усталость.
Пошел к врачу летного отряда, пока с неофициальной просьбой: посодействовать, чтобы отправили в отпуск пораньше, можно хоть сейчас же, потому что не могу отдыхать перед полетом. Вроде бы пообещала поговорить с Медведевым. Кирьян вышел из отпуска и напланировал мне 17 дней без выходных – и налету-то 46 часов; с 20-го отпуск. Но я боюсь, что не дотяну и где-то что-то нарушу из-за невнимательности и усталости. Эти несчастные Норильски и Иркутски вполне можно распихать между отдыхавшими летом экипажами (такие счастливчики есть).
Когда я узнавал план накануне, дежурный мне сказал (я с трудом разобрал из-за плохой слышимости), что в 20.40 Сочи через Норильск. Я этим рейсом туда не летал еще, правда, недавно возвращался им обратно из Сочи, и не знаю расписания. Была мысль, что, может, какой дополнительный рейс, что изменения в расписании, – но магическое «Норильск» подействовало сильнее всего, и я стал готовиться. Но поспать днем так и не смог, просто не мог уснуть. Угрюмо встал и с ощущением уже предварительной усталости от предстоящего четырехпосадочного ночного рейса пошел в комнату Оксаны и присоединился к общей беседе в семейном кругу.
За три с половиной часа позвонил в ПДСП, назвался, сказал, что лечу через Норильск. Там запарка, сразу сказали: не выезжать, нет самолетов.
После серии телефонных переговоров с экипажем (кого уже дома не было, уехал; к кому не дозвонился – дурацкая наша связь)выяснилось, что задержку дали до 5 утра Москвы – по-нашему 9. Счастливый, лег я спать с законной женой и проспал 6 часов.
Утром, не дозвонившись до ПДСП, мы с Михаилом поехали в Северный на автобус и там в очереди встретили Зальцмана, собирающегося… в Сочи через Норильск!
Я помчался на проходную, позвонил в АДП Емельяново… оказывается, я стоял на Сочи абаканским рейсом, а Зальцман – норильским. К счастью, абаканский задерживался до 7 московского. А так бы сорвал рейс.
Вот тебе и внимательно вник в тонкости расписания, поверил дежурному. И не докажешь потом.
Потолкались в штурманской до 9 часов. К этому времени пришел Саша Бреславский – на Сочи через Куйбышев. Но машину нашли только мне. Норильск был закрыт туманом; короче, вылетел я только в 10 московского, 2 часа дня у нас.
Бреславского перенесли на завтра, а мне досадили его пассажиров, сняв предварительно всех куйбышевских. Это меня насторожило; я по всем каналам стал узнавать, не решили ли нас послать из Абакана напрямую на Сочи, прикидывать, пройдет ли загрузка, разрешат ли увеличить вес до 100 тонн и т.п. Но оказалось, ложная тревога, куйбышевских отправят другим рейсом. Потом в Куйбышеве нас догнала 195-я – подсадили московский рейс с нашими пассажирами.
Перепрыгнуть в Абакан за полчаса – дело привычное, но на заходе мы неправильно выставили посадочный курс и едва справились, когда автопилот взбрыкнул и стал разворачивать не в ту сторону. Такое вот у меня нынче внимание.
В Куйбышеве Валера сел с перегрузкой 1,4. Ловил-ловил ось, вроде бы поймал, но потерял тангаж, подошел низко к торцу, выровнял выше, тянул, тянул, да и упал, даже чуть с козликом. Я промолчал: и на старуху бывает проруха. По-моему, прибор чуть соврал, перегрузка была, ну, может, 1,3.
Весь полет до Сочи я то спал, то читал. В Сочи сел точно на знаки, даже, пожалуй, метров 5-10 до знаков, но там, с вечным попутно-боковым ветром, перелет – непозволительная роскошь. И грубовато: прибор тоже показал 1,4. Силой присадил.
В Сочи сидит Игорь Гагальчи, уже 3 дня, под норильский рейс. Пусть улетает первым рейсом, а мы посидим: дома нас ожидает ростовский рейс с трехсуточным сидением – лето кончилось, рейсы реже. Лучше уж посидеть здесь. Правда, дождь, но хоть выспимся, а кто желает, может нырять в отвратительно-теплое море.
7.09. Добрались домой. Сидения не получилось: два борта пришли с интервалом в час. Но я успел на пляже покататься в пене прибоя, даже рискнул сигануть через трехметровые волны подальше, отмыть грязь.
В Куйбышеве заходил в автомате. С ВПР потащило чуть влево, исправил, метров с 30 заметил, что иду строго по продолженной глиссаде, – а как же с посадкой точно на знаки? Плавно прижал, догнал вертикальную до 5 м/сек, но торец прошел все равно на 15 м, ось поймал; помня о вертикальной, во избежание просадки заранее потянул на себя… а она не идет, нос тяжелый; хватанул… и выхватил чуть не на 5 метрах. Скорость-то была, досадил мягко, но… какие там знаки. «Чикалов…»
А Валера дома корячился, терял высоту на кругу, и над полосой рыскал туда-сюда вокруг оси, как охотничий пес, – но поймал. Подвесил ее, а когда стала приближаться земля, среагировал поздно, но все же среагировал – посадил 1,3. Машина нам пришла та же, и мы убедились, что акселерометр таки чуть завышает перегрузку.
Нина переиграла нам Ростов на Одессу, и сегодня мы стоим на 5.55. А сели в 2.15. Я сказал «адью» в АДП, пусть ищут резерв. Сегодня суббота, мы надеемся, что коррективов в план уже не будет и мы отдохнем Телефоны не выключаем, но договорились звонить друг другу особо, так, чтобы по характеру звонка знать, что это свои. Первый гудок вызова – кладем трубку. Там насторожатся: если через 20 секунд последует второй звонок, то это свои. А если серия звонков, трубку берет жена, а я – «на даче».
Машин нет, в АДП бедлам, ругань, пилоты взбеленились. План летит к чертям, сплошь толкают на нарушения, на горный аэродром заставляют лететь непровезенный экипаж и т.п. Ну, еще неделька, и схлынет. Но неделька хорошая.
9.09. Отдохнули денек. Сегодня понедельник, я поехал в отряд. Был разговор с Кирьяном, отпуска он не дает, раньше 20-го и не жди, а то и позже. При враче летного отряда заявляет, что если я за лето устал, то лучше мне уволиться на пенсию.
Врач промымрила, что ему, мол (это мне), надо бы отдохнуть… «Принципиальная» реплика. Тогда он предложил: я летать не буду, но до 20-го обязан каждый день являться на работу и сидеть от звонка до звонка. А с 20-го – в отпуск. Ну, с дурака что возьмешь.
Дождался Медведева, опять они поговорили с Кирьяном, зашел я, когда Кирьян вышел, и Медведев попросил меня продержаться до понедельника. Я согласился. Подписал он мне отпуск с 16-го, теперь душа спокойна. Дотяну недельку. Полтора месяца отпуска впереди.
Но – пара Кирьян с Ниной, ох и пара! Господа, через губу не плюнут. Мы у них как крепостные. Жрать будут теперь меня потихоньку.
Сил нет терпеть такую работу. Конечно, может, с врачом я поторопился, но Медведев прекрасно все понимает: не я один у него такой.
А обстановка в отряде все еще сложная.
10.09. Кирьян мне вчера предъявил претензию, что я не поинтересовался судьбой одесского рейса, а его перенесли на 14 часов, и нашелся порядочный, сознательный экипаж, ждал в гостинице и полетел, а я вот думаю только о себе, и т.д., и т.п.
Это, значит, лететь из ночи в ночь – нормально. А я считаю, что так работать – ненормально. Зачем так планировать, чтобы к моменту прилета из рейса экипаж уже стоял в плане на другой рейс? Зачем экипаж должен заботиться о судьбе этого рейса, в то время как он должен отдыхать после предыдущего? Зачем превращать ночь в день? Страна дураков.
Ну ладно. Мой экипаж настолько нужен сейчас отряду, что мне отпуска не дают и командир отряда просит дотянуть, поработать еще неделю. Я соглашаюсь. Звоню в план, ожидая, что на завтра стою в рейс – пусть самый неудобный, пакостный, ранний вылет… А мы как раз дома собирались отметить – пусть позже – мой день рождения, пока хоть один выходной…
В плане я был. На разбор эскадрильи, в зале УТО. Приезжаем утром в УТО. Три человека: мой экипаж (Валера Кабанов в резерве) и бортинженер-инструктор. Итого, четверо, больше ни души. Разбор не состоялся.
Итак, уже три дня мы не у дел. Да и план-то на сентябрь, оказывается, всего 60 часов на экипаж. Так ли уж мы нужны? Ну, посмотрим, куда поставят на завтра.
Если Кирьян не поставит в план, я пойду к Медведеву и заложу комэску. Это же прямое издевательство и самодурство. Мы не виноваты, что командир эскадрильи не способен планировать работу и отдых экипажей, из-за чего мы работаем на износ и несем реальные издержки. Понадобится – напишу официальный рапорт. Я в его эскадрилью не просился, с удовольствием уйду.
Но вообще-то собачье отношение к людям. Не тянешь – проваливай. Только деньги и держат. Да еще чуть теплится огонек под спудом обид и пинков…
На заводах с рабочими нянчатся. Двадцать пять лет отработал – на руках носят: ветеран, ордена-медали, грамоты, доска почета, путевки, наставничество, – да куда там. У нас же год за два – по полста и более лет стажа набегает, а все как собака на грязной тряпке у порога, виляешь хвостом: ах, пожалуйста, дайте отпуск, ах, нет ли случайно оставшейся путевочки… Ордена… Хрен в рот, а не ордена.
Ну, был бы я разгильдяй, нарушитель. А то же на хорошем счету, да и требую-то свое, законное.
Я уж не говорю о графике отпусков. Пишешь одно, семья рассчитывает, а Кирьян, одним росчерком, – как ему удобнее. Сам-то за лето дважды в отпуске был. И демагогически удивляется: два месяца – и уже устал? Не мужской-де это разговор.
Ему хорошо рассуждать, летая 25 часов в месяц: три Благовещенска с разворотом, днем, по расписанию (единственный рейс, которым летает амурское обкомовское начальство).
Дождался плана на завтра. Свободен. Мишка летит с Пушкаревым в Алма-Ату, а мы с бортинженером свободны. Вот так мы нужны отряду, что даже в отпуск уйти не моги. Вот для чего упрашивал меня Медведев продержаться недельку. Ну что ж, я вечерком ему позвоню. Кирьян копает под себя.
11.09. Позвонил Медведеву, он пообещал разобраться. Утром позвонил мой штурман: оказывается, в Алма-Ату он не летит, ошибка вышла, но у Пушкарева штурман улетел по путевке, и Мишка до конца месяца будет летать с ним. Разбор нам Нина напланировала тоже ошибочно. Ну, два сапога пара.
Медведев на мой вопрос, нужен ли я отряду, ответил, что, конечно, нужен, и если Кирьян меня не использует, то он сам найдет, где меня использовать.
Утром съездил за зарплатой; в эскадрилью не зашел, берегя нервы. Сейчас жду план на завтра.
Вчера зашел ко мне по делу Станислав Иванович. Как мой экипаж отдали Лукичу, так они с ним и летают. На мой вопрос, как летается, Стас со вздохом ответил: «Тяжело летать с инспектором, такой… законник».
Я бы с удовольствием вернулся в прежнюю эскадрилью к Селиванову. Там хоть и Вовик М. палки в колеса вставляет, но обстановка человеческая. Но как теперь бросить свой новый экипаж? Правда, Михаил уйдет, Кабанов введется, один Валера Копылов останется.
А Стаса с Пашей мне Лукич теперь не отдаст: с ними надежно.
Вот дурак беззубый, не смог тогда отгрызться от замполита. «Улучшил породу…» Сам стал числиться в разгильдяях, в неугодных. Отдал хороший экипаж…
12.09. В нашей прессе развернулась кампания шельмования американских авиационных фирм, в частности, фирмы «Боинг». Причем, как раз в годовщину инцидента с южнокорейским «Боингом», сбитым над Сахалином два года назад.
Газеты постоянно, мелкими, булавочными уколами, муссируют все мало-мальски опасные ситуации, в которые (как и все другие) постоянно попадают эти «Боинги».
То отказал двигатель, то загорелся, то вынужденная посадка, то катастрофа. Читатель должен твердо запомнить, что «Боинги» – плохие, ненадежные самолеты, а так как их покупает и летает на них весь буржуйский мир, то налицо засилье американских монополий.
Я убежден в засилье этих самых монополий, но меня коробит от околоавиационных аргументов.
Не те ли газеты целый год втолковывали нам и всему миру, что «Боинг» – исключительно надежный самолет, крупнейший с мире и потому обладающий особо надежным и точным, с многократным резервированием, навигационным оборудованием. Иначе, мол, как он мог заблудиться, уклониться на нашу территорию на 500 миль. Шпиён. Тут рука ЦРУ, а самолет – ни при чем, он очень, очень, ну очень надежный, отличный самолет «Боинг!»
Нечистоплотный прием. Раз на нас весь мир ополчился, что сбили мирный самолет с пассажирами, то давай шельмовать и их, и ихние самолеты, и те монополии. Плохие у них самолеты, плохие, ненадежные, опасные, горят, падают, разваливаются в воздухе, а весь мир ну просто вынужден их покупать и летать на них.
Читатель не должен знать всю правду: этих «Боингов» летает по миру во много раз больше, чем хваленых советских самолетов, всех вместе взятых.
Но пепел Шилака, и Фалькова, и алмаатинцев, и каршинцев, пепел многих погибших на наших, хваленых, надежных, ну почти что самых лучших самолетах, – стучит в мое сердце.
Мы, летчики, все летаем в одной стихии. И мне одинаково больно и за наших погибших людей, и за погибших у них. Трагедия всегда трагедия, и нечего мешать сюда политику. Тем более, когда рыло в пуху. Мне стыдно, когда стечение обстоятельств в извечной борьбе человека со стихией становится аргументом в политическом споре. Нельзя смешивать чистое Небо и грязную политику.
Мало того, у них ведь наши катастрофы освещаются так же, как и их катастрофы у нас. А у нас о катастрофах на наших самолетах – две строчки. Все хорошо, прекрасная маркиза. Вот – гласность. Мы сами, летчики, не знаем точно, что же все-таки произошло у Фалькова, в Алма-Ате, в Карши. А нам же летать.
Позвонил вчера в план: отдыхаю. Значит, не нужен я сейчас отряду, а весь сыр-бор разгорелся из-за самодурства Кирьяна. Вполне возможно, он в последний день перед отпуском засунет меня в трехдневный рейс. Слетаю, куда я денусь, но надо уходить из этой эскадрильи. Будем считать, что эксперимент замполита по «улучшению породы» во 2-й АЭ не удался. Скорее, наоборот: я из передовых сам попал в худшие.
Ну ладно. Пять дней не летаю. Сон плохой, верчусь, но все же в режим втягиваюсь. Правда, ослабленный организм мгновенно среагировал на похолодание: прицепился насморк, редчайшее для меня явление. Ничего, впереди еще полтора месяца отпуска, оклемаюсь.
16.09. Так и не трогали меня. Неделю просидел дома, убедился, что без меня вполне обойдутся. Вперед наука.
Вечером с трудом засыпаю, но, в принципе, сон уже восстановился. Ох, как я себя люблю, как пекусь о своем здоровье!
Нет худа без добра. Сегодня первый день отпуска, а я практически в форме, отдохнул за недельку в полном безделье, если не считать вчерашнего дня: весело и шустро убирали картошку. Лег спать и подумал: боже мой – вот она, жизнь-то, вот чему надо радоваться. Живу, дышу, как все, свобода, покой. И целых полтора месяца впереди. Я их честно заработал, и жаль только, что наши порядки таковы, что униженно выпрашивая свое, кровное, становишься почему-то нехорошим.
Ну да хорошим у нас можно быть, только усердно подставляя шею под любое ярмо и безотказно влача любую тяжесть, бессовестно наваливаемую в и так уже нелегкий воз. Это называется ставить общественное выше личного.
Отдыхай, Вася!
30.09. Две недели пролетели как миг. Стоит золотая осень, стоит долго: уже листопад, в разгаре, а погода звенит, и земля отдыхает после урожая.
Просидел под машиной в гараже. Ездил за грибами. Сложил Вите Колтыгину печь с камином. Работаю на даче. Ни дня не приседал, устал физически. В душе покой. Еще целый месяц впереди.
Летать не хочется. И думать о работе не хочется. Я уже настроен на пенсию. Но два года надо еще протянуть, пока Оксана кончит школу и поступит в институт. И уедем куда-нибудь на юг, купим домик…
Хорошо класть печи. Творчество. Приятно, когда по кирпичику за два дня складывается человеку тепло и радость. И дом из сарая превращается в уютное гнездо. Спокойная, несуетная работа.
И это – все?
14.10. На даче. Окончен трудовой день. В камине неспешно тлеет полено, потрескивает, а я нежусь в тепле, тем более что на улице сыплет снежок. Все, осень кончилась.
Ночами вдруг просыпаюсь, мучают мысли о предстоящем выходе на работу. А не хочется. Еще две недели впереди.
На работе куча новостей. Пришло новое НПП, изучают. Зачеты к ОЗН принимают у экипажа в кабинете командира ЛО. Ну, правильно: я и не ходил на занятия, предполагая, что зачеты все равно придется сдавать.
Но главная новость приятно ошеломила. Правда, ошеломить приятно трудно, но… сняли моего разлюбезного Кирьяна. Конечно, не моими молитвами пришло к нему возмездие, но и не без моего участия: вырезанный талон мой тоже сыграл свою роль, и отец-командир пострадал из-за меня, разгильдяя. Но и за множество своих грехов он пострадал тоже. И Нина схлопотала выговор: тоже есть за что.
Вкушаю новое для меня чувство: мести, не мести, – но справедливого возмездия. Чувство приятное.
У меня никогда не было врагов, ко всем я относился ровно и доброжелательно. Но за этот год пришлось потрепать нервы и с Кирьяном, и с Ниной, – и поделом им. Устроить в эскадрилье каторгу буквально всем: ни тебе отдыха, ни рейс попросить; ответ все один: не нравится – ищи другую работу. Ну, пусть ищет теперь сам.
Ввелись практически четыре молодых командира. Отправили документы, но Москва вернула: без высшего образования – пусть летают вторыми. Теперь у нас вторых – пруд пруди, а командиров нехватка. Опять без выходных, без проходных; каждый полет с новым вторым.
Мишке отпуска так и не дали. И печку я ему не сложил, а уже снег на дворе.
Угас камин. Дотлевают последние угольки… Тихо вокруг, только издали доносит ветром шум проходящего поезда. Ноют руки, приятная усталость размягчила тело, так спокойно, хорошо…
Завтра снова за молоток. Отдыхай себе, Вася.
22.10. Последние сухие и ясные деньки, с заморозками по утрам; через неделю ляжет снег.
Убивался на даче: к морозам довел до ума мансарду; теперь в любой мороз я на мансарде разжигаю буржуйку – и через полчаса можно работать.
Два дня клали с Мишкой печь у него на даче. Я добился, чтобы он подготовил качественный раствор, и такая работа у нас пошла – одно удовольствие. Оба довольны, у обоих гора с плеч, и Мишка поил меня вчера коньяком и, нажравшись, орал романсы, с крестьянской простотой обтесав и выкинув из них самые тонкие нюансы, но зато – во все горло.
Осталась неделька отпуска. Месяц вкалывал не разгибаясь, похудел. Зато сна мне хватает 7 часов. Еще бы месячишко так отдохнуть…
24.10. Когда взлетаешь в сырой, пасмурный день и самолет тяжело вползает в мокрую вату облаков, кажется, что весь мир хмур и ненастен и что весь путь предстоит ползти в неуютной сырой массе, то и дело швыряющей в стекло горсти мелких и противных капель. Поневоле заглядываешь в локатор: не скрывает ли этот тягучий и бесконечный кисель притаившуюся грозу.
И когда в кабине вдруг начинает резко светлеть, так, что больно уже глазам, и самолет начинает подпрыгивать, и голубые пятна пробивают серый цвет редеющих туч, – вот тогда вспоминаешь, что есть на белом свете солнышко, что есть и сам белый-белый свет; вот тогда судорожно хлопаешь себя по карманам: где очки? Но и сразу же другая мысль: по верхней кромке обледенение должно быть обязательно. И еще мысль: где-то здесь дежурят… с топорами… Как бы его сразу осмотреться и оценить обстановку насчет гроз.
Секунды – и вылетаешь в огненное море света, и верхушки взволнованной облачности, сыпанув напоследок по стеклам дымчатым слоем ледяных кристалликов, уходят вниз, а кругом – ясное, огненно-голубое, яркое, бьющее по глазам, много его, все заливает…
Уходят вниз, на глазах замедляя сумасшедший бег, волны застывшего облачного моря. Потом вдруг опять приближаются снизу, тянутся, убыстряют бег, несутся, мелькают под крылом, вот-вот зацепим… Вот несется черная гора, прямо в лицо… дух захватывает.
Но все в моих руках: одно легкое движение штурвалом – перелетаем и гору, и еще целые хребты, и все проваливается, теперь уже насовсем.
Легкий лед растаял; две-три наковальни стоят, но в стороне; путь свободен, и совсем другое настроение. А те, кто остался внизу, на земле, и не подозревают, какое сегодня яркое солнце, какое просторное и широкое небо…
28.10. Ничего, Вася, скоро и неоднократно испытаешь ты это опять. Завтра на работу.
Очередная новость. Бугаев запретил набор высоты и снижение на автопилоте. Ему в кабинете показалось, что летчики дисквалифицируются, не крутя руками штурвал. Видимо, где-то что-то произошло, связанное с автопилотом, – и весь аэрофлот должен страдать.
Ну, правильно. Он же не летает с тремя-четырьмя посадками ночью, когда надо силы беречь.
Ну да бог с ним, с маршалом нашим профсоюзным. Жизнь свое возьмет. Покрутим немного руками, а там… забудется, успокоится, главное, лишь бы расшифровщики не придрались. А там и отменят.
Глупо. Я всю жизнь использую автопилот, а обделенным себя не чувствую. Нет, неумно так рубить, сплеча. Это шаг назад.
30.10. Вчера вышел на работу. Ожидается на днях приказ о назначении нового комэски, а Кирьяна – пилотом-инструктором. Он формально числится еще командиром, но фактически устранился от всех дел. Меня спросил, как я отдохнул, как набрался сил. Вроде без нажима спросил, и я спокойно ответил, что отдохнул и набрался. Но мы прекрасно понимаем друг друга.
На Нину все волокут, и назревает с ней серьезный разговор, имеющий целью ткнуть ее носом в должностную инструкцию и поставить на место.
Все те инциденты между нами, которым я придаю так много значения и которые пьют так много моей кровушки, – для моих начальников лишь эпизоды, уже забытые; их в день бывает десяток: народу много, у всех проблемы.
Значит, надо быть более наглым, требовать свое и показывать зубы, не стесняясь никого. Я огрызаться не умею, но жизнь учит.
И, главное, задавить укоры совести. Я ни в чем ни перед кем не виноват, наоборот, прав только я, и надо добиваться своего, рвать когтями. И не брать ничего в голову. Работа работой, а здоровье дороже всего. Исповедуя такие взгляды, я только-только скромно подтянусь к общему уровню.
Да только как не брать…
Почему-то в мозгу плотно утвердился мой срок: 86 и 87 годы – и все. Двадцать лет полетаю, и достаточно. Мне будет сорок три года – половина жизни. И начну жизнь сначала, но уже по собственному желанию: режим, независимость, спорт, минимальные запросы, книги, природа…
Но это не значит, что надо работать спустя рукава и дотягивать до срока. Я отнюдь не утратил интереса к своей профессии. Тот критический взгляд, что в последнее время обострился во мне, не должен мешать главному. Хоть и много формализма в работе, хоть и будет его еще больше, летать я все равно буду с удовольствием. Сам процесс полета, слияния с машиной, борьбы со стихией, остается тем же, и даже, чем старше становлюсь, тем больше обостряется ощущение полнокровной жизни.
А уходить надо по той причине, что на противоположной чаше весов постепенно накапливается груз тех отрицательных моментов, устранить которые в течение ближайших лет невозможно. Это и внережимная работа, и еда ночью, а сон днем, и нарушение работы желудочно-кишечного тракта; это и все больший уклон к всеобщей «академизации» летного состава, когда всерьез, с трибуны, заявляется, что командиром самолета первого класса человек без диплома просто не имеет права быть; и давящий страх, что случись что с самолетом – по моей ли или не моей вине, – заставят платить, опишут имущество, и потеряю все, что нажил…
На все это уходит нервная энергия, так необходимая непосредственно в полете. И я думаю, если к этому прибавить эгоистическую жалость к столь любимому себе, которого разрушает этот образ жизни, – то меня хватит лишь на пару лет. Доводы разума, что необходимо изменить жизнь коренным образом, возобладают.
Ведь и вправду, с такими нервами я продержусь еще несколько лет, но уже – буквально на нервах, а потом сорвусь. Если спишут, то уже останется лишь догнивать. Обычно наш брат на пенсии долго не живет: отдав все авиации, ничего не оставишь для себя, одна водка, да воспоминания.
Значит, не надо отдавать все авиации. Я всегда был сторонником умеренности во всем. И ведь впереди, в принципе, еще половина жизни, свободной от забот, мелочной суеты, риска и стрессов.
Правильно написал в газете один свежий пенсионер: да я и жизнь-то увидел лишь на пенсии – и как же она хороша!
Сегодня разбор объединенного отряда. Обычно с такого разбора уходишь с тягостным чувством, потому что либо там кого-нибудь порют, так, что шерсть летит, либо рисуют мрачные перспективы. За 10 лет в большой авиации я сделал для себя определенный вывод: с результатами таких разборов лучше знакомиться потом, чтобы получить голимую информацию, избегая эмоционального стресса.
Приехал за 10 минут до начала: зал полон, мест нет, и сотня человек толкается у входа. Тут же немедленно развернулся и уехал домой. Не стоять же, в конце концов, в углу, три часа.
Вообще, в последний год у меня резко снизилась общественная активность. Не хочу бывать на разборах, занятиях, семинарах, собраниях. Не вижу в них проку: одна видимость деятельности, напрасный перевод времени в дугу.
Зато усилилась внутренняя работа, обострился критический взгляд на жизнь, жжет потребность если не изменить что-то, то хоть увидеть пути.
Только что закончилась эпопея с подготовкой отряда к полетам в осенне-зимний период. Это постоянное формальное мероприятие, долженствующее показать вышестоящему начальству, что весь личный состав охвачен, очищен, напичкан, отрегулирован и смазан к зиме.
А я себе разгильдяй. Я в это время просто отдыхал. Не был на занятиях, на конференции, не сдавал зачеты, только индивидуальное задание за два часа написал, а главное – не попал в приказ. Не могу летать. Теперь со мной надо проводить занятия, принимать зачеты; и вот хожу ежедневно в отряд, готовлюсь индивидуально. Потом пассажиром полечу на тренажер. И в результате во мне что-то изменится таким образом, что я стану к полетам готов.
А вот то, главное, что действительно жизненно важно, – что мне дают старого склеротика-штурмана, за которым глаз да глаз нужен всегда, – это мелочи. Ершов справится. Да и то: не хотел в отпуске, как все, на занятия прийти, картину испортил, парадность, – получай себе штурмана, уж какой есть, и благодари, что вообще дали: их не хватает.
Я не в силах изменить этот порядок, значит, надо принимать его как есть, приспосабливаться. И по возможности избегать формальных мероприятий.
Пришли молодые вторые пилоты. Дали бы мне одного, я б его доводил потихоньку до ума, вот и был бы стимул.
Валеру от ввода отстранили из-за отсутствия диплома. Для второго пилота он летает прекрасно. А это вообще молодые ребята, только и полетали вторыми на Ил-18, желание летать у них больше. Поговорить, что ли, в эскадрилье. Ну, утрясется с начальством, поговорю.
Недавно на разборе с Ковалевым был беспрецедентный случай. Он как-то полетел в Москву, а Домодедово закрылось. Он хотел сесть во Внуково, но там тоже погодка была уже на пределе, и диспетчер порекомендовал ему уйти в Калинин, на военный аэродром.
Валере бы сесть во Внуково, да и все, но раз диспетчер рекомендует, а в Калинине погода хорошая… Короче, ушли они в Калинин, а там же военные, никто Ковалева не ждал: ни связи, ни радиосредств, ни огней на полосе… Красная армия отдыхает. А топливо на пределе.
Хорошо, у Валерия Ивановича штурман толковый: быстро пересчитал все, привязался к шереметьевскому РСБН, настроил НВУ и вывел машину ориентировочно на центр ВПП в Калинине. Стали строить маневр, давай кричать в эфир; докричались, им ответили, развели дебаты, а надо ж садиться: топлива на 20 минут.
Короче, строили маневр без радиосредств, одновременно прикидывая возможность сесть в сумерках в поле. Как потом рассказывал Валера, у него от напряжения схватило живот, чуть не обгадился. Смех смехом, а решался вопрос о жизни и смерти; и полторы сотни душ за спиной…
Кое-как красноармейцы включили средства, благо, штурман завел машину подальше да пониже; вышли в створ. Увидели, наконец, полосу и сели, буквально на соплях, матеря в эфир товарища полковника, который все не разрешал посадку, пока не увидел самолет, повисший над ближним приводом.
Дело раскрутили, полетели звезды, к папахам попришивали уши, а Валеру, как водится, сперва потаскали, постращали, а потом вроде как вышел приказ о поощрении.
Скоро сказка сказывается… Прошло лето, Валера уже успел схлопотать ни за что выговор, весь в обиде, что, мол, как несправедливо наказать, так моментально, а как наградить…
Выговор он получил буквально «за горло». Стоял он на Львов, а тут вдруг понадобился экипаж на Тбилиси. Туда мало кто провезен; вот и резервный экипаж, не имея провозки, отказался лететь. Валерий Иванович провезен везде, но на указание дежурного командира изменить задание и лететь на Тбилиси, резонно возмутился. Дежурил командир не его эскадрильи, а изменить задание может лишь тот, кто его подписал: командир летного отряда или вышестоящий начальник. Пока искали начальника, Ковалев, ругаясь с дежурным командиром, подписал решение на вылет и ушел на Львов. Тем временем подоспело указание старшего начальника отправить Ковалева на Тбилиси.
Не так-то просто взять и мигом перенастроиться с Львова на Тбилиси, как будто экипаж – бездушный винтик. В спешке и запарке можно наделать ошибок: не тот сборник в БАИ захватить, допустим, или еще что, – а обвинят ведь тебя, а не кого другого.
Ковалев все равно отказался, и тогда его вообще отстранили от полета, а рейс его выполнил резервный экипаж.
Отцы-командиры ругались тогда в кабинете у Медведева, уточняя права дежурного командира, я сам слышал в открытую дверь, но лейтмотивом разговора было все-таки то, что рядовой – и отказался, да еще и носом тыкал начальника в закон!
Короче, нашли формальную зацепку и для науки выпороли.
И тут этот разбор. И Медведев, после того выговора, торжественно собирается вручить Ковалеву за посадку в Калинине именные часы: мол, я казню, я и милую.
А Ковалев встал и на всю катушку оттянул наше начальство вдоль и поперек, сверху донизу. А потом всенародно отказался от ценного подарка. И Медведев так и остался с протянутой рукой…
В общем-то, эта демонстрация хорошо чесанула по нашему бюрократическому подходу к людям.
Я бы вряд ли решился на такое. Правда, я сам не присутствовал, передаю со слов коллег. Но – силен Ковалев. Он мужик горластый, скандальный, но способен на поступок.
Вышел приказ по Карши. Упирают на высокую температуру: на 16, 5 градуса выше стандарта. Это тьфу.
Свалились они в горизонтальном полете на автопилоте, причем, «по невыясненной причине» убрали газы, потеряли скорость и, в конце концов, свалились в плоский штопор.
Виноваты, оказывается, КБ Туполева и ГосНИИ ГА: безосновательно разрешили летать с большим весом на больших высотах.
Основание-то было. Надо ж было внести свой вклад в эффективность полетов. 139 взрослых и 53 ребенка разного возраста…
Штурман эскадрильи, в которой работал погибший экипаж, говорил, что все склоняются к мысли, что экипаж уснул. А потом что-то произошло, и спасение было лишь в одном: штурвал полностью от себя и взлетный режим, – и, потеряв тысячи две-три (а не 650 метров, как гласит РЛЭ), может быть, и вышли бы.
Короче, полетные веса на потолке снова уменьшат, и прилично. А насчет 16,5 градусов – летали мы тысячу раз…
31.10. Сдал зачеты, 3-го лечу пассажиром на тренажер.
Пришло изменение в РЛЭ. Полностью переработан раздел «Посадка». То, что я предлагал три года назад, наконец-то обрело силу: интерцепторы выпускать в момент касания, а насчет кнопки – разрешили и включение реверса в момент касания (при этом автоматически выпускаются внутренние интерцепторы, и кнопка не нужна). Ну, правильно, жизнь подтвердила.
Но рекомендации… Следуя РЛЭ, надо самолет плюхать с вертикальной скоростью 0,5-1 м/сек. Задницей бы о бетон с такой вертикальной…
Зато расчет точный. Ну, да, слава богу, хоть отменили дурацкий заход по продолженной глиссаде. Ничего, мы уж как-нибудь посадим и в расчетное место полосы… и помягче.
Много внимания в РЛЭ уделено тому, как ставить ноги на педали. Ну да педали у нас, и правда, на уровне мировых колхозных стандартов; некоторые пилоты и тормозят нечаянно раньше времени, случайно придавив педаль чуть сильнее.
Есть рекомендации, что если уж самолет потащило вбок с заносом (это ж как надо его крутануть перед приземлением!) и полностью отклоненные педали не дают эффекта, – отключить управление передней ногой.
Это – то же самое, как если бы неопытного шофера занесло на льду, а он руля крутил бы до упора, когда колеса идут уже поперек хода. Так вот, при отключении управления передние колеса у нас сами установятся по ходу – хоть мешать не будут. Это ладно.
Но потом, когда каким-то чудом пилоту удастся восстановить управляемость машины и вывести ее параллельно оси полосы, в чем я, впрочем, очень сомневаюсь (и что за асы умеют это делать, да еще рекомендуют другим?), – так вот, после этой экстремальной ситуации рекомендуется тут же опять включить управление передней ногой. Правда, оговаривается: при нейтральных педалях.
Сомневаюсь, чтобы пилот, пусть даже опытный, попав в такой оборот, с мокрой спиной, с колотящимся сердцем – пронесло? не пронесло? – смог проконтролировать, нейтрально ли он держит педали трясущимися ногами. Надо же еще и тормозить – полоса-то кончается, а известно, как неравномерно на гололеде хватают наши тормоза слева и справа: ноги никогда не нейтрально, помогаешь рулем и передней ногой.
Короче, выкинет ведь с полосы к едрене фене, с этой рекомендацией.
Мы с Кузьмой Григорьевичем только переглянулись. Нет уж, дудки, что-что, а ногу отключать не стоит. Шерсть кой-чему не защита. Лучше перед торцом не допускать отклонений, чтоб не занесло на пробеге.
Но зато, правда, все внимание уделено главному: самолет должен двигаться параллельно оси ВПП. Я за это ратовал всегда и рад, что этот основополагающий фактор безопасности на посадке наконец-то занял в РЛЭ достойное место.
Вчера утрясали вопрос, как мне с экипажем слетать на тренажер. По идее об этом должна болеть голова у начальства, а мое дело – позвонить в план и явиться на регистрацию, а билеты мне передадут.
Но сейчас зима, и если я сам не позабочусь, то и буду сидеть: план маленький, народу много, не к спеху. Да и начальство косо посмотрит, что, мол, Ершову все до лампочки.
Поэтому я взял это дело на себя. Сбегал, выписал требование, настоял, чтобы экипажу, который нас будет везти, дали указание уступить нам очередь на тренажере: им сидеть три дня, а нам добираться пассажирами назад. Отлетать – и в тот же день через Москву рвануть домой, чтобы не застрять на праздники в дороге. Удивительно, но мою позицию ретиво отстаивал Кирьян.
Все это так, но нет паспортов членов экипажа, и мне в кассе отказались выдать билеты. А годовых служебных, которые должны быть в штабе и выдаваться экипажу в подобном случае, нет, все разлетелись. С годовым билетом проще: пришел на регистрацию, предъявил билет; есть места – в кассе быстро выписывают бумажные, и в путь. Но сейчас рейсы забиты, мест нет, да и хотелось бы лететь сидя, а на стоя, как это сплошь и рядом бывает. Летим ведь – есть места, нет мест, – летим…
И вот сегодня (уже утро 1.11.) придется ехать в штаб и выяснять этот вопрос, выбивать все же годовые билеты, чтобы не дергать экипаж из-за паспортов.
Съездил. Никому ничего не надо. Были годовые билеты, но по ним в Ташкент, на тренажер же, улетели Александровы.
Ну что ж, отметим в плане, чтобы экипаж явился за 2 часа до вылета на регистрацию с паспортами: будут ли места или нет – улетим.
Собачья система: тебе надо – ты и добивайся, а не хочешь – сиди. А не нравится – уходи.
Простоял минут сорок в очереди на автобус: у них, видите ли, обед. Хорошо, что тепло оделся, – и то, замерз.
Вот такие маленькие гирьки, а все ложатся на другую чашу весов…
Топлива снова нигде нет.
Ограничили на нашей ВПП предельный коэффициент сцепления: 0,35 вместо 0,3, и ветер боковой на 4 м/сек меньше – это из-за отсутствия подготовленных боковых полос безопасности.
Запретили взлет и посадку в сильном ливневом дожде: видите ли, сопротивление возрастает и т.п.
Ограничили минимум в снегопаде: 1000 м на посадку, 600 на взлет. Зачем тогда эти тренировки на понижение минимума?
Короче, кругом жмут, а нам летать и принимать решения.
И погоды начались отвратительные. Пока сажают пассажиров, снег облепляет самолет; пока удалят снег и обольют «гамырой», заряд подойдет, будем ждать минимума на взлет; пока будем ждать погоду, снег снова налипнет, будем снова ждать очереди на облив…
Сколько раз бывало: сажают пассажиров, считают, пересчитывают, а ты сидишь как на иголках и все поглядываешь то на трап, то на туман, на глазах уплотняющийся и закрывающий фонари, то снова на трап… Материшь службу перевозок открытым текстом, а рабочее время идет, рушатся планы, перестраиваешь себя на новое решение. Ох, гибок пилот, ох, приспособляем!
2.11. Я вчера возмутился, что трачу личное время на билеты, а Нина мне сказала: кто же виноват, что у нас такой порядок. Начальник штаба сказал, что чтобы забронировать нам место по телефону в ЦАВС – это ж целая эпопея. Надо подать рапорт командиру предприятия, исписать кучу бумаг, ехать договариваться в агентство, – и это все из-за того, что раз в год экипажу приходится слетать стоя.
Стану ли я трепать нервы, убивать дни, свой отдых и здоровье, добиваясь решения проблемы? Нет, я слетаю стоя. И не раз, а четыре раза в год. Промучаюсь ночь туда, ночь обратно, и все. А посвятить жизнь борьбе за то, чтобы другие исполняли свои обязанности, – да лучше головой об стенку. Я своей семье в агентстве билеты в отпуск брал, так два дня болел.
Значит, что же – позиция стороннего наблюдателя?
Большинство так и живет. Себе дороже искать справедливости, добиваться порядка. Иди, иди себе. Пош-шел на….!
Но ведь все планы в нашей великой стране рассчитаны на то, что если все мы возьмемся дружно…
Каждый должен честно работать на своем месте. Чем виноват тот же Кирьян, та же Нина, что в их инструкциях нет указаний добывать нам билеты на тренажер? Я на себя не могу добыть, а им что, больше надо – на всех-то добывать? Кто виноват в том, что летаем десять лет, а своего тренажера в отряде все нет?
Мы на разборах сигнализируем. На каком этапе наши сигналы, предложения ложатся под сукно? Но двадцать лет не могут наладить отрядный телефон, и секретарь парткома на собрании разводит руками.
Так уж лучше я молча долетаю свои два года и сохраню силы начать жизнь сначала. Какой резон списываться по здоровью, угробив его в бесполезных нервотрепках, в то время как мое дело – летать.
Я жить хочу, я еще не стар, еще есть какое-то здоровье, интересы, стремления, еще не очерствел душой. Нет, большая часть жизни в авиации прожита. Хоть и есть что вспомнить… но готовиться надо к жизни на земле, сохранить здоровье. А на мое место уже пришли: стоят за спиной два вторых пилота-академика, с компьютером в кармане, с активной-активной жизненной позицией и с очень высоким уровнем притязаний.
Мне бы только научить летать хоть одного. Потому что, в конце концов, между выбиванием билетов, стоянием в очередях на автобус, войной с тетями Машами, есть еще и главное наше пилотское дело – летать.
И вот выходит, глядя со стороны, что шагаю-то я не в ногу. И не туда. И позиция не та. В то время как вся страна… с небывалым подъемом… тра-та-та!!!
Почему так?
Почему я выкладываюсь в полете весь, без остатка, числюсь на хорошем счету, активный общественник… а позиция не та? Ну был бы лентяй, сачок, равнодушный, пьяница, хапуга, – а то ведь нет, наоборот, люблю полеты, доброжелателен к людям, не пью, не гребу под себя, не рву изо рта. Должен бы первый подхватить знамя перестройки – и вперед, в бой с недостатками! А я боком-боком – и в кусты.
Интересно, хирург так же должен бегать выбивать инструменты, донорскую кровь, койку своему больному? Или шахтер – шланги к своему агрегату? И шофер – запчасти, учитель – учебники, продавец – товар, диспетчер на ГЭС – воду? И сейчас, под новые лозунги, так и кинется в Саяны с ломом и лопатой, долбить лед, чтоб тот скорее таял и вода закрутила турбину?
А у нас, выходит, так. И сторонний ли я наблюдатель, когда наивно полагаю, что все это – не мое собачье дело, а мое дело – пришел в самолет, а там меня только и ждут, чтобы откатить трап. И мне ли добиваться, чтоб так было? Или тысячам других исполнителей, каждый из которых лишь должен честно трудиться на своем месте?
5.11. Слетали на тренажер, и, надо сказать, нам всю дорогу чертовски везло.
Протолкавшись пару часов на ногах и уже собравшись уезжать домой из-за отсутствия мест, все же выстояли до последнего, чтобы совесть была чиста, – и нашлись места.
В Ростове с ночевкой устроились легко, а утром ростовчане не пришли на тренажер, и мы отлетали вместо них.
Через два часа первым же рейсом улетели в Москву, во Внуково в магазине набрали продуктов и, сделав морду лопатой, влезли в автобус впереди полутысячной очереди.
В Домодедово, хоть и не было мест, первым же рейсом улетели с нашим экипажем, пробравшись на самолет зайцами (правда, в самолете оказалось тридцать свободных мест). И в семь утра сегодня уже были дома.
Я считаю все это великим везением. И хоть две ночи не спали, натолкались прилично на ногах, но все же цель – формальная отметка в задании на полет, что мы прошли тренировку на тренажере, – была достигнута.
На тренажере мы сделали три захода на посадку с пожаром двигателя, стандартным разворотом. Все три раза не попали на полосу: гонялись за тангажом. Уже и распределили обязанности: я захожу, а Валера следит только за тангажом и скоростью, – все бесполезно. Тангаж отнимал все внимание – и мое, и его.
Раз вывалились из облаков на 60 м: деревья неслись под крылом, все было в туманной дымке; я мучительно искал на горизонте полосу, таская штурвальную колонку туда-сюда, а машина то вскакивала в облако, то вываливалась и ныряла к самым верхушкам деревьев. Я судорожно выхватывал ее, краем глаза пытаясь поймать тангаж по прибору, но вариометр скакал по десять метров вверх и вниз. Легкие движения штурвалом вызывали сумасшедшие скачки авиагоризонта, и в конце концов мы упали в лес и покатили прямо по деревьям.
Инструктор уже дал нам просто взлететь, выполнить стандартный и сесть с обратным курсом, но из-за тангажа мы все равно не справились и упали за полосой.
Зло взяло: столько суеты – и ради чего?
На разборе инструктор предложил нам посмотреть, как он сам слетает и справится.
Милый ты мой, подумал я, ты же сроду не летал на Ту-154, ты и не представляешь, каково почувствовать эту машину в полете. Зато освоил тренажер.
Как много в нашей жизни людей, умеющих прекрасно создавать видимость – и убежденных даже, что все это и есть самая реальная жизнь, – но беспомощных, коснись до дела.
Итак, ради создания видимости, что экипаж прошел подготовку на тренажере, отработал ситуации, уточнил все нюансы подготовки к полетам зимой – и теперь безусловно готов, может летать и справится, – ради этой видимости мы и переводили время в дугу на вокзалах, в автобусах, самолетах, гостиницах.
В прошлом году Кирьян отправил нас на тренажер как раз под 7 ноября. Зная, что перед праздником из Ростова не улететь, все забито, не желая мучиться, мы договорились с экипажем, поставили литр водки, передали презент тренажерщикам, и ребята слетали без нас, отлетали сами, уговорили инструктора тренажера и привезли нам задания на тренировку с той же формальной отметкой. И нас допустили к полетам, и мы спокойно отлетали зиму, а как – я уже описал.
Мы, конечно, в Ростове сделали замечания по тангажу, но, судя по реакции инструкторов, им глубоко плевать на механику; теорию же они спрашивают строго.
Но от такого пилотирования мне как пилоту мало проку. Был бы тренажер наш собственный, можно было бы еще добиваться.
Но и возможности наших отечественных тренажеров – на уровне мировых колхозных стандартов. И у экипажей к ним отношение соответствующее. А в министерстве думают иначе. Если вообще думают.
Кому нужна эта видимость работы?
12.11. Событие. КВС Валентин А. выкатился в Норильске на концевую полосу. Ему дали взлетный курс 194, потом переиграли на 14, потому что был попутный ветер 5 м/сек; он психанул, дал газу чуть не взлетный режим и помчался на 14. За 600 метров до конца полосы начал тормозить и, на сухой полосе, в мороз -30, выкатился на 170 метров, порезал колеса.
Перед этим рейсом он просился отдохнуть, устал, вымотался. Но ему сказали: слетаешь. Вот, слетал.
Это, скорее всего, нервный срыв, но у нас в психологию не вдаются, а тупо пытаются добиться, почему он, разгильдяй, негодник и пр., – вот почему он рулил быстро, почему плохо тормозил и т.п.
Потому что перед Норильском он толкался в АДП, несколько часов на ногах, нервничал, может, с женой поругался накануне. Кому это надо. Надо знать, почему выкатился, а при чем здесь жена?
У нас в отряде слишком много предпосылок к летным происшествиям, поэтому командование собрало сегодня отцов-командиров и нас, сирых, командиров воздушных судов. И провело интимную беседу в узком кругу: из управления был лишь начальник ЛШО, но он наш, доморощенный, свой.
Пять часов мы всухомятку жевали безопасность, причем, Яша Конышев пытался направить разговор в русло того, как мы, командиры, плохо обеспечиваем пресловутую безопасность, а мы, командиры, наоборот, все упирали на квартирные условия, планирование, транспорт, телефон, на жен, детей и пр.
Нам были розданы анкеты, где мы должны были высказать свои соображения о том, как мы понимаем безопасность полетов, что, по нашему мнению, можно сделать у нас в отряде, какие руководящие документы надо бы изменить; коснулись и производительности, и просто оставили место для предложений.
Я изложил свои взгляды на двадцати строчках, мелким почерком. Но что это изменит. Может, хоть телефон наладят?
Все наши беды – сверху. Лично от нас зависит лишь точность параметров полета – с этим мы справляемся. Мы вполне обучены. Но как много валится на нас сверху. Информация, еще информация, страх, порка, запугивание, зачеты, занятия, бумаги, бумаги, еще бумаги, подписи, росписи, – тысячи! И все это мешает, выводит, дергает, треплет нервы, – и большей частью влияет, ох как влияет на безопасность.
Это точно, как я пришел на кардиограмму – уже запуганный, испереживавшийся, что она не идет, уже на взводе, с пульсом, – а медсестра уложила меня, прилепила присоски и орет:
– А ну, не волнуйся! Говорят тебе, успокойся! Ты почему волнуешься? Будешь волноваться – не пойдет кардиограмма, спишут! Так и знай!
Вот так нас «успокаивают». А потом удивляются, что на пилота так влияет разговор с женой.
Жевали Валеру Ковалева. Ему пришло-таки звание «Отличник Аэрофлота», а он, в обиде, обещал, что и от звания откажется, написал рапорт, что наказали несправедливо. И вот Конышев должен собрать материалы для ответа, в том числе и наше, рядовых командиров, мнение.
Мнение наше, в общем, одинаковое. Ковалев, хоть и способен на эпатажный поступок, но его до такого поступка довели. Тоже срыв.
Начальству же нашему – срыв, не срыв, – а пришел на работу – выполняй.
Вот этот взгляд начальства сквозь личность рядового летчика – самый весомый камень в ту, другую чашу весов.
А Юре Белавину, штурману Ковалева в том злополучном полете на Москву-Калинин, вручили вполне им заслуженный в сложной обстановке знак «Отличник Аэрофлота».
Вчера вернулись из Москвы. Разговелись после отпуска. По закону подлости сразу нас взяло за шиворот и швырнуло в самый водоворот.
Запросили дома запуск – нам передали, что у нас в слитом три дня назад масле только что обнаружили какую-то медь и надо менять машину.
Протолкались три часа на ногах, заменили, перегрузили, поехали.
Взлетел я нормально, хотя некоторая скованность и чувствовалась, но все было в ТУ. Проверял меня Рульков, не лез.
Снижались в Москве вручную, это немного связывало, правда, заход был с курсом 317, с кругом, и я вполне освоился; но не получилась связка: «третий – шасси – закрылки – газ».
Третий выполнял на скорости 400, на малом газе; скорость падала, до 390, но медленно; я дал команду выпустить шасси, но Кузьма Григорьевич не спешил, все убеждался, что без крена (хотя никто не запрещает выпускать в крене, но среди стариков бытует антинаучное мнение, что тогда поток может сломать створки… невежество). Пока он убеждался и выпускал, скорость стала падать энергичнее; я использовал все хитрости, чтобы, не добавляя режим, поддержать ее: потерял припасенные на этот случай 20 метров высоты, потом еще 20, – но уже было около 350; я дал команду «Закрылки 28», но Кузьма Григорьевич не торопился: еще горели красные лампочки промежуточного положения шасси, и загудела бы сирена.
Выматерившись про себя, я сунул газы; тут лампочки погасли, и Рульков, наконец, выпустил закрылки. Чтобы добрать потерянные 20 метров и занять высоту 400, я дал машине вспухнуть, теряя скорость; добавил еще газу, а тут уже подошло начало четвертого, и все внимание ушло на директорную стрелку.
Скомканный этап и потеря скорости – вот, пожалуй, одно нарушение за весь полет. Краем глаза видел, что запас по сваливанию по АУАСП доходил до полутора градусов. Это допустимо, но явно грязновато. Специалист…
Посадка была хорошая, 1,2, по оси, чуть с перелетом (Рульков любит повышенную скорость на глиссаде). Сразу стал тормозить, но почувствовал, что местами гололедик: автоматы юза подергивали.
Сзади, как всегда, висел борт, пришлось подсуетиться и поскорее освободить полосу. Рулить в Домодедове, по гололеду, извращаясь по перемычкам рулежек за машиной сопровождения, – не самое приятное дело.
Назад взлетали вечером; шел мокрый снег, и мы уже предвидели, что можем и застрять.
Застряли на три часа: была пересмена, и два РП передавали-принимали полосы, потом их чистили; ветерок менялся, сцепление слабое… Короче, выжгли полтонны топлива работой ВСУ, а его и так не густо: Москва заправкой не балует.
Потом была очередь на запуск. Заплакали Ил-62-е, что им на Камчатку, во Владик, а время кончается, – выплакали. А нас, сирых, выпустили только через 40 минут.
В полете диспетчеры предлагали нам эшелоны выше 11100 (есть уже разрешение – правда, с ограничением веса), но до Красноярска еще не дошло, мы не расписывались; отказались. Как бы чего не вышло.
Вся Сибирь закрылась туманами, Красноярск тоже; сели в Кемерово. Там завал: Ил-86 и четыре «Тушки». Мест в гостинице нет, валялись на креслах в самолете. Потом три часа на ногах: пробивал посадку пассажиров, пока в Красноярске медленно улучшалось. Как дали 1300 м, мы взлетели. На подлете дали 1000, потом 900, и мы собрались в Абакан. Но замерили еще раз, «получше», дали 1000, и я зашел в автомате. Было, и правда, 80/1000, но сел я уверенно и мягко, как и в Кемерово: где-то 1,1.
Так что разговелся. Как и не ходил в отпуск.
Вчера был разбор отряда. Пороли Валентина А., пороли по старой, испытанной схеме: «Почему нарушил? Почему выкатился?»
Да потому, что летает. Кто не летает, тот не нарушает. Ждем вот приказ о снятии его, старого командира, во вторые пилоты.
Я рулю быстро. Но предусмотрительно. И притормаживать начинаю за версту. Уроки Шевеля…
Не думаю, чтобы Валентин рулил хуже нас всех; скорее всего, он зевнул. Зевнул торец полосы, приняв за него торец трехсотметровой бетонной концевой полосы безопасности. Ночью я и дома иной раз тоже издали путаю огни, но приучен притормаживать далеко заранее.
По расшифровке магнитофона они и вообще молчали-молчали, а потом вроде как вопрос, удивленный такой: мы что – выкатились? Значит, никакой тревоги и не было. Просто зевнули. Но вот это-то и непростительно командиру. И счастье-то, что убытку – всего пять порезанных покрышек, даже не лопнули камеры, да еще сбитый фонарь.
Тем и сложна наша работа. Он спокойно зевнул торец; я спокойно пропустил под крыло бетоноукладчик, Шура Ш. спокойно свернул на непригодную рулежку…
Надо все время быть начеку, в напряжении. А не хватает сил – ищи другую работу.
Сегодня началась эпопея на Владивосток. Из Северного я не дозвонился до АДП, но по городскому связался с ПДСП, Все есть, но чистят полосу.
А боялся я за топливо. Осипов вчера нас обрадовал, что топлива – на один день работы, что по Союзу 30 портов без топлива, 11 на ограничении, и что лучше до конца года не будет, да и после – тоже не будет. И вообще – лучше не будет. Когда такое говорит с высокой трибуны зам. начальника управления, то как-то иначе начинаешь воспринимать Основные направления… которые до 2000 года, – особенно в части, касающейся именно твоего вклада. Руки опускаются.
Сидим в гостинице, кое-как нашли места, все врозь; я – в однокомнатном нумере, ребята – кто где. Тараканы путешествуют по мне. Поговаривают и о клопах. Профилакторий закрыли. Начальник оного, промучившись полгода и устав биться головой о стену, сменял полученную здесь квартиру на город и уволился. И сестра-хозяйка тож. И еще двое. Некому работать.
Воды в аэропорту нет. Поэтому нечем развести реагент, чтобы полить полосу и расквасить на ней лед. Но шевелятся: из Северного идут машины, помогут чистить.
От нечего делать пошли в эскадрилью. Беседовали с командиром АЭ, штурманом ЛО, – проводили предварительную подготовку к полетам на равнинные аэродромы.
Центровка нашего лайнера, после многочисленных изменений, как я уяснил, составляет: на взлете, для веса 100 т – 23-27 процентов; для 98 т – 22 процента; на посадке – 21. Стоит ли запоминать: завтра придут новые изменения. Сами отцы-командиры уже запутались в изменениях к нашему РЛЭ. А нам – надо знать. Но все меньше и меньше хочется лезть в эти дебри, да и зачем? Цифры эти – сами по себе, центровщик считает; а мы знаем, как загружать практически, чтобы было удобно пилотировать. В полете руль высоты покажет центровку.
16.11. Проспали мы до 4-х утра, но это не сон был, а легкая дрема: ходьба, стук дверей, бесцеремонное орание теть Маш в коридоре постоянно капали на мозги. Но все же это не в самолете на креслах, где в бок постоянно давит пистолет, а по ногам ползет струя холодного воздуха от дверей, стучат клапаны заправки и грохочут под полом загружаемые ящики.
Пассажиры уже сидели в самолете, и мы быстро взлетели, развернулись в низких облаках и легли на курс навстречу восходящей Венере.
Самолет попался кривой; я повозился с триммированием, пока автопилот приладился выдерживать курс.
Пока мы перекусили чем бог послал, заалел восток, совсем заглушив поднявшуюся Венеру.
В разрывах облаков показался черный Байкал, и не успел я пролистать газету, как уже вошли в зону Читы. Экипаж работал слаженно, и мне осталось лишь дождаться, пока все подготовятся к снижению и отдать необходимые команды. Поистине, в полете только и отдыхаем.
Зашел, сел, правда, чуть грубовато: пытался выполнить все так, как рекомендуют. Ну, что ж, и так, конечно, можно летать.
Зашли в вокзал, купили в киоске книг, чтобы было что читать на два дня во Владивостоке. Я приобрел повести и рассказы Льва Толстого и давно приглянувшуюся мне книгу Филоненко «Хлебопашец» – о Терентии Семеновиче Мальцеве, которому как раз исполнилось 90 лет. Так и читал ее весь полет до Владивостока – благо, погода была ясная и условия полета простые.
Ребята работали хорошо, и я только контролировал путевой угол на поворотных пунктах.
На снижении начались вводные. Циркуляр плохо давал погоду. Контроль плохо слышал: как оказалось, там натаскивали стажера, а разобраться в нашей связи непосвященному и неопытному нелегко.
Километры летели, а штурман все не мог сделать расчет: мы не знали погоды, условий, посадочного курса и на какую полосу.
Кое-как добились погоды от диспетчера, но он никак не мог уяснить, что нам же нужна полоса: правая? левая? – чтобы настроить КУРС-МП на ее маяк. Привода тоже барахлили.
В конце концов, все узнали, настроили, быстро прочитали карту, попутно по команде снизились до 8600 – на автопилоте, по старой привычке (расшифруют – выпорют), – и тут где-то рядом повис попутный борт. Стажер запурхался, как нас развести; в результате мы потеряли время, и пришлось снижаться, догоняя глиссаду.
Все еще было поправимо, несмотря даже на попутный ветерок, который потребовал еще большего увеличения вертикальной скорости.
Круг дал нам разрешение заходить на новую полосу, предупредив, что садиться надо с перелетиком: на полосе камешки. Какой перелет может быть на самолете первого класса. Я решил садиться по продолженной глиссаде, чтобы перелететь метров 600-700, на оценку три, но – в ТУ.
Метров с семисот земля переиграла, не захотела рисковать, и нам дали посадку на левую полосу. Был сильный ветер, болтанка, я корячился, но дал команду перестроить частоты, помня уроки Абакана. Ничего у них не работало, заходил и сел я визуально, контролируя глиссаду по удалению. Сел хорошо.
Захотелось есть, т.к. в Чите тоже не было воды и нам не дали питания на полет. Прямо наваждение какое-то с водой.
Выспались, отдохнули, еще выспались, еще отдохнули; я с удовольствием сходил пешочком свои шесть километров в Артем, по хорошей погоде; потом поел, почитал, поспал, дождался информации, что самолет вылетел по расписанию, уложил экипаж, а сам пишу. Самое лучшее время и место для этого – здесь, перед вылетом.
Купил в Артеме книгу для школьников о профориентации. Интересно, что психологи относят работу летчика (как, кстати, и продавца) не к сфере техники, а к сфере знаковых систем, т.е. операторской деятельности. Правильно, но не совсем. Если, конечно, контроль по приборам считать работой. Но руки-то нам еще нужны пока. Правда, сам автор тоже говорит, что это утверждение спорно.
Вообще говоря, книга умная.
О Мальцеве книга хорошая, и я не требую от автора художественных высот, да и он сам, видимо, не задавался такой целью. Но характер выписан хорошо.
Мне в Мальцеве импонируют любознательность и осмысление бытия, трудолюбие, верность делу, аскетизм, целеустремленность, истовость, смелость, творческое начало.
18.11. Из Владивостока вылетели по расписанию. По прогнозам везде был туман, и я долго перебирал варианты принятия решения на вылет, заправил лишние две тонны, зная, что топливо в таких условиях почему-то может понадобиться, несмотря на то что, по рекомендациям кабинетных ученых, каждая лишняя тонна топлива это 80 кг перерасхода в час. Это – при прочих равных, стерильных, кабинетных условиях.
Но у меня условия были конкретные.
В Чите решил сесть по своей методике. До ближнего привода шел строго по глиссаде, подбирая время от времени режим в зависимости от изменения ветра по высотам. Метров с сорока-тридцати сдернул один процент, прижал вертикальную и плавно подлез под глиссаду на одну точку по прибору. Сразу вышло так, что иду строго в торец полосы, как оно и надо бы делать везде. С двадцати метров плавно стал уменьшать угол, не глядя уже на приборы, но зная, что вошел в стандартную глиссаду в пределах двух с половиной-трех градусов. Скорость была, чуть с запасом. С десяти метров убрал еще один процент двигателям и еще вдвое уменьшил вертикальную. Замелькали знаки, зашипел особым звуком воздух у земли, и мне осталось лишь дождаться доклада штурмана «Два метра», предупредить рост угла тангажа, а проще – чуть прижать нос к земле – и замереть. Уже так сядешь на пять, но, выждав две секунды, пока погаснет лишняя скорость, я чуть добрал.
Это «чуть» и определяет мягкую, как вздох, посадку. Остальное – дело техники.
В Красноярске ожидали холодный фронт. Еще во Владивостоке прилетевший экипаж предупредил нас, что дома тепло, слякоть. Значит, теплый сектор, а за ним неизбежно придет фронт.
Одного взгляда на карту у синоптиков хватило, чтобы уяснить картину. Глубокий, ярко выраженный циклон с центром севернее Красноярска; самые густые изобары, а значит, самые сильные ветра, – от Новосибирска к Иркутску; фронт прошел уже Кемерово. Перед фронтом ветра юго-западные, за фронтом переходят на северо-западные.
Когда строили наш аэропорт, то без мозгов. Заложили полосу 288, когда основные направление сильных ветров, с осадками, ухудшающими видимость и коэффициент сцепления, – как раз 210. Вот Северный – там полоса заложена правильно: 222.
Ну, да у нас много умников поработало, сделав основным курс 108, поставив туда ОВИ, в то время как ОВИ-то нужнее на действительно основном курсе 288.
Ох как много у нас в жизни делается наоборот, с курсом 108. Или, как испокон веков говаривали наши пилоты, «с курсом 42». В Северном заход с этим курсом ракообразный: с гор, по крутой глиссаде, через город, привода друг от друга через 12 км, перед торцом проходит шоссе. Так и вошло в поговорку: если что несуразное, то это «с курсом 42».
Пролетали мы два года в новом аэропорту, худо-бедно справлялись. Этой же осенью, после того, как в ЦК КПСС оценили работу Аэрофлота неудовлетворительно, начались указания «с курсом 42».
Умники из ГосНИИ ГА постигли, что, оказывается, в дождь все не так. И сопротивление-то увеличивается, и вес самолета тоже, и подъемная сила падает, и вообще летать нельзя. Тут же нам «порекомендовали»; в сильных ливневых осадках, когда видимость менее 1000 м, взлетать и садиться запрещается. А раньше было можно.
Весомый, ох, весомый вклад в повышение безопасности полетов. А на запросы с мест, в каких же осадках запрещается, какая-то умная головушка разъяснила: независимо от фракционного состояния. Дождь ли, снег ли, все равно.
И ОВИ не использовать: видите ли, дворники наши не обеспечивают видимость огней на полосе.
Я летал во всяких условиях, и не семи же пядей во лбу, – но бог миловал, ливень особо уж так не мешал. И режимы держал те же, и не чувствовал, что, оказывается, машина тяжелее и сопротивление больше. Нет, не тяжелее и не больше. И это дает мне право усомниться, как сомневается и весь летающий аэрофлот.
Может, где-то в тропиках… Но только не в средней полосе России. И уж точно – не в снегопаде.
А миллионы народные пущены на ветер одним росчерком пера. Это сколько же возвратов и задержек добавится!
Зато – меры приняты.
Не отстали и наши местные власти: тоже надо же внести свой вклад, да и обтекатель себе на задницу не помешает. Начальник управления ограничил на нашей полосе коэффициент сцепления до 0,35 и боковую составляющую ветра уменьшил на 3 м/сек. Нет боковых полос безопасности. А куда ж вы смотрели, принимая в эксплуатацию новый аэропорт?
Короче, я из Читы принял решение не вылетать, потому что боковой ветер в Красноярске хоть и проходил по РЛЭ, да не вписывался в новое указание.
И множество бортов ушло на запасные, и сидели в Братске, Кемерово, Абакане, Енисейске. Валялись на креслах в салонах экипажи, стояли в вокзалах сотни пассажиров.
Трудности роста.
А нам повезло. Мы спали в гостинице, только в туалете из-за отсутствия воды было неуютно, приходилось приспосабливаться.
Утром выспались, позвонили, расшевелились, кое-как закончили посадку пассажиров. Ветер дома к тому времени подвернул: пошли вторичные фронты, улучшился коэффициент сцепления (все же чистили полосу)… но началась метель. Лететь еще было можно, но желательно скорее, чтобы не замело снегом полосу.
На исполнительном старте к нам на связь вышел одессит, вылетающий из Читы во Владивосток. Оказывается, в суете нам забросили несколько мест его багажа. Плюнули, вернулись; правда, нам сделали все быстро, перекидали багаж, и через 20 минут мы взлетели.
На подходе ухудшилась видимость, до 1100 м, и повернул и усилился ветер. Обещали болтанку, я принял решение садиться с закрылками на 28. Валера крутил до третьего разворота, я отдыхал. Заряды были с видимостью 500, но на полосе давали 3000 и ветерок под 60 градусов, 9 метров, сцепление 0,6.
Знаю я этот ветерок… Трепало, у земли начало подбрасывать, но сбереженных сил хватило, и я сумел подвести на метр, замереть, и сам удивился, как в страшной болтанке, именно в нужное время и в нужном месте, машина прилипла к полосе, пересекаемой косыми полосами поземка.
В АДП нервно курил инспектор, допытываясь, не с «Ила» ли мы, а то Ил-62 чуть не зацепил крылом бетон на посадке, так его болтало. Зато «Тушки», по его словам, все садились хорошо.
Ну что ж, нам нынче больше повезло, чем «Илу».
21.11. Час дозванивался и так и не дозвонился в план; добрые люди сообщили: стоим завтра в 6 утра местного на Абакан-Домодедово, обратно – пассажирами. И еще неизвестно, кто погонит из Абакана на Москву: мы или абаканцы. Скорее всего, абаканцы.
На этот рейс почему-то нет проверяющего. А вот на регулярнейший Благовещенск я еще в жизни сам не летал.
Но надо уточнить.
Бился-бился над телефоном, в план так и не дозвонился, стал обзванивать ребят. Оказывается, стоим через Абакан на Москву дополнительным рейсом, больше никакой информации. Слухи о возврате пассажирами не подтвердились.
По приезде в порт выяснилось: рейс туристический, через Абакан-Свердловск. И обратно так же, через три дня.
Когда можно сделать Москву с разворотом, ночью, заработав за ночь 70 рублей, это одно, а когда с шестью посадками, при наших-то погодах, да за трое суток, да явно не ночью, а половину днем, а получить за это еще и на червонец меньше, – это уже совсем другое. Здесь проверяющему делать нечего.
Лег спать в гостиницу, т.е. приехал на ранний вылет поздно вечером. опять крутился на неудобной койке; при свете фонаря за окном видны были ползающие по стенам сытые, как желуди, тараканы. Только задремал, как вдруг всего передернуло: ползет, гад, по пальцу…
Уснул под утро, через час разбудили на вылет. Вот с таким предполетным отдыхом пришел на самолет; там как всегда неувязки, задержали на 40 минут.
Дул порывистый боковой ветер. Взлетал я, на пустой машине: для балласту бросили в передний багажник тонну груза и посадили одного пассажира. В ведомости была записана загрузка 8600 кг. Это чтобы товарищ экономист успокоилась: рейс производительный.
Порочна же наша система… Ну да мне, после бессонной ночи, грузи хоть дерьмо, только плотнее закрой, чтобы не воняло. А уж воздух возить нам не впервой.
Но из-за предельно задней центровки управляемость машины была чрезмерной, а вот устойчивость оставляла желать много лучшего; тут же допустил кучу нарушений: крен завалил до 35, скорость при уборке закрылков выскочила за 360; я пялил штурвал на себя, доведя перегрузку до 1,5… правда, болтало хорошо.
Самолет был кривой, курс ушел, и я всердцах загнал было триммеры в самые углы, потом долго искал нейтраль, балансировал самолет и сам себя стыдился. Чикалов…
Пока шель-шевель, пора снижаться. Я забыл указание и снижался на автопилоте, плюнув на все: а – семь бед, один ответ. Привычное горькое чувство кандалов. На хрена мне, пилоту, такая работа, когда, прежде чем шевельнуть рычагом, надо задавить установившийся стереотип действий, перестроиться, – потому что так надо дяде.
До Васюгана я подремал, взбодрился. Лететь пришлось через Пермь, потому что в Свердловске и Челябинске не было горючего. Снизили рано, пришлось болтаться на малой высоте, напрасно выжигая топливо; сели с остатком 5500. Погода была серенькая, и, зайдя в АДП, я в журнале отзывов о работе посадочных систем увидел, что предыдущий экипаж садился в условиях, близких к минимуму. Мелькнула мысль: с паршивой овцы хоть шерсти клок; я тут же пошел на метео и наврал, что низкая облачность, и получил заход по минимуму. А то подсчитают мои заходы, и если за год не наберу три штуки, повысят минимум.
Я уже говорил, что иногда и в более простых условиях заходишь с мокрой спиной, а другой раз дают минимум при погоде миллион на миллион. Как я летаю, я и так знаю, поэтому совесть моя чиста, а три захода в этом году есть.
В Москве садился Валера: разговелся, наконец, и он. Москва подсунула вводную: срочно сменила полосу, старую продували змей-горынычами, а нам пришлось перестраивать привода и курсо-глиссадную на новую. На четвертом развороте нам внезапно предложили заход на старую полосу, мы согласились и успели перестроиться, но пришлось лишний раз все проверить и прочитать карту, отвлекаясь от контроля выполнения 4-го по приборам.
Ну, а так бы ушли на второй круг и даром сожгли полторы тонны топлива.
Обычно с туристами экипаж сидит субботу и воскресенье; но это же Москва: у нас тут колесо, и мы тайно надеялись, что поставят в очередь, как это обычно делается. Так и вышло: стали в колесо, сэкономив сутки, а туристов вывезут другие.
Назад я летел очень спокойно, отоспавшись в домодедовском профилактории, чистом и тихом. Ночь прошла незаметно: читал, подсчитывал данные по строительству дома, поглядывая периодически, где мы и как мы. Заходил Валера, немного рыскал, но сел мягко. Очень спокойный полет.
Сегодня вечером опять в Москву, 102-м рейсом.
В ста метрах через дорогу от нашего профилактория, в лесу, отгороженном от мира заборами, шлагбаумами и запрещающими надписями, стоит приземистое здание, где я никогда не был. Там тепло, там – холлы, бильярд, бары, буфеты, сауна, ковры, финская мебель, цветные телевизоры, прямой телефон с городом.
В ста метрах напротив – наш профилакторий, предназначенный для отдыха экипажей перед вылетом. Там холодно, нет воды, негде поесть, туалеты загажены, отравленный воздух, сквозняки, мухи, тараканы бегают по щелястым стенам, клопы пьют кровь по ночам, неудобная, разбитая мебель, солдатские койки, нет постельного белья, а то, что есть, – сырое, двери не прилегают, шаги в коридоре сотрясают койки в камерах.
То приземистое здание – вроде бы «депутатская комната», хотя зал для депутатов есть в вокзале, и ни один депутат в лесной депутатской не был. Кто там был и для кого эта роскошь, я не знаю. Здание себе стоит; за всем этим великолепием следят люди, получают где-то зарплату.
Те же, кто там изредка весело проводит время, с высокой трибуны заявляют нам: лучше не будет, и не ждите.
Когда не будет погоды для вылета, мы будем ожидать в ста метрах друг от друга: я – в клоповнике, а кто-то – в сауне. Потом я, глотнув в буфете жидкого кофейного напитка, прибегу на самолет, согреюсь там и, может быть, буду докладывать сытому, распаренному человеку, что мой экипаж к его полету готов. И повезу его через ночь и непогоду, глотая слюну в ожидании, когда же мне принесут кусок синей аэрофлотской курицы.
Конечно, если бы он вместо своей сауны сходил бы в общественный туалет на привокзальной площади – это недалеко ведь, метров триста, – да попытался бы отправить естественные надобности (это, заверяю, нелегко!), – вот тогда, может быть… Но фантазии не хватает.
28.11. Слетали мы в Москву, с картинками, но слетали. Писать об этом не хочется. Справились.
Обратно летели по расписанию. Когда все в порядке, работать легко и приятно. И взлетел спокойно, и эшелон набрал, и спать не хотелось, и поужинал по-человечески, и заход на посадку рассчитал спокойно, и посадка удалась.
Бортинженер мой до меня летал с Петуховым, очень хвалит его, считает непревзойденным асом и жалеет, что собачья работа вынудила того бросить все и уйти на пенсию в расцвете мастерства.
Так вот, Петухов убирал газ на эшелоне и добавлял его лишь после довыпуска закрылков перед входом в глиссаду. Это искусство.
Я вчера попробовал подойти к кругу чуть повыше, третий выполнил на 700, выпустил шасси и закрылки, но многого не учел, да и штурман тоже: боковой ветер на кругу, боковое удаление, место третьего разворота, – короче, рано-таки потеряли высоту, и пришлось идти три километра на газу, все равно как проверяющему высокого ранга.
Ну да возможностей сколько угодно; будем шлифовать.
Сегодня в ночь лечу в Киев. Утром пришли из Москвы, чуть поспал, с трудом заставил себя проснуться и полчаса лежал, не в силах отодрать чугунную голову от подушки. Но вставать надо, иначе, если доспать до конца, вечером не уснешь перед новым вылетом, – а которая ночь подряд…
Чувствуя противную дрожь во всем теле и привычное легкое жжение в груди, как всегда после утреннего сна, заставил себя пройтись по морозцу в гараж. Немного отошел.
Сейчас посижу еще часок и попытаюсь вздремнуть перед ночным полетом. А назад лететь тоже ночью: отдых 12 часов в Киеве придется на день.
2.12. В 1967 году нас, вторых пилотов Ан-2, пришло в Енисейск восемь человек. Сейчас, через восемнадцать лет, осталось летать двое: Володя Расков и я.
Остальные – кто замерз на охоте, кто умер от водки, кого из-за водки сняли с летной работы, кто сам ушел, понимая, что вот-вот выгонят.
Отчего пьют пилоты? Молодежь – от мальчишества и больших для пацана денег, стремясь подражать более опытным, кумирам, подражать по-мальчишески, во всем.
Кто постарше, пьют с устатку. Устаток есть, подтверждаю. Втягиваются в стереотип: работа, устаток, расслабка. Такова жизнь.
Расслабка преследует цель: снять напряжение и выплеснуть накопившиеся эмоции. Посторонний нашей специфики не поймет, и пьют в своей компании. После второго стопаря начинают летать, начинается разбор.
Ну а как быть непьющему? Да белой вороной, как и везде. А вот куда девать эмоции и как снимать напряжение? Спорт с нашей работой несовместим, хотя бы из-за внережимной работы, а разовые «оздоровительные» кампании, вроде кроссов в День бегуна, даже безусловно вредны.
Дачи и сады летному составу как-то противопоказаны из-за неумелых рук, не приспособленных ни к чему, кроме штурвала и карандаша.
Да и сама работа как-то способствует лени, развращает: за две недели ценой нечеловеческого напряжения рванул саннорму – и гуляй, Вася! И никто не моги трогать: летчик отдыхает!
Где еще найдешь такую работу – свободную, не от звонка до звонка… а от взлета – и до крайней в этом бесконечном рейсе посадки. По принципу: работать – до упаду, отдыхать – до соплей. Вот и развивается эдакая лень: танцы-манцы мы не понимаем, а вот как до дела дойдет – тут мы себя и покажем.
Работа над собой требует режима, это школьное правило. Демагог, конечно, заявит, что для работы над собой можно всегда найти время. Но, судя по количеству пьющих в Расее, жизнь диктует свое, и над собой работает не так уж и много людей.
Летчику нужно заложить основы работы над собой еще в школе, в училище, в малой авиации. Но нужен принцип: в авиацию – только волевых людей. Если человек, стремясь к цели, еще в школе поставит задачу: режим, воздержание, спорт, закалка, – то, что делает из мальчика настоящего мужчину, – то никакие соблазны в будущем не собьют его с пути.
Весь вопрос в жизненных приоритетах: что в жизни главное? Уж во всяком случае, не низменные удовольствия, легко дающиеся и обволакивающие ложным сознанием своей «мужественности».
Авиации нужна духовность. То самое чистое золото души, о котором писал еще Куприн. Духовность – нравственная опора летчика в воздухе.
Духовность требует постоянной работы над собой, отказа от низменных, обжорских, плотских удовольствий, таких неважных для настоящей жизни, не играющих в ней решающей роли.
Но не к подвигу должен быть готов пилот, а к тяжелым испытаниям, и кто же знает, как ему выпадут они: сразу кучей или мелкими, нудными каплями. И что тяжелее: взрывное спринтерское напряжение или смертельная усталость стайера.
Мы с Володей еще летаем, остальных в авиации уже нет. Прослеживается четкая мысль: те не летают, кто пристрастился к низменному, растительному, расслабляющему, пресыщающему, бездуховному.
Ну а я – что, духовный? Так любимый собою я?
Очень опасно возвыситься в мыслях над людьми, это неизбежно указывает на однобокость и, в конечном счете, на деградацию личности.
Но в плюсах своих и минусах надо разбираться, по возможности, объективно, чтобы безнадзорные плюсы в гордыне не стали минусами.
Все же летаю. Духовное начало, конечно же, поддерживает мастерство на должном уровне, и есть задел. Не позволяю себе расслабляться.
Но какой ценой… Ценой здоровья.
Пей водку!
В одну телегу впрячь не можно… И предложения периодически расслабляться, снимать стресс, но оставаться при этом тем же, – это несбыточная и опасная мечта. Не останешься, покатишься.
И так ведь снимаю. Дача, строительство, машина, семья, писанина моя, книги, музыка, – не слишком ли идеально для рядового пилота?
Многие удивляются мне, даже иногда вроде примера приводят.
Инородное тело…
Но ведь столько недостатков! Не мужик, нет характера, – одно это все перечеркивает. Слишком терпим, бездеятелен, не способен на поступок. Жалко себя.
Так любимый собою я…
Ну, а Мишка – уж мужик так мужик. Он-то, чуть где что, – «на фиг мне это надо!» «Оно мне надо?» «Мне…» «Я чихал…» «Я…»
«Так любимый собою я» и из него прет – такой знакомый.
Чувствую, за последние годы во мне выросло и окрепло эгоистическое начало. «Так любимый собою я» заявляет все чаще: да пошли вы все к… оставьте меня в покое. Мое «Я» становится безразличным.
Чем это лучше чьего-то утопленного в водке «Я?»
Жизнь стала жестче, жесточе, люди замыкаются. Людям до лампочки все, кроме, конечно, так любимого собою «Я».
Раньше, бывало, выходишь из самолета, пассажиры иной раз и спасибо скажут, ну, хоть старушки. А сейчас нет. Так, видимо, и надо: каждый делает свое дело, ему за это деньги платят.
Так почему же я, дурак, выходя из автобуса, говорю водителю спасибо за его труд? И экипажу после полета?
Это школа Солодуна, а я ее верный последователь.
Какие мелочи.
Это лирическое отступление. А тема-то о летном долголетии.
Занину, Рулькову и Скотникову так же тяжело работать, как и мне, даже еще тяжелее от старости. Но они работают, молча тянут лямку. Может, деньги, может, привычка, может, страх оказаться за бортом. Романтика их давно окаменела, но они тянут – по тридцать пять лет. Это – цельность, которой мне никогда не хватало ни в чем. Это – верность Делу, которой мне у них надо учиться.
Вчера испытал болезненное чувство противоречия. С одной стороны: как же прекрасна моя профессия! С другой стороны, как тяжелый вал, накатывается, вытесняет романтику ком неурядиц, непорядка и безысходности происходящего, – и хочется бросить, уйти, убежать с такой работы!
Слетал в Киев с туристами, на три дня, с самолетом. По расписанию, с топливом (в Уфе все же свой нефтеперегонный завод), с легко выполнимыми сложными заходами, с прекрасными, в одно неуловимое касание, посадками, с ощущением полноты мастерства и расцвета сил.
Но это исключение. Топлива опять нет. Дома не жил неделю, из ночи в ночь, и сегодня утром, прилетев наконец домой, читаю в плане: ночной резерв. Как издевательство незамужней нашей Нины, забывшей, что такое супружеская постель.
Вот это – безвозвратно уходит, это реалии нашей жизни. Но – за это нам деньги платят.
Какими деньгами я потом окуплю то, что нельзя оставлять на старость, как тормоза – на конец пробега или налет – на конец месяца?
Первым делом, первым делом – самолеты, ну а это… это – как-нибудь… потом.
Летчики рано стареют, но об этом не принято писать в книгах. Или уж, и вправду, отдать авиации всю жизнь без остатка?
Не нравится – уходи. Будешь спать с женой каждую ночь, пока еще молод. Или не каждую, если денег будет мало? Вот дилемма, вот выбор.
3.12. Топлива нет. Рейсы переносятся, пассажиров отпускают домой, экипажи висят на телефонах, некоторые по 2-3 дня; многие сидят в рейсах из-за неприбытия самолетов. Нет топлива.
Экипажей не хватает. Поэтому меня и воткнули в этот резерв, где я благополучно проспал целую ночь.
В АДП задерганные телефонными звонками диспетчеры матерят всех и вся. Меня опять хотели поставить в ночь, на перенесенный Ташкент, да, к счастью, у моего штурмана кончилась годовая медкомиссия, а то бы точно еще пару ночей болтался.
Веселая злость… Летное долголетие…
5.12. Пригнали из ремонта самолет, разложенный в свое время Лукичом. Как новенький. Платит ли Лукич за него или нет, никто не знает, а спрашивать бестактно.
Отменили, слава богу, ограничения по боковому ветру и коэффициенту сцепления, введенные в Красноярском аэропорту начальником управления. Зима, мороз; сбоку укатали плотный снег – вот тебе и временные БПБ. Что ж, все к лучшему; мы вздохнули свободно. Было бы еще топливо…
Через три недели у меня годовая комиссия. Надо начинать готовиться.
6.12. Стою на завтра вечером на Москву, но на рейс не выезжать: нет топлива, узнавать по телефону в АДП. У попа была собака…
Так и на кусок хлеба не налетаешь. Ну, зато дома отдохну… верхом на телефоне. А у кого телефона нет – пусть в тридцатиградусный мороз с ветерком попытается дозвониться из автомата.
7.12. Топлива нет. Рейсы переносят на сутки. Скорее всего, и мой перенесут на завтра. В Москве сидят по два-три дня: из Красноярска никак не вырвутся им рейсы из-за топлива. Летят к черту все планы: и производственные, и личные. А это ж не лето – зима.
«Литературка» в статье об авторе – «человеке со стороны», т. е. о писателе непрофессиональном, толкует о плюсах и минусах этого нового, но завоевавшего прочные позиции литературного явления, когда книги пишут врачи, шахтеры, моряки и пр.
А я себе и думаю: профессиональный литератор судит о поползновениях литературных дилетантов так же, как и я бы, к примеру, судил о тонкостях полетов дельтапланеристов, а шахтер, скажем, о рытье колодцев в сельской местности.
Мне интереснее другое: а как судит читатель? Что ему важнее – соблюдение автором литературных канонов, правил и нюансов или то, что за сердце берет?
И еще. Читаю ту же «Литературку», и страх берет: какие глыбы знания, какие тонкости, какие нюансы, какие соотношения, пропорции, акценты и прочие сугубо литературоведческие кроссворды и лабиринты мысли…
Но я отдаю себе отчет и в том, что и по моей профессии написаны кучи учебников, налиты моря воды, разобрано на атомы и электроны, – а я, профессионал, летаю себе, используя едва ли десятую часть всей этой теории, написанной же специально для меня, летчика, написанной со святой, алмазной уверенностью, что это не только поможет мне летать, а и вообще – единственная светлая дорога в потемках летного невежества, и что не выполни я сотую долю этих рекомендаций… немедленно убьюсь.
8.12. Как ни странно, рейс мой, единственный в этот день, отправили по расписанию, потому что литерный. Кого, распаренного, я вез, не знаю, он мне не представился, но дома их провожали с черных «Волг», тащили бегом в самолет ящики, чемоданы. А в Москве уж они сами перли все это на горбу: для Москвы они – шерсть, никто не встречал.
Только запросили буксировку, как закрылся Омск, где мы планировали подсесть на дозаправку. Пришлось задержаться на час, подготовиться на Тюмень, дозаправить еще 4 тонны, не высаживая пассажиров.
Ни до нас, ни после никто в этот день не вылетел. Говорят, поздно ночью подвезли топливо и отправили несколько Ил-62, и все.
Летели мы с приличной загрузкой, а я совсем забыл, что еще в прошлом году экипажи на разборах предупреждали, что на 352-й тяжелый нос. Давно я на ней не летал, а тут попалась.
По всем графикам и здравому смыслу загрузка была распределена правильно, а вот при заходе на посадку руль высоты угрожающе задрался вверх и торчал на верхней границе зеленого сектора, недвусмысленно предупреждая, что на выравнивании запаса руля почти не будет. Вот так же было и у Шилака.
Пришлось на заходе в Тюмени держать скорость на глиссаде побольше, тем более что был сильный боковик слева.
Четвертый разворот нам скомкал безграмотный диспетчер круга: мы отставали от попутного «Туполенка», заход за ним. Сами держали нормальную дистанцию, но диспетчер начал нас водить туда-сюда, задавать курсы, а потом, не контролируя, еще и попытался оттянуть. Но как он нам ни мешал, мы ребята грамотные, заранее себя обезопасили, отстали, и пока до полосы было еще далеко, сумели исправить плоды его руководства.
Руль торчал где-то в пределах 10 градусов, на верхнем пределе, но скорость и так была уже 280, и мне пришлось значительно дольше придерживать машину над бетоном, потом интуитивно чуть добрал и сел мягко, в метре слева от оси. Сцепление давали 0,62, но, судя по торможению, там было не более 0,32. Я краем глаза следил за манометрами, стрелки которых при полностью обжатых тормозах судорожно прыгали, сигнализируя об активной работе автоматов юза. После заруливания спине стало тепло.
Не высаживая, заправились и погнали на Москву. Заходил Валера, был сдвиг ветра, но он справился, правда, с 30 метров я положил руки на штурвал, и газ до малого плавно убирал тоже я. Нас подбросило в процессе выдерживания и чуть снесло по ветру вбок, метров на 4-5, но Валера сел хорошо. Уж тут торможение было прекрасное, а давали те же 0,6.
Сейчас сидим в Москве, нас тут много, а машины не идут, топлива снова дома нет, выпускают по чайной ложке три раза в день, с дозаправкой в промежуточных портах.
Из-за этого топлива все планирование смешалось. Засылают экипажи пассажирами в Москву, а из Москвы тоже улетают пассажирами. Отправляют нас на Абакан, а куда делись отсюда абаканцы, неизвестно.
Дома разморозили гостиницу, в нумерах до -3, резервные экипажи спят одевшись, как на войне. Подозреваю, что это вымораживают тараканов. А напротив – депутатская, с сауной…
Ну да нам за это деньги платят, а не нравится – уматывай.
Витя Мисак с дрожью в голосе повествовал, что за сорок лет жизни это была самая кошмарная ночь, несравнимая даже с полетами и ночевками на Северном полюсе, где, по его словам, рай против нашего профилактория. Шелест и треск дохлых тараканов на полу…
10.12. Вытолкнула нас Москва, заведомо зная, что в Челябинске нет топлива, рейсом на Абакан, а стоявших тут же у окна абаканцев направили на Красноярск. И абаканцы промолчали, что в Челябинске нет топлива, и молча схватили наш спокойный прямой рейс, хотя из Красноярска им потом придется добираться пассажирами. А нам нечего делать, подписали и полетели на Челябинск, где нас встретили отнюдь не с распростертыми объятиями. Топлива таки нет.
Пошли в гостиницу, а пассажиры, уже сутки протолкавшиеся в домодедовском, битком забитом вокзале, в ожидании, пока из Сибири прорвется самолет, пошли теперь осваивать челябинский вокзал.
Таких дураков, как мы, оказалось предостаточно, и пришлось пошустрее забить место в нумерах, оттерев плечом ближнего.
Ночь, вернее, остаток ночи, провертелись в духоте узенькой и до одури натопленной клетушки, а утром дождались своей очереди на заправку, и нас выпинали на Павлодар.
Для сталинского сокола все равно, куда лететь; полетели. Непривычно как-то – днем; летаем все больше ночами.
Павлодар нас принял, правда, пришлось подождать, пока заправят рейсовые самолеты.
Абакан ожидал туман, и мы взлетели, моля бога, чтобы он этот Абакан прикрыл: запасной-то Красноярск…
Бог внял мольбам. Уже было мы затеяли дебаты с Абаканом, кому перегонять машину в Красноярск, как дали видимость 300 метров, потом 100… и мы благополучно сели в родном Емельянове.
Посадки все хорошие, а заходы в Павлодаре и Красноярске были корявые: отказ КУРС-МП, причем, подлый, без бленкеров; система уводила в сторону на полтора-два километра, и спасибо диспетчеру в Павлодаре, что вовремя нас насторожил. Ну, штурман-то был начеку и контролировал по ОСП, но сначала мы так и не поняли. Будь погода сложнее, пока разбирались бы, мы бы не вышли, и пришлось бы уходить на второй круг.
Сегодня на разборе было доложено, что у меня перерасход 6 тонн. Претензий ко мне нет: полетай с пятью-то посадками.
Кирьян сидел в Ростове 8 дней: дважды отменяли рейс из-за топлива. Альянов сидел неделю в Сочи по той же причине.
Подошел сегодня ко мне замполит по вопросу моей агитаторской бездеятельности. Я ему прямо сказал: видите, какие настроения? Что мне говорить? Как отвечать на неизбежные вопросы людей? Он призвал меня не поддаваться настроениям и не уходить от вопросов. Тогда – за что агитировать?
Короче, договорились, что буду продолжать изучение партийных документов, т.е. мероприятия для галочки. О чем, наверное, и Горбачев мечтает.
Участились случаи нарушения экипажами РЛЭ, много расшифровок по мелочам. Нервотрепка на земле порождает наплевательство в воздухе.
12.12. Норильский рейс никто не любит. Там чуть не полгода набирается дней с нелетной погодой. Поэтому, узнав план, с вечера начинаешь тревожиться.
Первое – как добраться на ранний вылет. Если ночевать дома, то надо либо заказывать такси, либо идти пешком, либо надеяться на единственный служебный троллейбус в 4.50.
Я лично предпочитаю в хорошую погоду встать в 4.15 и пройтись час по ночному городу. Подходишь как раз к автобусу. Еще час – и на работе.
Но предварительно надо позвонить в ПДСП, есть ли машина, готовится ли рейс, есть ли топливо. И на метео желательно бы позвонить, но только в Северный, т.к. у нас в Емельяново связи с городом у синоптиков еще нет.
В наших конкретных условиях, когда гостиница разморожена, заезжать в нее на ранний вылет нет смысла. Валера Кабанов рискнул – и провел кошмарную ночь.
А я не позвонил синоптикам. Прошелся пешочком, разогрелся, сел в прохладный автобус и дорогой слегка замерз.
Рейс готовился, но в Норильске был боковой ветер, чуть превышающий норму для коэффициента сцепления 0,35. Анализировать норильскую погоду надо тщательно, и мы, летая туда двадцать лет, изучили все нюансы.
Судя по видимости 8 км, силе ветра 10 м/сек и синоптической карте, можно предположить, что там просто ветер. Никакого снегопада нет, температура -10, просто метет. Значит, полоса заснежена и закатана давно, и если норильчанам надо, они ее будут чистить, чтобы довести сцепление хотя бы до 0,4. Прогноз обещал тот же боковой ветер до 15 м/сек.
Дал я задержку на три часа. Потолкались в штурманской, ожидая, пока откроется штаб: получить зарплату. Я все не мог отогреться.
Получили деньги, пришли в гостиницу, там холодно, но нашлось несколько номеров относительно теплых, из одного из них как раз подняли на вылет экипаж, и мы тут же упали в еще относительно теплые постели, одевшись, под два одеяла; правда, по одному тут же забрала дежурная – для поселяемых в ледяные камеры наших же бедных пассажиров.
Часа через полтора я, наконец, чуть согрелся и уснул, но тут же подняли к телефону. В Норильске начало улучшаться, и мы пошли в АДП. Я заказал разговор с Норильском, из которого выяснилось, что там чистят полосу и просят воздержаться от вылета на два часа. Пришлось толкаться в штурманской.
Потом пришла погода с коэффициентом 0,45, что нам подходило. Я дал команду сажать людей, но следующая погода пришла снова 0,35; я снова заказал телефон и кое-как, через ПДСУ, выяснилось, что там уже 0,5 и давно пора лететь.
Взлетели в 20.30 местного. Вернулись в час ночи. Спать я лег в четыре утра. Встал в двенадцать.
В Норильске садился на пупок и унюхал точно на знаки. Ветра не было совсем. Полоса сухая, и только на обочинах был древний, от осени до лета не удаляемый лед. Кажется, можно было и не чистить полосу: дождались-таки штиля. Но через час снова поднялся ветер, замело.
Дома садился Валера. Из-за нештатных отклонений (обледенение в облаках, отказ планшета, не вовремя включенные штурманом командные стрелки) он потратил много сил и внимания на четвертый разворот, стал дергаться и терять высоту. На прямой кое-как подобрал курс к ближнему приводу, но упустил глиссаду, пошел выше и на повышенной скорости, которую, впрочем, заметил и прибрал режим.
Короче, наметился явный перелет. Я с интересом следил, как он будет выкарабкиваться. Полоса сухая, три с половиной километра; пусть разок перелетит. Будет наука.
Тут ничего не сделаешь. С тоской считал я проносящиеся под нами в четырех метрах знаки: одни, вторые, третьи, четвертые, пятые… Ну, подвесил, так уж подвесил! Спасала только скорость: самолет все же приближался к земле, но не падал. В конце концов, на последних углах атаки, мы таки сели, мягко, с высоко задранным носом, оставив позади с версту чистого бетона.
Лукич во Владике вот точно так же перелетел и выкатился в болото. Ну, Валере информация к размышлению. Я его не ругал, потому что такие отклонения его достаточно шокировали.
Да и устал же он, практически без нормального предполетного отдыха.
Валера ушел в отпуск: сдает вступительные экзамены в КИИ ГА (для ввода в строй – чтоб хоть числиться в вузе), да годовая комиссия подошла. А моя через две недели.
В Норильске встретил однокашника Борю Б., москвича. Он летает во Внуково 2-м на «Тушке». Летел из Тикси или Анадыря. Поговорили. Чем хороша работа: тесен мир, часто встречаешь знакомых.
Он уже было пару лет назад начал вводиться, летал в Шереметьево с левого сиденья, да где-то под Анкарой уклонились, пришла телега, их расформировали, членов экипажа понизили в классе и разогнали по московским отрядам. А ведь был он в свое время лауреатом премии Ленинского комсомола, лучший молодой командир Ил-18… Сейчас разочарован, как и все мы, подумывает о пенсии. Ругательски ругает министерство за коррупцию и групповщину.
Выруливал мимо, помахали друг другу рукой, и – когда еще встретимся…
13.12. Вчера у кого-то не убралась нога после взлета, летал два с лишним часа, вырабатывал топливо, подробности пока не известны, но сел нормально.
В Енисейске три недели назад пропал самолет Ан-2. Его направили по санзаданию, ночью, в сложнейших метеоусловиях, и он пробился, взял больного, но в Енисейск не вернулся.
Подробности проясняются. Днем они полетели в ту же сторону, вниз по Енисею, рейсом, но вернулись из-за сильного снегопада, не позволяющего вести ориентировку. А вечером поступил вызов по санзаданию, в ту же сторону, и командира удалось уговорить.
Куда он сам лез, только что вернувшись из-за непогоды? Как на него нажали, знает лишь он, потому что решение принимал только он, а остальные все отскочили и теперь всячески открещиваются.
Причиной санзадания был криминальный аборт, выполненный какой-то деревенской матреной. Так на двух полюсах оказались обыкновенная гулящая баба и командир самолета.
С легкостью необыкновенной бросаем мы современную технику по любому поводу, не задумываясь. Мы так богаты, могущественны и гуманны… Вот такая гуманность стоила пяти человеческих жизней – из-за погубленной шестой, едва затеплившейся.
Но экипаж отбросил все сомнения и полетел на помощь. Умирает человек – и помчались, пробились, и везли, в снегопаде, ночью, по приборам, без противообледенительной системы, с мокрыми спинами, и молились… о чем?
Последняя связь у них была с Ил-62: запросили погоду Енисейска, радист им передал, а подтверждения не получил. Что-то произошло.
Скорее всего, нырнули в еще не замерзший Енисей, обледенели. Либо шли на малой высоте, и обрезал двигатель, не успели передать.
Я не ратую за выбор: того спасать, а тот вроде не достоин. Но думайте ж головой, ведь вас, за вашу глупость пострадавших, спасая, гибнут люди. Вместо одной – пять смертей: больная, экипаж, врач и медсестра.
Ведь человек, Командир, принимая решение лететь по погоде хуже минимума, сознательно шел на риск, шел во имя гуманной цели: спасти Человека. И проиграл. Мастерства ли, самообладания или просто везения ему не хватило – мы так и не узнаем.
А ты бы так смог?
Сегодня стою на Ростов. Вчера топлива не было, теперь у нас так бывает через день. Так что, вполне возможно, сегодня и не улетим. Будем звонить. Рейс все равно на трое суток, так лучше уж посидеть дома.
15.12. Однако прилетели в Ростов по расписанию.
Новый второй пилот, Толя Можаров. Летал на Ан-2 и вторым на Ил-18, недавно переучился на «Ту», насильно переучили, в связи с сокращением Ил-18.
В Челябинске я показал, как надо садиться; сразу дал взлетать. Ну, сырое дело еще, ясно, но понравилось, как выдерживает параметры в наборе и на снижении: четко. Дал сесть в Ростове: по директору вполне нормально, чувствуется опыт Ил-18, но выравнивание на трех метрах, пришлось помочь.
Стоит с ним поработать. Так-то бедовый, шустрый, не чужд соблазнам современной жизни, – словом, типичный представитель современной аэрофлотской молодежи. Учится.
Немножко суетился я возле него. Хочется сразу всему научить, это моя слабость. Ну да дело не в позе, а в конечном результате. Пока самолет ему нравится, пусть летает вволю. А то за 60 часов никто не осмелился дать парню штурвал – бывшему пилоту лайнера Ил-18!
16.12. Назад вернулись по расписанию, приятная неожиданность. Правда, я почему-то плохо спал перед вылетом, но это мелочи.
Назад оба полета открутил Толя, и, надо сказать, для начинающего – неплохо. Взлет уже получается, посадки мягкие, но куча нюансов, которые будем устранять.
Дома дал ему выравнивать самостоятельно, с дрожью в сердце, и он, хоть и низковато, но справился и сел точно на ось.
Завтра рано утром в Благовещенск. И новый второй пилот.
21.12. В Благовещенск слетали по расписанию. Второй пилот – Миша Жаворонков, сто лет уже летает у нас.
Туда летал я, сел точно на знаки; сзади висел Як-40, и меня попросили поэнергичней освободить полосу, а я в спешке забыл, что эта машина с ручкой управления передней ногой (мы говорим: «с балдой»), искал причину, почему не могу развернуться на 180, потом опомнился, схватил «балду» и успел освободить вовремя. Жалко было «Як», его и так увели из-за нас чуть не в Китай, а тут я по разгильдяйству чуть не угнал его на второй круг; ну, обошлось.
Обратно садился Миша, ну, посадку совершил, как бывает одна на сто. Я позавидовал. Умеет летать человек, да и то: двенадцать тысяч часов… Этого учить – только портить. Но… нет поплавка, и сидит в вечных вторых. Ну, мудаки…
Следующий рейс был в Ташкент, на тренажер. На этот раз летал с Толей, и что-то у него не получилось на посадке. Ага, вспомнил. Там же КПБ перед зеброй, метров триста, – бетонная, как и в Абакане. Я таких полос не люблю, да и кто их любит: поневоле мостишься не на зебру, а на торец КПБ. Я как-то в Абакане сел до знаков из-за этого (ну, и из-за разгильдяйства тоже), и Толя в Ташкенте мостился упасть до знаков; пришлось подхватить штурвал и сунуть газы, и упали на полосу, в общем… ракообразно.
Оказывается, он в Ташкенте ни разу не был. Может быть, для этого придуманы провозки?
Тренажер отлетали довольно хорошо. Во всяком случае, на полосу я попадал и с тремя отказавшими двигателями, и на одном двигателе, захода три-четыре, все понял, правда, бил машину о полосу. Но это у них там так заложено. Зато пилотирование по ощущениям близко к истине; это не Ростов.
На предварительной беседе с въедливо-язвительно-вежливым бортинженером-инструктором, манерами чем-то напоминающим нашего Лукича, я уяснил для себя вопрос, который, казалось бы, не подвержен сомнениям: работают ли интерцепторы от авторотирующего двигателя. Я сомневался, что нет, не хватит мощности гидронасосов на малых оборотах: все уйдет на бустера.
Оказывается, хватит. Тогда проще. Выходит, я был неправ, упрекая конструкторов за мнимые недоработки по интерцепторам. Хотя, если откажут 1-й и 2-й двигатели, интерцепторы можно будет использовать лишь от насосной станции, как я уже продумал. Но это – худший вариант.
Азарт при заходе с тремя отказавшими двигателями столь велик, что пульс подскакивает почти до 200, но увлекаешься, работаешь творчески, интуиция и расчет раскрепощены, – и какое удовлетворение, когда все же попадаешь на полосу!
Все равно бортинженеры ошибаются. Очень трудно, сложно им работать. А инструктора требуют: скорость, скорость и скорость. Вот это-то и погубило экипаж Фалькова, печальную годовщину гибели которого будем отмечать завтра. Воскресенье, соберется побольше народу, поедем на кладбище.
Нет, не скорость. Иначе зачем бы Руководство разрешало использование горящего, но работающего двигателя в течение минуты на усмотрение командира, если, допустим, один двигатель отказал, а второй горит, и надо уходить от земли.
Нет, не скорость. Слишком многое отдано в одни руки, и тут ошибаться нельзя, автоматизм здесь – помеха.
Контроль, взаимоконтроль обязателен. Для этого нужно иметь время. Пусть горит не десять секунд, а дольше, пусть – сорок, – но это ж не четыре минуты; за это время я успею принять решение, дать команды экипажу и проконтролировать действия бортинженера. Закрыть именно тот пожарный кран. Тот – вот главное. И само погаснет.
Так говорил и конструктор Кузнецов. А пожарная система – просто балласт, символ. Гореть там нечему, если перекрыто топливо. А если не перекрыто – бесполезно тушить.
Десять секунд… Это в кабинете десять секунд хватит, ну, на тренажере… А в полете – мало.
На другой день надо было отлетать бортинженеру-инструктору УТО, прилетевшему с нами проверяющим. Мы снова летали, и… оказывается, гораздо легче на второй день. Может быть, имеет смысл летать на тренажере два дня подряд? Или утром и вечером? А то пока настроишься, наломаешь дров.
Назад летели, набрав в Ташкенте кучу книг, и я бессовестно читал всю дорогу, не забывая, впрочем, поглядывать, скоро ли пересечение трасс.
Правда, на самом взлете попали в грозовой фронт – отголоски циклона, принесшего в Ашхабад пыльную бурю из аравийских пустынь. Неожиданность встретить – в Ташкенте, зимой, – грозовой фронт (паршивый, занюханный, до 6500 метров, но – фронт!) оказалась достаточно серьезной: я заметался между облаками, обходя их визуально с кренами до 30 градусов, пока Женя искал пути по локатору. Высота плясала с 4200 до 4500; прямой коридор был закрыт; пришлось обходить западнее; по высоте нас тоже останавливали; топлива было в обрез, запасной не Абакан, а более дальний Томск, – короче, все против нас.
Но, выбившись сверх облаков, обменявшись горячими репликами и успокоившись, мы сумели затянуть газы и даже еще сэкономили тонну топлива, использовав все возможности полета на большой высоте в кстати подвернувшемся струйном течении.
Пассажирами с нами летел экипаж Гены Верхотурова, пригнавшего накануне в Ташкент машину на мойку. Я не мог не показать, как могу садиться… Сумел. Благодарили.
Сегодня вечером – в резерв. Надо на всякий случай приодеться потеплее.
24.12. Слушаю сонаты Бетховена. Такая глубина и мощь мысли, такой взлет духа, такая красота мелодий и ритмов, такая гармония, такая страсть исполнения… что в сравнении с ним большинство этой поп- и рок-музыки, сотворенной тысячами композиторов за все годы ее существования, есть… музыка поп.
Да, видимо, высокое в музыке отживает. То, что пишут современные – Шостакович ли, Прокофьев, Свиридов, еще Шнитке какой-то, – если не песня, то и не нужно никому, кроме нескольких тысяч «подготовленных слушателей». А остальным «подготавливаться» некогда: надо в очередь за кроссовками бежать.
Да и для «подготовленных»: ни тебе мелодии, ни гармонии, ни красоты. Но это на мой сирый взгляд: я ведь привык напевать мелодии Бизе, Моцарта или Бетховена, которые писали не для «подготовленных», а для всех. Для меня.
Напоешь ли Шостаковича? Может, в высоких мыслях, чувствах, взлетах им и не откажешь, но я их не чувствую за частоколом диссонансов. Видать, таки слаба подготовка. Может, там, и вправду, заключено такое, что несчастным бетховенам с шопенами и не снилось.
Однако же я предпочитаю Бетховена и Шопена.
Бетховен мне и понятен, и доступен, и поразителен, и прекрасен, и вызывает такую гамму чувств, какой не вызывают другие, пусть самые модные, самые современные композиторы. Все они, вместе взятые, перед ним – нищета, ополоски. И даже лучшие их перлы – только блестки в оправе, а он над ними – как громадный, сияющий и непостижимый в своем совершенстве, чистейшей воды брильянт.
Грубо? Но это мое личное, для внутреннего употребления, мнение. Кому что нравится. Если тебе что-то нравится и помогает жить – слава ему!
Я всегда тянулся к классическому в искусстве и литературе. В классике не ошибешься; соприкасаясь с великим, вырабатываешь вкус, приобретаешь иммунитет к пошлятине, к дешевому, сиюминутному, наносному, бездуховному.
«Ритм… век… все быстрей…» Мы устали от скорости и от ритма. Кривая прогресса взмывает все выше, но возможности человека не беспредельны. Ритм, век, все быстрей, – а мы уже живем на резервах, заложенных природой в нас для использования на крайний случай. На крайний! Надолго ли хватит резервов?
Вот откуда массовый эгоизм. Самозащита.
Оксана говорит: папа, молодежь должна прыгать под современный ритм.
Вот именно. Прыгать надо, думать уже некогда.
Поставлю-ка еще раз «Лунную…»
Вчера наспех, на скоростях, помянули погибших ребят и девчат. Из резерва примчались в Северный; автобус на кладбище уже ушел, доехали на такси. Народ от могилы уже расходился, садились в автобусы; родственники убирали со стола, где каждый мог выпить и закусить по русскому обычаю. У нас с собой было: пригубили, занюхали; автобусы тронулись, и мы с Толей, боясь замерзнуть (ноги уже прихватывало), успели запрыгнуть в последний. Женя с Валерой остались: один любит поговорить, другой выпить, бутылка их согреет, доберутся; я же не большой любитель выпивать на кладбище.
Год прошел, но все так же больно видеть не угасшее горе родственников, старушку, целующую портрет погибшего сына, глаза родителей, слушающих рассказ очевидца, вытащившего их дочь, еще теплую, из-под обломков…
Мне эта катастрофа всю жизнь перевернула.
В Ташкенте уточнили последние подробности катастрофы в Карши. Там приведена связь экипажа с землей и переговоры между собой. Приведен график набора высоты, это большая фотосхема.
Ну, что сказать. Мы набираем высоту на одной скорости: 550. И, забравшись на эшелон, тут же ставим режим горизонтального полета, потому что после 9600 число «М» плавно нарастает от 0,8 до 0,83-0,85. Они же набирали на 505, 480, 450, 420, 410, 405… и упали. Углы атаки были 7-8 градусов, когда обычно 4-4,5, ну, 5. И достаточно было легкой болтанки, чтобы они свалились. Это был набор на лезвии бритвы, набор высоты экипажем, проторчавшим, на ногах – не на ногах, но при температуре 45, почти сутки.
Видимо, таки уснули. Вот и все. Опытный командир оказался просто самоубийцей.
А я голову ломал… Откажись он лететь – ну ничего бы не было. И ему бы слова никто не сказал. Но… надо, очень надо было в Ленинград.
Царство небесное.
А у Фалькова формально виноват во всем бортинженер. Он доверился горящим табло и запутался в них, не контролируя по дублирующим приборам, стал делать ошибку за ошибкой, а ситуация была настолько нештатной, что он просто выключился и действовал рефлекторно.
И упрекать его язык не поворачивается. Любой бы запутался в этих шестнадцати горящих табло – моделировали же. Никто не справился. Тем более – мальчишка, только из института.
Все-таки достаточно было минуту, ну, две, ничего не делая, определить, какой же все-таки отказал, а какой все-таки работает, и просто перекрыть нужный пожарный кран.
Ага. А определить, какой двигатель остался с обрубленным управлением, и сам себе гуляет? Такую вводную мог бы осмыслить только опытный бортинженер.
Для этого нужен был налет, тысячи часов в воздухе.
Какие там десять секунд…
Как-то ты сам поведешь себя в такой ситуации? Оцепенеешь, закричишь «мама!» или все же скажешь: «Стоп, ребята! Без паники!»
Когда мне берут кровь из вены, я качусь в обморок. Когда мне промывали пробку в ухе, я от непривычных ощущений тоже катился. Сегодня волею судьбы делал рентген желудка – и тоже отхаживали с нашатырным спиртом.
Так может, пора? Может, уйти непобежденным? Разве ж можно так на все реагировать?
Но это все не то. Тут – собою любимый я, и мне сейчас сделают ваву. А там я – в привычной, ожидаемой обстановке, тренированный на все случаи жизни. Да поколи мне вену десять раз – привыкну и буду спокоен. И рентген: не был бы он по подозрению на опухоль пищевода, я бы не был так накручен заранее и перенес бы как всегда.
28.12. Прошел годовую комиссию за три дня, без особых треволнений. Ни кровь из вены, ни знаменитый палец нашего хирурга («нагнитесь, раздвиньте ягодицы…») особо меня не взволновали: неприятно – и только. Кардиограмму и велосипед одолел без эксцессов… и выходит, что я – один из самых здоровых пилотов. Потому что себя, любимого, берегу, а уж в семье меня лелеют…
Налетал в декабре 44 часа, за год – 517. Годик, конечно, был еще тот. Законный год: год за два…
Вчера слетал в Москву. Нормальный полет, только машина попалась туда – с таким тяжелым носом, что я отдирал ее от полосы, стоя на педалях, долгих три секунды, показавшихся мне неделей. И на эшелоне руль высоты стоял в положении 7 градусов. Пришлось садиться с закрылками на 28. Сел мягко.
Загрузка и центровка были обычные. Лед под полом? Бывает: подтекает из раковины в переднем туалете; потом среди зимы гонят дня на три в Ташкент, и из дренажных дырочек капает, капает, вытаивает. Чуть не тонна воды.
Обратный полет – обычный, рабочий, без особенностей. И – конец года. Отдыхаю, сдаю зачеты на продление пилотского свидетельства – и с новыми силами вперед.
Тяжелым был ноябрь. Декабрь чуть полегче, а за последние дни я даже отдохнул. Когда топливо есть, чего ж не летать.
Впереди Новый год (елку еще не добыл), потом сдам зачеты… Короче, недельку посачкую.
Год прошел, год вопросов и сомнений. Много дал он мне, этот год, но и взял…
1986. посадка в Сочи.
7.01.1986. Сачкую. Сходил раз в резерв. Отдохнул, отоспался за эти дни. Сдал зачеты, т.е. подсунул на подпись зачетный листок. Читаю книги. Два дня подряд взахлеб читал «Цусиму», явившуюся для меня открытием.
В Северном отрезают часть полосы под автомагистраль к новому мосту. Остается 1500 м полосы для Як-40 и Л-410. Кончаются наши перегонки, попившие вволю кровушки. Но кто и как будет обслуживать самолеты? Гонять ли на форму в ближайшие аэропорты других управлений? Это не слаще, чем перегонки в северный, налетаемся пассажирами, насидимся в гостиницах.
Да еще впившийся в нас Абакан, не имеющий своей базы. Лучшие, исправные самолеты – ему, а нам вечно гнать дефективные на базу из Москвы, где у нас происходит обмен.
Короче, гордиев узел, вернее, аэроузел, затянулся накрепко, и, видимо, чтобы его разрубить, по слухам, скоро прибывают к нам сами Полководец наш, маршал профсоюзный, – на совещание в крайком, как представитель заинтересованного ведомства.
Надо же – порт хоть закрывай: дождались. Ну да снова тришкин кафтан начнут латать… за счет гибкости летных отрядов, естественно. Какая-то прозрачная параллель протягивается с «Цусимой», честное слово.
Конечно, Сам с рядовой массой не встретится, ему незачем. Едва ли он и в Емельяново заедет: обычно такого ранга господа садятся в Северном.
Ну да недолго ждать, закроют Северный – куда вы денетесь, окунетесь и в наши заботы. Прижмет снежок на полосе, с тремя-то снегоуборочными машинами, уйдете пару раз на запасной… Или они и господу богу накажут не резвиться с погодой?
Тут еще вторая, едва наметившаяся параллельная полоса, предназначенная для Як-40, стала проваливаться, и намечаемая скорая эвакуация местных линий в Емельяново отодвигается. Короче, проблем хватает.
Угнали Ан-24 в Китай. Якутский экипаж летел в районе Госграницы. Второй пилот дождался, когда вышел в туалет штурман, сказал бортмеханику, что вроде бы из правого двигателя подбивает масло, и когда тот выскочил в салон, чтобы в иллюминатор посмотреть, закрыл на защелку дверь, приставил командиру к горлу нож и заставил лететь в Китай, где и сели благополучно.
Китайцы встретили их доброжелательно, одарили экипаж и пассажиров меховыми куртками и китайскими термосами и отправили домой. Об этом писали газеты.
Второй пилот, кавказской национальности, снимался как-то с летной работы, потом, по указанию из министерства, был восстановлен, но в отряде он на подозрении. Взглядов своих не скрывал настолько, что командир предприятия запретил ему выдавать оружие. Летать с ним все отказывались, и лишь один командир, кавказской же национальности, согласился… за что и слетал в Китай.
Папахи полетели. Летный состав, как всегда, в неведении.
Это все – по слухам.
Вот тебе и слетанность. Людей надо знать. А тут и знать не надо было, и так видно.
10.01. Вчера слетали в Благовещенск, там от якутов несколько более подробно узнали о личности угонщика. Человек с явно завышенным уровнем претензий и характером, неуживчивым до такой степени, что с ним все отказались летать, и вроде бы, именно на этом основании его снимали с летной работы.
Что-то подозрительно, но это – слухи. Он стал писать во все инстанции, что зажимают права человека, представителя нацменьшинства (он то ли лезгин, то ли осетин), – писал вплоть до ООН. Приказали восстановить его, Васин подписал. Восстановили в том же Якутском ОАО. Он к тому времени кончил академию и поставил ультиматум: раз я соответствую – вводите командиром, иначе «устрою вам». От него в очередной раз отмахнулись: ну кому нужен такой командир. Ну, он и устроил.
Полет в Благовещенск задержался почти на сутки: обледенела полоса, а чистить у нас почти нечем. Потом пошел снег, и улучшилось. По мне бы, снег на полосе прикатать – и будет сцепление лучше, чем на очищенной. В Игарке вон всю жизнь так.
Слетал туда я, разговелся после Нового года; все в норме, сел на знаки, но левее метр от оси.
Назад летел Валера, только что вышедший из отпуска. Хорошо слетал тоже. Так бы и всегда.
Валера в отпуске сдал экзамены в КИИ ГА – требуют для ввода в строй. Значит, скоро посадят на левое кресло.
Упорядочили питание пассажиров с Нового года, то есть, перестали их кормить на рейсах, продолжительностью менее 4-х часов. Рикошетом досталось и нам: ретивые чиновники с недельку не кормили и экипажи, пока их не одернули.
Ну, теперь прощай, бульон. А ведь бульон – единственное горячее блюдо в полете, иной раз, за весь день. Готовили его незаконно, это инициатива девчат, дай им бог здоровья. Заливался водой сотейник с курицей, вода закипала, курица шла пассажирам – горяченькая, а нам – навар. Там от настоящего бульона одно название, но с чесночком, лучком, специями, – все же видимость первого блюда. Маленькая отрада была в полете.
Ну да лучше уже не будет. Лучше уже было.
Очень настойчивые слухи, что и зарплату нам «упорядочат». Обычно, когда что-то упорядочивают, страдает в первую очередь рядовой состав, и еще не было случая, чтобы стали больше платить; обычно – все меньше и меньше.
Сейчас у меня средний заработок (начисление) около 600 рублей, это чистыми 520. Если упорядочат, то на сотню будет меньше. Это припахивает уравниловкой: тете Маше все больше, а нам…
Ну, не будем раньше времени брать в голову.
За разбитый обтекатель АНО я наказан, исходя из убытков (5 руб.), – в сто раз больше. Потерял годовые выплаты за безаварийный налет, выслугу и пр. – уже 500 р., а еще 13-я зарплата впереди. Тысяча точно наберется. Это не в сто, а в двести раз получается.
Ну, ничего, за одного битого двух небитых дают.
Хотелось бы узнать, на какой работе существует такая же адекватность наказания цене протупка.
Правда, по показателям работы я в декабре занял первое место в эскадрилье, но… не рассматривают, раз вырезан талон. А за ноябрь подбросили полсотни премиальных, не знаю, за какие заслуги.
Принял я социалистические обязательства на новый, 1986 год. Одним из пунктов стало: повысить производительность труда на 1,5 процента. Написал от фонаря, а там пусть считают. Сие от меня зависит лишь в той степени, в какой сумею увеличить скорость полета при одновременном уменьшении расхода топлива. Это я умею. Вчера сэкономили тонны три по бумагам. Если отбросить заначку, то фактически – тонны две. И – с полной загрузкой, и при этом пять минут сэкономили против расписания.
Так бы и всегда. Но не всегда унюхаешь ветер или температуру на высоте. Хотя я и это, в общем, умею.
Недавно на разборе летного отряда представитель управления сказал, что в министерстве рекомендуют настраивать летный состав не доверять матчасти. Демагогически мы восклицаем: как же так, и т.п. А в жизни мы и так не в восторге от машин, и следим.
Вообще, в министерстве зашевелились. Заговорили о личностном факторе, о том, что слетанность экипажа – чуть ли не важнее индивидуального профессионального мастерства. А я еще помню, как сцепился при сдаче на класс с министерским апологетом раскрепленного метода. Четырех лет не прошло. Я тогда свой взгляд на слетанность отстоял, убедил экзаменатора.
Анкетируют летный состав – заинтересовались мнением рядового Шульца. Поистине, грядут перемены.
Доверие летчиков к диспетчерской службе падает. Если московским верят на единицу (100 процентов), условно, конечно, то украинским – на 0,6, а в Грузии – и вообще 0,18.
Ну, собрали эти анкетки, сложили в шкаф – кампания проведена… а через два месяца те же грузины заводят в горы Як-40; экипаж кричит: куда вы нас ведете? – дает взлетный режим, переводит в набор… поздно. Врезались в гору.
Вот тут и спохватились, достали эти анкеты и обратили внимание на тот коэффициент доверия, 0,18.
Завертелись колеса, теперь и мы ждем, уже и нам есть анкеты: доверяем ли мы врачу летного отряда, замполиту и другим тетям Машам.
Взялись подсчитывать, а учитываются ли случаи положительные, когда человек оказался на своем месте, предотвратил ЧП. И оказалось, за год по министерству таких случаев около четырех тысяч. А скольких поощрили? Единицы. На разборах только и слышно: предпосылка Ершова, предпосылка того, другого… А о том случае, когда Паша Рыгин нашел незакрытую пробку маслобака и предотвратил отказ двигателя в полете, мы не знаем.
За это представитель управления журил начальство, такова тенденция и в министерстве.
Совсем другая тенденция, когда надо не журить, а пор-роть!
Володю Уккиса уже списали на пенсию (может, тот прерванный взлет сыграл свою роль, повлиял на здоровье), больше года прошло со времени того пожара, а знак «Отличник Аэрофлота» все бродит где-то по конторам.
Командир С. пролетал 35 лет, 20 000 часов; отметили, подарок вручили. В ответном слове он сказал, что главное – не брать ничего в голову, не переживать по мелочам, следить за здоровьем.
Тут же провожали на пенсию Толю Петухова. Он, прощаясь, посоветовал: главное – психологический настрой в экипаже, это сохраняет здоровье.
Михаил мой летает сейчас с этим командиром С. По его словам, за стариком нужен глаз да глаз. Да и объективно: расшифровок на него приходит чуть ли не больше всех, а с него как с гуся вода. Может, и правда, в этом кроется секрет летного долголетия?
А Петухов – отличный пилот, ас, мастер. У него – настрой в экипаже. А С. не хвалят; у него настрой – его настрой. Не поэтому ли рано, в 50 лет, уходит Мастер, а до 60 лет летает ремесленник? Чуть меньше требовать с себя, чуть больше – с других? Сомнительный рецепт.
14.01. К разочарованию работой прибавилось разочарование машиной. Правда, я и сам хорош, но не до такой же степени…
Полетели мы в Сочи на три ночи. Машина попалась нелюбимая всеми, 134-я, с ограничениями, и я еще пошутил, что разгрохать бы ее, все спасибо бы сказали.
В Куйбышеве сел идеально, выдержал все параметры, точно на знаки по оси. Полетели в Сочи.
В Сочи ожидался сдвиг ветра, и почему-то сажали не на длинную полосу, с курсом 60, а на 24, короткую, 2200 м. И передо мной встали вопросы.
Сдвиг ветра обещает болтанку, а значит, скачки скорости. Вес 74 тонны, расчетная скорость на глиссаде 263, предельная по закрылкам на 45 – 280. Определяемый возможностями машины диапазон 17 км/час в болтанку выдержать трудно.
Моя любимая лазейка – закрылки на 28 – в последнее время начальством не уважается, а в свете вырезанного талона будет расценена опять же как самоуверенность. Ох уж, этот «свет…»
Полоса 2200 – с обычным попутным ветром, при ливневом дожде и коэффициенте сцепления 0,5 – не располагает к большой посадочной скорости. Желательно бы поменьше. И сесть надо строго на знаки, тогда остается 1900 метров для пробега.
Заходить с закрылками на 45 означает заведомо выскочить за пределы: трепать-то уж будет, это точно. Заходить на 28 – скорость касания будет на 15 км/час больше, больше и пробег. Но у меня есть реверс до полной остановки, в конце концов.
Главное – не промазать. Риска, в общем, немного: разве что перелечу. Но я уверен в расчете: сяду на знаки, руку набил. Правда, для этого мне необходима свобода со скоростью на глиссаде, чтобы ее скачки не отвлекали от расчета на посадку.
Решило все окончательно сообщение, что не работает курсо-глиссадная система, заход по локатору, контроль по приводам, низкая облачность, сложный заход. В таких условиях неизбежно придется отвлекаться на проклятые ограничения, в то время как все внимание должно быть уделено выдерживанию курса и вертикальной скорости.
Решено: заход с закрылками на 28. Диапазон допустимых скоростей на глиссаде: от 260 до 340.
Снизились, пробили облачность, остался нижний слой. Болтало, подбрасывало. Выпустили закрылки на 28, потом пришлось вручную переложить стабилизатор. Стали снижаться по глиссаде, вернее, по предпосадочной прямой: глиссада-то не работает. Скорость плясала, доходила до 300; я следил за курсом и вертикальной, Толя справа мягко держался. С него помощник пока слабоватый. Женя подсказывал удаление, скорость и высоту. Валера двигал газы по моим командам.
Диспетчер спросил, видим ли полосу. Я тянул секунды: высота подходила к минимуму, а впереди клубком стояло облачко, и я всей душой стремился увидеть, где же за ним полоса.
Пробили облачко: полоса оказалась слева, метров сто; за 6 километров это – на отлично. Моря я не видел: было не до моря. Была полоса, торец ее, была скорость и режим двигателей.
Теперь задача стояла: проскочить полосу сдвига ветра по береговой черте и успокоить колебания машины, соразмерив установку газа с тенденцией скорости, определяющейся с высоты сто метров. Скорость падала с 300 до 290, 285, 280… Я добавил два процента, скорость остановилась на 270, и мы прошли торец.
Машина замерла за сто метров до знаков, я добрал самую малость, и через секунду мы коснулись, абсолютно точно на знаках и строго по оси.
Тут же и выплеснулось напряжение: дело сделано, полоса короткая, ждать нечего. И я бросил переднюю ногу, грубовато бросил, и тут же полностью обжал тормоза, думая только об одном: сцепление, сцепление, коротковата полоса…
Сцепление оказалось в норме, реверс сработал; по моей команде Толя подержал его, я убедился, что тормоза держат хорошо и на скорости 120 дал команду выключить реверс. Остановились, срулили, по восьмой, кажется; впереди еще оставалось метров 700 полосы.
Зарулили на стоянку, не очень красиво, выключились; я, смехом-смехом, все же на всякий случай сказал Валере глянуть переднюю ногу.
Посадка была очень удачная, все оправдалось, спина только была теплая.
Спина потеплела еще больше, когда вошел деловой Валера и доложил, что коснулись серьгой… и еще три колеса снесли на левой ноге.
Вышел, глянул. Серьга, которой передняя нога подвешивается на замок, не просто коснулась траверсы, а врезалась в нее, оставив на краске следы по всей площади, и сама немного деформировалась.
Но главнее были колеса. Заднее правое и левое среднее лопнули и разорвались по дырам, протертым о бетон. Правое среднее снесли до второго корда, но оно вполне держалось. На левой ноге тоже снесли одно колесо до второго корда.
В голове вертелось лишь одно: как же так? Как же так?
Ну, колеса, ладно, тормозил резко, правда, не ожидал на одной ноге. А серьга? По акселерометру зафиксированы были перегрузки 1,4 – 0,6. Посадка была где-то на 1,2.
Удар ногой? Били и посильнее. Нога должна выдерживать такие толчки, она рассчитана на гораздо большие нагрузки. А тут обычная, «рабочая», как у нас говорят, посадка.
Забегали чиновники. Тут стыдно, что экипаж сменный ждет, а я пригнал ему машину и на глазах сломал. Ну, колеса заменят быстро, а вот серьга… Потребуется вывешивать машину на подъемниках, и хорошо, если при уборке шасси нога встанет на замок. Если она не сильно сместилась. Это за нее, за эту самую серьгу, нога подвешивается на замок при уборке. И при ударе о бетон колеса с траверсой пошли вверх, сжимая амортстойку, и сжали ее до упора, и траверса, ударившись о злополучную серьгу, деформировала ее.
Техмоща уже доложила в АДП: снес три колеса на одной ноге, 50 процентов, а это – предпосылка к летному происшествию, это – на отряд, это – талон. А у меня он остался один.
РП уже потащил меня на расправу: оформлять предпосылку. Я в растерянности плелся за ним, не видя никакого выхода. Все. Отлетался.
И тут на сцену вышел Боря К., командир того экипажа, которому мы прилетели на смену.
Руководитель полетов вел меня на заклание, я лихорадочно соображал, как выкрутиться, понимая только одно: сел нормально – а конец летной работе! За вторую предпосылку уже со мной и разговаривать не будут – сунут во вторые пилоты, а я скорее уйду на пенсию, чем такой позор, – и за что?
Руководителя полетов поджимало время: о предпосылке надо доложить в Москву в течение двух часов, и сомнений у него никаких не было.
Я смутно понимал, что спасти меня может лишь решение инженеров: не три, а два колеса. Два на одной ноге – это менее 50 процентов, это допустимо.
Но нужна была решающая гирька на чашу весов. И Боря, осмотрев колеса, – взял на себя. Он заявил, что принимает решение лететь на том злополучном колесе, стертом до второго корда.
Конечно, никому не хотелось предпосылки. Слишком много бумаг писать, нервотрепка, а смена кончается…
Я помчался в АТБ уговаривать человека, принимающего решение. Мой жалкий вид и доводы насчет единственного талона, видимо, возымели действие. Боря был все время рядом, и его уверенный вид, интонация, сам настрой, – о чем, ребята, разговор! – все это тоже сыграло роль.
Короче, с колесами дело уладили; даже пошли нам навстречу и заменили все четыре колеса, расписав два на одну ногу и два на другую. Причем, на каждой ноге разрушение одного и износ одного. Это – в норме, рабочая посадка.
Попутно мы с РП успели съездить на старт, осмотреть полосу. Диспетчер старта подтвердил, что посадка произведена абсолютно точно на знаки, прямо против СДП, на основные ноги, потом на секунду задние колеса вроде как отделились на 10-15 сантиметров; опускание передней ноги быстро, но не сразу же. Нормальная посадка.
На полосе, строго в пяти метрах справа от оси, через четыреста метров после посадочного знака, начались пунктиром следы от разрушенных колес правой стойки.
Команду на расшифровку К3-63, пишущего самую точную перегрузку, уже дали, и через десять минут пришел результат: перегрузка 1,85.
Хоть и глаза на лоб у меня полезли, но это все-таки не грубая посадка (считается, когда более 2-х), значит, и по перегрузке нет предпосылки.
Это было главное. Дальше уже, шель-шевель, а время ушло, и давать предпосылку значило копать себе яму. Да и нечего было давать.
Немного успокоились. РП отстал от меня, на всякий случай подсунув акт, что я не в претензии к состоянию полосы. Подписал я и акт на задержку по замене трех колес. Хотя заменили аж четыре. Но разрушены-то два, а это в норме.
Боря, сделав свое дело, теперь уже стал мешать и трепать нервы. Советы были самые разные. То – дать по червонцу технарям, стукнуть кувалдой по серьге, и он улетит. То – уговорить инженеров, что давление в стойке было ниже нормы. То еще что-то из арсенала вертких по жизни людей, к категории которых я себя отнести не могу. Короче, Боре очень надо было улететь, и дальше уже он был начальник паники, а я успокоился хотя бы насчет того, что предпосылки нет.
Но литряк я Борису поставил: это настоящий мужик, вовремя подставил плечо. Он меня очень поддержал, в самую критическую минуту, взял на себя ответственность, выручил товарища. Без его вмешательства инженеры дали бы предпосылку в Москву – и пошла бы писать губерния. А так и они взяли на себя: списали счесанное колесо как просто изношенное.
Боря воспринял презент как должное и с удовольствием употребил: времени для этого, как потом оказалось, было с лихвой.
Я все ломал голову: в чем причина? И, кажется, дошло.
Отбрасывая напряжение полета и захода, можно отнести причину только на мое разгильдяйство.
Посадка ради посадки, борьба со стихией, мастерство пилота, – нельзя делать из этого самоцель.
Истинное мастерство – в комплексе; меня ведь этому учил Садыков… а я пустил такого пузыря.
Заход с закрылками на 28 – заход с высоко поднятым носом. Ну, моменты там так уравновешиваются. И я всегда бережно опускал ногу после посадки. А тут нервы не выдержали, да и просто не учел я этого, вычеркнул из головы. Бросил ногу… а с какой высоты… Это раз.
Втрое – теперь видно, чем опасна в такой ситуации мягкая посадка. По расшифровке МСРП, мы коснулись полосы с перегрузкой 1,08. Это невесомая посадка, самолет весь дышит, и задние колеса основных стоек шасси отходят иной раз от бетона, как бы пятками машина шевелит, на цыпочках бежит. Вот задние-то, пятки-то, в этот раз у меня и отошли на 15 сантиметров, на какую-то секунду. А я в этот момент ничтоже сумняшеся даванул тормоза. Я ведь выбросил из головы, что на старых машинах нет крана разблокировки тормозов при обжатых стойках, предохраняющего колеса от таких ретивых торможений. Коню понятно, что при опускании заторможенного колеса на скорости 250 – его снесет. Как еще не снесло и на левой ноге – не знаю.
Правда, в тот момент было не до крана разблокировки. Но мастерство-то как раз и заключается в том, чтобы все учесть.
Боря мне прочитал лекцию о пользе «рабочих» посадок. В данном конкретном случае он прав. Но… в общем, это позиция середнячка (не в обиду Боре будь сказано), меня она не устраивает, а что пустил пузыря, в этом виновата не мягкая посадка, а несобранность моя. И хоть житейски проще и надежнее ляпать машину о бетон и с оловянными глазами проходить через салон к выходу, – я все равно стремлюсь к своим критериям.
Можно ли было избежать поломки? Можно. Только придержать ногу, выждать пару секунд и плавненько начать тормозить.
Так кто же виноват? Страх? Нервы? Тогда пора уходить.
Теперь остается вопрос. Почему все-таки коснулась серьга? Ведь 1,85 – допустимая перегрузка, о грубой посадке и речи нет. Меня никто и не обвиняет. А нога должна была выдержать, но почему-то не выдержала.
Ночью ногу гоняли, вывесив самолет на подъемниках: нога на замок не становилась. Прислали из Ростова новую серьгу. Теперь уже и с новой серьгой нога не становится на замок.
Прислали представителя из Красноярска, сейчас и он ничего не может сделать. Сегодня 15-е, если до вечера не получится, надо менять ногу, а это волокита, т.к. нет ни ноги запасной здесь, ни бригады техников, знакомых с этим делом.
Как же так? Сел нормально, к экипажу претензий нет, а самолет сломан. Так меня и спросят в отряде. Что я отвечу?
Пошел в расшифровку. Там усиленно пытались найти хоть какую зацепку, но как назло, все параметры в норме. Скорость пересечения торца 270, касание 263, тангаж +2; через полторы секунды тангаж -4, совпадает по времени с перегрузкой 1,85; курс в момент касания 24, крен на пробеге -1, через шесть секунд после касания скорость 240. Идеальная посадка, только удар передней ногой. Есть колебания перегрузки после касания от 1,3 до 0,75, и далее до 1,85 – за неполные 2 секунды.. Это не может считаться козлом, просто чуть отошли основные стойки, так и диспетчер старта подтверждает. В момент касания руль высоты не добирался вверх, а наоборот, сразу отдан вниз, как и положено, ну, чуть быстрее, чем обычно. Должна была выдержать стойка.
Сейчас еще раз схожу в расшифровку, мне обещали дать графики с собой. Если ремонт надолго, улетаем пассажирами. Приду в отряд с расшифровкой, чтоб сразу разобрались и отпустили с миром. Ну, а если предъявят какие-то обвинения, пошлю всех подальше. Столько нервов истрепал за эти три дня!
Летаешь на этом дерьме, а потом начинается: то виноват, то не виноват, то замеряли давление азота в стойке – 37 атмосфер, а назавтра – 60, то техники ворчат, что все, мол, ясно: расшифровали – командир посадил на переднюю ногу…
Тут Борин экипаж из-за нас лишних три дня проторчал… эх, летом бы… теперь панику раздувает. Тут до отряда не дозвонишься, да и неизвестно, что говорить: ничего конкретного не нашли, самолет сломан, причина неизвестна, вины экипажа нет, хотя перегрузка едва влезла в ТУ. Странно: по акселерометру 1,4, а тут – 1,85. Конечно: жесткий удар железа о железо. Но почему?
Вот и верь этой машине.
21.01. Великое сочинское сидение продолжалось. Специалист бился над регулировкой замка и подгонкой серьги. Ростов настоятельно предлагал бросить всю эту ерунду и менять всю ногу. Москва держала в напряжении: почему машина стоит столько времени? Сочинское начальство метало икру и сочиняло варианты прикрытия тех пузырей, которые испускали инженерно-технические специалисты в процессе возни с машиной.
Так пресловутые 37 атмосфер я отношу только на счет сочинских умельцев. Может, давление в стойке и было меньше нормы, что и явилось причиной касания, но главный инженер их АТБ начал, так это, скользко, объяснять мне, что как назло, из десятка манометров, взяли один, неисправный, и при проверке в метрологии оказалось, что он занижает (а радиограмму в Красноярск о недостаточном давлении уже успели дать), а потом вдруг проверили исправным – и норма.
Подозреваю, это наш, красноярский спец подсуетился, своих технарей прикрывал. А может, сочинские просто в процессе проверки случайно стравили часть азота. Сам видел, как заправляли потом: полчаса бились, полмашины азота благополучно выпустили в атмосферу. Так что с метрологией – сказки. Чтобы скрыть свое неумение, тут же заправили до нормы, придумали историю с манометром, а на следующий день в присутствии экипажа замерили, потом спустили, чтобы, мол, замерить уровень жидкости, а потом снова накачали, чему я был свидетелем, потому и сделал такой вывод.
И, конечно же, инженерам было теперь удобнее валить все на грубое приземление на переднюю ногу.
Я еще раз сходил в расшифровку и убедил сидящих там специалистов, что они же, никогда до этого не летая (инженер-анализатор – бывший электрик), не могут судить о поведении машины за полторы секунды, и надо в справке о расшифровке, прилагаемой к техническому акту, дать только факты, воздерживаясь от выводов.
Поздно вечером, когда все, включая и красноярского представителя, отчаявшись, опустили руки и собрались уходить, чтобы назавтра запросить запасную ногу и бригаду для ее замены, присутствовавший в качестве активного наблюдателя Валера Копылов предложил – в последний раз – подпилить основание серьги на наждаке, «вот здесь». Уговорил; сам взял и подпилил. Поставили серьгу, убрали шасси – и замок закрылся.
Вот это – бортинженер!
Весь следующий день оформляли документацию. Меня не пригласили, а Валера там присутствовал, строго следя, чтобы все было в порядке.
Накануне прилетевший Коля Угрюмов посоветовал мне валить все на сдвиг ветра, и я с утра со штурманом все оформил в задании.
Валера сумел в акте дипломатично упростить причину задержки до скупой фразы: «При посадке в условиях сдвига ветра произошло касание серьгой».
С обеда мы с Женей составили предварительный план полета напрямую на Красноярск. ПДСП очень хотелось отправить нас через Куйбышев, т.к. рейс из Красноярска задерживался из-за непогоды в том же Куйбышеве, обещающем, впрочем, скоро открыться, а пассажиры на Красноярск уже собрались в сочинском вокзале по расписанию. На худой конец, взять хоть одних красноярцев, оставить куйбышевцев – и напрямую.
Поспали, проснулись… что-то не поднимают нас. Оказалось, кругом нет погоды. Через час я добился приемлемых прогнозов Красноярска и Абакана; Куйбышев все так же был закрыт. Пришли в АДП готовиться на Красноярск напрямую, как вдруг пришла радиограмма из Москвы: перегнать пустую машину в Москву под 101-й рейс. Плюнули, подписали на Москву и пошли на самолет.
Стали раскручивать агрегаты – отказал правый авиагоризонт. Час его меняли. Наконец, взлетели.
В Москве сел мягко, полоса была скользкая, долго катились. С нетерпением пришли в АДП: кому же гнать 101-й рейс домой. Оказалось, экипаж уже подняли на вылет, и не кого другого, как Булаха. Ну, не буду же я выпрашивать у командира эскадрильи, чтобы он вернулся в профилакторий, а я погнал его рейс. Доложил ему обо всем, отдал расшифровку, он меня успокоил и улетел.
Седьмые сутки пошли, а мы все не доберемся домой. Днем съездили в город, а потом пришла радиограмма от Медведева вернуться на базу пассажирами. Вечером прислали нам билеты, но без паспортов это просто бумажки, поэтому я договорился с Мишей Ивановым, вписали нас с проводниками к нему в задание с обратной стороны, и улетели практически зайцами.
Дома встретила изнервничавшаяся Надя, которой уже наговорили-наплели всякого.
Вечером позвонил Медведев и минут двадцать выпытывал подробности. Пожурил за заход на 28 и сказал, что заходи я с закрылками на 45 и выйди за ограничения, но отпишись сдвигом ветра, – он и слова бы не сказал. На что я ему ответил, что нарушь я хоть что-нибудь, разговор был бы совсем другой, а так – ну ничегошеньки я не нарушил, а заход с закрылками на 28 не запрещен, и есть пример в РЛЭ, когда разрешен. И он отстал.
Короче, пришел я вчера в отряд, все с сочувствием выспрашивали подробности, а Медведев, видимо, удовлетворившись телефонным разговором, заставил только написать подробную объяснительную записку. При мне он с досадой, видно, уже не в первый раз, объяснял кому-то по телефону, что не может самолет за секунду совершить две посадки.
Короче, он ждет подробную расшифровку, а это будет завтра, так что я свободен, и нет никаких ко мне претензий, если только в расшифровке не найдут какого-нибудь криминала. Только откуда?
Завтра, если, конечно, с расшифровкой все нормально, меня планируют опять в Сочи.
А касания серьгой на исправных машинах бывали и раньше. На 529-й даже запись в бортжурнале есть – как особенность этой машины. Так что вполне возможно: и все в ТУ, и касание. Нога слабая у Ту-154, факт.
25.01. Я сижу и жду решения своей судьбы. Надя за меня переживает. Еще когда я сидел в Сочи, какая-то скотина позвонила ей мужским голосом и сообщила, что я там лежу с инфарктом. Неужели я нажил себе врага? Или же у Нади враг на работе: там все знают, что со мной что-то случилось.
Цели своей враг добился: Надя переживает и, по своему обыкновению, выражает это в пристрастном отношении к моему случаю. Устроила мне дома разбор и все придирается к каждому слову: и там, мол, не так сделал, и там не так сказал, и вообще… И все это – в нелестных для меня выражениях. Она не может позволить мне ощутить, что меня жалеют.
Ну, к этой ее манере я привык давно, а сейчас действует на нервы. Особенно советы: не сидеть, не сидеть сложа руки, а действовать, действовать…
Ага, Боря тоже советовал править серьгу кувалдой.
А действовать-то нечего. Командованию доложил, больше от меня ничего не требуют.
Прошло два дня. Отобрали Сочи, дали Ростов, потом отобрали и Ростов. Вчера утром позвонил из штаба Валера Копылов: опять против меня что-то заваривается. Я примчался: оказывается, на разборе в управлении встал начальник инспекции и доложил, что Ершов совершил грубую посадку, неправильно исправил козла и погнул серьгу. Отстранить и наказать.
А Медведев куда-то задевал мои расшифровки, что в нашем бардаке и немудрено. Прошло уже две недели, машина летает, все пленки стерли, расшифровки потеряли, а тут спохватились, благо, копия в УРАПИ осталась.
Я предложил Медведеву куда-то бежать, чего-то добиваться, как мне в голос рекомендовали в коридоре опытные, умудренные, битые-правленые инструктора и комэски. Но с чем я пойду оправдываться к тому же начальнику инспекции управления, который что-то где-то услышал и тут же махнул дубиной? Со своими эмоциями?
Медведев заказал новую расшифровку. Мы с ним еще поговорили. В процессе разговора выплеснул эмоции. Медведев мне как дважды два нарисовал картину моей посадки и причину происшествия. Причина – «шары на лоб». На «шары» я ткнул его носом в десятки расшифровок, пришедших на наших старых, опытнейших командиров, – пусть он их учит чисто летать, а на меня за все время хоть одна пришла? А насчет «шаров» – да, на нервах летаю. И если будут так их трепать, то могу принести еще ЧП отряду. Так может, не ждать, уйти? Пенсия есть.
Тут он забегал, усадил меня и стал уговаривать, что все мы, мол, на нервах, что и его порют ни за что, и т.п. А насчет захода с закрылками на 28 он издаст приказ, запрещающий такие заходы, кроме случаев, оговоренных в РЛЭ.
Это когда я опять же ткнул его носом, что он приветствует безынициативных пилотов, а кто хоть чуть берет на себя, того и наказывают.
В общем, тон разговора был спокойный, но эмоциональная окраска была.
В конце концов, Медведев сам заинтересован сбросить с отряда навешиваемую задержку, а тем более, предпосылку, как думают в инспекции. Он сам с моими расшифровками пойдет защищать меня. А мне – сидеть и не рыпаться.
Ошибку свою в технике пилотирования я признал. Пусть наказывают. За ошибку, а не за нарушение.
Кстати, на того же начальника инспекции – воз расшифровок, но он – большой начальник. Ему можно ошибаться, а мне нельзя.
А Наде обидно, что две недели прошло, а я не летаю. И никто не разобрался. И по чьей вине.
Ну, это мелочи, это она в первый раз столкнулась. Люди месяцами сидят иной раз. Не надо самолеты ломать.
Я же протестую против этого духа, который вчера самодовольно выразил мне Кирьян: ты и только ты обязан доказать, что ты не верблюд.
Почему – я? Пусть начальник инспекции создает комиссию, пусть она и доказывает. Формально оно так и есть, а житейски – надо править серьгу кувалдой.
Я Медведеву прямо сказал: чего от нас, задолбанных и безынициативных, можно добиться, какой жизненной позиции? Да плевали мы на ваши призывы к экономии, творческому подходу, инициативе снизу. Я вот проявил, ошибся, буду наказан, – и никому нет дела до моей инициативы, она наказуема. Ни один пилот не подошел и не разделил моих предложений, но все как один осудили. Нет в законе – не делай, пожалеешь!
Вот аэрофлотский принцип, дух, буква, вот сама наша застойная суть! На острие прогресса – рутина и застой. Нет такого понятия – инициатива пилота. Это вредное явление. Там, наверху, лучше знают. Когда надо будет – скомандуют. А наше дело – спольнять.
Да, Михаил Сергеевич, сдвиньте-ка! Вам наговорят. И «законы написаны кровью». И «дисциплина и единоначалие». И «все как один». И «единодушно поддерживая». И «внесем свой вклад…»
Медведев прямо сказал: какая инициатива – вот серьгу погнул. Есть малейшее сомнение – уходи на запасной.
Какая тогда, к черту, экономия – непроизводительный налет. А кому нужны мучения пассажиров?
Есть погнутая серьга, пятно на мундир и лишение премиальных, снизу доверху. В конечном счете, все решает рубль, но не государственный, а мои кровные премиальные. «Мне, мое, много…» Вот вам повод для размышления.
Я не летаю потому, что надо на кого-то списать задержку, простой самолета и убытки. АТБ катит бочку на летный отряд. Проще всего было бы, если бы нашли нарушение у пилота. А мне проще было бы, если бы нашли нарушение по технической части.
Но ни с той, ни с другой стороны нарушений нет. Но так же не бывает: самолет вроде исправен, пилот посадил без нарушений, а машина сломана. Кто-то же должен ответить, кто-то же должен быть наказан.
В конце концов, должна же быть названа причина: да, слабая нога, не выдерживает даже посадок с допустимыми перегрузками, и надо либо упрочнять ногу, либо уменьшать допустимые перегрузки, учить летный состав, как теперь беречь ногу.
Но это упрек самому Туполеву, до него высоко, а проще замять это дело путем наказания мнимых виновников и оставить все как есть до следующего случая.
Остается лишь рекомендовать беречь ногу на посадке.
Но найдется ли человек, который в подобном случае своей властью скомандует: «Экипаж не виноват, оставьте его в покое!» Кому это сейчас надо – брать на себя в Аэрофлоте? Вот так то.
Это не «обывательское брюзжание», как говорят некоторые ретивые партейцы. Это – острый угол жизни, а срубить его некому.
Я-то хорош. Ма-астер… Если уж установил себе жесткие критерии, если умнее других хотел быть, – так выдерживай!
Всю ответственность в моральном плане я конечно беру на себя. Но отвечать за серьгу по нашим аэрофлотским канонам не хочу. Формально я не виноват и никогда не признаю себя виноватым.
Спасибо Медведеву, он на будущее своим приказом избавил меня от сомнений насчет закрылков на 28. Буду корячиться на 45.
27.01. Вчера участвовал в штурмовой кампании наведения лоска на тришкин кафтан нашего аэропорта. Пилоты очищали ото льда паперть нашего аэровокзала. Дворников у нас нет, люди не идут сюда работать, а пассажирам скользко на обледеневших ступенях.
Маршал наш должен был прилететь после обеда, и нам пришлось в буквальном смысле повкалывать.
Сегодня стоим на штурманский тренажер, смысл существования которого – научить экипаж самолетовождению без штурмана. Пока все это говорильня, сами инструктора понимают, что толку от этого ни на грош. Но приказ сверху есть, поэтому подчиняемся.
Вечером звонил Женя, мой новый штурман. Он сидел в резерве со Скотниковым, и тот рассказал, что они летали на 134-й в Симферополь и заметили сильную осадку передней ноги, и техники на земле тоже заметили. Короче, записали по прилету замечание. Ну, посмотрим, как отпишутся.
28.01. Сегодня на разборе в 4 АЭ выступал Медведев. Разбирал варианты захода с закрылками на 28. О моем случае в Сочи заявил: грубая посадка с тройным (!) козлом.
Ну что ж, позиция командира летного отряда ясна. Он не только не стремится выручить подчиненного, попавшего в двусмысленную ситуацию, пусть даже по ошибке. Он топит.
Конечно, неприятно, когда мэтр с брезгливой снисходительностью журит тебя и даже вроде как бы жалеет, вызывает на откровенность.
К счастью, я нашел достаточно твердости, чтобы отстоять правоту. И, те не менее, обгадил при народе – вроде бы для пользы дела, чтобы упредить аналогичные ошибки других. И при этом не гнушаясь нечистоплотными аргументами.
Как я понял, это не управление отстранило меня; отстранил меня Медведев, в основном, за инициативу с закрылками, для науки.
Позвонили друзья. Приглашают нас в баню для поднятия духа.
29.01. Баня была великолепна и очень хорошо разрядила. Но утром проснулся от мыслей и час до будильника лежал, перебирая варианты возможного наказания и линию поведения.
Поехал на работу, задумался… и просвистел две лишние остановки. Плюнул, вылез, сел на встречный троллейбус… и опять чуть было не проехал остановку. Такого со мной еще не было.
Вошел в отряд с веселой злостью в душе, готовый к бою с Медведевым.
В эскадрилье замкомэски Попков буднично сказал мне, что меня допустили к полетам, претензий ко мне нет, за посадку с перегрузкой на оценку «три» он объявляет мне устное замечание, а задержка пошла все-таки на меня.
Да черт с ней, с задержкой.
В Сочи со мной поставят инструктора, чтобы научил опускать ногу. Слетаю с инструктором, куда я денусь.
Но почему я не летал полмесяца? По прихоти барина.
Вся злость из меня вышла. Я все-таки оказался прав. Мой принцип восторжествовал, и я не доказывал никому, что я не верблюд.
И хотя Попков и информировал меня, что они долго ломали голову, как меня вытащить, это все демагогия: меня не за что было наказывать. А что, мол, посадка на тройку, значит, надо понижать меня во второй класс, что ли? Тогда и за посадку с перегрузкой больше 1,41 (а такие посадки нередко вытворяют проверяющие высокого ранга) их всех тоже надо понижать в классе.
Хотели было поставить меня завтра на Москву, как раз и Медведев собирался лететь, не знаю, умышленно или нет, – но через несколько минут начальник штаба вошел и сказал, что Медведев распорядился поставить на Москву Доминяка – у него вторая категория. Но у Медведева у самого вторая категория. Не захотел он со мной лететь, да и видеть не захотел. Я ждал-ждал его, чтобы забрать на память расшифровку, не дождался. Хотя вряд ли ему стыдно.
А я на этом инциденте потерял 100 рублей заработка.
30.01. Можно сказать, что я отгулял месяц в отпуске. Налетал 13 часов, остальное время сидел. Нервничал, конечно, но что за жизнь без нервов. Собственно работы пилота, за что мне деньги платят, было три дня. За это я получу минимум три сотни чистыми. Где еще найдешь такую работу?
Правда, неделю не был дома. Ну, на работу в отряд ездил, потерял несколько дней. Но остальное-то время сидел дома, по режиму, читал книги, смотрел телевизор, играл на фортепьянах, слушал музыку и мило беседовал с членами семьи.
Предлагается работа в ВОХРе, в училище: сидеть на вахте. Сутки отдежурил – трое дома, сто шестьдесят рублей, и кормят два раза на работе. Восемь рабочих дней, а ночью можно спать. С пенсией – 280 рублей. И двадцать два выходных, когда сам себе хозяин, ни о чем голова не болит, можно заниматься чем душа пожелает.
Летом бы такой режим…
Но летом будет у меня другой режим. Двадцать шесть дней работать, четыре дня – дома, неполных, один – спать после ночи, другой – спать перед ночью. И ночей пятнадцать вообще не спать. Считая только сон и отдых, не учитывая нервные нагрузки, заработаю чистыми около 700 рублей. И так – три месяца подряд. Где еще найдешь такую работу?
Ну, еще годик-полтора отлетать надо. Отмучить это лето, а следующее – уж посмотрим, может, тем летом уволюсь. Больше летать нет смысла. Это будет ровно двадцать лет полетов.
Подведем итоги двухнедельных раздумий по Сочи. Какие выводы на будущее?
Итак, сложный заход, узкие, слишком узкие рамки; принятие решения. Посадка как самоцель – и на дальнейшее нервов не хватило.
Надо было просто уйти на запасной в Минводы и отсидеться там… до каких пор?
Ну ладно. Можно было начать тормозить со скорости хоть 160. Можно было держать ногу до посинения. Но проклятый настрой – не нарушать – держит в напряжении.
Значит, первый вывод. Раз я всегда сажусь по оси, строго параллельно, то могу включать реверс всегда в момент касания. Ногу держать как можно дольше. Тормозить чисто символически. И твердо помнить: реверс мой до конца. Забыть эти рубежи 130, 120, выключать? не выключать? – это пустая оговорка. Реверс – основной тормоз на Ту-154, и использовать его надо в полную силу.
Конечно, это не догма. Есть варианты, а на сухих полосах вполне может хватить и тормозов, и реверса до скорости 130. Но если чуть полоса мокрая или скользкая – все, реверс до полной остановки. И – отписываться: то ли низким коэффициентом сцепления, то ли короткой полосой; главное – записать. А двигатели – черт с ними, пусть бьются лопатки. Имею право.
С закрылками на 28 ясно. Они, кстати, в данном случае сыграли не такую уж важную роль; здесь сыграли нервы. Мои убеждения насчет захода на 28 не изменились. Но есть запрет – надо выполнять.
Как сказал мне Попков, не дай бог, вышел бы я хоть где за ограничения – все: летал бы уже вторым пилотом.
Мы с Попковым спорили вчера. Он мне на пальцах пытался доказывать что-то насчет стояночного тангажа и посадочного тангажа с закрылками на 45, а я с линейкой в руках доказал ему, что при посадочном тангаже 7 градусов (как он утверждает) передние колеса будут подняты над землей на три метра. Так не бывает.
Открыли «Аэродинамику Ту-154» Лигума, там конкретно: стояночный тангаж – 0. так что в момент касания у меня нога была в 65 см над бетоном, потому что тангаж был 2 градуса.
Короче, Попков сказал, что, как оказалось, передняя нога на 134-й, вообще говоря, не в ТУ, но сейчас уже не докажешь… Была бы зафиксирована предпосылка – тогда другое дело: тогда бы вылетела комиссия и сумела бы доказать, что ни козла, ни грубой посадки, ни приземления на переднюю ногу – то есть, моей вины, – не было. И тогда, мол, на меня бочку бы не катили. И замеряли бы параметры ноги на арестованном самолете в присутствии компетентных лиц.
Я горько усмехнулся: да уж… а как бы я объяснил снесенные колеса? Нет, лучше пусть всю жизнь гнетет меня совесть за повешенную лично на меня задержку – но нет предпосылки.
Больше хладнокровия, поменьше эмоций. Такой хороший самолет – столько возможностей… а я, в узких рамках, нервничаю, ломаю… а половина полосы для пробега так и не использована. Шары на лоб, точно.
Мало летать строго по букве. Это неплохо, что я работаю над собой и чисто летаю. Теперь задача стоит шире: используя чистоту полета, выработать хладнокровный подход к любой сложности в полете. Это гораздо труднее, но иначе нельзя. Надо подходить творчески, как учил Садыков.
«Чикалов летал на четыре, я летаю на шесть» – но без мозгов.
Однако и самоуничижением нечего заниматься. Я умею летать, а без ошибок на такой работе не обойтись. В конечном счете, я победил в этой ситуации. Да и ситуация-то чисто бумажная. Ведь, в конечном счете, виновата-то нога, не выдержала.
Но – таков аэрофлот, да и весь наш век таков.
Ничего, впереди еще полтора года, для работы над собой вполне достаточно времени. Хотя, казалось бы, зачем? Тянись полегоньку.
Но я так не могу, так неинтересно жить. Уходить все же надо в расцвете сил, а не побежденным.
Я вот на днях переживал, как же сложится судьба. Если бы меня несправедливо в чем-то обвинили, ушел бы. Конечно, обидно, но какой смысл, если с позором кинут во вторые? Проболтаться год вторым, чтобы на тебя все пальцами показывали, и затем уволиться? Так уж лучше сразу. Но это вариант от безысходности. А раз судьба повернулась лицом, еще поборемся.
Наказание я бы воспринял с удивлением. Но чего у нас не бывает, поэтому и переживал. Моя борьба была – никакой борьбы. Я не виноват, и бегать не буду. У нас беготней и эмоциями ничего не докажешь: есть объективный контроль, и я в него верил. Но это ожидание попило крови.
По сути дела, командир корабля в сложной ситуации сумел использовать возможности самолета, проявил творческую инициативу и вышел победителем. Но… жидко обгадился на посадке из-за нервов.
А формально: командир проявил глупую и не прописанную в документах инициативу, нагнал этим на себя страху, поддался ему на посадке и поломал самолет.
А житейски – сложились вместе усталость и страх, страх перед рамками и страх за инициативу. Самый худший преступник – вооруженный трус: он от страха стреляет в первого встречного.
Этот трус – я. А вдруг навстречу мне идет злоумышленник? Не успею я – успеет он. Надо бить первому.
Полоса короткая. Сел, некогда ждать. А вдруг выкачусь? Нет уж. Бросаю ногу, жму спусковой крючок… то есть, тормоза.
Так что, если ребята разбираются в психологии, они должны испытывать ко мне презрительную жалость. И поделом. Надо переморгать. Слаб человек. Вот тут Медведев прав: «шары на лоб». Ой, мастер… Кишка тонка.
31.01. Отдых, блаженный отдых… Никуда не надо спешить, ни о чем не надо думать. Ничего не хочется делать. Выжатый лимон.
Спрашивается, от чего это я так устал?
4.02. Слетал вчера в Норильск с Кирьяном. И что же – недаром! Кирьян открыл мне, Чикалову занюханному, нюанс. В момент касания я прилично отдаю штурвал. Он, может, раньше и не замечал за мной, а тут специально следил, ждал: ведь цель полета была – именно установить это.
Факт налицо. И мне пришлось в последующих полетах делать усилие над собой, чтобы не фиксировать момент касания дачей штурвала от себя.
А то замрешь, ждешь мягкого касания, а сам готов предупредить возможное отделение мгновенным уменьшением угла атаки. Так и выработался рефлекс: касание – чуть от себя.
Кирьян считает, что вот это и послужило причиной резкого опускания ноги в Сочи. Я же думаю, что нет, я ее просто бросил, чтобы скорее начать тормозить, просто держать ее не было времени.
Отдача же от себя – это мой способ предупреждения козла, причем, действенный.
Козел возникает обычно у пилотов, стремящихся «подловить» момент касания. Это зачастую нервные люди, им не хватает выдержки выждать эти секунды, и они стараются поймать землю одним махом.
Такой был мой командир на Ил-14 Коля Ш. У него было ограничение: поврежденный на охоте правый глаз имел меньший угол зрения; это мешало определять положение самолета на посадке. Он выравнивал машину одним махом, и высоко. Подождав секунду, понимал, что еще не зацепил землю, а самолет надо снижать. Чуть отдавал от себя, а потом опять подхватывал. Иногда – до трех раз.
Чаще всего, надо отдать ему должное, ловил Коля землю очень мягко. Но один из десяти получался козел, потому что момент подхватывания совпадал с касанием, и сложившиеся вместе разжатие амортстоек и незначительное увеличение тангажа, а значит, угла атаки и подъемной силы, отделяли самолет от земли, и надо было его опять досаживать, но уже, увы, на меньшей скорости и управляемости, и далеко за посадочными знаками.
А подскажешь ему, что, мол, высоковато выровнял, – свирепел и обзывал «проверяющим».
У меня же выработался свой стиль. На Ил-14 я сажал либо по-вороньи, т.е. начинал заранее подбирать, подбирать, подбирать (при этом сознание фиксировало не плавное, а ступенчатое приближение земли) до самого касания; – либо, если надо было сесть точно, на ограниченную площадку, садился на газу: тянул на полуметре, на 30 сантиметрах, до самого знака, а непосредственно перед ним убирал газы и чуть добирал штурвал.
Но в любом случае я всегда чуть фиксировал момент касания отдачей от себя. И на своем летном веку имел всего несколько козликов, из которых настоящим был только пресловутый козел в Чите. Вот там-то уж точно: момент упадания на грешную землю совпал с сотворенным в четыре руки взятием штурвалов на себя.
Никогда и никто ни на Ил-14, ни на Ил-18, не держал ногу после касания, а вот на «Ту» жизнь заставила. Ну что ж, буду держать, беречь ее.
Садились дома, я выровнял корягу 124-ю (как назло попалась, зараза), заставил все же замереть и сознательно зажал штурвал, ожидая касания. Что-то легкое, как вздох… Нет, показалось. Ждал-ждал, вижу, перелет получается. Потом чуть стукнуло, примерно, на 1,2. Жду опускания передней ноги, а его нет. Потом дошло: стукнула передняя нога. Значит, либо посадка на три точки, либо очень мягкая посадка. Валера сзади наблюдал, подтвердил, что такое бывает раз в жизни: сел точно и мягко, аж не вышепчешь, бежали и не чувствовали.
А я говорю, коряга… Ласточка!
Сами полеты требовали большого напряжения, машина все-таки слушалась неважно, валилась, уходила с курса, но все же справился.
Заход дома выполнил так, что газ добавил только перед 4-м разворотом. Но створ ловил с трудом. Нет, все равно, 124-я – нелюбимый наш самолет.
Потом перелетели в Северный, нормально.
Кирьян, какой бы он ни был, имея власть, – в полетах, надо сказать, свой в доску, поддакивает в беседах и снисходителен к мелким ошибкам. Ну, сделал замечание за быстрое руление.
Да, рулю я быстрее, чем хотелось бы проверяющему. Я знаю лишь одного командира, который рулил всегда и во всех обстоятельствах ну очень медленно: Серегу Л. Видимо, его где-то еще на Ли-2 жизнь хорошо проучила, и он зарекся по гроб жизни. Вот с ним рядом сидеть на рулении было невыносимо. Вспоминается «Шахматная новелла» Цвейга. Я бы в сто раз быстрее… я бы…
Может, этот самый «я» и на рулении не замечает нюансов?
Конечно, зимой, в гололед, не очень-то приятно сидеть рядом и слышать, как рулящий пилот допускает иной раз на развороте движение передних колес юзом. Но без юза рулить, да еще на перроне, где газу-то не дашь – выстеклишь окна или перевернешь что, – не получается. Здесь учитываешь и используешь все. И импульс вращения, и степень дачи ноги на гололеде (при этом-то, при пробном движении, и получается юз – как показатель, что хватит давать ногу), и инерцию газовой струи, и массу машины, и снежные валы, и подъем или уклон, и ветер…
Проверяющему, наблюдателю, не так видно и слышно, не так он чувствует поведение машины, реакцию ее на угол отклонения колес, на подтормаживание, на ход угловой скорости за газом, – нюансов и обратных связей тут хватает. Проверяющий идет в хвосте ситуации, его это раздражает, а выражается раздражение командой «потише-потише».
Надо не забывать: юзом идут лишь колеса передней ноги, и, в принципе, хоть не управляй ею совсем, при достаточной даче газа для управления рулением хватает и подтормаживания основных ног шасси. Самолет ведь рулит по принципу трактора: надо вправо – тормоз правый, надо влево – тормоз левый. Так мы рулили на Ил-14.
Но на большой скорости руления импульсы подтормаживания вызовут сильное рысканье по курсу; для удобства введено управление передними колесами, на сухом бетоне оно очень эффективно. Но в Норильске сухого бетона – два месяца в году.
У каждого пилота свои взгляды на руление. Нет единой методики руления; в общих чертах при переучивании, да по словам старших товарищей на практике учимся мы рулить. Но сколько тех минут обучения рулению в сравнении со многими часами опыта, обретаемого каждым на своей шкуре, на своих ошибках.
Так у каждого складывается свой почерк. У одного – в меру его общих знаний, способности к исследованию, осмыслению, тонкости ощущений, смелости. У другого – в меру его осторожности, стремления к стереотипу и определенным рамкам, боязни проникать в неведомое, как бы чего не вышло.
Вот и взгляды на способы руления определяются не оптимальным вариантом, созданным на базе осмысленного изучения опыта (вот чем бы заняться на наших конференциях), а скорее авторитетом и силовым давлением старших по званию.
А так как в жизни нередко продвигаются скорее сторонники осторожного подхода, снисходительно предоставляя возможность набивать шишки «исследователям», то проверяющие высокого ранга требуют рулить по принципу «потише-потише, как бы чего не вышло».
И это – еще один камешек на ту чашу весов.
Спор-то обычно из-за мелочи: на скорости 15 или 10 км/час рулить. Плюнь на все и рули на 5, как Серега Л. Но тогда получается «Шахматная новелла», психологический дискомфорт.
Правда, Валентин А. рулил на скорости 140 и выкатился. Зато теперь на той же полосе 3435 м Кирьян требует рулить «потише-потише» за два километра до торца.
6.08. Ознакомился с приказом. Чем-то он меня не удовлетворил. Да вообще, ничем не удовлетворил. Больно уж несвязно составлен. Приведу его полностью:
ПРИКАЗ №9
О повреждении самолета Ту-154 №85134.
11.01.86 г. Экипаж в составе: КВС Ершов В.В., 2/п Можаров, шт. Гончаров, б/и Копылов, выполнял пассажирский рейс по маршруту Кр-ск-Куйбышев-Сочи.
Заход на посадку в а/п Сочи производился с закрылками, выпущенными на 28 градусов. Создание такой посадочной конфигурации КВС Ершов мотивировал наличием болтанки и прогнозируемым сдвигом ветра на предпосадочной прямой.
Приземление самолета было произведено на скорости 275 км/час, с перегрузкой 1,4 и углом тангажа 4 градуса. После отделения через 1,5 сек самолет приземлился с перегрузкой 1,85 на скорости 265 км/час и вновь отделился. Третье касание с перегрузкой 1,4 на скорости 250 км/час через две секунды после второго.
При проведении послеполетного осмотра было обнаружено разрушение двух пневматиков колес и повреждение серьги подвески передней ноги шасси.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. КВС Ершова В.В. за невыполнение требований РЛЭ пункт 2.2(9)б (посадочная конфигурация) лишить премиального вознаграждения за безаварийный налет в размере 20 процентов.
2. Пилоту-инструктору Рулькову К.Г. строго указать на непрекращающиеся случаи нарушений, допущенные закрепленным за ним летным составом.
3. Запрещаю выполнять заход на посадку и посадку с закрылками, отклоненными на 28 градусов, кроме случаев, предусмотренных РЛЭ.
4. Приказ изучить с личным составом под роспись.
Командир 400 ЛО В.Л. Медведев
Возникает ряд вопросов. Первый: откуда такие странные результаты расшифровки? Совершенно от фонаря. Почему-то утеряны: пленка К3-63, где максимальная перегрузка 1,85; запись на МСРП, где максимальная перегрузка была всего 1,6; та расшифровка, что я отдал Булаху, – уж там-то ясно видно, что никаких повторных отделений от ВПП не было. Откуда посадочный тангаж 4? Откуда скорость касания 275? Как может самолет за три с половиной секунды потерять 25 км/час скорости?
Создается впечатление, что цифры в приказе взяты с потолка. Перегрузка 1,85 – из справки, приложенной к техническому акту еще в Сочи. Но там же указан тангаж 2, а в приказе – 4. А 4 – это высоко поднятый нос! Вот он, заход с закрылками на 28!
Короче, цифры произвольны, тенденциозны и призваны натолкнуть на мысль: именно заход с закрылками на 28 и явился причиной повреждения серьги. Но в приказе связь такой конфигурации с повреждением прямо не указана. Догадайся, мол, сама…
Откуда взялся двойной козел? На той расшифровке, которую я отдал в руки Булаху, а он, уж точно, Медведеву, – никакого второго отделения нет, да и первое сомнительно. Чтобы самолет скакал по полосе быстрее камешка, пущенного плашмя по воде – и это махина с весом 80 тонн – да сам Медведев при мне кому-то доказывал, что этого не может быть.
А теперь вот – может. За уши притянуты два козла. И расшифровка безнадежно потеряна. Или спрятана. И ничего не докажешь.
Приказ «о повреждении самолета», а в приказной части речь идет о «невыполнении требований РЛЭ».
Да, казуист Медведев раскопал-таки пункт. Он гласит: «Посадочная конфигурация определяется только положением шасси и закрылков». И далее: «2.2(9)б. На посадке: закрылки выпущены на 45 при всех работающих двигателях. Закрылки выпущены на 45 или 28 при одном неработающем двигателе».
Таким образом, я нарушил посадочную конфигурацию при всех работающих двигателях.
А ведь я самоуверенно утверждал, что я не нарушил букву. Оказалось, нарушил, плохо знаю Руководство. Да и Медведев почти три недели искал этот пункт 2.2(9)б.
Наказания, тем не менее, мне нет. Есть лишение 20 процентов годовых – это не прописано в КЗОТе, это наши внутренние стимулы. Семьдесят рублей.
Этим мне затыкают рот. Я не наказан. Мне просто не дали пряника. Не буду же я выспоривать себе наказание.
За нарушение РЛЭ при одном талоне положено вырезать второй. Меня пожалели.
Таким образом, делаю вывод. Сама жизнь говорит мне: не высовывайся. Осталось летать год, чего ты добьешься своим упрямством? Выставишь себя на смех, подрыгаешься год и с позором уйдешь, а то еще во вторые пилоты бросят. Второй раз жизнь тычет носом: что бы ни случилось с самолетом, виноват командир. Прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше прав. Ты начальник – я дурак. Вы наши отцы – мы ваши дети. Склони шею.
Инициативу глушат и в аэрофлоте, и в других отраслях, потому что она беспокоит. Кто ж рискнет и возьмет на себя – поддержать инициативу?
Есть буква – выполняй, есть сомнение, делать или не делать, – не делай. Всегда вали с себя на другого. Переступи через человека. А не можешь, совесть не позволяет – уходи.
Я свое отработал честно, как мог. Через год начну новую жизнь – жизнь пенсионера, жизнь для себя… в 43 года. Как бы ни решались мировые проблемы, я уже к ним не причастен.
Сейчас мне гораздо интереснее сам эгоистический я. Как наладить подработавшийся организм, особенно нервную систему. Как наладить режим, как забыть всю нервотрепку, отдохнуть несколько лет, а там видно будет, к чему появится интерес. Но уж на трибуну я не полезу.
Прочитал книжку Галлая «Жизнь Арцеулова».
Арцеулов был Мастер, король, думающий, интеллигентный человек. Слава покорителя штопора несла его на гребне. Пролетал 20 лет, был и испытателем, и ледовым разведчиком, и аэрофотосъемщиком, и планеристом. И всегда был среди первых, всегда – уважаем, и понимал свою значительность.
И вдруг – поклеп и отстранение от летной работы. Три года перебивался, потом реабилитирован, можно летать… Но что-то перегорело за эти три года в его душе. И потом, это же 30-е годы; за то время, что он не летал, в авиацию хлынул поток молодых, горластых, дерзких, талантливых комсомольцев. И он, с его авторитетом, опытом, 6-ю тысячами часов налета, в возрасте 45 лет, при здоровье, – уступил дорогу. И не вернулся. Нашел другое призвание – художника.
Он понял, что уже не потянет наравне со всеми, что авиация ушла вперед, и что он теперь будет не только не первым, не вторым, но даже и не средним. А оставаться при ней замшелым легендарным дедом он не захотел.
У нас сейчас застой с матчастью, с землей, с кадрами, но зато прогресс в бюрократизации отрасли. И я этого тоже не выдержу. Пусть новое поколение тянет эту лямку: оно выросло на бюрократических щах. А в аэрофлоте это все началось с 235 отряда и ЦУМВС. Москвичи, те, кто ближе к министерству, сосут себе выгоду и приглядываются, какой бы еще приказик протолкнуть через верных людей, выгодный только им, или в первую очередь им. Мне кажется, каждый второй там – Друбецкой, знакомый со всей закулисной кухней, как рыба в воде. У таких полеты – только средство для достижения своих целей. Вот им – и работать дальше.
Медведев сказал, чтобы я готовился выступить на разборе отряда по своей посадке. А что тут готовиться. Есть приказ, там все сказано, я только повторю эту галиматью. Что толку качать права. Допустили летать – и ладно. Конечно, он будет спрашивать, как я считаю – правильны ли были мои действия и т.п. Нашел дурака. Вы наши отцы – мы ваши дети. Теперь я вообще буду молчать, ну, поддакивать. Да, виноват. Да, нарушил конфигурацию. Да, заход с закрылками на 28 вызвал три козла за три с половиной секунды и деформацию серьги в результате. Да, больше не буду. И пусть он отстанет. Он начальник – я дурак.
12.02. Два разбора подряд: эскадрильный и отрядный. Выступал на обоих. Свои, эскадрильские ребята все как один осудили меня. Да и за что хвалить: сам обгадился и тень на всех бросил.
На отрядном разборе доложил в двух словах. Вопросов почти не было. Медведев журил почти ласково. Все всё понимают.
Почему я так боялся выйти за пределы ограничений? Это глупая упрямая самоуверенность. Мастер, мастер…
Нет, брат, не так все легко дается. И спасибо ребятам, что все как один дали мне понять, что я еще соплив как командир.
Дело не в чистоте полета, а в комплексном использовании всех способностей и умений для достижения одной цели – безопасности полета. Ну, дал мне бог эту чистоту, но я превратил ее в фетиш, в самоцель. А надо еще думать головой.
В частности, Медведев посоветовал мне обратиться к Руководству насчет максимально допустимого посадочного веса в Сочи. Порылся, и вышло, что в тех условиях проходило всего 69 тонн – это с закрылками на 45. А я лез на 28 – с 76 тоннами. Выходит, мы все там всю жизнь нарушаем.
Это теоретически. А практически пробег-то всего 1200-1300 метров.
Я ведь никогда не прикидывал, проходит ли в Сочи вес на посадке, и никто не прикидывал. Раз все летают, значит, дядя думал.
А думать-то надо мне.
Вчера был в райкоме на семинаре пропагандистов. Лекция о некоторых аспектах нашей внутренней и внешней политики. Вещи серьезные. Мы тридцать лет занимались говорильней, а капитализм реконструировал экономику, образование, и теперь диктует нам свою волю. А мы должны за пять лет догнать.
Ага, догнать, – с нашими алкашами, бичами, лентяями, с безграмотными, зажравшимися, некомпетентными и коррумпированными. Сложная задача, за пять лет-то.
А главное, в это все никто не верит, все посмеиваются.
Я говорил и говорю: общество наше тяжело болеет. И уже никто не говорит, что в целом все отлично, а единицы портят картину. Заговорили, заговорили на всех уровнях, серьезно, бия себя в грудь. Где ж вы раньше были.
Я сам – среди равнодушных. Мелкие обиды, усталость, пенсия… На своем месте неудачи одна за другой. А формально – за два месяца я передовик и получаю премию за премией за экономию и производительность. Это за тринадцать-то часов налета в январе, с повреждением самолета. Медведев за это одной рукой снял полсотни премиальных, а другой рукой дал столько же.
Нет, до связи с конечным результатом еще далеко. Все на бумаге, все формально.
23.02. Три года назад обстановка с топливом была такая же, как и сейчас, даже хуже, потому что постоянно гоняли на дозаправку из одного аэропорта в другой. Сейчас эту лавочку прикрыли, т.к. на перелеты топлива перерасходуется значительно больше, и выигрыша никакого. Заставили на местах запасаться топливом или же лучше стало со снабжением – я не знаю. Но хорошо помню сказки, какие рассказывали нам компетентные лица: и о том, что, мол, Аэрофлот раньше времени перешел с бензина на керосин, и Госплан не учел, и железная дорога подводит, и завод где-то встал из-за неисправности, – короче, много всего было выдумано, а теперь вот всерьез заговорили, что иллюзии насчет сибирской нефти лопнули, как мыльный пузырь, месторождения истощаются; нефть требует огромных затрат, она не годится на производство авиационного топлива. Это не в Саудовской Аравии – качать из скважины прямо в танкеры. Да еще с нашей дезорганизацией труда.
Короче, призывают экономить, пока наведут порядок с добычей. А значит, перелеты на дозаправку надо отменить.
А тогда, несколько лет назад, когда нам затыкали рты приказами, а уши – сказками, летчики, которым на местах виднее и больнее всех, пытались своими мерами как-то протестовать и бороться с бессмысленными перелетами. Доходило до саботажа: не указан в задании на полет аэродром, куда гонят на дозаправку, – экипаж идет в гостиницу, а местное начальство, донимаемое мающимися пассажирами, подумает-подумает, да и выдаст недостающие три тонны из своего лимита, чтобы не задерживать рейс.
Мне самому на такой принцип идти не хотелось. Как-то на Ил-18 я уже задержал в Харькове рейс Красноярск-Волгоград-Харьков-Львов из-за нехватки рабочего времени. Рейс длинный, времени в обрез, нас где-то задержали с погрузкой А обстановка в то время была такая, что начальство цеплялось за свое кресло, а значит, за букву, и пилоты были между двух огней: с одной стороны, нельзя нарушать рабочее время, а с другой – пойдут задержки, и всем станет ясно, что надо давать в рейсе экипажу дополнительный день отдыха, и рейс тогда станет долгим и невыгодным.
Вот я и висел так, понимая, что случись какая зацепка – выпорют за нарушение рабочего времени. Ну, там, полчаса-час, это еще терпимо; но у меня уже выходило часа четыре переработки. Я плюнул и остался ночевать в Харькове.
На разборе Левандовский меня похвалил, но похвалил так, что – да, Ершов молодец, задержал рейс, не нарушил приказ о рабочем времени; так вот: чтобы не было таких задержек, будете летать во Львов не два дня, а пять, с отдыхом в Харькове, и по расписанию, – и скажите Василь Василичу спасибо.
Скользкое это дело, когда начальство, из каких-то своих соображений, берет длинный рейс, рейс на пределе рабочего времени, и возлагает его на зыбкое основание: авось летчики справятся – им же тоже не хочется сидеть вдали от дома, – а если часок и прихватят, то посмотрим на это сквозь пальцы… до случая. Так хорошо, так удобно…
А уж случись что – разговор будет о нарушении экипажем руководящих документов: видел? Знал? Почему нарушил? Почему не заночевал? И взгляд уже не сквозь пальцы, а сквозь прицел.
И вот я стал козлом отпущения: так было все хорошо, а Ершов сломал этот порядок, запротестовал, – так пусть теперь всем будет плохо. И причина не в том, что начальство соглашается выполнять такой подлый рейс, заведомо обреченный на задержки, а в том причина, что – Ершов.
Конечно, ребята поняли, что не я, так другой бы затормозил: кому охота брать на себя то, что не берет начальство. Но мне было неприятно.
И вот новый виток спирали, и я рангом выше, КВС Ту-154. И подобный же рейс: Красноярск-Казань-Донецк-Одесса. И Казань особенно допекает с топливом. То ли там хитрый татарин зажимал лимит для своих рейсов, то ли, и правда, с цистернами на железной дороге был завал, – но нас через раз гоняли на дозаправку в Куйбышев. И я, помня уроки Ил-18, хоть и летал этим рейсом, но без особого желания, частенько нарушая рабочее время и уже не особенно заботясь, что вскроется, потому что это было массовое явление. Не я первый, не я последний, а главное – уже заработал к тому времени пенсию и мог огрызаться смелее, да и сама обстановка в аэрофлоте стала другой, когда за такие мелочи уже и не спрашивали.
Где-то под Октябрьские праздники прорвались мы в Одессу, с дозаправкой в Куйбышеве, отдохнули день и вылетели обратно.
В Донецке стали готовиться на Казань; погоды по европейской части были серенькие, как раз такие, что и вылетать вроде можно, и запасных нет. Чтобы можно было взять аэродром запасным, погода на нем по прогнозу должна быть на 50 м по облачности и на 500 м по видимости выше минимума. Так вот, нигде вокруг Казани таких прогнозов не было, а все ближе к минимуму и еще хуже. Одно-распроединственное Шереметьево давало пригодный для московской зоны прогноз 200/2000. Казань тоже ожидала временами метель 500, но при принятии решения на вылет это «временами» не учитывается.
Опытный, битый-правленый Станислав Иванович посоветовал, хоть полет и менее двух часов, прихватить на всякий случай с собой бланк прогнозов по европейской части страны. Обычно мы при полете менее двух часов просто знакомимся с прогнозом на метео и ставим в задание штамп.
Приняли решение: летим на Казань, запасной Шереметьево. Заправились из этого расчета и воспарили.
По закону подлости Казань закрылась метелью перед снижением. Мы ничтоже сумняшеся набрали эшелон 12100 для экономии топлива и потопали на Москву, готовые упасть, где откроется, желательно в привычном Домодедове.
Но уж если не повезет… Короче, Домодедово закрылось, нас нервно запросили об остатке топлива, минимуме командира и запасном. По расчету выходило, над Шереметьевым остаток еще на 40 минут, мы так и передали и шли вперед, рассчитывая тогда уж на хоть Внуково. Внуково закрылось, оставалось действительно, одно Шереметьево, там подходил заряд.
Московская зона паниковала: испорченный телефон уже донес до министерства весть, что в зону вошел борт с остатком на 40 минут, все закрывается и ожидается предпосылка, если не хуже.
У нас лету до Шереметьева было минут 12. Нам срочно расчистили дорогу, дали заход с прямой, левым доворотом. Погодка была еще в пределах минимума, и мы спокойно сели на едва очищенную от свежего снега полосу. Порулили за машинкой между стоянками, и тут повалил густой снег, закрывший видимость. Успели…
Подкатил трап, и в кабину, где мы сидели, еще горяченькие, вошел солидный инспектор. В ходе короткой беседы выяснилось, что мы молодцы. Сыграл роль и прихваченный бланк прогнозов с запасным Шереметьево, и законный остаток три тонны. Инспектор пожелал нам хорошо встретить наступающий праздник и ушел, а мы провели ночь в шикарном – для белых! – профилактории ЦУМВС, отужинав в прекрасной, смахивающей на ресторан, столовой с официантками.
Наутро открылась Казань, и мы благополучно туда перелетели. И тут началось. Топлива нет, лететь на дозаправку в Уфу. Кто-то шепнул пассажирам. Выстоявшие ночь в шереметьевском аэровокзале, рассчитывавшие прибыть к празднику домой, они были уже подготовлены к скандалу и отказались идти на посадку, а пошли по этажам и минаретам нового казанского аэровокзала искать правду.
Мы с экипажем тоже вовсю старались выбить топливо, но татары уперлись, мотивируя тем, что начальство на демонстрации в городе, некому решать этот вопрос.
Потом меня позвали в ПДСП. Пожилой, верткий, тертый-перетертый представитель местного населения, видимо, сменный начальник аэропорта, покатил на меня бочку, что это я настроил пассажиров. Я взбеленился и пригрозил, что уйду в гостиницу. Он информировал, что пассажиры рисуют лозунги интересного содержания и собираются ехать на демонстрацию, что этим заинтересовались уже представители КГБ, будет скандал.
Праздник был против меня. Действительно, решить вопрос с топливом было некому, проще было перелететь в Уфу, где обычно, не высаживая пассажиров, заправляли за час.
Помня уроки Абакана, я успокоил себя, собрал пассажиров, объяснил им ситуацию, извинился за аэрофлот и предложил лететь, дав гарантию, что потеряем в Уфе один час. С Уфой созвонились, получили согласие, вылетели, и точно, простояли там всего час десять.
К вечеру мы были дома и успели, хоть и вдогонку, отметить праздник.
А в Абакане дело было так. Я уж год как летал командиром Ил-18. Тоже было туго с топливом; практически мы тогда впервые столкнулись с такими трудностями – в самый разгар летней навигации. В Красноярске не стало топлива, и нас отправляли на дозаправку то в Енисейск, то в Абакан.
Мы слетали на Благовещенск – через Енисейск. Рейс был – абаканское колесо: Москва-Красноярск-Благовещенск-Абакан-Москва. Смена – в Абакане. Из-за этой дозаправки в Енисейске нам уже не хватало времени долететь до Абакана; пришлось ночевать в Благовещенске.
Утром, перед вылетом на Абакан, нас никто не предупредил, что и в Абакане нет топлива. Мы узнали об этом только при входе в красноярскую зону, когда диспетчер спросил, куда мы, собственно, идем и где собираемся садиться на дозаправку.
Встал вопрос: и правда, где садиться? В задании однозначно указано: Абакан. Согласно руководящим документам, я, молодой командир, принял решение и сел в Абакане, хотя тот упорно сопротивлялся. Но абаканским пассажирам этого не объяснишь. Я благополучно доставил их домой.
Поехали в гостиницу, отдохнули, а наутро весь экипаж вызвал к себе начальник аэропорта. Я зашел в его кабинет, весь отделанный полировкой, одни дверцы кругом. За столом сидело человек шесть, среди них один из управления – заместитель начальника по режиму. Стали меня пытать: из каких это я соображений сел здесь и заставил высокопоставленное благовещенское партейное начальство стоять ночь в вокзале, где в разгар сезона затеяли ремонт и нет даже воды. Стали стыдить и упрекать, что я не понимаю момента, что дошло до ЦК и пр. На что я им ответил, что как коммунист очень хорошо понимаю, что более действенной меры против создавшегося и в Аэрофлоте, и в Абакане положения – не найти. Очень хорошо, что дошло до ЦК. Наконец-то.
Тут мне сказали, что я неправильно понимаю. Но, видимо, перебои с топливом уже прилично допекли нашего брата: я им там кое-чего наговорил. Обстановка накалилась до такой степени, что грозила взрывом.
За бортом стояла редкая для Сибири жара: под 36. В мой самолет сажали пассажиров, чтобы перелететь в Красноярск на дозаправку и продолжить рейс. Экипаж готовился на вылет. А меня колотило в кабинете начальника аэропорта. Бешенство, иного слова не найду, – бешенство и бессилие пилота, которого обвиняют в том, в чем он не виноват, как и его пассажиры. Я не знал, куда деть свои руки, и постепенно терял контроль над собой.
Вот точно так, видимо, чувствовал себя Слава Солодун тогда в Симферополе, когда был готов застрелить бюрократа.
Отрезвил меня взгляд заместителя по режиму, ласково-внимательно следящего за моими руками, суетящимися у пояса, на котором висела кобура с пистолетом. Он первый врубился в ситуацию и стал меня успокаивать и настраивать на предстоящий полет. Не знаю, что ему, бывшему милиционеру, показалось, но он был явно не уверен, что я вполне владею собой и не собираюсь всадить кое-кому пулю в лоб. Это до меня дошло потом.
Я уже и до десяти в уме считал… Но обида слепила, встала комом в горле. То всячески поднимают роль командира корабля, а тут ни за что дерут, как щенка.
Плюнуть бы мне, пойти в санчасть, измерить давление и отказаться от полета… Но жалко было невинных пассажиров, да и самому смертельно хотелось вырваться из этой накаленной обстановки и от этой изнуряющей жары в прохладную Москву.
Невидящими глазами искал я выход, толкался в эти шкафы на стенках; кто-то забежал вперед и отворил мне дверь, успокаивая на ходу.
Ребята через двери все слышали, переживали, да так, что штурман даже служебный портфель с картами и сборниками забыл на трапе; так бы и улетели, да вовремя кто-то с земли заметил, уже когда трап отошел, вовремя подсказал, передали портфель бортмеханику, уже закрывавшему входную дверь.
Короче, улетели мы, и слава богу, что в полете ничего не случилось.
В Москве меня прихватила жесточайшая ангина, это в июле-то; ну, у меня это иногда бывает, на нервной почве.
Кое-как долетели домой; полежал пару дней, подумал-подумал, что как командир я слаб, горлом брать не умею, только нервы треплю, ничего не добьюсь, кроме, разве, инфаркта. Захотелось сбросить ответственность, не думать ни о чем. Была на июль одна разнарядка на переучивание на Ту-154, которого тогда мы все еще чуть побаивались; поговорил я с покойным ныне Шилаком, плюнул и уехал в Ульяновск.
С тех пор не ищу я правды в аэрофлоте и не выплескиваю эмоции. В конфликтной ситуации надо думать не о качании прав, а как бы побыстрей удрать, пассажиров увезти. Пенсия есть, в любой момент могу послать всех на… и уйти.
Поэтому нечего добиваться каких-то прав сидением в гостиницах. Мало я в них насиделся за двадцать лет.
24.02. Стоял позавчера рейсом на Москву. Зимой налету мало, конечно, рассчитывал на этот рейс: туда ночь, назад ночь, сутки в Москве. Но судьба распорядилась иначе.
Судьба была в образе дежурного командира, Селиванова. На Москву два наших рейса: 44-й и 102-й. 44-м стоял Сергеев, из эскадрильи, которую возглавляет Селиванов. Бывшая моя, а теперь чужая эскадрилья. И собирался на Москву 44-м рейсом вместо Ту-154 лететь Ил-62: много скопилось пассажиров. Так что должны были Сергееву рейс отменить.
Но какому же комэске хочется отдать рейс, когда эскадрилья и так еле-еле вытягивает план: каждый час на счету, а тут пропадает 8 часов. И ведь Ил-62 нам потом не возместят. Компенсируем разве что весной, когда из-за односторонней загрузки невыгодно будет гонять полупустым Ил-62: тогда вместо него пошлют нас.
Селиванов мигом сориентировался, уговорил АДП отменить мой, 102-й рейс, а Сергеев полетел своим 44-м в Москву.
Был бы в это время дежурным командиром Булах, он бы сделал наоборот: отменили бы рейс Сергееву, а полетел бы я, и налет бы потеряла эскадрилья Селиванова.
Вот такое мелкое рвачество: премиальные командного состава зависят от плана. А я одним росчерком пера лишился 70 рублей – оплаты за ночную в оба конца Москву. И до конца месяца мне никто ничего не компенсирует. Имею пока всего 14 часов, светит еще Благовещенск в конце месяца.
Зашел я в АДП, меня поставили перед фактом, что рейс мой выполняет Ил-62, а мне предлагается рейс на Норильск, вроде в компенсацию. Должен был туда лететь начальник инспекции управления, самостоятельно, но там метет; он бросил рейс и уехал, теперь надо искать экипаж, заткнуть дыру. Конечно, есть резервный экипаж, но если Норильск откроется и резерв улетит на Норильск – останемся до утра без резерва…
Погода в Норильске была такая: метель, видимость 400, ветер под 40 градусов до 20 м/сек, температура -37, сцепление 0,3.
Нашли дурака. Сидеть сутки, а то и двое, – когда есть законный на этот случай резервный экипаж: он стоял в плане, ребята экипированы на все случаи жизни, в том числе и на Север. А мы в пальтишках. Не надо мне и этих денег.
Я вежливо, но твердо отказался. Норильск – это не подарок, а тяжкая обязанность. Не моя вина, что начальнику расхотелось туда лететь. Я не готов.
Да и обидно стало, что вырвали из зубов кусок пожирнее, а затыкают рот вонючей костью, которую другой выплюнул.
Бог с ним, с четвертаком, зато двое суток отдыхаю дома.
Завтра открывается какой-то там съезд. Как все-таки за год все изменилось в стране. Люди поверили, что настала пора реальных дел. Оно бы и мне вскочить на лихого коня, шашку наголо, – и…
Нет, устал я. Лет десять предстоит меняться психологии сверху. Снизу ничего у нас не сделаешь, в это я верю твердо.
Второй отряд наш, что летает на легкой технике в Северном, написал жалобу в секретариат съезда и, не доверяя почте, отправил с экипажем Ил-62. Жаловаться есть на что. Аэропорт заброшен, ждут сноса, но все откладывается с года на год, все рушится, а ведь там люди работают, молодежь – и никаких перспектив.
Тут же примчался шакал из крайкома, начал лаять на всех, искать зачинщиков. Э – значит, правильно сделали, что послали с экипажем. Без цензуры оно больнее бьет по крайкому. Зашевелились…
Так-то вот добиваться правды снизу. Пока еще наверху не перестроились, ругают за критику.
Ну, лягу я костьми за правду, убью лучшие годы, – и еще неизвестно, как оно обернется.
Каждому поколению надо выстрадать свое. Пусть молодые пробуют. А я стар для этого.
Те, кто летает по 30 лет, летают спокойно. Вечные вторые сильно не нервничают – лишь бы за штурвал держаться. Старые командиры умеют расслабляться.
А я не умею. Правильно сказала наша врач на медкомиссии: у меня слишком тонкая кожа для Аэрофлота. Полезно для самозащиты выработать некоторое равнодушие, чтобы не нажить язву или еще чего похуже. В конце концов, Аэрофлоту пилот нужен, чтобы пилотировать, героически или не героически преодолевая трудности в небе. А земля пусть решает земные проблемы.
Давит в горле. Как понервничаю, так начинает давить, как будто кусок застрял. На рентгене проверил – пищевод в норме. Это все нервы. Нет, надо очень беречь здоровье. Когда давит, и ночь не спишь, думаешь, то как-то не до мировых проблем. Мне же еще только перевалило за сорок. Нет, надо занять пока позицию стороннего наблюдателя, тихонько исполнять свои обязанности, в тех рамках, что требует начальство, и летать себе, пока не спишут.
Сгорает старое, но еще трещит. Очередной треск: итоги недавнего субботника. Говорилось о нем с помпой, месяца два. Приняло участие аж более ста миллионов, в фонд субботника поступило аж двести миллионов рублей…
Ага. Проще и выгоднее было бы просто отслюнявить два рубля с носа.
Я отдал час летного времени – 8 рублей. Подавитесь и отстаньте.
Ох и ударно же трудились – каждый по два рубля не заработал. Да и я, сидя за штурвалом, что-то не проникся ударным духом, а лишь сожалел, что выдрали клок зарплаты, как за год по несколько раз выдирают: то в какой-то фонд мира, то взносы в какие-то несуществующие добровольно-принудительные общества. Никаких эмоций и никакой разницы: субботник это или очередная обдираловка.
Не жалко червонца, жалко идею. Мне бы приятнее было видеть конечный результат, на хорошее конкретное дело первым бы положил, сколько не жалко, как кладу на похороны товарища. Вот и на похороны субботника тоже кинул. Мероприятие с нижайшим КПД.
Прошел слух, что как создали Агропром на базе множества околосельскохозяйственных министерств, так собираются объединить все транспортные министерства в одно. Это было бы здорово. Чтобы был один хозяин и у моряков, и у автомобилистов, и у железнодорожников, и у авиаторов. Это было бы прекрасно, всем на пользу. Но… что-то не верится, слишком смело. Это же все надо перевернуть. Сколько было бы устранено противоречий и неувязок…
25.02. Слетали в Благовещенск, без особых приключений. Садился там Валера, очень старался попасть на ось, попал, но допустил две ошибки. Глиссада там чуть круче обычной, а он убрал газы до 78, потом, не обратив внимания на тенденцию скорости к падению, еще до 74. Над торцом скорость была 260 при весе 75 т.
Я следил лишь за темпом выравнивания, следя, чтобы он не допустил низкого выравнивания и удара колесами. Темп был нормальный, но, когда машина должна была замереть, он то ли отвлекся, то ли просто забыл придержать ее штурвалом: в РЛЭ это называется «предотвратить дальнейшее увеличение угла тангажа». Угол, естественно, чуть возрос, мы чуть взмыли; здесь помог бы запас скорости, а его-то и не было, и хоть Валера и добрал штурвал, машина все же грузно опустилась без скорости, с высоко задранным носом. Перегрузка 1,35, это на пятерку, но… Воронья посадка. Разобрали, понял ошибки, вперед наука.
Назад летел я, заходил дома немножко коряво. Подошли высоковато из-за встречно-попутных «Элок»; пришлось шасси выпускать на высоте 1000 м, еще перед третьим. Однако к четвертому все устроилось; был боковичок до 10 м/сек, под 45 градусов, но посадка удалась. Машина замерла, чуть поддуло, пришлось исправлять и крен, и легкое взмывание, снова замерла, чуть добрал, и легко, мягко покатились. Бережно теперь опускаю ногу.
Весь полет следил за режимом двигателей, затягивал газы, выжимал все из высоты и ветра, – и выжали 4,5 тонны экономии за рейс. Время полета на 5 минут меньше, а экономия значительная, притом, загрузка почти плановая: по 140 человек, да груз, почта, багаж. А главное – хорошая машина.
Нет, при желании – можно экономить.
Завтра снова Москва, не моя, а просто где-то в Одессе застрял Кирьян, это его рейс, и Булах отдал его мне, чтобы было что кушать.
26.02. Когда висишь на высоте двенадцать километров над потерявшейся между облачных громад землей, с ее мелкими обитателями, в маленьких, чуть заметных сверху городишках согнувшимися перед подходящей к дому стеной грозы, невольно гордишься тем, что можешь наблюдать все это сверху, через сполохи розового огня, перекатывающегося глубоко внизу, в серо-синей клубящейся массе туч.
Ну, прямо царь природы: выше гроз, выше туч, выше всей земли, выше ее мелких людишек, с их маленькими страхами, заботами и суетой.
Однако самолет стоит на вершине такой огромной пирамиды, что и не окинешь ни взглядом, ни мыслью. Те самые людишки, которых и не видно, которым не дано увидеть того, что видишь сверху ты, – вот те самые и вознесли тебя сюда. Кто-то добывал руду, кто-то плавил ее в ванне, где душно и дымно, кто-то прокатывал металл, тянул проволоку, обматывал изоляцией, вязал жгуты. Кто-то ткал эту ткань, плавил пластмассу, формовал шины, клепал, варил, паял, собирал. А кто-то еще до этого задумывал, изобретал, пробивал, утрясал, руководил. А кто-то платил им всем деньги, кто-то кормил, воспитывал и учил их детей… Все здесь повязано, все от всех зависит.
И вот – самолет доверен тебе, ты нажал сделанную и отремонтированную кем-то кнопку – и вознесся. А у тебя за спиной сидят те же люди: шахтер и металлург, слесарь и монтажник, токарь, пекарь, врач, бухгалтер, кассир, уборщица.
Ты веришь им всем, их труду, вложенному в твой полет. А они верят тебе, твоему труду, твоим рукам. Все взаимосвязано, все мы нужны друг другу.
Но вот где-то человек недосмотрел, где-то чуть не так сделал, другой его не проконтролировал, третий чуть нарушил технологию, – и пошло, завертелось, покатилось… туда, где все рассчитано на абсолютную надежность.
Если бы у Фалькова за спиной сидели дети того металлурга, что плавил сталь для колеса компрессора, дети того лаборанта, что проверял пробу металла, дети всех тех, кто так или иначе причастен к этой бракованной детали, – если бы эти дети горели на глазах у потрясенных родителей, своими руками сотворивших смерть собственным детям…
Но летели другие, ни в чем не виноватые люди.
А все же мы связаны. И добро, и зло, всегда, хоть рикошетом, хоть эхом, отдаётся и когда-то вернется к его создателям.
Думали ли об этом жители Вознесенки, когда тридцать лет назад мародерствовали в останках упавшего рядом с деревней самолета, кровавыми руками, сдирая кольца и обшаривая карманы изувеченных и разодранных пассажиров?
Какое колесо судьбы повернулось, через какие системы передач прошел заряд зла, чтобы вернуться и ударить – гораздо больнее – по преступному селу? Как так получилось, что краденый заводской спирт, преступным путем постоянно поставляемый вознесенцам, оказался в этот раз метиловым, и сейчас десятки людей, старых и молодых, лежат, парализованные, ослепшие…
Преступная, порочная жизнь привела к трагедии, но кто знает, может, и есть связь прошлого с настоящим.
Может, это Божий суд.
Я верю, что все мы связаны. Мы все зависим друг от друга. И если не хотим зла, надо делать добро.
Не тем надо гордиться, что ты выше других. Кто-то выше тебя в другом. А тем надо гордиться, что тебе доверили быть выше. Так будь.
Лётные дневники. Часть 3
1986. Энтузиазм.
28.02. Иногда доводится лететь пассажиром в собственном самолёте – это когда проверяют второго пилота и командиру нечего делать в кабине, а в салоне есть свободные места. Странно тогда звучит в динамиках голос проводницы: «Командир экипажа – пилот первого класса Ершов Василий Васильевич». Поневоле мороз продирает по коже. Я сижу среди пассажиров, а они и не подозревают, что командир сейчас отдыхает здесь же, и стараются представить себе, какой же добрый молодец «первого класса» сидит за штурвалом. А я думаю: как там Валерий Александрович, справится ли, посадит ли мягко?
Вчера летел в Москву с Рульковым. Он уже не надеялся, что комиссия допустит его к полётам, и рад летать, и с удовольствием сам крутил руками в наборе и на снижении.
В Москве была прекрасная погода, заход давали с прямой, и мы, поборовшись со встречной струёй, вкусно поужинав курицей с бульоном, собирались зайти и сесть с удовольствием.
Немного поспорили, сколько занимать на Ларионово: Кузьма Григорьевич, со свойственной ему осторожностью, рекомендовал 9600, Валера тоже сомневался, а я думал.
Заход «с прямой» в Домодедове – это заход под 90 от Картина, на 137, такая уж там схема. Значит, закон захода под 90 сохраняется: дальность начала снижения в штиль – «полторы высоты». От Ларионова идти 145 км; если над ним высота 10600, полторы высоты – 159 км. 15 км – на встречный ветер, а струя в лоб, на снижении усилится. Решил занимать на Ларионово 10600.
Снижался Рульков, не считая (он уже забыл, как это делается), а сразу с 9000 выпустил интерцепторы… на всякий случай. Я прикидывал, что надо держать вертикальную по 15-16 м/сек; он держал 22. Рано снизились, а струя была аж до 6000 м, путевая скорость упала. Короче, смело можно было снижаться от Ларионова с 11600.
Шасси выпустили рано, а вот эшелон перехода он занимал долго, по 7 м/сек, потом отдал мне управление. Пришлось торопиться. По закону подлости ветер на кругу вместо неустойчивого был явно попутный, до 30 км/час, и я еле успел войти в глиссаду; нас несло, но путевая скорость не падала, пришлось при вертикальной 6 ставить режим 74.
Несло до земли. Над торцом скорость была 280, пахло перелетиком; я прижал нос и замер в ожидании, но машина летела. Видимо, чуть выше выровнял. Штурман диктовал: «Метр, метр…» Чтобы не рисковать, я чуть добрал, самолёт пролетел ещё метров сто и, наконец, сел, вполне мягко, но не на 7.
Рулил по перрону мучительно медленно и долго, помня, что Кузьма Григорьевич не любит скорости. И всё же перед стоянками он разок сказал своё «потише-потише».
Между прочим, в районе севернее Хантов видели НЛО. На четверть неба на северо-западе кривые световые лучи сходились, как полосы на огурце, в точку. Яркая белая точка, белые полосы, пол-огурца на четверти неба, – всё это перемещалось нам навстречу. Жуткая картина в чёрном ночном небе среди звёзд: а вдруг сейчас захватит нас в какую-нибудь магнитную ловушку…
Почти разошлись правыми бортами; НЛО был выше нас – и вдруг четыре точки отделились от центральной и тут же погасли, а четыре кривых луча остались таять в ночной темноте; яркая точка быстро удалялась, уменьшаясь в размерах, и скоро затерялась среди звёзд.
Вот теперь стало всё ясно: старт ракеты; четыре ускорителя отработали и отстрелились, газовые следы светились в лучах зашедшего солнца.
Долго ещё светились длинные кривые полосы, потом потускнели, смешались в одно облачко, поднялись выше и превратились в обыкновенные серебристые облака, которые я много раз наблюдал.
Длинная ночь впереди. Сижу в уголке первого салона, сзади мои пассажиры коротают время в беседах. Солдаты, семья с ребёнком, человек в очках… Семья спит, солдаты играют в дурака; сзади девчата работают на кухне, пахнет вкусным. Шум воздуха за бортом и в коробах вентиляции… И всё это на высоте 11 километров… если только заняли, если не слишком тепло за бортом, а то – на 10100, здесь попутная струя сильнее.
Чего бы мне-то заботиться: мужики сами сообразят, – ан нет, душа – там; кажется, уж я бы выбрал вариант, учёл бы всё: и угол атаки, и температуру, и ветер, и вес, уже бы начал затягивать газы, чтобы привезти хоть тонну экономии домой. Вчера вот старался, выжимал из стотонной машины всё, что только можно выжать, а получилась своя игра: перерасход 170 кг, ну, это не без помощи проверяющего. Хорошая загрузка, хороший рейс, только вот сэкономить бы…
Пилот первого класса… Эта высота добывалась по крупицам.
Помню первые полёты с Федей Мерзляковым летом в грозу, когда от страха замирало сердце, а мы лезли либо вдоль синих облачных гор, либо в дырку между ними, либо в самую пучину, прорываясь из закрывающегося коридора.
Сердце замирало и в белой мгле зимой, когда и сверху снег, и снизу снег, и в стекло снег, и в снегу где-то внизу чуть проглядываются тёмные силуэты деревьев…
Как-то, устав крутить штурвал в снегопаде, под самой кромкой тонких облаков, рискнули, полезли вверх и через пару минут выскочили в яркий сияющий мир, где между синим небом и белой поверхностью облаков – никого, одни мы… Только дрожащая стрелка радиокомпаса связывала нас с родным аэродромом.
И когда командиру понадобилось на минутку покинуть кабину, помню, какое одиночество охватило меня, одиночество, страх и тоска. Слепой кутёнок…
Но я запомнил этот сияющий надоблачный мир, чтобы, оперившись и подготовив себя, вернуться сюда насовсем.
Работал, не терял времени. Летал, закрываясь шторкой, по приборам, летал в дыму лесных пожаров, в дожде и снегопаде, постепенно обретая навык и преодолевая страх. Трезво соображая и контролируя ситуацию, начал рисковать, заходя на минутку-две в слоистую облачность, строго следя, нет ли обледенения. Постепенно научился спокойно летать в облаках, вопреки инструкциям, запрещающим делать это на Ан-2. И вскоре привык к приборному полёту.
Приглядываясь к мастерам – Русяеву, Строкину, Муратову, учился у них экономному стилю пилотирования, методам руления на колёсах и лыжах, чутью машины, вырабатывал интуицию, завидовал мастерству и плавно наливался уверенностью, что смогу летать не хуже своих учителей, если буду трудиться, трудиться и трудиться над собой.
Так постепенно и набрался опыта, а уж за год работы командиром подготовил себя и в приборных полётах, и в радионавигации, поэтому на Ил-14 пришёл без робости.
Попал сразу в хорошие руки. Старый волк Василий Кириллович Тихонов только и спросил, где я раньше летал. Услышав, что в Енисейске и трассу на Соврудник знаю, отдал мне управление, да так месяца три к штурвалу и не прикасался. Бил я крепкую машину, бил, – и таки руку набил. Спасибо Кириллычу, старому, мудрому учителю моему.
У Тихонова учился спокойствию в полётах, работе ночью, полётам в грозах. Боролся с иллюзиями, когда кажется, что летишь с креном, что сейчас перевернёт… Учился унюхивать эшелон, где меньше трясёт, тщательно изучал метеообстановку по маршруту. Не дёргался в самолётовождении, когда на участке 500 км не меняешь курс – и выходишь в ту точку, куда надо.
У Николая Ш. учился «от противного»: как не надо нервировать экипаж, как не надо горячиться в полётах, как плохо не доверять людям, как мешает неумение распределить обязанности. Это ведь тоже опыт, порой, мучительный.
Юра Коржавин научил снижаться по расчёту: раз убрав газ на снижении, не добавлять его до самой глиссады, до выпуска закрылков. Это мастерство.
С Юрой Веретновым я уже дорабатывал нюансы, необходимые для ввода в строй, и благодарен ему за помощь и прекрасную дружескую атмосферу в экипаже.
Ввод в строй на Диксоне, по Карскому морю, Земле Франца-Иосифа и Новой Земле, над тундрой и побережьем, ночью, в полярном сиянии, – это тоже немалый опыт. Научился садиться в самых сложных условиях, когда только твёрдая рука спасает.
Михаил Фёдорович Киселёв как инструктор дал мне очень много, в частности, умение взлетать и садиться при плохой видимости с максимально допустимым боковым ветром. Снос на посадке достигал иногда 20 градусов, полоса вплывала в поле зрения через боковую форточку, инструктор не давал совать ногу, а мёртво зажимал педали. Так я привык не дёргаться и не бояться бокового ветра, – и на всю жизнь, на всех освоенных типах, я его не боялся. Это бесценный опыт.
На Ил-14 я уже мог чуть объективнее оценивать себя, уже немного стал себя уважать, но требовательность к себе не сбросил. Правда, захотелось, чтобы и со мной считались… молод был и зелен.
Кто же с пилотом в аэрофлоте считается. Мы все опытные, все мастера, – но так и должно быть. И наши отцы-командиры частенько видят в нас оперативные единицы, затычки к производственным дыркам, иногда за текучкой забывая, что каждый из нас есть вместилище коллективного опыта прекрасной и сложной работы, каждый – неповторимая личность. И если нас что и объединяет, так это – наше мастерство и умение, сотканное из сотен и тысяч перекрещивающихся нитей связи старшего с младшим, опытного с начинающим, горячего с холодным, души с душой.
Это был уже не тот слепой кутёнок, хотя до первого класса было ещё ой как далеко. Ещё был только второй класс, ещё многое предстояло изучить, постичь, испытать. Ещё четыре года на Ил-18, на союзных линиях, со сбоями, ошибками, отступлением перед непонятным или непосильным, переосмыслением ценностей, новым разбегом, решением новых задач.
И ещё два года полётов на самом современном лайнере понадобилось, чтобы сказать: вроде бы готов к первому классу.
Это «вроде бы» – труд Репина и Солодуна, Горбатенко и Садыкова, тончайшие нюансы, вокруг которых и сейчас в лётной среде идут споры. Жаль, не довелось пройти школу Петухова, – от него, может быть, взял бы ещё что-нибудь полезное.
Но уже сам – четвёртый год командиром на «Тушке», уже инструкторский штамп стоит. А всё учусь. И не всегда – ой, далеко не всегда ещё я работаю как первоклассный пилот.
Конечно, смешно было бы летать изо дня в день только на 7. Но огрехи бывают разные. К примеру, можно всю жизнь садиться не на 7, а на 5, но не потерять ни одного пневматика, как, например, Красоткин. А я их пока щёлкаю как орехи. Вот поле для доработки!
Так что, командир, пилот первого класса, подтверждай класс каждый рабочий день, в каждом полёте. Трещи извилинами, звени нервами, но держи марку. Чтобы о тебе говорили не «пилот первого класса» (это между нами не принято), а – «классный пилот».
Три часа пролетели незаметно. Скоро снижаться. Пойду в кабину. Валера уходит от меня на ввод в строй; может, это последний полёт вместе. С каким багажом сядет он на левую табуретку, с какими мыслями?
Думаю, он хоть что-то же получил от меня за эти месяцы. И – в добрый час.
Заходил Рульков, подкрадывался издали, заранее снизился, добавил газы… и полтонны экономии, с горем пополам собранной по крохам Валерой, ушло в трубу.
Что Кузьме Григорьевичу до наших проблем – да они для него просто не существуют. Пятнадцать вёрст в горизонтальном полёте – зато надёжно, без спешки, всё успели сделать.
Садился он, для верности, на газу, малый газ поставил перед касанием. Долго полз по перрону…
Однако, несмотря на всё это, в целом за рейс получилось 1200 кг экономии. Кузьма Григорьевич очень удивился: на Москву обычно чуть пережигают. Что ж, верно: с проверяющими нет и речи об экономии, проверено. У них душа не болит, ибо они материально не заинтересованы, а вот мы – весьма. Если дадим хороший удельный расход и производительность выше 100 процентов, получим хорошие премиальные. Я вот – до 60 рублей, это стоимость рейса на Москву.
И всё же все усилия экипажа могут пойти насмарку: сэкономь ты хоть сто тонн, а один пустой рейс – производительность к чёрту, и рявкнулись премиальные.
Что может сделать экипаж, если в Алма-Ату мы везём 80 человек? Встать на улице и зазывать народ? А премиальные напрямую зависят от этого. Значит, несправедливо это. А ведь экипаж за месяц сэкономил несколько тонн топлива, путём всяческих ухищрений и опыта отвоевал его у слепой стихии, – несмотря на встречные ветра, высокие температуры, невыгодные эшелоны, обход гроз, большие взлётные веса. Экипаж творил, старался, работал с наивысшей отдачей – более полной, чем запланировано. Но… 80 пассажиров, слепая случайность, сводят на нет все старания. Чем мы виноваты?
7.03. Слетали на три дня в Ростов. Куча народу на тренажёр; ну, отлетали все.
Я не люблю ростовский тренажёр, раздолбанный весь. И на этот раз не работал триммер руля высоты слева, – а пилотируешь же, в основном, этой кнопкой; ну, справились. Ничего особенного, кроме, разве, связи с бортинженером: как её не было, так и нет. Тут ещё СПУ плохое, еле слышно, но главное, каждый работает сам по себе, у каждого своих забот полно. На этом лайнере на случай пожара все надежды – на личные качества бортинженера, а командиру со вторым и штурманом лишь бы справиться с пилотированием и заходом.
С нами летел и Рульков – проверять, уже на ввод в строй, Валеру Кабанова.
Помня о рулении, я полз как можно осторожнее. Машина попалась опять по закону подлости: 124-я, кривая и ограниченная.
В Челябинске заходили с прямой; я снижался по пределам, Рульков ворчал. Закрыл меня шторкой. Система уводила вправо, и когда шторка открылась, мне пришлось одновременно доворачивать влево на ось полосы и чуть убрать режим, чтобы не росла скорость.
Кузьма Григорьевич вдруг, в процессе доворота, даже в конце его, когда я уже создал перед торцом обратный крен, чтобы по своему обыкновению точно поймать ось, – так вот он вдруг скомандовал: «Хватит!»
Хватит – чего? Я не стал спорить, да и некогда было уже, а понял так, что крен пора убирать: мол, торец уже близко. Ну что ж, получился подвод к полосе под углом 1-2 градуса, как рекомендует, вернее, разрешает троечникам, наше РЛЭ.
Выровнял – и с обливающимся кровью сердцем, видя, что ось полосы подходит слева спереди и уходит вправо назад, и что уже ничего не сделаешь, а если добирать ещё чуть, то сядешь уже за осью, ближе к левой обочине, а центр тяжести машины уходит, уходит за обочину по вектору скорости, и надо досаживать силой, пока не подошёл к самой левой обочине, зацепиться за бетон, благо, сухой! – видя всё это, я всё же выждал секундочку, подхватил мягко у самой земли, зацепился где-то на четверти ширины полосы, развернул рулём нос, опустил ногу и тут же стал выводить параллельно оси.
Посадка получилась мягкая… но какой дурак рекомендует так садиться? А если бы боковой ветерок, а если бы коэффициент меньше 0,5, да видимость похуже, – неизвестно, чем бы всё это кончилось. Я так садиться не умею, не приучен.
Выяснилось, что Рулькову показалось, что я сильно убираю режим. У него богатый опыт грубых посадок (чаще – с проверяемыми); он сам-то страхуется по-стариковски: газ убирает практически на метре, а не на 5 метрах, как положено. А тут я раз убрал, да ещё, потом ещё раз (машина-то с ограничениями, боюсь превысить скорость), – вот он и сказал: хватит, мол, убирать газ. А я понял, что это он о крене.
Нет, и ещё раз нет: никаких подходов под углом. Ты пилот – умей вывести машину на ось хоть перед торцом, хоть на высоте метр, – но креном в полградуса убери снос. А одноразовый доворот с выходом на ось под углом разрушает всю посадку. Лучше уйти на второй круг.
В Ростове тоже был заход с прямой и сплошной встречный ветер – струя с 10000 до 6000. Поэтому я решил начать снижаться попозже. Рульков стал спорить, а потом решил мне показать. Стал сам снижаться, с уговором, что отдаст мне управление на 4500.
Не можешь – не берись. Я же рассчитываю на себя, я тренирован на снижение по пределам. Да и тут у меня был запас 10 км – на проверяющего. Но тот, как назло, сначала не спешил, несмотря на то, что я вроде как про себя, но громко, вёл расчёт вертикальной. Съел он мой запас, но ещё можно было поправить. Я стал ворчать: «снижаться надо». Он ползёт. Пересёк 4500, не отдаёт штурвал, лезет ниже. Выпустил бы хоть интерцепторы – так нет: на 3000 гасит скорость с 575 до 500 в горизонтальном полёте без интерцепторов. Ещё минута…
Короче, на 2100 стало ясно, что мы опаздываем на 5-7 км. Пошла спешка; когда вышли на связь с кругом, установили давление аэродрома (как на грех, 764 мм, и высота ещё выросла на 50 метров), включили командные стрелки, – стало видно, что глиссада уже далеко внизу.
Вот тут Кузьма Григорьевич и отдал мне управление. То ли решил угнать меня для науки на второй круг, то ли проверить, справлюсь ли, то ли просто шмыгнул в кусты.
Пришлось приложить всё умение, реакцию и изворотливость. Мгновенно ощетинил машину – всем, чем можно, ухудшил аэродинамическое качество: шасси, закрылки 28, закрылки 45… Посыпались вниз быстрее. Еле успели с ограниченной механизацией: она же требует более долгого гашения скорости, а значит, выпускать её приходится позже.
На 600 м догнали глиссаду, стабилизировали режим, вертикальную и включили автоматический заход, как и предполагалось заранее.
Система уводила вправо, я отключил САУ на ВПР, находясь в створе правой обочины. Ну, уж тут-то я сумел показать, как выходят на ось. Сел хорошо.
На разборе Рульков стал меня пороть. Сам же так вот снижался, сам размазал заход, сам подсунул мне подлянку, – и я же ещё и виноват. Я промолчал: мы на этот случай учёные. Ты начальник, я дурак. А он ещё долго разглагольствовал о том, что вот он бы вообще за 210 начал снижение, не спеша… зачем это надо… рисковать… спешка… запас…
Не можешь – не берись. Не тянешь – уйди. Или уж не мешай. Я борюсь за экономию, как требует время: это наша интенсификация, это наши тощие резервы. Ведь летели против струи – а сэкономили полторы тонны.
Назад он летел сам, я сзади наблюдал. Заход в Челябинске с обратным курсом, ветер не очень сильный, путевая 950. С 11100 снижаться можно за 140 км. Это 10 минут; чтобы на траверз занять 1000 м, надо снижаться по 16 м/сек. Сначала по 17; с 9500 до 9000 – по 10; потом с интерцепторами, но применять их только при необходимости, из расчёта: за 100 км – 9000 м, за 80 – 7000, за 50 – 4000; короче, в цифрах – «то на то», но километров должно оставаться на 10 больше. Тогда за 40 будет 3000, здесь погасим скорость, при этом потеряем запас 10 км и дальше снижаться будем «то на то»: за 20 – 2000, за 10 – 1000, это уже траверз; к 3-му развороту 600, к 4-му 400, шасси, закрылки 28, режим 82, 4-й разворот на скорости 300. Всё.
Они начали снижение за 165, а к 30 км у них было 3000; дальше – всё шло, как и по моему расчёту, и все унюхали. По-моему, там Валера считал и подсказывал. Где они сумели потерять 25 км, я не заметил, но уж я бы не растерял. А это же – минута сорок полёта, с расходом, на три тонны в час большим, чем на малом газе. Это 85 кг топлива. И ещё минуту снижались с 800 м до 400 на режиме 65. Короче, полбочки керосина – десять вёдер – в трубу. Я зримо ощущаю эти вёдра, мне их жалко.
Вылить бы этот керосин в бадью, поджечь и долго стоять, смотреть на огонь. Может, тогда как-то прочувствуется. А мы за тот месяц сэкономили семь тонн. Целый бензовоз спасли от бессмысленного сожжения.
Можно оправдать всё, в том числе, и топливо, выброшенное в трубу. Но как больно было бы видеть это тому, кто это топливо выгнал из нефти, кто эту нефть вёз, кто её качал, кто бурил, кто этот бур делал, – видеть, как сталинский сокол весь этот труд выкинул в трубу. Хотя, чуть пошевелись, – и спас бы труд людской.
А сколько же у нас этого труда по всей стране пропивается, прожирается, просыпается, проё…ся. Когда же у людей заболит сердце за свой труд и за труд ближнего своего? Мы все связаны, и труд наш общий, – а не жалеем. Свой непосредственный труд – не жалко. Гони покойницкие тапочки миллионами пар – прямо на свалку, издавай нечитаемые книги миллионными тиражами – туда же, шей неносимые балахоны – на ветошь, учи детей – прямо в тюрьму, лечи людей – прямиком в могилу! До чего так можно дойти?
От Челябинска летел Валера, а я наблюдал за работой моего экипажа. И удивлялся: как всё отлажено, вышколено, отполировано. Это же не за станком, не у печи, не на сцене, не на дороге, не в поле, не в кабинете. Здесь всё меняется, всё зыбко, неверно, подвижно… Качает, трясёт, бросает, леденеет, шумит, дрожит, орёт над ухом, давит перепонки, режет глаза. А люди работают – чётко, слаженно, помогая друг другу, опираясь друг на друга, доверяя, ожидая понимания, касаясь плечом. Счёт на секунды, команды с полуслова, оценка с полувзгляда, своё дело делай, друга контролируй, а он контролирует тебя, вовремя подскажет, а ты поправишь другого, и всё это – одно наше дело, в котором не может быть ошибки. Экипаж работает. А клин сужается, сжимает и концентрирует дело: чаще и суше команды, мельче движения, громче голос, металл твердеет… Последний миг, последний дюйм, ожидание точки… Есть! И снова: чётко, быстро, громко, шустро… медленнее, тише, спокойнее, плавнее, – и из точки разворачивается лента финиша.
Принято как-то говорить: жизнь на взлёте, ослепительный взлёт, взлёт мысли… А мне больше по душе посадка. И в жизни-то нелегко: после ослепительного взлёта – да вернуться на грешную землю, не опалив перьев; а у нас это – постоянно, и у нас это – искусство. Ведь можно взлететь, воспарить… и не вернуться. А нас с пассажирами ждут на земле.
13.03. Прошёл съезд, вызвавший так много интереса, надежд и ожиданий. Надо полагать, дан импульс, и теперь следует ожидать всеобщего движения. С самой верхней трибуны во всеуслышание заявлено о том, о чём все шептались. Кажется, всему передовому – зелёный свет. Но…
На зелёный свет этот всё же не все торопятся. В основном, импульс получили всё те же штатные говорильщики. Витийствуют о вреде говорильни, но сами разглагольствуют много. А реальная жизнь течёт себе медленным, вязким лавовым потоком, и не подступишься, с какой же стороны начать.
Такого человека, чтоб не слушал, не читал материалы съезда, наверное, нет, а если и есть, то это закоснелые в равнодушии единицы – против миллионов.
Да, всё понятно, всё правда, всё так. Да, перелом. Да, нельзя жить по-старому. Ясно. Понятно. Согласны. Все согласны: надо что-то – да всё! – менять в нашем Отечестве. Мы, советские люди, душой болеем за нашу Родину, за нечто общее, символическое, олицетворяющее…
Но того, что Родина – это мы, люди, что без нас Родина – просто кусок планеты, – вот этого мы никак не хотим понять.
Должен прийти дядя: Горбачёв, Сталин, царь. Чтоб скомандовал. Чтоб пнул того, кто ниже, а дальше – эффект домино, цепная реакция. Но должен пнуть царь, авторитет.
А если пнёт рядом стоящий товарищ, ткнёт носом, выйдет из ряда, то это – человеку больше всех надо, и по инерции все воспротивятся. И впереди стоящие косточки домино – начальство – не пожалуют, что вылез вперёд, что шевелишь, когда так удобно всё устроено… в грязноватом халате, у печки, и дровишки вроде ещё есть…
Ведь перелом предполагает действие вместо застойного уюта.
Вот мы все сидим и ждём команды сверху. Мы её выполним со всем солдафонским рвением. А если ещё и суть дела растолкуют – то и со всей сознательностью. Мы приучены исполнять. Мы – Аэрофлот, дисциплина, возведённая в абсолют.
Но что-то на нашем Олимпе не шевелятся. Да и как ещё командовать, что ещё зажать, какие гайки ещё затянуть, – и так уже всё затянуто-перетянуто. Иной методы у нас нет.
А партия рассчитывает на сознательность и инициативу народа. А большой аэрофлотский отряд партийцев зажат в тиски дисциплины, застоя и инерции, связан бюрократическими методами управления.
Позавчера был разбор эскадрильи. Присутствовали почти все. Были и Медведев, и секретарь партбюро отряда. На разборе всплыла мутная пена наших неувязок, несуразиц, головотяпства, – целый букет. Каждый что-то предлагает, но… всё это должно решаться наверху и спускаться сверху.
И командир лётного отряда нам в ответ говорит: я понимаю, к кому же вам обращаться, как не ко мне… но я бессилен. Я сам только что с совещания на самом высоком уровне, где командиры отрядов высыпали руководству МГА и МАПа целый ворох этих же неувязок. И ни на одно предложение ответа нет, а только: рассмотрим, согласуем, доведём, когда надо будет. А на вопрос: как же всё-таки летать? – общий смех.
Так что, ребята, всё взвалено на командира корабля: случись что – сам выкручивайся. Победителя не судят, а побеждённому вдуют по самую защёлку.
Все зажались и молчат. Ну, чего добьёшься своей инициативой? Ты начальник – я дурак. Всё осталось по-прежнему… но к чему тогда был этот съезд?
Разбор заканчивался. И вот, в такой остановке, надо было ещё организовать партсобрание по приёму человека в партию. И ещё мне предстояло провести в этот же день занятия в сети партийной учёбы по изучению материалов съезда. И ещё надо всем получить зарплату: человек с деньгами сидит среди нас и потихоньку выдаёт в перерывах деньги. И ещё срочно приказано всем переписать варианты индивидуальных заданий по подготовке к полётам в предстоящий весенне-летний период.
Какая там общественная активность. Тут варианты пишут, тут за деньгами очередь (ну, этих рассадили по местам, по одному подкрадываются к кассиру, получают). А тут ещё и принимают в партию человека: собрался вводиться командиром. Хором заорали: да знаем его, всё, кончай говорильню, мы – за! Тут же, мимоходом, поздравили, и он побежал за зарплатой – очередь подошла.
Кто получил деньги и переписал задание, рвутся домой и подходят ко мне с просьбой, чтобы не тянул говорильню, кончал скорее.
Секретарь парткома тут же сидит, наблюдает.
Ну что мне говорить, в такой вот обстановке, с такими настроениями людей, с такими порядками в Аэрофлоте? Медведев с секретарём ушли, аудитория явно не настроена слушать, я ору с трибуны. Пытался было подойти неформально, зацепил наши проблемы. Но все только скептически улыбались. Ну, рассказал им сказочку о сумском методе. Но с большим успехом я бы повествовал о нём папуасам с островов Фиджи.
Тут взвился Д., личность всем известная. Опытнейший пилот, орденоносец, энергичный, неравнодушный, с холерическим темпераментом, умеющий и очень любящий сказать, сующий всюду свой нос, вечно ищущий приключений и находящий в них приложение своей энергии. Вечный борец, причём, борец-одиночка. Фигурально выражаясь – физкультурник, накачивающий мышцы для себя, в вечной борьбе с пружинами и противовесами тренажёра. Он борется с бардаком в аэрофлоте неистово и безрезультатно, видя противника вблизи, но совершенно не замечая общих условий. Идеалист, пытающийся увлечь всех порывом, борением и битьём головой о стену. Десятки, сотни его рапортов не изменили ни на йоту ничего. Писал в газеты, добивался приёма у высоких лиц, доказывал, убеждал; ему вежливо, с трудом сдерживая начальственный позыв дать борцу хорошего пинка под зад, обещали разобраться в деле, другой раз не стоящем выеденного яйца…
Но совесть его чиста. Он – действует, а мы все занимаем позицию сторонних наблюдателей надоевшего аттракциона. Его кредо: если все мы будем строго исполнять… требовать…
Если бы мы все были, как Д., многое бы могло измениться. Особенно, если бы такие люди могли как-то сохраниться в министерстве. Но там-то уж подобным борцам дают пинка без раздумий.
Однако битьё головой и отсутствие конечного результата выработали в нём и язвительный скептицизм в отношении наших потенциальных болотных возможностей; очень поднаторел он и в демагогии.
И он взвился и тут же меня срезал. Спросил: сколько лично я написал рапортов? Ни одного? То-то же! Всё это – одна говорильня! А вот если бы все мы, да завалили рапортами… и пошло-поехало.
Я обозлился. Аудиторию у нас не соберёшь, кроме как в день разбора, и это предопределяет неуспех партучёбы. И вообще её неуспех предопределён был ещё до рождения. С настроением, как бы скорей смыться, народ не расшевелить. И я бросил упрёк всем, что такие вот мы коммунисты, что не можем собраться как организация, обсудить и принять коллективное решение, и добиваться как организация, а не как Д. – одиночка, хотя он-то уж самый что ни на есть убеждённый большевик.
В конце концов, бастовать, так бастовать, – но организованно и имея реальную, исполнимую цель. Тогда это будет борьба, а не говорильня.
Кто в министерстве видел рапорты Д.? Что изменилось? Так вот, если мы хотим, чтобы что-то изменилось, надо начинать с партсобрания. И хорошо его подготовить, и всем, каждому, подготовиться. А потом будоражить парторганизацию отряда. Рапорта же попадут на стол к тому же Медведеву, ну, может, в управление, – и под сукно.
И закончил занятия.
Вчера слетали в Норильск. Машина снова с ограничениями – моя крестница, 134-я. Но я как-то плюнул на всё и слетал спокойно, и без особого чувства ответственности, как-то расслабленно. Летели визуально, по Енисею, кругом полно рек, озёр; не дай бог что, есть где сесть на вынужденную хоть с закрытыми глазами. И на посадку заходил спокойно, изредка поглядывая на скорость; она сильно и не гуляла. Сел отлично.
Назад летел Лёша Бабаев, он вернулся ко мне. Валера Кабанов уже сидит на левом кресле, отрезанный ломоть. А Лёша давно не летал, месяца два; пришлось вмешаться по тангажу на взлёте (после перерыва обычное дело – трудно соотнести с непривычки вес, температуру, тангаж и вертикальную), а особенно – на снижении и посадке.
Видимость давали полторы версты, сцепление 0,4, но я не взял управление. Хотя давать посадку второму пилоту запрещается при видимости менее 2000 и сцеплении хуже 0,5. Это они так в министерстве решили.
Но если не давать в сложных условиях – как научишь второго пилота? Да и Лёша пролетал 25 лет, для него это тьфу, справится.
Диспетчер круга «помог» нам. Я, помня о комплексности захода, запросил боковое удаление, и он дал нам три километра, а по данным Жени было пять; мы чуть подождали и стали выполнять четвёртый разворот. Видим, рано. Вышли на связь с посадкой: диспетчер посадки дал боковое два, радиальное десять. Прав оказался Женя, а не диспетчер круга. Пришлось срочно и энергично довернуть, одновременно довыпуская закрылки; короче, за 6,5 км мы вышли на курс-глиссаду.
С двух километров стала тёмным пятном просматриваться полоса; с километра стало видно, что автометла промела снег не по оси, а чуть левее, и Лёша, молодец, сумел с высоты 30 метров чуть довернуть и над торцом выйти на ось; был риск, что правые колёса пройдут по снегу, но они шли как раз по кромке относительно сухого бетона. Выровнял он низковато, но машина замерла; я убрал чуть позже РУДы, и Лёша притёр её как пушинку.
На последнем разборе Булах дал указание: занимать эшелон перехода не ближе, чем за 30 км до аэродрома, согласно руководящим документам. Это перерасход бочки горючего, а то и больше; ну, с проверяющим-то не сэкономишь, а сами мы – с усами.
Тем не менее, на Норильск вчера пережгли 200 кг. Спалили мы их на полосе в Норильске: грели двигатели согласно последнему указанию ГУЭРАТ, где сказано, что греть положено при температуре -20; а было -36. Загрузки было много, лезли вверх по потолкам, но машина дубовая: при -70 за бортом угол атаки был 4,5, требовалось расхода 6 тонн в час, не менее.
А в общем, в норму уложились. Цена деления топливомера 1 тонна, мы пишем с точностью до 500 кг, и 200 кг – мелкие издержки, не учтёшь.
На днях был я в райкоме на семинаре пропагандистов – первом после съезда. После хорошей лекции о перспективах развития района на пятилетку, прочитанной первым секретарём, на трибуну взгромоздился идеолог, начальник Дома политпросвещения, штатный говорильщик («рот вытер – рабочее место убрано»).
Час он бомбил нас однообразными, без выражения, круглыми словами, вылетавшими из его рта, как клубочки дыма из ровно тарахтящей трубы работяги-дизеля: пук-пук-пук-пук-пук…. Работяга – это точно: к середине речи (без бумажки!) у него на губах появилась аж пена, застывавшая в углах рта; нам в первых рядах было неприятно.
Та же говорильня о говорильне. О повороте к делу, об идеологической грамотности, о необходимости изучать, изучать, изучать историю партии, в частности, материалы 2-го, 6-го, 8-го, 10-го, 12-14-15-16 и 18-го съездов… Столько работы вам предстоит…
Народ загудел. Ну и изучай, трудяга, раз ты идеолог, но нам-то надо не в историю лезть, а народ настраивать на конкретные дела. Началась вроде как дискуссия, где идеолог ярко блеснул демагогическим мастерством: он ткнул нас носом в устав и другие документы и выкрутился.
Уходили мы, тысяча человек, и вслух плевались. Это если мы, пропагандисты, разочарованы, то как же воспримет это народ? Да народу сейчас просто опасно навязывать говорильню: он только душу распахнул… а уж захлопнет – тогда всё.
А он нам: 8 занятий по 2 часа, это только по политическому докладу… А у меня возможность – три занятия в месяц, по часу. Между раздачей зарплаты и разбором.
Нет, не согласен я. Любое занятие сейчас – делу во вред.
14.03. Резерв – лучшее время для писанины. Правда, у нас есть дело: индивидуальные задания к ВЛП, но это всё успеем.
На разборе встал 2-й пилот Старостин и предложил: предполётную информацию по действиям экипажа в особых случаях на взлёте проводить неформально. А то в некоторых экипажах отделываются вызубренными общими фразами. Надо привязывать всё к конкретным условиям.
Его поддержали. Действительно, иной раз, допустим, при пожаре, выгоднее заходить не стандартным разворотом, а по малой коробочке, особенно если ветер сильный. Некоторые ратуют за такой метод из опасения, что диспетчер не успеет переключить старт и систему на обратный курс, а заходить с обратным курсом без контроля, да в сложняке, да в экстремальной ситуации, – можно и не справиться.
Так ведь было с Ту-134 в Горьком: при заходе с горящим двигателем стандартным разворотом не учли высоту и ветер, проскочили; пришлось уходить на второй круг на одном двигателе и строить заход с курсом взлёта, и хорошо, что потушили пожар.
Я в своём экипаже стараюсь привязать ситуацию к обстоятельствам. Оговариваю, куда отворачивать, учитывая препятствия, на какой скорости, с каким креном, какую высоту занимать; подчёркиваю, что делать это будет второй пилот, а я – контролировать действия бортинженера и общую ситуацию.
Но всё это – самодеятельность. Надо сесть компетентным людям, взять схемы аэродромов, учесть препятствия, ветер (слабый, сильный, боковой), жару и холод, – и разработать краткие рекомендации: на какой минимальной высоте начинать отворот, в какую сторону, в какой конфигурации, какие параметры выдерживать (радиус, удаления, высоты), чтобы за минимальное время выполнить манёвр захода.
Если у нас будут такие схемы, то во время предполётной подготовки командир и второй пилот не будут слоняться по штурманской, пока штурман считает бортжурнал, а разберут схему и выберут оптимальный вариант.
Это дело методического кабинета, которого у нас нет. Но этим делом можно и нужно заниматься на пресловутых занятиях к ВЛП.
И, во всяком случае, основные действия все мы должны знать чётко, даже если меняются члены экипажа, то есть, должна быть разработана технология действий. К примеру: пилотирует только второй пилот, учитывая, что вертикальная скорость всегда маленькая, что самолёт с каждой секундой уходит от спасительной полосы, что при слабом ветре отворот нужно производить обязательно подальше, за торцом полосы, а при сильном – сразу спаренный в район траверза БПРМ и на траверзе – опять спаренный, с одновременным выпуском шасси и снижением до 60 м на ближний привод. А командир контролирует действия бортинженера, и тут главное – не торопиться. Штурман должен чётко давать курсы, контролировать крены и радиусы, боковое удаление, помогать вписаться в створ, контролировать скорости, помнить о ветре… хватает дел.
Два слова об этом я сказал штурману эскадрильи, подбросил идею, пусть думает. Да и сам потихоньку займусь этим в рейсах. Практически на всех наших равнинных аэродромах эти действия одинаковы, но надо уточнить с препятствиями. И посчитать время с учётом ветра.
День прошёл. Между разговорами успел я написать индивидуальное задание. Через час будем собираться домой.
Вспоминаю годы, проведённые в училище, и едва прорезается в памяти, как же начал впервые летать. Помню, готовился к этому серьёзно, продумывал, представлял движения рычагами, а на самоподготовке дождавшись, когда ребята уйдут из класса, садился в кресло макета кабины, ставил ноги на педали, брал тяжёлую, шероховатую ручку, клал левую руку на РУД и отрабатывал, как мне казалось, необходимую последовательность действий на фигурах пилотажа.
Не знаю, может, что-то это мне и дало, но столкнувшись в первых полётах с реальными движениями и порциями рулей, с их пропорциональностью и тяжестью, я поразился, что в жизни всё по-иному. А ведь имел уже к тому времени какой-то опыт полётов на планере.
Но первых своих полётов я почти не запомнил. Самый первый: рокот, потом гул, почти визг мотора, толчки колёс о кочки, ощущение того, как могучая сила буквально за шиворот тащит машину, подбрасывает, цепляет за землю, снова подбрасывает… какие-то команды в шлемофоне, потом один визг бешено вращающегося винта, и, наконец, дошла команда: «Исправляй крены!»
Заход на посадку, угловые знаки, едва различимые на выбитом-перевыбитом лётном поле, посадочное «Т» с фигуркой финишёра, набегание ставшей вдруг близкой земли, какой-то «метр, метр», чего-то «добирай, добирай» – и снова толчки, прыжки, нос вниз, палка крутится перед носом… Запах полыни и сгоревшего бензина, жара и потрескивание утихшего, остывающего двигателя… И снова в полёт, и ещё, и так – каждый день и через день, и желание, желание познать, постичь, научиться…
Потом как-то же научился, летал, по-мальчишечьи стараясь, наслаждаясь самим процессом обладания. Пассажиром летать не любил: тошнило, внимание сосредоточивалось внутри себя, взмокали ладони, становилось жарко… Правда, не блевал ни разу, стерпел; но и дальше в полётах – лишь бросишь дело, подступает тошнота. И по сей день не могу летать пассажиром на Ан-2, да и на других самолётах не очень приятно. Только за штурвалом в небе я чувствую себя хорошо.
С Федей Мерзляковым первый год летал, так чуть только отвлекусь на оформление задания, начинает мутить; прошу штурвал. Загоню все триммеры в разные стороны и борюсь с органами управления, пока не пройдёт слабость. Зато крутить штурвал мог часами без отдыха.
Да, космонавта бы из меня не получилось. Но зато я хорошо понимаю ощущения пассажиров…
И то хорошо: девятнадцатый год доходит, держусь в авиации, и не на худом счету, а даже, отбросив ложную скромность, достаточно умело работаю.
Музыкальность тоже, видимо, сыграла какую-то роль. Есть ведь много людей, умеющих играть на инструментах. Но их два типа. Один – колхозный тракторист, выучивший «Подгорну» и «Барыню» на гармошке и, корявыми пальцами, уверенно, раз и навсегда, надёжно бацающий нехитрую мелодию. Его долго учили, добросовестно, и он вызубрил.
Второй тип – весь на нюансах, прислушивается, ищет пути слияния с инструментом, развивает слух и мышление, пытается что-то выразить, раскрывается.
Первый тип использует гармонь как средство. Второй – как часть себя. Он наслаждается процессом творчества.
Я сам научился играть на многих инструментах, только на кларнете научили в духовом оркестре, а то всё – самоучка. Дилетант, конечно, но инструмент стараюсь чувствовать.
Так и самолёт, и велосипед, и автомобиль, и пароход, – всё надо чувствовать. Но самолёт – моя профессия, уж где-где, а здесь я не дилетант. И почти уверен: тот тракторист и на тракторе «бацает», а уж если бог дал ему душу и слух, то и на гармони, и на тракторе он работает с душой и взаимопроникновением. И трактор, и гармонь обогащают, если есть душа; они важны и как самоцель, и как средство наслаждения, и как средство самоутверждения, и творчества, и роста над собой. Но главное – для людей!
От музыки и планеризма, кроме пользы, появился и недостаток: мелкие движения. На Ан-2 это сначала даже вроде как пригодилось: быстрая реакция на мелкие возмущения и отклонения. Хорошо, Ан-2 ещё не так инертен. Но на солидной технике это пошло уже во вред.
Те, первые полёты были ещё на нервах, как у начинающего велосипедиста, а на лайнерах волей-неволей пришлось загонять нервы внутрь, и я долго искоренял в себе стремление дёргаться на каждый крен. В основном, это удалось, но на посадке в сложных условиях, особенно на выравнивании, там, где клин сходится в точку, – мельчу штурвалом. Здесь реакция нужна мгновенная, особенно в болтанку, тем более, на самолёте с опущенными вниз крыльями, – недолго ведь и зацепить бетон. Некоторые и цепляли. Но зато посадок с креном, на одну ногу, у меня практически нет.
Достигается это большим и занудным трудом и борьбой, самоанализом, ночными раздумьями, отвлечением части внимания на постоянную борьбу с пороком на самых ответственных этапах полёта.
Есть люди, которые на это все плюют и летают на уровне, на котором остановилась их работа над собой. Так я, допустим, остановился в игре на фортепиано: могу аккомпанировать любую песню на слух, лишь бы раз услышал, – пусть просто аккордами – этого достаточно в компании; и хватит. В сорок лет поздновато тратить время на дальнейшее освоение сложного инструмента, требующего и в молодом возрасте усиленных занятий, часами. А есть же ещё аккордеон, баян, гитара…
Но то – баловство, отдушина, а это – профессия. Тут моё самолюбие не позволяет останавливаться.
Но так же не бывает, чтобы из полёта в полёт всё росла и росла требовательность к себе (а паче – к другим). Как, допустим, при пересечении трасс: надо скомандовать экипажу усилить осмотрительность; при следующем – ещё усилить, а пересечений десятки. И что – до бесконечности усиливать? Так, другой раз, и расслабишься в полёте, в меру, конечно, чтобы не сказалось на уровне безопасности. Пилотируешь на старом багаже, на подкорке, на рефлексах. Вот тогда видно результаты: что вдолбил, то и выявляется. И душа заодно отходит. А в следующем полёте – извините, опять муштра, отработка нюансов и борьба с кривой ли, косой ли, горбатой, – и чёрт их знает какой ещё машиной.
И шутки ради, после очередного пересечения трасс я громко командую экипажу: «Ослабить осмотрительность!» До прежнего уровня, естественно.
Педантизм хоть внешне и противен, но он гораздо лучше нашей расейской расхлябанности. А мне ещё и везло на учителей-педантов. Правда, в свете последних моих подвигов… мало они меня пороли.
Кстати, в отряде об алмаатинском моем случае сложилось мнение простое: на рулении болтали о постороннем, о бабах там, прозевали препятствие, прозевали команду. И мои жалкие, эфемерные, трепетно-нервные аргументы отнюдь не перевесят свинцовой гири солдафонски-прямого (как у всех в жизни: кто ж без греха?) общественного мнения.
Так же и по Сочи. Но там я уже и не оправдывался, а просто и по-солдафонски объяснил, чтобы без кривотолков: да, плюхнул ногу, сорвал пневматики. И мнение тут простое: это тебе не с трибуны выступать; припекло чуть – а кишка-то тонка оказалась. Ну да с кем не бывает.
И это надо переморгать, потому что среди нас и нет святых, со всеми хоть что-нибудь, а случалось, и все через позор прошли, и летают себе.
Только ох как нелегко это: переморгать.
18.03. Удивительное безделье. Я им упиваюсь, напитываюсь. Безделье и бездумье, масса свободного времени, дышится спокойно. Это почти тот же отпуск, но, между делом, вернее, между отдыхом, дают чуть подлетнуть, и финансовая сторона не страдает. Обстановка в семье доброжелательная, уют и покой, желание приласкать всех и подурачиться. Вот так бы и всегда.
Но есть и боязнь: а не сачок ли я обыкновенный, не пропитываюсь ли ленью?
Конечно, деятельным меня отнюдь не назовёшь. А сейчас – особенно: иду ли в гараж – сижу там бездумно, переставляя с места на место предметы; дома ли – лежу, читаю что попало; на даче – тоже сижу у камина, а если что и делаю – так монотонную, бездумную работу, вроде прекладывания досок или отбрасывания снега с дорожек.
Ощущение человека, выздоравливающего после долгой болезни. Что за усталость такая? Хочется только отдыхать. А ведь от этого сидения я жирею. Конечно, стараюсь хоть через день, но проходить свои 5-6 км, хоть немного двигаться. Жду наступления тепла, чтобы ездить на дачу работать.
В горле комок давит нерегулярно. Но эта нерегулярность даёт повод считать, что это просто невроз, что и немудрено. Как намечалось, нервная система близка к срыву.
Это состояние было у меня два года назад, и его заметила и дала прогноз на будущее наша преподаватель психологии на инструкторских курсах.
Психология, в том популярном виде, в каком её там нам преподносили, мне понравилась. Попутно над нами как всегда проводилась научно-исследовательская работа, всяческие тестирования… и вот тут-то выяснилось интересное.
Во-первых, для меня эти тесты не новость: двадцать лет назад, когда авиационная психология пускала у нас лишь робкие ростки, я, будучи курсантом-третьекурсником, участвовал в подобных экспериментах. Определялись лётные способности, предрасположенность к работе пилотом, и я был очень заинтересован в результатах опытов.
Результаты тех давних тестов были и закономерны, и ошеломляющи: я занял одно из первых мест в училище по всем параметрам. Закономерность просматривалась в том, что по уровню интеллектуального развития я опережал большинство сверстников, что определённо отражалось на Доске почёта: без труда, играючи, я был абсолютным, круглым отличником. А оказаться в первых рядах и по психофизилогическим показателям – не ожидал. Но оказалось, что множество показателей профессиональных особенностей организма у меня на самом высоком уровне, получалось, что я рождён летать!
Я это трезво оценивал и понимал, что моя задача теперь – набить руку и набраться опыта полётов. Но чего я очень боялся в себе – это того, что мне не хватает элементарной смелости, активности, уверенности в принятии решения, а этот недостаток, при всех плюсах, мог свести на нет все мои способности. Нужен был лётный опыт, привычка, практика.
И вот, двадцать лет спустя, набив руку и набравшись опыта, попал я в аналогичную ситуацию. Только теперь тестирование велось в узко-профессиональном, инструкторском направлении (в том, что мы хорошие специалисты, сомнений не было); особенностью его являлась общая характеристика каждого из нас как личности, что важно для понимания способности к инструкторской работе.
С энтузиазмом я взялся заполнять клеточки таблиц, отвечать на сотни вопросов, подобранных с иезуитской хитростью. Как обычно, опередил всю группу на полчаса.
Разбор был на другой день. Преподаватель брала наши расшифрованные анкеты и давала каждому краткую характеристику, выделяя акценты и делая прогнозы на будущее. Всем было интересно, шум и гам, дело затянулось, и звонок на перерыв застал нас врасплох.
Меня она охарактеризовала так: натура ближе к артистической, способности играть, петь, рисовать, писать, творить.
Я поразился. Как это можно определить из цифр, крестиков и ноликов? Но ведь верно!
В перерыве она подошла ко мне и, отозвав в сторону, прямо спросила: «Что с вами происходит? Вы на грани срыва».
У меня тогда вообще глаз выпал.
Короче, мы нашли возможность серьёзно поговорить. В то время у меня над душой висело состояние серьёзного дискомфорта, связанное с ростом собственного достоинства и значимости моего «я» с одной стороны, и осознанием тупика и нерешённости нравственных вопросов в общественной жизни, которой я интересовался слишком глубоко. Были и другие внутренние проблемы.
Спасибо, я смог откровенно выговориться. Это стравило внутренне давление. Кроме того, занялся писаниной, это помогает снимать возникающие временами внутренние напряжения. Я здесь выговариваюсь сам перед собой, что для людей интровертного склада очень важно.
И всё же летом того года я загремел с кардиограммой в стационар («на чердак», как у нас говорят). И волнения того года сказались впервые комом в горле. Но тогда вроде прошло.
Нервы проявляются потом. Инфаркт люди зарабатывают обычно за полгода раньше. Случай с АНО в Алма-Ате выдохнулся осенью: комок опять возник, а через месяц-другой во время разговора с Раисой молнией мелькнула мысль: «А если опухоль?» И тогда-то я свалился у неё в обморок, на рентгене пищевода и желудка. Правда, рентгенография показала, что эти органы у меня – как у страуса, просто беру много в голову. Да ещё если учесть тревоги, нагрузки и треволнения последнего года, включая и уход в отпуск.
Помогает движение: после часа ходьбы или, там, тупого перекладывания досок, всё исчезает. После недели безделья и бездумья – синдром этот и вовсе пропадает. Так что надо двигаться, ничего не брать в голову, а главное, беречь нервы, беречь насколько это возможно на моей работе.
По аэропорту намечаются сдвиги. Отремонтировали профилакторий, выморозили насекомых, дали тепло. Сделали столовую для лётного состава, правда, платную, но всё же это не наша рабочая рыгаловка: нет очереди, уют, кормят хорошо.
Общественный туалет начали ремонтировать: облупили штукатурку, заменили радиаторы. Но… нет там ответственного человека, а надо.
Пока же Медведев нам так сказал: аэропорт держится на волоске, текучесть кадров сумасшедшая, каждый едва исполняет положенное, требовать большего нельзя, потому что плюнут и уйдут.
19.03. Сидим на Норильск, ждём лётной погоды. Согласно синоптической карте вчера всё выглядело красиво: на Таймыр с запада выходил антициклон, температуры ожидались за -30, значит, погода должна была бы звенеть. И я почему-то не додумался предварительно позвонить на метео и уточнить погоду. А был бы немало удивлён, узнав, что там метёт со вчерашнего утра, видимость от 100 до 500 метров.
Норильская погода – дело тёмное. При ясном небе и морозе -37 видимость сто метров – из-за ветра до 14 м/сек. Прибор видимости там низко расположен, что ли, или как раз на пупке завихрения сильнее, но факт: при прекрасной видимости прибор даёт почти полный мрак.
На Ил-14, бывало, садишься не на полосу, а между туманными пятнами огней, скрытых под метровым – не выше – слоем густого позёмка. Дают видимость 500 м. Да – на высоте метр она будет 500. А пилот-то сидит повыше. Ну да демагогию тут можно развести до бесконечности: мол, с земли хоть и видно, а с высоты начала выравнивания – нет; и что наклонная видимость хуже горизонтальной; и вообще, зачем рисковать… Но факт, что при вполне приемлемых условиях самолёты сидят.
Была бы экстремальная ситуация, допустим, аварийно-спасательные работы, – разрешили бы, рискнули бы и летали бы спокойно, потому что, в конце концов, на нашем лайнере не столь важно определить метр до бетона визуально, сколько – учитывать темп уменьшения последних метров по радиовысотомеру.
Полосу сверху, в общем-то, видно, заход вполне можно строить даже визуально, да только боязно начальству взять на себя ответственность. А надо бы тренировать экипажи на такой случай.
Да, на мой взгляд, взгляд пилота, летающего сюда всю жизнь, специальная тренировка по полётам в таких условиях была бы гораздо важнее бюрократически обоснованной, но пока бесперспективной (тем более, для Норильска), многотрудной и по существу формальной тренировки по 2-й категории.
Реальный конечный результат в Норильске просматривается и сейчас: летать в принципе можно; была бы война – летали бы как миленькие… но люди сидят, потому что прибор, разработанный где-то в Москве и в Москве же апробированный, утверждённый в кабинетах по бумажным отчётам, – в реальном Норильске непригоден и даже вреден, и это знает весь летающий аэрофлот.
И действительно: ветер в Норильске дует по полосе, до 14 м/сек, видимость 500 метров. Я в таких условиях там садился на Ил-14, считай, с закрытыми глазами.
Дело было так. Надо было мне провериться на понижение минимума. Я поймал в Дудинке инспектора управления, ожидавшего нашего возвращения почтовым из Норильска, чтобы улететь домой. Уговорил его слетать в Норильск, меня проверить, – тогда выполним рейс и он скорее улетит.
Так чтобы его совесть была чиста, а мне действительно труднее было бы заходить на видимую, как и всё вокруг, полосу, инспектор закрыл меня шторкой, хотя в условиях реального минимума это и запрещается, – да какой, к чёрту, минимум, когда миллион на миллион, не видно только бетона.
Да – после простейшей, безболезненной посадки, прямо на этот живой позёмок, что-то там, на полосе, мело, но отнюдь не мешало мне видеть её от ВПР до самого конца выравнивания. А вот прибор – не видел.
И получил я минимум: 40/500.
И неужели же я не справлюсь на Ту-154, где при вертикальной 3,5 поставь на пяти метрах малый газ, закрой глаза, и сядешь отлично. Но… разрешите!
Ага, щас. Как же только нас опекают там, где мы и сами уж, пардон, как-нибудь штаны снимем, когда припечёт.
Я понимаю: в Москве, конечно же, нужна 2-я категория. Там бывает иногда погодка 30/400. А в Норильске видимость хуже минимума стоит чуть не полгода, – но хуже какого минимума-то? 100/1200. Это для военных – да; это для большинства из них, и правда, 100/1200 – минимум.
Вот мы сидим и ждём улучшения до 1200, только с таким прибором нам не дождаться, разве что ветер утихнет.
Вот где нужна система 2-й, а то и 3-й категории, и реальная тренировка пилотов, и совершенные приборы, и другая методика определения видимости, и другая, реальная ответственность.
20.03. К вечеру в Норильске начало улучшаться, и мы садились там в сумерках при видимости 4500. Ветер немного утих. Я спросил у девушек-синоптиков, как они определяют видимость, когда у них началось это ухудшение, и действительно ли было 100 метров.
Оказывается, видимость у них определяет наблюдатель визуально, а по прибору было бы ещё хуже. Мело со вчерашнего утра: небо видно, а внизу – белая снежная мгла. Не низовая метель, а именно мгла. Я немного знаком с этим явлением, особенно когда летал на Диксоне и Северной земле; был случай и на Земле Франца-Иосифа. С белой мглой тягаться трудно.
Так что я был не совсем прав, когда ворчал вчера. Однако выводы мои относительно методики определения видимости подтвердит любой пилот и синоптик; да и то: никто же конкретно вчера не видел, как эта мгла выглядит с воздуха, до какой высоты она поднимается, видно ли через неё издалека полосу. На земле-то да: здесь в белой мгле теряются предметы на удалении десятков метров, нет тени, кажется, что висишь в мареве, боишься поставить ногу на снег, которого не видно.
Короче, нужны исследования, проблема остаётся.
В Красноярске всё время шёл снег, проходил холодный фронт, на полосе была слякоть, и мы внутренне готовились, что к нашему возвращению полоса обледенеет.
Так оно и случилось. Погода была на пределе: то метель 800, то ветер боковой больше нормы. К моменту входа в зону Красноярска ухудшилось сцепление до 0,32, ветер теперь превышал жалкую для этого коэффициента норму, и мы, не снижаясь, но сделав на всякий случай запрос у старта о последней погоде и получив неудовлетворительный ответ, ушли в Абакан.
На снижении, как всегда по закону подлости, путался под ногами Ил-62; нам сообщили о нём слишком поздно, и мы уже не успевали вовремя отстать. Выскочив под нижний край довольно высокой облачности, увидели маячок у себя под носом, тысячи на две ниже. Короткие дебаты насчёт отвернуть, отстать, сделать змейку, вираж, пресёк диспетчер, заставив нас выполнить коробочку. Вся экономия полетела к чёрту, и теперь придётся навёрстывать на других рейсах.
Мы были первые ласточки из закрывшегося Красноярска, но в новой гостинице уже не было мест, как везде и всегда. Нас удивило, что нам предложили поселиться за плату, чего нигде нет: везде как-то устраивают экипаж. После энергичных переговоров удалось решить вопрос бесплатно, с условием, что предприятия между собой рассчитаются. Так оно всегда везде и делается, но для солнечной Хакасии, видать, в новинку.
Рейс из Норильска у нас голодный, в вокзале Абакана всё закрыто, ночь; пришлось ложиться натощак. И вот сейчас утро, в Красноярске 0,32 и ветер почти по полосе, боковая составляющая всего на полметра больше нормы; думаю, скоро поднимут. Теперь там лёд, ничем не очистить, это до солнечного дня, но надеюсь на уменьшение ветра.
Летали мы с Рульковым, слетал я хорошо, всё удалось, посадки точно на знаки, правда, условия были идеальные.
Меня здесь поселили в отдельный одноместный номер, из расчёта, что всю ночь будут дёргать к телефону; Рульков лёг с экипажем. Но спал я вполне спокойно: Красноярск закрылся надёжно. Зато сейчас имею возможность писать за приличным столом, никто не мешает.
Но мысли в голову не лезут. Жрать хочется.
Не выдержал, пошёл в АДП сам. Там встретил Володю Щербицкого, который сел сюда из Москвы, протолкался несколько часов на ногах, дождался улучшения погоды и просился вылететь первым, потому что у него кончалось стартовое время. Да и машина у него была готова, и экипаж, а мой ещё спал. Я сразу позвонил в гостиницу по телефону, чтобы поднимали ребят, а выйдя на улицу, тут же их и встретил: тоже нечистая сила подняла, а вернее, голод.
Дальше всё делалось оперативно, и едва мы подписали задание, как уже взлетел Щербицкий, нам посадили пассажиров, а в АДП толкался командир Ил-62, проспавший свою очередь.
Перелёт прошёл без замечаний, а на разборе Рульков меня похвалил за отличную технику пилотирования и мягкие посадки.
В Норильске, читая в «Правде» статью о рабочем, который «хозяин производства», я задал Рулькову вопрос: вот вы, Заслуженный пилот, – чувствуете ли вы себя хозяином производства? Он только рассмеялся в ответ.
И верно: уж кто-кто, а пилот, вроде бы главная фигура в авиации, отнюдь в ней не хозяин. Хозяин сидит в конторе, а мы – пешки, ездовые псы. И уж как это так получилось, что мы и сами смирились с такой ролью… не знаю. Но Чкалов, наверно, в гробу бы перевернулся, узнав, во что ставят сейчас лётчика. Ни во что.
Какие мы рабочие. Так, рабочая аристократия, разобщённые рвачи и демагоги. Баре. И отношение к нам как к барам: зарабатывают много, всё им подай, через губу не плюнут, аристократы неба… так дай-ка я тебя лягну в меру возможности. И лягают. А мы терпим, ворчим и ждём пенсию. Но не ждём перемен: старая обувь хоть и потрескалась, а ногу не жмёт. А новая – какая ещё будет.
Половина специалистов у нас на земле – списанные лётчики. Пенсия 120, ищут работу, чтобы не выше 180, в сумме 300: потолок. И хоть тресни, не переработают. Ни ПДСП, ни центровка, ни другие службы. Зачем? Ходи только вовремя на смену, что-то там делай, и железно – 280 чистыми в кармане. Переработаешь – срежут пенсию, подоходный налог возрастёт; только потеряешь.
Вот – тормоз. Потолок этот везде явно вредит, но никто не берётся его убрать, уравниловка. Хотя… заговорили об этом с высоких трибун. У нас миллионы пенсионеров коптят небо, а могут ещё вкалывать, зарабатывать, себе на карман, государству на пользу. Но – потолок! А весь народ, абсолютно весь, за то, чтобы, если можно, зарабатывать хоть тысячу, хоть две. Это же не красть. Это же не создавать видимость бурной деятельности. Это же подключаются миллионы ещё работоспособных людей, на всю возможную мощность, а не на жалкие 180 рублей. А мы говорим о нехватке рабочей силы и хвалимся этим как социальным завоеванием… перед японскими роботами пятого поколения. А роботы себе работают и производят.
И пилот иной, здоровый мужик, сидит иной раз практически без налёта, ну, 15 часов в месяц, и рассуждает: ну где ещё я найду такую работу, чтобы и ничего не делать, и триста рублей в кармане. А на пенсии за эти триста надо каждый день, а то и в ночь, на работу ходить.
Вот именно: ходить.
А была бы на пенсии возможность зарабатывать больше потолка, он бы не коптил небо у нас, не высиживал бы, не дожидался лучшей доли, а бросил бы эту полетань, ушёл на пенсию и вкалывал бы, и зарабатывал. И нам, лётчикам, было бы не так тесно, летали бы не по 15 часов, а по 70. Все бы работали на всю мощность.
23.03. На Благовещенск надо вставать в 4 утра. Я проснулся в 3.45: какой уж тут дальше сон. Вышел в 4.05 из расчёта час ходьбы пешком, 6 км. Автобусы в аэропорт идут в 4.50 и 5.10; если опоздаю на первый, возьмёт второй; ну, сегодня я рассчитывал явно на второй.
С полдороги что-то устал: сказался предыдущий Норильск, да и спал-то всего чуть больше 3-х часов. Таксисты не берут на дороге нашего брата, недолюбливают нас, как и мы их, впрочем. Подвёз к автобусу частник, за рубль. Успел на 4.50.
Полёт прошёл нормально. Туда летел я, на снижении мешали облака и встречный борт, поэтому расчёт без газа не получился, но почти полторы тонны сэкономили.
Обратно летел Лёша, дома на снижении постарался грамотно распорядиться запасом высоты и скорости: видя, что высота маловата, гасил скорость на рубеже 3000 без интерцепторов; Женя выводил к третьему по своим средствам, я следил за расходом высоты и скоростями. В результате почти всё получилось, но всё же Лёше пришлось чуть добавить режим, буквально на полминуты, а Женя подвёл к третьему на чуть большем расстоянии; но в четвёртый вписались хорошо.
Была болтанка, Лёша гонялся за глиссадой, я следил за его расчётом режима двигателей, Женя читал скорость и высоту, Валера чётко ставил газы. Все спокойно работали.
Лёша поймал ось, но вышел на торец чуть высоковато; я терпеливо ждал, и он выровнял вовремя и очень низко, а вот о газах забыл; касание совпало с уборкой на малый газ, и самолёт чуть отошёл на стойках. Но так как всё это было очень мягко, неслышно, то показалось, что мы воспарили. Мгновение, другое… стойки снова стали чуть слышно реагировать на вибрацию колёс: значит, не отделялись.
Конечно, при боковом ветерке надо выравнивать пониже, но это был предел, миллиметровщина. Если бы Лёша ещё чуть добрал штурвал, а я не убрал газ, то был бы козёл. Но он не добрал. И получилось искусство: отличная посадка, которой никто не почувствовал. Сэкономили две семьсот топлива за счёт умелого использования струи.
Сегодня летим в Алма-Ату. Вчера в полёте меня сморил сон, и я провалился минут на десять; тут принесли обед, так ребята меня буквально трясли за плечо. Это ни к чему, и я вечером лёг пораньше, так, что выспался и проснулся утром сам, свеженький.
24.03. Алма-Ата оставила чувство неудовлетворённости. Летели без ленты-карты, а я уже привык ориентироваться по ней: где летим, где пересечение трасс, выходы из зоны и т.п. Баловство, конечно, но без неё надо всё время поглядывать в окошки НВУ, спрашивать у штурмана, когда выход и пр., да и боковое уклонение на планшете выглядит нагляднее, чем цифра в подслеповатом окошке. Короче, командир должен дублировать штурмана. Или вообще не вмешиваться, пусть сам летит.
Я поглядывал изредка, трасса знакома, но и газетку почитывал. Женя работал.
Полёт был спокоен, но в зоне Алма-Аты, возле Уш-Тобе, диспетчер вдруг сказал, что мы идём правее 25, взять поправку. Азимут отличался от контрольного на 6 градусов, но радиокомпас показывал почти точно на Уш-Тобе, и по расчёту через 10 км должно было быть это Уш-Тобе; Женя чуть и подвернул на стрелку, чтоб точнее. В уклонение 25 км не верилось, скорее всего, врал азимут РСБН. Сейчас стрелка АРК провернётся на 180, и станет всё ясно…
Но что-то меня толкнуло изнутри, и я сказал Жене на всякий случай проверить, прослушиваются ли позывные Уш-Тобе. Сигналы не прослушивались. По расчёту должен был быть пролёт, но стрелка устойчиво показывала вперёд.
Взяли поправку, не влево, а вправо, по азимуту. Диспетчер-то, как оказалось, сам ошибся в стороне уклонения, чем и нас ввёл в заблуждение. А самолёт-то летит, каждая минута – 15 км. Но, главное, он хоть подсказал вовремя.
Женя полез в регламент и нашёл: оказывается, частоту привода Уш-Тобе сменили, а в информации нигде это не прошло. Настроил новую частоту – стрелка тут же прыгнула вправо под 100 градусов: прошли Уш-Тобе.
Значит, азимут показывал правильно, а мы доверились старому верному АРК, который нас так подвёл. Но… частоту надо правильно устанавливать.
Вышли на линию, но было неприятно, что всё не так. И даже заход с прямой на малом газе, что в зоне Алма-Аты никогда не получается (рано снижают), и великолепнейшая посадка не смогли смягчить чувства вины.
Дежурный штурман сказал, что частоту сменили недавно: мощная китайская радиостанция забивала дохлый приводок Уш-Тобе, вот почему стрелочка АРК показывала в Китай, а телеграфных сигналов не было слышно.
– Так хоть предупреждайте ж экипажи, – возмутился я.
Штурман только руками развёл.
Вот из-за такого совпадения частот уклонился в Турции Боря Б. Привод поворотного пункта забивался более мощным приводом американской военной базы, причём, стоявшим по тому же курсу, а поворот трассы там аж на 110 градусов. Надо унюхивать ЛУР – линейное уклонение разворота, и начинать разворот задолго до того, как стрелка даст отсечку пролёта.
Подошло расчётное ввода в разворот – а стрелка и не дрогнет (обычно она перед пролётом начинает суетливо рыскать туда-сюда, как бы не зная, в какую сторону поворачиваться на 180). Не разворачивается стрелка назад, нет пролёта, и всё. Естественно, она так и показывает – на американскую базу далеко впереди. Пока думали, ждали, вот-вот пролёт, может, ошибка в расчётах, может, ветерок встречный, – просвистели полста вёрст.
Потом уже вмешался диспетчер, с любопытством наблюдавший, как будет выкручиваться экипаж. Пока развернулись на новый участок трассы, уклонились на 130 км. На выходе из зоны спросили, нет ли претензий. «Всё о’кэй… ха-ха-ха». Ну и слава богу, полетели дальше.
А дома задёргались. А вдруг прикатит телега – тогда выпорют и за нарушение, и за неискреннее поведение, за попытку скрыть. Ну и решили: на четыре кости – и всё выложить, как было. Пали, выложили. Наши шакалы набросились: вдули по самую защёлку, всех выгнали из международного отряда, понизили в классе; Борю кинули в вечные вторые с переводом во Внуково.
А телеги так и не было. Вот и признавайся честно, искренне. Нашли дурака. Нет уж, если есть шанс, что всё пройдёт тихо, нечего самому голову в петлю совать. Никому от этой честности у нас не будет пользы, а петля может и затянуться.
Ведь мы когда с Эдиком Ш. блудили под Мирным и уклонились на 190 км из-за отказа курсовой системы, всё обошлось, спасибо диспетчеру. И прилетели куда надо, и в срок. А так бы…
Но вывод один: самолётовождение должно быть комплексным и упреждающим. Лучше перебдеть, чем потом выкручиваться. Это древняя истина, а поплатилось за неё много народу.
Назад тоже: считали-считали время запуска, чтобы вырулить по 1-й РД и взлететь строго по расписанию, с курсом 52, от начала ВПП, на номинале, благо, полоса 4400 м. Рассчитали, запустились, запросили выруливать, а диспетчер даёт: «по 3-й, магистральной, 1-й РД, на 52». Обычно давали «через перрон по 1-й на 52». Лёша ещё меня переспросил: по 3-й на 52 – это как?
Порулил влево на 3-ю, но диспетчер меня остановил и заставил повторить маршрут руления. Я повторил, по подсказке Лёши: «по 3-й, магистральной, 1-й, на 52». Начались дебаты.
Оказалось, что перрон – это и есть магистральная РД (хотя параллельно ВПП идёт ещё одна магистральная); раз мы стоим на стоянках на 3-й РД, то рулить на 1-ю надо сначала по куску 3-й справа от нас, там всего 100 м, потом по перрону – это магистральная, потом как обычно, на 1-ю. Умник какой.
Меня ещё отвлёк от чёткого уяснения команды диспетчера буксир, который, несмотря на сигналы техника и мои включённые фары, упрямо лез мне справа под нос. Поэтому я и пропустил подробности команды, в памяти отложилось только «по 3-й» и «52».
Ну, раз уже порулили по 3-й влево, пришлось просить исполнительный 52 от 3-й РД и взлетать на взлётном режиме.
Плевались потом.
Может сложиться впечатление, что мы все невнимательно слушаем эфир. Конечно, доля правды есть: за невнятное «Э-э-э-о-о-ой», показавшееся мне командой «Следуйте за мной», а на самом деле означающее «Правее осевой», я и талон в своё время отдал. Но есть и объективные причины неразберихи.
Выруливаешь на исполнительный для взлёта без остановки, так называемого «роллинг-старта», читаешь на ходу карту, переключаешь ответчик, ловишь осевую, переключаешь на малые углы переднюю ногу, включаешь фары, часы, – а в это время старт трещит: «ветер у земли двести сорок, пять метров, нижний край сто сорок, исполнительный и взлёт разрешаю, после взлёта связь с подходом на сто тридцать два запятая восемь, набор девять шестьсот, пересечение пять четыреста доложить контролю на сто двадцать пять запятая один, контроль вторичный».
Эти словосочетания сливаются в одну большую цифру: 240-5-140-132,8-9600-5400-125,1, и надо за пять секунд ответить, что понял, занимаю, взлетаю, высота, частота, пересечение, частота. Это выдаётся в эфир вторым пилотом, а я, внутри, экипажу, коротко: «Задано 9600, пересечение 5400 – контролю». А штурман в это время, на ходу выставляя ГПК, должен эти цифры запомнить (записать, выставить частоту на второй станции), а командир даёт команду «Взлётный режим, держать РУДы», а бортинженер докладывает, что режим установил, рычаги держит, параметры в норме. И понеслись.
Обычно всё полностью всего не воспринимают, а только в части касающейся: штурман запоминает частоты, второй – высоты и пересечения эшелонов, командир – общие условия на взлёте. В голове каша, и не дай бог какого отказа на разбеге.
Потом, после высоты перехода, когда установлено давление 760 мм, начинаются уточнения: сколько задано, пересечение какой высоты доложить, и кому? Часто приходится переспрашивать у земли, уточнять.
Вот так земля «облегчает» работу экипажа на взлёте: мол, кругу же взлёт докладывать не надо – сразу подходу, ведь легче же?
Легче… В этом отношении взлёт спрессован донельзя, а ведь настраиваешься ещё и на отказы на взлёте. Спасает только то, что в отличие от посадки, где клин сужается, на взлёте он расширяется; вот чем выше, тем легче.
Всё дело в психологии. И если я на тестировании занимал первые места, а в приведённой здесь ситуации внимания мне не хватает, то каково же тем, кто первых мест не занимает?
Значит, поток информации здесь бьёт через край. Но, взлетая, об этом не скажешь, эфир засорять нельзя… а хочется послать подальше и погромче.
Предвидеть же заранее, что тебя одарят этим «вторичным контролем» на взлёте, невозможно. Пока это всё ещё не отработано, информация выдаётся поспешно, зачастую диспетчер читает по бумажке, а экипажу в сложной обстановке эта скороговорка очень мешает.
Мы привыкли к стереотипам. Поэтому всякое нововведение, типа «по магистральной» вместо привычного «через перрон», да ещё в условиях визуальных помех в виде того же буксира, сразу вводит элемент неуверенности, нервозности. Молодые же диспетчеры, никогда не летавшие, теоретики, частенько грешат этим. Ему легко сыпануть в микрофон горсть цифр: они перед ним записаны на пульте, он их долбит в эфир часами, а нам ведь не в кабинете их воспринимать, а в насыщенной командами и действиями кабине, в условиях очень ограниченного времени, – и не только принять, а и превратить абстрактные цифры в конкретные образы действий: что, где, когда, кому, как.
Домой долетели нормально, сумели построить манёвр на малом газе, и сел Лёша хорошо; в результате – четыре с половиной тонны экономии. Правда, назад нам помог малый вес: могли бы взять ещё девять тонн загрузки, но её не было. Но у нас перед этим на Норильск была сумасшедшая производительность, так что в сумме всё компенсируется.
Сегодня лечу в Москву.
31.03. В полёте на Москву нам сильно досаждала новая фабричная лента-карта, доверившись которой, мы со штурманом наделали ошибок в самолётовождении, получился грязный полёт. Но теперь, убедившись в том, что доверие к ней приводит только к напрасной суете штурмана, мы решили всё внимание уделить комплексному самолётовождению.
Позавчера слетали в Благовещенск. Весь полёт туда я старался делать всё так, как решил раньше: не слишком доверял коррекции по РСБН, самостоятельно считал ЛУР на разворотах, определял место по косвенным средствам и вручную корректировал на планшете.
И - получилось. Полёт был чистый, нам самим понравилось. Попутно мы с Лёшей тактично указали Жене на его недостатки, в частности, на суетливость. Да он и сам об этом знает; но тут это было упомянуто кстати, дружно, вдвоём, – и подействовало.
Летели на низких эшелонах, не экономили, но машина хорошая: и курс держит, и уводов нет, и расход неплохой. Так и наскреблось около двух тонн экономии.
В общем, полёт понравился всем, и надо в будущем закрепить успех.
Думали, что это уже всё на март, но вчера нам подсунули четвёртый за месяц резерв, и пришлось сделать две перегонки. С утра, едва зайдя в АДП, развернулись и поехали автобусом в Северный. Пока техники готовили машину и устраняли недоделки после формы, мы скучали в кабине, а тем временем подошёл фронт, и перелёт пришлось выполнять в приличную ветровую болтанку. В Емельянове давали почти предельный боковой ветер, трепало хорошо, и пришлось приложить усилия, чтобы посадить лёгкий самолёт с задней центровкой. В последний момент перед выравниванием швырнуло влево и сбросило с оси; сел метрах в пяти левее: сдвиг ветра у земли в сторону уменьшения.
Назад гнали вечером машину из-под ташкентского рейса; службы дотянули её подготовку аккурат до пересмены, чтобы улететь на дармовщинку домой. Мы пришли на самолёт, а там людей уже половина первого салона. Я не против: центровка более передняя. Но люди не оформлены, случись что – тюрьма. А куда денешься. С какими глазами их выгонять. Все летают, все возят. Перевёз и я, утешаясь тем, что через полтора месяца аэропорт Северный закроют навсегда.
7.04. Прошли занятия к весенне-летней навигации, прошли, ничем не отличаясь от череды всех предыдущих. Единственно, что внесло разнообразие, это официальные результаты работы комиссии по катастрофе Фалькова. Медведев зачитал нам их сам. Тишина стояла в зале, редкая и для занятий, и для разборов.
Психологи из Центра подготовки космонавтов дали анализ деятельности экипажа. Много специальной терминологии, но суть мы уяснили.
Удар, слышимый всеми, испугал экипаж. Стресс явный; в условиях стресса и пришлось работать.
В предыдущих полётах на этой машине были записи в журнале по вибрации 2-го двигателя. Экипаж знал об этом, и когда загорелось табло «Вибрация велика» 2-го двигателя, все поняли так, что что-то произошло именно с ним. Запись, удар, табло – командир принял решение выключить 2-й двигатель. Вполне логично.
После выключения 2-го загорелось табло «Пожар», и все закричали: «Пожар! Пожар!» Бортинженер доложил, что горит 3-й, а 2-й выключен ошибочно.
Получилась сложная накладка: стресс, подспудная готовность к пакости на 2-м двигателе, подтверждение вибрации на 2-м, действия по его выключению, облегчение, – и вдруг – пожар на 3-м! Всё забыто, надо тушить 3-й, а выключен-то 2-й, – значит, ошибочно!
Ситуация, и так сложная. Ещё более усложнилась. Командир не может понять, какой же двигатель отказал. И бортинженер тоже. Начинаются вопросы и уточнения. Второй пилот со штурманом снижаются и ведут связь с землёй, а командир с инженером разбираются в характере отказа и какое решение принять.
Потом следуют команды: на запуск 2-го и тушение 3-го, причём, главное – тушить! Здесь бортинженеру приходится одновременно выключать стоп-краном 3-й, перекрывать его же пожарный кран, выключать генератор, отбор воздуха и ПОС, – и тут же включать пожарный кран 2-го, убирать стоп-кран 2-го, одновременно контролируя, как сработала система пожаротушения на 3-м. Цепь противоположных по смыслу действий на двух соседних двигателях, в состоянии стресса, непредсказуемой ситуации, сомнений (горим? не горим? ложное срабатывание? отчего удар?), в условиях быстрого изменения обстановки, дефицита времени и простого человеческого испуга, – всё это, вероятно, приводит к ошибке в манипуляциях с пожарными кранами или просто к пропуску действий.
Пожар продолжается; последовательно включены вручную остальные очереди противопожарной системы. Последние сомнения о ложном срабатывании сигнализации развеялись: в кабине запах гари, просачивающийся по системе отбора воздуха. Горим!
Теперь всё внимание на снижение и заход на посадку. Но… мы не любим и боимся захода на одном двигателе. Это предел возможностей и очень трудная операция. А 2-й-то остановлен ошибочно! И всё внимание сосредоточивается на его запуске. Оставшийся в действии единственный генератор на 1-м двигателе грозит опасностью отключения АБСУ, поэтому надо ещё запустить ВСУ. Бортинженер бьётся с запуском 2-го двигателя, но ничего не получается. Командир отвлекается на контроль выполнения захода, даёт команду энергично снижаться, спрашивает у штурмана место, где полоса, потом снова оборачивается к бортинженеру: запустил? нет?
Бортинженер сделал всё, но обороты 2-го двигателя не растут, несмотря на дачу газа. Он не знает, что управление двигателем обрублено, и считает, что двигатель не запустился. А внимание так сужено, что глаз не цепляется за температуру газов: двигатель-то работает на малом газе!
Командир торопит: Юра, снижайся! Где мы? Где полоса? Где Емельяново?
Это хорошо, что мы летаем со штурманом. Гена выводит самолёт к 4-му развороту. Диспетчер даёт команду выполнять визуальный заход. Помощничек…
2-й двигатель вдруг самопроизвольно выходит на взлётный режим. Надо снижаться, думать уже некогда, даётся команда на выпуск шасси. Выпущенные шасси помогают потерять высоту. Снижение идёт с выпущенными шасси, на взлётном режиме 2-го двигателя, на скорости 450. Скорее, скорее!
На пульте бортинженера загорается табло «Пожар» 2-го двигателя. Тушить нечем, всё израсходовано.
Выключили или нет второй двигатель, я не понял, да уже и поздно. Отказывает управление, следуют команды: «Юра, пилотируй! Юра, я сейчас…» потом: «Взлётный режим!» и через несколько секунд: «Убрать шасси!» Всё.
Медведев читал запись переговоров экипажа с явным усилием, с паузами. Мы все, сто человек, были вместе с ним сейчас в кабине горящего лайнера, рядом с экипажем. И так же, как психологи из Центра подготовки космонавтов, мы понимали и страх, и дефицит времени, и безнадёжную тоску, и проклятия погибающих людей, вместе боролись, лихорадочно затыкая прорехи в такой стройной, логичной, и такой бесполезной системе управления этой коварной машиной. И ясно было, что случись это с любым из нас, вряд ли бы мы действовали лучше.
Выводы комиссии таковы: в данных условиях возможности человеческого организма не обеспечивают выполнения тех сложных и взаимоисключающих задач, которые возникли в процессе перерастания ситуации из аварийной в катастрофическую. Кроме того, эти действия регламентируются тремя противоречивыми руководящими документами: РЛЭ, Инструкцией по взаимодействию и Сборником действий в особых случаях.
Короче, всё отдано на откуп экипажу.
Потом желающие ознакомились с результатом патологоанатомического исследования останков членов экипажа. Я тоже прочитал, что остаётся от человека после удара о землю на скорости 450 км/час.
О том, что пожарный кран горящего 3-го двигателя был открыт, а значит, топливо лилось рекой, комиссия сделала выводы по косвенным признакам. Пожарные краны и тумблеры управления ими найдены не были, а нашлись лишь лампочки контроля работы. Так вот, по растяжению нити лампочки на специальном стенде было предположительно установлено, что в момент удара она горела: нить раскалённая сильнее деформировалась.
Предположительной причиной отказа гидросистем называлась одна: случайно обгоревший плюсовой провод мог попасть на контакт управления выключением гидрокранов бустеров. Я было, грешным делом, думал, что электрокран действует по принципу соленоида: обесточенный, он закрыт, а дай ток – соленоид втянет сердечник и откроет кран. Потом сообразил: а если самолёт обесточить – ведь пружина закроет кран. Надо наоборот: под током – закрыт, а обесточенный открывается пружиной, и если вдруг отказало управление – обесточь самолёт, краны бустеров откроются, и управление восстановится.
Потом один молодой бортинженер специально копался в схеме и объяснил мне, что кран выполнен сложнее. Из крайних положений он перебрасывается, преодолевая сопротивление пружины, подобно электровыключателю. И на переброс в любую сторону нужен плюс на свой соленоид. Обесточь – останется в том же положении, что и был. Так что бесполезно.
Но что же это тогда за «тройное дублирование», если один проводок умудряется замкнуть три отдельные, изолированные друг от друга, независимые и жизненно важные цепи?
Думаю, эта мысль пришла в голову не только мне, а и конструктору тоже, и он уж позаботился разнести цепи и исключить такую возможность.
Нет, скорее всего, или из пробитых гидробаков смесь вытекала в течение пяти минут, или из порванных (перегоревших) трубок. А контролировать уровень жидкости (для этого надо периодически нажимать кнопку – и тогда только прибор покажет уровень) бортинженеру было некогда. Если бы был прибор со стрелкой, показывающей уровень постоянно, или же была хотя бы лампочка критического остатка жидкости в баке, как это, (хоть и с запозданием) сделано в топливной системе, то, может быть, экипаж поторопился бы со снижением и посадкой. Но без тренировки вряд ли они успели бы снизиться с 2300 метров и сесть быстрее, чем за пять минут.
Мы, лётчики, говорим: были бы хоть какие-то жалкие дублирующие тросики управления – и сел бы экипаж. Но это противоречит тенденциям прогресса, на остриё которого Туполев взгромоздил наш лайнер, да и весь мир как-то потихоньку от тросиков отказывается. Не будем же и мы, в угоду какой-то там безопасности полётов, отказываться от мировых тенденций.
Правда, Ильюшин плевал на тенденции и оставил тяги наряду с бустерами. Но то ж Ильюшин… он рассчитывал на дурака, а Туполев – на остриё прогресса.
Что ж это за самолёт: к примеру, отказали генераторы – и падай, потому что топливо нечем качать, а самотёком не идёт, пойдёт только на малой высоте. А если над горами?
Ну да к нам не прислушиваются.
Всё дело в том, что самолёты делает МАП, а давится ими Аэрофлот. И стоят ведомственные барьеры полупроводникового типа: они нам что хотят, а мы со своими предложениями натыкаемся на стену. Жри, что дают, скажи спасибо, что хоть это есть.
Розовая мечта лётчиков: чтобы был один хозяин, чтобы конечный результат влиял и на пилота, и на перевозки, и на завод, и на конструктора. Чтобы все мы били в одну точку.
А то сейчас Аэрофлот судится с заводом, выпустившим некачественный двигатель, и суд определяет вину 50 на 50: наполовину виноват МАП, наполовину экипаж. За что? А чтоб никому не обидно было. И вдовы экипажа наверно до сих пор убеждены, что их мужей вместе с пассажирами убил молодой бортинженер, хотя на его месте не справился бы никто, а он честно исполнил свой долг, уж как мог в этих страшных обстоятельствах.
Грешным делом, и я было сначала обвинял бортинженера. А ведь он действовал адекватно этим обстоятельствам, всё выполнял как положено, да только это «всё» так обширно и противоречиво, что возможности человека не обеспечивают выполнение этого «всего» в полном объёме без ошибок.
Не виноват он.
Летали в таких обстоятельствах испытатели, летали военные и гражданские экипажи на тренажёрах, готовились, –и ни один на полосу-то не попал.
Ну, хватит об этом.
Внезапно прилетел к нам Бугаев. Пробежался по аэропорту, а на второй день собрал расширенный совет управления и партхозактив, тысячу человек, в театре музкомедии.
Приглашались все желающие, ну, и я, грешным делом, пошёл, думая, что вот, наконец-то, ясно солнышко заглянуло в наши тёмные углы.
Выступал начальник управления; я уснул под его доклад. Потом выступали командиры объединённых авиаотрядов, били себя в грудь, каялись в грехах, попутно льстили министру и выклянчивали фонды. Наш командир предприятия выступил кратко и… никак. Всё у нас хорошо, всё прекрасно, осталось вот только зелёный базар открыть, мелочь. Смеялись мы в отряде потом.
Ну, несколько человек выступили толково, критиковали недостатки, вносили конкретные предложения.
И всё время носили, носили в президиум записочки, вопросы в письменном виде, целые письма лично Самому. И у меня было мелькнула мысль, что надо было подготовить свои вопросы…
«Какой наивняк!» – как говаривал Толя Гревцов.
Выступил Сам. Старичок уже, шамкает, но без бумажки строчит, как по писаному. Говорил о делах и говорильне, критиковал руководство управления, прошёлся по всем, в том числе и по лётчикам. В общем – общие фразы о внимании к людям, о гласности, о человеческом факторе. Заикнулся, что хорошо знает наше управление, работал здесь недавно, летал… в 49-м и, кажется, в 53-м годах, на Ил-12, что ли…
Ну что ж, и на том спасибо.
И этот человек с двумя золотыми звёздами на груди, этот старичок в маршальских погонах на военном мундире, – этот дедушка, со своими замшелыми понятиями времён Ил-12, руководит Аэофлотом и будет руководить им до самой смерти…
Все ждали ответов на вопросы. Встал начальник управления и объяснил: по вопросам перспектив развития соберём желающих на той неделе – с графиками и схемами ответим. Лично – ответим или письменно, или потом, в личной беседе. Лётному составу доведём на разборах. Всё, до свидания.
Все встали, плюнули и разошлись.
Кстати, когда в Емельяновском порту женщины просили маршала, зачем здесь стоит эта депутатская, триста шестьдесят дней в году пустующая, когда у нас нет детского садика и яслей, может, её задействовать? – он ответил: «Не садитесь не в свои сани».
Ну что ж, человеческий фактор, он не только положительный бывает. А они же там рассчитывают на положительный. Или ни на что они не рассчитывают, а с новыми песнями катят по старой, доброй, разбитой дороге, – «на наш век хватит…»
Утром сегодня вернулся из Одессы. Шесть посадок, на одной и той же машине, днём, топливо везде есть, спокойная работа. Так бы и всю жизнь.
В Одессе заходил в облаках, строго выдерживая все параметры, и когда выскочил из туч на высоте 120 метров, едва не шарахнулся вправо, на какую-то расчищенную длинную светлую полосу, лежащую под углом градусов тридцать к посадочному курсу. То ли там дорогу строят, то ли новую ВПП, но очень уж она соблазняет в сложных условиях. Мысли заметались: контроль по приборам – всё нормально, а полоса-то – вот она, справа! Уже даже было собрался на второй круг, как кто-то из ребят сказал: «Огни по курсу!» Бледные огни едва просматривались, а серую полосу было трудно различить в тени.
Такой случай был у нас с Солодуном в Симферополе: чуть не сели на военный аэродром, чуть не купились, но таки хватило выдержки.
В отместку я поставил в задании заход по минимуму, занизив нижний край облаков синоптикам до 80 метров. Мне как раз не хватало захода, чтобы подтвердить минимум. Но клянусь, мне легче было бы зайти и сесть при нижнем крае 45 метров, чем когда я со 120 увидел эту проклятую ложную полосу. Так что совесть моя чиста, а штампик захода по минимуму я неправдой добыл.
10.04. Слетал в Камчатку. Проверяющим был Булах, с ним летать легко. Погода благоприятствовала, и всё шесть посадок туда и обратно удались. Весь полёт я занимался комплексным самолётовождением, так что, в общем, и спать-то не очень хотелось, несмотря на ночь туда и обратно. Но, вообще-то, полёт на восток всегда тяжёлый, сказывается разница в пять часовых поясов.
Немного после рейса поспал утром; встал разбитый. Зато – 90 р. за две ночи. Уборщице за такие деньги месяц вкалывать. Но она ночью спокойно спит, а я за свои деньги никакого здоровья не куплю. Каждому своё.
13.04. Сидим в Москве. Я верен своему принципу: по возможности жить по красноярскому режиму. Лёг в 6 вечера (22 по красноярскому) и проспал до 5 утра московского. У меня здесь отдельная комната, сдвинул две кровати, водрузил на их края ножки низенького столика, и стало возможно писать, сидя, как обычно. Ребята спят; за бортом ветер, вчера был дождь, к ночи похолодало, а здесь тепло, уют, тишина.
Вчера пришли на вылет, а ветерок на Москву встречный, а тут ещё московская зона не обеспечивает запасными; пришлось брать Горький, на тонну больше топлива, – а пассажиров уже посадили.
Лёша договорился с перевозками, они, как могли, рассосали эту тонну, и по бумагам взлётная масса как была 100 тонн, так и осталась. Делается это уменьшением ручной клади, которая на производительность не влияет, часть пассажиров пишется подростками, которые весят не по 80, а по 50 кг… Короче, есть способы.
Тем временем Женя считал топливо, и у него по этому ветру получилось на Москву более пяти часов, заправка 36 тонн, а у нас было заправлено 33,5 и дозаправили тонну.
Мы обычно летаем на Москву «севером»: через Ханты или Тобольск, но очень редко – «центром»: через Новосибирск, Омск, Челябинск. По северному маршруту есть участки с оплатой по сложности на группу выше, и это раз и навсегда определило нашу симпатию к северной трассе. Да и предварительный расчёт полёта по ней быстрее: участки измеряются сотнями вёрст, их немного; а считать югом едва хватает бортжурнала – столько там поворотных пунктов через несколько десятков километров каждый.
На этот раз струя в лоб лежала точно по северному маршруту, километров на 500 севернее новосибирского. Правда, что такое для циклона полтыщи вёрст: струе ничего не стоит опуститься на юг, а ширина её – добрая сотня километров.
Был бы хоть бортовой ветер, переданный с летевших через Челябинск самолётов, но у нас все предпочитают оплату труда по северной группе; поэтому как там, на южной трассе, никто не знал.
Пошли на метео ещё раз, проконсультировались подробнее, и нам дали ветер по южной трассе слабее, чем по северу.
Решили пересчитать бортжурнал. Легко сказать: уже пора подписывать задание, а Женя только взял чистый бланк и разложил свои штурманские снаряды. Пришлось понервничать, поглядывая на часы. Но зато удалось уложиться в имеющуюся на борту заправку; за 25 минут до вылета подписали задание. На самолёт добрались на автобусе и успели взлететь всего на 7 минут позже расчётного времени. Допускается 15, это считается – вылет ещё по расписанию, а больше – уже задержка.
На взлёте была болтанка, стрелка на АУАСП плясала, даже мигнула раз лампочка критического угла атаки и рявкнула сирена, но произошло это в процессе разгона скорости, и мы быстро ушли от болтанки вверх, в спокойные слои.
Ветер югом оправдался: вместо струи 180 км/час было всего 90-100 в нюх.
Я весь полёт вёл ориентировку по локатору, топливо не экономил, потому что из Новосибирска впереди нас взлетел и повис на 9600 однотипный. Не успели мы оглянуться, как он запросил 11600, с пересечением занятого нами эшелона 10600. Ну и прыть! Значит, пустырём летит, – и тоже на Москву, как оказалось.
Это означало, что нам не видать 11600 как своих ушей: борт висел над нами в 15 километрах впереди, видно было маячок, и расстояние между нами по миллиметрам сокращалось. Видимо, там, наверху, ветерок в лоб чуть сильнее.
Я вспомнил уроки Читы и решил всю дорогу висеть под ним, чтобы продольный интервал был в пределах 10 км. Тогда волей-неволей нас будут снижать первыми, а он уж – за нами, по мере освобождения нами нижних эшелонов. Вот поэтому и не пришлось экономить топливо, а наоборот, чуть добавить режим.
В зоне Казани он уже отстал на 10 км, мы обрадовались; вошли в московскую зону, тут он доложил Москве, что следует на аэродром МАП. Тьфу ты. Стоило бороться…
Разочарованные, стали снижаться. К моменту посадки расчётный остаток топлива ожидался 6 тонн, на час полёта; погода в Домодедове была приемлемая, но ожидался сдвиг ветра. Тут впереди, откуда ни возьмись, выскочил «Туполенок». Я всердцах упрекнул Москву, что надо бы пораньше предупреждать. Но делать было нечего: нам заход за ним, интервал 15 км, и он уже держит скорость 500, а у нас ещё 575. Помня уроки Читы, убрал заранее газы, потерял скорость до 400, заранее спросил, получается ли заход с прямой, выпустил шасси и закрылки и повис на 290; интервал удалось сохранить.
Сдвиг ветра был, особенно у земли, но я продавил воздушную подушку и принудительно посадил машину почти на три точки, точно на ось.
Когда треплет у земли, надо либо выравнивать пониже, либо – как обычно, но тыкать её мордой вниз, преодолевая сопротивление уплотнившегося воздуха между бетоном и ощетинившимся закрылками крылом. Но при этом помнить, что так можно и передней ногой коснуться.
Низко выравнивать я не люблю: может резко накренить, можно чуть ошибиться в высоте, да и не тот это самолёт; поэтому предпочитаю подкрадываться в два этапа или в один замедленный, а потом, когда замрёт, додавливаю, дожимаю подушку. Замер – и касание…
Топлива, несмотря на полёт против ветра в течение четырёх с половиной часов на 10600, осталось 6500, что и требовалось. Хорошая машина 386-я.
Прикинул сейчас за прошлый год: сколько недоспал ночей и сколько ночей не был дома. Получилось, что в 85-м году я работал 60 ночей, причём, 52 работал всю ночь, а 8 или 10 (трудно восстановить точно) пришлось вставать в 4 утра. Дома не был, включая резервы ночью, 110 ночей.
Это я учёл только те ночи, за работу во время которых полагалась оплата на 35 процентов больше, а те ночи, где оплата как днём (летом по Северу), я не записывал; но можно догадаться, что летом таких ночей много: там солнышко всю ночь светит.
Распределение этих учтённых ночей по месяцам: январь – отпуск; февраль – 8; март – 4; апрель – 5; май – 4; июнь – 6; июль – 10; август – 7; сентябрь – 2; октябрь – отпуск; ноябрь – 9; декабрь – 7.
Не ночевал дома, по месяцам: январь – отпуск; февраль – 5: март – 10; апрель – 8; май – 9; июнь – 12; июль – 23; август – 14; сентябрь – 5; октябрь – отпуск; ноябрь – 12; декабрь – 8.
Так как перед ночью надо спать, а после ночи тоже хочется спать, то ещё 30 вечеров я соблюдал предполётный отдых, не видя семьи, а 30 раз утром спал до обеда.
Выходных дней, с праздниками, за год получилось 115. Отпуска – 86 дней, но это так много потому, что выбирал заначку за прошедшие годы.
Простой советский рабочий имеет в году вместе с праздниками 110 выходных и месяц отпуска. Так что нечего тут плакаться.
Но спит он дома 365 ночей, и выходные все проводит с семьёй. Работает он днём, по расписанию, по 8 часов. Правда, есть и ночные смены, и трёхсменка, но это скорее на любителя. Но занимается он работой и отдыхом, даже спортом (если не пьёт водку) регулярно. Всё у него распланировано. И ходит он по земле.
Я имею на месяц больше отпуска и средний заработок 600 р. Имеет смысл летать. Правда, после ночных полётов жена обижается на меня как на мужчину; правда, праздников, суббот и воскресений в мои т.н. выходные попадает едва ли четверть; дочери я почти не вижу; спланировать поход с семьёй в кино, в театр или даже на дачу, – не приходится, всё урывками. Но мне за это неплохо платят, да и пенсию рано дают. И спорт, и регулярные занятия физкультурой при таком отсутствии режима исключаются. К 60 годам рабочий ещё вкалывает и зарабатывает прибавку к пенсии… а я умру от инсульта или инфаркта.
Но я привык к такому образу жизни. Да, летом тяжело: вот в июле не был дома 23 дня, а выходных наскреблось 6, да день на разбор, да один вечер – добровольно-принудительная народная дружина. И на даче я был за всё лето едва дней 10. Зато зимой – в феврале 17 выходных, в марте – 18 (правда, неделю выкинуть на занятия к ВЛП). Зачем тот отпуск?
Кто силён духом, тот выбирает беспокойную жизнь. Правда, не у всех духу надолго хватает, но тут уж действует инерция, да и никуда ж не денешься.
И потом: кроме всего прочего, я же ещё немножко и летаю в небе.
14.04. Из Москвы летели с инспектором УЛС, штурманом. Слава богу, не лез, не вмешивался. А нам хватало забот и без него. 178-я машина не лезла вверх. Мало того, что из правого кессон-бака на земле ручейком подтекал керосин (при полной заправке у нас это частенько бывает). На эшелоне машина встала крестом; на режиме с расходом 6600 кг/час число «М» было меньше 0,8, угол атаки стоял 5 градусов. За бортом жара, но подхватила нас попутная струя, и я поддерживал М=0,81 весь полёт, правда, для этого потребовался значительно больший, чем обычно, расход: не 6000, а 6600; скорее всего, врали расходомеры.
Как только взлетели, выработали чуть из третьих баков, течь прекратилась. Причина её – негерметичность винтов на верхней панели крыла; все мы знаем об этом и не боимся, но запаникуй проверяющий – машину надо ставить, будет задержка на экипаж. А в общем-то, надо, конечно её ставить, герметизировать бак. Ну, тянут до очередной формы. Правда, третьи баки нам редко доводится полностью заливать, а когда они пустые, течи нет. Да и течь-то пустяковая: пара литров. Дело обычное.
Новая лента-карта опять доставила хлопот. На ней расчётные магнитные путевые углы (МПУ) отличаются от наших, проверенных, внесённых в старые добрые палетки, – отличаются где на один, где на два, и даже на три градуса. Какой курс брать, чему верить?
Я не вылезал из локатора, благо, хороший попался. Локатор – великая вещь. Так, с его помощью мы убедились, что навигационно-вычислительное устройство (НВУ) уводит нас влево.
По ряду признаков, понятных посвящённым, стало, наконец, ясно, что врёт всё-таки новая, на ЭВМ рассчитанная лента-карта, а правильные МПУ – на наших старых палетках, по которым летаем всю жизнь. Стали выставлять ОЗМПУ на градус-полтора больше, чем на ленте-карте, а для пущей точности учёта угла сноса пошли в автомате.
Я всё контролировал по локатору. И вот вошли в зону Колпашева, скорректировали НВУ по колпашевскому РСБН: всё соответствовало полёту строго по трассе. Я всё искал засветочку от Колпашева на экране, и вдруг нашёл… но не на боковом удалении 47 км от нашей линии пути, как положено, а где-то аж на 95 отбивалось светлое пятнышко города.
И данные РСБН вдруг тоже показали, что мы за какие-то 5-7 минут уклонились влево на 50 километров!
Колпашевскому диспетчеру было не до нас. Через точку шла группа красноармейских самолётов, и мальчишечьи ломкие голоса, неуверенные фразы, просто гвалт в эфире выдавали едва оперившихся лейтенантов, как птенцы за наседкой, гуськом стремящихся за лидером группы.
Вот за ними и следил в оба диспетчер, а мы, пригасив свет в кабине, усилили осмотрительность, тем временем лихорадочно и тайно от проверяющего принимая меры к выходу на линию пути, – и к траверзу Колпашева как раз успели.
Инспектор сзади не спал, а просматривал содержимое Жениного штурманского портфеля, вполглаза поглядывая на «Михаил» – уж траверз Колпашева и боковое 47 км он проконтролировал наверняка.
Вот тебе и автоматика. Курс у нас железно держал автопилот – с каким курсом вошли мы в зону, с таким и уклонились, а выйдя на линию, вновь взяли тот же курс и благополучно вышли на Максимкин Яр. Значит, где-то был кратковременный увод, – но как мы не заметили? Как будто чудом взяло нас и переместило на полсотни вёрст влево от трассы. Это ж хорошо, что я следил и поймал по локатору Колпашево.
А ведь отпуская нас из своей зоны, Васюган подтвердил нам, что мы точно на трассе, и колпашевский диспетчер принял нас тоже точно на трассе.
В зоне Енисейска перед снижением перевели курсовую, и тут отказал БГМК: после выставки ГПК не выставлялся магнитный курс на ИКУ. Мелькнула мысль об отказе БГМК, но думать было некогда: мельком сверив показания резервных компасов, «бычьего глаза» и КМ-5, я убедился, что главное – ГПК – выставлен правильно, пилотировать будем по нему, ну и бог с ним, с ИКУ. Быстро карту! Женя замешкался; я прикрикнул: «Срочно!» Он бросил всё, зачитал контрольную карту; малый газ уже стоял, скорость падала, и мы рухнули с 10100 по 30 м/сек, потому что и так уже запаздывали на пару минут, а попутная струя всё ещё быстро несла нас вперёд.
В процессе снижения Женя догадался перещелкнуть тумблер БГМК, одновременно об этом же заикнулся проверяющий. И всё заработало. Значит, не контачило в цепи. На ходу согласовали ИКУ, и я отдал управление Лёше. Возникла мысль: а может, это как-то связано с уклонением в районе Колпашева?
Но думать было некогда. Приближалось Горевое, надо было пройти его не выше 3000. По данным красноярского РСБН выходило, что до Горевого ещё где-то 25 км, АРК безбожно врал, но всё же показал, что мы где-то правее.
Опять я не выписал данные РСБН для Горевого, опять определяли пролёт на глазок. И естественно, опять прошли выше, но Лёша сумел снизиться в развороте над Горевым, идя по пределам.
Заход был на 108, это при попутной струе хуже, чем на 288, и надо бы Горевое проходить ещё ниже. Короче, снижались на лезвии, не имея при этом возможности контролировать себя по ленте-карте: так уж она устроена, эта, шикарная на маршруте, но бесполезная на кругу карта.
Еле успели занять 1000 к четвёртому, это на 400 м выше, но вовремя выпустили шасси, ощетинились механизацией крыла и потеряли лишнюю высоту в процессе разворота. Как всё-таки иной раз пригождаются навыки снижения на лезвии пределов.
Лёша стабилизировал все параметры в районе дальней и посадил машину точно на знаки, но метров пять левее: зевнул крен на выравнивании, стащило.
На разборе инспектор сделал ряд мелких замечаний по суете. Знал бы он подоплёку этой суеты…
Надо выписать и использовать координаты контрольных точек по РСБН.
Заход в Емельянове осложняется тем, что РСБН («Михаил») стоит не здесь, а в Северном, за 27 км, и даёт азимут и дальность не от Емельянова, а от Северного. Конечно, легко и просто контролировать место самолёта, если РСБН стоит рядом с полосой, куда садишься. Всё ясно: сколько километров осталось, какой азимут, куда подвернуть. А мы вынуждены учитывать поправку между Емельяновым и Северным на глазок.
Когда подходишь с запада, то просто вычитаешь 27 км, т. к. Северный расположен восточнее Емельянова. Когда с востока, то прибавляешь 27 км, а курс держишь на привод Северного, занимаешь 1500, а там уже и четвёртый разворот – да идёшь-то почти в створе полосы.
А вот с севера и с юга учитываешь, что дальность – это гипотенуза, а ты идёшь по катету; считать надо в уме, быстро, прикидывать поправку: где 15, где 20 км. А уж при маневрировании в районе аэродрома приходится очень чётко представлять себе всю картинку и своё место на ней, глядя на бездушный прибор, показывающий азимут и дальность от Северного.
Даже, допустим, и зная удаление и азимут того же Горевого, но находясь не на том удалении и чуть-чуть на другом азимуте, – как ты определишь, в какую сторону и на сколько подвернуть, чтобы через оставшееся до пролёта Горевого расчётное время выйти точно в точку с теми, записанными координатами.
НВУ всё это учитывает: включаешь коррекцию по РСБН, и индекс самолёта на ленте-карте точно подъезжает под твоё фактическое место. Но это в теории. А на практике мы не раз убеждались, что врёт. Короче, нужен глаз да глаз, контроль по резервным средствам, надо соображать и быстро действовать в трёхмерном пространстве. Надо вертеться.
Весь этот полёт лента-карта врала безбожно, коррекция по РСБН только дезориентировала, а когда не веришь ленте-карте, приходится летать дедовскими способами. Слава богу, я их не забыл. Штурман штурманом, а я, командир, должен соображать за всех.
Но неприятно, когда вся машина раздолбана: вроде всё и работает, а вроде бы и нет, и особо не придерёшься, и веры нет. Дерьмо самолёт попался.
17.04. Вчера поймал мысль, да не было условий записать. Сегодня остались обрывки.
Смысл в том, что любое дело начинается с теории. В тиши кабинетов, вдали от жизни, с выкладками и формулами, опираясь на фундамент науки, на её принципиальные положения, рождается идея. Претерпев муки внедрения, в соответствии с возможностями техники и технологии, идея доводится до исполнителя. В конечном счёте, на уровне исполнителя, всё сводится к какой-то операции, и дело чести конструктора – так создать агрегат, чтобы он работал автономно и управлялся простым нажатием кнопки.
Я вот так понимаю связь науки и грубой практики. Я практик, и таковы мои требования к науке. Чтобы железо делало своё дело, а я наблюдал, контролировал, мог вмешаться и отключить, – вот моя функция.
Если курсовая система (точная курсовая система ТКСП) работает так «точно», что хотя на маршруте погрешность её полградуса в час, но на самом ответственном этапе полёта – перед посадкой – с нею надо возиться всему экипажу и дедовским способом, вслух, отсчитывать хором «десять, двадцать, тридцать» – то это несовершенная с точки зрения лётчика система. Весь полёт считай поправки, учитывай магнитное склонение, широту, схождение меридианов, сравнивай показания КМ, ИКУ, ГПК - с «бычьим глазом» времён адмирала Ушакова… да ещё и в конце введи поправку не в ту сторону, – вот тебе и вся «точность».
Но мало того. Всякую теорию можно развить до абсурда. Не побоюсь повториться: работа лётчика требует кратковременности и максимальной простоты операций. Все действия должны сводиться к простому «включил-выключил» А нам предлагают кучу формул, требуют на зачётах и экзаменах. Когда нам их в полёте считать?
Сидят люди где-то на стыке голой теории и реальных полётов и умствуют.
Может быть, во времена По-2 такая теория развивала мыслительные способности здоровых и жизнеспособных, но, что греха таить, туповатых лётчиков; я таких знавал и знаю немало. Но сейчас мы все вроде грамотные, а обилие теории, с нашей-то современной работой, лишь перегружает мозг. Когда счёт на секунды – тут не до теорий и формул.
Меня бы больше устроила такая ТКС, которую включил перед полётом – и выключил после полёта. Вот – поле деятельности для науки.
Весь крещёный мир летает по другим системам. Опальные и охаянные «Боинги» используют какие-то инерциальные системы. А мы на Ту-154 всё летаем дедовскими способами, используя выброшенные красноармейцами в утиль дедовские системы. Спутники летают, но как же трудно привязать к ним Аэрофлот.
Зато как удобно сидеть в кабинете на стыке теории и практики и умствовать на надёжную, обкатанную тему: как назвать суммарную поправку в конце полёта. Мне, пилоту, плевать, «поправка» это или «вилка», или ложка, или ножницы. Мне важно, чтобы её вообще не было.
Но тысячи людей заняты осмыслением, обсуждением, утверждением, размножением, пересылкой, доведением, приёмом зачётов, докладами, контролем докладов, контролем контроля, – над тем, как назвать: поправка или вилка.
А мне, повторяю, глубоко плевать.
Я летаю два десятка лет. И с полной уверенностью могу утверждать: полёты на сто десять процентов выполняются людьми, и сотой доли не знавшими, забывшими, не использующими всю эту теоретическую премудрость.
Наше РЛЭ весит 5 кг, но 4 кг 900 г в нём – чистое «Г». Лишние графики, повторения, запятые, – всё для прокурора: что мы же, товарищ прокурор, всё-всё предусмотрели, описали, оговорили на все случаи жизни и довели до потребителя – с нас взятки гладки.
Я же использую три десятка страниц, а ещё три десятка помню на особый случай.
И всю теоретическую лавину мы, лётчики, анализируем и с крестьянской хитрецой делим: это можно сократить, это даёт полпроцента точности, не учтёшь по прибору, – можно упростить, это вообще не используется – можно выкинуть… до зачётов, естественно.
Единого слова ради мы ворошим весь этот теоретический, правильный, но бесполезный в полёте хлам. Но если слово найдено – это надёжно вбивается в память. Это мы и будем использовать.
Трещат интегралы, летит на свалку памяти, корчится в судорогах теория, но мы везём пассажиров, опираясь на выверенное, выстраданное, сведённое к элементарным операциям знание, – то, что составляет бесценный коллективный практический опыт.
Ну, а на зачётах будем корчиться мы, наука кратковременно восторжествует.
28.04. Я два года как не провезён на Львов. Летал туда раньше на Ил-18, но это не в счёт. И вот, наконец, поставили в план. Рейс хоть и не из лёгких (туда ночь, обратно ночь, а отдых днём, 12 ч. с самолётом), но всё же это не Камчатка с её тремя посадками в один конец.
В последний момент произошли изменения: Львов понадобился Антону Ц. (он теперь начальник инспекции управления), значит, будет провозить меня он. Попутно понадобилась проверка Лёше, только что прошедшему годовую комиссию.
Так что до Уфы сначала летел Лёша. Садился, правда, Антон: перелетел, просвистел метров 800, сел чуть с креном и долго держал реверс, замешкавшись с выключением, потому что конец полосы был близок. Он ведь недавно ввёлся в командиры и тут же был повышен до зам. ком. ЛО и следом сразу – до начальника инспекции. Во время ввода инструктор его не очень хвалил за пилотирование, вот он и набивает руку до сих пор. А так мужик грамотный, окончил академию заочно с отличием (а поступали мы туда вместе, ещё в Енисейске, в 71-м году).
От Уфы летел я. Надо ж было показать себя. Мы знаем друг друга лет 18, но вместе летать не пришлось; так что нынче я старался. Правда, снижались торопливо: Женя как всегда замешкался с писаниной (а там, на Украине, в теснотище трасс, это и немудрёно), а диспетчер дал на Золочев не 6000, что было бы разумно, а 4200, что диктовалось обстановкой. Пришлось падать по пределам, и у меня пару раз сработала сирена предела скорости, хотя оба раза был запас 5 км/час.
Заход во Львове с обратным курсом, по РСП+ОСП, и крутая глиссада, но я строго следил за всем и зашёл чётко. Машина замерла на метре и не хотела садиться. Выждав положенные секунды и понимая, что подъёмная сила начала уменьшаться, я чуть добрал. Ещё секунду, лишнюю секунду пролетели; странно: должна бы коснуться. Наконец, лёгкое как вздох касание, посадка на 7… и помчались под горку. Тоже пришлось подержать реверс, вплоть до скорости 120.
Может, для этого и провозка нужна: я за семь лет забыл уже, что там же полоса вогнута, а с этим курсом она чуть под уклон. Вот и лишние секунды: я жду касания, а бетон уходит из-под колёс, и самолёт, на самом деле чуть снижаясь, идёт параллельно уклону.
Нет, дело не в провозке, а в некачественной подготовке к полёту: высоты порогов ВПП есть в сборнике, а мы, грешные, смотрим обычно только длину и ширину полосы, рулёжные дорожки, схему захода, посадочные системы, минимумы, высоты приводов, препятствия, уход на второй круг, ограничительные пеленги. Сравнил бы высоты порогов и понял бы, что есть уклон. Для пилота первого класса это понять нетрудно, ну, чуть поднатужиться… да заставить себя лень, вот в чём дело.
Все эти нюансы вполне укладываются в наши нормы, и претензий ко мне – за лишние три секунды и перелёт 200 м – не было.
Львовский аэропорт встретил нас откровенным равнодушием и атмосферой полного безразличия к собственно работе. Львов, бывший польский город, всегда был городом спекулянтов, и мы просили рейс сюда отнюдь не из-за желания полюбоваться его историческими памятниками. Я, например, искал хвалёные импортные наручные часы с музыкой: подарок дочери к окончанию школы. Говорят, там можно найти добротные импортные кроссовки «на липучке». Запчасти для «Москвича» там тоже бывают. Так что дела…
В аэропорту обычно сразу же предлагали часы пачками – это их работа, а встретить рейс – досадная необходимость. Ни дежурной, ни автобуса, ни встречающего на стоянке… В АДП ремонт, разруха, безразличие ко всему, кроме торговли. Может это оттого, что все надежды предприятия возлагались на Як-42, а он что-то не идёт, и всем всё до лампочки в ожидании перемен, как и у нас. Но такой аэропорт сразу видно: атмосфера самотёка, безразличия, наплевательства и инерции так и охватывает тебя. То ли дело Сочи или Магадан. Там всё совсем по-другому, там всё вертится.
Насчёт часов нас сразу осадили казёнными словами, и стало ясно, что что-то не так.
Потом выяснилось, что два дня назад сотрудники ОБХСС, переодевшись в форму лётчиков, провели рейд и накрыли с поличным известное количество проклятых спекулянтов; теперь нас побаиваются.
Всё же добыл я в течение дня двое часов моим женщинам, в подарок к 1 Мая. Потом подремали часок – и обратно на вылет.
Назад я летел до Уфы, сел – ну один раз на тысячу. Антон что-то там ручонками упирался, не давал выйти на ось, но я его пересилил и сел как мне надо, и он потом уже понял.
От Уфы до дома я отдыхал.
Характерно, пассажиров в Уфе настолько, видимо, тронула такая посадка, что когда я вышел в салон, отовсюду посыпалось обильное «спасибо»; я постарался поскорее прошмыгнуть к выходу, было неловко. Обычно пассажиры не шибко щедры на благодарное слово, и я по проходу иду, глядя себе под ноги, как бы не запнуться за что. А тут меня поразило: всё же люди понимают и ценят мастерство.
Ну да нечего хвастать, мастер. Завтра же выпорют, у нас не заржавеет.
В газетах массовая критика всего. Вскрываются дикие вещи. Читая это, просто удивляешься: а чем же это мы так сильны? Как это проклятый Запад ещё не раздавил нас?
Вот передают: на утверждение новой оправы для очков (за рубежом это недельный срок) у нас требуется собрать 64 подписи в 11 министерствах и ведомствах – в течение года. Куда же дальше-то идти.
Я иной раз ною, дурная черта характера. Но вот каждый день, уже несколько лет, я езжу мимо строящегося моста через Енисей. Что чувствует любой его строитель? То дело стоит из-за плохого планирования, то из-за нехватки чего-то, раствор бар, кирпич йок, то какие-то свои, специфические трудности.
Но пройдёт полгода, может, год, человек оглянется и скажет: вот – я построил этот мост. И он переживёт и меня, и детей моих. Вот – мой труд, вот моя польза людям, вот – главное! А мелочи, неувязки, неизбежны везде.
Так и моя жизнь. Главное – моё Дело, лётная работа. Оглянусь и спрошу себя: а много ли я сделал для людей?
Через три недели я встречусь с выпускниками-одноклассниками в нашей старой школе, через 25 лет после выпускного. Честно, мне не стыдно будет взглянуть им в глаза. Дай бог каждому так поработать, как довелось мне, и так много сделать, и так гордиться своим Делом. Уж я-то не скажу: «да вот… тихонько себе ковыряюсь…» Я не ковыряюсь, мною дыры не затыкают, я не на побегушках, не пришей-пристебай, не числюсь где-то, не примазываюсь. Вот это – работа! Вот это – место в жизни!
Я – пилот. Завидуйте!
7.05. Позавчера вернулся из Камчатки. Летал туда самостоятельно, как ни странно. Да, собственно, странного и нет: какая там рыба в мае. Вот когда пойдёт новая рыба и икра, тогда проверяющие будут рвать этот рейс.
В рейсе этом утомляет посадка и сидение в Якутске. Вот уж дыра. Взять хоть Магадан: кажется, край света, а организация дела там прекрасная. Якутск же для меня всегда был символом старья. Всё там старьё: и вокзал, и полоса, и техника в аэропорту, и сам город. И такое впечатление не меняется ни от того, что уже сдана новая современная полоса рядом со старой, ни от того, что рядом со старым деревянным вокзалом налепили ряды новых, барачного типа, сараев и казарм. Полюс холода явственно чувствуется во всём, а главное – в работе. Никто никуда не торопится. Единственный наш большой самолёт отнюдь не бросаются обслуживать вперёд всех. И стоянка здесь запланирована большая – из расчёта на якутский темп работы, что ли. Всем на всё наплевать, хуже Львова. Сидишь, ждёшь, зла не хватает, а сон наваливается, натекает… а ночь идёт себе.
В этот раз затуманил Магадан перед восходом солнца, и пришлось скрепя сердце задержать рейс на часок. Прогноз был лётный, но фактическая погода – туман 200.
Для порядку посидели час, коротая время за анекдотами в штурманской. Туман в Магадане не рассеивался, но солнце там взошло, ветерок был не с моря; опыт подсказывал, что это не заток языка с воды, а радиационный туман, а значит, скоро рассеется, и пора, пора вылетать. Дал команду сажать пассажиров, рассчитывая, что взлетим через час, и если, вопреки ожиданиям, к прилёту всё ещё будет туманить, уйдём в Елизово, отдохнём свои 12 часов, а немногочисленных магаданских пассажиров завезём на обратном пути, благо, загрузка небольшая, хватит места.
Или уж ждать здесь, пока рабочее время кончится?
Якутск сажал пассажиров два часа. За это время погода в Магадане прояснилась, и мы быстренько перепрыгнули через горы. Рабочее время было на пределе, но образцово-показательный, на краю света расположенный Магадан не дал и рта раскрыть, упреждая самые благие наши намерения, и через час с небольшим мы уже воспарили над магаданскими сопками и взяли курс через Охотское море на Камчатку.
Хотелось спать, солнце било в глаза, уже и в Красноярске наступило утро, и я, каюсь, провалился на пятнадцать минут, как раз на столько, чтобы, проснувшись, увидеть на краешке экрана берег Камчатки. Пора было готовиться к снижению.
Погода звенела, заходили визуально. Я лениво шевелил рулями, разглядывая красоты Авачинской бухты; солдатик на пеленгаторе надрывался, давая нам «прибой», но это не мешало благостному настроению, предвкушению уже недалёкого отдыха. Кричи, кричи, солдатик: служба идёт…
У земли был сдвиг ветра: трепало, кидало, стаскивало, – но это Камчатка. Сел, никуда не делся, а спина высохла уже на пути к гостинице. Волочил ноги и с внутренней улыбкой вспоминал, как, впервые идя с завода, чумазый, с грязными руками (чтобы все видели – рабочий!), напевал: «Я шагаю с работы устало…» То была не усталость, а баловство.
А здесь надо было ещё ехать за какой-никакой рыбой в Петропавловск, набегаться, натаскаться, а уж потом добраться до кровати и упасть, совсем без сил, и спать беспробудно до самого подъёма, с чувством удовлетворения, что рейс окупился, что добыл необходимое.
Рейс не окупился, потому что из-за нашей задержки мы примчались на такси к «Океану» через десять минут после закрытия: в воскресенье он работает до 16 часов. Плюнули, купили в ближайшем гастрономе соленущей горбуши и вернулись в Елизово.
Позарился я в местном магазине на любимые конфеты «Кара-Кум», взял по полкило: биробиджанской и хабаровской фабрик. И зря. Евреи крадут сахар и заменяют его, по-видимому, соей, а хабаровчане, наоборот: кладут сахару много, а вместо ореха какой-то горелый жёлудь. Это тебе Дальний Восток, а не Ленинград.
Думаю, любимые конфеты будут долго валяться у меня в серванте. Попробовал закусить ими напёрсток коньячку (да простит меня Горбачёв) – получился тот редкий случай, когда два хороших вроде компонента, соединившись, дают дерьмо. Может, это вклад биробиджанцев в борьбу за трезвость, на чуть более высоком, чем «Агдам», уровне.
Назад долетели без приключений, быстро, все посадки удались, сэкономили 4,5 т топлива, и в восемь утра я, дёрнув коньячку, уже был в постели и проспал до 14 часов.
А вчера слетали в Благовещенск с разворотом. Я этот рейс люблю. Хоть и встаёшь в 4 утра, зато в 6 вечера уже дома. Согласен был бы летать туда через день, по 10 рейсов в месяц: 65 часов. На Камчатку теряешь трое суток, учитывая отдых до и после, а налёт 11.30. Правда, Благовещенск нынче получился с задержкой, вернулись ночью.
Самый высокий КПД у дневных рейсов с разворотом. Хуже ночная Москва или Хабаровск, там приходится терять на сон день до и день после ночи. С утра на дачу после рейса уже не поедешь, так, переводишь дома день до вечера.
Вот и сегодня: ночной Норильск. Я спал до 10 утра, отдыхая за вчерашний недосып, а через несколько часов надо ложиться спать перед Норильском. Но такова судьба пилота лайнера. Это на Ан-2 лётчики спят ночью.
В Благовещенске, сидя в штурманской, я тепло гляжу на мальчиков, вторых пилотов Ан-2, старательно рисующих заострённой спичкой барограммы и считающих на линейке безопасную высоту. Вот таким же был и я лет двадцать назад. А они поглядывают на мои погоны, на седые виски, и мечтают… Так вот незаметно стал я мэтром, занять место которого с затаившимся дыханием согласен любой из этих зелёных мальцов с ребячьей шейкой и полутора лычками на узеньких плечах. Долетаете ли вы до моих лет? Спите, спите ночью, берегите здоровье… и для женщин своих тоже.
В штурманской разговоры о повышении пенсии лётному составу. Вроде уже точно кто-то где-то чего-то слышал: с 45 лет значительное повышение…
Сколько существует аэрофлот, столько и обсуждается эта голубая мечта пилота: чтобы пенсии хватало, чтобы на земле не унижаться.
Не знаю, хватит ли меня ещё на три года, но если окажется так, что с 45 лет пенсия получится рублей 150, имеет смысл до неё долетать. Если же пенсия увеличится всего на несколько рублей, то и жалеть не стоит, и вылазить из шкуры за несчастный червонец нет смысла. Но каково мальчикам с тонкими шейками. Им на новой технике и в новых условиях до 45 не долетать. Это не на Ли-2, где люди держались и до 64 лет, их силой выпихивали на пенсию.
Тех, кому под 50, эти вопросы не волнуют. Им, связавшим всю жизнь с полётами, терять нечего, и на земле им делать нечего. Сомневаются и волнуются сорокалетние, у кого ещё есть надежда начать на земле новую жизнь.
Во всяком случае, я настраиваюсь на работу на ближайшие годы. И с точки зрения пенсии, и с точки зрения устройства Оксаны, надо ещё полетать. Слава богу, на «Ту» я уже седьмой год, из них четыре – командиром. Недоспать ещё ночей двести, а там видно будет. Итак, порог мой – 45 лет, было бы здоровье.
14.05. Слетали в Ростов. Отдохнули, отоспались. Полёты нормальные.
На обратном пути при заходе в родном порту с прямой откуда-то влез перед нами Ил-62, и мы заспорили: выпускать ли заранее шасси и механизацию, чтобы отстать от него, или всё же он и так успеет сесть, развернуться на полосе, дорулить до 3-й РД и освободить полосу.
Я был за перестраховку, хотел за 40 км выпустить шасси и подвесить самолёт: всё-таки дистанция 18 км – не так уж и много, а известно, как медленно разворачивается огромный лайнер после посадки.
Лёша считал, что выпускать шасси рановато: успеем и так.
Встал вопрос: власть употребить или же дать возможность и ему, и мне убедиться. На худой конец, уйдём на второй круг, сожжём тонну, но экономия у нас и так большая. И я решил выждать.
Лёша, молодец, дождался, пока Женя построит S-образную змейку, чтобы ещё отстать, а потом уже оперативно ощетинил и подвесил машину.
В результате дистанция хоть и сократилась до 13 км, но расчёт оправдался: борт освободил полсу за полминуты до нашей высоты принятия решения.
Мой вариант дал бы запас километров пять, а это 200 кг сожжённого топлива при выпущенных шасси и закрылках. Так что в данном случае оказалось выгоднее не рубить сплеча.
Всё набиваем руку. Так, по крупицам, вырабатывается лётная интуиция.
В Челябинске садились в сильный ветер, дувший прямо по полосе. Обещали порывы до 20, но в момент посадки было всего 14 м/сек. И всё же, как только я за 50 м до знаков поставил малый газ, машина тут же и плюхнулась.
Ветер есть ветер. Он выбирает все запасы. Без ветра мы бы просвистели метров двести, а тут только успел чуть подхватить, как уже покатились.
Мы настолько привыкли к боковому ветру, что справляемся с ним уверенно, зная все его подлые качества и используя против него преимущества нашей аэродинамической схемы. И так же отвыкли от ветра в лоб: как-то так получается, что все полосы лежат не в розе максимальных ветров (уж как проектировали их – наверно, как наше Емельяново). Поэтому и опасен сильный встречный ветер: порывом может и подбросить, и присадить до полосы.
20.05. Все последние дни живу в подготовке к предстоящей 24-го встрече выпускников. Мечтаю… И хотя опыт жизни подсказывает, что обычно мечты разбиваются о прозу жизни, что всё будет проще и приземленнее, всё равно, как-то готовлюсь к прекрасному. Что я скажу, что приобрёл за эти годы? Чем поделюсь, что передам, что главное? Двадцать пять лет – это много. Какими мы стали?
Но мечты мечтами, а жизнь продолжается, и сегодня даром пропадает день – сижу в резерве. Если никуда не поднимут, то завтра свободен. День пролетит в последних хлопотах, а вечером улечу в Москву, постараюсь уехать в ночь харьковским поездом.
27-го уже с утра снова резерв, надо успеть вернуться. Спасибо, хоть и с хлопотами, но сумели мне в эскадрилье найти окошко в полётах.
Вчера слетали в Благовещенск. К моменту возвращения рейса в Красноярск (12.00) наш аэропорт как раз открывался после ежедневного двухчасового ремонта полосы. Надо учитывать ветер на эшелоне, чтобы, соответственно, поточнее назначить время вылета из Благовещенска.
В этот раз ветер на высоте был сильный западный, и мы рассчитывали пройти обратно за 3.30. Соответственно, вылет на 8.30. Так и взлетели.
Все бы хорошо, но опыта полётов с подгадыванием точно к определённому времени у нас нет, да и неоткуда ему взяться: летаем чем скорее, тем лучше. Вот и на этот раз: при подлёте к Богучанам оказалось, что ветерок нам в лоб чуть ослабел, и расчётное время прибытия получалось в 11.55. Ну что: затянули газы, подвесили машину, начали снижение пораньше. Учитывая, что самая сильная струя где-то на высоте около 9000, переползали эту высоту долго, снижаясь всего по 8 м/сек, чтобы нас притормозило.
Долго, очень долго снижались, до того долго, что еле хватило терпения: Лёша так и порывался снижаться с разгоном. В конце концов, потеряли эти пять минут, даже шесть, спохватились, и дальше, разогнав машину, снижались как обычно, на скорости 575. Сели в 12.01, перелетав против обычного пять минут. Сэкономили 4 т топлива. Полтонны из них подарили следующему экипажу: им до Москвы пилить против струи, не помешает.
28.05. Слетал в Волчанск, встретился. Встреча получилась даже лучше, чем ожидал. Из 31 выпускника приехало 27! Даже и не мечтал о таком счастливом дне в моей жизни. Впечатлений слишком много.
Но так как дневник мой освещает, в основном, работу, то скажу лишь, что встреча отчётливо показала мне моё место и роль в жизни. Каждому человеку надо оглянуться в середине пути.
Вчера слетали в Благовещенск. Это мой постоянный рейс. И на этот раз: обычный полёт, только на взлёте обратно мешала гроза, надвигающаяся из-за границы. Но мы сумели перехитрить её и ушли, едва зацепив край дождевого столба: всего несколько капель размазало по стеклу.
Назад садился Лёша. Сколько он ни производил посадок, всегда исключительно мягко – закваска старая, самолюбие и талант пилота. Но выравнивает одним махом и низко, так, что я через раз хватаюсь за штурвал. Я так в себе не уверен, перестраховываюсь. Конечно, разложить машину я не дам, разве что дело закончится козлом. Но уже скоро год, а бог миловал. Такой вот у него почерк, и зачем мне этот почерк старому пилоту ломать. Надёжный пилот, осмотрительный, старый волк.
Вышел указ о борьбе с нетрудовыми доходами. Много-много слов. Но начинать-то надо с тех, у кого многоэтажные дачи, «Волги», золотые унитазы, – так ведь они сами-то и должны начать эту кампанию. У Рашидова покойного какая дачка была? Ох, что-то не верится мне, что сильные личности начнут шерстить всяких крупных деляг. Ведь деляги эти добывают им золотые унитазы, прочие недоступные блага, устраивают детей в престижные институты, престижно же потом распределяют на работу, радеют за престижных знакомых, выручают, когда их детки нагрешат… да что говорить. Мафия.
Если и зацепят кого, так всяку шерсть: торгашей, автосервис, службу быта, рынки. Но и то хлеб, всё ж легче станет дышать.
Я бы всё-таки ввёл поголовно декларации о доходах. Но разве ж заведующий базой сможет втиснуть жадное своё брюхо в прокрустово ложе декларации. Нет, это сложный вопрос, и, пожалуй, тут как нигде власть имущие боятся перегнуть, потому что в жизни везде власть в руках у людей, которые её используют отнюдь не для аскетического образа жизни. А у них – опыт руководства, они пашут, правда, пашут, считая, что за эту каторжную пахоту они имеют право на навар.
Очень это сложно. Тут принцип может и навредить.
Ладно, посмотрим, как прижмут хотя бы торгашей. Как купленный-перекупленный работник народного контроля, ОБХСС, или прокурор, будет применять к ним санкции. А некупленного или купят, или уйдут.
Мне трудно представить честного-пречестного контролёра, единственное чадо которого устраивает в престижный вуз скромный заведующий базой. Трудно представить мне, что этот самый контролёр будет дотошно проверять эту базу. Я уже объяснил почему. Судьба ли единственного ребёнка, возможность ли приобрести давно лелеемую в местах дорогую вещь, – торгаш найдёт болевую точку, найдёт и умело надавит, и купит тебя с потрохами, контролёр. И ты умело обойдёшь то, что обязан был найти на той базе.
30.05. Вчера слетали в Норильск, нормально. Назад садился Лёша, в болтанку: еле слышная посадка, но ощутимое опускание передней ноги. Я и туда, и обратно почему-то плохо видел расстояние до бетона: касание казалось мне преждевременным, неожиданным. Это иногда бывает, но причины назвать не могу. Вот поэтому я всегда и подкрадываюсь к полосе.
2.06. Камчатка. Похоже, за мной закрепляют эту некогда престижную трассу. Конечно, не без некоторых издержек. Надо завезти экипаж для смены, т.к. началось лето, увеличилась частота рейсов.
И вот мы везём Хатнюка, он погонит рейс обратно, а нам сидеть три дня в Елизове и ждать смену. Ну да отдыхать – это не летать. Посидим, полежим, отоспимся. Я предложил ребятам жить по красноярскому времени, чтобы не сбивать биоритмы; по крайней мере, мне так легче. Согласились.
Зимнее расписание в переходный период неудобно тем, что к моменту посадки в Якутске в Магадане начинается предрассветный туман, и поневоле делаешь задержку. И в этот раз пришлось задержаться на три часа, которые мы с экипажем Хатнюка проспали в новой гостинице. Проснулись с трудом: по красноярскому времени 5 утра – самый сон.
Нам было легче, чем Хатнюку: ему-то по прилёту в Елизово тут же гнать рейс назад, а у нас впереди трое суток отдыха.
В Магадане сели уже утром 1-го. Новое расписание вступило в силу, и пунктуальные магаданцы перенесли вылет рейса на три часа, согласно этому новому расписанию. Естественно: у них уже давно проданы билеты на Камчатку на это новое время. Пришлось в ожидании валяться на креслах в салоне, но задремать не удалось. Если бы ещё в этом долбаном-передолбаном Якутске знать заранее, что в Магадане уже заложена законная задержка, то зачем бы нам вылетать в Магадан с первым улучшением погоды. Спали бы себе ночь в Якутске. Пассажирам всё равно, где толкаться, но ведь только где-то приткнулись, задремали, как уже посадка, и снова на ногах, у стойки, на досмотре, в накопителе. И в Магадане то же самое.
В Елизове новость ждала уже Хатнюка. Цепная реакция разгильдяйства в Якутске продолжалась: там на обратный рейс продали билеты по старому расписанию, и Якутск слёзно умолил Москву разрешить, только 1-го числа, выполнить рейс по старому расписанию, т.е. с отдыхом экипажа 12 часов в Камчатке. И Хатнюки пошли с нами спать.
Потом, естественно, в Магадане наступил вечерний туман, и экипаж сперва дёрнули на вылет, а потом снова отправили спать, и улетели они лишь утром.
Я не знаю, каким образом влияют выдуманные человеком часовые пояса на эти самые биоритмы, но красноярский режим здесь не особенно помогает: клонит в сон всё время. Вроде бы, как я уже говорил, моему желудку привычно жить по заведённому распорядку, и ему не видно камчатских сопок, а вот поди ж ты… Как-то чувствуется, что здесь уже пора спать, а ведь у нас дома ещё только шесть вечера.
5.06. Самолёт пришёл вовремя, стали готовиться к полёту, и тут выяснилось следующее. В Магадане погода близка к минимуму: низкая облачность и прогноз на пределе; Елизово же по прогнозу еле-еле натягивает быть запасным. Магадан так неудачно расположен для тяжёлых самолётов, что до ближайшего запасного – Якутска – 1200 вёрст, полтора часа полёта; на эти полтора часа, помимо топлива на полёт от Елизова до Магадана, надо брать дополнительно 11 тонн керосина, тогда не пройдёт загрузка.
До Камчатки (Елизова) от Магадана 900 км, брать запасным его тоже не очень приятно: погода может измениться в любой момент, – а куда денешься, других нет. И так видно, что погода здесь на пределе, так что запасной вшивенький. Но по бумагам, юридически, подходит, а уж, не дай бог, придётся – сядем и при худшей погоде.
Второй вопрос, давно волновавший меня, был вопрос аварийной посадки в Елизове на случай пожара на взлёте. Я всегда продумываю вариант захода, исходя из конкретных условий. А в Елизове они таковы: кругом горы, рядом Корякская сопка высотой 3,5 км, везде ограничительные пеленги, а высота облачности едва ли 150 м.
Тщательно обсудил с дежурным штурманом возможности: и малым кругом, и стандартным разворотом на 180, и по визуальному маршруту, и с использованием системы посадки. Вызвал немалый интерес у местных пилотов, готовящихся здесь же к полётам.
Не думаю, чтобы они упрекнули меня в излишней осторожности, боязни и т.п. Каждый из нас думает об этом, каждый намечает варианты, ну, а я стараюсь предусмотреть всё до мелочей.
Пилотирует правый пилот, я отвлечён на действия бортинженера, штурман заводит нас. В этом случае заход стандартным на 180 с использованием локатора – хуже, чем по системе, т.к. говорильни в кабине и так много будет, а по стрелкам пилотировать легче, чем по командам с земли. Да и в данных условиях из-за наличия гор стандартный разворот пришлось бы выполнять слишком далеко: запросто успеем сгореть.
Левый круг с посадочным 343 растянут и из-за наличия гор слишком высок: можем не набрать высоту, опять же, много времени потребуется.
Правый малый круг, предназначенный для визуального захода Ан-2, располагается прямо у подножия сопки. Но там нет горушек, там безопаснее всего: земля ровная как стол, а что облака – так мы всю жизнь летаем в облаках по приборам, самолёт оборудован всем, и Лёша справится вполне, Женя подскажет данные; к моменту выхода в траверз мы с бортинженером уже разберёмся в ситуации, и я смогу взять управление сам либо контролировать заход Лёши.
Мне возразили, что законный заход при пожаре – стандартным разворотом, с набором 650 метров по установленной схеме, аж за теми вон горушками, и что мне запретят вправо. Я засмеялся: да кого же я буду спрашивать, если приму решение, самое разумное в данной ситуации, но противоречащее тупой инструкции. Её же писал штурман. Он всё правильно просчитал, нарисовал, учёл высоты, курсы, радиусы, пеленги и т.п., а я руководствуюсь здравым смыслом, плюс те же высоты, радиусы, курсы и пеленги.
Он так понимает, что вблизи высо-о-окой горы нельзя летать в облаках. А я говорю: согласен, летать там нельзя, а спасать свою жизнь – можно. А вот там, где разрешено летать в облаках, стоят не такие высокие горы, как эта сопка, но надо набирать 650 метров на двух двигателях – летом, по 2 метра в секунду, – а сразу влево ведь не отвернёшь – вот она, горушка-то, её и сейчас в окно видно. Пока наскребёшь эти 650 метров, по инструкции, уже сгоришь: 300 секунд – это те самые пять минут, за которые сгорело управление у Фалькова.
А против инструкции – сумеем крутануться вокруг пятки, набирая высоту 400 метров, там, где нельзя летать в облаках. Страшно, конечно, что вулкан рядом, но не страшнее пожара. Реально надо мыслить. А победителей не судят.
Мальчики умолкли, переваривая, а я всё ковырялся: не поспешно ли, не апломб ли, не гонор, не самоуверенность?
Думаю, нет. Лёша выполнит спаренный разворот на двух двигателях не хуже меня, будет аккуратно наскребать высоту, температура не очень высокая, взлётный вес приемлемый, два движка потянут, прижмётся к полосе поближе, от сопки подальше; Женя будет контролировать минимальное боковое, рассчитает траверз привода; они будут в двенадцать глаз следить за кренами и радиовысотомером, за скоростью и курсами, за радиокомпасами и боковым удалением, и связь вести. А я, обернувшись, буду контролировать действия бортинженера. А там – погашен ли, горит ли – я уж точно буду знать, что закрыт именно тот кран, что работают именно вот эти два, а тот стоит, соображу, какие неприятности сулит отказ того и другого, и третьего, и пятого, продумаю действия, а уж потом спрошу боковое, сколько осталось до траверза, как механизация, шасси, скорость, высота, ветер, частоты, готовность земли. Может, даже успею предупредить пассажиров о вынужденной посадке, проводников – о готовности действовать по аварийному расписанию, а уж потом возьму штурвал. Но зато я буду твёрдо уверен, что машина движется по самой оптимальной траектории и успеет приземлиться за четыре минуты.
И так – каждый полёт.
Взлетели, пробили облака, выскочили в яркое солнечное небо. И пошла спокойная работа. Все вопросы, связанные с возможным отказом на взлёте, канули, утонули в море новых задач и полётных проблем. Начались подсчёты: сколько проходит топлива, какая транзитная загрузка, какой предполагается ветер и расход на следующем участке полёта, сколько заправлять. Не успели оглянуться – уже в локаторе берег, уже в зоне Магадана, пора готовиться к снижению, а там облачность на пределе… так, откладываем все расчёты до земли, а там решим.
Всё равно, суетливая обстановка: задёргала земля насчёт загрузки, заправки, – тоже волнуются о судьбе рейса. И так – до четвёртого разворота, пока самолёт долго полз в тяжёлых водяных облаках над хребтиной: все разговоры, разговоры…
Спокойнее всех вёл себя Лёша: он пилотировал. Оказывается, самое спокойное дело в нашей лётной работе – пилотировать в сложных погодных условиях. Зашёл великолепно, полоса открылась на 60 м, а уж сел… Ну, специалист! И сразу схлынула суета. Правда, земля снова затеребила, но мы выключились и оставили всё до АДП. Как-то безболезненно констатировали факт, что облачность вслед за нами опустилась прямо до земли. Обычная Лёшина посадка, отличная, на 8. Вот вам и второй пилот.
В АДП уже выписывали нам путёвку в профилакторий и договаривались, на сколько дать задержку. Но оперативно прибежал из перевозок Лёша с данными о не очень большой загрузке; забрезжила надежда, что можно залить ещё несколько тонн горючего, а значит, можем рассчитывать запасным Якутска не закрывшийся Магадан, а далёкий Благовещенск. Я тут же заказал прогноз, Женя прикидывал кратчайшее расстояние, Лёша считал заправку и загрузку, учитывал ограничения, и все вместе искали мы лазейку, куда втиснуть столь необходимые нам, но не проходящие две тонны керосина. Ещё и ещё раз уточнили прогноз ветра, Женя урезал расход на полтонны, учли вес, температуру, умение экономить в полёте, сманипулировали остатком топлива – и пролезло! Правда, взлётный вес пришлось брать чуть больше, из расчёта посадочного в Якутске не 78, а 80 тонн, но это наша узаконенная лазейка.
Окончательно всё проверили, уточнили, я убедился, что если вдруг уйдём из Якутска на Благовещенск, топлива нам туда точно хватит, – и только тогда доложил в АДП, что вылетаем, требуется дозаправка. Лёша сбегал на самолёт, предупредил бортинженера, мы с Женей уточнили прогнозы.
И тут упёрлась тётя-центровщица. У нас, мол, так не летают, а вы летаете. Пришлось демагогически напомнить ей о перестройке и ускорении и взять ответственность на себя, поставив свою командирскую подпись на центровочном графике. Уговорил.
В Якутске, кстати, погода звенела, и ни о каком уходе на запасной не было и речи. Но таковы наши правила, написанные кровью.
Привели пассажиров, оказалось, что ещё можно полторы тонны загрузки взять, и Лёша потребовал загрузку: людей, желающих улететь, в вокзале было достаточно. Тут же и подвезли их на автобусе (умеет-таки Магадан работать!), под ворчанье проводниц, абсолютно, кстати, не заинтересованных в увеличении производительности и не имеющих особого желания кормить ещё несколько лишних ртов, а главное, принимать и считать дополнительное питание на них, – усадили, пересчитали, захлопнули дверь, трап отошёл.
Мы вырулили, практически в тумане, сочащемся водой по лобовым стёклам, разогнались по мокрой полосе, и через несколько минут начался наш отдых: полёт, по сравнению с земной суетой, есть блаженство.
Домой долетели нормально, выполнили идеальный с моей точки зрения заход с прямой, на малом газе, по пределам, без всяких запасов; Лёша сел как всегда.
Автобус привёз нас в полпервого ночи, и мы долго бы ждали такси, отнюдь не горящих желанием везти троих лётчиков за рупь в Зелёную Рощу, – да вывернулся из-за угла этот же автобус, водитель которого использовал получасовой перерыв для того, чтобы за пятёрку отвезти пассажира в Рощу; он подхватил и нас, и мы с радостью отдали свои рубли человеку, использующему государственный транспорт в качестве источника личной наживы. Спасибо доброму человеку, дома ещё успели поспать ночью, а сегодня в ночь нам предстоит Москва с разворотом, и мне принципиально важнее за рубль поспать, а не воевать с любителями наживы.
В «Воздушном транспорте» делится опытом экономии топлива туркменский лётчик Ясаков. За год он экономит 150 тонн топлива. Но для него экономия – дело принципа, возведённое чуть не в абсолют. Я, конечно, экономлю вдвое меньше, но и не ставлю экономию во главу всей работы. Нередко и подаришь полтонны товарищу, которому далеко лететь.
Мне интересно услышать мнение коллеги по интересующему нас обоих вопросу, его отношение к некоторым аспектам нашей работы.
Итак, слагаемые экономии по Ясакову.
1. Запуск в зависимости от обстановки.
Знание этой обстановки от нас не зависит: диспетчер разрешил – я запускаюсь; ему виднее, а не мне.
2. Ни одной лишней минуты на предварительном старте.
Верно. Я тоже считаю минуты. Начало запуска – за 11 минут до времени взлёта. Запуск летом – около трёх минут, зимой – две. Готовимся к рулению и читаем карту две минуты. Рулить обычно 3-4 минуты по короткой полосе и 5-6 по длинной. Время руления определяется прогревом двигателей на малом газе – 8 минут с момента выхода всех двигателей на малый газ, т.е. восемь минут с доклада бортинженера «двигатели запущены» до взлёта. Подрулишь раньше – всё равно ждёшь минуту.
3. Руление.
Газ-тормоз – это удел неопытных. Тронулся с места, разогнал до оптимальной скорости и рулишь на малом газе. Обычно самолёт в процессе руления стремится разогнаться, приходится даже подтормаживать. Соображать надо.
Согласен с Ясаковым: скорость руления определяет командир; если надо быстро – значит, быстро.
Но всё это крохи в сравнении с экономией в полёте.
4. Взлёт на номинале.
Зимой, если малый вес, – безусловно да. Летом лучше на взлётном, из условий безопасности, но номинал ставить сразу после уборки закрылков, на высоте 200 м.
В сильную жару я взлетал редко, а автор, видимо, часто.
5. Скорее разогнаться.
Я целиком и полностью за. Как и за максимальные крены на развороте, и за разгон скорости к концу разворота до 550. Набор на 550 или 575 принципиальной разницы не имеет, а отступать от рекомендаций РЛЭ 550 при наличии проверяющего на борту – неохота. Да и в нижнем воздушном пространстве лучше держать скорость 550, чтобы иметь в запасе несколько секунд при временных остановках на промежуточных эшелонах.
Что касается прогрева двигателей, то я его за четыре года выполнял всего несколько раз. Прогрев резко влияет на экономию, и я стараюсь его избегать, вплоть до того, что если дают -20 (ниже этой температуры, явно взятой с потолка, прогрев обязателен, хотя раньше этой температурой не лимитировались и спокойно летали без прогрева) или чуть ниже -20, мы записываем -19 и взлетаем без прогрева.
Это преступно, скажет буквоед. Но иной раз стоянка всего час двадцать при -21, в штиль, масло не успевает остыть, а другой раз сутки стоял, при ветре и морозе -19, масло в агрегатах заледенело. Есть разница? А при -19 разрешено взлетать без прогрева. Но ведь прогреваем мы не турбину, а масло в коробке агрегатов, чтобы не срезало вал-рессору. Так что думать надо в каждом конкретном случае: нам же на этих двигателях лететь.
Застыли движки – прогрев необходим. Но когда дело в двух градусах и знаешь, что двигатель не успел остыть – взлетаешь смело.
Инструкция пытается охватить реальную жизнь мёртвыми рамками, но все нюансы не охватишь, а тот профессор или, скорее, инженер, наверху, что сказал: «Дадим ограничение, ну… э-э-э, минус двадцать пять… нет, для гарантии, лучше минус двадцать» – этот руководитель немножко перестраховался. Или я не знаю жизни. Да и наши инженеры тоже не дураки, и они на этом железе летают всю жизнь.
Так что прогрев можно не оговаривать.
6. О числе «М» на эшелоне.
Не знаю, куда летают ашхабадцы, зато мы летаем на полную дальность, и опыт у меня в этом немалый. Ясаков рекомендует везде и всегда держать М=0,85-0,86 до самого снижения. Я считаю, что это слишком прямолинейно.
Кроме того, он рекомендует воздерживаться от высоких эшелонов, выше 10600. Объяснения смутные: да, на более высоком эшелоне получим большую скорость, но проиграем в длительном наборе этой высоты. Я же подозреваю, что здесь просто свойственная всем пилотам старшего поколения нелюбовь к большим высотам из-за облучения и пр.
7. Совершенно не упоминается ветер. Хотя умелое использование ветра как раз и даёт львиную долю экономии, в сравнении с которой все вышеупомянутые составляющие – просто шерсть, детский лепет. Да, они тоже влияют – но… шерсть, мелочи.
У меня в основе всей экономии – ветер. Унюхать струю, учесть температуру на высоте, её отклонения от стандарта, вес машины, её летучесть (есть летучие, а есть «дубки»), угол атаки, – вот слагаемые, манипулируя которыми, удаётся – и то, далеко не всегда, – скопить желанную экономию. Но все эти слагаемые используются для достижения одной цели: найти своё попутное ветровое Эльдорадо, либо избежать встречной струи, или по возможности уменьшить её вредное влияние. Тут и предварительный тщательный анализ ветра и высотных температур у синоптика, и опрос в полёте встречных-попутных бортов, и анализ возможного смещения струи в полёте, а значит, глубокое изучение пересекаемых барических систем. Вот и слияние теории с практикой.
Теоретически, может, и невыгодно лететь выше: ведь набор будет более продолжительным, на номинале, расход увеличенный… Но когда вылезешь, выжмешь из машины всё, – а ветер в лоб там, наверху, окажется, не прогнозируемые 140, а всего лишь 70 км/час, да ещё лететь часа три с половиной, – вот тогда на практике убеждаешься, что выгоднее.
И за числом «М» следим строго: на длинных участках я никогда не держу более 0,84, да и то, всё время уменьшаю по мере уменьшения веса. А уж в попутной струе вообще нет смысла давать газ: хватит и 0,81. Добавится каких-нибудь 5 минут за 4 часа полёта, зато тонна в кармане.
Так что думать надо. Думать и всё время проверять свои расчёты в полёте. На коротких участках экономишь за счёт малого веса: вылетаешь как можно быстрее на высокий эшелон, и нет смысла затягивать газы, т.к. при малом весе расход гораздо меньше. Но, конечно, и не на номинале же летишь. Желательный угол атаки в полёте 4 градуса, вот его и добиваешься.
8. Насчёт снижения.
Я с автором согласен: снижаться без интерцепторов, но начинать по возможности поближе к аэродрому, а снижаться до самого выпуска шасси без площадок, по пределам.
Правда, наши документы трактуются нашими начальниками однобоко: перестраховать себя, – но, слава богу, есть ещё думающие пилоты, и я рад, что есть единомышленники, болеющие душой за дело, а не за свой холёный зад. Так что я – за снижение рациональное, энергичное, без ненужных пауз и задержек, на малом газе вплоть до входа в глиссаду.
Ясаков ратует за выпуск механизации в момент входа в глиссаду, а я так делаю всегда, и пока ещё не ловили и не пороли. Я о таком снижении и экономии распространялся предостаточно и раньше, но в узком кругу.
Понравилось и прямое, откровенное его высказывание о заначке топлива. Да, тонна-другая лишней заправки никогда не помешает, и решать этот вопрос должен командир. А то в кабинетах спецы успешно складывают крестики с ноликами, а в полёте иной раз ох как нужна эта тонна…
Жаль, что Ясаков не летал на расстояние 3600 км с узаконенным весом 100 тонн, да с заначкой, да против струи. А у нас долгий опыт таких полётов пока единственный в аэрофлоте.
И ещё жаль, что в массе лётчиков взгляд на экономию топлива вообще – отрицательный: доэкономимся – срежут норму, тогда налетаемся без топлива. Но я повторяю: экипаж должен научиться экономить для себя, иначе до той же Москвы не долетишь. Видывал я, как специалисты садились с остатком всего 4 тонны вместо полагающихся 6. У меня такой случай был лишь раз, осталось 4,5 т – из за моего же разгильдяйства: пустил полёт на самотёк. А в длительном полёте в руках у командира, по крайней мере, тонна экономии, надо только всё время следить самому и настраивать экипаж.
Вообще же, пилоты – те же работяги, а значит, подвержены тем же предрассудкам. Так было всегда: на новатора косо смотрят, потому что с ним неудобно, он копает под всех, шевелит, не даёт спокойно жить. Диалектика.
А вот у меня мал опыт полётов в условиях высоких температур и плюсовых аномалий на высоте. Может, тут Ясаков и прав: если за бортом -35 и машина на эшелоне стоит крестом на углах атаки 5-6 градусов, то целесообразнее лететь на номинале и М=086, но зато на угле атаки, близком к наивыгоднейшему. У нас как-то с Солодуном так и случилось, и пришлось слезть с эшелона, на котором машина никак не разгонялась.
В каждом полёте думай и думай, а штампы и рамки хороши только в кабинете.
6.06. Вчера сорвалась Москва: заболела Оксана, и я отпросился у Медведева. Вся пулька летит к чёрту; чтобы компенсировать план эскадрильи, мне предложили сегодня в ночь Хабаровск, а завтра по плану снова ночная Москва с разворотом.
Вот так в начале лета как получишь наркоз, так и на всё лето: ночь, ночь, ещё ночь… Но это моя судьба.
9.06. Слетал в Хабаровск, нормальный полёт, на обратном пути слегка дремалось, но терпимо. Дома по прилёту поспал два часа, через силу встал, размялся, вечером снова на два часа лёг, уснул мгновенно. Полетели в Москву.
Экипаж Мехова, пригнавший нам машину из Благовещенска, подарил целых полторы тонны заначки, так что проблема топлива нас не волновала, хотя и предстоял полёт в жару и с весом 100 тонн… по бумагам, а по существу – около 102.
Над Тобольском стоял стационарный циклон, медленно вращающийся против часовой стрелки. Лететь на запад, по логике, следовало севером, через Ханты, чтобы дуло в спину. Назад, естественно, югом. Но югом, через Новосибирск, платят меньше, а заначка позволяла и назад, против ветра, лететь севером.
Самолёт долго выгребался на 10600, кое-как наскрёб эшелон и завис на номинале: за бортом было всего -40 против полагающихся 57. Пошли с расходом 7 тонн в час вместо обычных 6.
Где-то к Хантам температура стала энергично падать, минут за 10 упала на 5 градусов; самолёт полетел. Да и вес-то стал уже тонн 85 – чего ж не лететь. Я стал по миллиметру затягивать газы, и к Москве подошли с приличным остатком.
В Москве стояла жара, и нас предупредили о высокой температуре воздуха на кругу. Лето началось. Домодедово было в запарке, круг трещал от самолётов, и наши надежды на заход с прямой не оправдались. Сделали круг; я мучился с режимом двигателей: никак не мог подобрать нужные проценты в такую жару. Выпустил шасси и механизацию, в горизонтальном полёте кое-как подобрал режим, стал снижаться по глиссаде. Стрелки уводили в сторону, и мы шли по обочине полосы.
На земле мелькали маячки, в эфире стоял гвалт. В этом гвалте, в борьбе со стрелками, температурой и режимами, я не заметил, что севший впереди борт не успевает освободить полосу; ребята хором меня предупредили об этом, и мы едва успели настроиться на уход.
Уход на второй круг обычно всегда внезапен и поэтому нелюбим. Земля дала команду, я потянул штурвал на себя, одновременно сунув газы на взлётный, и тут же об этом пожалел: высота есть, вес небольшой, хватило бы и номинала. Но уход уже начался, убрали шасси; я всё думал, не забыть бы как всегда о фарах, скорость была 280. И тут заклинило: какая машина, старая или новая, «Б» или «Б-2», уборка закрылков в один приём или в два? Замешкался, а чтобы скорость не росла, тянул на себя штурвал, вместо того, чтобы просто прибрать режим.
Вылетели на взлётном на высоту круга, скорость подошла к 300 – предел для закрылков на 45, и я, наконец, врубился: дал команду «Закрылки убрать». Лёша, зорко следящий за скоростью, уже поставил рукоятку в положение «28», ещё до моей команды, а когда скорость выросла до 350, тут же, не дожидаясь уборки по указателю в положение «28», поставил рукоятку в положение «ноль». А на старых машинах, если так сделать, стабилизатор сильно отстаёт по уборке от темпа закрылков, кабрирующий момент превалирует, и машина лезет вверх.
Команда от концевиков прошла и выполнялась железом по заложенному алгоритму, машина лезла на петлю, а я сунул штурвал полностью от себя, так, что наверно пассажиров оторвало от сидений. Всё равно выскочили на 500 метров. Но зато фары убрать я скомандовал, не забыл.
Вот и весь эксцесс. Перегрузка зафиксировалась 0,3.
Мудаки всё-таки эти конструкторы. Наворотили со стабилизатором. Опомнились только на серии «Б-2», там теперь всё проще с этими моментами.
Зашли снова, мягко сели, плевались, перед пассажирами было стыдно. Экономия вся рявкнулась, осталось 7 тонн; записали остаток 5.
Развернулись и пошли назад севером, против ветра. Толива много, пассажиров 80 человек, хвост трубой… Влупили чуть не номинал… и от Горького меня серьёзно засосало. Проснулся где-то на траверзе Перми, аккурат перед Берёзниками. Заставил подремать мужиков; один Женя не приучен к этому: боролся со сном и с автопилотом, уводившим вправо.
Я тоже заинтересовался этим явлением. То, что самолёт кривой и просит триммера руля направления влево, я заметил ещё дома на взлёте. Но тут, отключив автопилот по курсу, увидел, что вышло уже за все пределы: надо либо дать триммер элеронов до упора влево, либо руля поворота, чтобы не тащило с курса. Шарик не в центре, значит, скольжение. Спросил у инженера разницу в баках: да, чуть больше в правых. Стали вырабатывать.
Так весь полёт я и добивался, чтобы и шарик в центре, и триммеры нейтрально, и не уводило с курса. И пришли мы к выводу, что врут топливомеры по группам, и что, несмотря на одинаковые показания, разница в группах баков таки есть. Выработали из правых побольше, и всё встало на место. Но записывать не стали, чтоб самолёт прошёл до Благовещенска. Пусть следующий экипаж в полёте проверит, и если подтвердится, то по прилёту на базу запишет и поставит машину. Мы предупредили и экипаж, и техмощу, чтоб имели в виду и готовились к замене машины.
Устали, конечно. Вечером ночной резерв, могут вполне поднять на ту же Москву или Хабаровск с разворотом… третья ночь.
Я поспал дома 3 часа, потом поехали на дачу. С дачи Надя завезла меня в аэропорт, я тут же свалился и проспал 11 часов мёртвым сном. Повезло, на вылет не подняли…
Юра Шакиров ушёл на пенсию, но её ему пока не торопятся оформлять, ждут вот-вот изменений в Положении о пенсиях лётному составу.
13.06. Экипаж командира И. не включил на взлёте обогревы ППД, узнали из расшифровки. Был разбор, правда, без меня. По разговорам, штурману и второму пилоту грозит снятие с лётной работы неизвестно на какой срок, а командиру – предупреждение о неполном служебном соответствии. Но пока приказа нет.
Слетали в Сочи – рейс отдыха. Двое суток загорали и купались в море. Назад летели ночью, но не устали: сказывается недолгое время обратного рейса – пять часов с промежуточной посадкой, и уже как-то привыкли к сочинскому времени.. Во всяком случае, это не Камчатка.
Из Сочи взял зайцами двух мальчиков-выпускников лётного училища. После окончания Бугуруслана на Як-18Т их сразу отправили в Кировоград переучиваться на Ан-24. Или же они сразу учились в Кировограде, но, короче, добирались домой в Куйбышев через Сочи. Очень просили показать работу экипажа в полёте, и я разрешил.
В полёте поговорили, и вот что настораживает. Ребята приходят в производственный отряд вторыми пилотами на Ан-24, но летать не умеют. Собрать стрелки в кучу, да ещё и вести связь, для них – непосильная задача. Сами признались. И вот такой пилот несёт ответственность за безопасность полёта наравне с командиром. Да его года два надо натаскивать по приборам, вбивать в голову наши непростые истины и законы, давать, в конце концов, просто летать побольше, пока у лучших, способнейших из них появится хоть какая-нибудь хватка. Но эту пару лет экипаж будет летать фактически без второго пилота. Всё делает командир. Спасибо хоть, техника наша надёжная.
Эта система устраняет, конечно, тот временной интервал, что гирей на ноге висел у каждого из нас в своё время, пока мы пробивались с Ан-2 на самолёты класса Ан-24. Сколько времени, в общем, ушло зря. Многие из нас по опыту и уровню подготовки были вполне достойны летать на Ан-24, но пока вырвешься с Ан-2…
Однако новая система, в основном, расчистила дорогу талантливым ребятам, а много ли их у нас? Судя по этим моим зайцам… И что делать им, обыкновенным, средним лётчикам, которых большинство? Не дороговато ли учиться азам полёта на Ан-24, Ту-134, постигая то, чему научились мы, летая над тайгой в зарядах на Ан-2?
Конечно, теорией они напичканы. Но полёты – это практика, это время. Я не представляю, как бы сразу после училища попал в экипаж, да в днепропетровскую или минводскую зону, с интенсивным движением, со связью, да в жару, да в грозу, да не дай бог, отказ… как со всем этим справиться желторотику?
Я прибыл в Енисейск, вторым на Ан-2, так Беловицкий сел со мной, закрыл шторкой и пролетал целый день – это командир объединённого отряда! Я накрутился тогда по приборам до полного одурения, но старался, конечно, показать товар лицом… Дома вечером упал без памяти, уснуть не мог, ноги ревели. А ведь задача передо мной была поставлена одна: пилотируй! И по рекомендации Григория Степановича я не брезговал шторкой всё лето, до зарядов, когда шторка стала не нужна, – а уж зарядам сдавал экзамен. И это всё молча, над тайгой, практически без связи и без забот, набивал руку сколько влезет. На это ушли годы.
Как будут летать через пять лет эти вот ребята, какими придут ко мне вторыми пилотами на Ту-154, я не знаю. Но твёрдо уверен: лишний год учёбы в высшем авиационном училище надо посвятить не материалистическому диалектизму, не интегралам, а пилотированию, желательно в рейсовых условиях, на руках, по приборам, со связью, локатором и т.д. Если уж выпускать их на Ан-24, Ту-134 и т.п. – раз время требует, – так выпускать специалистами, а не желторотиками, которые пилотируют, прыгая глазами сто раз в минуту с авиагоризонта на вариометр.
18.06. Пошла летняя работа. Из рейса в рейс, много ночи, но уже втянулся. Помня уроки прошлого, стараюсь спать впрок, и побольше, глотаю горстями поливитамины, не беру ничего в голову и настраиваю экипаж на взаимоконтроль.
Слетали в Норильск. Обычный, можно сказать, образцовый полёт, не за что зацепиться памяти. Так бы и всегда.
Сегодня ночью вернулся из Львова. Мы этот рейс заказывали, потому что в этом спекулянтском городе польских корней легко утолить жажду обладания модными вещами. У меня наболело, как одеть Оксану, и я с удовольствием приобрёл ей модные кроссовки и купил на рынке превосходное – я таких никогда и не видел – шикарное платье. Она сдаёт выпускные экзамены на пятёрки, и я с удовольствием привожу ей желанное тряпьё, и мы все рады, а дочь – в восторге.
Такие вот тихие радости тянут меня после тяжёлого рейса домой, в гнездо, в семью. Сегодня мы с дочерью пели под пианино, мать подпевала, – редкий выходной вместе, в куче, в согласии.
Нет, поистине мы, лётчики, мужчины, уходим в небо, чтобы вернуться на тёплую землю. А где же набраться сил и духа.
Ночью садились в Уфе. Над полосой в свете утренней зари виднелась прозрачная полоска тумана, огни сквозь неё просвечивали. Коварен этот приземный туманчик, когда вскакиваешь в молоко на самом выравнивании. Но и мы не лыком шиты: норильская школа посадок вслепую работает. Знаем, умеем предвидеть и бороться.
Подкрался к торцу, предварительно сняв триммером усилия со штурвала, чтобы не было тенденций, не повело машину; выравнивал плавно, под отсчёт Жени, заранее уменьшил вертикальную над торцом; всё было видно, и вдруг – молоко… Замер, отсчитал «раз-два-три», чуть добрал и зажал управление: всё сделано, жди. Лёгкий толчок левым-правым колёсами, плавно опустил ногу, и выскочили на свет божий.
Всё-таки кренчик левый создался, на секунду, один градус, но этого перед касанием не избежать. Главное при такой посадке – быть уверенным, не дёргаться, и никуда она не денется. Женя чётко читал высоту по РВ-5, Лёша следил по приборам, чтобы я не потянул куда не надо рычаги (это уж старые вторые пилоты соблюдают железно, не дадут испортить посадку), ну, а моё дело было – строго выдерживать ось перед выравниванием и подкрасться с малой вертикальной скоростью. Бортинженер здесь – тылы.
Вот - экипаж.
У Лёши появилась тенденция: если машина перелетает знаки и не садится – продавливать воздушную подушку и сажать силой. Когда получается, а когда и не очень. Всё это в пределах пятёрки, но не очень приятно, когда и скорость падает, и машина нос уже опускает, и выровнял чуть выше (правда, Лёша обычно выравнивает ниже), и ещё штурвал чуть отдаёт от себя. Так ведь можно и на три точки грохнуться. Но он как-то всё-таки умудряется посадить её нормально.
Я досаживаю машину лишь при полной уверенности, что колёса несутся на 10-15 сантиметров над бетоном, и скорость лишняя ещё есть, – и то, это только на горячей полосе, которая держит.
Во Львове готовились к вылету в спешке. Самолёт нам задержался, и нас подняли на вылет на пару часов позже. Кто-то что-то перепутал, оказалось, что через 20 минут уже пора взлетать, пассажиры сидят.
Я прежде всего оформил задержку поздним прибытием самолёта – теперь с нас взятки гладки, – а потом всё же пришлось торопиться. И запустились, не прочитав контрольную карту перед запуском. Хорошо, Женя перед выруливанием вспомнил и прочитал всё подряд, а мы всё проверили на всякий случай.
Назад долетели без эксцессов. В Уфе немного пошарашились в засветках, с отвратительным локатором (потом записали замечание); мешал попутный Як-40; у нас была задняя центровка, и Лёша немного дёргал машину, снижаясь ступеньками. Я контролировал ситуацию. Но заход получился суетливый, нетипичный.
Дома садился я, с малым весом, подвёл её на минимальной скорости, без запаса, и машина села с едва заметным, но толчком.
Пролетал июнь. Сравниваю с тяжёлым прошлогодним июнем. Тогда была хроническая усталость, нервотрёпка с талоном, задержки из-за топлива, плохое планирование. И настроение было – хоть увольняйся.
Сейчас же – нормальная работа. Машины есть, топливо есть, задержек нет, планирование терпимое. Вот – человеческий фактор. Создай лётчику сносные условия – чтобы всего лишь нормально (пусть и много) работать, – и за уши не оттянешь от штурвала.
27.06. На выпускной вечер Оксаны я заранее, за месяц, попросил выходной. Но видимо, такова уж судьба пилота, что выходной в аэрофлоте летом можно получить только на собственные похороны. Какие-то колёса не так провернулись, и вот сижу в Ростове. Вчера мои женщины весь день трепали мне нервы, и ради такого дня поспать перед вылетом не пришлось. В полёте засосало минут на десять в районе Волгограда. Долетели нормально.
В последних рейсах у меня бортинженером летал стажёр с инструктором, а в этот рейс мне вернули Валеру Копылова. Несмотря на демагогические утверждения лётных начальников, что нас с ним уже вместе ставить нельзя без провозки с инструктором – мол, он привык уже к другому экипажу, – всё же поставили нас вместе, потому что тренажёрный срок у нас один и истекает через два дня. Всё можно сделать, если это надо начальству.
А я с удовольствием ощущал в полёте, что сзади спина надёжно прикрыта. Что и говорить: слётанность нужна.
1.07. Тренажёр, раздолбанный донельзя, вызвал во мне чувство отвращения. Пятница, вечер; мы побазарили с инструкторами о том, о сём, для порядку сделали три полёта, причём, курсами управлял Лёша, а я, как всегда, боролся с тангажом. Нас даже не поджигали: и так хватало работы – просто лететь и попытаться просто зайти на посадку. С тем и вылезли. Кому и зачем такой тренаж нужен?
Когда летели ещё в Ростов, перед Челябинском возникла ситуация, аналогичная той, когда меня надрал ленинградец в Чите.
Мы сошлись над Курганом: я – с севера, а ростовчанин догнал меня по новосибирской трассе и повис километрах в двадцати сзади. Меня для интервала снизили до 8600, а он остался на 10600, и тут же висел на 9600 Ил-76. И вот слышу, однотипный просит снижение, и Челябинск ему разрешает, разница между нами 15 км, а он уже пересёк 9600. Нам ещё две минуты до снижения, мы впереди, но если ростовчанин пересечёт наш эшелон, то нам – круг, а ему – с прямой. Ну, наглец. Я тут же запросил снижение, и диспетчер притормозил его на 8600, а мне разрешил снижаться, и дальше уже всё шло по закону. Мы сели первыми, успели освободить ему полосу, и он сел тоже без круга.
Потом сошлись на метео, и ростовчанин, не глядя мне в глаза, что-то бормотал в оправдание, хотя не я, а совесть его заставляла говорить. А на дурачка, глядишь, угнал бы меня на второй круг.
Вот же стремление: надрать ближнего. Спортивный азарт какой-то. Ладно, простил я его. Сам-то тоже не упустил бы своё.
Назад летели ночью, и от Челябинска я задремал ещё в наборе высоты, чего себе никогда раньше не позволял. Проснулся через час, над Омском. Всё же хроническая усталость летом.
Красивое небо перед восходом: цвет его гармонировал с подсвеченным бирюзовым авиагоризонтом. Красива и земля сибирская. Как раз прошёл холодный фронт, воздух был чист и прозрачен и позволял видеть километров на триста. Туманы змеями вились по долинам рек, казалось, что земля в кружевах.
На заходе дома болтало, Лёша корячился, но ось держал. У земли хорошо поддуло, с креном; самолёт с опущенным носом нёсся над полосой… и тут ничего не сделаешь, только ждать, пока упадёт скорость. Подбирать нельзя – перелетишь далеко, дёргаться тут нечего, сиди, исправляй крены, жди касания. Плюхнулись ощутимо: 1,25.
В течение всего этого рейса мы выжимали производительность, надеясь месячную натянуть до 100 процентов, топлива не жалели, благо, экономия большая. Не знаю, удалось ли, но по времени рейс получился на час быстрее обычного, и ещё сэкономили 700 кг. Сделали, что могли, а уж экономисты подсчитают.
В автобусе пассажирка с нашего рейса спросила, почему так плохо везли, болтали. Я буркнул, что летать, мол, не умеем; потом попытался объяснить ей суть термической болтанки в солнечный день. Но неприятно задело, что стараешься-стараешься, а людям всё равно не угодишь. Да и какое им дело до моих проблем, им подавай спокойный полёт за свои деньги.
Надо бы в июле провести эксперимент: полетать при прочих равных условиях на М=0,85-0,87. Чёрт с ней пока, с экономией, тут у меня возникло подозрение. Если мы, летая почти на номинале, с М=0,87, всё равно экономим, то нет ли тут серьёзных резервов? Ладно, Москва есть Москва, 3600 км, предельная дальность; но есть же куски по 2500-2000 км, около трёх часов полёта (как раз на такую дальность Туполев поначалу и рассчитывал): может, есть смысл на этих участках увеличить М? Попытаюсь. Надо ещё и нормы топлива на рейсы знать. На Норильск, к примеру, не сэкономишь, норма жёсткая. А есть рейсы со щедрой нормой.
4.07. На Норильск весь рейс держал М=0,85, и в результате пережгли 500 кг, сэкономив 5 минут времени. Правильно, на 1500 км так и должно быть, да ещё жёсткая норма расхода.
А сегодня летим в Сочи с тремя посадками – вот и попробуем.
Посадки на нелюбимой, кривой и ограниченной 124-й, и мне, и Лёше удались. Ногу держал я до посинения: больно уж просаживалась она ещё на стоянке.
Это был первый самостоятельный полёт у стажёра-бортинженера, и я после полёта от имени экипажа поздравил его с ПСП.
Приехала комиссия из политорганов министерства. Наши начальнички забегали: ведь прямое дело замполита печься об улучшении условий труда и отдыха экипажей.
А тут как раз раскурочили подпольную заимку начальства и наспех сделали из неё базу отдыха. Ну, надо ж товар лицом – стали предлагать экипажам денёк там отдохнуть. Измученные экипажи послали это предложение куда следует. Тут лето, дачные заботы, хоть полдня побыть с семьёй – счастье, а тут загоняют, считай, в тот же резерв, только в тайгу, комарам на съедение. Да пошли вы…
Так тогда выдернули туда смену диспетчеров после ночи – и галочка есть!
Условия труда и отдыха… У нас радость, когда с ночи прилетел, как я вчера, а на другой день не с утра в плане, а в ночь, как я сегодня. Это ж почти два дня дома. Хочешь – спи, не хочешь спать – общайся с семьёй.
В нашей газете статья. Заболели они там, что ли: поднимают вопрос, как платить лётчикам за кормёжку при задержках. Оказывается, если задержка более 5 часов днём, за одни сутки, то оплатят. А если задержка с 22 до 3 утра, то это же одни сутки – два часа, другие – три часа. Не набирается пять часов за одни сутки. Значит, по инструкции, и не оплатят.
И даже посягнули в газетке на святая святых: оплату ночи. На По-2 ночь считалась от заката до восхода, и так оплачивают её до сих пор. Так вот: теперь лепечут о биологических часах организма, о светлой ночи на севере.
Оказывается, не лётные службы министерства повинны в наших бедах, а финансовые. Финансисты службу справляют…
Но примечателен сам факт: робко, несмело, но наша затюканная газетёнка, прозванная лётчиками (не в обиду) «Гальюнер цайтунг», начинает потихоньку поднимать давно напревшие вопросы времён По-2 и Р-5.
В штурманской Норильска многолюдно; идут разговоры о пенсии. Московские лётчики, особы приближённые, снисходительно делятся новостями с нами, провинциалами. Вырисовывается картина, что на многочисленные наши вопросы руководители министерства отвечают одно: ваши предложения в Верховном Совете; там решат. А с нас, мол, взятки гладки, отстаньте, мы отфутболили куда надо.
Но в Верховном совете сидят ткачиха с поварихой, механизатор, шахтёр, металлург, ну, там, генерал, профессор. Не знаю, сидит ли лётчик. Короче, посторонние аэрофлоту люди. Сидят и рассуждают: помилуйте, лётчики совсем уж обнаглели. В белых воротничках, при галстухах, стюардессы им жратву кажный час носют, пенсия в 36 лет – 120 рэ, и уматывай… Да где ж такое видано? И ещё хочут большего! Обнаглели. Э, нет, давайте-ка им, как вот нам, металлургам, – с 50 лет. Правильно, шахтёр? А ты, ткачиха? Согласна? Ишь, аристократы…
Конечно, работа трудная. Чижолая, не спорим. А ты у домны стоял? Или в забое уголёк на-гора давал? То-то.
Я, конечно, утрирую. Но кто знает действительную цену нашей пенсии? Наше высочайшее начальство, пролетавшее меньшую часть жизни на Ли-2 (ну, кое-кто и на Ту-104), а большую её часть протирающее штаны в Москве, – вряд ли оно глубоко осознаёт, каково сейчас приходится экипажу.
А лётчик нынче летает на высоте 11-12 км, и всё больше ночью. Романтика слетает с него в раннем возрасте. Поварившись в нашем котле, вытянув все жилы и поменяв несколько раз шкуру, под вечным страхом триединого «выпорют-спишут-отнимут пенсию», не говоря уж о лётных происшествиях, – в сознании лётчика, удержавшегося в седле, растерявшего личную жизнь, как-то попутно выкормившего детей, остаётся лишь одно, угрюмое, выстраданное, убеждённое, окаменевшее: служить.
Работа, работа, работа. Всё – ей. Здоровье, режим, сон, семья, личная жизнь, – всё приспособлено к работе. И постепенно отлетают, отшелушиваются: жена, с её наивными требованиями, с остывшей супружеской постелью заодно; дети, с их непонятным, новым, посторонним мировоззрением и запросами; друзья, понявшие, что ты не человек, а механизм; кино и книги, с их наивным, чуждым миром и надуманными проблемами; искусство, музыка и прочая земная суетная мишура, – всё осыпается, опадает, обнажая один могучий и угрюмый ствол. Служение Делу. Служение Небу. Остаётся одно Небо – чистое, искреннее, жестокое, бездонное.
И тогда меняются все отношения.
Супруге нужен бумажник: раз уж личная жизнь кувырком, то хоть эквивалент, который что-то компенсирует, пока годы не ушли. И уже вроде как удобно, что мужа нет дома…
Дети тоже понимают, что этот сонный дядя, вечно некстати появляющийся дома и мешающий всем, – этот дядя, если к нему умело подойти, может стать источником вожделенных материальных благ, ничего не требуя взамен, кроме тишины.
Друзья… друзья просто исчезают, раскланиваясь издали и привычно сетуя, что да, работа такая, жаль, никак не встретиться, текучка…
Воскресенья, праздники, каникулы, отпуска проходят мимо, оставляя лёгкую и быстро гаснущую зависть: живут же люди! А твой отпуск уходит на лихорадочное, вдогонку, – успеть бы – латание возникших брешей в нашей жизни: то домашний ремонт, то дачу доделать, то что-то подкрасить, подклеить. Кто ударяется в запой…
Но приборная доска всё чаще снится по ночам, застилая весь горизонт.
Отхватил вот Г. на циркулярке себе три пальца, списали, отлетался. И сразу появилось всё: семья, жена, быт, режим, дети, заботы, праздники. И ещё нет 50 лет, можно жить! Всего за три отрезанных пальца. Дурацкая логика.
Когда Ш. в 50 лет умирал от рака, он говорил перед смертью: я всё имею, и я всё готов отдать – деньги, квартиру, машину, дачу, пенсию, – за одно-единственное, за возможность хоть немножко ещё пожить!
А мы отдаём здоровье за ту пенсию. Жизнь за деньги. Через год-два авиация выплюнет тебя – в какую жизнь? Жене, детям, друзьям, ты, может, уже будешь и не нужен. Без неба ты сам себе в тягость: ничего в этой жизни не умеешь, а стимулы все осыпались. И человек загнивает.
Вот и я в сорок лет становлюсь негибким, угрюмым прямолинейным, утратившим иллюзии циником, почти мизантропом. Думал ли, идя летать, в какие тупики заведёт меня, в какие колёса затянет аэрофлотская махина? Но возврата нет. Есть одна Служба, одно Дело, один тяжкий крест. И встречая утром на эшелоне очередной рассвет, я не премину отметить: опять романтика, мать бы её так, в глаза бьёт; а мы от неё – шторкой…
Но это я так, умом. А сердцем-то чую: без неё, родимой, я жить не смогу. Без неё смена не придёт, и не идёт уже сейчас, не хочет. Ни романтики, ни той пенсии, ни тех денег молодой нашей будущей смене не надо. А чего тогда им надо? И кто же будет летать?
8.07. Слетали в Сочи. Туда – через Абакан; нормальный, спокойный рейс. Ночь с тремя посадками, конечно, дала себя знать, и мы три часа как убитые проспали в шумном сочинском профилактории, а потом кое-как встали, размялись и перед полётом отдыхали до вечера на море.
Обратный рейс подходил уже к концу, как затуманил Красноярск, а в Абакане снова нет топлива, а Томск тоже затуманил, а до Новокузнецка или Новосибирска топлива не хватает; пришлось садиться в Кемерове. Вторая ночь оборачивалась тоже тремя посадками, да ещё Кемерово с утра до вечера закрывалось ремонтом ВПП.
Только легли в гостинице, только задремали, как Красноярск открылся, нас подняли, и мы ещё полтора часа коротали в кабине, ожидая посадки пассажиров и борясь с наваливающейся вторичной усталой дремотой. Только чуть задремали в креслах, только тепло пошло по телу, как ударило по ушам; мы инстинктивно дёрнули форточки, сбрасывая наддув, – и уже пошла запись предполётной карты на магнитофон. Я проверял рули, а Лёша болтал головой с закрытыми глазами над штурвалом, пока не задело рогами по подбородку; на этом его сон кончился.
Полёт, против подготовки на земле и муторного ожидания, скоротечен, и дрёма улетучилась моментально.
Домой добрались почти к обеду; два часа я поспал, с трудом встал, дотянул до вечера и завалился в десять часов, мёртво. Летом надо много спать.
Лётчик редко мучается бессонницей.
В Пензе оренбургский Ту-134 прекратил взлёт и выкатился далеко за КПБ, к оврагу, где и остановился, свесив деформированную кабину через край. Отказ двигателя на разбеге. Все невредимы, но какой-то слабонервный пассажир через час после эвакуации вспомнил, что забыл в самолёте что-то, крайне для него необходимое, умудрился проникнуть мимо охраны на территорию, добрался до самолёта и там, свежим взглядом оценив пережитую опасность, благополучно отдал концы. Как теперь считать: авария? Катастрофа? ЧП?
Сыктывкарский Ту-134 набирал высоту, вдруг загорелся задний багажник. Пришлось срочно садиться на лес, самолёт разрушен, есть жертвы.
Сейчас иду на разбор, может, узнаю подробности.
13.07. Ту-134 взлетел из Сыктывкара, набирал эшелон, и тут появился дым в кабине. Экипаж доложил земле о пожаре во втором багажнике, выполнил экстренное снижение и развернулся обратно на Сыктывкар, запрашивая заход с прямой. Но дым усилился, пассажиры стали задыхаться, и командир принял решение садиться на лес, не дотянув 75 км до города. Самолёт разрушился, осталось в живых человек 20, в багажнике действительно обнаружены следы пожара.
Самое страшное – пожар внутри самолёта: тушить практически нечем, ну, два огнетушителя, а дым идёт в салон. У нас багажники под полом, как там определишь, где горит, если всё забито чемоданами. Это бесполезная затея, хотя для такого случая на самолёте есть кислородный баллон с маской, и бортмеханику вменено в обязанность идти искать очаг и тушить огонь тем ручным огнетушителем.
Здесь выход один: немедленно, не теряя времени, садиться, лучше на воду. Ждать, что дым сам по себе улетучится, бессмысленно: люди всё равно будут задыхаться, и уж раз что-то горит, то и дальше гореть будет. А масок на всех пассажиров на наших хвалёных самолётах пока нет.
И у них была Вычегда под боком, судоходная река, день, можно сесть, и любой катер подберёт людей, пусть по горло в воде, пусть на надувных трапах, – но остались бы живы. Но это вечное стремление лётчика вернуться, дотянуть до своего родного аэродрома…
Так погиб и Витя Фальков: под ним было полно места для вынужденной посадки, пустые, без машин, дороги, и знай он, что вот-вот должно отказать управление, тут же бы сел на дорогу или в поле.
Больше подробностей пока нет.
Слетал в Сочи. Туда – напрямую, через Куйбышев, обратно – через Норильск. Особых приключений не было.
Лёша в Куйбышеве примостил грубовато. Шёл-шёл чуть ниже глиссады, на газу, на больших углах атаки, торец тоже прошёл ниже, да так, на газу, и упал. Там ещё небольшой уклон, он и подскочил под колёса, а скорости, чтобы чуть добрать, – и нету. Короче, 1,3. Лёша сам признал, что обгадился: рассчитывал на короткую полосу, но забыл про пупок на ней.
В Сочи боковой ветер, сдвиг ветра, в момент выравнивания чуть понесло вправо, а добрать, чтобы мягче сесть, нельзя: перелетишь лишних 200 метров, а там всего 2200. Так я и сел, с чуть ощутимым сносом… но сносно.
Назад первая посадка в Уфе: грозы, дожди; со ста метров сдвинуло, но, в общем, к сдвигу мы всегда готовы, запас скорости есть; тем не менее, пришлось резко сунуть чуть не номинал. Справился, сел хорошо.
Взлетали на грозу; диспетчер сомневался, сумеем ли выйти, заставил доложить обстановку по локатору перед взлётом. Локатор показывал, что пролезем; так и вышло, правда, крены закладывали до 30 градусов.
В Норильске садился Лёша. Я прозевал соответствие высот и удалений на подходе к аэродрому: на траверзе высота была ещё 1800, но чуть затянули третий и сумели потерять лишнюю высоту.
Лёша хитрец: запасся скоростью, учёл, что машина очень лёгкая, и, выровняв по своей привычке низковато, сумел заставить машину идти вроде как чуть вверх, вдоль ощутимого норильского пупка; дальше дело техники, притёр…
Дома из-за ремонта полосы торец перенесён вперёд. А садиться на полосу, когда видишь торец бетона, но знаешь, что это запретная для посадки зона, – самое пакостное дело. Так и мостишься под старый торец, потом тянешь на газу с задранным носом, но всё равно ниже глиссады, кое-как дотягиваешь и падаешь до знаков. Тут я Лёше помог и держал режим до касания. Машина ухнула вниз с метра или двух, но на удивление мягко коснулась. Видимо, газы помогли, скорость падала медленнее.
Ну а писать о красотах, когда над тонкими облаками в голубой дымке создаётся впечатление, что летишь над морем с плывущими ледяными полями, и вдруг между ними открывается немыслимая тёмная глубина дна, а на дне – поля, реки, города, – это удел писателя, сидящего за моей спиной в салоне. Но я-то смотрю вперёд…
Пригнал нам машину в Сочи Репин – сам серый, смертельно уставший, заторможенный: видимо, летает из ночи в ночь. Доверительно сказал мне, что, боясь перелёта, использовал возможность в наших нормативах – садиться за 150 м до знаков, на четвёрку. Силой досадил машину и сумел вовремя освободить полосу висевшему на хвосте борту, срулив по 9-й РД. Меня тронуло, что он говорил со мной как с равным. Ну, да он меня в своё время оценил и всё хотел сам вводить меня в строй.
Середина лета, а усталости особой нет. Ну да из Сочи и опять в Сочи летать можно. Это не в Москву с разворотом, из ночи в ночь.
4.08. Налетал в июле 65 часов, не устал. Ощутимо сказывается что-то новое в работе аэрофлота. Есть топливо. Это настолько непривычно, что диву даёшься: легко работать-то! И самолёты под рейс всегда есть. Ни одной задержки за всё лето, на работу хожу по расписанию. Сравнивая два года – небо и земля, – я поневоле отношу этот контраст к апрельскому пленуму, 27 съезду и перестройке. А к чему же ещё относить. Дело пошло.
А что – топлива добились мы, лётчики? Да кто там к нам прислушивался. Прислушались сверху к экономическим показателям, сделали выводы, нажали на рычаги – пошло топливо.
Или, может, это мы, лётчики, добились исправности самолётов? Или наши замордованные техники с инженерами? Да – исправность обеспечена их золотыми руками и головами, но запчасти-то им дали сверху. Всё сверху идёт.
А снизу идёт вот что. Не мне, не меня, я ничего не знаю, не моё дело.
Не сделать как лучше, не вложить душу, не приложить руки к тому, чтобы рейс ушёл по расписанию, подготовленным по всем параметрам. А выполнить букву, спихнуть с себя, заведомо зная, что не по совести.
Мы с тётей Машей справиться не можем, кроме как через ту же громоздкую скрипучую машину инструкций, увязок и погонщиков. Вот и главная фигура в авиации… «Чикалов».
Выполнил две Москвы, Норильск, Благовещенск, без особых впечатлений. Замечаю за собой мелкое разгильдяйство: теряю скорость – не намного, километров на 10-15, всего на несколько секунд; не нарушение, но и не норма. Попросил ребят, чтобы специально следили и пинали. Это естественная усталость летом, рейсы один за другим, эфир забит информацией, отвлекаешься на решение задач. Но права нарушать, допускать отклонения, мне никто не давал.
Слетал со мной вчера Рульков, без замечаний, даже «потише-потише» не было. Значит, могу собраться.
В Ростов ещё летали, на тренажёр. Инструктор дал нам хорошую тренировку, а мы ведь настраивались на создание видимости: тренажёр-то никудышний. За час работы взмокли, но польза определённо есть. Во всяком случае, появилась уверенность, что в реальном полёте-то справимся.
А раз убились. Я не расслышал доклад бортинженера (СПУ как не работало, так и не работает) о пожаре третьего двигателя при остановленном втором. Думал, что это загорелся второй, дал команду тушить его, а он выключил и тушил третий, и мы на одном моторе тут же потеряли скорость с закрылками на 45 и упали со ста метров. Ну, потом, конечно, отработали.
Конечно, летом устаёшь. Но каждую субботу нынче я как-то умудряюсь вырваться на дачу, попариться в баньке и отдохнуть душой и телом, а это великое дело.
9.08. Слетали в Запорожье. Туда летели без приключений, единственно, допустил оплошность на снижении в Горьком. Горький нас долго не снижал, разводил со встречным; потом уже, на предельно близком расстоянии, дал снижение. Я был готов, заранее погасил скорость, а получив команду, непроизвольно потянул на себя рукоятку интерцепторов и с вертикальной 30 м/сек посыпался вниз… и тут до меня дошло, что высота-то ещё 9500, а интерцепторами в нормальном полёте можно пользоваться лишь с 9000 метров, и только при экстренном снижении разрешается использовать их с любой высоты. Сколько секунд горели табло выпущенного положения, секунд пять, может, десять, не знаю, но нарушение РЛЭ налицо. Убрал, плюнул… виноват.
Чкалов бы засмеялся… но сейчас не те времена. Буква!
Желательно бы, конечно, использовать интерцепторы с любой высоты, по усмотрению командира корабля. Но как же это можно – летать без ограничений. Нельзя, это же слишком просто. Вот на экстренном снижении, со скоростью 600, – допустимо, интерцепторы на это рассчитаны. А на нормальном снижении, со скоростью 575, – нет, не рассчитаны, оторвёт их. Так, что ли?
Сам виноват, разгильдяй.
В Запорожье заходил Лёша, а мы с Женей визуально по схеме сборника определяли места разворотов и рассматривали город. Надо сказать, такая визуальная провозка что-то даёт. Действительно, на По-2 без этого нельзя. Мы хорошо запомнили характерные ориентиры, да и схема захода как-то отпечаталась в памяти. Но будь сложняк – зашли бы по приборам, как, собственно, всегда и заходим. Так что визуально, конечно, хорошо, но… мы способны на большее, а времена По-2 прошли. Только провозки остались.
Отдохнули два дня на днепровском пляже, а на обратном пути остывали от сумасшедшей жары, не дававшей спать в душной гостинице.
Приключение ждало нас в Горьком. Как оказалось, Запорожье загрузило нас больше, чем положено по весовой брони. В Горьком, при наличии у нас свободных мест, загрузка всё же не проходила: не получалось взять на борт всего тонну. Эту тонну в Запорожье нам впихнули. Оттуда кто-то вёз четыре тонны фруктов: груз неделимый и снять часть его нельзя. Скорее всего, какой-то жук сунул мзду перевозкам, а они позарились и нарушили весовую бронь, надеялись, что пройдёт. Но тонна не проходила, а горьковским пассажирам билеты проданы за 15 дней, они уже сидят в самолёте…
Что делать? Снимать часть пассажиров, уже посаженных в самолёт? Но кого именно? И как их потом отправлять, как оправдываться? Короче, нельзя снимать.
Время шло, назревала задержка. Пошли мы в перевозки, стали выяснять возможности.
Самым простым было бы не дописывать тонну багажа и ручной клади. Да, это нарушение, это сокрытие перегрузки, это фактически вес не 98 тонн, а 99.
Но мы ведь в Москву летаем же с разрешённым весом 100 тонн. А вот из Горького в Красноярск 100 тонн ещё не разрешено, только 98.
Значит, не дописать тонну багажа. Производительность, основной показатель, при этом не пострадает, т.к. она учитывает багаж автоматически: пассажир с багажом берётся не 80, а 90 кг по бумагам.
Перевозки на это не пошли. Оно им надо. Остаётся один путь, законный: слить тонну топлива, созвониться с Москвой, выбрать пункт промежуточной посадки по пути и там дозаправиться. Лишняя посадка – и только.
Но сливать топливо физически долго: и насос выкачивает медленно, и пассажиров при этом надо снимать, потом прогонять через досмотр и снова сажать.
Оставалось полчаса до вылета, а мы всё дебатировали в ПДСП, и уже мне подсовывали акт задержки, где уже всё было расписано, мне оставалось лишь поставить подпись внизу. Правда, между текстом акта и моей подписью на листе оставалось ещё чистое место, где после моего подписания можно спокойно добавить, что, мол, бронь нарушена с согласия экипажа, или ещё что, – я такие штучки знаю. И я тянул, не торопился подписывать, а мне всё подсовывали, а я всё тянул, мучительно соображая, как отбрыкаться.
Наконец, Москва дала добро на подсадку в Томске. Томск по трассе ближе всего к Красноярску, и чтобы посадочный вес в Томске не превысил норму 78 тонн, потребуется слить всего тонну, остального топлива с лихвой хватит, чтобы взять запасным Красноярск.
Я отправил Женю пересчитывать штурманский бортжурнал, нажал кнопки: синоптикам насчёт прогнозов и на ГСМ, для слива топлива.
ПДСП горела желанием вытолкнуть нас без задержки: у них смена кончалась. Поэтому начались уговоры: вылететь как-нибудь так… Но раз перевозки на себя не берут… а мы же, идя им навстречу, ещё в воздухе прикинули, урезали расчётное топливо, сделали заначку, пару тонн… Если они на себя не берут – то, извините, делаем всё по закону. Сливайте.
Задержка работала на нас. Нам предложили: не сливать, а требование, бумагу, оформляющую слив, нам дадут на тонну. То есть, нам эту тонну подарят.
Я для порядку подумал, согласился, поблагодарил.
Побежал на метео, отправив прежде Лёшу на самолёт, чтобы, если подъедут насчёт слива, так не сливали бы, а только отдали бумагу, договорённость с ПДСП есть.
Синоптическая обстановка в районе Красноярска была однообразной: кругом туманы. Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Томск, – всё давали временами туман. Фактически в Томске уже был туман 600, но прогноз его был ещё лётный. Красноярск давал временами низкую облачность, но запасным подходил.
Идеальный вариант! Лететь в заведомо закрытый Томск по пока ещё лётному прогнозу, а уйти на запасной Красноярск! Всего на тонну меньше топлива по расчёту, а лететь можно. Вот лазейка. Правда… если Томск к моменту нашего прилёта приоткроется, придётся садиться там, согласно официальному указанию Москвы.
Час ушёл на то, чтобы растолковать технику ГСМ из новой смены, чтобы он выписал и даром отдал нам требование на слив, и не на тонну, а всего на 300 кг. Оказывается, молодой бортинженер ошибся и заправил не 28,5, а только 28 тонн, и после точных подсчётов оказалось, что не проходит всего 300 кг. Да мы их уже сожгли: у нас их ВСУ сожрала за час. Но… в задании я уже записал, что задержка – сливом топлива, теперь только сливать. Или отдайте требование на 300 кг.
Дали бумагу. Ещё раз всё проверили и взлетели.
Томск так и не открылся, и мы сели на запасной у себя дома с остатком 5 тонн.
Таким образом: сумели протащить хорошую загрузку, вывезли всех людей, сделали доброе дело, обхитрили все законы – на основании тех же законов, – и если бы не пересмена в Горьком и не бестолковая служба ПДСП, то и задержки не было бы.
Акт я всё же подписал, но прежде тётя Маша при мне записала: виновник задержки – служба перевозок Запорожья, рейс отправлен по указанию ЦДС на дозаправку в Томск. Свободное место на листе оказалось всё исписанным, и тогда я поставил подпись. Знаем мы эти штучки.
Весь июль сознательно жёг топливо, летая на повышенных режимах, по Ясакову. Экономия всё же есть, около 5 тонн, но я бы смог сэкономить все 15, летая по своей методике.
Сейчас, наоборот, затягиваю газы, держу М меньше, и уже ощутимая экономия. Так что, в общем, режим М=0.86 экономии не даёт, а 0,82 даёт. И пока производительность хорошая, надо экономить и добиваться премиальных. Мы так и делаем. Если с начала месяца загрузка идёт, есть смысл экономить топливо. Если же пара рейсов без загрузки, то экономия теряет материальный смысл из-за низкой производительности. Но я экономлю всегда, из уважения к себе и к труду людей.
20.08. На Москву летели через Норильск. До Норильска полная загрузка, от Норильска – три ноля. Рявкнулась производительность, можно не стараться.
В Москве только что рассеялся туман, и над Домодедовым вилась этажерка самолётов. Мы заняли свою полку в зоне ожидания и стали извращаться на схеме, постепенно, по очереди снижаясь. Закрутились так, что после третьего или четвёртого круга Женя, управлявший атопилотом, потерял на минутку представление, где мы. Но справились, разобрались, правда, я отобрал у него автопилот, а то он долго размышлял там, где прыгать надо.
Вообще, в районе аэродрома пилоты соображают лучше и быстрее штурманов, это проверено. Это ведь школа ещё с Ан-2. У пилота лучше интуиция, он быстрее соображает, как, с какой точки, куда взять верное направление. Штурман же приучен считать, а для расчёта нужно время. Пилот как бы видит картинку, а штурман только пытается её представить в уме.
Знаю, каково это, когда в облаках представляешь себе одно положение, а выскочив, видишь, что всё совершенно не так, и мгновенно врубаешься. Долгие годы тренировок вырабатывают у пилота умение представлять обстановку так, что хоть днём, хоть ночью, хоть в облаках, хоть в осадках, – он справится, использует все возможности, причём, без цифр и формул, интуитивно: и ориентир в разрыве облаков, и огни, и дорогу, и стрелку радиокомпаса, и именно в нужный момент удаление спросит, – глядишь, выкрутился.
Этот закон не применим абсолютно ко всем, но к большинству – точно. Не в обиду штурманам, их дело – маршрут. Там свои особенности: расчёты, часто в уме, курсы, скороподъёмность, азимуты, поправки, радионавигация, – там своя, штурманская интуиция, чувство места, уверенность в правильном направлении.
Я, конечно, стараюсь развивать в себе все эти качества: и пилота, и штурмана. Я – командир корабля. А раз я пилот, то, кроме всего, надо ещё и автоматически пилотировать, как дышать.
Эх… салонного бы рассусоливателя, утончённого интеллигента, с рефлексией, – да в Московскую зону на полчасика, да в сбойную ситуацию, да в грозы… Вот – жизнь! Без рефлексии, но с мокрой задницей, с реальным, вонючим потом лица своего. Эх, нет такого писателя, а мне бог не дал таланта…
Да, вот и полетай без штурмана, как мы шарашились недавно в грозушках над Абаканом. Сегодня-то я набрал ворох газет и всю дорогу читал, а Женя меня вёз. Оно приятно-то, когда тебя везут… Довезли, ты красиво сел – и все дела. А то без штурмана, за лишнюю тридцатку к зарплате, – крутись весь полёт и моли бога, чтоб матчасть не подвела.
27.08. Не было бы счастья, да наше аэрофлотское несчастье помогло. Вчера стояли на ночной Норильск. Только собрались запускаться, как загорелось табло «Уровень масла» ВСУ. Вызвали маслёнку: долить масла. Ответ: масла нет, ждите 4 часа. Масла-то надо всего литра три долить. Но… пересмена, неразбериха, бардак, сбой. У буржуя прибежал бы техник с канистрой, плеснул бы, и всё. У нас же куда-то пропала машина с маслом, единственная на весь аэропорт.
Высадили пассажиров, пошли выяснять. На земле русский технарь решил проблему просто: слил три литра масла из двигателя (там его хватает) и долил нам в ВСУ. Но чтобы это решить по всем законам, понадобилось ещё полчаса. Потом полтора часа досматривали пассажиров. Какой идиот только придумал этот досмотр – и уж вообще, зачем досматривать норильчан? Ну, ладно, один раз, перед вылетом, – куда ни шло. Но диверсант же не мог предусмотреть, что ВСУ как раз именно к моменту посадки пассажиров выработает масло, и загорится эта лампочка, и мы высадим пассажиров! Он же не ждёт с бомбой и автоматом за забором, чтобы передать их террористу-пассажиру. Зачем второй досмотр?
Но нет. Инструкция требует, и будут досматривать, хоть десять раз. Только кто даст гарантию, что досмотр этот эффективен на все сто процентов?
Пока шёл досмотр, прогнозы ухудшились, запасных аэродромов нет, пришлось брать запасным Красноярск с рубежом возврата, а значит, дозаправить ещё 5 тонн топлива.
Только стали запускаться, нам передали, что в Норильске туман 300. По расчёту выходило, что, взлети мы вовремя, Норильск закрылся бы аккурат у нас перед носом, и сидели бы мы в Игарке. Так что нам повезло. Пошли спать.
А сегодня в обед мы уже стоим на Москву. Норильск закрыт, мы отдали рейс резерву, и он только что улетел, а мы идём на Москву по расписанию.
Интересно спланирован у нас конец месяца: 26-го в ночь Норильск; 27-го днём Москва с разворотом, возвращаемся ночью; на следующую ночь снова Норильск; на следующую – опять Москва. Четыре ночи не спать. Но до отпуска две недели.
На днях слетали в Сочи на две ночи. Почему-то мне казалось опять, что выравниваю высоко. Букально ломал себя, прислушивался к отсчёту последних метров высоты по радиовысотомеру: два, метр, метр… ой, высоко! И тут же касание. Странное ощущение. Причина такова: кресло плохо регулируется; сидел, чуть откинувшись назад, – уже восприятие высоты другое.
Сегодня меня проверяет Кирьян: годовая проверка согласно НПП, на подтверждение пилотского свидетельства. Ну да в рейсе он нормальный человек.
В нашей газетёнке статья. О плохой освещённости, а вернее, о полной неосвещённости рабочего места штурмана на Ту-154. Мы двенадцать лет над этим бьёмся, и ничего лучше не придумали, как подсвечивать пульт НВУ вручную, лампочкой с длинным проводом, – так называемым «мышонком». А сидящая в НИИГА тётя, ответственная за исследование этой проблемы, свято убеждена, что да, «пора менять освещение красным светом на освещение белым». У нас красного сроду не было, это на Ан-24 красное, а у нас всю жизнь белый свет… но очень хреновый, а пульты навигационно-вычислительного устройства, в окошках которого мы в полёте всё время читаем оставшееся расстояние и боковое уклонение от трассы, – вообще не освещены.
В свете этого «освещения» наш брат-лётчик свято убеждён, что выгони эту тётю – да разгони вообще наш НИИ, – ничего не изменится. Там сидят тунеядцы. А мы потихоньку слепнем, но на это всем наплевать.
27.08. В Москву слетали по расписанию. Я старался, но если честно, то как-то с прохладцей. Демонстративно включил в наборе автопилот, а на вопрос Кирьяна зачем, сослался на зам. командира ЛО, что тот на больших высотах разрешил.
В Москве на снижении Кирьян оттянул за то, что я, получив команду занимать 3900 на Марьино, успел занять только 4500. Честно говоря, всегда, летая на Москву, я рассчитывал на снижении занимать на Люберцы либо 3000, либо 1200, в зависимости от посадочного курса. На промежуточное Марьино занимал столько, сколько требовалось, исходя из расчёта на Люберцы, и никогда Москва претензий не предъявляла. Если посадочный курс в Домодедове 317, то проходить Марьино на 3900 – низковато: придётся делать площадку и дотягивать до Люберец на режиме. Зачем?
В Домодедове болтало, был боковичок; я потел. Всё нормально, но у земли ветер усилился, машину понесло боком; я упорно держал ось полосы. Выровнял, трепало, в последний миг заметно потащило вправо, и я почти судорожным, но дозированным движением подхватил штурвал – как последнее средство смягчить боковую нагрузку в момент касания. Замер… и еле слышно зацепились за бетон. Побежали; я всё держал переднюю ногу. Дал команду на реверс, но Кирьян приказал сперва опустить передние колёса. Оттянул за то, что я включаю реверс, ещё не опустив ногу, – но ведь он-то знает, что я раньше чуть толкал от себя в момент касания, а теперь вот, специально для него, – держу. Да он тут же и замолк: посадка-то классная.
Зарулил, вылез… Спина, да и весь, мокрый. Ветерок дул приличный, сквозь пиджак пронимало, и я убежал в вокзал, чтобы не простыть ненароком.
Когда летели назад, в наборе приходилось для набора эшелона к заданному рубежу кое-где задирать машину, теряя при этом скорость до 500. Кирьян ворчал, что за это скоро будут наказывать. Я молчал. Кто докажет, что я не уменьшал скорость, допустим, перед входом в облака, ожидая болтанку. Это моё дело: в соответствии с РЛЭ я обязан так поступать.
Весь полёт барахлила ДИСС, ромбик показывал снос 5 градусов вместо фактических 10. Я не вылезал из локатора, определяя угол сноса примитивным способом: по копошащимся световым точкам на лучике; совместными с Женей усилиями долетели нормально.
Женя подвёл к полосе близко, в обрез, справились и зашли отлично. Землю перед касанием я видел как никогда.
На рулении Кирьяну не понравилось, что я на разворотах немного проворачиваюсь, протаскиваю машину чуть дальше. Я не стал спорить. Это перестраховка, чтобы задние колёса на углу не сошли на обочину. Протяну, убедюсь, что хвост проехал опасную кромку, потом поворачиваю. Ну, и быстро рулю.
Да, рулю я быстро, но гашу скорость заранее и плавно, где надо.
А так всё отлично. И всё же как-то плевать. Когда шоколадом забит весь рот, уже не до вкуса – не подавиться бы.
В Домодедове выкатился на КПБ Ил-86. Заходил молодой командир, узбек, по минимуму, в дождь, перелетел 1500 м, а полоса, покрытая водой, довершила дело. Ну что ж, перелетать нельзя.
А в Свердловске в грозу Ту-154 сел мимо полосы, на грунт. Забил грязью двигатели, повредил закрылки. Тоже: нельзя в родном порту, хоть и в грозу, садиться мимо полосы. Не повезло мужикам.
2.09. День рождения проспал в Домодедове. По нынешним временам это подарок. Третья Москва подряд, уже всё перепуталось.
Из какой-то Москвы возвращались, стремясь удрать от настырно повисшего на хвосте Стёпы Ванькова. Он взлетел за нами через шесть минут и стал явно догонять. Когда мы от Урала повернули на Ханты, он пошёл через Тобольск и сократил разрыв до 30 км в районе Васюгана, где трассы вновь сходятся. Так и висел сзади нас на 10100, а мы шли на 11100. Постепенно становилось ясно, что из-за малого интервала нас снижать вперёд него не будут. Мы выжали из машины всё, но разрыв не сокращался. Стёпа пришёл в Москву с разворотом, имел хорошую заначку и теперь нещадно её жёг, шпаря на максимальной скорости. А мы со своими скупо отцеженными Москвой 31,5 тоннами вынуждены были полдороги экономить, на что он и рассчитывал, и залезли из-за этого на более высокий эшелон, а там попутный ветерок оказался слабее.
Красноярск, как и ожидалось, снижения нам не дал, потому что будем пересекать занятый Степаном нижний эшелон, а интервала безопасного уже нет. Стал снижать заранее Степана, а потом уж нас, ограничив нам вертикальную скорость, чтобы Стёпа успевал освобождать нам эшелоны. Потом отправил его напрямую, а нас через Горевое, по катетам. Потом сообразил, что раз мы впереди, то лучше нас напрямую, а его через Горевое, чтобы отстал. Так мы и пошли.
Нам дали занимать 6000 за 100 км по РСБН Северного. А посадочный курс 108, т.е. заход с прямой, и 6000 за сто – высоковато. Как мы ни старались, а подошли к 4-му развороту высоко. Я ещё запутался с поправкой на РСБН Северного: с прямой 27 км, а под углом меньше… короче, нас вывели на привод и заставили сделать круг. Да тут откуда-то ещё вылез попутный борт и повис на прямой; так или иначе, а всё равно из-за него пришлось бы крутить чемодан. Тут выскочил и Степан с Горевого, и его отправили через привод по схеме вслед за нами. Ничего он не выгадал, так и сели с интервалом в 6 минут.
На будущее: за 100 надо просить 5400 и занимать потом 3000 за 80 по РСБН.
А вчера летели в Москву, проверял меня Попков, замечаний нет. Кстати, в МВЗ нам Подход-8 дал снижение 1800 на Марьино. Эх, не было тут Кирьяна. Вот наглядный ему пример: что же – так и занимать 1800 за 60 км, на Марьино? Попков засмеялся, когда я рассказал ему о вчерашнем эпизоде с этим Марьиным. Конечно же, когда подход даёт снижение, то подразумевает – по расчёту экипажа, а Марьино – только направление. Контроль вторичный, диспетчер видит нашу высоту и наглядно представляет наш расчёт. Потом он дал «на Картино 1200». Это же не значит, что курс брать на Картино. Это означает, что курс хоть и на Картино – но по трассе, через Люберцы. Если бы прямо на Картино, он бы сказал: «курс на привод Картино».
Уточнение: в Свердловске борт сел не мимо полосы, а выкатился на боковую полосу безопасности в условиях грозового ливня. Повреждения значительные. Куда лез?
В газету пожаловался старый пилот, командир Ту-154 из соседнего управления. Что-то он вытворил, вроде моей сочинской посадки. Смутно объясняется что-то насчёт центровки, балансировочного положения руля высоты на глиссаде и закрылков на 28. Сел благополучно, но при расшифровке вскрылась куча нарушений.
Вот – отличие: я-то в Сочи ничего не нарушил, а он – нарушил.
Тут же добровольно-принудительно ушли его на пенсию.
Ну, и два комментария: заместителя начальника управления и бывшего коллеги, нынче – того самого расшифровщика, что эти нарушения раскопал. ЗНУ, естественно, уверяет, что пусть ещё скажет спасибо, что не уволили за нарушения. А бывший коллега раскрывает характер обвиняемого.
Личность незаурядная, но разбросанная. Летает отлично… но неровно. Всю жизнь искал, где лучше, скакал с типа на тип, приносил предпосылки, убегал на другой тип и т.д. Ну, и допрыгался.
Что-то тут попахивает элементарной недоброжелательностью. Если уж ты раскопал и заложил коллегу, неэтично трещать об этом на весь аэрофлот: стукачей не любят нигде.
Меня эта незаурядная личность привлекает тем, что это не вол в колее: видно, ищет свои, рациональные методы, в частности, использует закрылки на 28, при необходимости действует не по букве, а по здравому смыслу. Жаль только, что эксперименты заканчивались у него предпосылками. Видать… бог не хранил его, что ли.
Но… в 55 лет надо и собой владеть, и уметь убедительно излагать свои взгляды, пробивать идеи. Видно невооружённым глазом, что самоуверен. Сделает, обгадится, а потом обижается, что его не понимают.
И уж нет ничего хуже в лётной работе, чем неровность и непоследовательность. Того и жди, принесёт ЧП. И ведь приносит! А здоровья хватает, как у нашего С. Видно, явно использовали этот случай, чтобы, наконец, убрать его.
А тот коллега – в угоду начальству написал, да и личная неприязнь сквозит. Демагогия всё это: снимать командира за то, что закрылки после посадки в условиях обледенения не оставил выпущенными на 28, а убрал. Видимо, забыл, что при уборке можно повредить их оставшимся в щелях льдом. У нас сколько раз забывали, убирали полностью, и ни разу ничего не повреждалось. Но предупреждение такое в РЛЭ есть – вот тебе и готовое нарушение. Ох и велика угроза безопасности полётов…
6.09. Мои полёты закончились в этом летнем сезоне неожиданно и даже забавно. Пока я переживал и нервничал, мне напланировали полётов под конец месяца. Ждать от нашего командования лучшего в сентябре – наивняк.
Тем временем, видимо, в порядке отдыха, поставили нас на денёк экипажем в колхоз. Всё же полтора месяца изо дня в день без выходных… Ну да не мы первые, не мы последние. Человеческий фактор мой, конечно, протестует, но куда денешься: прилетели из Благовещенска вечером, а рано утром – в рабочей одежде в колхоз.
Договорились, что Женя и Лёша особо вкалывать не будут – оба только после радикулита; мы на днях Жене по очереди портфель носили, он согнутый ходил.
Едучи с вылета в автобусе домой, у меня щёлкнула шея. Меня мой шейный остеохондроз постигает всегда внезапно, но тут – как на заказ. Утром я уже носил голову в руках. Ребята поползли в колхоз, а я кое-как двинулся к врачу. Получил направление к невропатологу, явный болевой синдром – она тут же упекла меня на чердак. На чердаке – в нашем стационаре – с радиком лежат минимум две недели, некоторые – и пару месяцев.
Я в детстве со стога вниз головой съехал, подсадил один из дисков на шее, но об этом врачи не знают. И свой хондроз залечиваю за два дня: за двадцать лет я его познал до тонкостей и наловчился бороться. Налепляю перцовый пластырь, а если уж сильно припекает, то тут надёжнее парафин. Через два дня уже обычно аккуратно ворочаю головой.
На этот раз, кстати, болело не очень сильно, а как раз так, как надо: работать в колхозе явно нельзя, летать – само собой, тоже нельзя, крутить шеей больно, но дома ковыряться вполне можно. Зашёл к командиру эскадрильи, держа голову в руках и поворачиваясь вокруг неё всем телом, – тут со стороны явно видно, что не сачкую. Он отправил меня к командиру отряда, но я помахал бюллетенем и не пошёл. А тут и врач лётного отряда подвернулась и сказала, что не допустит меня к полётам, пока не отгуляю отпуск. Так что полётам моим конец до зимы.
Самое смешное в этой истории вот что. Вечером в пятницу ложиться на чердак нет смысла, договорились на понедельник. Сегодня суббота, а у меня уже всё прошло. Потихоньку верчу головой, даже езжу на машине, – терпимо, хватило одного пластыря. Сейчас всей семьёй мотнём на дачу с ночёвкой. А в понедельник я, здоровенький, лягу на полмесяца в больницу, потому что невропатологу надо снять с себя ответственность: лётчик пожаловался, меры приняты.
А я получил свой отдых без всякой нервотрёпки, даже раньше, чем хотел. Ну, поколют витамины в задницу – это раз в день. На улице ещё тепло, буду каждый день пешочком домой 6 км ходить, ковыряться с машиной в гараже, да по дому. А отпуск-то мой ещё впереди!
27.09. Отдыхаю три недели. Сейчас вот читаю эти, написанные всердцах строки, улыбаюсь. Видно, и правда, устал, если согласен был на всё, лишь бы не летать. Ну, а сейчас отдохнул.
Теперь другие заботы. Всё было хорошо: отдыхал, работал на даче – благо, режим в больнице не такой уж и строгий, – и вдруг простудился. Скорее всего, на сквозняке спал. Сосед по палате, тяжёлый, лежачий больной, страдая от тяжких болей, всё время курил; форточка и дверь всё время открыты, а пенальчик тесный, деться некуда.
Ослабленный за лето организм тут же поддался болезни. И вот уже две недели кашляю, стараюсь домашними средствами возбудить защитные силы организма, но очень уж слабы эти защитные силы…
Тем временем, колёса, в которые я сунул свою бестолковую голову, медленно и неуклонно провернулись, и уже не вырвать. Теперь уж мне делают полное обследование: так делать теперь положено по новым правилам каждому лётчику, попавшему на чердак по любому поводу.
Нашли отклонения в биохимии – зацепка терапевту. И аорта расширена, значит, крутить велосипед. Ещё ни разу не делал зондирования, боюсь его: прошлый раз не пошло, а невроз (давило в глотке) остался. Зондирование наверняка даст гастрит (а у кого его нет); значит, начнут лечить желудок… И лежать мне здесь, и лежать… Отдыхать.
Плавно поднимается возмущение нашей авиационной медициной. Врач для лётчика отнюдь не друг, а что-то вроде злой собаки, мимо которой надо как-то прошмыгнуть, – с волосами дыбом, но натянуто улыбаясь. Пока ты летаешь, тебе врач только мешает жить, норовит тебя отстранить и подвергнуть долгим, унизительным, болезненным и безусловно вредным процедурам, оговаривая, что это – для твоего же блага. Нет того лётчика, кто бы, вырвавшись из лап наших лекарей, не плюнул бы с облегчением и запоздалым раскаянием, что даром потерял не только время, но и часть здоровья.
Это я говорю с позиции здорового лётчика. А каково лётчику захворавшему. Вот и стараются все любым путём, любыми средствами, – но обойти десятой дорогой наших эскулапов.
Я заболел и чувствовал себя неработоспособным полтора дня: банальный радик. Всё прошло, шея вертится по-прежнему. С позиций здравого смысла – и летай себе дальше, либо иди в отпуск. Обратился к врачу, болело, – надо пару дней отдохнуть. Прошло – само ли, народными ли средствами, – но прошло; врач должен быть доволен; значит, крепкий организм, врачу пока делать нечего, – ну и летай себе, пилот.
Но так нельзя. И вот я три недели гнию, и ещё с месяц буду здесь гнить. Без движения, в душной атмосфере, без горячей воды, напичкиваемый безмерным количеством вредных лекарств, нервничая от страха перед болезненными процедурами… И неважно, с чем ты лёг сюда – с панарицием, ангиной или бронхитом, – всем полное обследование, и точка.
Но зато, если старому лётчику надо списаться на пенсию по здоровью, чтобы остаться в аэрофлоте и потом получить какие-то нищенские льготы, – каких только давних диагнозов не представляют экспертной комиссии претенденты на списание. И травмы черепа-то у него были, и язвы, и предынфарктное состояние, и только что не клиническую смерть перенёс, – а вот втихаря лечился и летал. Летал! Куда же вы смотрели на годовых комиссиях, врачи-эксперты?
И вот идёт война. Мы для них – замаскированные мины замедленного действия; они для нас – цепные псы на пути в небо.
А будь я не лётчиком, а рядовым пенсионером, – с моим радикулитом попёрли бы меня подальше: здоров как бык, иди работай, поболит и перестанет.
Вот и сижу сейчас, тайно бегаю домой лечиться своими средствами. Тётя-ЛОР, наивно полагая, что я исправно принимаю все её лечебные средства, и совсем потеряв в этом чувство меры, назначила мне: 1) этазол; 2) аспирин; 3) тетрациклин; 4) капли в нос; 5) УФО в нос; 6) ингаляции; 7) УВЧ на горло; 8) полоскание; 9) смазывание; 10) горчичники на спину. На всякий случай рекомендует обратиться к терапевту. Сосед по палате к терапевту попал, тут же получил диагноз: бронхит, лечить две недели; а тут зондирование показало: гастрит, а он лежит-то с радикулитом… Ещё месяц минимум.
Я тяну; кашель уже проходит, время и организм взяли своё. Мне никак нельзя ещё и бронхит с лечением получить: тогда залягу надолго.
Это всё делается для того, чтобы лётчик как огня боялся врачей.
1.10. Не спеша, медленно проворачиваются колёса медицинской машины. То вниз утащит, то вверх выбросит. Терапевт признаёт меня здоровым. ЛОР скрепя сердце (горло ещё чуть красное) тоже написала, что здоров. Сам-то ещё чувствую отголоски болезни, но шевелюсь.
Теперь меня держит биохимия. Если бы вчера оперативно обернулись с моими бумагами, то на сегодня уже назначили бы повторные анализы. Но колёса проворачиваются медленно. Нашего времени врачам не жалко. Вот сегодня они соберутся, перечитают мою историю болезни, подумают, посовещаются, назначат на завтра анализы, пожурят меня, что не успел до их прихода ещё раз сбегать к ЛОРу. Потом, завтра, после обеда, придут результаты. Если всё будет в норме, пойду к эксперту за назначением на велосипед; если успею, в тот же день и откручу. Если нет, то ещё день уйдёт на велосипед и визит к эксперту для окончательных промежуточных выводов. Потом соберётся «консюлиум» и решит мою судьбу. Потом день на выписку. Это будет суббота, нерабочий день, а там воскресенье, а потом день на разгильдяйство… короче, где-то к вторнику. Это если всё хорошо. А если плохо, то будут меня лечить, доводить эту трансаминазу до нормы. А предварительно – искать причины, от чего лечить, а значит, полезут в желудок, потому что туда ещё не залезали.
Между тем, я отдыхаю. Отметившись утром у врача, убегаю и использую день до вечера. Много дел и на даче, и в гараже, и в погребе, и дома. Сплю по режиму, спокойно, читаю, никуда не тороплюсь. Надю отправил в отпуск к старикам, Оксана на работе, и мне вполне хватает одиночества и покоя. А отпуск мой ещё впереди…
4.10. Отпустили на три праздничных дня домой. Биохимия моя скачет: то одно, то другое. Для нормального человека – здоров; для пилота, да ещё командира Ту-154, – нездоров. Полежу ещё.
Читаю записи годичной давности. Всё – то же, как будто это было вчера или сегодня. То же напряжение полётов. Частые сбои, срывы наших бесчисленных шестерёнок. Та же гонка тех же загнанных лошадей, и то же безразлично-жестокое отношение конюхов.
Но есть и существенные изменения.
Ушёл в прошлое Северный аэропорт. Остались жалкие клочки аэродрома, отрезанного дорогами и улицами растущего города. Кончились проклятые наши перелёты.
Весь год летали без задержек. Это поразительно. Весь год было топливо, были исправные самолёты.
Это очень заметно, как легче, намного легче стало работать, как уверенно идём мы теперь на вылет, зная, что точно улетим.
Откуда же взялись топливо, цистерны, запчасти, инженерно-технический состав? Ответ один: перестройка всё же нас коснулась. Не я добился топлива – Горбачёв заставил, сверху.
Профилакторий худо-бедно наладили, даже кормёжку. Правда, с водой всё перебои.
На автобусе уехать уже не проблема: нас пропускают вне очереди. Привыкли.
РЛЭ изменилось в лучшую сторону.
Разрешили брать пассажиров на приставные кресла.
Занятия к ОЗП сократили. Симптоматично. Наш министерский Олимп проснулся после долгой спячки.
Газета наша зашевелилась: после того как одёрнули в ЦК Бугаева, стала поднимать интересующие нас вопросы. На днях появилась большая статья о нашем управлении, где дерут и начальника управления, и командира нашего предприятия, и бардак, и господ из крайкома, и пресловутую лесную депутатскую.
Легче стало работать? Легче, не спорю.
Так почему же я так устаю?
Ну, ещё годик потерпи. Ещё что-то изменится к лучшему. Может, расписание. Может, лучшие, более удобные рейсы появятся. Может, наклепают экипажей, и будешь работать даже с выходными летом. Наладят системы в аэропортах, и понизятся минимумы, и не будешь так часто уходить на запасные.
Всё-таки жизнь меняется.
13.10. Пробыв ровно месяц в больнице, не получая ровно никакого лечения по радикулиту, прохворав две недели бронхитом, скрываемым от докторов, я, наконец, вышел на волю. В бюллетене записан диагноз «фарингит», а о радикулите ни слова.
Выгнали меня срочно: оказалось, есть какое-то письмо, циркуляр, в общем, бумага, согласно которой надо было меня только пролечить и выписать тут же. А мне ради перестраховки успели уже сделать три снимка (флюорографию, шею и череп), рентген желудка, да ЭЭГ и РЭГ (это по мозгам), да уже было назначили и велосипед, и психолога… так не пошли анализы крови. Но организм таки справился сам, анализы пришли в норму, и меня выписали.
Месяц я отдыхал. Отоспался, вошёл в колею – всё как в прошлом году, только дольше.
Что – нельзя было отправить лётчика на курорт в конце сезона, не дожидаясь, когда его расшибёт?
Ага: где ж на всех лётчиков курортов набраться.
Лётчик самой профессией своей вынужден занимать позицию, в какой-то мере эгоистическую: «Моё здоровье». Если где-то в наземной жизни кое-кто может позволить себе гореть на работе так, что наживает язву или даже инфаркт в стычках с начальством или с острыми углами жизни, а чаще просто вытягивая план, спасая производство, и т.д., – если это восхваляется в прессе, литературе, кино, как порыв, энтузиазм, позиция, – то у нас, лётчиков, это исключено. Вы там себе горите, пожалуйста. А у меня здоровье – мой рабочий инструмент, я его обязан беречь. В порядке защиты этого тонкого инструмента мы вынуждены порой отключать эмоции, ранящие душу, не брать в голову там, где вроде бы никак не получается не брать, да и вообще, часто замыкаться в довольно колючую скорлупу. Что поделаешь, работа требует полной самоотдачи, настроя, готовности к стрессу.
У тебя гости, идёт гульба, а ты думаешь о предстоящем предполётном отдыхе, от которого гости отбирают и отбирают минуты и часы. Ты вынужден гостей вежливо выпроваживать; спасибо, это умеет делать супруга. Это элементарный пример. И чаще всего такая позиция находит у людей понимание: такая вот у человека работа… да… не то что у нас…
Но вот – конфликт с лётным начальством. Вроде те же самые лётчики, только командуют больше, а летают чуть меньше. И уже как будто стена воздвигнута между представителями одной профессии. Уже здоровье одних зависит от здоровья других, и их здоровье входит в конфликт с нашим, и сохраняется за счёт чуть большего расхода нашего здоровья.
Ну так строй себе служебную карьеру, рвись в начальники. Только у начальников есть свои, более высокие начальники, и они тоже пекутся о своём здоровье за счёт здоровья нижестоящих, а те – за счёт нас.
Летом план выполняется за счёт продления экипажам санитарной нормы налёта на 25 процентов. Мне командир другой эскадрильи так сказал: тяжело тебе летать продлёнку – откажись, никто ведь тебя не заставит. Ведь продлёнка, несмотря на согласование с профсоюзом, дело абсолютно добровольное, только с письменного согласия экипажей. Жалко здоровья – откажись.
Но ведь план отряду дают заведомо невыполнимый, из расчёта как раз на продлёнку. И премиальные командования зависят лично от нашего желания её вылетать. А нам надо больше зарабатывать, и продлёнка это позволяет. Да и налёт же на пенсию надо успеть набрать, пока здоровье ещё есть. И уже вроде как узаконен переналет саннормы, а отказ считается чуть не вредительской акцией, ну, чистоплюйством, эгоизмом, – и вообще, не наш ты человек! Не наш!
Если уж начинать перестройку снизу, то надо хотя бы отказаться от продлённой саннормы, чтобы не делать видимость успешной жизни за счёт дополнительной эксплуатации труда лётчиков. Пусть власть имущие задумаются и изменят к лучшему эту жизнь, реально, с учётом всех параметров.
А то ведь как наш ГосНИИ ГА рассчитал ту же норму расхода топлива на авиахимработах? Да взяли отчёты за полтора года, сколько обработано, сколько налетано часов и сколько при этом сожжено бензина. Поделили приписки на приписки, и получился расход 138 кг/час. А в жизни-то на химии меньше 180 не получается. Но раз есть научно обоснованные нормы (без единого экспериментального полёта), то как хочешь, а выполняй, укладывайся. И снова экипажи вынуждены приписывать, ещё больше, чем прежде.
Вот против чего восстали в Краснодарском химическом отряде.
А у нас чем лучше? Наш летний план – та же приписка. Правда, у нас строже учёт. Но почему при наличии множества лишних лётчиков в аэрофлоте никого в министерстве не настораживает тот факт, что летний план мы выполняем за счёт переналета саннормы, причём, повсеместного, массового переналета. Или это только в нашем управлении? Экономят на лётчиках, не переучивают, а тут вот и вовсе урезают: вышел приказ министра осваивать на нашем лайнере полёты в сокращённом составе экипажа, без штурмана. Уже и в эскадрильях прикинули, с кого начать. Стариков не трогают – они теории не знают. Молодые просто не справятся. Значит, тебе, Вася. Ты-то грамотный, ты-то справишься. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть.
Что касается исправности самолётов, возросшей в летний период, то инженеры в больнице раскрыли мне секрет. Каким-то образом сумели материально заинтересовать технарей, ввели бригадный подряд тот же «переналет саннормы». И техники, несмотря на переработку, вкалывали и зарабатывали по 500 рублей. Правда, осенью этот эксперимент закончился. Но результаты-то налицо.
Когда самолёт, прижимаемый облаками к горам, ныряет в узкое ущелье с надеждой проскочить, вырваться из каменных объятий, и возврата нет, а стены всё выше, всё угрюмее, смыкаясь с облаками наверху, начинают сходиться, и пилот, уже не радуясь, что влез, с колом в шее и мокрой спиной, ушами чувствует, как проскакивают скалы мимо консолей, – тогда ему остаётся, если он настоящий пилот, смотреть только вперёд, пренебрегая сжимающей с боков и сверху опасностью, смотреть только вперёд, крепко держать штурвал и верить, что долина откроется, что нет впереди тупика, и что мотор выдержит.
Вот такая наша лётная жизнь на данном этапе. Лишь бы мотор выдержал, а долина когда-то откроется…
1987. Перестройка.
18.10.1986. Перестройка идёт. По всей стране движение, ну, и наш аэрофлотский рак со своей клешнёй лезет туда же, куда и конь с копытом.
Политуправление ГА в газете разъясняет, как работать пропагандистам с учётом требований нового времени.
Раз разговор о 12-й пятилетке как о переломной, то, естественно, я должен рассказать лётчикам о роли транспортного комплекса страны, в частности, и нашего Аэрофлота. Привести цифры: сколько трасс, сколько городов ими связано, сколько чего перевозим, и т.п.
Естественно, при этом раскрыть главную задачу Аэрофлота на пятилетку – обеспечение плана перевозок без увеличения поставок топлива, но со снижением его удельного расхода. Разумеется, привязать к своему управлению ГА, к предприятию, заострить внимание на коренных преобразованиях, которые произойдут.
Сейчас у нас, мол, всё плохо, но будет интенсификация, научно-технический прогресс, улучшится качество планирования и управления, усовершенствуется хозяйственный механизм, и тогда всё станет лучше.
На конкретных примерах из жизни своего предприятия я должен обсудить с лётчиками проблемы выбора наиболее оптимальной и рентабельной для данного региона структуры авиалиний, наиболее производительного самолётного парка, посчитать, например, показатель производственного налёта по типам воздушных судов в своём предприятии и соотнести его с общим отраслевым показателем. Можно в процентах. Можно диаграммой. Можно и так…
Потом надо объяснить суть предстоящего перехода Аэрофлота на новую систему хозяйствования и управления. Это затронет каждого, самые потаённые струны души, и я просто-таки обязан рассмотреть проблемы…
Ну что, хватит?
Нам от тех цифр ни холодно, ни жарко. Наше управление – отстающее, и в той же газете дерут его начальника вместе со свитой.
О том, что предстоит летать больше, а топлива жечь меньше, мы наслышаны. Но как я, как конкретно мой экипаж будет это делать?
Лишняя загрузка не проходит по весу; топлива и так в обрез. Да ещё и пережигаем его, часто уходя на запасные, потому что в самый сложный период, весной и осенью, посадочные системы в аэропортах вечно не работают.
Так что конкретно смогу сделать я? Экономить топливо мне невыгодно, потому что стимулов нет.
И вот я должен обозначить пути решения. Я знаю один путь: плати за экономию, и одна брешь будет закрыта. А за оптимальную загрузку пусть борются другие. Я в полёте с борта даю предельную по топливу загрузку – пусть земля её изыскивает.
Какие такие коренные преобразования грядут, мы не знаем. Какая будет интенсификация? Полёты без штурмана? Да. И делать его работу за ту же зарплату. Это вдохновляет.
Какой научно-технический прогресс, когда у нас АТБ в чистом поле? Какое улучшение планирования, когда мы месяцами без выходных?
А нам предлагают поразмыслить о структуре авиалиний. Нам сверху видно всё? Какая ещё, к чёрту, структура? Какой там наиболее производительный самолётный парк? Да Аэрофлоту летать не на чем, давимся тем, что дают, чем рот затыкают. Лишний рейс выбить – эпохальное событие. Трассы одни и те же, ещё с Ли-2. Самолёт один – Ту-154; когда-то дождёмся ещё экономной «Эмки». Какой ещё оптимальный вариант, когда и в министерстве-то головы об него обломали.
Мозги нам пудрят. Налёт подсчитайте… соотнесите…Сами считайте.
Дурью маются в этом политуправлении, а мы, пропагандисты, расхлёбывай.
Что говорить-то об этой перестройке, когда мы ни сном ни духом о ней не знаем.
…Потом надо поговорить о том, что Аэрофлот плохо перестраивается. В духе времени, пожурить слегка кое-кого, что, мол, плохое качество, что нарушения, что выводы сделаны не во всех управлениях и предприятиях, и т.п.
Качество – категория политическая. Культура обслуживания – категория политическая. Дисциплина – категория политическая.
А в туалет сходить – тоже политическая категория?
Итогом должен явиться анализ причин медленного процесса перестройки. Неспособность извлечь должные выводы из съездовских уроков правды.
Кем – мною?
Инерция мышления…
Чья – моя?
Отсутствие энергичных действий…
Тоже моё?
Как же мне только не стыдно…
Человеческий фактор. Я должен проанализировать свой коллектив. Профессиональная подготовка? Высокая. Уровень общего и специального образования? Извините, среднее специальное. Стаж работы? Да уж у всех седина. Моральный климат и социально-политическая активность?
Вот, наконец-то, ближе к реальной жизни. Хороший климат у меня в экипаже. А насчёт активности…
«С каждым днём в гражданской авиации множатся ряды участников социалистического соревнования за достойную встречу 70-летия Великого Октября. Трудовые коллективы берут на себя новые, более напряжённые обязательства…»
Ну почему меня никак не трогают эти призывы и лозунги? Ну почему я не становлюсь в первые ряды, не беру на себя обязательства? И ведь годами, десятилетиями повторяются одни и те же призывы, одни и те же обязательства. Меняются даты: то к какому-то «летию», то к юбилею, то ещё к какой-то точке отсчёта. Одно и то же, одно да потому. Десятки, сотни тысяч людей работают в пропагандистском аппарате, выдумывают лозунги, подгоняют под даты и юбилеи… а уж кормится вокруг них легион прихлебателей, шумовиков.
А меня это не колышет. Это фон, я от него отстроился. У меня, у конкретного меня, на моём рабочем месте, этот фон – просто помеха. И я удивляюсь, что депутат Верховного Совета пилот Каледин лихо подхватил инициативу по досрочному выполнению планов двух лет пятилетки и значительному росту производительности труда.
У него что – план на два года есть? В Верховном Совете? У меня его и на два месяца нет. Дадут налёт – буду летать по 700 часов в год, не дадут (как у нас сейчас и есть) – буду по 450, остальное время сидеть.
Или у него план по перевозке пассажиров: перевезти за два года столько-то тысяч? Так от нас это не зависит.
Или же у него план по производительности труда? Так тонно-километры в час же. И тонны, и километры, да и часы, особо от нас не зависят.
Или у него план по экономии топлива? Так отказывайся тогда от загрузки – сэкономишь за счёт пониженных режимов работы двигателей.
Не вижу логически обоснованного плана работы экипажа. Ну как у меня хватит совести брать ещё и какие-то повышенные обязательства.
Зато я три года заседал балластом в парткоме ОАО. Там покойничек Никитин соберёт, бывало, нас и озадачивает. Вот, товарищи, нам доверено быть инициаторами такого-то почина, нам и архангельцам. Нас никто не спрашивал, пнули в спину, так что - никаких вопросов, давайте подумаем, как обеспечить. Надо вертеться, с нас потом спросят.
Вот так. Ну, и Каледину – так, не в обиду, конечно. Пнули – подхватил. А коллегия министерства предложила хозяйственным руководителям обеспечить Каледину выполнение. Ну, как Стаханову в своё время. Но всех ведь не обеспечишь. Зато мы в первых рядах, подхватили инициативу. Уря.
Где же перестройка, в чём? В том, что «ряды множатся с каждым днём?»
Давно ли – по радио, по телевизору, в газетах, да даже в электробритвах, – трещало: «Вся страна с небывалым подъёмом встретила… отозвалась… с невиданным энтузиазмом… ударным трудом ответила…»
Мы не построим коммунизм в обозримом будущем.
Людям надоел треск, приелись лозунги и призывы. Людям нужна одна правда, какая ни есть, и просто человеческое слово. И не купишь меня разговорами о почине, инициативе и прочем, пока сама жизнь на рабочем месте не заставит проявить ту инициативу.
Как далеки все эти проблемы от святой романтики, что привела меня в авиацию. Вернее, где она, эта романтика? Душа у меня болит от наших неурядиц, неувязок и проблем, а уж о романтике вспоминаю со снисходительной и грустной улыбкой.
Идёшь по верхней кромке, обходя едва заметные холмики, возвышения, безобидные выпуклости облаков, идёшь, радуешься. Солнышко светит, ветерок попутный, ты над миром, кругом вечная чистота, пустота на сотни вёрст; штурвал послушный в уверенных руках, за спиной полторы сотни пассажиров, почта, груз; люди тебе доверились и дремлют. Романтика? Об этом ты мечтал, когда шёл в училище? И вот так бы всю жизнь… над этой мышиной вознёй…
Но перед взлётом ты набегался на земле, а перед той землёй, не выспавшись, мёрз на остановке, в то время как весь крещёный люд ложился спать. Но в стране дураков работа ночью только начинается. Ты об этом не думал тогда.
Безобидные возвышения облаков – то айсберги гроз, уходящие глубоко вниз, скрытые обманчиво чистой пеленой верхней облачности. И навстречу тебе снизу тяжко выгребаются, между гроз, в электризации и болтанке, такие же романтики. А ниже, не пробившись, кто-то возвращается, а кто-то пошёл в обход, и романтик у романтика спрашивает, куда лучше обойти, как обстановка.
А ты себе идёшь по чистому небу, обходя эти самые верхушки, и нет тебе покоя. Скоро смена ветра, начнёт трясти, надо обдумать, куда деваться, если затрясёт очень сильно. А впереди снижение сквозь грозы, осадки, обледенение, а погода ухудшается, а на запасном ветер на пределе…
Если бы только эти проблемы – то всю жизнь летай себе и радуйся.
Но и посторонние люди – пусть они не знают обо всех наших проблемах, а думают только о романтической и беспременно мужественной стороне лётной профессии.
Ну и что? А всё то же. Я шёл сюда, понятия не имея, сколько платят, какие льготы, какая пенсия, как с жильём, какие отношения. А современная молодёжь интересуется в первую очередь именно этим, и ещё многим другим. И зачастую, прагматически взвесив, делает свой выбор не в пользу авиации, а в пользу конторы и торговли.
Полёты – как наркотик. Раз попробовал, тянет, ещё и ещё – и втравился на всю оставшуюся жизнь. Потом, может, и хотел бы бросить, а оно не отпускает. А когда уж профессионально накрепко связал свою жизнь с полётами, тогда только начинаешь завидовать тем, кто порхает себе в аэроклубах, – всем этим дельтапланеристам, самодельщикам и прочим чистым романтикам. У них одна проблема: летать хочется, а не дают. И они в эту стену бьются и бьются; глядишь – пробился и летает себе от души, кувыркается.
А мы летаем потому, что работа такая, кусок хлеба. А это две больших разницы.
Но дело должно идти. Как во времена Сент-Экзюпери: Линия должна действовать всегда. Упал, разбил машину, – хватай мешки и беги к ближайшему поезду: почта должна дойти.
Людей надо возить, и почту, и груз. Ямщина.
Кто придёт нам на смену? Только такой же воздушный наркоман. Да только откуда ему взяться. У нас ещё с авиационным спортом возятся… но это же спорт – голы, очки, секунды, доллары, престиж, блага… А фанатики, любители летать, те, кто верны полётам хоть на чём, хоть когда, – те в загоне. Они себе украдкой что-то мастерят, украдкой где-то порхают… А нам нужны массовые школы юных лётчиков – не те, показушные, с красивой формой и бантиками, а те, где просто учат летать на планере.
25.10. Лётчик на Ту-154 может налётывать 700 часов в год: по 70 в месяц плюс два месяца отпуска. Это санитарная норма, она рассчитана учёными.
Теоретически это так. Если летать с базы, ночевать дома, то – конечно. Например, каждый день рейс на Благовещенск, днём, – это 11 рейсов, 11 дней, их можно отлетать хоть подряд, а потом 19 дней отдыхать. Так работать мы согласны; с нами согласны и учёные-медики. Каждую ночь спать дома. Отпахал треть месяца, положил в карман 600 рублей – и отдыхай. Тут и отпуска не надо. Даже пусть два разбора в месяц и три резерва – всё равно, полмесяца отдыха.
Говорят, примерно так летают в Баку. Я не слышал что-то, чтобы бакинцы летали на край света с тремя-четырьмя посадками, с ночёвками и сидением по трое суток в других часовых поясах. Они летают по европейской части страны, днём, а спят дома, ночью.
Если бы я знал свой план на весь месяц и был уверен, что он железный, я мог бы планировать свою личную жизнь.
Но большинство наших рейсов в зимнее время сокращают до трёх раз в неделю. Можно, конечно, в рейсе отдыхать с самолётом 12 часов, но где ж набраться самолётов. Самолёт должен летать, иначе он нерентабелен. А экипаж, значит, должен сидеть в эстафете по двое-трое суток: то в Одессе, то на Камчатке, то опять во Львове, то снова во Владивостоке.
В общем, зимой работы мало, а летом работа почему-то без выходных, да ещё продлённая до 87 часов месячная саннорма.
И всё-таки мы едва налётываем в год 500 часов, а то и не получается. У меня в этом году – без отпуска летал – едва натянулось 400 часов. А устал за лето, как будто вытянул всю саннорму. А ведь налетал за лето едва 250 часов.
Конечно, блатным летать чуть легче. Им ставят выгодные короткие рейсы. Какой ни тяжёлый рейс с разворотом на Хабаровск или Москву, но это всё же не Камчатка, где шесть посадок и трое суток сидеть, оглушённому чужим режимом. И Норильсками их не очень балуют. Так что у них и налёт есть, и отдыха чуть больше.
Правда, как начнём летать без штурмана, эти рейсы с разворотом высосут всю душу, не захочешь.
Итак, цифры цифрами, а работа работой. В таких условиях до 55 лет долётывают единицы, и то, обычно, командно-инструкторский состав. Они летают меньше нас, им достаточно 250 часов в год. Правда, инструкторы летают 500 часов, из кабины не вылезают. Но это налёт – лучший, самые дорогие рейсы, они планируются заранее, железно, и, в основном, дневной Благовещенск. Заработок инструктора, с учётом коэффициента 1,5, т.е. оплата за час, как за полтора, достигал в иные месяцы 1000 рублей.
Правда, сейчас всё это урезали, инструктор в оплате приравнен к рядовому КВС, и налётывать должен так же, как рядовой. И желающих в инструкторы тут же поубавилось.
В основном же, лётный век наш ограничен 50-ю годами. И то: пилот уходит уже с кучей диагнозов, то есть, больной, изработанный, как другой человек в 60. А сколько не долётывает и до пятидесяти…
Ну а те монстры, что летают и после 55 лет, как Рульков, – ясно какие работники. Кстати, Кузьма-то Григорьевич – трудяга, из-за штурвала не вылезает, никому не мешает, ну, поворчит немного, и всё. Спит себе в полёте да курит одну от другой. Вот что полезного можно взять у Рулькова, так это стремление предвидеть и зря не рисковать, даже в мелочах. Надёжно. Но и особого прогресса от такой манеры не жди. Это путь – по накатанным до блеска рельсам. К этому надо стремиться, это основа безопасности полётов, но… но надо трезво оглядеться и вовремя уступить дорогу и уйти.
А вот пресловутый С. явно не тянет уже. Не хватает ему реакции, не успевает вертеться, отстаёт от требований времени, и каждый полёт с ним – КВН, ребята ворчат.
Что, брат, соскучился по работе? Полтора месяца без полётов, сосёт? Ты пока плюй-ка на всё, тебе ещё две недели отдыхать. Дыши, спи, вкалывай на даче и в гараже, пульс по утрам 58… И не жалуйся на здоровье своё: у других вон, видел – как люди мучаются с болячками, месяцами лежат, а туда же, лезут, натягивают цифры, летают с диагнозами, наркоманы воздушные… Втравился – так уж до конца.
А всё ж-таки, если бы свершилось немыслимое и у нас разрешили бы полёты частной авиации, как во всём крещёном мире, – немедленно приобрёл бы маленький самолётик, посадил бы семью – и «потише-потише»…
Да, растащило-развезло… Конечно, отстаём мы от мира. Значит, автомобиль частный – это, наконец, можно внедрять массово. Езди на свой страх и риск. А летать, значится, ещё время не пришло. Интересно, когда же оно придёт, это время? Жаль, уже стар я буду. А может, и не доживу.
А так бы – с моим-то опытом – за два-три дня прилетел бы в любой конец. Конечно, за обслугу, охрану, стоянку, прогноз – надо платить. Ну, так у лётчика как раз на это скорее бы деньги нашлись, чем у слесаря. Вот и летали бы сначала лётчики, кто и опыт имеет, и деньги. Сел бы с семьёй на собственный ероплан, и потихоньку… мне не надо пилотажа, я наелся, я бы спокойно… А красота-то какая! По утверждённой трассе, допустим, вдоль железной дороги, по «компасу Кагановича», на высоте 300 метров – широка страна моя родная… А на сложных участках – пожалуйста, консультируйся у опытного штурмана, у синоптика.
Эх, создать бы общество типа Добролёта на кооперативных началах – там работы нашему брату, старому лётчику, немерено. Учили бы людей летать, сами строили бы технику, все бы это объединилось, молодёжь бы пошла к нам, таланты…
Но кто возьмёт на себя? Эх, мечты, мечты…
Кондовая, суковатая система наша. Нет, это уже в 21-м веке решится. А сейчас скептики скажут: тут в аэрофлоте что творится – пацаны на Ан-2 петли крутят, убиваются, на Як-40 – бочки, на вертолётах в облака лезут, падают.
Да потому и лезут, что нельзя. А разреши – натешатся, перебесятся, больше и не надо будет. Вот сперва накувыркался бы на своём, сломал голову – сам виноват… всё ж лучше, чем от водки; на своих автомобилях что-то не шибко кувыркаются, ездят спокойно, а дураков везде хватает, туда им и дорога.
Не умеючи, сам не полезешь петли крутить. Летай себе блинчиком. А то нас, помню, в училище повезли в зону на «Яке»: вот бочка, вот штопор, вот переворот-петля-полупетля, вот боевой разворот, вот управляемая бочка, – но ты этого не делай, а только штопор, боевой разворот, вираж. Ну, мы уходили против солнца и только и делали петли да бочки то, чего нельзя, – но нам же показали! Штопор-то тьфу, скучно. Зато с фигуры сорвался в штопор – не было проблемы вывести.
Нельзя – так не соблазняй. Да и зачем частнику бочка. Иди тогда в аэроклуб, там научат. А частник должен уметь выводить из штопора, а вернее, до него не доводить, да безопасную высоту выдерживать, да связь вести, да ориентировку.
Ну да это проблемы будущего.
А всё ж-таки иметь бы свой еропланчик, малюсенький… вроде мотопланера. Кто летал, тот меня поймёт. Какой-то немец вон, ему уже сто лет, – летает! А ведь маленький самолёт проще и дешевле современного автомобиля. Ну, может, не дешевле – и что?
В Польше планеризм – массовый, чуть не национальный вид спорта, дети с 12 лет летают, и поляки авторитетны как лётчики, мы их уважаем. Там система другая. Правда, там своей-то транспортной авиации почти нет, только международники. Пространство свободно. А у нас, во-первых, всё задавила армия, даже наш аэрофлот – лишь бедный родственник могучего соседа, Потом, у нас куда ни плюнь – авиахимработы. Ну куды хрестьянину податься?
Но все проблемы можно решить. Места всё ж у нас много. Нет только желания генералов, отмахиваются. По дорогам можно, езди, путайся под ногами. По воде – пожалуйста, топись. По рельсам вот нельзя: не разминёшься. А по воздуху… Страшно начинать.
Но я верю, решится. Можно отвести и пространство, и каналы связи, и диспетчеров посадить, и синоптиков, и техников, а уж площадок старых везде полно. Можно и в руководящих документах главу новую написать. Можно и контроль Госавианадзора наладить. И матчастью надёжной снабдить, двумя-тремя моделями, и самодельщикам уголок отвести. И сервис наладить. И всё это – за наши деньги.
Не так уж нас много и наберётся пока. Полёты организовать только днём, под контролем, со связью, а если кому в сторону – плати дополнительно за аварийно-спасательное беспокойство.
Гораздо больше организации будет, если учить со школьной скамьи, серьёзно, на порядок выше, чем в автошколах.
Мечтать можно. Кто делать будет? И кто разрешит?
27.10. Вчера сосед-пилот сообщил мне о катастрофе Ту-134 в Куйбышеве. По предварительным данным, пожар на взлёте, то ли двигатель, то ли багажник. Экипаж выполнил стандартный разворот, зашёл, казалось, уже всё опасное позади, вот он, торец полосы… Но тут пассажиров припекло, не выдержали, бросились все вперёд, скопились, центровка предельно передняя, не хватило рулей. И самолёт врезался прямо в торец, скапотировал… Кое-кто остался жив, и вроде бы жив командир. Командир всегда виноват. А что он мог сделать?
31.10. Президент Мозамбика Самора Машел погиб в авиакатастрофе. Я сперва думал, что его вёз мозамбикский экипаж, но оказалось – наш, на Ту-134. Лёту из Замбии в Мозамбик – полтора часа; от Лусаки до границы на восток минут 30, потом вдоль Мозамбика на юг до Мапуту. Весь полёт – вдоль границы с ЮАР.
Мапуту – международный аэропорт, должен быть оснащён всем необходимым. Правда, шереметьевцы, летая по Африке, говорят, что там чаще всего применяется визуальный заход.
Погода звенела. Ночь, но видимость хорошая. И вот подозревают, что перед посадкой, рядом, в ЮАР, заработал портативный радиомаяк и увёл их за границу, в Драконовы горы.
Спроси меня, пилота, что я мог бы сказать по этому поводу, – не знаю, что и ответить.
Экипаж опытный. В международном аэропорту есть радиолокатор. Раз летел Президент, то уж никак без контроля, все стояли на ушах. Может, там и РСБН есть, не знаю. Как экипаж выходил на схему? Если дают хорошую погоду, а земли не видно, значит, погода плохая, повнимательнее. Контроль места, азимут, дальность, высоты по рубежам снижения, перевод курсовой системы. Контроль по локатору, своему и с земли.
Выход на привод, заход по схеме, вписывание в зону ИЛС, контроль по приводам. Какой ещё, к чёрту, радиомаяк за границей. И главное: почему столкнулись с землёй? Не сработали ССОС, РВ-5? Куда смотрели диспетчеры Мапуту?
Нет, тут что-то нечисто. Либо… повторение красноярского случая с К., безответственность? Всё на самотёк? Что ж тогда это за экипаж такой, президентский? Куча вопросов.
1.11. Нам нужен тренажёр, отвечающий определённым назревшим требованиям.
Во-первых. Для бортинженеров нужен свой тренажёр-пульт, на котором они до автоматизма отрабатывали бы свои многочисленные операции в особых случаях. Они этим на практике не занимаются, кроме как раз в квартал, комплексно с экипажем.
Во-вторых. Никакая ситуация, возникшая в полёте, неотделима для пилотов от пилотирования. И поведение и реакция самолёта должны точно имитироваться на тренажёре. Они должны быть обязательно адекватны перемещению органов управления и созданию на самолёте аэродинамических моментов при отказах, соответствовать реальности и по времени, и по ускорениям. Тогда пилот не будет отвлекаться от решения задачи на борьбу со взбунтовавшимся и неадекватным тренажёром.
Третье. Пилот-инструктор тренажёра должен быть не оператором, а именно пилотом и именно инструктором. Сейчас он оценивает подготовленность экипажа по времени реакции, срабатыванию систем и, в конечном счёте, по устранению аварийной ситуации.
Но для этих целей нужно иметь либо упомянутый выше тренажёр-пульт, либо отрабатывать действия бортинженера на этом же тренажёре предварительно, без экипажа, чтобы оттренировать бортинженера, т.е аналогично тренажу в кабине.
А роль пилота-инструктора тренажёра, на мой взгляд, заключается в контроле работы экипажа. Работы, взаимодействия, приводящего к конечному результату. Тренажёр ведь нужен и для отработки взаимодействия в нормальном полёте, и для отработки действий по устранению аварийных и особых ситуаций.
Четвёртое. Тренажёр должен быть с высоким КПД. Время должно быть уплотнено до предела. Все эти запуски двигателя после посадки с отказом, руление, читка карты – это балласт. Грубо говоря – отработал в аварийной ситуации, есть шероховатости – инструктор должен иметь возможность нажатием кнопки вернуться к началу этой ситуации и снова отработать с того же места, а надо – отработать ещё и ещё, без посадок, запусков и лишних полётов по кругу. Ведь музыкант, вызубривая пассаж, не проигрывает вещь с самого начала, а зубрит, и зубрит, и зубрит именно трудное место мелодии.
Экипаж должен перед полётом предварительно подготовиться, оговорить программу, и сразу приступать к работе. Мы теряем половину времени на подготовку к полёту, сидя уже в кабине: карты, запуск поочерёдно каждого двигателя, включение и раскрутка приборов… да мы это всё знаем наизусть и выполняем тысячи раз! Потом взлёт, нудный набор высоты в зону… Или полёты по кругу – они ничего не дают. Надо просто нажатием кнопки задать параметры и место полёта – и по готовности экипажа вводить отказ.
Пятое. Тренажёр должен быть под рукой, т.е. в каждом отряде должен быть свой собственный тренажёр. Надо экипажу отработать шероховатость – пошли и отработали. Зимой сидим, делать нечего, времени море. Это проще, чем в Ростов или Ташкент стоя летать.
Шестое. Командно-инструкторский состав должен постоянно наблюдать работу экипажей на тренажёре. Присутствовать ли в кабине или за пультом инструктора – но постоянно там быть, видеть, кто чего стоит, знать, кто чем дышит. Это условие обязательное, польза от него абсолютная. Тогда экипаж привыкнет к контролю, и в полёте с проверяющим уже не будет этого синдром, когда проверяющий на борту – предпосылка.
Я предпочёл бы, чтобы командир отряда со мной каждый месяц летал на тренажёре и порол за мелочи, и с ним бы мы их и отработали, – чем раз в три года он со мной слетает, я споткнусь на ровном месте, а он меня ещё три года жрать будет на разборах, и, в общем-то, ни за что.
5.11. Жутковато-красивая легенда о катастрофе в Куйбышеве оборачивается самой банальной преступной халатностью, из-за каковой и не в аэрофлоте-то происходит большинство ЧП.
То, что я услышал сначала, – базарное радио. А пришла бумага, я её пока не читал, но ребята подробно рассказали.
Суть такова. Заходили на посадку в простых метеоусловиях. Командир закрылся шторкой на глиссаде и набивал руку по приборам, второй контролировал и вёл связь. На ВПР шторка не открылась. Экипаж вместо ухода на 2-й круг отвлёкся на открывание шторки. Тут секунды решают. Второй пилот разинул рот, и ситуация вышла из-под контроля.
Каковы причины, заставляющие молодого командира заходить под шторкой с пассажирами, нарушая все законы? Да одна тут причина. Осень на носу, опыта мало, не научился собирать в кучу стрелки. Может, следующая посадка потребует полной отдачи, а тренировки мало. Вот он и набивал. А проверить открытие шторки заранее – либо не научили, либо чуть заедала; подумал, бортмеханик поможет.
Бывали и у меня такие желания в своё время, да вовремя научился заходить по приборам, усилием воли подавляя желание проверить визуально, где полоса. Кроме того, заход по приборам был для меня всегда делом чести, ну, вроде мысли «Вася, ты рождён для этого». Ну, рождён или не рождён, но вложил я труда в это дело достаточно, и сейчас ещё вкладываю.
Так ли было в действительности или не так, но вывод таков: пилоту нужен опыт. Сейчас не те времена, не та техника, а люди такие же самые. Тут экипажа не было. Все слесарями заделались за десять секунд до смерти, бросились шторку открывать.
Выйду на работу, ознакомлюсь с информацией, тогда и выводы буду делать.
Я, по сути дела, молодой, ох, молодой ещё командир. Пятый год всего. А у нас летают люди, никогда не сидевшие в кресле второго пилота, разве что проверяющим. По двадцать и тридцать лет летая командиром – огромный опыт, куча гибких методов руководства экипажем, нестандартное мышление, аналитический ум…
Но жизнь показывает, что это далеко не всегда, не у всех. А чаще человек привыкает, вырабатывает один надёжный стереотип действий, коснеет в нём, хорошо если становится добротным ремесленником, а то ведь просто обленивается. И, глядишь, старик за 50 лет, а хуже иного молодого.
Привычка, что левая табуретка – железно твоя, что Коля поможет переучиться из командира сразу на командира другого типа самолёта, что Петя не даст в обиду, а с Васей из расшифровки когда-то вместе летали, свой человек, а с Мишей не раз пито в гараже… Знавал я таких.
А у меня каждый новый тип – этап жизни. Ан-2 – первая ступенька, ввод командиром – этап; на Ил-14 эпопея, ввод в строй – взросление; на Ил-18 – сбылись мечты, ввод на лайнере – самому не верится; попал на «Ту» – вообще другой мир… Сдача на первый класс, первые самостоятельные полёты – это все стрессы, встряски, мобилизация, работа над собой.
Трудно предположить, чтобы человек, летая всю жизнь на Ил-18, а на первый класс сдав ещё на Ли-2, сохранил, развил и упрочил в себе мобилизующее начало. Это редкость.
Но и так – из Актюбинска, ещё горяченьким, бух на Ту-134, скорее, скорее – и готов командир… глядишь – уже инструкторский допуск, уже проверяющий…
Так тоже нельзя, внутри он сырой. Мобилизующее начало в нём, конечно, есть, но нет опыта, на чём люди часто и горят.
Крайности вредны, истина должна обкатываться где-то посередине. Пройдёт время – недолеты-перелёты наконец сойдутся в той точке, где достаточный опыт, вкупе с хорошими знаниями и волевыми качествами, нравственным стержнем, дадут хорошего лётчика.
Пока это путь наощупь, с болью и кровью. Переходный период: от чкаловских времён и сталинских соколов к инженер-пилотам. А через десять лет уже все пилоты будут инженерами.
11.11. Отпуск кончился. Ну что: я отдохнул хорошо.
Куйбышевцы говорили, что вроде бы командир того злосчастного «Туполенка» опытный лётчик. Но это дела не меняет. Как бы там ни было, а у человека возникла нужда самостоятельно тренироваться. Объём тренировок в аэрофлоте вообще уменьшен до предела, заэкономились, все надежды на тренажёр, а он не отвечает элементарным требованиям и не удовлетворяет пилотов. И вот – результат.
Другое дело, что человек желает тренировать себя, а не умеет, даже вроде опытный. Это уже не вина его, а беда. Значит, нет способностей, значит, не на своём месте.
Перестройка как раз и должна всех расставить по местам, я так понимаю. Мало ли у нас блатных, которые лишь место занимают, а на самом деле – ходячая предпосылка.
Он и чувствует свои слабости, но… кругом все летают, я тоже летаю, вроде и у меня получается; наверно и у других есть слабости, а помалкивают себе, да наверняка и вся жизнь такова… Вот примерный ход его мыслей и уровень требовательности к себе.
Я знаю командиров, которые всю жизнь проспали в кабине. Надеялись только на авось, на свою хватку, на надёжность техники. Особенно расплодилось таких пилотов на ильюшинской технике – очень уж она проста и надёжна, на дурака рассчитана. Как я уже раньше говорил, туполевские самолёты быстренько отсеяли большинство таких, беспечных. Но кое-кто из блатных остался, вот и этот, что под шторкой заходил, видимо, такой. Иначе чем объяснить эту детскую беспомощность и командира, и его экипажа.
В полётах тренироваться можно и нужно. Но надо уметь отделять те условия, что хоть в какой-то степени, а ухудшают безопасность полёта. Здесь заход должен быть только комплексный (да и всегда комплексный), по приборам, но с визуальным контролем и строгим распределением ролей в экипаже на всякие случаи. Но если условия просты, заход можно выполнять строго по приборам, усилием воли подавляя желание взглянуть поверх козырька приборной доски. Это умение вполне доступно всем, оно требует только волевого усилия над собой. И не надо никаких шторок.
Конечно, когда полоса открывается внезапно и близко (при сплошной низкой облачности), это шокирует, и к этому надо себя готовить. Однако ты на то и пилот, чтобы уметь не дёргаться. Уверен в себе – полоса откроется точно по курсу.
Не часто бывают такие заходы. Чаще – туман или снегопад, когда земля просвечивается огнями постепенно. Но в любом случае заходить надо строго, а для тренировки этого дела шторки не нужны.
12.11. Вчера на разборе нам доложили, что в результате требования трудовых коллективов освобождены от должностей начальник управления и командир нашего объединённого отряда. Месяца не прошло после того исторического открытого партсобрания.
Теперь бы убрать Бугаева. Он мыслит категориями По-2; умом-то он всё понимает, а сердце его приросло к тем временам, как и зад – к креслу министра. У него подлиз кругом полно, и все думают не о деле, а как бы столкнуть ближнего и забраться в его кресло, да трубят о перестройке. Так что полёты без штурмана – одна из таких хриплых труб.
Вчера был в райкоме на семинаре пропагандистов. Там всё то же: дизель себе попукивает, говорильня, шестерни крутятся, шумят, бумагу изводят, а приложить к реальной жизни нечего.
Я могу своим слушателям лишь сказать: видите – жизнь заставила нас зашевелиться, и тут же мы смели зажравшихся руководителей. Это весомее всех шестерёнок.
13.11. Вчера разговелся после длительного перерыва в полётах. Не успели мы вернуться из Ростова, куда летали пассажирами (зайцами) на тренажёр, как уже с утра пораньше стояли в плане, естественно, на Благовещенск, с Кузьмой Григорьевичем.
Полёты, посадки удались вполне. Небольшие колебания в выдерживании параметров, конечно, были: немного частил, подбирая режим двигателей на глиссаде, непривычно отличающийся от летнего. Но это обычные издержки при переходе с летнего периода на зимние условия.
Посадка дома вообще получилась отменной, руление рульковским методом, спокойные и вовремя отдаваемые команды, – Кузьма Григорьевич остался доволен и поставил «отлично».
А я вошёл в колею. Сразу встала задача: в ближайших полётах отшлифовать ручное пилотирование и дать возможность полетать бедному Лёше, который без меня за два месяца выполнил всего два рейса. То ли жрут его, то ли всем на него наплевать. Эх, личностный фактор…
Когда человек собирается уходить, а тем более, когда он всем надоел, либо не сошёлся характерами с начальством, – ох и несладко ему приходится.
Лёша любит поболтать, часто повторяясь, да ещё с такими чисто бабьими нюансами, что надоест хоть кому. Я с этим мирюсь, а ценю его опыт и умение работать. А в эскадрилье он, добиваясь правды, только на Кирьяна три рапорта написал (и Кирьян три выговора схлопотал), но зато и он Лёшу травил, пинал и затыкал им дыры, пока не подвернулся я и мы не слетались. Но слава за Лёшей есть – вздорного ворчуна и склочника. Так что тот оставшийся год, который он ещё собирается пролетать до пенсии, будет для него несладким, если он как-то уйдёт из нашего экипажа. Поэтому он и держится за меня, а мне с ним удобно работать, потому что он надёжный пилот.
Поменьше бы наши начальники травили подчинённых за просто так, за неугодность, а думали бы о пользе их для дела. А то знают, что человек уходит, и ещё под зад пинают, чтобы, уходя, плюнул через плечо и не обернулся. Вторые пилоты их интересуют только перспективные, а у нас половина – старики. Правда, иные из стариков этих только кресло занимают, но у Лёши, к счастью, осталась любовь к полётам.
Миша Якунин всё с весны выгадывал, как бы повыгоднее уйти. Зная, что со штурманами у нас напряжёнка и летом отпуска не выпросить, написал весной рапорт на увольнение и ушёл на всё лето добирать заначки отпусков, намекнув начальству, что осенью, может статься, он ещё передумает и вернётся. Не вернулся. Нигде не работает, только что не бичует. Его идеал работы – шабашка, и он мечтает зимой шабашить, а летом в своё удовольствие ковыряться на даче.
Зная, что он давно надумал уйти, с ним перестали церемониться, спихнули в другую эскадрилью, дав понять, что всё, лафа кончилась, скорее бы развязаться. Заткнули дырку, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну, правда, он и носился со своим «я хоть завтра на пению, мне плевать…» А жаль, штурман он хороший.
Трагикомически всё сложилось у старика С. И так у него вечно в экипаже КВН, вечные отклонения и расшифровки. И везёт ему на всякие отказы. То, было, пару лет назад садился в Благовещенске с негорящей лампочкой одной ноги шасси, не зная, встала ли нога на замок, а вёз какого-то партийного деятеля, – так посадкой руководил по радио аж из Хабаровска случайно там оказавшийся Васин, и потом экипаж наградили именными часами. То совсем недавно на разбеге у них загорелось красное табло, прекратили взлёт и не выкатились – опять ценный подарок (кстати, инженером у них был мой Валера Копылов).
То ли он мечтал получить Заслуженного, то ли поверил слухам, что в этом году нам поднимут пенсии, – но в 57 лет сумел ещё раз в Москве пройти ЦВЛЭК и с великим трудом вернулся, чтобы полетать ещё полгодика. Но так как летал он всегда шероховато, в экипаже у него вечно нелады, а тут снова пошли расшифровки, а отряд (не сглазить бы) в этом году работает очень чисто, и едва ли не самое тёмное пятно – моя обидная сочинская посадка, – Медведев в тревоге и нетерпении не дождётся Нового года и даже с нами на разборе поделился своими тревогами и просил всех собраться и не допустить ЧП, – учитывая все эти факторы, стало ясно, что С. стал сейчас ходячей предпосылкой и бельмом на глазу, от него можно всего дождаться, а значит, лучше бы ему уйти на пенсию по-хорошему. А он ни в какую. Медведев его порет, а он встал навытяжку и долбит своё: виноват, исправлюсь! Да когда исправляться-то ему, деду?
Короче, Медведев стиснул зубы и слетал с ним на проверку. Конечно, куча замечаний, недоработок и нарушений. И поставил вопрос ребром: дал какой-то символический срок на исправление, после чего обещал проверить снова, и при малейшем… в общем, если не исправится (а куда уж старику-то суметь исправиться), придётся ставить вопрос о несоответствии его первому классу и занимаемой должности. Короче, сожрал.
С. тут же «заболел»; подошла полугодовая комиссия, старику она – в объёме годовой, положен велотренажёр, он, поразмыслив на досуге, его «не прошёл». Всё.
Это была последняя возможность сделать хорошую мину при плохой игре, а отряд избавился от лишней тревоги. И теперь мы с удовольствием, торжественно, с подарками, скоро проводим старика (да он ещё здоров как сохатый!) на заслуженный – ох, заслуженный! – отдых.
Уходить надо непобеждённым. Так ушли в своё время, в 50 лет, Сычёв и Петухов, и никто их не упрекнул, а в памяти они остались как хорошие мастера.
На недавнем разборе Медведев информировал, что ожидается постановление ЦК и Совета министров по работе Аэрофлота. И Куйбышев, и Мапуту – вина лётного состава. В Куйбышеве нарушили технологию работы и НПП и глупейше убили людей, а в Мозамбике просто нарушили схему захода на посадку. Так что кресло Бугаева шатается сильно. Всё ж-таки мы убили Президента страны – что ж это за правительственный экипаж такой, что ж это за лётчики у вас?
В последнем номере «Воздушного транспорта», по следам статьи о нашем управлении и отряде, новая статья. Новые подробности, новые действующие лица. Этот стиль работы, эти примеры типичны для всего Аэрофлота, да и для всей страны. Вот так наш отряд, наравне с Краснодарским, встал на виду у всего Союза.
Очень интересная стала жизнь, забурлила; свежая струя ворвалась в наш затхлый келейный мир.
21.11. Какая-то хворь привязалась: насморк – не насморк, слабость – не слабость, шею вдобавок слегка заклинило. Сижу дома, пользуюсь тем, что летать не дают. Но не забыли исправно запланировать в добровольную народную дружину. Надо идти, хоть и с больной шеей.
Ох уж эта дружина. Наш брат, аристократ-лётчик, не очень жалует это принудительное начинание. Причина проста: если зацепит по носу какой-нибудь замухрышка-хулиган, то слесарь завтра выйдет на работу и к вечеру забудет, а ты можешь загреметь на полгода с лётной работы по травме черепа. С нашей медициной в этом плане шутки плохи, а о семье моей никто не позаботится, пока я буду болтаться без работы. Но не откажешься же от добровольной дружины, не откажешься от продлённой саннормы, не откажешься от открытого партсобрания, чтобы не прослыть белой несознательной вороной, шагающей не в ногу. Вот и идём в эту дружину… добровольно, но ворча.
Что я предлагаю? Да то же, что и музыкант, и хирург, – их ведь как-то избавляют от этой принудиловки. В конце концов, я за добровольность. Не хочу. Пусть социологи разбираются, почему я не хочу идти вечером на улицу и хватать за руку хулигана. А заодно и почему мы так редко видим на улице патрульную машину – милицейский допотопный «бобик». Весь мир даёт полиции лучшие машины, а мы одно старьё.
Вообще это всё устарело. Нам часто говорят: «вот если мы все вместе возьмёмся», или «вы же сами не хотите поддерживать порядок» – и т.п. Кто это – «вы сами?» Я сам? Я сам вместе с кем-то самим не берусь выметать этот мусор. А те, кто обязаны это делать и получают за это деньги, меня упрекают.
Я сам своё дело делаю и справляюсь без посторонней помощи. А упрекать огульно всех поворачивается язык лишь у того, кто даром хлеб ест. Приучили мы милицию к формальным методам работы, и к так называемой дружине приучили. Поневоле я становлюсь формальной галочкой для отчёта, а милиция у нас зажралась, начиная со Щёлокова. Об этом говорю не только я, а и весь народ.
А нам через раз крутят фильмы о героях-милиционерах.
Смешно видеть на улицах женщин-дружинниц с повязками. И люди в дружину не верят и не идут.
Как-то был я помоложе, ещё на Ил-14, стоял на остановке поздно вечером. Под мышкой у меня мороженый муксун килограмм на пять, в руке портфель – добираюсь с вылета домой. Гляжу – недалеко мужик бабу душит и рвёт сумочку, и оба молча пыхтят, и никого кругом, ночь…
Я бросил поклажу, всё во мне затряслось, подбежал к ним, схватил за шиворот мужика, врезал ему по шее, чувствуя, как слаб, как не умею бить, а главное, как всё неловко, некстати, дико, ужасно… Он упал вроде, потом вскочил, дёргается весь. Закричал на неё: «А – защитничка нашла, лётчика!»
Я со стыдом и дрожью понял, что это муж и жена выясняют отношения, но в злости крикнул ему: «Уйди, а то я тебя убью!» Я его ненавидел в эти секунды, а за себя было стыдно, и горько, и жалко, что влез, что, в общем-то, благородный порыв мой обгажен…
Тут подошёл автобус, женщина, сдавленно и торопливо бормоча слова благодарности, поднялась, дверь захлопнулась, автобус ушёл. Муж, опустив голову, поплёлся куда-то в темноту, плечи его тряслись… А я остался стоять как дурак, со своим мороженым муксуном, и клял себя не знаю за что. Конечно, я вступился за женщину, но откуда мне знать, кто там из них виноват больше. Сгорбленная фигура униженного, пожилого уже мужа внушала теперь ещё большую жалость, чем перед этим женщина…
Короче, как в дерьмо окунулся.
Не для меня эти разборки: я потом два дня болел.
25.11. Из местной газеты (!) узнал о случае с Васей Лисненко. В двух словах: после взлёта колёса передней ноги развернулась влево на максимальный угол 55 градусов, и нога не вошла в нишу при уборке шасси. Ходили над стартом на малой высоте, чтобы в свете прожектора определить характер неисправности; ну, определили, стали думать и гадать, что делать.
Загрузка полная: 164 человека. Ну, выработать топливо, само собой, а как потом садиться? При касании передней ногой машину может сбросить влево с полосы.
Но всё же Вася справился, сел, удержал машину, спас людей. Молодец, что и говорить. Газета пишет, что экипаж представлен к наградам.
Что помогло? Очень помог низкий коэффициент сцепления на полосе – 0,35, т.е. почти гололёд. Как ни тащило машину влево, но всё же передние колёса проскальзывали, и боковая сила оказалась недостаточной, момент удалось парировать тормозами внешней ноги.
Вася долго, как мог, держал поднятой переднюю ногу, она опустилась на скорости 190, это уже не такой бросок, какой мог быть на 220.
Сумел он и сесть под правую обочину, почти по фонарям, обеспечив запас полосы слева, куда будет тащить самолёт. Сумел тормозами и асимметричным использованием реверса удержать направление, и только в конце пробега машину всё же развернуло на 40 градусов влево – но остались на полосе.
Пережили, конечно, немало, пока три часа вырабатывали топливо, ожидая развязки, судьба которой была в их руках. Ну, а на земле – всполошили больницы, пригнали 20 машин «Скорой», да пожарные, да тягачи… Начальнички перетряслись.
Вот теперь и открылось, чем чревато на емельяновском аэродроме отсутствие боковых полос безопасности и пригодной грунтовой полосы. Будь это месяцем раньше, будь сцепление получше – самолёт бы слетел в болото на скорости 180, и кто знает, чем это могло кончиться. Вот какая была бы цена лесной депутатской и всего «комплекса», в котором не нашлось места полосам безопасности.
Машина эта – моя крестница 134-я, и нога – та самая, сочинская. Её не заменили, я точно узнал у заводского представителя.
Случай этот РЛЭ не предусмотрен. Есть там посадка на две ноги, основную и переднюю, есть посадка с убранной передней ногой, есть вообще посадка на брюхо, а вот с развёрнутыми колёсами – нет.
Лет шесть назад так же вот развернуло переднюю ногу на Ан-24, и ребятам пришлось садиться на грунт в Северном. Было много рекомендаций с земли; остановились на самом дебильном варианте: сажать на колёса, на грунт, по диагонали в сторону стоянок. Ребята сели, держали ногу, сколько смогли, потом она опустилась, отлетела, что-то повредила, самолёт загорелся и понёсся юзом на стоянки, но немного не докатился. Пассажиры сдуру стали сигать во все дыры, двое прыгнули через передний багажник прямо под струю горящего керосина, сгорели.
А можно было просто сесть с убранными шасси на брюхо, на грунт. Переднюю ногу вдавило бы в нишу, ползли бы на фюзеляже; самолёт бы списали, конечно. Но и здесь он сгорел, тоже списали.
Пожалуй, будь у Васи полоса сухая, пришлось бы ему садиться с убранными шасси на брюхо, на снег, рядом с бетонкой. Самолёт бы тоже списали.
Кто его знает, как лучше. Но тут, слава богу, обошлось. Спасли и людей, и машину.
«Комсомолка» разместила интервью с оставшимся в живых бортмехаником Ту-134, потерпевшего катастрофу в ЮАР. Если принять во внимание преподнесённые непосвящённому читателю понятия и цифры «курс», «высота», «удаление», то диву даёшься. Выходит, что они за 117 км заняли высоту 1000 м (по расчёту высота на этом удалении от аэродрома должна быть не менее 7000); идя с курсом 170, т.е. удаляясь от границы, попали почему-то за границу; поверили мощному маяку, абсолютно игнорируя локатор, на котором Мапуту уж за 100 км ярко светится, видна береговая черта и хорошо просматриваются Драконовы горы за границей.
Как контролировался диспетчерами полёт вдоль границы президентского самолёта? Посему не сработала система оповещения о сближении с землёй? Почему не сработал сигнализатор радиовысотомера? И вообще, куда смотрел экипаж, где комплексное самолётовождение? Где контроль по времени?
Нет, это просто разгильдяйство. Родине нужны герои, на худой конец, мученики. А мы-то, лётчики, видим: преступная халатность. Купились на маяк.
Вот так купился в Турции Боря Б. А ведь у него на борту тогда был штурман отряда, готовились все, ждали этот поворот маршрута… и купились.
Вот в горах и установили маячок: а вдруг Иван купится, разгильдяй, – купится на мякине. Президентский экипаж…
Да, может, и диспетчеры негритянские были подкуплены. ЦРУ не дремлет…
Ну, и на дурачка в конце статьи лозунг: «В следующем году восстановлюсь, долетаю за погибших товарищей…»
Хрена. Упасть на скорости 400 – какой врач возьмёт на себя и допустит человека к полётам? Пусть радуется мужик, что жив остался, как вон Захаров у покойного Шилака, пусть ходит каждый год на комиссию и радуется, что платят по среднему. Отлетался.
Слетали во Владивосток. Спокойный полёт. Штурман – К., алкаш К., от которого я так отбрыкивался три года назад. Сейчас мне спокойнее: нынче выпить в рейсе – да и не в рейсе – очень неправильно тебя поймут. Да, кстати, водки и не достанешь нигде: вон в Артёме тётя-продавец вылупила тырлы, что мы в спецодежде (в аэрофлотской форме) хотели купить шампанского. У них, в шахтёрском городке, с этим очень строго.
А летает он неплохо, хотя по-разгильдяйски выполняет обязательную говорильню, бормочет под нос. Но дело делает и нюх имеет на такие тонкости, которые мне пока недступны. Например, сразу чувствует, какую машину куда уводит. Интуиция развита, опыт. Мне его хвали как штурмана, да и школа Петухова (хотя тот, бывало, его за пьянку натурально бил по морде).
В полёте молчит, реплики несколько высокомерны: мол, не учи отца самолётовождению. Приглядываюсь. Он – тоже. Пока мой штурман в отпуске, штурмана будут меняться часто.
А Женя всё никак не пробьёт обмен квартиры, поехал в Липецк добиваться.
Посадки хорошие. Во Владике взлетали в снегопаде, рулить на старт было сложно. Чита не заправляла, пришлось залиться до упора, благо, пассажиров было всего 85 человек, сэкономили кое-чего, и в Чите понадобилось всего 3000 литров, мелочь, так что и воевать не пришлось – дали без разговоров и отпустили с миром.
Дома Лёша корячился, давно не садился в снегопаде, сел на занесённую снегом ВПП правее невидимой осевой, но строго параллельно фонарям; я не мешал.
Много разговоров о пенсии. Некоторые не выдерживают и, понадеявшись, что вот уж скоро пенсию увеличат, бросают полёты и уходят.
Так ушёл второй пилот Володя Л. Мы с ним учились в Кременчуге, оба окончили с отличием, попали в Красноярское управление, параллельно летали на Ан-2, Ил-14, Ил-18; на «Ту» он пришёл попозже. Холостяк до 40 лет, да и навсегда.
За эти годы он из весёлого и жизнерадостного человека превратился в угрюмого мизантропа, построил кооперативную квартиру и совершенно замкнулся в себе. На работе превратился в человека-функцию, причём, демонстративно: я, мол, своё дело делаю, а там хоть гори всё огнём. Но такая линия поведения не для лётчиков: всё плавно, но энергично от него отвернулись, и он остался один.
Летал он, правда, неплохо, теорию и документы знал досконально, всё выполнял чётко… но командиры почему-то перестали давать ему взлёт-посадку, используя буквально как автопилот и как бумажных дел мастера в экипаже; он молча делал своё дело. Но со временем руки разучились летать; теперь ему уже просто не доверяли ничего кроме бумаг. Он в экипаже не разговаривал неделями. Стали от него отказываться, сначала самые нервные, потом все.
В чём причина, я не знаю, но полагаю, что тут завышенный уровень претензий, правдоискательство и разочарование сыграли немаловажную роль. Он в молодости всё скрипел и критиковал всех и вся.
Я хоть и тоже интроверт, но умею приспосабливаться к людям и обстоятельствам. Твёрдо знаю, что без людей не проживёшь. И ещё знаю: нет людей абсолютно хороших, у самого лучшего может быть чёрное пятно; но раз это неизбежно, значит, надо мириться и контактировать с лучшими качествами, опуская худшие, искать точки соприкосновения.
Сам-то я тоже не без греха, так что оставим в стороне максимализм. А он был максималист в пределе, но… в сорок лет это смешно. Истина всегда находится где-то в середине.
А жаль: погиб козак!
Ну ладно, жизнь выдавила неуживчивого человека. А вот пример жестокой несправедливости по отношению к личности, оставившей в истории нашей авиации яркий след.
Летала у нас в управлении Ираида Фёдоровна Вертипрахова. Всю жизнь свою положила на алтарь. Пахала командиром Ил-14 и Ил-18 наравне с мужиками, а ведь ещё и чемпионка по парашютизму в прошлом, и на Ту-154 переучилась в числе первых, и даже – показухи и рекорда ради – в наспех сколоченном женском экипаже быстренько переучилась на Ил-62 и установила на этом лайнере рекорд беспосадочного полёта: София-Владивосток. Заслуженный пилот СССР, награждена орденами…
Всё есть. И характером проста, «свой мужик», и водку пила наравне, и даже более иных, и домой бабам пьяный экипаж развозила, в руки передавала: «Твой? Забирай!» Чужих мужей-то… а сама одна как перст, всю жизнь.
Я с нею как-то летал вторым – спокойно. Она вообще очень спокойная женщина. Летать вторым даёт. Ну… и привыкла к славе, стала на кое-какие мелочи смотреть сквозь пальцы. Зайцами с нею летал весь аэрофлот. Широкая, русская натура.
Однажды в Сочах доверила сесть известному «мастеру» Д., снятому за «мастерство» во вторые пилоты, а тот (уже теперь покойничек, царство небесное) не удержал направление на пробеге, выкатился в сторону, колёсами по обочине, – и гавкнуть не успели; ну, подправила, вкатились обратно, зарулили: на колёсах осталось сено с обочины. Ей бы упасть на четыре кости – запросто бы договорилась, замяли бы, – нет, махнула рукой, не стала разбираться, подумаешь – мелочь: самолёт-то цел, фонари на обочине тоже…
Но сочинских надо знать. Раздули предпосылку. Дошло до самого Васина. Правда, и наш Лукич, очень не жалующий женщин за штурвалом, руку не слабо приложил. Васин рубанул сплеча: командира Ту-154 Вертипрахову, Заслуженного пилота СССР, орденоносца, чемпионку мира и т д. и т.п., – кинуть во вторые пилоты Ил-18! Навечно!
Суки. Когда им надо – то в нарушение всех лётных законов рекорды им ставь…
И так и сгноили. Она стала добиваться, связи у неё есть, Гризодубова и другие знаменитые друзья. Но, видимо, настали другие времена: бесполезно. И тихо-тихо она ушла на пенсию, стала, говорят, попивать… и сгинула в безвестности.
27.11. Сколько ни смотрел фильмов о спорте, всегда это поделки нижайшего пошиба: голы, очки, секунды, яркая форма, обязательная красивая любовь, – и всё это на фоне какого-нибудь «оживляжа». Глазу есть за что зацепиться, уму и сердцу – отнюдь нет.
Таков и фильм «Парашютисты». Красиво и всё, до глупости. И приплели наш аэрофлот. Вообще, непонятно, зачем его-то ввязали. Глупейшие кадры: вертолёт ищет в лесном пожаре людей, да от взрыва автоцистерны загорается, и командир, летающий на Ми-8 в одиночку, без экипажа, но с кинооператором, начинает… решать проблемы будущей своей свадьбы, показывает оператору медальон и занимается говорильней. А плексиглас фонаря кабины, облитый бензином, горит перед глазами.
Потом пилот, вместо немедленной посадки и скорейшей эвакуации из горящего вертолёта, начинает набирать высоту, чтобы оператор мог спрыгнуть с парашютом. Но отказывают двигатели, сразу оба, и пилот, досадливо поморщившись, говорит буквально: «Этого ещё не хватало!»
Потом на авторотации садятся в горах и скатываются в ущелье, где командир сам погибает, а товарища выручает. Знай наших.
Дурак-сценарист написал, не зная жизни, а безответственный режиссёр поставил, освоил отпущенные деньги.
Знали бы они, как страшно гореть, как вообще страшно подлетать близко к пожару, какие малые секунды отпущены для спасения… И что такое отказ двигателя. И как это – отвечать в воздухе за чужую жизнь. Короче, я плююсь.
Зато вчера с наслаждением смотрел и слушал концерт оркестра «Виртуозы Москвы» с интервью Спивакова.
29.11. Вчерашний день оставил во мне ощущение удачи, наслаждения жизнью и полноты бытия. А всего-то слетал в Алма-Ату. И с утра ещё была задержка часа на полтора: в Алма-Ате был туман.
Зная характер погоды в зимней Алма-Ате, мы вылетели по прогнозу, и туман, как и ожидалось, рассеялся через час полёта.
В наборе я боролся с дубоватой машиной, кстати, моей алмаатинской крестницей, 324-й, она так и летает с подклёпанной законцовкой крыла. Боролся так, что даже обратил на это внимание экипажа. Всердцах скаламбурил, что или самолёт бревно, или командир г…но. Второе, кажется, ближе к истине, и автопилот включил с радостью.
Штурман новый – Витя Гришанин, его проверял Женя Наземцев, штурман-инструктор лётного отряда. Витя штурман молодой, из радистов, за такими глаз да глаз. Были слегка шероховатости; въедливый Женя находил зацепки, слегка попиливал, но в меру.
На эшелоне, когда всё успокоилось, мы поели свою курицу, оставили пилотирование и самолётовождение Лёше с Витей, благо, летели визуально, а сами занялись решением вопросов соцсоревнования: Женя избран профоргом лётного отряда. После дебатов пришли к выводу, что от экипажа зависит чистая экономия топлива и время полёта. В принципе, этих двух показателей хватит для соревнования, остальное – болтовня.
В Алма-Ате была дымка, заходили с прямой, правым доворотом; садился я. Еле успел, как всегда в Алма-Ате: двенадцатый год туда летаю, а с прямой подводят так, что потом вечная спешка: шасси, закрылки, довыпуск, снижение, – и только-только успеваешь до входа в глиссаду. Сел отлично. Да и грех не сесть: идеальные условия.
На обратном пути всё было нормально, правда, дома усиливался боковой ветер, подходил фронт, но запасных полно, топливо есть, и мы особо не тревожились.
И всё же Абакан предупредил, что у нас в Красноярске снег, видимость 500, сильный боковой ветер, а у них нет топлива. Срочно стали ловить погоду Кемерова, там ветер по полосе. Топлива хватало ещё и на кружок в Емельянове, а погода менялась каждые пять минут: то 500, то 1000, то 900, то 600, а ветер боковой то 10-12, то 15-18 м/сек. А у нас в связи с отсутствием БПБ ограничение до 12. Было над чем подумать.
В кабине возросло рабочее напряжение. Женя принимал погоду за радиста, Витя, подсвечивая «мышонком», переводил курсовую, считал «коробочку», вёл связь; я руководил предпосадочной подготовкой, озадачивая конкретно каждого, а Лёша снижался с 11100 до 10100 по команде Абакана. Валера как всегда прикрывал тылы. Попробуй тут управься без штурмана.
Вышли на круг; болтанка была хорошая, я отдыхал перед посадкой. На «кругу» сидел Гена Захаров, поздоровались, узнали друг друга по голосу. Он дал мне возможность зайти: сделал по моей просьбе контрольный замер: 1000 метров, ветер 10 м/сек, – и умолк, как полагается хорошему диспетчеру, умеющему брать ответственность на себя.
Я взял управление с высоты 900; штурвал вышибало из рук, самолёт бросало, и мы с трудом удерживались на 400 м, да и то, швыряло то вверх, до 520, то вниз, до 350 м. Пришлось потуже затянуть ремни. Скорости гуляли, ветер сносил вправо, никак я не мог выйти в створ полосы. Наконец стрелка отшкалилась, створ поймали, подошли к глиссаде. Снос был 15 градусов вправо, я почти не боролся с кренами, предоставляя делать это АБСУ, берёг силы, следил лишь, чтобы директорные стрелки не выходили из кружка.
На высоте 300 метров устроился поудобнее и предложил всем: «Ребята, расслабились, уселись, спокойно работаем».
Земля интересовалась, видим ли полосу. Нет, пока не видим. За окном темнота и вихри снега в лучах рулёжных фар. Я наконец подобрал режим 85 и шёл на скорости 280, чуть-чуть ниже глиссады, на газу, на четверть точки ниже. Если идти выше и швырнёт вверх, газы-то уберёшь, а глиссаду можешь не догнать, поставишь машину раком; если в этой позе машину ещё и швырнёт вниз, а газы прибраны, то приятного мало, потеряешь скорость и нырнёшь.
Чаще всё-таки нас подкидывает вверх, поэтому я и иду чуть, на 5 метров, ниже глиссады, но на хорошем газу.
Со 180 метров стало вырисовываться светлое пятно в правом углу стекла. Доложили, что видим огни. Метров со 150 я перенёс взгляд на огни – и напрасно: тут же стащило с курса метров на 50, и только очень энергичным доворотом, перенеся взгляд снова на приборы, я восстановил с таким трудом удерживаемое и так легко потерянное равновесие. Стрелки снова утвердились в центре.
И нечего отрывать взгляд от приборов. Иди по стрелкам, пока огни подхода сами не вылезут и не упрутся тебе в глаза. Ведь из облаков вываливаешься, и полоса открывается внезапно, так чего же ты дёргаешься в снегопаде?
Со ста метров я увидел торец и огни полосы. Взгляд прыгал: вверх, на полосу, вниз, на стрелки. Краем глаза засёк скорость: 280, вроде растёт. С пятидесяти метров убрал газы до 81, с тридцати – до 80. Последний раз креном в полградуса удержал самолёт строго по оси ВПП.
Штурман бубнил над ухом скорость-высоту. Я, уже лающим голосом, скомандовал: «Чётче высоту по РВ!» Витя не понял. Но понял опытный Женя. И из-за спины, резко и звонко, как под водой, громко диктовал: «Двадцать метров! Пятнадцать, торец! Десять! Пять! Три, два, два, метр, метр, метр! Касание!»
И мы мягко сели. Реверс! Побежали. Я громко сказал: Спасибо, молодцы, чётко сработали!» Душа пела. Смерчи снега срывались с обочины и били в левое стекло. Полосу заметало, передувы нарастали на глазах; обмерзали стёкла. Но посадка удалась.
Зарулили, разобрались. Женя пытался втолковать Вите очевидное; я мягко его осадил, понимая, что человек один раз увидел – достаточно. Теперь он прекрасно понял, что значит для командира радиовысотомер у земли при сложном заходе и какова роль штурмана.
А я вот и думаю: а кто же мне без штурмана будет читать высоту по РВ в сложняке? Второй пилот держит по приборам до земли, бортинженер ставит газы по команде, он как пружина за спиной. Это очень сложно.
Домой пришёл усталый и умиротворённый, глупо сам себе улыбаясь. Дома так уютно…
Сегодня ночью лечу в Москву. А на улице метёт…
2.12. В Москве Лёша допустил небольшого козлика. Причиной был сильный боковой ветер, против которого он боролся с переменным успехом. Всё же подкрался к оси, хоть и с подветренной стороны. Но всё внимание ушло на курс, а над торцом упустил увеличение вертикальной скорости, в то время как надо её, наоборот, уменьшать. Я контролировал, не вмешивался, пока всё было в пределах. Ну, а мокрый асфальт полосы не даёт точно определить высоту начала, а главное, конца выравнивания, плюс вертикальная скорость: Лёша хватанул чуть энергичнее – и совпало с моментом касания. Секунды две парили над полосой, понесло вбок, но тут сели мягко второй раз; вода на полосе смягчила боковую нагрузку на шасси. Посадка с перегрузкой менее 1,3, но с козликом и сносом, – на четвёрку.
Лёше обидно, но виноват сам, и сам видит это.
А первопричина всего – ещё дома на земле отказал левый ПНП, и я остался без курса, сомневаясь в том, позволит ли этот отказ заходить в директоре мне. Ну а чтобы не сомневаться и не вводить себе дополнительные трудности, я решил, что пусть садится Лёша.
Теоретически надо было сделать дома задержку, заменить прибор, либо машину. Практически же у нас остаётся ещё пять штук компасов, двухканальная курсовая система, а по перечню допустимых неисправностей даже отказ одного канала курсовой позволяет лететь до базы с многократными посадками. Поэтому делать задержку глупо; я представил себе, что лечу на базу и отказ произошёл в промежуточном порту. Но по закону, по бумаге, положено вылетать с базы без единой неисправности.
Думаю, пассажиры всё-таки на моей стороне.
18.12. Как человек делает ошибки? По разгильдяйству. Вот пример.
Заходим в Перми на посадку. Нос тяжёлый: с закрылками на 28 руль отклонён вверх на 15 градусов. Довыпускаю на 45, вхожу в глиссаду. Руль балансирует где-то около 10, предельное значение. Проще всего – добавить режим и садиться на чуть повышенной скорости; при этом за счёт обдувки эффективность руля возрастёт, и его балансировочное положение уйдёт в допустимый сектор: 3-10 градусов.
Я же бездумно и молча открываю колпачок ручного управления стабилизатором и начинаю вручную, от себя, против всякой логики, переводить стабилизатор с 5,5 до 3 градусов, давая таким образом волю пикирующему моменту, но свято думая, что, наоборот, помогаю стабилизатором рулю высоты поддержать тяжёлый нос.
Так мы поступаем, когда, наоборот, центровка задняя, руль высоты отклонён вниз и сажать приходится от себя, – вот тогда, для удобства, вручную, переводим стабилизатор так, как я бездумно делаю сейчас, то есть, на пикирование.
Итак, стабилизатор медленно шёл к отметке 3, а я краем глаза следил за параметрами захода, ожидая ухода руля высоты вниз, от 10 к нулю. Но руль, наоборот, пошёл вверх и колебался уже где-то на 13-14.
Тут до меня дошло. Кровь ударила в голову. Молча установил ручной переключатель обратно, на себя, и хотел закрыть колпачок. Но известно же, что колпачок можно закрыть только при нейтральном положении переключателя; ясное дело, он упёрся. Стабилизатор тем временем медленно полз к отметке 5,5.
Плюнул, открыл опять, поставил нейтрально, захлопнул. Сзади кто-то сказал: «Стабилизатор остановился на четырёх». Ребята, оказывается, молча следили за моими манипуляциями.
Снова плюнул, открыл колпачок, дожал на себя переключатель, дождался положения стабилизатора 5,5, поставил нейтрально, закрыл колпачок, убедился, что руль высоты снова установился на 10, добавил режим, увеличил скорость на 10 км/час и продолжил заход.
На всё это ушли буквально секунды. Но какие секунды! Левая рука продолжала держать курс и глиссаду. Мозг обрабатывал несколько видов информации: курс-глиссада по стрелкам; соответствие центровки, положения руля высоты и стабилизатора; соотношение изменения кабрирующего и пикирующего моментов; скорость, режим двигателей и команды бортинженеру; работа с колпачком и переключателем; что за чертовщина, я же ухудшаю положение – переиграть назад; автоматически не переигрывается – переиграть вручную; догнать глиссаду; всё нормально, добавить только скорость; идиот…
«Идиот» – прорвалась одна эмоция. Сел отлично, всё прекрасно.
Экипаж хором спросил меня, что за эксперимент: не хочу ли я повторить подвиг минводских ребят в Караганде?
На днях в подобной же ситуации оказались ребята из Минвод. Так же был тяжёлый нос, так же командир вместо уменьшения пикирующего момента путём использования закрылков только на 28, ошибочно отклонил стабилизатор на пикирование. Но он переборщил. Переключатель под колпачком не нажимной, а щёлкающий, я в этом убедился нынче. Он его щёлкнул вперёд, а сам упёрся глазами в приборы. Наверно погодка была сложная, и у него не хватило внимания на всё. Стабилизатор благополучно отработал с 5,5 до нуля, и самолёт неудержимо затянуло в пикирование. У командира шары на лоб, штурвал полностью на себя, – а вертикальная уже под 15 м/сек, и самолёт нырнул глубоко под глиссаду.
Не растерялся только бортинженер-инструктор, сидевший сзади. Увидев, что его убивают, он дотянулся сзади через плечо командира и перещелкнул переключатель стабилизатора назад. Пилоты, вылупив глаза, изо всех сил тянули штурвалы на себя, стабилизатор себе тихонько отрабатывал на кабрирование, эффективность руля высоты с ростом скорости увеличивалась, а земля между тем приближалась, и вопрос, кто быстрее, должны были решить секунды – может, последние секунды жизни.
Кто-то сунул газы на взлётный режим, и самолёт, наконец, переломил траекторию снижения, но из-за большой вертикальной скорости неизбежна была просадка, значительная, может, 50, а может, и все 100 метров, которые ещё оставались до земли.
Самолёт всё-таки пошёл горизонтально, потом и вверх. Может, полторы секунды оставалось до смерти.
Шары на лоб были выпучены, поэтому пилоты как тянули штурвалы, так и продолжали тянуть, на мёртвую петлю. Самолёт моментально выбросило на взлётном режиме на тысячу метров. Ну, потом опомнились, сели.
Опыт – штука сложная. Контролировать соответствие перемещения руля и стабилизатора я научился, а вот общее решение было принято бездумно, вроде заскока. Правильно опытнейший Репин говорил: я человека знаю, отличный пилот, я уверен в нём… но кто гарантирует от заскока?
Ну а как иначе объяснишь. Прекрасно понимаю все эти моменты, кабрирующие и пикирующие, их взаимосвязь, что на что и как влияет; да и органы управления, переключатели, устроены по той же логике: надо лететь вверх – тяни, надо вниз – толкай. Так почему же мне надо было поднять нос вверх, а я толкал? Правда, толкал маленькими порциями и следил, что получится. Вовремя увидел, что – не то, переиграл, даже исправил ошибку, наложившуюся при переигрывании. Опыт есть, а что толку?
И как можно перепутать: заход с закрылками на 28 и корректировка стабилизатора на глиссаде относятся к совершенно противоположным понятиям, к противоположным крайним центровкам.
Принятие решения не заранее, а уже будучи в глиссаде, – самый опасный просчёт. Непредусмотрительность… а я же всегда стремился глядеть на три светофора вперёд.
Конечно, трехпозиционный переключатель ручного управления стабилизатором в данной ситуации сыграл злую шутку. Гораздо логичнее было бы поставить просто нажимной. Он сам устанавливается в нейтральное положение, как только бросишь. А фиксирующийся чуть не убил минводцев. Ну да туполевцам виднее. А нам надо думать, думать, думать наперёд!
Перед выпуском шасси на скорости 400 надо бросить один взгляд на положение руля высоты. Точно такое же положение руля будет и на глиссаде. Это оговорено в Руководстве. Так почему я этого не делаю? Вернее, делаю, но не всегда; вот нынче не сделал.
Момент этот сложный. Выпуск шасси обычно совпадает с другими операциями, требующими повышенного внимания: гашение скорости, балансировка в горизонтальном полёте, подбор режима, отвлечение на точное выдерживание своего места на схеме и т.п. И на определение центровки по балансировочному положению руля высоты не всегда хватает внимания. А должно хватать.
Это беспечность. Я провёл с ребятами разбор, себя не щадил, их тоже: вас убивают, а вы молчите. На будущее договорились: обо всём, что делаешь или собираешься делать, громко докладывать экипажу.
Я об этом говорил ещё после подвига Паши К., да, видать, забылось.
Опыт, конечно, помог не скатиться до аварийной ситуации, как у минводовцев. В общем, даже пульс не участился, ну, чуть ударило в голову; я как-то походя осознал и исправил ошибку, как будто так и надо… Но так не надо. И ещё подождём расшифровку: если докопаются про потерю высоты на глиссаде, начнут таскать. Ну, может, я и не вышел за пределы допусков, это ж секунды.
Как год, так неприятность. Правда, покажите мне такого пилота, у которого не было бы ошибок. Сам Слава Солодун при мне мостился в Симферополе на военную полосу. А уж он-то командир – таких ещё поискать.
Что, победителей не судят? Я себя сужу всегда. Мастер…
Ну, а так слетали в Москву нормально. В Перми пришлось садиться на дозаправку из-за большой загрузки. Как садились, я описал.
Договорились за два трапа и пожарную машину, чтобы дозаправиться, не высаживая пассажиров. Зарулили на перрон, за бортом -35 с ветерком. Долго ждали трап, наконец, он показался.
Трап мчался – не проскочил бы. Четыре мужика пихали его, аж искры из-под копыт. Водитель тянул за руль, как упирающегося осла. Когда дополз, приткнулся под углом к двери – еле можно выйти, и то с опаской, не провалиться бы в щель.
Бедные вы, наши трапы. Кто вас только изобрёл на наше горе. И ведь есть же автотрапы на горбу у УАЗика, те зимой хоть сами ездят. Но мы со времён первых Ил-18 эксплуатируем это аккумуляторное дерьмо, боящееся снега, мороза и порывов ветра. Так же и электрокары для перевозки багажа.
А надо-то совсем немного. Трапы – на автомобильном шасси. И багаж возить на автомобилях или мини-тракторах. И стоять этой технике надо в тёплом гараже… которого нет, и не ждите…
Так вот, один трап с горем пополам дотолкали, и мужик из ПДСП, отдуваясь, клялся, что второй замёрз намертво. Была глухая ночь; громадный пожарный «Ураган» стоял рядом, направив страшной мощности пенную пушку на самолёт; мороз 35 градусов – керосин факелом-то не подожжёшь… Заправлять всего 12 тонн, это 15 минут дела.
И мы решили: ну какая разница, один трап или два. На случай пожара второй трап не спасёт, только передавят и перекалечат на нём друг друга на ступеньках. Есть эффективные надувные трапы, от них будет больше толку. Инструкцией всех ситуаций не предусмотришь. Плюнули, и я разрешил заправлять.
Через час мы улетели.
20.12. В Шенефельде упал наш Ту-134, минчане вроде бы. В газетах соболезнование немцам. У нас – молчание. А вокруг экипажа, убившего Самору Машела, создаётся ореол чуть ли не героев. С честью выполнили свой долг. Это в прессе. У нас – опять тишина.
Вчера слетали в Алма-Ату, спокойный рейс. Опять – в который раз – в Алма-Ату на 324-й. Но шалишь – бетоноукладчика там уже нет, котлован зарыт и забетонирован.
Я узнавал, что надо для восстановления талона. Только представление, характеристику, подпись командира отряда. Не хочу унижаться перед Медведевым, и не оформляю. Захочет – сам оформит или меня пнёт. А мне – не надо, обойдусь. Представляю, с каким лицом он будет мне подписывать и какие назидательные слова процедит. А между строк: понял, как плевать против ветра?
Никак не приучу себя, забываю перед выпуском шасси проверить балансировочное положение руля высоты. Не хватает внимания. Значит, пусть помогает экипаж. Настраивай, командир. Пусть все следят.
23.12. Москва. Последний рейс в этом году: 26-го кончается годовая медкомиссия.
До Москвы летел я. Весь полёт против ветра, весь полёт не снимал руку с газов, затягивал режим, как мог. Какой-то умный дурак придумал этот прогрев при температуре ниже -20, и мы, мало того, что рулили дома на старт 9 минут, – так к сожжённой полутонне добавили ещё полтонны на прогрев двигателей. И весь полёт я навёрстывал растраченное впустую топливо.
В Домодедове работал курс 137, мы готовились с прямой, прикидывая, что всё же уложимся в остаток 6 тонн, как положено. Но курс сменили на 317, пришлось крутить чемодан, однако я до последнего затягивал режим, держа на эшелоне М=0,81.
Круг постарались не растягивать, вовремя снизились, выпустили шасси (не забыв про положение руля высоты) и механизацию; экипаж работал на пределе своей квалификации. Выжали всё, газу практически не добавлял до глиссады. Сели – остаток где-то около 5 тонн.
Как объяснишь дяде, что выжато всё. Сам Медведев, небось, оставил бы 4 тонны, а как ему объяснишь, что 33,5 т при взлётном весе 100 т – мала заправка. И ещё эти дурацкие ограничения по потолкам в зависимости от веса, введённые после катастрофы в Карши. Я плюнул на них и занял 11600 при весе не 82, а где-то 85 тонн. И сразу ослабел встречный ветер, а за бортом температура получилась -75 градусов. При -75 летать на нашем лайнере нельзя; ну, записали -69.
Пожалуй, занятая вовремя высота полёта 11600 спасла нам полтонны. И после всех перипетий, после заруливания на домодедовскую стоянку, стрелка, наконец, устойчиво показала остаток 5500, что и требовалось доказать. На ВПР было 6 тонн, а 500 кг ушло на заруливание по бесконечным домодедовским дорожкам.
Вот так, нарушая параграфы, выжимаем из машины всё, что можем.
Но если бы пришлось уходить на запасной, я бы с чистой совестью дотянул до Горького на сэкономленном топливе. Дотянул ли бы с четырьмя тоннами Медведев?
Новый начальник управления, поразмыслив, рассудил, что не дело это – летать на Ту-154 на 3600 км без посадки. И правильно, на Москву нужна промежуточная посадка. Либо Ту-154М. А то вечно двадцать пустых кресел возим, не проходит загрузка. Не считая риска сесть без топлива. Это самообман, и Медведев это прекрасно понимает.
24.12. Назад летели ночью. Как всегда, в АДП начались мелкие пакости. Первое: в Абакане туман, запасные Томск, Кемерово. Значит, надо топлива на тонну больше. Справились о загрузке: полная, под 100 тонн взлётного веса. Но опыт подсказывал, что 100 тонн из Москвы никогда не набирается. Пошёл в центровку, утряс вопрос, дал команду на дозаправку, сбегал наверх, купил кефирчику домой; подписали, вооружились – и на самолёт.
Посадка заканчивалась. Дозаправили нам не тонну, а почему-то только полтонны, но нам и надо было где-то 600 кг. Ладно. Взлетели.
Машина попалась бревно бревном: два с половиной часа угол атаки на 11100 никак не уменьшался ниже 4,5 – и это при -75 за бортом; естественно, истинная скорость 820, ветерок помогал лишь до Шаранги, а там стал неустойчивый; лишь от Хантов чуть подхватило.
Я всё затягивал газы, машина не хотела держать «М», и так мы и болтались на углах атаки 4,5 и М=0,82-0,81, а расход не падал ниже 6000 кг/час. Дозаправленные полтонны давно истаяли. Оборачивалось так, что дома на ВПР остаток будет не положенные 7 тонн, а дай бог, пять. Но я упрямо затягивал режим.
Кемерово закрылось сразу после нашего взлёта из Москвы. Томск закрылся, когда мы были на траверзе Колпашева. Абакан вообще туманил с вечера. И у нас не осталось запасных. Тогда для полноты счастья затуманило Емельяново: 1000 м, минимум.
Думать тут было нечего. Раз не оправдался прогноз двух запасных, официально выбранных мною при принятии решения на вылет, я, согласно НПП, имею право садиться при погоде хуже минимума. А это – предпосылка, нервотрёпка, разбирательство, да ещё под Новый год, да ещё крайний мой рейс.
Но всё обошлось. Видимость дома улучшилась до двух тысяч, Лёша зашёл и сел. Правда, я всё опасался, что он не учтёт сорокаградусный мороз: потребный режим всего 78-76, да морозная инверсия, да вертикальная из-за попутной тяги 5-6 м/сек, да ещё с его низким выравниванием… Держал руки наготове. Он, и правда, после пролёта торца снижался с той же вертикальной, по-вороньи; я не утерпел, и мы поддёрнули штурвалы одновременно. Я тут же отпустил руки, и Лёша мягко досадил машину.
Остаток получился 6,5 т, расчётный.
25.12. Два года прошло после катастрофы Фалькова. Утихла боль, и теперь, проезжая на автобусе мимо места падения, мы уже спокойно смотрим на этот лесок, на вновь зазеленевшие после пожара сосны, на нет-нет да и мелькающие в пахоте вокруг леса кусочки металла. Эмоции утихли, разум сделал выводы. Всё-таки это был этап.
Теперь мы готовы к аварийной ситуации на взлёте, продумываем действия на случай пожара, вынужденной посадки. Врасплох нас уже не застать.
Интересная статья в газете. О новом стиле и методах работы пропагандистов. Меня конкретно касается. Много говорильни о том, что много говорильни. Но есть и золотое зерно: массовые пропагандистские мероприятия не только не лают эффекта, а наоборот, вредны. И агитатору, пропагандисту идей партии, надо делать упор на индивидуальную работу с каждой личностью. Поповские методы всё же эффективнее митингов.
Боже мой, о чём говорят! Как на Марс попал. Теперь вот задача стоит: в срочном порядке обучить пропагандистов методам индивидуальной работы с людьми. Когда-то иезуитов этому учили в их школах.
Но ведь тогда что же делать громадному аппарату шумовиков, пасущихся на сочных лугах около пропаганды? Тем, кто придумывает, издаёт, рассылает, извещает, контролирует, отчёты в папки складывает… Ведь не пойдёт же он контролировать, как я индивидуально, доверительно беседую с человеком. И лопату же он в руки не возьмёт.
Прямо не верится, какие перемены наступают.
Однако… что-то мне давно уже не хочется заниматься ни массовой, ни индивидуальной пропагандой. Может, сказать им: а не пошли бы вы в ж…у с вашей партийной нагрузкой?
Зашёл я тут в соседнюю эскадрилью специально познакомиться со стилем работы передового пропагандиста, Лукича нашего. Этот стиль целиком и полностью отражён на ярком стенде – проверяющим ну просто нечего делать.
Тут тебе и тема, и идея. И когда было проведено занятие, и кто выступил, и с каким рефератом – да куда там – с диссертацией! И кто особо отличился, и кто помогал ему отличиться, и роль секретаря парторганизации и помощника командира эскадрильи в оказании практической помощи пропагандисту, и кто как уяснил, что Волга впадает в Каспийское море, и когда будет новое занятие.
Красиво. Уря.
А когда я был весной у родителей, то посмотрел труды отца своего, матерущего пропагандиста, давнего и заслуженного лектора-международника, и прочая, и прочая. Он долго заведовал методическим кабинетом районо, был примером, делился опытом на областных семинарах.
Он уже давно на пенсии, но считает необходимым как коммунист внести свой вклад в перестройку.
И вот передо мной план. Десятки пунктов и подпунктов. Как довести до людей, что… что Волга впадает во всё то же море.
Пункт, что Волга – великая река. Пункт – что Каспийское море – тоже не маленькое. Что река – течёт. Что течёт в ней вода, а берега не текут. Берега стоят. Стоят вокруг воды. Пресной воды. А в море вода солёная. И т.д. и т.п.
Расписано со знанием дела, красиво расписано, до буквы, до запятой. Я страшно удивился, как много можно высосать из пальца: умно, красиво, логично, связно, правильно расположить, выделить главное, сгруппировать подобное, броско озаглавить…
Но Волга всё равно впадает во всё то же, будь оно проклято, море говорильни.
Так вот он, прежний стиль работы. Отец свято верит, что так и только так. Он закостенел в этих убеждениях. Он считает, что иначе люди не поймут. Он знает людей. Он читал лекции этим людям – рабочим на предприятиях, имеющим 4 класса образования, – ещё когда меня не было на свете.
Но сменились поколения. Он учил детей этих рабочих, учил и детей этих детей. И всё равно считает, что мировоззрение их не поднялось выше уровня того, что Волга – впадает.
Его взгляды – это взгляды большинства наших учителей старшего поколения, определяющего и сам уровень народного образования в стране. А уровень этот неуклонно падает.
Эти учителя воспитали тех, кто занимает сейчас так называемые ключевые посты. Всё взаимосвязано. Каков учитель, таков и ученик. А когда этот ученик начинает заправлять жизнью, учитель говорит своим новым ученикам: вот – жизнь, учитесь. И – замкнутый круг.
Я так работать не могу. Жизнь на месте не стоит. Иначе не поддержал бы народ перестройку.
А как мне работать по-новому, я не знаю. Говорить людям о том, что съезд наметил новую дорогу? Что надо всем перестраиваться? Что начинать с себя? В чём суть перестройки? В чём суть нового хозяйствования? Так это все и так знают… и не знают, как начать с себя.
Началась перестройка. Пока в умах людей.
Ну, а я, что делал я на своём рабочем месте в этот переломный год?
Начал год с ошибки. Но ведь и ошибка допущена не по разгильдяйству, а при проявлении инициативы. И сейчас говорю: я искал не обтекатель на свою задницу, а способ в трудной ситуации сделать дело. Многие ли поступали так же? Отнюдь, нет. Поэтому, не оправдывая себя за срыв, с чистой совестью говорю: я не сидел на месте и не прятался, а искал. Пусть ошибся, но – в поисках оптимального варианта. И из той несчастной погнутой копеечной серьги извлёк немало пользы на будущее.
Стал использовать РСБН для контроля разворотов на схеме захода.
Стал использовать снижение и заход по оптимальной траектории, без газа. Были дебаты, но сейчас у меня есть единомышленники, в частности, Репин. Но начинал это Петухов.
Как всегда, экономил. По моим данным, бумажным, где-то 85 тонн, но реально – тонн 30-40 есть. Знаю, что на самых длинных рейсах, на Москву, либо остаюсь при своих, либо экономия до тонны. С проверяющими же – перерасход. Здесь ещё непочатый край работы.
Были и ошибки, как же без них. На Абакан туда-сюда в грозу дёргался – пережёг 8 тонн. Но всего не предусмотришь, да и не всё зависит от нас. Вот закройся вчера Красноярск – и кто виноват. Командир, конечно: плохо анализировал. Но уверяю, окажись при принятии решения на моём месте сам Васин – он точно так же сел бы при видимости хуже минимума.
Очень много дала мне поездка в Волчанск и встреча с одноклассниками – в смысле познания и оценки своего места в жизни.
Что дёргаться. Пытаться отсидеться в уголке, так не усидишь. Нет уж, надо жить как живу, здесь я на своём месте.
В общем, сложный для меня был год, нервный, противоречивый, но это – год надежд. Я поверил в перемены.
© Copyright: Василий Ершов, 2010
Свидетельство о публикации №11001150391
Летные дневники. Часть 4
1987. ПРОЗРЕНИЕ.
26.12.1986. Вопросы газеты «Воздушный транспорт» Бугаеву о перспективах авиации, о подготовке кадров, о наших животрепещущих проблемах. И ответы: да – толковые, да – со знанием дела, с горизонтами…
Но камнем преткновения так и остается вопрос: как же все-таки перестраиваться летному составу?
Министр долго и красиво рассусоливал вокруг да около. Но свел все к тому, что есть еще у нас летчики, которым все до лампочки, нечестные, ленивые и пр. И что надо повышать культуру обслуживания.
Ага, это ленивые и нечестные – перевозят 140 миллионов пассажиров в год?
Сам летчик, а конкретно о летчике ничего нового не может сказать. Это косвенно подтверждает убеждение – и мое, и коллег моих, – что из нас ничего не выжмешь. А если есть равнодушные – то кто их породил?
Наше ускорение уже было и прошло. Нас ускоряли страхом, затягиванием гаек, уважением к букве закона, пунктуальностью, расшифровками. Довели до тупого, бюрократически-буквального, слепого выполнения, не то что буквы – запятой. Так что нам ускоряться некуда, мы и так движемся шустро.
Вообще говоря, термин «ускорение» я понимаю так. Мы двигались; мы затормозились. Как бы не остановиться и не попятиться назад. Теперь надо догонять. Вот – ускорение.
Народ не пил, потом стал пить, все больше и больше; теперь запился. Это замедление.
Народ жил бедно, но нравственно чисто, а сейчас погряз в вещизме и обывательстве. Это тоже замедление.
Молодежь утрачивает энтузиазм – движущую силу общества. Это тоже замедление.
Не мир западный нас обогнал, а мы от него отстали, заразившись его низменными устремлениями, пожирая его помои.
Бизнес, торгашество, вещизм, разврат, пьянство, наркомания, преступность, аморфность и беспринципность, – об этом ли мечтал Ленин?
Так что надо догонять. Вот что такое наше ускорение.
А летчики как летали, так и летают, отдавая всю жизнь службе авиации. И только упорядочились и ужесточились до непомерности требования, чего некоторые уже не выдерживают.
Повторяю в сотый раз: если бы весь Союз работал так и в таких условиях, в какие поставлен летчик, у нас еще позавчера уже был бы коммунизм.
Поэтому-то Бугаеву о моей перестройке и ускорении нечего сказать.
Зато откровенно сказано: по подсчетам западных специалистов в 2000 году – через 13 лет – пилотов придется списывать в возрасте 27-28 лет. И хотя оптимист Бугаев не совсем разделяет этот прогноз, но сбрасывать его со счетов нельзя: это тенденция.
Мне же этот прогноз только говорит, что лучше уже было. Золотой век авиации миновал, ушел вместе с Ил-18.
А сейчас я едва налетываю по 450 часов в год – вдвое меньше, чем тогда.
27.12. Летный состав уходит из Аэрофлота. Сам министр признал, что специалисты, подготовка каждого из которых обходится государству в 15-20 раз дороже, чем инженера, уходят, причем, не столько из-за отсутствия жилья и не столь уж высокой зарплаты, сколько, главное, из-за плохих условий работы.
Ну а какие требования у меня, летчика, к условиям работы? Почему мне не летается?
Мой КПД низок. Я в воздухе, в общем-то, скучаю. Я с охотой летал бы без штурмана. Но самолет мой к этому не готов. Железо хорошее, а начинка устарела.
Наше штурманское бортовое оборудование примитивно, в основном, оно на уровне 50-х годов. Практически нового – счетчики координат и планшет с матерчатой лентой-картой. Но они несовершенны, врут и требуют постоянного контроля специалиста. На маршруте они худо-бедно обеспечивают приемлемую ориентировку, а в районе аэродрома – нет, и мы так и заходим, как в 50-е годы: КУР, боковое по локатору, отшкалилась стрелка…
Неоправданные ограничения. Чуть забарахлил локатор на земле – уже вводится десятиминутный интервал между бортами – 150 километров! Или: летим навстречу, видим друг друга, установили радиоконтакт, а визуально разойтись нельзя. Или: попутный повис впереди – ни верхом, ни низом его не обогнать, несмотря на то, что идем сверх облаков, видим борт.
Эшелоны по высоте через 500 метров – слишком жирно, хватит и 300. Вот и получается, что в воздухе слишком тесно, хотя места там хватает с избытком.
Инициатива, творчество, доверие летящему экипажу в нашей работе намертво зарублены. А ведь мы – опытные летчики, и те, кто составлял инструкции, должны понимать, что в полете никто кроме экипажа лучше не оценит обстановку и не примет наиболее верное решение.
Я всегда бы мерил меркой: а если бы война?
Если бы война, диспетчер разрешил бы разойтись визуально, обогнать менее скоростной борт, сблизить эшелоны по высоте, разрешить посадку хуже минимума, если экипаж видит полосу.
Наш Аэрофлот – крупнейшая авиакомпания мира – плетется в хвосте мирового авиационного прогресса. Ну хоть что-нибудь в том ИКАО, кроме разве что политики, мы предлагали? Мир хоть одно наше новшество принял? Да их и нет у нас, новшеств.
Ну, ладно, это воздух. А земля?
Мытарства с тренажером. Штурманский тренажер. Еще штурманский тренажер «Двина», для пилотов. Это пока бесполезные мероприятия, нового здесь ни грамма, а нервы и время гробим, переводим в дугу. Время – в дугу гнем. Это мы можем.
Вечные зачеты. Вечные росписи. Вечный мелкий страх. Масса ненужных журналов и амбарных книг, которые надо заполнять ненужной писаниной.
Медкомиссия, от которой мурашки по спине.
Вечное отставание земли от и так отсталых полетов. Полумеры, тришкин кафтан.
Отсутствие гласности, администрирование, келейный стиль – и все это со ссылкой на Устав.
Я мог бы еще долго перечислять. Но все сводится к одному: красивая сказка об острие прогресса, а на самом деле – застойный дух. Рутина, безысходность, непомерные требования, кандалы.
А время уже не то. Куда ни глянь – проявляется гласность, улучшаются условия, идут навстречу, прислушиваются к пожеланиям, видна перспектива, – короче, людям там интереснее и легче. А у нас одно и то же, только гайки затягивают, и вечный страх. Люди от страха уходят. Устали от страха, не надо и тех денег. Вот и бегут, едва заработав минимальную пенсию, в самом зрелом возрасте.
Ну, и быт. С жильем туго, хуже некуда. Если рабочий на заводе практически обеспечен жильем бесплатно – пять лет и получай квартиру, – то летчик чаще всего все свои сбережения вкладывает в кооперативную хрущевку. Это социальная несправедливость. Разве сравнить отдачу от летчика и от рабочего? А живет и тот, и другой, практически одинаково, да еще рабочий и ворует. Рабочий живет недалеко от работы, а летчик чаще всего добирается за десятки верст, а ведь работа у него труднее.
Профсоюз обеспечивает рабочего и путевкой, и профилакторием, и клуб у него есть, и детсадик, и спортзал, и дворец культуры. У нас этого почти нигде нет.
Спасает Аэрофлот одно: летчик слишком, в ущерб самому себе, беззаветно любит Небо. Но, опять же… такие уже вымирают. А смена – не та.
И министр с тревогой говорит о том, что, с одной стороны, непомерно возрастают требования к летчику, а с другой – некому осветить нашу работу так, чтобы к нам пошла молодежь. Да и найди еще такого дурака, чтобы слепо пошел летать. Не та молодежь. Ей надо зримую выгоду.
Министр все это видит, понимает, тревожится. Надо все перестраивать, но хватит ли сил выворотить из болота наше неповоротливое аэрофлотское чудовище?
А тут это самофинансирование. Да мы вылетим в трубу с ним. Ну как я смогу поверить в рентабельность нашего отряда, если ни жилья нет, ни притока кадров, ни путного аэропорта; уже несколько лет топчемся в Емельянове, в грязи, латаем дыры. Жалкие службы с трудом и надрывом тянут лямку, все вручную…
Вот пример. Начальники спецавтобазы сменяются чаще чем раз в год. На одного шофера навешивают по несколько разнотипных спецмашин. Он справедливо требует большей оплаты за больший труд. А где же их взять, те деньги? Надо сперва больше трудиться, а никто за такую зарплату не хочет. Вот и получается замкнутый круг, люди плюют и уходят. И так в любой службе.
Надо все людям растолковать, убедить, а в чем – не знают ни администрация, ни партком. Да и убедить можно нынче только рублем.
Это же надо теперь проявлять инициативу, хозяйственную сметку, думать самим – а не привыкли же думать, дядя думал за нас.
Пока перестроимся, зубы на полку положим.
Ну, нас-то, летчиков, не затронет, мы как летали, так и будем летать, без нас авиация не обойдется. Я не разеваю рот на обещанное увеличение заработка: его надо еще заработать, и не мне – я и так все отдаю работе, – а остальным, наземным службам. Им надо так организовать работу, чтобы КПД экипажей стал наивысшим.
А все же интересно. Надо только набраться терпения: зримые результаты проявятся потом.
Черт возьми, начинал я эти записи два с половиной года назад как дневник пилота и не более. А обернулось уже которой тетрадью, и не столько полеты, как около них, даже вообще вроде бы не связанные с полетами вещи.
Но это как сказать. Человек един: вроде бы напрямую и не связано, а влияет.
Пресловутые моральные качества летчика ведь вырабатываются не только профессией. А вот востребованы они больше всего именно в профессии.
Когда тонул «Адмирал Нахимов» на Черном море, то там специалист, отвечающий за пассажиров, за тысячу человек, одним из первых прыгнул в море, влез на плот и отпихивал тонущих. Я таким дерьмом быть не хочу.
Я в себе уважаю и человека, и специалиста. Стараюсь жить честно, правда, не всегда получается, иной раз от усталости и глупость сделаешь. Но на место святого и не претендую.
Сами полеты, упоение и восторги в моих записях как-то незаметно сдвинулись на задний план. Да, летаю, да, красиво, да, удачные, мягкие посадки, да, иной раз неувязки, иной раз и обгадишься, сделаешь выводы, – но это работа, одно и то же, мне за это деньги платят.
А на первый план выползает боль – за Аэрофлот, и за товарищей своих, и за себя, и за пассажиров, и за народ наш, за страну. Как это назвать – гражданственность, патриотизм, просто неравнодушие, – но оно меня гложет. И абсолютно не гложет, что живу скромно, может, в чем-то хуже иных. Хватит нам и этого.
То, что в записях пессимизм, – да все сейчас так думают, все мучаются и ищут, и пока выхода не видно.
9.01. Сидение без дела развращает. В связи с моей годовой комиссией экипаж мой выгнали в отпуск до 15-го. Я же прошел комиссию за день, теперь вот сижу дома, пока мои ребята не выйдут.
Страна пьянствует, какая работа. Конечно, план свой мы налетаем и за неделю. Такой вот наш зимний КПД.
Читаю книги, пишу, хожу, – вот и все заботы. Как хобби – готовлю обеды, что моей семье очень нравится. Тщательно, от «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» до «Главный редактор…» пережевываю газеты.
Профэссор Васин зачал в «Воздушном транспорте» длинную статью о безопасности полетов. Что я, рядовой пилот, почерпнул оттуда?
Что везде низкая технологическая дисциплина. Что нет взаимодействия. Что профилактика заключается в улучшении воспитательной работы, повышении персональной ответственности и повышении профессионального уровня. В частности, этот уровень высокий – в стабильных экипажах. Ряд примеров. Молодой бортинженер, погибший с Фальковым, за свои 180 часов налета поменял 38 экипажей. Еще ряд цифр. И вывод: высшее образование, при всей его насущной необходимости, еще не спасает в экстремальной ситуации. Нужен экипаж, слетанный, с нормальным психологическим климатом.
Много общих фраз о настрое, о неукоснительном выполнении. И наоборот: где разгильдяйство, там жди беды.
Оставим пока статью. Поговорим о моем конкретном экипаже, о настрое и пр. Васин, наверное, мечтает, чтобы каждый командир приложил его выводы к себе. Потешим старика. Прикладываю.
Итак, мой экипаж.
Командир. Налетал 12000 часов с гаком. За все это время объективно: раз выкатился за полосу, раз сел с недолетом до полосы (на Ил-14); раз сумел развернуться на ВПП шириной 30 м, естественно, чуть выкатившись за обочину (на Ил-18, но об этом никто не знает); раз зацепил БАНО за бетоноукладчик, раз в сложных условиях повредил переднюю ногу (на Ту-154). Вот все грехи за почти 20 лет полетов. По расшифровкам отклонений нет. Командиром на «Ту» налетал где-то 2000 часов, а всего на Ту-154 за 7 лет налет 3600 часов. Для военного летчика много, для гражданского – ой, молодой еще командир пассажирского лайнера.
Так каков профессиональный уровень? Достаточно высок, соответствует первому классу? Надо полагать. Сейчас у нас средний возраст и налет командира Ту-154 примерно соответствуют моим данным. Самый средний командир.
А что касается огрехов, то пусть любой положит руку на сердце: за 20 лет у каждого что-то случалось, и не раз.
Конфликтов с начальством не имел. Проверяющие довольны. По полетам ко мне претензий нет. Те замечания, что иногда проскакивали, решались в рабочем порядке.
Как я работаю в экипаже, никого не интересует: объективные результаты говорят, что требования руководящих документов выполняются. Хотя один я знаю, как выборочно их выполняю. Результаты моей работы зависят отнюдь не только от тех документов, а иногда – и вопреки им. Но это кухня.
Ко мне в экипаж люди просятся. Если учесть объективные показатели работы, летные и экономические, и этот, чисто человеческий фактор, то экипаж на хорошем счету.
Второй пилот, Леша. Налет 15000 за 25 лет. Большую часть пролетал вторым пилотом, съел на этом зубы. Дело знает, исполнителен, помощник, летать умеет и не подведет в трудную минуту. Битый-правленый жизнью, скептик, болтлив и остер на язык. Конфликтует с начальством всю жизнь, из-за чего и не вводят в командиры. Но по полетам замечаний нет.
Ну что мне надо от него? Он со мной делится сокровенным. Сам ко мне просился, да и знаем друг друга давно, еще по Ил-18.
Какой еще нам климат создавать, если Бабаев работу любит, ответственно к ней относится; я ему не мешаю, даю вволю летать, доверяю, уважаю.
Какую роль в полетах играет то, что он беспартийный? Что любит женщин? А кто их не любит. Для меня он морально устойчив тем, что полеты для него – главное.
Штурман. Ну, пока летал Женя, к нему у меня была всего одна претензия: долго готовился, медлителен. И грязновато вел самолет, частенько туда-сюда по трассе шарашились. Такой уж он штурман, никуда не денешься. Но человек исключительно порядочный, старательный, инициативный. Он и сам понимал, что штурманское дело ему трудно дается, но отдавал ему все силы. Какой ему настрой нужен? Все с полуслова: надо, значит, надо. Мне не трудно было его чуть подстраховывать.
Сейчас штурман новый, Витя. Сурьезный мужик. Приходит на вылет за два часа, серьезно, обстоятельно готовится, потом солидно курит. Погоду, условия, – все заранее знает, подсказывает командиру, участвует в принятии решения.
В полете работает хорошо, лучше Жени. Ворчлив, правда, но я год с Сашей Афанасьевым пролетал на Ил-18, тот вообще Угрюм-Бурчеев, а как мы слетались и сжились хорошо.
О бортинженерах и говорить нечего. Эти ребята у нас всегда серьезны и самостоятельны. Свое дело знают и молча делают, я к ним и не суюсь. Инженер – хозяин машины, всегда раньше всех приходит, позже всех уходит. Его основная деятельность самостоятельна, а в полете он только выполняет команды и прикрывает тылы. И в экстремальной ситуации он действует хоть и по команде, но самостоятельно.
Кстати, «Цусима» мне много дала как командиру. И в смысле воспитания подчиненных, и как вести себя в ситуациях, и как людям доверять. Много ценных нюансов.
Вот я, оговаривая на предполетной подготовке действия на случай пожара на взлете, предусматриваю, что должен отдать управление второму пилоту, а сам буду контролировать действия бортинженера. Но в жизни практически я не сумею его контролировать. Скорее, этим я освобождаю себя от механической работы для принятия решения и отдачи команд. Ведь и вправду, не буду же я оглядываться назад и щупать глазами органы управления системами на пульте бортинженера. На тренажере все это наглядно видно: второй-то пилотирует, а я едва успеваю соображать и командовать; тут не до визуального контроля. Моя задача – скорее посадить машину, а не скорее потушить пожар.
Смешно было бы командиру броненосца бросить бой и бежать в машинное отделение, чтобы контролировать действия машинистов, как они там тушат пожар.
Пожалуй, исключу из предполетной информации слова «контролирую действия бортинженера». Надо говорить: «принимаю решение, руковожу действиями экипажа».
Бортинженер же не бьет тебя по рукам, если ему что-то кажется не так. Он тебе верит. Так что, командир, верь людям.
Валера Копылов летает 20 лет, я ему доверяю. Хоть он и сильно неравнодушен к алкоголю, но я и с Шевелем летал, а тот и вообще умер от водки. Но есть люди, для которых работа и водка – вещи несовместимые. И хотя между мной и Валерой стоит Ростов, я думаю, он ему пошел на пользу. Да и не те сейчас времена, чтобы в рейсе пить.
Так какой еще должен быть настрой, дорогой профессор Иван Федотович?
Да, настрой есть. На нашем самолете и в наше время на шармачка не полетаешь. Все надо предвидеть и обговорить. Все надо делать гласно, вслух (сам-то, в Перми-то…), все должны поглядывать друг за другом, подсказывать. Мы – одна семья, делаем одно дело, зависим друг от друга.
Это все – на словах. И весомый аргумент на деле: экипаж должен знать, что командир, настраивающий на полет, не просто болтун, а классный пилот. Небось, где-нибудь за бутылкой не раз спрошено: как у вас командир-то, летать хоть умеет, не убьет?
Я думаю, ребята во мне уверены.
Я не требую сильно с ребят, кроме как с Леши. Искусство штурмана плохо поддается контролю пилота, разве что весь полет параллельно с ним следить и считать. Интуицию не объяснишь словами, что и почему. И нечего мешать штурману работать. Разве что иной раз спросишь о чем-нибудь, как вроде бы просто интересуешься у специалиста. Это очень важно: дать человеку почувствовать свою значимость, что он – главный специалист на своем месте.
Так же и с бортинженером.
А вот второго пилота надо натаскивать всю жизнь. Не давать послабления, шлифовать и полировать. Второй должен летать не хуже командира, а если лучше – туда ему и дорога, и честь командиру. Но экипаж должен быть убежден, что за штурвалами сидят опытные волки.
Самое интересное, новое, живое в экипажах, когда каждый старается вложить весь свой опыт, всю душу в дело, – все это, тов. Васин, чаще всего не оговорено в руководящих документах, а то и существует вопреки им. Летчикам надо немножко соображать, почему и как создается тот или иной документ.
Вот отменили, наконец, дурацкое указание об обязательном прогреве двигателей при морозе ниже 20 градусов. Отменили, и все. Ничего, палец о палец, не сделали, а два года экипажи грели атмосферу. Я уже тогда говорил, что цифра взята с потолка, после какого-то незначительного случая. Это был обтекатель на задницу тому, кто по службе обязан был принять ну хоть какие-то меры; вот – принял. Гроза миновала, все забылось, а с экономией топлива жмут. Никаких доработок не сделали, а пришли, наконец, к выводу, что была напрасная перестраховка. Отменить.
И сколько таких указаний было!
Глубочайшее убеждение, что временные (!) ограничения по высоте полета в зависимости от веса – тоже чья-то (да Васина же!) перестраховка после Карши, – позволяет мне втихаря нарушать это указание и занимать эшелон не по временной таблице, а по здравому смыслу. Есть температура на высоте, есть угол атаки, есть запас по сваливанию, есть вертикальная скорость. – двенадцать лет можно было, а теперь почему нельзя? Что – слепо исполнять?
По идее – беспрекословно!
Но я не хочу рисковать своей безопасностью и безопасностью пассажиров, в угоду безопасности чьего-то зада, когда в полете топлива и так едва хватает, чтобы долететь до Москвы без посадки, а я владею способами его реально экономить. Жизнь заставляет.
Что – писать в газету? Возмущаться на разборах, как некоторые? Прослывешь умником, которому то закрылки на 28, то эшелон… а сам с бетоноукладчиком не разрулился. Ну, отменят беспосадочную Москву, будут подсаживать на дозаправку по пути, – кому от этого лучше?
Ну, а снижение и заход на малом газе, в то время как по инструкции положено занять 1800 за 30 км и пилить на газу до круга?
С одной стороны, в министерстве вроде бы и за новое. Вот дали указание держать крен на кругу 25 градусов вместо 15 – вроде уменьшилась коробочка. Это неплохо, все мы – за. Но, сказавши «А», скажи и «Б». Разговоры-то ходят о выпуске шасси и довыпуске закрылков уже на глиссаде, но это пока только слухи. А ведь сколько топлива на этом можно сэкономить.
Нам интересно выжать из машины все. Экипаж настроен на это, и приятно, когда, зарулив на стоянку, вместо ожидаемого остатка 6 тонн видишь 6,5-7. Значит, могём. Значит, специалисты. Значит, толковые люди, недаром хлеб едим. Значит, мастера.
У меня в экипаже – вот так. И смешно и грустно, когда бедный Васин бьется об атмосферу в экипажах иных предприятий, где много нарушений, где склоки, где пилоты почему-то заходят днем под шторкой до ВПР, а потом не могут ту шторку открыть и убивают людей.
Ну и, спрашивается, зачем моему экипажу это самое высшее образование? Каким образом повлияет оно на наш профессионализм? Мы вполне владеем тем комплексом знаний, который нужен в полете практически. Даже видим перспективы и скрытые резервы. Мы – на своем месте.
А настрой… Дружная работа в экипаже, надо отдать должное командованию отряда, всегда отличала красноярцев. Я здесь в трех летных отрядах работал, знаю. Здесь в экипаже всегда порядок и стремление четко, красиво работать. Это традиция. И потом, нас все время держат в узде.
Надо отдать должное командирам, инструкторам, их щепетильно-пунктуальному контролю, даже в мелочах. Причем, без излишней болтовни. Что касается дела – полная отдача. Что касается говорильни, то хороший комэска оглянется по сторонам, и если нет проверяющих и стукачей, тихо распустит всех по домам.
Мои взгляды вырабатывались здесь, и если я не буквоед, трезво гляжу на жизнь и уважаю в себе специалиста, выполняя при этом работу и обеспечивая безопасность, то наверно стиль работы в подразделениях правильный. По крайней мере, у большинства из нас отличная подготовка.
А летать с такими командирами как Шевель, Шилак, Садыков, Фоменко, Солодун, Репин, я считаю – большая школа.
Далее Васин уделяет внимание разгильдяйству. Пьянство, курение на борту; даже наркомании уделено несколько строк. Приписки, нарушения законности, самовольные полеты, катание посторонних на химии, и к чему это приводит.
Правильно: где нет контроля, где работа превращается в вотчину, – там и приводит. Но не у нас, не в большой авиации.
Новшества. Я только что выше написал о гласности в экипаже. Тут же в новом номере газеты продолжение статьи Васина. В НПП внесены изменения: раз командир экипажа допускает отклонения и нарушения в полете, экипаж должен бить его по рукам, гласно предупреждать (чтоб записалось на магнитофон), а после полета закладывать командира начальству. А чтоб не скрывали, будет введено анкетирование. После полета заполняется анкета о том, что произошло в полете, и если происшествие или предпосылка не состоялись, то, мол, и наказывать не будут. Это – по ИКАО.
Как же, не будут. У нас сперва оторвут, потом посчитают. Сперва накажут, потом разберутся. Нашли дураков.
Ясно: министерству нужна статистика, чтобы принимать профилактические меры, а летный состав, боясь наказания, скрывает. Мы запуганы.
Кстати, тон статьи такой же, в духе Васина, типа: «разобраться, прав или виноват, и наказать». Чтобы другим неповадно было. Гайки все туже, уже резьба трещит.
Много внимания уделено фразеологии радиообмена. Да, это наше слабое место. В эфире надо работать очень четко, и мы стараемся. По крайней мере, для проверяющих, тут от зубов отскакивает. А если в переговорах что неясно, лучше переспросить.
Короче, статья большая. Ясно, Васин обеспокоен. Анализирует. Но нигде ни слова о том, чтобы и летчику кто-то помог, разгрузил. Нет, надейся только на себя.
11.01. Дежурю в агитпункте. Один в пустой школе, да еще сторож со мной. Стены в лозунгах. Благо народа – высшая цель партии. Наш курс – коммунистическое созидание. 27 съезд КПСС: курс – ускорение. Благо народа – высшая забота депутата. Земля – планета Солнечной системы. Ночь пройдет – настанет утро, пройдет утро – будет день, день пройдет – настанет вечер, пройдет вечер – будет ночь. Мойте руки перед едой. Одно да потому.
Кто и зачем придет сюда? Ну, пришел секретарь парторганизации, проверил, сижу ли я здесь; перебросились парой фраз, ушел.
Кого и за что агитировать? Где найти того темного неуча, кому неведомы эти лозунги?
Где-то в кельях, в кабинетах, обсудили хозяева жизни кандидатуру. Порекомендовали. В лучшем случае, напечатали листовки с краткой биографией и фото. Что мне даст его биография? А чаще всего молча берешь бюллетень и не глядя бросаешь в урну.
Какая мне разница. Ну, напишу я фамилию того, кто мне нравится. А другому нравится другой. Всем все равно. А кому не все равно, тот бессилен. Это – демократия?
Надо создавать общественное мнение. Надо обсуждать кандидата в печати, организовывать встречи на телевидении, выдвигать действительно достойных, обсосав их до косточки. А людей на агитпункты – завлекать. Люди сами не пойдут туда, где им неинтересно. В этот угрюмый, оклеенный навязшими в глазах плакатами закуток. Кому охота время зря тратить.
И спрашивать надо с депутата. Отслужил срок – отчитайся перед людьми, да не партийной ответственностью, а всерьез.
Может быть, предоставить людям выбор, несколько кандидатур? Недаром же в Америке ухлопывают миллионы на эту кампанию.
Вот сижу, отдаю долг старой замшелой традиции, соблюдаю партийную дисциплину. Абсолютный нуль.
19.01. Вернулся из Камчатки, дополз до кровати и через пару минут уснул. Две ночи подряд, с картинками, с шестью посадками. И сразу все встало на свои места.
Зимой на Камчатку продираются через звенящий, туманный Якутск. Звенит там не погода, а от мороза все звенит. Сам аэропорт Якутск закрыт не днями – неделями; принимает же самолеты находящийся в десятке километров, на бугорке, грунтовый Маган. Там, в чистом поле, раскатана четырехкилометровая снежная полоса, принимающая все типы без ограничений: грунт в мороз тверже бетона. Тумана, такого, как в городе, там нет; правда, своя котельная при пятидесятиградусном морозе дает дымку, но приемлемую, до 1000 метров. Есть и система, но, как это у нас нередко бывает, она не работает. Так что заход визуальный.
Зато в самом Якутске недавно построена вторая роскошная бетонная полоса, и местный хан, наверное, удовлетворен. Знай наших! Только вот туман на ней стоит вечно 150 м, но это не важно, зато аэродром – куда тому внуковскому. И хана возят в Москву на Ил-62, выбирая зимой немногие погожие дни. Или он зимой в спячке?
Ну а Маган есть Маган. Принимает себе Л-410 и Ан-24; ну, иногда и наш тяжелый тип прорвется. Запасных аэродромов для нас ближе Магадана нет, а это 1200 км. Возим лишнее топливо, берем точку возврата, а уж о производительности и речи нет.
Ясное дело, проверяющие зимой не шибко стремятся на Камчатку. Там в это время в магазинах шаром покати: одна пищевая кость, до блеска кем-то уже обглоданная, да головки лосося.
Мы сумели прорваться. В Магане минимум 1200 м; давали 1500, над полосой висела довольно плотная дымка, особенно у торца, но особой сложности посадка не представляла. Я заходил по огням полосы. Старались выдержать курс, крен, Леша по приборам контролировал до земли, фары на малый свет, посадка на газу, ориентируясь по радиовысотомеру.
Просидели три часа, пока один трап, один топливозаправщик и задолбанные якутские перевозки обработали три борта. Мороз быстро прижал с 39 до 45, усилилась дымка, но мы удрали.
В Магадане звенела ясная ночь, нас обслужили за час, не высаживая пассажиров, и ранним утром мы взяли курс на Елизово.
Прекрасный погожий день занимался над Камчаткой. За 400 километров слева в далекой дымке проступала Ключевская сопка, рядом дымился Толбачик. Мимо проплывали Жупановская и Кроноцкая, Опала, Ичинский, – правильные конуса их казались творением разумных существ. Мы прошли мимо Корякской и Авачи, выполнили над бухтой разворот, налюбовались скалами, океаном, кораблями, ослепительно-синим небом, розовыми снегами, сопками и хребтами. Зарулили на перрон, сожалея только о том, что оно бы и поспать не мешало, да надо сначала отметиться в торговых точках, а уж потом дрыхнуть до вылета.
За час все обошли, ничего не поймали, и с чувством исполненного долга завалились на койки.
Леша еще смотался в Петропавловск, там тоже пусто. По пути, правда, его поймал браконьер и предложил привезти в гостиницу товар. Мы только разоспались, как влетел в номер этот деловой мужик с банкой икры. Леша взял 2 литра за 60 р.
Оставим в покое мораль. Икры в магазине нет уже лет тридцать, и пока она будет в дефиците, мы ее будем брать у браконьера. Не все ж ее одним торгашам да большевикам жрать.
Перевернулись на другой бок и проспали до подъема.
В Магадане, как всегда, начались проблемы. Маган давал то 1000, то 1500. Загрузки много, топливо не проходит. Рубеж возврата было взяли, но бдительная тетя в АДП напомнила, что для этого нужна видимость в пункте посадки на 500 м выше минимума, а где ж ее взять. Пришлось снова брать на себя, отказаться от рубежа и увеличить вес на две тонны, из расчета посадочного веса не 78, а 80 тонн.
Залили топливо. Бдительная тетя в АДП нашла закорючку: а вот в задании напечатано «Якутск», а вы летите в Маган. Давай запрашивать разрешение ПДСУ Красноярска, чтобы там кто-то, на ночь глядя, взял на себя и разрешил «изменить задание». Я молча зашел на метео и на машинке допечатал в задании слово «Маган».
Бдительная тетя в АДП долго и придирчиво изучала штампы в задании, подсчитала время отдыха экипажа, количество топлива, еще раз тщательно просмотрела прогноз…
Тут пришла новая погода Магана: 1000 метров. Всё, стоп.
Я решил подождать пару часов, чтобы уяснить динамику изменения видимости в Магане. Чтобы не дергаться и наверняка зная, что будет еще ухудшаться (по прогнозу давали понижение до -52), сразу пошли в профилакторий.
Через час, только улеглись, бдительная тетя из АДП нас подняла. За полтора часа погода менялась так: 1200, 1500, 1300, снова 1200. Мы, матерясь, поднялись с удобных кроватей и покинули профилакторий, кстати, один из самых уютных в моей летной жизни. Сколько сижено в нем, на Ил-18 еще, у большущего самовара среди живой зелени, или возле аквариума в комнате отдыха… Эх, были времена…
Ясно было, что в Магане так оно и будет всю ночь крутиться вокруг 1200 м. Ожидался новый прогноз. Как только он пришел (1200 м), я, невзирая на пришедшую фактическую видимость 1000 м, подписал задание.
Какой тут анализ. Повезет – сядем, не повезет – используем заначку топлива, сделаем пару кругов, контрольный замер видимости… Выдавим свои 1200. Полоса четыре версты – сядем по-любому. Ну, а если уж не улучшится, вернемся в Магадан. Надо успевать, пока ночь: к утру-то заведомо ляжет морозный туман.
На подходе давали 1500, но экран над торцом был плотнее, фары ощутимо мешали даже в рулежном режиме, пришлось их выключить. Пробив дымку над полосой, неслись на газу, пока я по огням отчетливо не определил расстояние до земли, тогда лишь убрал газ и сел, оценив полезность радиовысотомера.
Мороз был -51. Мы были одни, за нами все закрылось, только редкие Ан-24 прорывались: у них минимум 50/700. Еще до посадки договорились с Якутском, чтобы оттуда поскорее везли пассажиров в Маган.
В самолете много пассажиров с детьми, дети спят, жалко будить. Передняя дверь замерзла намертво, несмотря на то, что Валера грел ее еще за час до посадки, труба обогрева завывала за спиной. Трап в Магане один. В вокзальчике тесно, людям некуда деваться. А в самолете тепло, ВСУ гонит теплый воздух через приоткрытую дверь наружу, и столб пара стоит над машиной.
Плюнул, разрешил заправлять с пассажирами. Сам в кабине следил за температурой; Валера в унтах и шубе бегал внизу. Полсотни транзитных пассажиров мирно спали в салоне. Нарушение инструкции, но людям хорошо, детям хорошо.
Дома -3, ветер, болтанка. Напугали предельным боковым ветром (с учетом ограничений из-за отсутствия БПБ). Курсовая система барахлила весь полет, локатор дохлый. Заходили скорее визуально, чем по приборам. Сел я спокойно, спина сухая. Курсы после посадки ушли на 10 градусов. Записали.
Вот и весь рейс. Устали все. Витя забыл снять с самолета и сдать в БАИ ленту-карту; я о ней вспомнил, как отъехали от аэропорта 5 км. Витя с выпученными глазами остановил автобус, выскочил, побежал голосовать встречной машине. Что ж, виноват – исправляйся. А то самолет уйдет в другой рейс; новый штурман, конечно, снимет старую ленту-карту, но когда еще вернется и сдаст… а то и затаскают с рук в руки.
Разгильдяйства в рейсе хватало. После взлета в Елизове, набирая по прямой 3000, в абсолютной тишине, мы все задумались и… какую же нам высоту-то задали? Опомнились на 4500, переспросили. Диспетчер понял нас, дал набор 5100, не стал раздувать. А доложить-то надо было 3000. В московской зоне уже был бы скандал, уже трясся бы мой единственный талон.
Машина 519-я, дерьмо. Центровка передняя, пришлось специально сильнее загружать хвост. При первом заходе в Магане я на скорости 400 в горизонте запомнил положение руля высоты: 6 градусов. Спокойно заходил, довыпустил закрылки – руль встал на 11. Ну не зараза? Потом, загрузив хвост так, что на эшелоне руль показывал на 1 градус вниз, уже не смотрел на него до самой глиссады – больше 6 градусов не было.
В Магадане, помня, что давали сдвиг ветра и скорость повышенная, начал выравнивать на четырех метрах и плавно тянул и тянул на себя на метре; нос задирался, запас скорости иссякал. Все соединилось в точке мягкого касания, но передняя нога была так высоко задрана, что я половину пробега бережно ее опускал. Вот так я буду садиться и держать нос на посадке, если вдруг не выпустится передняя нога, не дай бог, конечно.
Бумажная экономия 2 тонны, за счет наработки двигателей.
А ленту-карту заметил, снял и сдал Валера.
24.01. Три рейса подряд. Два Благовещенска, причем, в первом Лешу проверял Кирьян, и вчера из резерва еще рванули Норильск.
Леша слетал хорошо, несмотря на сильно досаждавший ему насморк. Кстати, насморк он подхватил в отпуске и теперь вынужден летать с непродувающимися ушами, мучиться. Но кто ж за него деньги зарабатывать будет.
Рабочий заболел – получай бюллетень, оплата по среднему. Летчик заболел – получай бюллетень еще скорее, чем рабочий, да только оплата не по среднему, а – не более двух окладов (у второго пилота оклад 130 рэ). Невыгодно болеть-то летчику. Вот Леша и зарабатывает свои алименты с болью в ушах.
Что – тебе мало 260 рублей?
Да как сказать. Я, командир корабля, не вставая с постели, за то лишь, что командир и пилот 1 класса, получаю 250 р. Но могу налетать и заработать – и рассчитываю свою жизнь на этот заработок – до 800 р. Средний у меня, с учетом реальной возможности налетать, – чуть больше 600 р. Так и плати по больничному 600 р., по среднему, как всем. Но стереотип один: ты летчик, ты богач, жирно тебе!
Оплачивает нам бюллетень профсоюз. И я, и любой рабочий, отчисляем один процент взносов. Мой процент весомее, а заболев, я почему-то обделен, уровень моей жизни падает. Это социальная несправедливость. Не поэтому ли еще летный состав десятой дорогой обходит врача?
Кирьян Лешу за полет похвалил, и за дело, но отметил нервные движения. Леша и сам нервный, так и пилотирует. Да и за мной такой грешок водится, борюсь с ним как могу.
Второй Благовещенск. Я не поехал в профилакторий ночевать на ранний вылет. Решил лечь и встать пораньше – но все-таки дома.
Спать в нашем профилактории нельзя, во-первых, из-за коек.
Если на узкую солдатскую койку с неустойчивой панцирной сеткой положить широкий пружинный матрац, из до срока развалившихся негодных современных кроватей, то это хлипкое сооружение норовит извернуться под тобой и сбросить в любую сторону, но только не лежать горизонтально. Ясное дело, что спать на неустойчивой, зыбкой поверхности трудно, приходится во сне все время следить за равновесием.
Второе: либо жара, либо холод. В жару под ватным одеялом плохо, а в холод еще хуже, особенно под обязательно влажной простыней. В незаметные дырочки и складки холодными ручейками подтекает воздух, и всю ночь пытаешься, сохраняя равновесие, как-то одеяло подвернуть. Но подвернуть получается лучше не ватное, а шерстяное одеяло, а под ним холодно, приходится спать одевшись.
Третье: нет воды. Вонь от туалета – дело привычное, но утром нечем умыться; используем аэрофлотовские влажные салфетки, которых у каждого полпортфеля.
Четвертое: негде и нечем позавтракать.
Так лучше уж ночевать дома, ну, пару часов недоспать, но остальные часы-то – спать, просто спать, с женой под боком.
Утром встал в четыре, плотно позавтракал и вышел, ориентируясь на служебный троллейбус. На сильном, метров до 20, ветру, да с морозцем, запахнув спереди все что можно, слегка замерз. Наши остановки, жертвы современных блатных архитекторов, сделаны так, что дует со всех сторон, а особенно снизу, т.к. там оставлена широкая щель из эстетических соображений. Пошел я против ветра на соседнюю остановку, которая хоть от ветра затенена зданием. На полпути меня догнал троллейбус-техничка. Не взял, хотя я бежал перед ним метров двести. Ну, хоть согрелся чуть. Минут 15 еще ждал такси, потом в старом вокзале ждал автобуса минут 20. Ветер был очень сильный, и, по моим прикидкам, должен был дуть поперек полосы.
За 5 минут до срока я заявился в АДП, твердо рассчитывая несколько часов проспать на описанной мною койке в профилактории.
Экипаж меня уже ждал с нетерпением. Машина из Москвы прорвалась, Доминяк молодец. Сцепление давали 0,65 и боковой ветер, предельный, проходил.
Слетали хорошо. Машина та же, 519-я, но с центровкой все обошлось. Барахлила на ней курсовая, слаб был локатор, мы записывали, АТБ отписывалась, почти ничего не изменилось. В полете мы нашли дефект курсовой, потом передали экипажу, можно с ним летать всю оставшуюся жизнь, только учитывать. Машин не хватает катастрофически, людям кушать надо, рейсов не густо. И машина ушла дальше на Москву, а я остался доволен мягкой посадкой при боковом ветре.
Норильск был три дня закрыт, а вчера, приехав в резерв, не успел я выйти из автобуса, как меня уже потащили на вылет. В Норильске еще было сцепление 0,3 и ветерок на пределе, но явно улучшалось. Вылетел впереди Боря Козлов, а мы через час за ним.
Заходили в снегопаде, в сумерках. Мешали борты, стаей слетевшиеся с запасных, но мы все же вышли к 3-му развороту на малом газе. Что-то не работала курсо-глиссадная, но я спокойно зашел по локатору с контролем по приводам. На глиссаде обнаружилось несоответствие сноса, курса, МПР, но нас не проведешь, все летали на Ил-14; помогли раз и навсегда отработанные приемы захода по двум радиокомпасам, когда неважно, что показывает компас, главное, чтобы стрелочки АРК были параллельны.
У земли понесло вбок, ось, занесенная снегом, была не видна, интуитивно сел на знаменитый пупок и на пробеге, даже еще на выравнивании, заметил меж застругов, что ось несется в двух метрах сбоку. Вполне съедобно.
Назад вез Леша, нашприцевавший нос нафтизином. Я подсказал на выравнивании левый крен, он успел исправить, но сел в двух метрах левее, успело снести.
А в Благовещенске накануне он садился с попутничком, вертикальная до 5 м/сек, я предупредил об этом, да он знает и сам, что выравнивать надо чуть раньше, потом подкрадываться, ведь и глиссада чуть круче обычной. Но его старый грех – низкое выравнивание – тут как тут. Все сделал как надо, а выхватил чуть ниже – вот 5 м/сек и сделали свое дело: просадочка, машина мягко, на скорости, зацепилась за полосу… в 50 метрах до знаков. Это практически на пятерку, но я его выпорол слегка. Знал же, старый хрен, все знал, – а делает.
Кому нужны эти нюансы? Летаем на пять, но диапазон у этой пятерки…
Я все же считаю: летать надо в простых условиях на 7, тогда в сложняке заведомо обеспечена посадка на 4. И даю, даю летать второму пилоту.
Алексанров в Благовещенске тут взлетал на 417-й, не убралась левая нога шасси, определили и по лампочке, и визуально. Выработал топливо, сел. Через две недели ногу сделали: неисправен был подкос-подъемник. Я завез экипаж Володи Щербицкого, и они перегнали ее домой, а вчера мы на ней и слетали в Норильск.
В «Красноярском рабочем» аэрофлотский борзописец (сам летает, сукин сын, бортрадистом) расписал, как на Ил-62 Бруно Рамбургер геройски предупредил аварию, когда у него не погасла красная лампочка при уборке шасси. Всех делов-то – выключили АЗС блокировки уборки шасси, и лампочка погасла. Неисправен был концевик. Бруно, наверное, плевался, прочитав газету.
Экипаж Васи Лисненко за успешную посадку с развернутыми колесами передней ноги поощрен местными аэрофлотскими властями: каждый премирован кожаным костюмом, в каких летают на Ан-2 в гидроварианте, – вожделенная летная куртка и штаны… за наличный расчет. Ну, хоть и за деньги, а все ж на двадцатом году летчик добыл, наконец, кожаную куртку. Он же не личный шофер начальника управления, не таксист, не блатной.
Нам, перевозящим пассажиров на лайнерах, кожаной куртки не положено. Как не положено унтов, шубы, демисезонных ватных брюк-«ползунков», ватной же куртки, рукавиц. Положено только пальтишко с погонами, без воротника, на все сезоны.
Да бог с ней, с курткой. Васе, конечно, радостно: с неба свалилась куртка. И штаны кожаные. А пятьсот рублей не деньги. Не отказываться же.
Из «Известий» узнал: в Орджоникидзе 19 января произвели посадку не знаю чьи ребята на Ту-154 с убранной передней ногой, благополучно, пассажиров выкинули по надувным трапам. Аэрофлотская гласность равна нулю: даже корреспондента «Известий» гоняли по министерству от Горлова к Васину, от Васина к Киселеву, а тот – снова по кругу…
Ну да слава богу, что все обошлось. Только не слишком ли много у нас дефектов по шасси?
25.01. Недавно был разбор ОАО по безопасности полетов. Я не любитель таких мероприятий и стараюсь как-то увернуться от них, но на этот раз решил сходить, думал, покажется новый начальник управления. Но он не показался, зато показался Левандовский.
Весь разбор он драл, порол, ругал 128-й отряд. У них настоящий бардак: начиная с командира ЛО и его зама (сделали задержку в Ташкенте – ОБХСС снимал лишние фрукты, без меры закупленные экипажем), – и далее по нисходящей. Куча предпосылок, пилоты не умеют летать, детский сад (это Ту-154 и Ил-62-то!) и т.п. Привычно.
Меня заинтересовал факт, когда у Т. на снижении временно отказал стабилизатор. Он вроде бы дал команду бортинженеру записать дефект, сообщили инженерной службе. Но бортинженер почему-то забыл записать в бортжурнал; естественно, не имея записи в журнале, работники АТБ ничего не сделали, выпустили машину в рейс. Взлетал на ней Коля Моисеев, и при уборке закрылков стабилизатор заклинило; самолет полез на мертвую петлю, командир тут же переиграл закрылки назад, справился, правда, вылетели вверх на 1500 метров. Коля – герой, представлен к «Отличнику аэрофлота», а Митрича собираются снимать с комэски.
Митрич темнит, в объяснительной пишет что-то про гриппозное состояние… Ясно, что-то не так. Он 30 лет летает и грамоте знает. Но нам довели именно вот так, как я описываю. Получается: бортинженер разгильдяй, а Т. просто не проверил запись, за что и несет ответственность.
Если б я не знал случаев. Как-то летом, в начале эксплуатации Ту-154, взлетал из Северного КВС А. Летали на новых «Ту» по старой привычке, как на Ил-18: отрывали машину в жару с последних плит коротковатой полосы. Так он и сшиб колесами УАЗик, проезжавший по дороге, проходящей как раз у торца ВПП, – аж тот закувыркался; как остались в нем живы люди, а также как выдержали колеса шасси, удивительно.
Вот когда сама жизнь ткнула носом, что это не тот самолет, что по-старому летать нельзя, что надо бы по этому случаю разобраться, выработать методику, научить молодых, да полосу поскорее удлинить, – вместо этого решили назначить виновника и примерно наказать его за предпосылку. КВС предложил бортинженеру взять вину на себя: мол, увидел на разбеге, что растет температура газов на двигателе, молча чуть прибрал режим, вот и не хватило командиру полметра высоты над дорогой. Давай, выручай! А мы тебе потом компенсируем…
Так нам и довели: мол, бортинженер молча, без команды, прибрал режим на самом ответственном участке взлета. Был приказ, его на год кинули на землю, потом восстановили, но из-за позора он долго не пролетал, здоровье сдало, списался на пенсию. Уж наверно получил ту компенсацию… Сам же А. пролетал замкомэской еще несколько лет и тоже потом ушел, не дожидаясь, пока спишут.
Бортинженер тот, может, и не виноват совсем; скорее всего, он-то газы держал на взлете до упора. Но… нам так довели. А слухи ходят.
Может, так и с Т: бортинженер виноват, а у командира гриппозное состояние. Правда, времена не те, и вряд ли он так просто отскочит, а уж с командной должности точно слетит.
В конце разбора Левандовский поделился своими заботами, а их у него воз, потом довел до нас случай с теми минводцами в Целинограде, что намудрили со стабилизатором. Оказывается, они сумели потерять высоту с 400 до 10 метров на удалении 12 км от полосы. Спасла казахская степь.
Вот так летать не надо, Вася. Заруби себе на носу, Чикалов.
Ну, а наш 400-й отряд – на гребне славы. Оборачивается так, что Медведев молодец: сумел настроить коллектив, и коллектив показал образец работы.
Я думаю, дело не в Медведеве. Не только в нем.
Отряд Ил-62 – отряд блатных. Там могут себе позволить. Там все с ромбиками, умные, там у всех лапа. Ну, почти у всех. Вот вам и дисциплина, вот и мастерство, вот и темнят, и нарушают, и думают, что все сойдет с рук.
А у нас требования всегда были самые строгие, и блатных на Ту-154 нет; наоборот, блатные-то с него первые сбежали на простой и надежный Ил-62, летающий по столицам, да с одной посадкой, да с немереным топливом, да без бустеров, да без такого букета ограничений. Что и говорить.
В этом году было топливо, была спокойная работа, мы летали без задержек до ноября. А в ноябре начались перебои, пошли задержки, нервотрепка, – и Медведев сразу занервничал. Он-то знает: на Ту-154 хорошо, пока все хорошо. А как напряженка, жди ЧП. Но год, наконец, кончился, и командир отряда, перекрестившись в восемь рук, облегченно укатил в отпуск. Молодец, командир, так держать, командир. Уря.
Гвоздем программы была показательная порка экипажа Ил-18, умудрившегося на рулении в Мирном выкатиться за конец полосы. Причина – запускались и рулили с винтами на упоре. Ну, это дело (порка) нам знакомо, и описывать его я не собираюсь.
Репин был прав: кто гарантирует от заскока? Восемь красных ламп должны были гореть на приборной доске перед экипажем на рулении, а не горели, – и никто не заметил. Перед разворотом в конце полосы сбросили газ, винты должны были затормозить, а они с упора не сняты… По тормозам… поздно.
А может, зажрались. Один экипаж, один оставшийся самолет, один Мирный, из рейса в рейс, из ночи в ночь… Кто его знает. Прав Козьма Прутков: бди!
28.01. В Ташкенте на взлете перевернулся и упал Як-40. Экипаж пытался и не смог парировать крен. Все погибли. Указания: соблюдать временные интервалы взлета более легких самолетов за тяжелыми. Может, попал в струю, оставшуюся за большим. Ну и следить за центровкой. Хотя она на крен не влияет.
В Куйбышеве экипаж заходил тогда под шторкой не до ВПР, а до земли. Командир договорился с экипажем, что откроют его на минимальной высоте. Его и открыли… за одну секунду до земли. Второй пилот у него, кстати, бывший командир Ту-134, снятый за нарушения во вторые. Может, поспорили, сможет ли пилотировать вслепую до самого торца…
Как можно спорить, что это – игрушки? С пассажирами за спиной…
Короче, он остался жив, а второй пилот погиб. За такое надо расстреливать; был бы жив второй – и второго тоже.
В Сыктывкаре экипажу пришлось туго из-за плохой погоды: облачность – нижний край 250-300 м, десятибалльная. Ну, и куча недоработок экипажа: не увеличили наддув кабины до максимального для лучшей вентиляции, не использовали дымозащитные маски, не пытались пройти в багажник, используя переносной баллон с маской, и найти источник дыма. Не включили главное – сигнал бедствия аппаратуры опознавания! Как будто от этого сигнала дым исчезнет.
Да что там говорить: думать-то некогда было, дышать нечем…
Ох уж эти маски. Они у нас опломбированы где-то сзади под сиденьями. Чтобы ее извлечь, надо кому-то же извлекать. Надо кому-то брать управление, а другому сорвать пломбу, открыть контейнер, надеть маску, подсоединить фишку микрофона, напялить сверху, что ли, гарнитуру, чтоб слышать же, потом отсоединить байонетный замок кислородной маски (а он очень тугой) и подсоединить к шлангу байонетный замок дымозащитной маски… И все это для того, чтобы через минуту стекла запотели и ты с матом сдернул бы с себя эту чертовщину… И все это произвести, снижаясь с высоты 5600 (в примере с Ту-134), пилотируя в аварийной ситуации, отдавая команды, принимая решения и докладывая земле, переговариваясь с бортпроводниками, сообщая пассажирам, что происходит, а главное – не забыть включить проклятый сигнал бедствия аппаратуры опознавания! И на все это – восемьдесят-сто секунд, и за эти секунды надо найти место для вынужденной посадки, за минуту-две приземлить машину и эвакуировать задыхающихся людей.
А на проклятом Западе у каждого пассажира мгновенно выскакивает, как чертик из коробочки, индивидуальная кислородная маска и повисает прямо перед лицом. И у пилотов тоже. И тогда, по крайней мере, не думая о неминуемой смерти пассажиров, пилотам не пришлось бы садиться на лес в 50 километрах от аэродрома.
Что поделаешь: в этом отношении наши лайнеры третьего поколения пока несовершенны. Будем ждать лайнеры следующих поколений.
29.01. Январский Пленум. Проглотил речь Горбачева, под впечатлением. Никогда, даже на 20-м съезде, так открыто не говорилось о том, что происходило у нас последние 15 лет и куда мы катимся.
Полтора, скоро два года у власти Горбачев и его сподвижники. Борьба, жестокая борьба в верхах еще идет, старики-брежневцы сдают позиции, с боем, но сдают. И как результат – все новые и новые материалы, все острее и прямее вскрывается прошлое, на каждом пленуме, несмотря, что только год прошел после съезда.
И все же, как много скептиков в реальной нашей жизни на местах. Попробуй их сдвинь. И я сам такой. Пусть вон Бугаев перестраивается, а я уже перестроился, еще раньше.
Мне тесно в рамках. Тут, конечно, противоречие: безопасность полетов диктует жесткие, единые рамки и нормы, а жизнь-то не стоит, требует их раздвинуть. Кто-то всегда должен брать на себя: да – вроде бы нарушать, накапливать прецеденты, и тогда Бугаев вынужден будет изменить закон, перестроиться; тогда и всем, уже легально, можно будет делать то, что нелегально делали первые, и жизнь на шажок продвинется вперед.
Я сильно не замахиваюсь на первые роли. Попробовал насчет закрылков на 28 – сам же и обгадил дело. Может, если бы не взял на себя тогда в Сочи ответственность, то так бы тихонько все и использовали их в болтанку для расширения диапазона скоростей, и, может, как-то плавно, по каким-то неизвестным мне (блатным? кулуарным?) каналам дошло бы до наших законодателей.
Но кому в министерстве это надо? Начальнику УЛС? Ведущему пилоту-инспектору? Это ж надо оторваться от кипы бумаг, вынести на обсуждение в келью, а там тот же Васин отмахнется: не умничайте, не до вас.
Писать в газету? Конструктору? Васину? Чтобы потом кипяточек подтек и под мою задницу: а что у вас там за умник такой выискался? С одним талоном? И – повышенное внимание, нездоровое: один в ногу, а все, выходит, нет?
В коллективе вопрос о закрылках решили однозначно: умник, получил по заслугам, – а не высовывайся! Люди умнее тебя придумали – исполняй.
Кстати, о приказе Медведева по этому случаю. Там было: лишить 20 процентов премиальных за безаварийный налет. Не лишили, все получил сполна. Значит, приказ липовый?
Обсудить что-либо в коллективе трудно, легче – в кулуарах, под лестницей. Искать единомышленников, а среди них – наиболее авторитетных, чтобы они высунулись. У нас на «Тушках» летают и по 10 лет, а я – семь, молод еще.
На комбайновом заводе госприемка остановила конвейер. Каждый на своем рабочем месте делает что-то не так. Рабочий насаживает подшипник на ось кувалдой. Инженер об этом знает. По технологии положено приспособление, но его нет, и не было. Начальник цеха об этом знал, да в текучке забыл. И т.д. и т.п.
Ну, а у меня-то? Все – по технологии. Все расписано. Все учтено. Все регламентировано. Все контролируется. Дышать нечем.
Того рабочего заставили снять насаженный подшипник, сделали приспособление, научили работать, дело пошло, сделан новый шажок.
А у нас оно и шло.
В принципе, машина есть, топливо есть, обслуживание есть, загрузка есть, погода в рамках, – лети. Чего тебе еще надо? Больше рейсов? Пассажиры зимой летать не хотят – отдыхай. А летом – хоть завались рейсами. Такая работа.
Конечно, есть новаторы, вроде Скрипника из Дальневосточного управления, которые мыслят категориями ЭВМ и создают биотехническую систему «экипаж-самолет», где я, живой человек, буду какой-то частью. Так и кажется, что завтра нацепят датчики, послезавтра вставят штекерные разъемы, а потом, глядишь, и кишечник пришьют к унитазу. Система!
Кувалда и ЭВМ. Истина, как всегда, где-то между.
Как же нас, летчиков, расшевелить? Чем нас, кроме рубля, заинтересовать? Как использовать на благо всех тот собственный сок, в котором мы варимся? Как сдвинуть тех, кто наблюдает молча из угла, ворча и поплевывая? Такой ведь к любой перестройке приспособится. А если из таких состоит коллектив?
Кстати, в прессе все чаще проскальзывает такая крамола – из уст людей авторитетных, толковых руководителей: развращенный коллектив. Антиколлектив. Мало ли у нас таких? Шофер против приписок высунулся – его дружно, коллективом к ногтю! С энергией, достойной куда лучшего применения.
31.01. Все, успокойся, остынь, отвлекись. Сильно уж увлекся перестройкой.
Сходил тут на собрание партхозактива. Действо – в худших брежневских традициях, все по бумажке. Я возмущался, все кругом возмущались, но партком провел мероприятие и поставил галочку.
Зачем тому парткому перестройка. Тут со своей стройкой бы управиться. Да и на окладе же.
Я заметил: у нас на все должности, где надо балабонить языком, пролезают бывшие инженеры АТБ. И то: у них зарплата никудышняя, а ответственность большая, иной раз сам по локти в масле, вместе с техником на морозе гайки крутит. А тут тебе предлагают с трибуны руками водить и разглагольствовать ни о чем, и платят даже больше. А ответственность – партийная, то есть, никакая. Завалил дело – ну, выговор объявят, ну, снимут, но не в тюрьму же. Ну, еще страшное партейное взыскание – «на вид» поставят. Поставить на вид – значит: налить, поставить, а выпить со всеми не дать, пусть слюнки текут.
И люди туда идут. Вот и новый наш, М., из тех же. Оно ему надо – эта перестройка? Вот болтать о ней, мероприятия проводить, – это пожалуйста.
Да что там говорить. Засыпали нас цифрами. Но я запомнил лишь одну. Объединенный отряд, за год сэкономил 150 тонн топлива. А мой экипаж, по своим бумагам, на полном серьезе, сэкономил 80. Все летные отряды сэкономили, никто не перерасходовал. В нашем 400-м ЛО я не один такой – все по 50-60 тонн сэкономили. Где же оно, топливо?
Вот и выходит, что все это туфта. Болтовня. Дутая экономия. А сказать об этом с трибуны слова не дали.
Отдохни, Вася. Подожди, пока Бугаев не ткнет Левандовского, тогда, может, Левандовский придет к Медведеву, а тот соберет нас: помогите, экономьте не по бумажному, а реально, а то без штанов не остаться бы.
А пока Левандовский много и умно говорит с трибуны, но все эти цифры – и по управлению, и по всему министерству, – туфта.
Надо подождать, год, два, летать честно, экономить честно, как и экономил, – но нечего ходить в партком с идеями. Там… поморщатся.
Это называется «александризм-гринизм», болезнь нетерпения. Александр Грин так мечтал о наступлении желанного социализма, так переживал, что безвременно умер.
А здоровье надо беречь. Эмоции же тратить на красоту работы. Получается, работа как самоцель: шлифуй, наслаждайся мягкими посадками, красотами, пейзажами, чувствуй себя на своем месте… за это еще и деньги неплохие платят. Но не высовывайся из своего мирка. Как мы были разобщены, каждый экипаж сам по себе, так оно и будет. И в условиях нынешнего Аэрофлота нечего обольщаться красивыми и правильными речами, статьями и материалами пленумов. Это все – для тех, кому только предстоит еще научиться работать на своем рабочем месте. Хотя бы так, как работаем мы.
Все летаем на Благовещенск. Крайний раз был рейс наслаждений. Погода звенела, Муйские хребты были великолепны, кормили хорошо; моя половина полета удалась вполне. Правда, при приземлении коснулся почему-то сначала левой ногой, но мягко и точно на знаки. Заруливал, старался, но по ряду причин, понятному только пилоту, не смог встать точно по разметке на тесную благовещенскую стоянку. Но это мелочи. Купил сметаны и любимого сыру, в обратном полете отдыхал, предоставив Леше возможность соревнования.
Леша превзошел. На посадке я демонстративно сложил руки на груди, и когда едва ощутил утонченное, сверхлегкое касание, непроизвольно издал мучительный стон неземного удовольствия. Это был шедевр, на создание которого способен только Мастер в порыве немыслимого, божественного вдохновения.
А всего-то: прикоснулся восьмидесятитонной железякой к бетону на скорости 250 км/час, и многочисленные колеса шасси раскручивались поочередно: сначала передние пары нащупывали бетон, потом средние, и, наконец, задние. Туча сизого дыма осталась висеть над полосой: резина с колес снялась идеальным, тончайшим слоем.
Я знаю, есть мастера, грейферным краном берут с земли яйцо, ковшом экскаватора закрывают спичечный коробок, пневматическим молотом – крышку часов; точно читал, как бульдозерист отнивелировал на глаз футбольное поле с перепадом 2-3 сантиметра. Алексей Дмитриевич Бабаев вчера точно мог стать с ними в ряд.
Сегодня слетали в Ташкент с разворотом. Проверяющим был Булах, он летел туда, а обратно я отдал управление Леше, он справился хорошо, посадил на 7. Но вчера у него посадка была – на 12…
Все, через пару дней иду в УТО на месяц.
2.02.Политика руководства партии меня не то чтобы настораживает, а как-то заражает скептицизмом. Больно уж резво по сравнению с реалиями жизни принимаются кардинальные решения.
С пьянством покончили? Ага, как пили, так и пьют, ну, потише. Обществ по борьбе поналепили, а толку?
А тут тебе – и руководителей выбирать, и выборы демократизировать, и законы новые, и указы, и реформа суда, и повальный хозрасчет, и индивидуальная трудовая деятельность…
В жизни же все пока стоит. Ну когда мы в Аэрофлоте дождемся, чтобы своих руководителей сами выбирали? Когда рак на березе свистнет. И отговорка будет: у нас Устав. Но такой же устав в любом другом монастыре найдется. Для рекламы по телевидению – пожалуйста: на РАФе выбрали директора. А толку?
Сумской метод везде хромает.
Суды наши неправедные…
Целые заводы выдают сто процентов брака, но как их закрыть. Кто же людей кормить будет. Кто возьмет на себя ответственность и разгонит весь этот коллектив бракоделов поганой метлой? Да никто. У нас – социализм и забота. Дети же бракоделов не виноваты, что папы гонят брак.
Капитализм бы ответил, кто разгонит. Голод названье ему.
Сиди, пропагандист, сиди и помалкивай. Запиши формально что-нибудь в журнал. Ничего не изменилось, одни разговоры, много слов.
«Известия» выдавили из Васина несколько слов о результатах расследования катастрофы с самолетом Саморы Машела. Васин не отрицает, что экипаж купился на ложный маяк VOR. Отвернул на 37 градусов вправо. Командир еще спросил штурмана, в чем дело, тот ответил, что так показывает маяк. И у опытнейшего экипажа не возникло никаких сомнений относительно того, что приходится отворачивать в сторону гор на такой угол в 96 километрах от аэродрома. При комплексном-то самолетовождении…
Короче, пустили пузыря. Не будет же замминистра говорить всю правду: что это элементарное разгильдяйство, что случай вопиющий, что так вдоль границы не летают, вслепую в горы не снижаются, что пилоты доверились штурману, а сами разинули варежку. Не сказано, и куда смотрели диспетчеры.
Избалованы они этими маяками VOR, доверяют им слепо. Заграница… У нас-то уровень наземного обеспечения полетов таков, что постоянно держит экипажи в должной напряженности: мы не шибко-то доверяем ни наземным, ни бортовым средствам, а все в комплексе.
Нет, не готова у нас ни земля к перестройке, ни психология наша.
15.02. Полсрока в УТО оттянул. Хожу вольным слушателем, без конспектов; их у меня никогда и не было. Нет нужды. Все то же, что и 6 лет назад. Так же, без подготовки, первым, левой ногой, сдаю экзамены. Люция Александровна Стенина, одно имя которой ввергает в дрожь большинство наших убеленных сединами пилотов-ветеранов, ставит мне пять по аэродинамике, хотя я откровенно признаюсь ей, что не помню ни одной формулы. Но ответ мой и без формул ее вполне удовлетворяет.
Значит, знания мои еще с училища твердые, добротные, а нового в наших науках так мало, что каждое изменение и дополнение мы в курилке обсасываем назубок.
Зачем тогда это УТО? Я не гений, такой же, как все, только экзаменов не боюсь. Если знания есть, то у доски я – на коне.
Все то же. Скучно.
Пришло, наконец, изменение к Руководству по летной эксплуатации. Узаконили заход с закрылками на 28 как нормальный. Мне бы плясать… Уря, я был прав!
Но наивно было бы полагать, что я торжествую. Мне грустно. Товарищи мои успели уже и позабыть, как они год назад дружно осудили мою самодеятельность в Сочи, причем, осудили-то походя. Не было приказу, а теперь есть приказ. Вот и все дела. Придет приказ летать на квадратных колесах – полетим. Вот вся разница, вот и вся принципиальность.
Что ж, за год я стал мудрее. Усталая, грустная мудрость.
Два отряда, наш и Ил-62, объединяют. Ил-62 вливаются к нам четвертой эскадрильей, чтобы всего у всех было поровну. Нашу вторую эскадрилью разбрасывают по остальным. Таким образом, я опять наверно уйду в свою прежнюю, третью, вместе с экипажем, а партийная нагрузка моя свалится, как камень с души.
Ну и слава богу. Мне сейчас трудно быть пропагандистом. Я могу пропагандировать одно: извечные, еще от Христа, общечеловеческие нравственные ценности. Работай честно, уважай себя и людей, не бросай в беде, не воруй, не завидуй, помогай другим, будь самокритичен, – в общем, будь человеком.
Этот год нашему предприятию ничего не даст. Не надо рвать пуп, голосовые связки, не спать ночами, изобретать. Надо честно и спокойно отработать, не заботясь ни о бумажной экономии, ни о какой-либо перестройке. Не нам экономить, ну, разве что для себя, чтоб долететь. Эта экономия – капля в море, она не стоит душевных сил, на нее затраченных. Не надо соревноваться – это фикция. Не надо писать в газету – это без пользы. Нет, надо просто жить, дожить до следующего года, может, еще и до последующего; дождаться, может, и наше предприятие перейдет на самоокупаемость, но и то, на моем рабочем месте ничего не изменится. Разве только навялят полеты без штурмана. Но до этого еще далеко, да это и не на пользу безопасности, просто очередные фанфары. До первой катастрофы.
Получается, что мы, летчики, воистину парим над грешною землей, орлиным, так сказать, взором скользя поверх людской суеты. Перестраивайтесь, люди, но… хотя бы подтянитесь до нашего уровня. А мы почиваем на лаврах… потирая поротый-перепоротый зад.
Вот когда клерк в своей конторе будет трястись за свое место, за каждую закорючку расписываясь и неся ответственность перед прокурором, да деньги за это получая справедливые, – вот это будет перестройка.
И когда рабочий будет из вытрезвителя рад за любые деньги вырваться, лишь бы не узнали на производстве и не выгнали, – тогда я поверю, что хоть что-то сдвинулось.
Их ведь миллионы, десятки миллионов; а что нас-то – тысяч тридцать на всю страну.
Что – клан? Каста? Неприкасаемые? Соколы?
Ну а что. Может, и каста. Каста поротых, муштрованных, гибких, реагирующих, отдающих себе полный отчет, добровольно положивших на алтарь все свои слабости, радости, здоровье и саму жизнь. Все – службе.
И это – не военная служба, где тебя с детских лет готовят, кормят, одевают, думают за тебя, посылают на смерть во имя Родины, а в старости хорошо обеспечивают. Нет, наша служба скромнее обставлена, все за свой счет, не хочешь – не держим, но зато всю жизнь под прицелом, под колпаком, каждое движение, каждый вздох: мы возим миллионы людей. Не на земле – в воздухе, десятки тысяч часов. И везде – принимай решение, бери на себя. И всегда – немыслимо тяжелый груз ответственности за спящих за спиной людей.
Военные редко думают о цене. Любой ценой! Это мышление обеспечивается всей мощью державы.
А мы цену знаем всему. Военный знает, что должно быть вот так. Должно быть топливо, должна быть погода, должен быть выходной, должен быть накормлен и спать уложен, сам и твои солдаты.
А я знаю, что топлива нет, что погода – какая уж есть, а везти людей надо. И решает тут не вышестоящий начальник, а я сам. И люди за спиной – вот уж о чем военному не надо волноваться.
Нет, наша служба – одно, военная – совсем другое, и у нас, и у них – свои проблемы; противопоставлять и даже сравнивать, как вот я здесь, просто некорректно.
Но перестраиваться? Те, кто служит, так и будут служить.
214 летный отряд выбирал командира. Вообще-то идиотизм, как в гражданскую войну. Но – выбирал. Выбора, собственно, не было, кандидатура одна, пилота-инструктора Ш., спущенная сверху. Но – один нюанс. Коллектив впервые обсуждал будущего руководителя.
Если б так в партию принимали. Он, бедный, час стоял перед лицом своих товарищей. Все ему припомнили. И жесткий, авторитарный стиль руководства. И что любитель субординации, в ущерб делу, до самодурства. И многие другие черты. Народ выговорился вволю. И Ш., бедный, стоял в мыле.
Конечно, он потом припомнит им; наплачутся. Поневоле припомнит. И вот из-за этого я – против выборов руководителя. Нигде и никогда такого не было – и не будет, откажутся со временем. Коллектив у нас выбирает атамана не по деловым качествам, а по степени возможных удобств.
Но факт, прецедент налицо.
А в партию – только подай заявление. Только подай! И всё. Автоматом. Все – за, против – нет, воздержавшихся – нет, единогласно, поздравляем вас, товарищ, следующий вопрос повестки дня…
Нет, какая там перестройка в партии. Человек подает заявление «хочу быть в первых рядах строителей коммунизма», а между строк читается: «хочу быть в первых рядах очереди к креслу, к благам», а взносы – что ж, за все надо платить, – имеет смысл.
Что – цинизм? Нет, так оно и есть, за редчайшим исключением. И то, бедный человек, вступая в партию по убеждениям, чувствует себя неловко под взглядами товарищей, которые как бы спрашивают: что – вводиться пора? Или: что – местечко освобождается? И все всё понимают, и все молчат, и все – за. Ну, таков порядок нашей жизни.
16.02. Кроме захода с закрылками на 28, пришли еще какие-то изменения в РЛЭ, нам сообщил Медведев. Из шести видов ухода на второй круг оставили один, самый непривычный: закрылки убираются раньше, чем шасси, чтобы, если вдруг возникнет просадка, не чиркнуть голым брюхом, а оттолкнуться колесами. Но это все слухи, а самих изменений мы пока не видели. Ну, переучимся по новому, нам не привыкать.
Медведев, сам превосходный пилот, читает нам в УТО предмет: Руководство по летной эксплуатации. По идее – главный, главнейший для летчика предмет теоретического обучения, с абсолютным применением на практике. И знать его надо назубок.
Но в РЛЭ много разночтений и интерпретаций. Спорим, а что толку. Принцип один: победителей не судят, а случись что – вспомнят все грехи. Все-таки, если у нас, где все по букве, где все для прокурора, где требуется миллиметровая, стерильная точность во всем и за все ответ, если у нас, в авиации, – и такая неразбериха… то какой же бардак в других отраслях.
Боже мой, ну что тому рабочему – да не одному, миллионам, – что им-то прокурор? Да плевали они. Какая, к черту, ответственность того же строителя, токаря, пекаря, оператора машинного доения. Ну, брак. Ну, исправим. Ну, премии лишим. И все.
И вот перестроить надо их мышление – им самим перестроить себя и самим на себя взвалить бремя ответственности, сознательно взвалить.
Во всем мире это делает голод. Или идеи? Вот в чем вопрос.
Нам, летчикам, эту ответственность засаживали кнутищем, и неоднократно, и жестоко, и против всякого нашего желания, не спрашивая.
А не согласен – вылетишь из системы и будешь думать о куске хлеба.
Мне понравилось в «Комсомолке». Время ворчания, мол, уже прошло, время открытой критики проходит, пора, мол, кончать, а то получается одно критикантство; давай конкретные идеи.
Ага. Как скоро. Нет, брат, жизнь течет медленно. Ворчали 20 лет. Теперь критиковать, видите ли, время проходит. Да чтоб нация осознала шкурой то, что происходило при Брежневе, да поняла то, что строит Горбачев, – надо годы. Надо эту эпоху обсосать, описать, а прежде выстрадать мозгами. А то как все просто. Время прошло, давай-давай, предлагай.
Ну, давай, давай. А я послушаю.
Предложить, не осмыслив? Реальное предложение опирается на реалии, иначе абсурд. Я вот на своей шкуре испытал, а все не могу осмыслить: так что же мне предложить? Я не знаю.
Я знаю, что предложения упрутся в ту стену, которую еще критиковать двадцать лет и разбивать надо, и затаптывать остатки, а уж потом предлагать. Тут комсомольским задёром не возьмешь.
Вряд ли стоит ожидать зримых экономических сдвигов в 12-й пятилетке. Немножко за счет улучшения дисциплины, может, и достигнем. Но еще стоит каменный бюрократический аппарат, непроходимы его рогатки. Да и чего добьешься старыми методами. Нет, годы уйдут на внедрение бригадного подряда, хозрасчета и т.п., пока вымрут ретрограды, сменятся более расторопными хозяйственниками. Ой, как это еще далеко…
Рыба гниет с головы, это мы видели. Но с головы и заживает. Как бы ни бурлили массы, как ни революционна была бы ситуация, а без головы толку не будет. Голове же нужна современная философия, теория, наука… где ее взять? Она бездействует. Годы и годы уйдут. Как осмыслить сложную ситуацию в громадной стране, как высчитать пропорции, на что опереться в экономике, как влиять на массы, какие обосновать перспективы и чем…
Но все это должен делать новый человек. Старый, прикипевший к креслу, скорее застрелится, но не перестроится. А уж низы как без бутылки не обходились, так и не обойдутся еще 20 лет. И так – всё.
Молодежь, с ее максимализмом, никогда не поймет, что человек сложен. Сосед – вор, значит, все воры. Соседка пьет – значит, все женщины пьют и рожают дебилов. Папа несун – все несут. Мама дала взятку врачу – все берут. Черное – белое.
Ну как из этой молодежи воспитать нового человека? А без этого мы вперед не продвинемся, – вперед, мимо и далее кормушки, мимо и далее хлеба и зрелищ.
Только личным примером.
20.02. Горбачев разъезжает по Прибалтике и общается с народом. Что-то уж очень он много раз повторяет одно и то же. Вдалбливает. И так это он настырно спрашивает, понял ли народ, и так это дружно все ему поддакивают, что, мол, да, поддерживаем, так держать… что аж фальшью попахивает.
Ну да и что скажет любой из толпы, когда к нему обратится генсек?
Я хорошо помню: на весь разворот «Огонька» – самодовольное свиное рыло… «Наш Никита Сергеевич!» Ваш, ваш, сраколизы. Помню и благодушествующего барина Леню, коллекционера наград.
Двадцать пять лет я вполне сознательно верил, и кому… Никита в памяти народной остался одним только словом: дурак. Дурак у власти такой страны. И позабыты те книги, от которых ломились полки…
А Леня-барин… как все ждали его смерти. Миротворец. Сгноил страну.
Андропов, Черненко… сами себе в лицо плюнули, перед всем миром.
И вот вроде бы человек. И вот она – власть. Огромная. Мы помним Сталина. Мы забываем Ленина. Если Горбачев вернет нам ленинские нормы, ленинский стиль, если хватит воли, таланта, сил, здоровья, если его сберегут – мы победим. Если же злые силы, те, кто сейчас молчит, опутают лестью, захвалят, заподдакивают, зарекламируют, сделают удобненько, уютно… царствуй лежа на боку, – пиши пропало.
Тогда мы уже не догоним мир, и социализм наш, в том виде, в каком его оставили нам самые верные, вернеющие ленинцы, благополучно канет в Лету, оставшись неудачным гуманистическим экспериментом, аномалией жестокой нашей истории. А мы, разочаровавшись в этих бредовых идеях и обозлившись на то, что жизнь наша была всего лишь мираж, нырнем на самое капиталистическое дно и станем, в злобе на себя и на весь мир, самыми яростными апологетами закона джунглей.
А говорят, коммунисты не веруют. Еще как веруют! Я только поражаюсь убежденности Горбачева. Может, конечно, он лучше видит сверху. Он и сам об этом везде говорит.
Но видеть можно по-разному.
Наш Аэрофлот в сводках выглядит благополучнейше. Современная газотурбинная техника. С каждым годом процент перевозок на ней растет. Конечно: списывают Ил-14, вот и растет. Как растет количество перевозок на грузовиках по сравнению с телегами.
Дисциплина. Устав. Форма одежды. Регламент. Контроль. Процент надежности.
Ну а как оно на самом деле, я уже семь тетрадей исписал.
Я к чему это привожу. В «Известиях» статья о проблемах Морфлота. Те же беды. Нас, авиаторов, еще в пример ставят.
Напиши в газету честный человек о проблемах МПС – те же беды. Так же падает престиж профессии, Так же шофер-дальнобойщик на своем грузовике зашибает вдвое больше, чем капитан океанского лайнера, не говоря уже о такой шерсти как командир самолета или жалкий машинист.
А ведь разве сравнить капитана того же «Михаила Лермонтова» со мной? Или машиниста, ведущего состав в 10 000 тонн, длиной три версты? Да я против них… ну, шофер автобуса, что там и говорить. Да так оно и есть, и я вполне отдаю себе отчет, что всяк сверчок знай свой шесток.
Но проблемы одни. Если капитан лайнера мечтает о том же, что и машинист тяжелого состава и о том же, что и я: остановиться где-то в пути… и всем – спать! Спать, спать, спать, а остановку в пути списать на какой-нибудь паршивый шторм. Знакомо как!
И жилья нет. И зарплата мала. И – на износ…
А Горбачеву видно: план выполняется – слава богу, эта дыра пока заткнута.
Да, в массе он как рыба в воде. Эх, к нам бы его в массу. Может, пнул бы наших начальничков. А то легко ему говорить: да вы, мол, сами себя боитесь. Забоишься тут.
Нам, аэрофлотовцам, выбирать позицию не надо. У нас она вполне активная. Мы за перестройку. Под тем, что здесь пишу я, подпишется любой. Нам всем надоело. Но шлюзы закрыты.
24.02. Сдал РЛЭ, теперь формально досидеть до конца недели: медподготовка, ГО, приборы, физкультура, ППР, и в конце – занятия по полетам без штурмана.
Подошел сегодня ко мне секретарь парторганизации: в какой эскадрилье я желал бы работать? Не скрывает, что я нужен как пропагандист. На мой вопрос, о чем я буду говорить на занятиях и за что агитировать, помявшись, ответил, что, может, все еще изменится… Смех в зале.
Я выразил желание вернуться в свою третью, а то мною все дырки затыкают: хотели перевести в четвертую, а там все чужие. Правда, там работает Репин. Но я предпочел бы летать с ним вторым пилотом, а не принимать его как штатного пилота-инструктора: он все-таки тяжеловат характером; там, где я подошел бы как помощник в полете, мы бы сработались. Он меня очень ценил в качестве второго пилота. А сейчас я сам чувствую инструкторский зуд.
Но дело не в этом. В третьей работает Солодун, вот с ним я согласен работать в любых сочетаниях, главное, из-за его исключительной человечности и порядочности. Это – Человек.
Булах уходит командиром первой эскадрильи, но там я тоже никого не знаю. А с Федоровичем неплохо бы работалось. Он номинально считался у нас комэской даже при Кирьяне, да и при Попкове тоже. С ним можно решать любые вопросы.
Рульков проходит годовую, надеясь еще с годик полетать. Но что-то похудел, врачи гоняют его насчет желудка. Жалко было бы: уж человек все отдал авиации.
На днях в УТО Медведев вызвал с занятий несколько человек командиров среднего возраста. Пришли мы в кабинет, там сидит подполковник ВВС. Уточнялись наши данные на случай мобилизации в военное время: мы, оказывается, приписаны к его полку Ан-12. Кто-то был приписан раньше – ушел на пенсию, кто-то только дорос; военным нужны опытные экипажи.
Опрашивая меня по анкете, офицер дошел до графы «Летные происшествия и предпосылки». Я сказал, что – было: разбил АНО. Подполковник удивленно и недоверчиво переспросил: а что – разбитая лампочка считается у вас предпосылкой?
Медведев заерзал, засуетился и зачастил, что это так, мелочь, порядки наши… Мне стало за него неловко. Думаю, ему тоже теперь неловко, по прошествии времени. Хочется забыть.
Нет-нет, да и ЧП. В Омске заходил борт, Омск закрылся, пошли в Петропавловск. Там тоже штормило, к прилету борта образовался гололед, сцепление ниже нормы. Ну, деваться некуда, командир решил садиться. Сел, остался на полосе, а развернуться на льду и освободить полосу не смог. А тут еще следом Ту-154 на запасной, а ВПП занята. Крутился он, крутился, деваться ему уже некуда, хоть в поле садись. Сделал 6 кругов – борт никак не стащат с полосы, а топлива уже нет. Плюнул и сел на грунтовую, неподготовленную, не очищенную от снега, ну, благополучно.
Кто виноват? Синоптик? ПДСП? Аэродромная служба? Васин наверняка скажет: виноваты экипажи. Надо было тщательнее анализировать обстановку. Или он уже перестроился и понял, что по бумагам не всегда получается?
И вовсе анекдот. В Кутаиси взлетал Ту-154, вдруг на разбеге пассажир в первом салоне заметил, что занавеску тянет в вестибюль. Пассажир – не посторонний человек, а корреспондент «Воздушного транспорта», – вскочил, видит – входная дверь не заперта, ее уже отсасывает потоком. Прыгнул, попытался закрыть – не тут-то было, силы мало. Заколотил кулаками в дверь пилотской кабины; выскочил бортинженер: у чем дело? Срочно прекратили взлет, остались на полосе.
Кто виноват? Кто при чтении карты доложил «двери-люки закрыты табло не горят» – и нажал кнопку проверки ламп? Или не нажал? Или не ответил? Это раз. А командир, не заметивший мигающее табло «К взлету не готов?» Это два.
Короче, инженера – на год, пилота-инструктора, что сидел на левом кресле, – на полгода на землю. И поделом.
А корреспонденту – знак «Отличник аэрофлота». Заслужил.
Но я бы на месте конструктора подсоединил бы сирену при даче взлетного режима не только к предкрылкам и закрылкам, а просто к табло «К взлету не готов», которое учитывает все жизненно важные случаи на взлете. Только дали взлетный – тут же загудела сирена – сбросил газ и разбирайся. Один взгляд – дверь! Две секунды, закрыть, – и не было бы прерванного взлета. Экипажем отпороли бы бортинженера, урок на всю жизнь, и Аэрофлот на полгода не лишился бы двух специалистов. Кому лучше-то?
Но – буква! Бди! А туполевцам не до нас, они уже клепают Ту-204, самолет нового поколения. Учтут ли уроки Ту-154?
Нам нужна кабина, в которой легко было бы работать, решать главную задачу.
Принцип действий в особых случаях полета на всех наших самолетах примерно одинаков. Загорелось табло. Доклад командиру. Командир бросает печеное-вареное, решает задачу. Ложный сигнал? Проверить по другим, дублирующим приборам. Соотнести. Логически просчитать варианты. Сделать вывод. Решить. Скомандовать. Бортинженеру произвести ряд операций. Кому-то контролировать. Кому-то же еще и пилотировать, вести связь и решать главную задачу – полет, с учетом изменений, произошедших при данном отказе.
Надо знать на память множество цифр, выбирать необходимые и постоянно решать задачу: если эта величина не превысит… а другая не приблизится… а третья… и т.д.
Но почему?
На «Москвиче» есть указатель давления масла, а на «Жигулях» – лампа падения давления. Я на тяжелой дороге нечаянно пробил поддон и не заметил по стрелке, как ушло масло и упало давление, и только услышав скрип подшипника, к счастью, успел выключить двигатель; все равно пришлось делать капремонт, ну, малой кровью обошелся. А на «Жигулях» бы загорелась лампочка перед глазами, ее видно лучше, чем ту стрелку, и двигатель остался бы цел.
Самолет забит всякими вычислителями, кворум-элементами, сигналы сравниваются, и выдается сигнал на лампочку «по большинству голосов». И это уже вчерашний день.
А мы в сложной ситуации ломаем себе голову, в то время как копеечный транзистор может собрать все сигналы в кучу и выдать команду прямо на исполнительный механизм.
Это есть и делается. Трудно предположить, что летчик на истребителе, где вероятность повреждений и отказов гораздо выше, чем у нас, тратил бы свое внимание на азбучное определение отказов. Там надо другое решать.
Но нам в Аэрофлот попадают лишь объедки от армейских разработок, обсосанные десятилетиями, морально устаревшие.
Я верю, что конструкторы думают об этом. Но пусть думают быстрее.
Представить себе кабину… Нет тахометров, нет указателей температуры, всяких манометров, вольтметров и прочая. Есть только негорящие табло. Автоматика следит за всем. Пилоты заняты своим делом. Загорелось табло – нечего думать, нажми его – и все будет делаться автоматически, а пилотам останется лишь контроль.
Но это – сладкие сны. Иждивенчество.
25.02. А теперь собираемся летать без штурмана. Весь мир летает, а мы чем хуже?
Чем? Да всем. Хуже самолеты. Хуже земля. Хуже порядок.
Когда Валера Ковалев из-за нашего «порядка» уже собирался садиться в поле возле Калинина, на полосу его вывел штурман.
Когда Гурецкий падал ночью под Ташкентом с тремя отказавшими двигателями, то вывел его на Чимкент штурман.
Я не уверен, справится ли в подобной ситуации на Ту-154 тот, кто так ратует за полеты без штурмана. И самому-то… не дай бог.
Читая материалы по катастрофе парохода «Адмирал Нахимов», я поразился тому, как вел себя капитан «Петра Васева». Он стоял и смотрел в экран локатора. Ему доложили, что по курсу пересекающий борт. Он бросил пару слов насчет маневра расхождения и снова уперся в локатор. Ему говорят – он молчит. Ему кричат уже – он все в свой локатор смотрит. Необъяснимое, непонятное поведение.
Понятное и объяснимое. Заканчивается длинный, долгий, многодневный, многомесячный рейс. Последняя ночь. Утром швартовка. Множество вводных. Усталость навалилась. Как бы не оплошать напоследок. Следить за всеми мелочами. Вон вроде что-то по локатору… Проверить лично. И – зациклился на локаторе. Пока среди кучи информации дошло, что же сейчас главнее – локатор или пересекающий борт…
Короче, как в том старом анекдоте про Робинзона Крузо: «Козу, козу помоги поймать!» Ну и что, что ты – Василиса Прекрасная, ну и что, что исполнишь любое желание, – ты козу, козу!
Мы частенько ту козу ловим, ловим, а потом глядишь – поймал предпосылку. А комиссия никак не возьмет в толк: перед ним Василиса Прекрасная, а он ее просит козу поймать. Нелогично.
И все больше такой нелогичности. Я-то, рядовой, стараюсь как-то сглаживать возникающие козьи циклы, а мне сверху все подкидывают вводные: крутись.
Мы и так летаем не на самолете, а на крылатом кроссворде-ребусе. Уже не тайна, как это чудо в перьях создавалось, а главное, в какие времена. И теперь ясно, какие мотивы двигали теми, кто напихивал наш корабель этими самыми кроссвордами. Но это – основной тип Аэрофлота, на 25 лет вперед, и замены ему нет и не будет до 2000 года; так и будем кроссворды разгадывать.
На Як-40 налет 70 часов в месяц круглый год, и вся работа с базы. Не хотели ребята с него уходить, за уши их тянули на «Ту», бередили затаенное – полетать на лайнере… Полетали; теперь вспоминают Як-40 как прекрасный сон.
Мы на 20-м месте среди летчиков мира по зарплате. У нас в новых пилотских свидетельствах, состряпанных по образцу ИКАО, стыдливо пропала одна графа. Идут по порядку первая, вторая, третья, – соответственно: принадлежность, название документа, номер; потом фамилия и год рождения – четвертая графа, а за нею сразу шестая: гражданство, и далее уже по порядку.
Злые языки утверждают, что пропавшая пятая графа называется в крещеном мире «счет в банке». Комментарии, как говорится, излишни. У советского летчика в банке не счет, а пиво. И то, надо еще очередь у ларька за ним выстоять.
Ладно со счетом. Зато у нас все бесплатно. Жри что дают. Хочешь, не хочешь, жуй в УТО месяц закон Бернулли. В министерстве знают, чему, сколько и как учить. Фюрер думает за нас. Фюрер задает рамки, в пределах которых летчик свободен в принятии любого решения: от «принимаю» до «не принимаю». Но я еще не видел записи «не принимаю».
И в этих рамках нам предлагают перестраиваться, начать с себя.
28.02. В Аэрофлоте появились пилоты-ученые. Ну, ладно, Васин. Толк от его учености мы на своей шкуре испытываем. Вся его ученость направлена на затягивание гаек.
А вот командир Ереванского УТО Ерицян. Летал рядовым, потом пилотом-инструктором. Кандидат психологических наук. Как честный человек пытался применить свои знания, мысли, разработки на практике. Еще пятнадцать лет назад ратовал за изучение личностного фактора как решающего в безопасности полетов.
К тому времени в мозгах нашего руководства как раз назревал нарыв раскрепленного метода формирования экипажей. Человек-робот должен был работать за штурвалом, а значит, упор делался на механические, намертво вдолбленные знания и навыки, на железную, беспрекословную дисциплину и как результат – на абсолютную взаимозаменяемость любой пешки из большого экипажа, а значит, беспечальную жизнь командного состава.
Ничего из этой затеи не вышло, а после ряда катастроф с опытными членами экипажей наука засомневалась в целесообразности раскрепленного метода, и летная служба министерства шарахнулась в другую крайность, о которой я уже упоминал: строго закрепленный экипаж. Толку и из этого не получается, истину надо искать где-то посередине, было бы желание.
Так вот, Ерицян, мужик думающий, сам пилот, штаны просиживал не в кабинетах, а за штурвалом. Но не в струю попал: его идеи тогда казались утопией. Начальник Инспекции министерства дал ему две минуты на изложение «вопроса» и посоветовал передать его науке. Спихнул. Ох уж эти начальнички.
Короче, разгромили мужика с его идеями, ошельмовали в нашем бульварном журнале, который порядочный летчик и открывать не станет. «Теоретика» стали жрать. Комиссия из министерства быстро свела счеты с сильно грамотным пилотом-инструктором, а дабы крамольные идеи не распространял, сняли его в рядовые. Как у нас водится, стали искать зацепки в технике пилотирования, копаться в расшифровках… Если надо, зацепку у летчика всегда найдешь. Но Ерицян оказался сильным пилотом – отстали.
А тут освободилась вакансия – начальник УТО. Рядовому пилоту Ерицяну предложили эту широкопогонную должность – согласился. Все равно ведь сожрут. А здесь, в кабинете, крамолу можно распространять потихоньку.
Вывел УТО в передовые, использует ЭВМ, короче, думающий человек, энтузиаст, пошел впереди. Обидно ему за нашу науку, за НИИ ГА, за Ульяновскую ШВЛП. Отстали они от жизни, а Управление летной службы не чешется.
Много хороших, дельных мыслей высказал он корреспонденту «ВТ». Во многом мы с ним единомышленники. Он ратует за гуманизацию летной профессии. Крамола. В министерстве всегда считали и считают, что летчик должен быть тупой и храбрый, бэзпрэкословно спольнять прыказы и тщательно изучать, сколько ведер заклепок идет на постройку его самолета. И еще он должон буть идейный и беззаветно преданный. И требовать с подчиненных. А все остальное за него думает фюрер. Мы на то тут и посажены, чтобы думать и решать за вас.
У Кузьмы Григорьевича нашли язву, надо делать операцию. То-то он исхудал последнее время. Обидно за старика: все отдал авиации, в том числе и здоровье. Ну, он-то хоть Заслуженный пилот, пенсия 250 р.
Репина на годовой поймала невропатолог: голова, видите ли, трясется у него. Надо, мол, лечить. Ну, он давно заикался, что в 45 лет уйдет на пенсию и начнет новую жизнь. Вот самое время: повод есть… а то залечат. Но жалко: теряем прекрасного, толкового пилота-инструктора, а для него авиация – вся жизнь. Ну, а в пенсионной жизни ему останется единственная услада: новенькая черная «Волга», добытая великими трудами, мечта жизни.
И – топай себе в ВОХР, сутки отдежурил – трое дома. Не в инженеры же идти работать. Отмираем мы, бездипломные, необразованные. Да и заставишь летчика на пенсии работать. Так, кантоваться… Хватит с нас той ответственности в полетах – на всю оставшуюся, недолгую, впрочем, жизнь.
Летчик живет только в полете. Остальное все – не жизнь. Отпуск, курорт, УТО, разбор, ШВЛП, партсобрание, ожидание погоды в гостинице, – все это не жизнь.
Ушел из авиации – доживай. Куфайка, кирзухи, на даче раком… Опускайся, пей с такими же в гаражах… Одни воспоминания… да еще сверкнет что-то в глазах вслед пролетающему лайнеру…
3.03. Идет перестройка. По всему фронту, по всей стране. Процесс необратимый, но, видимо, длительный. Старое упорно цепляется, не хочет сдаваться.
Волею судьбы наш Аэрофлот заклинило. Внешне мы тоже перестраиваемся, шумим, но, по сути, все пока остается по-старому.
Да и наивно было бы ожидать ростков нового там, где бюрократия – закон, начиная с самого главного маршала, где всякая инициатива глушится лозунгами, типа, «законы пишутся кровью», «безопасность полетов превыше всего», «эталон на транспорте…»
Как странно переплелись у нас самая чистая романтика, самая чистая любовь к профессии – и бюрократия, возведенная в культ.
Надоело все это, и не хочется писать. Да и писать стало не о чем, одно и то же: полеты и проблемы.
Год назад писал, что через год, мол, уйду на пенсию. Ну, прошел этот год, никуда я не ушел, наверно и не уйду, пока не выгонят. Вот этот годик еще пережить, за год многое изменится. Посмотрим.
Скорее всего, перестройка займет время жизни примерно одного поколения. Моего. Старики должны вымереть, а те, кто займет их место, еще должны будут на месте бороться с оставшимися в живых; пока молодое возьмет верх, пока молодого накопится так много, что оно, молодое, начнет диктовать, пока сама жизнь от этого медленно сдвинется так, что стает видно зримые результаты… И какие еще будут они, эти результаты, может, сдуру и в тупик упремся, сдадим назад, потом попробуем шарахнуться в другой угол…
А наше министерство вообще к перестройке не готово. Те, от кого что-либо зависит, кто гербовые пуговицы на мундире носит, в большинстве своем – люди старой формации. Они выпестованы еще тем временем, и взгляды у них те же, и как ни тужься, не выдавить из них бюрократическое начало.
Пока не прислушаются к рядовому летчику, ко мне, к тебе, к нам всем, – перемен не будет, так, полумеры.
Никакой НИИ, никакой там отдел, никакая комиссия, никакая коллегия, без нас, кто в самом котле варится, кому больнее всего, кто, собственно только и делает главную в авиации работу – летает по небу, – без нас никто ничего не узнает толком, не решит с умом, и ничего принципиально не изменит. А если и изменит – то для себя, чтобы себе было удобнее, чтобы себе на будущее, да чтобы бумаги были обтекаемее, чтобы цифры вернее ложились в искусственную, придуманную систему.
И эта надуманная система, долженствующая показать, как у нас все четко и красиво, и какой мы эталон, и как недаром работают те, кто ее придумал для своего удобства, – эта система объективно будет всем нам, обществу, вредить.
Всю ее надо уничтожить, а будущее нашей авиации должен здраво и обдуманно решать тот, с кого она начиналась, тот, кто сейчас пешка, кнопка, функция, кто опутан паутиной инструкций, приказов, указаний, наставлений, руководств, планов, показателей и прочей мишуры, тот, кто один в этой системе не ложь, а истина, – летчик.
9.03. Все это риторика. Я сам себе задаю эти вопросы, а ответ на них один, еще у Маркса. Когда назреют экономические предпосылки, тогда и политика решится. Нарыв зреет ой как долго. Уже и набухло, и посинело, и дергает, и спать ночью не дает, – а резать рано: полумеры. Врач знает срок, когда природа объективно подготовит все к вскрытию, и ему останется тогда только чуть помочь. Можно процесс чуть ускорить, травку приложить.
Так вот, оно зреет, и не один нарыв в стране, а целое сучье вымя… Врач… или знахарь… вроде опытный. Ну, а фершала на местах – где как. У нас в аэрофлоте, лекари, может, и послабее других, но тоже примочки кладут.
А то, что оно же болит, дергает, спать не дает, – потерпи. Приспособься, уложи поудобнее, грей, жди время. Потом будет еще больнее, а после вскрытия уж, долго, постепенно, не очень-то заметно, станет рассасываться, затягиваться, полегче станет. Но надо терпеть. Кричать, что больно, – да знаем, знаем, что больно. Правда, больно не нам, а вам. Но… такова жизнь.
Приспособимся летать и без штурмана. Уважающие себя и знающие себе цену командиры уверены, что справятся. Даже, в принципе, хоть сейчас. В конце концов, будь война – завтра бы и в план, и через неделю забыли бы о штурманах.
Окончили мы эти анекдотические бесштурманские курсы, создали видимость, являлись вовремя, уходили пораньше, ставили бутылки преподавателям; получили квитки, свидетельствующие, что уж теперь-то, после такой вот учебы, мы вполне овладели теоретической премудростью, остается дело за практикой.
Каждый теперь для себя, для своего экипажа, продумывает конкретно, какие крючки и зацепки, уловки и методы, способы и действия надо отработать на практике. Кто и как взлетает, кто и как следит за тем и тем, и еще теперь за вот тем. Мы сами разрабатываем в экипаже новую технологию работы. Больше риска при отказе, меньше надежность, – да, меньше, даже по понятиям тех, наверху. Но у нас до этого, по тем же их понятиям, надежность была 150 процентов, ну, теперь, значит, будет на треть меньше, но все же – сто процентов, что и требовалось кому-то там доказать.
Еще хладнокровнее надо работать, еще на ступеньку профессиональнее придется стать, – а куда мы денемся. Экипажи на Ил-62 только улыбнутся, а нам в утешение – сознание того, что по нагрузке на ответственных этапах мы стали еще ближе к космонавтам. А вместо доплаты – хрен в рот.
Вот такая перестройка.
Шумит страна. Любого спроси – такого наговорит… А мы чем хуже. Вот – без штурмана летаем, справляемся. Материал для репортажа.
Интересное время. Будем потом вспоминать, как выдюжили.
Но нашему поколению, а может, и поколению, следующему за нами, выпала судьба нелегкая, вроде как жертвенная: детей благополучия, вещизма и наступающей бездуховности придется положить на алтарь перестройки. Мы ляжем удобрением под ноги будущему. Причем, не мы сами бросимся на амбразуру отживающего времени, а создадутся такие условия, что нас с ним стравят в драке. Будем грызть глотки друг другу. Конечно, культурно. Но я рад: может, хоть этому многолетнему удушающему равнодушию вокруг придет конец.
Повторяю: мы, летчики, поневоле зрители. И оттого, что тылы худо-бедно прикрыты какой-никакой пенсией, и оттого, что заорганизованы и зарегулированы мы до такого предела, который простому, из миллионов, рабочему, крестьянину, клерку, – пока немыслим. И оттого мы зрители, в конце концов, что изредка покидаем этот мир мышиной возни и устремляемся в светлое небо, откуда все земные проблемы кажутся мелкими и незначительными по сравнению с тем, что мы получаем там.
12.03. Бегу навстречу восходящему солнцу. Стучат стыки плит, горизонт по бокам слился в две полосы, размывающие поле зрения; ось взлетной полосы пунктиром уходит под меня. Все уносится назад, только солнце неподвижно, низко стоит еще над горизонтом, и стая птиц медленно пересекает его диск.
Подъем. Окружающее замедлило свой бег, полоса ушла вниз вместе с птицами, деревьями, сугробами… Во все еще узком поле зрения попеременно проявляются то прибор скорости, то просека и домик ближнего привода, или нет, дальнего, – ближний уже ушел под брюхо.
Разворот, земля косо наклоняется и боком перемещается из угла в угол лобового стекла, и солнце уходит в сторону. Как-то сразу деревья становятся маленькими, как-то сразу вознесся и повис, и горизонт ушел вдаль, и угол зрения расширился. Вот он, справа, Енисей, – но быстро натягивается на реку одеяло волнистых облачков, и земля, с ее городом, рекой, дымами заводов, уходит, уходит назад, а внизу и по сторонам одни волнистые бело-розовые облака.
Тонкая кисея сверху. Стремительно падает, налетает, секундная белая мгла, тряхнуло, – и вылетели в ослепительно синий простор. Вуаль сдернулась вниз, сбоку на ней тень нашего самолета в радужном кольце, уменьшается, уходит, проваливается влево, в глубину.
Слева небо сиреневое, впереди – голубое, глянешь вправо – расплавленно-желтое; все переходы от цвета к цвету неуловимы, и все так привычно, но если наклонишь голову еще сильнее – все краски так и бросятся в глаза. Кто знает, что такое глубокий вираж, тот видел, как меняются цвета неба над горизонтом. Обычный пешеход этого не замечает, но если лечь на восходе, или лучше на закате, на спину, закинуть голову и увидеть краски горизонта и неба вверх ногами… Попробуйте.
С эшелона 10600 простор просматривается далеко, видно, что облака скоро закончатся, а впереди сливаются Енисей и Ангара, причем, не Ангара впадает в Енисей, как нас учили в школе, а наоборот, Енисей в Ангару. Ангара здесь возле Стрелки поворачивает на север и широкой лентой течет себе, а с юга, сбоку, пришей-пристебаем подкатился худощавый Енисей и прилип… и – слились воедино, завертелись, заизвивались, когда еще успокоятся, только через двести верст… Ну, а там уж батюшка-Енисей силу набрал. Еще пара встреч с восточными притоками впереди, и еще будут сливаться, извиваясь и потом медленно, устало успокаиваясь; а уж за Полярным кругом, за Туруханском, Енисей никого не признает, на мелочевку внимания не обращает. Царь.
Посветлело, побледнело зимнее сибирское небо. Впереди нас вьется чей-то хвост, двойная туманная полоса: кого-то догоняем. Расстояние определить трудно, но вот туманный жгут плавно поворачивает вправо: самолет прошел Енисейск. До Енисейска, по нашим данным, еще 90 км, значит, борт впереди нас на таком расстоянии. Вот он докладывает Енисейску пролет точки: ага, Ил-76, грузовик, идет ниже нас, на 9600. Догоним, у нас скорость почти на 100 км/час больше. В зону Туруханска войдем вместе.
Меняется ветер, потряхивает, мы ожидаем встречи со струйным течением: войдем в небесный Гольфстрим с правого берега и будем выгребать наискось против течения.
Вон синусоидой изогнулся облачный хвост за грузовиком – эх и треплет его там, внизу. Он ведь в самой глубине, в воздуховоротах струи. Через три-четыре минуты зацепит и нас. У берега вода всегда неспокойна; так и в воздухе, на границе струйного течения.
Есть. Подняло, качнуло, опустило. Подвернули против сноса. Тряска, ухабы, колдобины, удары, толчки; пассажиры с тоской глядят, как крыло-рессора гасит колебания. Ничего, вы раз в году летаете, а мы всю жизнь. Небо – не гладкая дорога, колдобины на ней не видны, и мы можем только приблизительно определить зоны турбулентности и терпеть.
Подкаменная просит временно занять 11600: с востока на 10600 идет на Москву «Боинг», он рассчитывает пройти Подкаменную Тунгуску одновременно с нами. Добавляем режим, уходим вверх, освобождаем эшелон; через полминуты, на высоте 11 километров, трясти перестало: Гольфстрим ушел в глубину, мы в стратосфере.
Ага, вон далеко впереди справа на горизонте белой полоской намечается след «Боинга». Кажется, он так и замер в правой форточке. Ага, уже и серебристая точка видна. Мы медленно и верно сходимся, и вот уже подплывает под нас прекрасный, стремительный силуэт громадного воздушного корабля с характерной «головой» и четырьмя циклопическими двигателями под крылом. Флагман мировой пассажирской авиации величаво пересекает нам путь. Четыре пушистых туманных следа выстреливаются, набухают, закручиваются двумя тугими жгутами сзади лайнера и медленно тают. Оглядываюсь назад. Уменьшается, уходит, уходит за спину. Ушел…
Впереди, уже в поле зрения, висит маленький, как комарик, Ил-76, сзади у него непомерно пушистый сдвоенный след.
Опять снижаемся до 10600, здесь ветер почему-то слабее. Струя кончилась. Грузовик, такой, казалось, неуклюжий на земле, висит теперь впереди, тонкий и стройный; вихри срываются с крыла, захватывают спутный след и закручивают его в правильные кольца, они тают, медленно вращаясь навстречу друг другу. Кажется, кто-то там, в самолете, выпускает колечками белый дым, как курильщик изо рта.
Кто видел, как самолеты летают хвостом вперед? Медленно и верно уходит под нас горбатый грузовик, медленно и верно вплываем мы в поле его зрения над головой; теперь уже его экипаж любуется стройным силуэтом нашего лайнера и колечками нашего следа.
Нет некрасивых самолетов в воздухе. Горбатый и неуклюжий на земле, Ил-76 в небе изящен и летуч. Красив в полете Ан-24, прекрасен уходящий уже в прошлое Ил-18, – но краше всех, стремительнее, тоньше, изящнее, в моей памяти отпечатался Ту-114. Недавно довелось разойтись над Тахтамыгдой с последним из могикан: видимо, один еще остался и летает в МАПе; – разошлись с минимальным интервалом, и в кабину нашу вдруг ворвался на секунду могучий гул его соосных винтов.
Справа тонким ручейком выплывает из туманной дымки Бахта, по которой летано-перелетано на Ан-2, на ней остров Бурный, на который не раз садились с подбором. Все речки тут знакомы: Аяхта и Тынеп, обе Фатьянихи, Сухая Бахта… вон вдали уже показалась угрюмая Нижняя Тунгуска, вон и Туруханск, вон и Курейка; уже и Игарка просматривается. Погода звенит.
Все вокруг бело. Тундра в снегу, невысокие вершины плоских столовых гор едва выделяются голубыми тенями на бело-розовом фоне, и только солнце высвечивает морщины на их обрывистых боках.
Тонкие слои облаков натягивает с севера, мы протыкаем и нанизываем их на самолет, как блины на вилку. Самолет снижается, и вот, нанизав на себя последний блин, вываливаемся в чистое пространство. Впереди ярко-синяя полоса неба, зажатая, как бутерброд, между белой границей тонких облаков и такой же белой, без единой темной точки, таймырской тундрой.
И в этой бесконечной тундре сквозь неправдоподобно чистый воздух вдруг проявляется черная иголка норильской полосы, а за нею, дальше к горизонту, стоит гигантский столб дыма над трубами Надежды. Лететь еще далеко, но видимость прекрасная; мы доворачиваем на полосу, уточняя курс по показаниям радиомаяков.
Белая земля чашей выгибается вокруг; опять начинается движение, снова сужается угол зрения, все меньше впереди белого, все больше темного, это темное светлеет, расширяется, придвигается, заполняет собой все видимое пространство, забирает на себя все внимание… легкий поцелуй – мать-земля принимает в свои объятья непослушных сыновей. Горячий самолет подставляет свои бока северному морозному ветру и осторожно, на цыпочках, заруливает по льду перрона в указанное ему для отдыха место. Дымятся нагретые колеса.
Белая холмистая равнина, синее небо, низкое солнце, ветер, поземок, стадо разномастных и разноцветных самолетов, неуклюже раскорячившихся на льду, и в центре – пузатый как баклажан Ил-86, вокруг которого жуками снуют машины обслуживания. Двухэтажные сугробы вокруг вокзала, нестройная змейка пассажиров через перрон, могучие бульдозеры, всю жизнь, не выключаясь, сгребающие снег… Норильский аэропорт Алыкель.
17.04. Не отсидишься и красотами полета не отгородишься. Как ни унимал в себе желание писать, как ни пытался себя убедить, что надо отсидеться и выждать, – не то время.
Летаю как и летал, но внутри назрела и кипит лава неудовлетворенности. С жадностью ловлю крохи правдивой, наболевшей информации, выстраданной, осознанной своим братом-летчиком. Казалось бы, наплевать и уйти в себя, – нет, не получается.
На днях летный отряд проводил открытое партсобрание по перестройке и задачам. Пригласили нового начальника управления.
Медведев выступил с умным и злым докладом. Я не ожидал от него ни такого злободневного, точного по аргументации, бьющего по болевым точкам доклада, ни такой принципиальной позиции, такого спора с начальником управления и с его традиционно-балабонным штатным демагогом – начальником политотдела.
Доклад задал тон. Выступления в прениях начались тоже острые и злые, но… постепенно наша аэрофлотская стихия, низкая культура осмысления и ведения собрания создали обычный крен в сторону шкурных вопросов. Жилье, быт, автобус, телефон… Плавно и неуклонно острота, боль, а главное, идея собрания уходили на задний план. Ведь смысл-то в том, как, какими путями нам перестраивать работу и что, с чего и с кого начать… Ведь поиски этих путей и выносятся на собрание коллектива. Правда, при этом предполагается, что каждый что-то осмыслил и готов культурно и целенаправленно вести дискуссию, обмен мнениями, выложить, что у каждого наболело. А результатом должен стать настрой на перемены и наметиться конкретные пути.
Я не хотел выступать, да жалко стало, что пропадает такой момент: стравить начальство с летным коллективом и показать, кто чего стоит. Показать, что мы уже не аморфная масса, не пульт с кнопками, а мыслящая и решающая сила. В своем докладе Медведев уж очень стремился подчеркнуть это.
А тут эти частные, квартирно-автобусные вопросы, это примитивное «а вот со мной был случай».
Я дождался перерыва; ребята попросили заикнуться о том, о другом… Короче, вышел на трибуну. Волновался. Как всегда в таких случаях, спазм схватил желудок, заныло под ложечкой, – но не от страха, а от того, что, наконец, выношу на суд общественности сокровенные мысли, и не только перед коллективом – для ребят-то не новость, все под лестницей давно обговорено, – а и перед высоким начальством.
Начал с риторического вопроса: как я лично могу перестроиться на своем рабочем месте?
Боль за свое положение человека-кнопки.
Возмущение министерской политикой бумажных рамок.
Прошелся и по министру, с его стилем руководства, и по его заму, с его фельдфебельским пониманием организации нашей летной работы, и по бывшему начальнику управления; дошел и до нового начальника. Глядя ему в лицо, в упор ставил задачи: защищать летчика в министерстве, знать и доносить в верха наши боли, и проблемы, и идеи.
Начальник управления с командиром ОАО Левандовским вертелись и записывали, и с ними весь замполитский корпус.
Поднял и вопросы партийной работы, и парторганизации нашей, и пропаганды… и безучастности.
Смотрел в глаза людям, шевелил, повторяя вопросы по два-три раза, заставлял реагировать зал.
И все же люди скорее поразились смелости, может, наглости выступления, чем загорелись идеей. Сидят, смотрят, молчат. Тишина, правда, была.
Вспомнил, как пропадает втуне лучший опыт наших асов, как опошляется идея соцсоревнования, как связаны, опутаны мы не зависящими от нас показателями, как невыгодно и бессмысленно нам экономить.
Думаю, боль моя до людей дошла. Только многих она удивила: зачем так открыто биться головой о стенку.
Начальство, возможно, в частности, и из моего выступления, поняло, что пилот поднял голову, что не тот пилот теперь, не то время.
Медведев, думаю, благодарен мне за то, что я поддержал заданный им тон, причем, как раз вовремя. Собрание после меня бурлило еще три часа без перерыва.
Под конец новый начальник управления хитро, дипломатично, умно, проникновенно, доверительно и мягко завершил собрание. Все довольны, все расшаркались.
Левандовский удивил. Он умен и хитер. Заигрывает с коллективом ровно в той мере, чтобы его считали своим: словечки типа «хотит», «ложим», – но в то же время держит дистанцию между «нами» – командованием, кто в курсе дела, и «вами» – массой, кто не в курсе, а орет без толку. И это, мол, наша, командования, вина, в том, что не довели все что положено до вас вовремя, не довоспитали вас до кондиции. Но доведем, довоспитаем.
Дух времени, самокритика… в меру.
Левандовский свою политику строит на едином: строго в соответствии с… – и сыплет, сыплет номерами приказов и документов. Дает ясно понять: никаких инициатив, касающихся безопасности полетов и плановых показателей. Пока не спустят изменения. Пока не благословят. Мы все под прокурором. Поэтому у него коммунист Ершов думает только о себе, ему плевать на производительность рейса. Ну да научим, подскажем.
Кстати, руку он мне в перерыве пожал, молча.
После собрания реакции на мое выступление никакой, разве что – не нажить бы тебе, Вася, врагов. Думаю, если не врагов, то противников я себе уже нажил.
Надо людей будоражить. Надо раскапывать в них гражданскую позицию, умение и желание думать. Вот первое в перестройке. Может, высокое начальство и упрекнет меня в том, что, мол, вот – начинай с себя, преодолевай иждивенчество, учись болеть душой за загрузку, как вот болеем за нее мы; не отбрасывай плановые показатели, моя, мол, хата с краю, мое дело – чистый полет.
Но почему же тогда в нашей газете раз за разом летчики подымают все этот же вопрос о загрузке, которая от нас не зависит, а премиальные наши от нее зависят?
Да и, черт возьми, что меня-то переубеждать. Я это выстрадал, и буду упрямо стоять на своем. Дело летчика – летать, обеспечивать безопасность, экономить топливо и время полета; заставят летать без штурмана – будем экономить еще и фонд заработной платы. Дело отдела перевозок – находить максимальную загрузку. Каждого надо привязать к своему делу реально: премиальными. А иначе неизбежны приписки, как вот у нас с этой бумажной экономией.
Бывшего пилота-инструктора Ш. таки избрали командиром 214 ЛО. Из одной кандидатуры. Ну, он тут же самостоятельно полетел на Ил-76 в Ригу, пустырем, а выписал себе 25 тонн фиктивной загрузки, – чтобы ж производительность была, и премиальные с нею. Раскрутили дело; ожидается сброс Ш. во вторые пилоты. Из князи – в грязи, как водится. На три месяца. Но будь на его месте я…
Но кто виноват? Да весь ПАНХ – на приписках. А попался один Ш.
Я возил и возить буду людей. И мне всегда больно, когда остаются пустые кресла и люди в вокзале. Но от меня это не зависит. Я не могу задерживать рейс из-за допродажи билетов желающим.
Не моя вина в том, что пассажиру купить билет – проблема, багаж, досмотр, доставка дополнительного питания на борт, – проблема. Это не мои проблемы. А премиальные за это – мои, вернее, их у меня нет из-за этих проблем, а есть экономия какого-то там фонда. Нет, неправ Левандовский, и он умный человек, но есть у него свои мотивы, есть.
Когда эти его мотивы войдут в противоречие с его зарплатой, с его удобствами, – вот тогда и он перестроится. Нужен хозрасчет, а пока его нет, приходится ждать.
24.04. Лишний раз имел повод убедиться, что Ту-154, основной самолет Аэрофлота, морально устарел, еще не родившись.
Нас отправили из резерва пассажирами на Норильск для перегонки на базу машины, на которой там устраняли неисправность.
Летели мы пассажирами на Ил-76, экипаж знакомый, и я час просидел у них в кабине, на втором этаже.
Ну, ильюшинская фирма, одно слово. Для экипажа все удобства. Все для экипажа, а не для острия прогресса. Простор, эргономика, возможность спокойной работы. И все работает, выполняет свои функции. И экипаж вполне доверяет агрегатам, автоматике, – до таких степеней, к примеру, что штурман себе спокойно курил и пил кофе в грузовой кабине, а машина шла, отклоняясь от оси маршрута не более чем на сотню метров (табло контроля перед глазами пилотов на козырьке). И я доброй завистью позавидовал: так можно работать.
И что ни сравни – все не в нашу пользу, а то и до гротеска доходит. К примеру, те же пресловутые три высотомера на моей приборной доске.
Конечно: то для армии машина, а у нас ширпотреб, как, к примеру, пресловутая «Бирюса» на Красмаше, делающем ракеты. Остаточный принцип: сгребли крошки с военного стола, слепили из них фигу, – и давись, аэрофлот, чем дают.
Но это все демагогия. А реально – самолет Ту-154, вобрав в себя все лучшее из старых, времен еще Ли-2 (ну, Ту-104), представлений о возможностях пассажирских перевозок, запрыгнул на подножку последнего вагона жизни, уже уехавшей далеко вперед от тех представлений, – и сразу оказался устаревшим. И топлива, как оказалось, много жрет. И оборачиваемость-то у него не такая уж высокая, как предполагалось по сравнению с Ил-18, и дальность маловата, а там, где не маловата, – либо аэродромы не подходят из-за коротких полос, либо системы не обеспечивают минимум погоды; да и в эксплуатации оказался хуже, чем прежние типы. Те же низкие багажники, где, скрючившись, вручную, кантуют груз и багаж грузчики. Двигатели оказались слишком нежными и незащищенными крылом от осколков бетона, вырываемых реверсом из ВПП. Если «Боинги» своими подкрыльевыми двигателями чуть не скребут по бетону – и таки летают (к нам, кстати, летают!), то у нас… извините.
Один планер хорош: скоростной. Да что толку в тех лишних 50 км/час. И стали мы из-за экономии топлива подвешивать машину на М=0,81, и рявкнулись эти 50, да и все 70 км/час. А уж лобовое сопротивление из-за заклепок, а уж лакокрасочное наше покрытие…
Ну, а в кабине – как в собачьей будке. Хуже только на Ту-134: там – как в собачьей будке для маленькой собаки.
На Ил-76 приборов, как на Ан-2. Как-то все умещается на одной приборной доске. Потому что Ильюшин делал для дурака, которого товарищ подправит, а если в бою, то и заменит, не вставая с места.
А Туполев унюхал острие прогресса, на которое нанизана очередная правительственная награда: раскрепленный метод, без штурмана (изначально так вот и задумывалось), человек-функция, каждый на своем месте делает свое дело… Оказалось, для наших условий – ошибочные взгляды. А самолет-то летает, и лет еще десять, а то и все пятнадцать, пролетает.
Ильюшинское КБ, было, тоже поддалось на эту удочку со своим Ил-86: там тоже вроде бы бортинженер сзади. Но оставили лазейку: на взлете и посадке штурман отъезжает, а бортинженер на своем кресле подъезжает и садится между пилотами; есть для него и приборы контроля двигателей на средней приборной доске. И получилось, Ильюшин хитрее оказался. Но и сколько тех Ил-86 – три десятка, а не шесть сотен.
Мы в полете полностью не доверяем ни одной нашей системе, ни одному агрегату или прибору. Ни шестеренчатому НВУ («Палочек-веревочек Кибернетик Компани»), ни жалким радиокомпасам, ни хваленой АБСУ, ни коварному автомату тяги. И весь полет по принципу: бди, того и гляди, упорет в сторону. И упарывает, почти в каждом полете. Только и гадаешь: какой гироагрегат в курсовой системе уходит, и куда; какой авиагоризонт завален (чуть-чуть, а есть); какой указатель скорости привирает; по какому параметру – азимуту или дальности – не доверять «Михаилу»; какой локатор попался: просто барахло, каковым преимущественно и является наша «Гроза», или вообще откровенное дерьмо, рентгеновский аппарат; завышают или занижают расходомеры, врут ли топливомеры, и в какой группе баков больше топлива; почему самолет кривой, уходит с курса и дергается по тангажу при вводе в разворот автопилотом; сильно ли врет планшет с лентой-картой; отказала ли связная радиостанция с дальностью приема 16 000 километров или просто непрохождение волн.
Повторяю: в каждом полете что-то чуть-чуть отказывает, привирает, заедает и требует постоянного контроля большого и слаженного экипажа. Полет без отказа считается подарком судьбы и предупреждением: не расслабляйся! Бди!
И все – по мелочам. В главном же – все железо очень надежно. Не убьет. Но мелкой подлянки жди все время. Полет в постоянном напряжении.
И как же тихо и спокойно работает экипаж на Ил-76. На глиссаде у командира забот – как на Ан-2: попасть на полосу, и все. Скорость у него выдерживает бортинженер, работая как автомат тяги, он соображает сам: те же пилотские приборы перед ним.
Мой самолет – как старая, добрая, ворчливая, вечно хворающая, да еще с какими-то претензиями жена. И тащить нелегко, и бросить жалко. Чемодан без ручки. Но – понятная машина, приспособились, приладились, где и уступишь… Крест этот на всю жизнь, что роптать.
Предложи мне сейчас переучивание на новый, совершенный, современный – Ту-204, Ил-96, и прочая, и прочая… нет, это как жену менять на старости. Сживешься ли еще с новой. А отдача от меня здесь сейчас – наивысшая, польза от меня, скажем, стране, – наибольшая, пик формы…
Приноровимся, притремся еще крепче; а что иной раз полаемся – так не поле перейти же. И снова все утрясется, еще что-то в себе подкрутишь, где-то живот подберешь… А там и золотая свадьба не за горами.
В конце концов, ворчим мы, разочаровываемся, бьемся, перестраиваем что-то, – основная работа наша идет себе и идет: экипаж, машина, загрузка и небо.
А на чужую жену нечего тырлы пялить, да и возраст не тот уже: что с бабы на бабу сигать, что с машины на машину.
Снова в «ВТ» горькая статья. Снова уже притчей во языцех стал наш аэропорт. Сложные проблемы переплелись: Емельяново и Черемшанка, условия труда и быта и безопасность, транспорт и экология, фанфары и демагогия. Если судить по впечатлениям корреспондента о нашей ВПП, то он рад, что чудом жив остался. А я с нее работаю, уже который год, а проблемы все те же. Вполне возможно, детонатором катастрофы Фалькова мог послужить маленький осколочек бетона, каковые постоянно засасываются в наши двигатели.
Да что там: одна наша полоса такая, что ли. Это беда общая, а работать надо. Еще б я думал на каждом взлете, что вот-вот поймаю камешек. Других забот хватает.
7.05. Наконец-то! Сняли нашего самого главного маршала. Пожалуй, по всему Аэрофлоту пронесся вздох облегчения. Давно, ох давно было пора.
Что ж, перестройка идет. И главных маршалов, дважды Героев – в отставку. Вернее, «в связи с переходом на другую работу».
Ну да знаем, какая это работа. Главное – освободил место. Кому?
Красноармейцу Волкову.
Я так понимаю, что лучше было бы гражданскому человеку доверить. Но нет в Аэрофлоте достойных. Вот до чего мы докатились. Это как среди казахов, 17 миллионов, не нашлось достойного человека на должность первого секретаря партии, так и у нас. Такое, стало быть, в Аэрофлоте положение вещей, что во главе ставят настоящего генерал-полковника, правда, он командовал ВТА семь лет, так что не совсем уж посторонний человек.
Но демократии не жди. Да ее и не было у нас, не о чем и жалеть. Убрал бы профессора Васина – мечта летчиков – и на том спасибо.
А может, и не приживется у нас Волков. Какой с него хозяйственник – мы все-таки коммерческая организация.
Из газет. Оборачивается так, что раз мы все двадцать лет тормозились, то и наши общественные науки отстали. Горбачев и иже с ним начали перестройку потому, что ждать уже дальше некуда. Но теоретического обоснования нет. Не ждать же, пока перестроится и подтянется та наука. Значит, лезем почти наобум. Возможны тупики, возвраты, но общее направление – вперед. На что опираться? Вывод один: только на мнение народа. Что назрело, что диктует жизнь. Значит, гласность и демократия объективно будут поощряться. Молчать – значит, обречь страну на плутание в потемках.
Но… ход перестройки оказывается гораздо медленнее намеченного, а трудности все возрастают. И уже засосало. Скорее всего, те обещанные 250 процентов производительности труда – в срок не получатся. Остается стиснуть зубы.
Еще. Цивилизация пережила две коренных ломки. Переход от стадного образа жизни к земледелию – раз. Второе – промышленная революция. А теперь грядет третья волна. В чем ее суть?
Уходит время массового промышленного труда. Через 20 лет на предприятиях мира будут трудиться роботы, а не сплоченные пролетарские коллективы. И понятие собственности качественно изменится. Если до сих пор собственность была вещественна и зрима, ею можно было обладать физически, то теперь основная собственность, главная, ценнейшая, – не средства производства, а информация. Вот главное.
Но кто ею сможет владеть? Да любой.
Не пошатнутся ли марксовы устои, если их бездумно простирать в будущее? И до каких пор они верны?
Где тот, самый революционный класс?
Пролетариат ли ведущая сила?
Социализм, капитализм, что еще?
Можно навесить на меня ярлыки ревизиониста, сторонника теории конвергенции и пр.
Однако. Если мир капитализма, подталкиваемый беспощадной конкуренцией в борьбе за выживание, находит самые интенсивные пути развития, выжимает из каждой творческой личности все возможное и способен за 15 лет в основном заменить роботами пролетариев в цехах, то куда ж деваться нам, блаженствующим, с лопатой в руках?
Победы капитализма в гонке боится наше руководство, потому что тогда рухнет вся болтология. Этот страх – стимул перестройки сверху.
Однако как ни тяжело солдату на марше догонять ушедших вперед – из-за того, что не научился правильно портянки наматывать, – он все равно вынужден будет остановиться и таки перемотать. А пока мы возимся со сбившейся онучей, мир катит вперед на роботах уже какого-то там поколения. Догоним ли?
Если мы в кои-то веки наладим свою индустрию роботов… куда тогда денется наш великий рабочий класс? Куда уйдет тот, мускулистый, с молотом в руках, что на каждом углу на плакатах? Тот, чья могучая сила как бы автоматически всегда находит правильную дорогу, тот, кому классовое чутье не даст сбиться с пути истинного?
Когда его не станет, кто будет самый-самый революционный? К кому прикладывать теорию Маркса? Ленина? Куда деть серп и молот?
А все это маячит где-то в недалеком будущем; надеюсь дожить.
К земледелию переходили десять тысяч лет, к индустриализации – триста; к роботизации, компьютеризации труда – сколько?
Лет двадцать-тридцать. Кончатся массовые трудоемкие производства. Уйдут со сцены армии землекопов, шахтеров, токарей, ткачих. Каждый будет делать свое дело индивидуально, ну, в малой группе.
Летная работа и сейчас тому пример.
Лет через тридцать общаться будем с персональными компьютерами. Голосовать за нас будет компьютер: в банке информации автоматически будут учитываться достойнейшие… и так можно фантазировать до бесконечности.
Но факт налицо. У меня на работе нет коллектива как такового. Нет массы плечом к плечу. Я не знаю или плохо знаю своих товарищей по цеху, а цех у нас – все небо. Сотня-другая мало знакомых людей. Какие массы? Какая парторганизация? Мы же иной раз по полгода не видим друг друга.
И к этому идет вся наша жизнь. Этого не надо бояться, надо как-то приспосабливаться.
Самое страшное то, что весь цивилизованный мир, не обремененный всесильным учением Маркса, на 15-20 лет обогнал нас именно в этом направлении. Зарубежные обозреватели метко обозвали нашу страну блестящим гусарским полком, несущемся по убогим деревням. А ведь деревни эти кормят тот полк.
Как понять это всему народу? Что нельзя благодушествовать. Нас задавят, будем на помойке истории.
А у нас в Аэрофлоте пока процветает бугаевщина.
14.05. Говорят, и Васина снимают и посылают командовать управлением куда-то в глушь, в Кишинев, что ли. Пока это слухи, жду официальной информации «ВТ».
Из «Известий», о стиле работы Аэрофлота. 9 Мая, на праздник, Внуково закрывалось по погоде, а людям в вокзале негде было расположиться: половину аэровокзала отгородили, и народ в эту стерильную зону не пускали. Готовились встречать нового нашего министра Волкова. Что за нужда?
Месяц назад в МВЗ свели Ил-86 и Ту-154. «Ту» шел выше, а снижали обоих враз. Армяне на Ил-86 совершали один из первых вылетов – только начали осваивать новый для себя тип. Ну, у Ту-154 ограничений по снижению нет, он камнем сыпался, а Ил-86 имел ограничение по вертикальной скорости; да еще на высоте 3000 они не успели погасить скорость до 500, вывели машину в горизонт и стали гасить в горизонте. Диспетчер увидел, что высоты и метки на экране почти совпали, заорал, успел развести, но сближение было до сотни метров. Обычно гасят скорость заранее, не меняя резко режим снижения, но армяне просто зашились с новой машиной.
Но как просто и глупо: пятьсот человек рисковали жизнями.
22.05. Отпуск кончился. Слетали сегодня в Норильск, разговелись. У Леши кончился срок годовой проверки, поэтому с нами летал проверяющим Сережа Пиляев. Мы с ним вместе переучивались на Ил-18, чуть позже меня он пришел на «Тушку», получил инструкторский допуск и сейчас исполняет обязанности инструктора летного отряда.
Замечаний ко мне нет, правда, я автоматически, бездумно, поставил перед взлетом самолет на полосе на стояночный тормоз, что запрещено из-за опасности забыть и взлететь с заторможенными колесами, особенно на скользкой ВПП (случаи были). Но это я не врубился еще после отпуска – что проверяющий же наблюдает.
Вообще-то говоря, я этот запрет всегда игнорирую, и вот по какой причине. Во-первых, привык чувствовать машину, и сразу ощущаю, движется ли самолет по моей воле или помимо нее. Во-вторых, для меня принципиально важен момент страгивания, именно, плавное отпускание тормозов, я к этому готовлюсь каждый полет. В-третьих, с тормозов при даче газа самолет срывается в юз резко, а если ползет юзом плавно, то это должен быть хороший гололед, на котором пилот подобран, держит машину на тормозах и вслушивается, как она на них дышит, а чаще заранее останавливается на предварительном и ждет условий для взлета без остановки.
Зато на сухой полосе часто приходится ждать несколько минут из-за разгильдяйства диспетчера, который не учел всех факторов, выпустил самолет на полосу, а потом видит, что разрешать взлет нельзя: то ли кто-то уходит на второй круг, то ли приходится выжидать интервал взлета за более тяжелым типом, – причин много. А держать машину на тормозах, обжав изо всех сил тормозные педали носками ботинок, нелегко. Ноги же на взлете нужны мне не уставшие, а свежие, способные к тонким движениям. Поэтому я и ставлю машину на стояночный, а ноги отдыхают и готовятся к работе на взлете.
На каком виде тормоза, основном или стояночном, стоит машина – не записывается; я этим пользуюсь, правда, без проверяющих. Ну, а сегодня заклинило, забыл. Разобрались.
Короче, я не уверен в правильности этой рекомендации РЛЭ. Но кто отменит?
Вот в Норильске вечно гололед на полосе. Сорвался там однажды и взлетел со стояночного Ил-76. За штурвалом сидел хваткий молодой инспектор из управления, недавно на этот тип переучившийся. Как уж там он чувствовал новую для него машину – не знаю, но не почувствовал. И 160-тонный самолет, скользя юзом на 16 заторможенных колесах по заснеженной полосе, взлетел. В полете никто из экипажа не удосужился взглянуть на манометры, показывающие полное давление в тормозах. И сели в Красноярске на сухой бетон. Так как посадка Ил-76 на его многоколесные «лыжи» обычно мягкая, то поняли, что произошло, только в конце непривычно короткого пробега. Как у нас водится, командир, большой начальник, отскочил, а за снесенные колеса платит бортинженер, который в полете обязан был убедиться, что колеса расторможены.
Еще когда я летал с Солодуном, мы как-то прогревали двигатели на 0,7 номинала, стоя на покрытой накатом магистральной РД в Домодедове, и никак не могли удержать машину от срыва в юз. Чуть только добавляли режим, она ехала на тормозах; пришлось прогревать по одному. Уж тогда я прочувствовал, как ведет себя при этом машина, прочувствовал и запомнил. Вот так, помаленьку, и вырабатывается пилотское чутье.
Ну, а слетал я вполне нормально, но, конечно, надо в нескольких рейсах навостриться.
Новый министр немедленно отменил неумное указание Васина и разрешил использовать автопилот в наборе и на снижении. Что и требовалось доказать… два года. Кому польза? Чего добивались? Да ничего, бесполезный был запрет и, главное, не по делу, а так, как в артиллерии: не по цели били, а по квадратам.
Ясное дело: узбеки упали в Карши потому, что уснули, набирая на автопилоте. Я сам от усталости задремывал, бывало, даже пилотируя в штурвальном режиме на снижении. Так что теперь – запретить летать и в штурвальном режиме?
Уснули люди от усталости, упали от усталости, – при чем тут автопилот? Отменять надо не автопилот, а полеты уставших экипажей. Надо создавать летному составу условия.
Дайте нам отдых. Это что – иждивенчество?
24.05. Читаешь газеты и не перестаешь удивляться. Сорок третий год живу на свете, но как-то не мог предположить, что крупный руководитель Минлегпрома, главный инженер одного из управлений, женщина… в обеденный перерыв спекулирует пирожными, успевая за час получить четвертной билет навару. Ну, москвичи…
А что. Город большой, так что двадцать минут на метро – и ты в некоем НИИ, где с удовольствием берут (с доставкой!) любимые пирожные, которые по 30 копеек вместо 22-х предлагает интеллигентного вида продавщица в аккуратном белом переднике. Кому какое дело. Ну, продает, ну, по 30, так с доставкой же! Кто усомнится в законности предприятия. Деловые люди…
Теплое местечко и свой маленький бизнес. Психология мелкого хищника. Где ж там найти руководителя, у которого болела бы голова за мою таежную жизнь.
Истина, конечно, ближе к середине, но, честное слово, я потрясен. Ну не думал, что так вот можно. Наивный, глупый человек, отсталый, со своей занюханной порядочностию.
А давайте все так будем!
Разговение продолжается. Слетали в Ташкент, посадки оставляют желать лучшего. У меня еще терпимо, я недоволен собой в нюансах и в контролировании этих нюансов. А Леша пока садит жестковато и допускает принципиальные и серьезные ошибки: вот нырнул под глиссаду и упорно перся сесть на торец, пока я не вытащил машину на большие углы атаки, использовав запас скорости, но глиссаду догнал. Правда, после установки малого газа машина тут же упала. Рабочая посадка, 1,35.
В общем, втягиваемся.
28.05. Слетали в Симферополь. До Краснодара проверяющим летел с нами Булах: там не повезло злополучному Шуре Ш. Проходя под грозовыми облаками, влез в град, побил обтекатель локатора. Машина уже летает, а Булах там разбирается.
В полете Владимир Федорович мне не мешал, и я набивал руку, наслаждаясь полетами на автопилоте и заходами в автомате, несмотря даже на нелюбимую и ограниченную 124-ю машину. Нормальные заходы и посадки.
Обратно летели на 324-й, на которой я ровно два года назад разбил АНО в Алма-Ате. Она падает, как только поставишь малый газ, и Леша имел возможность в этом убедиться, приляпав ее на мокрый бетон в Краснодаре. Я взлетал, он садился, и, кажется, вошел в колею.
Устали как собаки – и это от простого трехпосадочного полета с предварительным отдыхом в тиши симферопольского профилактория. Стареем, что ли. А завтра Норильск. Хотел поехать на дачу и оттуда утром на вылет, но… гори она синим огнем. Устал, а на даче ведь втравлюсь в работу, лягу поздно, а вставать рано. К черту, ставлю машину в гараж и ложусь спать засветло.
28.05. Так и сделал, и правильно. Смотались в Норильск; я выполнял оба полета по просьбе Леши, которого вдруг поразили сопли, и он с ними весь полет возился, закапывая и поминутно вытирая красный нос. Зато обратно я дремал, а ребята меня везли. Витя с Валерой в отпуск не ходили: первый – по причине нехватки штурманов, а у второго большая заначка отпусков, и он с зимы выбирал их потихонечку до апреля, куда еще и в мае – жирно. Так Витя уже, бедный, молит о выходном. Такое вот дурацкое расписание, впритык, и за месяц он вымотался на ночных рейсах. А лето еще впереди.
Мчусь на дачу. Хоть на пять часиков.
29.05. Опытный водитель буксира зевнул и въехал своим тягачом в крыло 417-й. Прорезал в нем два паза метровой длины и по 10 см ширины. Заводчик после осмотра и нивелировки пообещал залатать за две недели. Поставили машину на стоянке АТБ, слили все топливо, при этом создалась предельно задняя центровка. А опору под хвост поставить забыли. И сегодня чужой Ил-76, выруливая с соседней стоянки, дунул, а сильный ветер помог; так общими усилиями и опрокинули бедную машину на хвост.
Горько было видеть эту картину: как толпа ходила глазеть на позорище, как суетились и с какими предосторожностями опускали нос на специальные упругие баллоны. Хотя одной железной палки хватило бы, чтобы все предотвратить. Эх, Расея. Теперь хвост править, двигатель менять…
Надо было видеть лица начальника АТБ и иже с ним. Но с горькой же справедливостью, в ответ на их нервные указания не мешать, отойти и пр. я подумал: какой бы шум вы подняли, друзья…
Да и так, тот Ил-76 арестовали и терзают ни в чем не повинный экипаж. И то: руление диспетчер разрешил, техник рулением руководил; сами инженеры ничего не подозревали, а тут… А тут экипаж оказался сопутствующей причиной, но разговоры идут о том, что командир всегда виноват, он должен был потребовать буксировку и т.д.
Ерунда, ничего он не должен, не его это собачье дело. Он прорулил, ничего не зацепил; выруливал на 4-х двигателях, газовать не надо, она сама катится. Просто ветерок чуть помог.
Пока надували эти баллоны, пока суетились вокруг, ветерок снова дунул и покатил высокую стремянку для работ на хвостовом оперении – прямо на стоящий рядом самолет. Мы всей толпой, матеря техмощу, бросились ее ловить. Кто виноват, что она покатилась – опять пилот?
Ну, допустим, стоит стремянка, трап; мне надо выруливать, и так, что непременно дуну на них. Я смотрю, если вижу опасность, предупреждаю землю, земля убирает или закрепляет; если есть сомнения, предлагает буксир, и тут уж я на себя не возьму: пусть буксируют. Потом земля докладывает, что все свободно, и несет ответственность, разрешая руление.
Но как я могу предположить, что из ряда стоящих Ту-154 сдую один. Отстаньте от экипажа, пожалуйста, нам и так нелегко. Перестраивайтесь сами.
Завтра летим пассажирами в Одессу: с 1-го начинается дополнительный рейс, и нам его открывать.
2.06. Открыли рейс. Никто ничего не знает: в расписании повсеместно сказано «Одесса-Днепропетровск-Ульяновск-Красноярск». Приходит изменение: через Запорожье. Никому дела нет. Экипаж гонит нам машину, сгружает в Запорожье посуду, потому что там нам на обратном пути должны загрузить питание.
Черт знает что: в Одессе мощный цех питания, а нас обеспечивает занюханное Запорожье, где базируются одни Як-40.
Естественно, первый рейс, кто-то кому-то забыл дать заявку, и нас питанием не обеспечили. Я было принципиально заявил, что высаживайте пассажиров, мы идем в гостиницу, без питания не полетим. Знали? Знали. Почему не приготовили? И т.п.
Так бы поступил принципиальный КВС Д. Но жизнь есть жизнь. Застрять в Запорожье, ожидая, когда нам сварят кастрюлю кур, и то, еще неизвестно когда… а просил же на 3-е июня, на завтра, Львов – вывезти Надю с Оксаной из Трускавца… глупо.
Вот так шкурный интерес давит в нас принципы.
С другой стороны: а чем виноваты пассажиры, что мы их из-за курицы оставим на полсуток в раскаленном вокзале и через каждые два часа будем продлять задержку? Зачем им такие принципы? Да черт с ним, с питанием, людям улететь надо.
Чтобы ко мне не было претензий, что повез людей без питания, пришла тетя – начальник смены и пообещала извиниться перед пассажирами. Не знаю, извинялась ли она, но мои проводницы в полете принесли извинения от имени Аэрофлота… у которого левая рука не ведает, что творит правая.
Я же был озадачен, как продраться сквозь грозы, обступившие аэродром. Это поважнее курицы. Но… грызла совесть. За что – сам не знаю. За беспринципность. За то, что слаб человек. Сквозь грозу лезть – силен, а между людьми слаб.
И в самой Одессе ведь тоже не знали, что с 1-го числа рейс будет со сменой экипажа, и что вылетать не в 7 часов завтра, а в 16.50 сегодня, и до вылета всего час двадцать. Никому ничего не надо. У них на рейс было заготовлено 10 тонн груза до Запорожья; успели загрузить две с половиной тонны и 60 пассажиров. Тоже нужно было пойти на принцип, задержать рейс, загрузить все полностью, – не так ли должен бороться за загрузку экипаж? – но к аэродрому подходил хороший фронт, мы каждые пять минут со стоянки щупали локатором небо, сидели как на иголках и были очень заинтересованы скорее улететь, пока не закрыло трассу.
Ведь три посадки еще впереди, вся ночь; чуть задержишь с вылетом, пойдет, покатится впереди нас задержка, как снежный ком, и не уложимся в рабочее время… опять нам изворачиваться – за свои же принципы. А что такое 10 тонн на расстоянии 400 км – да ерунда: десяток лишних пассажиров от Ульяновска до Красноярска с лихвой компенсируют эти жалкие тонно-километры. Так подсказывал нам внутренний голос, хотя подоплека была совсем другая. Подоплека проста: черт с вами, с вашим бардаком, с вашими неувязками и разгильдяйством, с вашей производительностью, – а нам бы поскорее взлететь да пролезть между грозами, обступившими аэродром. Какая, к черту, загрузка, когда вот-вот можем застрять. А то – взлетишь, а оно как раз закрылось… и тыкайся потом. И спросят: а как ты анализировал изменения погоды, командир?
И зачем же мы здесь двое суток торчали – чтобы убедиться в том, что одесситы прохлопали ушами расписание, и теперь нам вместо них начать разгребать то, за что им деньги платят? Да провалитесь вы со своим грузом. Русская раскачка. Первый рейс. Одни не знают расписания. Другие забыли накормить людей, не говоря уже об экипаже. Третьи…
Третьи прискреблись в АДП Запорожья к флайт-плану. Мы, видите ли, плохо, не по образцу, заполнили эту филькину грамоту: не поставили тире перед каждой строчкой и не закрыли скобку в конце. Дергали нас, возвращали от самолета из-за этого.
Я пока не шибко разбираюсь в сущности этого нововведения; время мы туда пишем от фонаря, главное, скобочку закрыть. Пришло это к нам из-за бугра.
Ладно, закрыл я скобочку.
Ну никак мы не можем перестроиться так, чтобы всем угодить. Земля опутывает экипаж, как чудовищная раковая опухоль, – и уже мы живем для этой опухоли, она все соки сосет, а нам уж что достанется. И она-то уж, опухоль эта, считает, что без нее-то, и что она-то…
Да вот пример. Собирает партийный комитет предприятия пропагандистов в рабочее время… в ресторан. Будет конференция перед итоговым занятием в системе политпросвещения. Столы накрыты, пропагандисты мнутся, за президиумским накрытым столом – наши идеологи. Вы, значит, угощайтесь, а мы, значит, жуя, между делом, прочитаем вам доклад, да поощрим, жуя, передовиков пропаганды, потом, жуя же, прослушаем лекцию…
Меня там тошнило. Я как раз был в резерве, и наш секретарь парторганизации попросил меня там поприсутствовать для численности. Я договорился с АДП, с экипажем, что, мол, посижу там чуть-чуть, – и поскорее меня вызовите, якобы на вылет. Леша сделал это буквально через пять минут, я и вилкой не ковырнул, и с великой радостью, но со скорбной миной на лице, разводя руками, быстренько убежал.
Черт с ней, со жратвой вашей, товарищи большевики, меня от нее, да и от вас, демагогов, воротит. Не лучше ли было бы собраться в нашей рабочей столовой да поговорить о качестве питания, чем жрать сервелаты в кабаке?
Еще дальше отталкивает меня все это от нашей бутафорской пропаганды. А я еще, в наивняке своем, думал потолковать в парткоме о своих сомнениях. Да о чем мне с ними говорить. Начальник политотдела в управлении – демагог П.; а в нашем комитете кабинетом политпросвещения заведует его жена. Оба на коне!
Вот они-то на месте. Вот они-то указуют. И их – легион. И все они просиживают задницы вроде бы для того, чтобы летал самолет, а в нем придаток его – экипаж.
Э, Вася, думай только о своей работе, о своем экипаже, о самолете, о погоде. Получай свои бо-ольшие деньги и молчи, береги силы для главного своего дела. Нам, летчикам, лучше, полезнее для полета, – не брать в голову производственные отношения. Раз мы поставлены в такие условия, что наши запросы удовлетворяются только через налет, – надо думать только о налете, ибо он – мерило нашей летной деятельности.
Я все больше склоняюсь к той же примитивной мысли, что и все порядочные труженики: делай свое дело на своем месте. Загрузка, курица, пропаганда эта, – это не мое дело. Это все – только факторы, которые иногда надо учитывать. Нет загрузки – плохо работает земля, а не я. А как работаю я, рассудит полет.
В Ульяновске забежали в буфет, давясь, проглотили того вездесущего минтая, запили кефиром… а за нами вломились наши голодные пассажиры. Мне было совестно перед ними, я торопливо, почти не жуя, глотал рыбу… и поймал кость. Некогда было вытаскивать, надо было готовиться к полету. Кость сильно мешала; подписал задание, тогда только забежал в санчасть, истекая слюной из полураскрытого рта. Выдернули мне ее – какое облегчение!
Леша с Витей везли нас светлой ночью по северной трассе; невидимое солнце катилось где-то рядом, под горизонтом, освещая северо-запад небосвода оранжевым сиянием, звезды бледно светились над головой; в эфире стояла тишина, и только где-то впереди на непривычном для него русском языке докладывал корейский борт; «Поняра, дезятя тызяча сыто сохараняй».
Я открыл томик Буссенара, поминутно сглатывая саднящим горлом, потом увлекся и три часа спокойно отдыхал, краем глаза поглядывая на ленту-карту и «Михаил». И ночь незаметно прошла – которая по счету… а сколько их еще впереди.
Чем страшны средства массовой информации – так это тем, что обесценивают в глазах людей то, о чем постоянно талдычат. Человек постепенно становится рабом газет и телевидения, – но лишь в ожидании нового, еще более нового, острого. А жизнь состоит, в основном, из старого и однообразного, а оно и так всем надоело.
Не вдаваясь в тонкости и не пытаясь рассмотреть глубины, я делаю вывод: надо поменьше читать газеты и смотреть телевизор. Информация и так дойдет. Надо разгружать себя, а главное – не поддаваться нивелировке личности. Полдня просидел над газетами – одно да потому, а ведь гора бумаги. Ну, телевизора я и так не любитель.
Поменьше внешней политики. Да и вообще политики. Я ничего не изменю. Нет нужды читать или слушать что-либо об опасности мировой войны, о разоружении и пр. Все это говорильня. Доктор Хайдер с его фальшивой голодовкой и наши подвывалы вместе с ним вызывают чувство брезгливого скептицизма.
Годы уходят, а я остановился на уровне тридцатилетнего человека и варюсь. Явное чувство неудовлетворенности. Размениваться на тапочки, газеты и телевизор не хочу. Это очень несовременно, но все равно не хочу. Глубоко разочарован во всем кроме своих полетов. Вот это – настоящее, а все остальное – только средство существования для тех, кто присосался.
3.06. Скажу я не боясь:
На дождь вино похоже –
Когда прольется в грязь,
То станет грязью тоже.
Хорошие слова древнего поэта.
Еще не было табака и других наркотиков, а тысячи лет назад уже было вино.
Отрицать культуру потребления вина – продукта, сделанного из очень трудоемкого, политого потом винограда, – потребовалось сейчас. Тысячи лет человеческая природа нуждалась в вине. Древние греки разбавляли вино водой – по нашим понятиям, бурда, – но пили!
Золотое вино у нас нынче проливается в грязь, это против природы, но это обусловлено социальными причинами пролетарской культуры.
Человек на Земле, в общем, аномалия. Природой разум не предусмотрен. Все в равновесии, а человек, чем дальше от природы, чем выше уровень искусственно созданной цивилизации, тем больше вступает с природой в противоречие. Людей расплодилось слишком много, они вступают в контакты все чаще – это, видимо, тоже против природы.
Когда человек был ближе к природе, к животному миру, был озабочен больше тем, как выжить, а не как выжать, – он пил вино без вреда. Сейчас, когда мы выжимаем все друг из друга, вино проливается в грязь.
Поневоле поймешь Мальтуса. Мне искренне жаль человечество; я все же склоняюсь к мысли, что оно вымрет. И дай бог, как говорится, из двух зол выбрать то, которое не уничтожит Землю. Я думаю, какой-нибудь СПИД, рак и нервные стрессы плюс всеобщее загрязнение среды сначала изгонят человечество из городов. А потом неизбежно низведут его снова на тот уровень, на котором ему суждено существовать эволюцией.
И вот тогда, в редкие моменты отдохновения от жестокой борьбы за выживание, жалкая горстка снова занявших свою экологическую нишу людей сможет вновь вкушать божественное блаженство первобытного вина, пусть и разбавленного вновь очистившейся от наших фекалий родниковой водой.
Я не фетишизирую вино, но история его потребления – только иллюстрация неверного пути развития человечества. Не вино виновато в том, что мы деградируем, и пролетарская туполобая борьба за всеобщую трезвость – лишь одно из многочисленных следствий. А где первопричина?
Как ни крути, а чем выше благосостояние, тем эгоистичнее человек. Объединяют трудности, а легкая жизнь разъединяет, ведет к пресыщению, скуке и извращениям, – а это против природы.
Древние египтяне ставили бессмысленные цели, пирамиды строили, – народ был занят. Мы строим ГЭСы, АЭСы и т.п. – оборачивается только вредом. Но народ занят. Потом начнем грызть зубами Марс – народ будет занят. Хорошо, к тому времени я вымру.
Ну, а для чего жить? Что достойно для человека? Ну, я перемещаю людей в пространстве, а себя обманываю романтикой полетов. Так принято. А наркоман живет в мире иллюзий и считает, что этот образ жизни – самый достойный, а вам не понять.
Опять вечные вопросы. Испокон веков люди задумываются, куда и зачем течет река жизни. Но независимо от того, как и о чем думают эти мыслители, река их несет в одном направлении. Есть специалисты, которые пытаются грести против течения, но много ли выгребешь. Кто на дно ложится… Но я, как все, плыву туда, куда все, шевелю ластами, как все. Пытаюсь думать, но думай, не думай, – несет. Только все теснее нам в русле. И вдали слышен глухой и неотвратимый гул водопада…
8.06. Слетали во Львов. Все было хорошо, заходили на посадку, пробивая слоистую облачность, моросил дождик. Диспетчер наблюдал засветку за 50 км, мы ничего не видели. Заходил Леша; уже видна была полоса где-то с трех километров, как вдруг ударил ливень, пришлось включить дворники на полную и помогать Леше, потому что ветер резко изменился и нас потащило вправо. Но светлый прямоугольник полосы я видел и, несмотря на сдвиг ветра, лишь помогал Леше выдерживать курс. Трепало сильно, но старт ни о чем не предупреждал.
Метров с двадцати, уже перед самым торцом, дождь хлынул такой, что дворники не справлялись; полоса лишь угадывалась впереди. Я взял штурвал покрепче и приготовился сажать вслепую, т.е. по отсчету радиовысотомера, предварительно уменьшив вдвое вертикальную скорость.
От торца нас поддуло, и пришлось с 86 уменьшить режим до 80; скорость плясала у 290. Потом потащило вправо. Двойное движение: прикрыться креном, выровнять и прижать к полосе; нас все тащило, но я смутно различал лишь, что сядем чуть правее оси, и успел ухом уловить высоту три метра. Малый газ и… добрать бы чуть, но ведь утащит еще правее… Задержал штурвал, зная, что вертикальная уже небольшая: пусть скорее падает машина.
Мы упали метрах в десяти правее оси, покатились по воде, реверс… и выскочили на сухую полосу; дождь как обрезало. Перегрузка 1,5. Ну что: рабочая посадка. Лучше сработать не смогли – да и кто бы сработал лучше в так резко, внезапно осложнившейся ситуации. Мелькнула было мысль уйти на второй круг, но показаний, в общем, не было: положение машины до торца было посадочным, а что дождь – так я пилот первого класса. Вот и сел – грубо, но надежно. Может, именно вот так, «плотно» и рекомендует садиться в таких условиях Дэвис?
Обратно вез Надю с Оксаной. Ребенок лежал с температурой на свободном переднем ряду и дремал, а Надю я затащил в кабину, она с интересом прислушивалась и приглядывалась, тихая как мышь. Летели на 124-й; в Уфе заходил в идеальных условиях, частил с режимом, точно выдерживая скорость: был небольшой попутник. Попутник попутал Витю или еще что, но на метре, когда уже был поставлен малый газ и я собрался притереть машину, он вдруг без команды потянул на себя рукоятку интерцепторов. Я с сожалением, подхватывая штурвалом, успел сказать ему: «Зачем ты это делаешь?» – и мы грохнулись с перегрузкой 1,4. Ему, видите ли, показалось, что мы уже сели, а команды «Реверс», одновременно означающей и «Интерцепторы выпустить», все не было. Или же он побоялся, что с попутным ветром перелетим?
Короче, испортил посадку. Ошибку он понял и молча стал переживать. А мое воспитание ограничилось тем, что через день я выпилил из пластмассы, расчертил и подарил ему вечную палетку для записи времени пролета поворотных пунктов.
Дома заходили в Болтанку. Леша упирался, а в это время на исполнительном пыжился перед взлетом тяжелый Ил-76. Оборачивалось так, что мы сядем впритирку, лишь только он взлетит. После того как в Ташкенте струей на взлете перевернуло Як-40, нам ввели двухминутный интервал между взлетом и посадкой, но в данном случае, по-моему, двух минут не набиралось. Просто мы готовились, что нас потреплет. И верно: с сорока метров нас начало корчить; в это время Ил-76 уже выполнял первый разворот. Пришлось мне помочь Леше, но над торцом все успокоилось, и он вполне мастерски посадил машину.
А струя все-таки весьма чувствительна, особенно в штиль, и будь на нашем месте Як-40 или Ан-24, я бы им не позавидовал. Шутки тут плохи.
Мы как-то, взлетев из Благовещенска и взяв курс на Средне-Белую, в наборе разошлись со встречным однотипным по высоте, но в облаках влетели в его струю, так весьма неприятно, весьма.
10.06. Позавчера слетали в Норильск, идеальный полет. Дома проходил фронт, и взлетать в сильный ветер и болтанку я решил сам, а в Норильске предложил Леше сесть на знаменитый пупок. Ну, Леша и сел. Таких посадок – одна на миллион. Бежал-бежал на цыпочках, а мы не дыша ожидали: отойдет? не отойдет? Не отошла. Ну, спец!
Обратно я садился в болтанку, перегрузка 1,2.
Сегодня было партсобрание по итогам и задачам партучебы, потом разбор ЛО. Все то же.
Ну, о партучебе я еще не выстрадал путной мысли, нечего и писать. Честно – на хрен она нам вообще нужна. Мы все читаем газеты, но предпочитаем не вмешиваться в перестройку, а наблюдаем свысока, с небес, возню на грешной земле. Специфика. А изучать Маркса-Ленина…
Я сомневаюсь. И не только я. Нет убежденности. Что делать, нету. Трудно верить. Или веровать. Поневоле думаешь: наивны все ваши мечты, товарищи Маркс, Ленин, – наивны, рассчитаны прежде всего на сознание исстрадавшегося раба, обретшего свободу и увидевшего свет. А мы – ленивые, зажравшиеся, мы – его величество рабочий класс. Нет, тут что-то не то. Я сомневаюсь. Какой уж тут пропагандист из меня.
Но разве человек не должен сомневаться?
На разборе Медведев довел обстоятельства катастрофы Ту-134 в Берлине. Заходили при погоде, соответствующей минимуму (высота облаков была 60 м), на левую полосу, в автомате; и тут диспетчер предупредил экипаж, что правая полоса будет освещена для проверки огней. Белорусы, плохо кумекающие в английском, ничтоже сумняшеся отключили автомат, скоренько отвернули вправо и перестроились на правые маяки. Диспетчер их вернул на левую полосу – они опять перестроились на левую; торец между тем приближался. Но увлекшись этим баловством, они растеряли стрелки на глиссаде, раскачали машину и на высоте 120 метров, в облаках, решили доверить собирание стрелок автопилоту, включив автоматический заход при вертикальной 10 м/сек. Он их благополучно и убил. Комментарии излишни.
По Куйбышеву, кстати, был суд, из газет сведения, что экипаж виноватЮ, но судили одного командира (второй, к счастью своему, умер от сердечной недостаточности, вытаскивая пассажиров), а бортмеханик и штурман проходили как свидетели. Вроде бы командиру дали 15 лет. Повторяю: был бы жив второй пилот, я бы их собственноручно расстрелял. И механику впаял бы хороший срок, чтобы думал. Ну, штурман в своем собачьем ящике ничего не знал, он и вправду ни при чем.
У нас выруливал Ил-62, дунул слегка на павильон, железная дверь захлопнулась от струи и размазала человека насмерть. Ну кто тут виноват, что павильон стоит как раз напротив 2-й РД и, поворачивая на нее с перрона, надо газовать? И наивный посторонний человек, сопровождающий груз, решил перекурить за дверью, от ветерка.
А к командиру того Ил-76, что опрокинул нашу 417-ю, претензии: не осмотрел лично маршрут руления, как требует НПП, да еще отказался от предлагаемой буксировки и не выполнил команду техника на выключение двигателей.
Открываем НПП. «При необходимости (!) перед началом руления КВС должен лично осмотреть летное поле».
Ну и что бы он на нем увидел? Железный ряд? И в чем была необходимость? Он не видел необходимости и просто порулил, как все рулят.
Это казуистика: раз поставил машину буквой зю, значит, «была необходимость осмотреть лично». А как же? Виноват!
Гораздо хуже то, что он отказался от буксировки. Тут уж точно виноват: слишком самоуверен. А что техника не послушал – вообще разгильдяй. А я его еще защищал из пилотской солидарности…
Да, что бы с тобой ни случилось, вини прежде всего самого себя.
Шура Ш. в Краснодаре попал в ливневые осадки и слегка побил себе обтекатель радиолокатора. Задержка. Кто виноват? Булах летал расследовать.
Как ни старалась комиссия утопить экипаж, как ни сопоставляла схему засветок на тот период с маршрутом захода, вычерченном по записи МСРП, какие зацепки ни искала в радиосвязи, как ни пыталась найти хоть какое незаконное слово в записи внутрикабинных переговоров, ну хоть мат – ведь экипаж корячился в очень сложных условиях, в сумерках, среди засветок, меняя высоты, обходя грозы, аргументированно отказываясь от не успевающих за ситуацией рекомендаций диспетчера (обстановка менялась очень быстро), – как ни ловили на слове, но экипаж молчал как рыба, только команды, только по технологии. Не придраться.
Трудно представить, чтобы в трудной ситуации не вырвалось словцо у хирурга, у моряка или шофера; Леонов, будучи впервые в открытом космосе, матюком загнал в люк упиравшуюся кинокамеру, – а тут ни звука лишнего, только технология.
Скоро мы, и глядя неизбежной смерти в глаза, за секунду до гибели будем судорожно нажимать кнопку СПУ и бубнить стандартные слова на магнитофон.
Молчать надо, молчать крайние 40 минут полета, ни слова – только по технологии. Мы и это можем. Молодец, Шура! Отскочил.
16.06. Нет времени писать. Напряженка: дача, работа без выходных, ремонт дома, машина… По полетам все пока в норме. Так что пока заношу конспективно, чтоб не забыть. А будет время – опишу.
Отдал Солодуну на прочтение дневник, и жду с душевным трепетом его рецензию. Когда-то в Симферополе, взбешенный пассивностью ПДСП и непривычно сорвавшись по этой причине, он с сердцем бросил: эх, нашелся бы кто-то, описал бы все это… Вот и запали его слова мне в душу.
Что я там написал – конечно, эмоций и нытья много, но там все чистая правда, думаю, Вячеслав Васильевич поймет, согласится. Гениального там ничего, просто собраны факты, а куча фактов – семь тетрадей – должна по принципу капли, долбящей камень, вполне определенно надавить на чувствительные струны пилотской души.
Пока меня интересует реакция летчика. С Надей труднее, она жена пилота, лицо заинтересованное, причем, ревниво заинтересованное. Но ее мнение мне тоже очень важно. А там посмотрим… может и брошу, кому это интересно, нытьё.
Что такое сейчас МАП? Впечатление, что либо там отставание, как и везде, либо слишком велик крен в сторону соседей-красноармейцев. Скорее всего, первое: мафия знатных, нахватавшихся за годы застоя наград, премий, обставившихся ими.
Почему 15 лет не идет Як-42? И т.д.
Все валится. ПВО пропускает в Москву немецкий самолет. Кому верить, на что опираться? Коррупция, местничество, каждый хватает и тащит в свою нору, что только может, что успевает. Везде одно и то же: и в ПВО, и в МАПе…
Сплетня утверждает: когда в Карши упал самолет, Васин, испугавшись гнева господина маршала, уговорил Шишкина доложить вместо себя. Бугаев, в худших традициях древних самодержцев, приказал казнить гонца, принесшего худую весть: Шишкин слетел с кресла начальника Главной инспекции. А Васин отскочил. Организатор летной работы… В «Правде» Герасимов правильно критикует его: возглавив комиссию по расследованию, Васин, ничтоже сумняшеся, вопреки мнению девяти институтов и двух Генеральных конструкторов, запретил летать на 11100 и выше.
Так что я прав: и сейчас наши ограничения не научны, а придуманы Васиным. Каково понимать это… а надо ж выполнять.
Какова вообще цена указаний, поступающих нам сверху? Насколько они обоснованны? Слепо исполнять – душа не лежит, но кому дело до нашей души?
Как тогда можно рассуждать о любви к профессии летчика?
Как все сложно, непрямолинейно, как зыбки убеждения…
А все это в сумме и есть тот самый человеческий фактор, который в трудную минуту срабатывает соответственно убеждениям. Зыбки они, расплывчаты – будешь думать только о своей шкуре, пропадешь, погубишь людей. Спасет только убежденность, твердость духа, понимание сложности задачи спасения людей, любовь и жалость к этим людям.
17.06. ну что ж, время есть. Сначала – о коллегии МГА. Признали, что летная служба загнана в тупик, что завалена бумагами, а с безопасностью полетов не улучшается. Признали, что проблема присутствия в экипаже проверяющего не решена. Признали, что надо все менять и переходить на качественно новый уровень. Признали, что чинам нечего рассиживаться в министерских кабинетах, а надо ехать на места, в отряды.
Интересно: как только я приду к какому выводу, так тут же подтверждается жизнью. Это объясняется просто: у меня болит то же, что и у всех, и сейчас можно об этом говорить. И чем ни смелее, тем – в самую точку. И уже не отстать бы мне со своими предположениями.
Конечно, все это пока – слова. Но вначале было Слово…
Получением нового пилотского свидетельства через два года после Алма-Аты завершился в моем сознании долгий период – пресловутая черная полоса. Уже и мало кто помнит тот злосчастный бетоноукладчик, да и переднюю ногу 134-й в Сочи, и дебаты вокруг закрылков на 28 тоже. Я стал спокойнее ко всему этому относиться. Понял одно: мастер ты или не мастер, а становление командира корабля идет всю его летную жизнь; нет ничего постоянного, все балансирует и норовит скатиться вниз, стоит чуть отпустить вожжи.
Как трудно садились мы накануне дома на 134-й, я уже забыл: сирена почему-то включалась, гудела, в эфире какофония, гвалт в кабине, кругом в воздухе теснота, да еще сдвиг ветра… Ну, сели. Мало ли их, таких посадок.
В штурманской готовился на вылет на Алма-Ату экипаж Ил-18. И командир его, Валера Журбин, и штурман, Коля Винцевич, когда-то летали со мной радистами еще на Ил-14, пробились в большую авиацию. В Алма-Ате они были каждый по разу, еще на заре туманной юности, и я поделился своим богатым опытом.
Кажется, что такого, а вот вспомнил, как меня, зеленого еще, опекали, натаскивали, советовали, подсказывали, берегли. Единое наше летное братство, лучшие человеческие качества проявляются в этом. Нет у нас секретов друг от друга, все что имеем из опыта – на общий стол. Все – во имя Дела.
Когда хоронишь товарищей, горькие мысли не дают покоя, и болит сердце, что не подсказали, не предупредили, не уберегли, не спасли. А кое-кому в верхах кажется, что летчики все норовят нарушить. Во имя чего нарушать-то?
Нам, в большой авиации, нужно только одно. Чтоб был самолет, была погода, топливо и загрузка. И – по расписанию. Что я могу еще иметь с самолета? Ну, привезу себе ведро ягоды или коробку помидор. Но я не стану нарушать летные законы из-за помидор.
20.06. Слетали в Ростов. Спокойно, все удавалось. Немного поковырялись на тренажере: все то же, нулевой эффект. Но непривычно и лихо удался заход стандартным разворотом при пожаре двигателя: сели точно на ось, без всяких радиосредств, за три минуты. Пожалуй, к такой ситуации мы готовы. На земле получилось три минуты, значит, в воздухе, при реальном пожаре, аккурат уложимся в пять.
Кто сочинял расписание на этот год, я не знаю. Но оборачивается так, что едва 70 часов натянем, а ведь летаем без выходных. Пожалуй, продленку выполнить физически будет невозможно, не получается. А ведь с июля рейсов должны еще прибавить.
Сонных пассажиров везут сонные летчики… В Ростове жара за 30, влажно, и мы часов пять перед вылетом вращались на койках, наматывая на себя простыни.
Приходишь к выводу, что профилактории должны относиться не к отряду, на территории которого находятся, а как-то централизованно управляться и снабжаться. Вот в Сочи возвели, наконец, восьмиэтажное здание нового профилактория, номера со всеми удобствами. Душ наконец-то…
Ладно в Сочи – там жары-то не бывает, ветерок. Но в Ташкенте – с ума сойти, равно как и в Ростове, Одессе, Запорожье, Владивостоке, Краснодаре и других южных городах. Но кому это надо? Только нам, переменному составу.
Нам говорят: и чего бы вам еще выходные летом просить. По трое суток отдыхаете там, в рейсах.
Да если бы я отдыхал там в нормальных условиях, то, верно, не надо и выходных, и семьи наши давно с этим смирились.
Или кондиционер – роскошь? По крайней мере, у наших «отцов» в кабинетах они есть.
И все же – будут, будут кондиционеры, и души будут в каждом номере, и туалеты, и шум будет поглощаться, и будут экипажи спать перед ночным вылетом легким и крепким сном, и когда я услышу, что захрапели все, с легким сердцем усну и сам.
Конечно, Каминский, читая эти строки, только усмехнулся бы. Он на Р-5 на Чукотке мечтал немного о другом. Но Крякутный тоже мечтал о другом. Времена меняются, требования тоже. Мы летаем не на Р-5, и возим за спиной сотни людей, и доходы приносим не такие. Неужели мы не заработали себе на кондиционер?
23.06. Слетали мы на Одессу спокойно. Обратно шли на 124-й, и начала она нам давать вводные. То у нее не загорается табло «Исправность АБСУ», а на пульте все нормально высвечивается. То локатор начинает показывать какие-то циркульные пилы вместо окружностей. А в Донецке на взлете вдруг не погасла красная лампочка правой ноги при уборке шасси. Тут скорость нарастает (взлетали на взлетном режиме: хоть и вес небольшой, а жара), пора закрылки убирать, я деру вверх, чтобы не выскочить за ограничения, тут этот доклад о неубравшейся ноге… калейдоскоп мыслей: нога… гидросистема? Закрылки убирать? Подождать? Высота растет, уже круг, 500 метров… убрать режим… нет, закрылки в первую очередь… Леша кричит «Скорость!» Дал команду на уборку, скорость плясала на 355-360, а ограничение на этой заразе – 340! Тут же команду: «75 режим!» Скорость под 400, нога не убрана, ограничение по шасси… да и высота круга… доложить земле?
И тут лампочка, наконец, погасла: нога на замке. Номинал… спина мокрая, пошли в набор. Все нормально, короткие реплики, кто что заметил, намного ли скорость выскочила за ограничение по времени.
Ну, отписались, как водится, сдвигом ветра.
Но вывод: случись что серьезное – выхода за ограничения не избежать, не хватит на все внимания, особенно на 124-й и 134-й.
В Казани следили: нога убралась сразу. Сволочь. Зато на рулении встали на ноль обороты КНД 2-го двигателя. Явно отказал прибор: тон двигателя не изменился, дали газу – параметры в норме. Валера заглянул в талмуд: на МСРП не пишется. Я решил взлетать и идти домой: благо, мои тахометры работают. На взлете работа прибора восстановилась. Видимо, контакт где-то барахлит.
И перед посадкой вдруг загорелось-таки зеленое табло «Исправность АБСУ». Короче, кроссворды-ребусы. Записали все.
Но как здорово помогает автопилот – мы им упиваемся и используем на всю катушку. Спасибо Волкову: восстановил статус кво.
А закрылки надо убирать в первую очередь, несмотря ни на что, нечего тут сомневаться.
Вот они, главные мысли пилота в хотя бы чуть усложнившейся ситуации: нарушил? не нарушил? Не дело, не реалии, а – выпорют ли?
30.06.Только смотались в Ташкент, привезли домой фруктов, набегавшись по рынкам, – как через день из резерва снова подняли на Ташкент. Правда, пропал завтрашний Благовещенск – рейс, во всех отношениях лучше: и проще, и дороже стоит, и с разворотом, один день, и сметана там знатная. Но налет один и тот же, все равно 70 часов в этом месяце. Да и не откажешься же. Ну, рейс отдыха: ни тренажера не надо, ни коробок, с пустыми руками. На озере денек позагорать.
В жару, когда полоса держит, не дает мягко сесть, все приземляются грубовато; я наблюдал, когда заруливал после своей посадки. Машины висят на прямой одна за другой. Давит ее пилот, давит, тычет мордой в полосу, а она вихляется, выворачивается, гуляют кренчики, скорость падает, и, в конце концов, лапти хлопают, отскакивают и снова хлопают о бетон. Редко, очень редко удается унюхать. Жара…
В Ташкенте в тот день было 40 градусов. Позагорали, поплавали в грязной и отвратительно-теплой воде, поели шашлыков, послушали в парке духовой оркестр, все хорошо.
Утром приехали на вылет, посадили пассажиров… отбой. Задержка до вечера: ждать группу пассажиров из Ферганы, а их рейс задерживался поздним прибытием самолета.
Ждать надо было часа четыре. Ехать обратно в Сергели, в прохладный профилакторий с централизованным отоплением, долго и далеко. Решили переждать в комнате отдыха, там два кондиционера, телевизор. С утра припекало: уже 36.
Что такое жара для сибиряка? Конечно, не смерть. Накануне я всем посоветовал терпеть, не пить. Главное – не попить первый раз: потом не остановишься, будет лишь хуже, весь мокрый… Сам я продержался на озере. Ну, а здесь, набегавшись по жаре, уже усадив пассажиров, мы в самолете позволили себе по стакану-другому горяченькой минводы… и тут эта задержка.
Мокрые и осоловелые, задремали мы на клеенчатых диванах в комнате отдыха. Но тут вошла тетя-хозяйка и подняла нас, а то придет врач, будет ругаться: лежать нельзя, разуваться нельзя. Можно спать только сидя.
Ладно, осталось два часа, уже самолет сел в Фергане, скоро вылетит, привезет наш стройотряд. Потерпим.
Ну, подняли нас, самолет вылетел, через 20 минут будет здесь. Я отправил всех в санчасть, соседняя дверь. Хоть еще и не прошло 6 часов с момента медконтроля в Сергелях, но мало ли что, может, еще задержат; для порядку надо пройти медосмотр повторно.
Две тети-врача заставили девчат топать на самолет за медицинскими книжками. Я попытался уговорить: зачем гнать девчат, в колготках и на шпильках, туда-сюда две версты, – мы же проходили контроль, вон, еще срок не вышел… Но бесполезно. Взбесился, выскочил, зашел в АДП, пожаловался диспетчерам, и девчата мне подписали задание без медконтроля: старый-то штамп из профилактория в задании есть, а эти… короче, действиям представительниц самой гуманной профессии были выданы не очень лестные, но вполне ими заслуженные характеристики.
Вот и весь инцидент. Но какая стена! Эх, сволочи одни кругом, столько их окопалось, что хоть в лепешку расшибись об их сжатые жопой губы. Да если по инструкции – они и в гроб загонят. Ненавижу их, но сам таким не буду.
А девчатам из АДП – спасибо.
Взлетали при плюс 37 – предельной температуре для нашего веса. Оторвались, по три метра в секунду ползли вверх. Не дай бог, откажи двигатель… По теории, именно в этих условиях, с этим весом, – как раз и обеспечится на двух работающих моторах тот самый безопасный градиент набора 2,7 процента: на сто метров пути – 2,7 метра подъема.
Нет, не обеспечится он. Вот сейчас, на трех, работающих на взлетном режиме, мы проходим в секунду сто метров и набираем три метра высоты. А на двух – едва ли пойдем в горизонте, без снижения.
Не лезла машина. Да еще на 150 м давали сдвиг ветра с попутной составляющей, и мы еле-еле в горизонте разогнали машину до 350, чтобы хоть до 15 убрать закрылки. Потом пошло легче.
Остыли немного аж за Балхашом, через полтора часа, но рубахи долго еще были мокрые.
2.07. Работа идет своим чередом, а мысли – своим. Прочитал «Плаху», приобретенную в Ташкенте у спекулянтки за 11 рэ. Увидел книгу в ряду разложенных на бордюрном камне «Анжелик», затрясся, но для порядку вроде бы поторговался, и тетка как-то удивительно легко сбросила рупь. Да и что тут цена, что рубли… денег, правда, было с собой в обрез.
Прочитал в два приема, запоем.
Две ясных мысли. Одна: проклятье Земле – человек. Нет, определенно ему путь – вымереть.
И другая: как же так. Хоть капитализм, хоть социализм, а нравственного стержня, какой человеку давала вера, ни одна из этих систем не дает. И человек в массе своей – обыватель и живет сиюминутным.
Как разум на Земле – аномалия, неизбежно ведущая к уничтожению мира, так и гуманизм среди людей разумных – такая же аномалия, отвергаемая здравым смыслом стада.
Наркотики разрушают душу, разум, личность. Но разуму всегда, во все времена, посему-то необходимо было временно забыться. От самого себя разум устает, каким бы он ни был. И не в социальных тут причинах дело. Даже самый идеальный – по Христовым ли или, там, по коммунистическим (?) меркам человек, – а идет иной раз в лес, на природу, чтобы забыться, надышаться ею, одуреть, обалдеть.
Ну и что?
Да ничего, сентенции, сомнительные весьма. Это надо еще переварить, записываю просто, чтобы не забыть.
Почему животному можно жить, следуя лишь инстинктам, – и жизнь его гармонична, а гомо сапиенс должен постоянно укрощать в себе все инстинкты, постоянно душить себя железной уздой, ломать, вгонять в рамки, насиловать свою природу? Тут любой устанет, потянется к кайфу и балдежу. Но отпусти вожжи – разум быстро гаснет, и через небольшой срок перед тобой – скот, наделенный разумом лишь в самых подлых, низменных его проявлениях: тщеславии, самодовольстве, зависти, ревности, властности.
Нет, все же человек – тупиковая ветвь, нелогичная, против природы.
Но раз я принадлежу к таковой породе, то уж надо стремиться. Ломать себя, насиловать. Жить надо, не думая, зачем это, а просто дышать. Но раз нас много, надо придерживаться норм этого самого существования. А кайф ловить – от мягких посадок. Это ж надо такую работу иметь!
Инстинкты есть, прорываются. Наблюдая очередь за «красиньким», глядя в эти тупые скотские глаза, слушая эти бессвязные грязные речи, видя эти неуклюжие поползновения… эх, взять бы пулемет…
Но жизнь человеческая самоценна. Его жизнь! Независимо от того, человек он, личность или скот. У тебя свой путь, у него свой.
Правда, мы плодим и всю жизнь кормим миллионы уродов, дебилов и т.п. Не вижу смысла в содержании на шее общества миллионов бесполезных неразумных живых существ. Это – гуманизм? Может, избавиться от них?
А ты у их матерей спроси.
Кто и по каким критериям оценит степень ущербности человека и кто возьмется исполнить приговор? Где грань?
Вернемся к опыту Спарты? Да, где-то и сейчас есть племена, где новорожденного, не вписывающегося в какие-то критерии, обязана умертвить сама мать. Для общества, для этого племени, это гуманно. А для матери?
Нынешний пример. У ребенка оказалось по шесть пальцев на руках. Родители, цивилизованные гомы сапиенсы, в ужасе, – и отказались. Вот таких сволочей как воспитывать? А другая семья забрала ребеночка, воспитала, сделали операцию, сейчас ребенок играет на пианино. Что за люди такие, откуда они берутся?
Мыслей таких много, много вопросов, на которые нет ответа. Прочитанная книга обращает мысль внутрь себя, и именно в эту сторону бытия.
Но почему я должен покупать такую книгу у спекулянта?
А работа идет своим чередом. Вчера в Норильске Леша снова блеснул мастерством и неслышно, невесомо, полировал колеса о бетон полосы. Витя при этом потихоньку догружал стойки плавным выпуском интерцепторов; я же наслаждался редкостным сочетанием благоприятных факторов и мастерства экипажа, а сам осторожно опускал переднюю ногу, следя, чтобы, плюс ко всему, и ось полосы неслась нам строго между ног.
Потом, на обратном пути, сам заходил ночью и сумел примостить машину на нашу многогрешную полосу в пределах тех возможностей, которые она смогла нам позволить.
Ехал домой по пустой ночной дороге, с запада на восток, из ночи в бледную зарю, со спокойным и усталым ощущением, что недаром живу. И вымирать что-то не хотелось.
Общественная жизнь бушует. Все то, что наболело, все то, о чем мечталось, обретает зримые черты; все проясняется; проходят пленумы, принимаются законы, развязываются руки, загораются глаза. И все – быстро, быстрее, чем успевает переварить разум, но ждать некогда.
И только я как себе летал, так себе и летаю, и ничего не меняется.
Ну, принят пресловутый Закон о предприятии, основной документ перестройки. Как его ни ладь к себе – не налазит, не подходит, жмет, да и вообще непонятно, где рукава, а где ширинка.
Нужны талмудисты, их у нас легион, тем и кормятся. Если верить этому Закону, то их-то, интерпретаторов-то, как раз и под зад. Ну, посмотрим, как зашевелится наше ведомство, как прилепит к себе эту новую, красивую и пока непонятную… инструкцию. Надо полагать, в течение оставшегося полугодия все причешется, и у нас сумеют впрячь в одну телегу Устав и демократию… и кресла свои сберегут.
Интересно и о ценах. Если реформа цен увяжется с социальной справедливостью (еще как ее понимать, эту самую справедливость), то как это отразится на высокооплачиваемых категориях? Я понимаю, конечно, что если мясо стоит 4 рэ, а едят его все (или хотят все), то я-то себе куплю, а пенсионер? уборщица? Если ей продавать подешевле, то за чей счет? Но во всяком случае, мне дешевле не продадут.
По моему разумению, цены, деньги и все, что с ними связано, должны отражать правильно лишь одно: труд, отдачу. Не килограммометры, конечно, а именно, отдачу. Мне плевать, какие там термины, нюансы, что явится посредником между моей отдачей обществу и моими запросами к обществу, но я даю достаточно много, и более очень и очень многих, чтобы не стоять в очереди за куском. Это не самодовольство, не гордыня, не бравада, не выпячивание. А это – мое реальное место в жизни. Статус кво. Так есть. Мне ведь много не надо.
5.07. Владивосток. В новой эскадрилье как-то так обернулось, что нас ставят все больше на западные рейсы, да Норильск еще. А мы-то больше привыкли к Благовещенскам и Владивостокам, да и Камчатка мне ближе к душе, чем, к примеру, Краснодар. Ну, а сейчас все наоборот. И мы выпросили этот Владик просто так, для отдыха.
Попалась 134-я машина, но все на ней работало хорошо, и ограничения почти не мешали. В Чите садились с посадочной массой 80 т; все удалось. Взлетали оттуда по новой схеме: с высоты 100 м отворот влево от препятствий и на 260 м уборка закрылков. Это дает возможность взлетать с полной взлетной массой, а раньше в этих условиях не проходило больше 92-93 т из-за пресловутого градиента набора при отказе двигателя. Все же кто-то в министерстве немножко думает головой.
И все же в министерстве кто-то думает головой в другую сторону.
Раньше время, указанное в расписании, было временем взлета. Потом начались изменения, пошли указания, и наступила такая путаница, в результате которой в разных аэропортах стали разрешать запуск где за 11 минут до взлета, а где за 5. Страдает престиж Аэрофлота.
Мы привыкли рассчитывать подготовку экипажа и запуск так, чтобы с учетом всех факторов взлетать точно по расписанию. А теперь время, указанное в билете, министерские чиновники объявили временем начала движения. Стронулся со стоянки по расписанию, а взлет – уж как придется. Пассажиры ворчат: уж этот хваленый Аэрофлот – хоть на пять минут, а задержит. Пассажир по-старому разумно ожидает, что взлет будет в то время, что указано в билете. Короче, бардак.
И вот взлетаем из Читы: слава богу, запуск разрешили за 11 минут, взлетели, как всегда, точно. Владик обещает туман, а впереди нас, на полдороги, слева влез московский Ил-62 и повис на нашем эшелоне 11100. Между нами 70 км, догоняем с разницей скоростей 70 км/час, значит, обгоним через час с небольшим. Идет он тоже во Владик, тоже торопится, потому что видимость там уже 2000, и все условия для тумана уже есть: влажность 100 процентов и температура равна точке росы.
Надо обогнать и успеть создать интервал, иначе на заходе будем мешать друг другу. От Хабаровска нам занимать встречный эшелон 10600 или 11600: смена направления трассы. Положено занять этот эшелон за 20 км до Хабаровска. Ну, ясно, нам повыше, ему пониже.
Дальше по трассе фронтальные грозы. Ил-62 попросил эшелон 11600; мы следом за ним тоже полезли вверх. Затянули газы, чтобы не догонять, повисли на М=0.79, удалось сохранить интервал 30 км.
Встречный борт дал ветерок от Владика до Хабаровска: нам в лоб. Если уж обгонять, то нам лучше вылезти вверх, выше ветра, а ему пониже; тогда мы сумеем и уйти вперед, и обеспечить ему интервал за нами, а значит, сможем снижаться на посадку с пересечением его высоты.
У Ил-62 были те же заботы о грозах, да еще, впридачу, идя из Москвы, он, видимо, пережег топливо и полез вверх, где расход поменьше.
Интервал сокращался; пришлось нырять на 10600, матеря себя за неосмотрительность: время потеряно, и нам предстояло за 40 минут, извернувшись между гроз, обогнать его низом или хотя бы просто догнать, чтобы уж наверняка нас снижали первыми. Владик давал уже 1500 и нижний край 100 м.
Внизу дул встречный ветерок 120 км/час, и мы, выжав из машины предельное М=0,88, еле-еле догоняли лайнер. Ил-62 висел над нами и удивлялся, что мы не хотим уйти вперед; а мы не могли.
Диспетчер Владика начал гомеопатическими мерами оттягивать его назад, а нас заставил чуть подрезать на повороте, но шерсть, как известно, кое-чему не защита; у москвича пробил час снижения, а нам было еще не к спеху, но пришлось за 200 км начать освобождать ему эшелоны. Снижались на газу, выжимая предельную приборную скорость 600 и ожидая, что вот-вот рявкнет сирена. Владивосток дал нижний край 90 м.
Только окунувшись вслед за нами во встречную струю, москвичи стали катастрофически отставать: 10, 20, 30 км, – а мы мчались к полосе и молили бога, чтобы не закрылось, пока не сядем. Москвичи неслись вслед за нами, моля о том же.
Полоса была покрыта слоем воды до 5 мм, погода близка к минимуму, и я забрал управление. На 120 м фары уперлись в туман, но мы этого ожидали и выключили носовые. С 90 м я заметил огни подхода; глиссада гуляла, менялся ветер, но в целом без особого труда я вышел на торец чуть выше и жал машину вниз с чуть большей вертикальной. Леша дважды предупредил о крутом снижении, и я с 20 м начал уменьшать угол; расстояние до бетона размазывалось в бликах и дымке, крыльевые фары не помогали, но Витя четко читал высоту по РВ-5, и я, заранее выровняв на пяти метрах, с его помощью подкрался к полосе, плавно убрал газ и мягко сел.
Старт спросил нижний край, мы дали 90 м, хотя, честно, было 70, а минимум там – 80. Пусть люди зайдут и сядут за нами. И они сели, и порт закрылся: туман 500.
Если бы мы взлетели из Читы на те пять несчастных минут позже, то догнали бы Ил-62 как раз перед снижением, отстать бы не сумели, пришлось бы выходить на привод и крутить длиннющий чемодан, – и ушли бы на Хабаровск.
Как ни странно, во Владике не жарко, комаров нет; мы полдня загорали на речушке в лесу, потом полдня спали и, как уже проверено, за 3 часа до подъема проснулись. Я нашел укромный уголок и пишу.
Плохо, что у нас на всю страну один Аэрофлот. Монополия, что хочу, то и ворочу. Было бы две конкурирующих фирмы – а такой курс, кстати, перестройка приветствует, – вот тогда бы повертелись. Ведь во всем мире так. А то наши предприятия разбрасываются. У нас в отряде: Ил-62, Ил-76, Ту-154, Ан-26, Як-40, Л-410, Ан-2, Ми-8, Ми-2.
Нет, надо изучать и применять лучшее из зарубежного опыта. А мы, пилоты, даже не знаем тактико-технических данных зарубежных самолетов. Стыдно, наверное, публиковать, сравнивать.
Вообще, за два последних года, при Горбачеве, я многое узнал и на многое взглянул другими глазами. Хваленое, почивающее на лаврах государство развитого социализма оказалось колоссом на глиняных ногах. Экономика – на грани кризиса – это у нас-то! Нижайшая производительность, самообман. Ну, о наших пороках, которые социализму не свойственны – нет, мол, социальных условий, – их-то предостаточно… Что там говорить.
Когда немец сел в Москве, а ПВО прохлопало ушами, Горбачев с высокой трибуны пытался уверить в том, что ни у кого не должно быть ни малейшего сомнения в нашей обороноспособности. Вот тут мне за него стало стыдно. Молчал бы уж.
Лет восемь назад важивали мы самолетом в Воздвиженку новобранцев, как это стало модно в последние годы: в теплушках дешево, но несовременно, а на лайнерах в самый раз – денег министерство обороны не считает.
И вот приземлились мы в чистом поле на боевой аэродром. Зарулили на стоянку. Три подозрительного вида личности в драных, грязных, неопределенного цвета комбезах, руками подкатили битый-правленый трап, чуть не побив нам при этом крыло; бортинженер матюками успел их остановить. Рядом прохаживался, куря, часовой с автоматом за спиной, в расстегнутом до пупа комбинезоне и гражданских запыленных туфлях.
Если еще учесть, что сопровождающим с солдатиками летел у нас в кабине временно списанный по здоровью штурман-старлей с забинтованной рукой, что только с его лоцманской помощью мы визуально вышли на точку, потому что радиосредства нам не удосужились включить, и что в эфире толкали друг дружку языками какие-то «Нарвик», «Щедрый» и «Марципан», намертво заблокировав нам связь, – этот часовой был уж последним мазком, завершающим цельность картины.
По традиции посетив расположенный на территории продовольственный ларек и убедившись, что в нем, как и везде, пусто, мы быстренько заправились, запустились (слава богу, хоть заправка и старт работали) и взлетели в чуждое пространство, где нас никто не ждал. Продирались в эфире сквозь гвалт Нарвиков и Марципанов, отрабатывали по команде со Щедрыми и Добрыми, но так и не добились от них ответа; выскочили, наконец, на трассу, и только установив связь с родным аэрофлотовским Владивостоком, почувствовали себя в относительной безопасности и полезли вверх с одним желанием, выраженным словами командира: «Уё…вать отсюда скорее, пока не убили!»
И я подумал: а не дай бог, война? Да никто и не поймет ничего толком. А ведь это – Госграница! Ну, защитнички…
Я свято, твердо уверен: в тот момент, в то время, – они бы не защитили. А вот – чтоб подметено было! Да только часовой этот… с сигаркой…
Разговаривая с бывшими красноармейцами, и сейчас убеждаюсь: происшествие с немцем – закономерность, а не случай.
Да и понятно: с чего бы в запущенном экономически и распущенном морально государстве быть железной, дисциплинированной армии. Нет, закон един для всех. Плохо везде.
Но жить надо. Партия как-то шевелится, по крайней мере, в верхах. Низы ожидают перемен, когда же верха начнут с себя и дадут пинка.
А я стараюсь честно работать, но не потому, что – партия, а из уважения к себе и из любви к делу. В конце концов, я эту партию кормлю, как вот в «Плахе» герой говорит парторгу: «Я же тебя кормлю, а не ты меня».
7.07. Обратно летел Леша. Я слишком много в последнее время отбирал у него штурвал, и надо было восстановить справедливость. Поэтому в Чите, против обыкновения, садился второй пилот – явление в Чите редкостное.
Надо отдать должное: старый волчара землю нюхает лучше меня, и лучше многих. Сел он для гарантии на газочке, как и положено в Чите; но как сел! Ах, как он сел!
Да. Если оглянуться на наши летные судьбы, на их пути, переплетения и изгибы, то вырисовывается некий образ реки. Как в пустыне: течет, вьется, теряет воду то на поля, то на испарение, а то и вовсе уходит в песок, – но самая струя все же доходит до моря.
Так и наш брат-летчик. Кто застрял на Ан-2 на химии; у кого сдало здоровье; кто без перспектив пригрелся и пашет в своем захолустье на Як-40 или Ан-24; кого кинули; кто пропил себя; кому не повезло по службе; а кто и погиб…
И вот, дожив до седин, вырастив детей, а кто и нянча уже внучат, – дотекает самая выносливая струя до желанной цели: до лайнера. Да только у иных рога уже пообломаны об острые углы, запал не тот, здоровьишко на пределе, сил осталось мало… А опыт – бесценный наш опыт и мастерство – есть. И вот оседают старики вторыми пилотами. Чуждо им тщеславие, не нужны уже дубы на козырьке, хватает и заработка. Еще бы годик-два… ну, три-пять… пока не спишут. Подержаться за штурвал. А иным уже и штурвала не надо. Как те гоголевские седые запорожцы у общего костра… А случись что в полете – соберутся с силами, кучей, экипажем, как-то перемогут невзгоду… не лишний человек второй пилот в экипаже.
В сорок лет еще можно мечтать о левом кресле; в сорок пять – практически овчинка не стоит вычинки; в пятьдесят – долетывают, где застала судьба.
Таких уже заставлять, понужать, а тем более, воспитывать, – не надо. Они тянут свою лямку привычно и надежно. Ворчат, характеры показывают, уже старческие признаки налицо, причуды… но это – до штурвала. А уж за штурвалом-то себя и покажут: знай, мол, наших.
И уж совсем неприемлем в нашей аэрофлотской среде армейский девиз: «твое дело правое – не мешай левому». У нас совсем другие методы работы и взаимодействия в полете.
Не перехвалить бы Лешу. Но уже столько мы с ним работаем, а грех обижаться: надежнейший пилот.
Есть, конечно, и недостатки: в директоре запаздывает, на прямой по курсу гуляет, – но к торцу у него обычно все в норме.
Однако же, заходя нынче дома, умудрился выползать на ось справа до самого торца, выполз, но кренчик оставил и сел со сносом, почувствовалось. Я не преминул это отметить, и он спокойно согласился. Бывает.
Завтра рано лететь в Краснодар через Норильск; приехал на ранний вылет в гостиницу. Надо ложиться.
8.07. Норильск. Обида: мальчик-диспетчер угнал на 2-й круг. Заходили с курсом 14 с прямой: на удалении 15 км высота была 900, скорость 400, шасси выпущены, мы спокойно снижались. По 7 м/сек потерять 400 метров высоты – это 56 секунд. За это время пройдем 4,5 км, успеем выпустить механизацию. Точка входа в глиссаду – за 10500 м от торца. Мальчик считать не умеет, задергался, угнал.
Ну что ж, я сам виноват, что снижался на пределе и дал повод диспетчеру засомневаться. Но на его месте я спросил бы у экипажа: не высоковато ли идете, ребята? Он же не летает, он – все по инструкции. А мы ж хотели красиво, на малом газе до глиссады дойти, мы все отрабатываем экономичный заход.
Да ерунда все это, надо кончать эксперименты, заходить, как Кузьма Григорьевич, с соли-идным запасом. А когда припечет – зайдем и на острие ножа.
Но чувство обиды, как будто в душу наплевали, глодало нас всю предполетную подготовку в Норильске. И ведь смена кончилась, мальчик тот уехал домой, с чувством, что предотвратил предпосылку.
Вот такие мальчики сейчас сидят на своих местах и тормозят, тормозят… А наивные люди в газетке советуют: проявляй инициативу в пределах допусков. Вот наглядный пример: все было на пределе допуска, а тонна вылетела в трубу. И вся инициатива обгажена.
Сам виноват, сам.
10.07. Слетали в Краснодар через Норильск-Уфу; обратно через Оренбург. Рейс отдыха. 12 часов проспали в гостинице под шорох мелкого дождичка (это летом-то в Краснодаре!) – и назад.
Сейчас уже в Москве. 10 июля, вечер. Обходили грозы лишних 10 минут, сели с остатком 5 тонн; приземление мне удалось исключительно мягкое, как и у Леши. И все перипетии посадки пассажиров дома, с нервотрепкой и неразберихой, ушли в дальний угол памяти. Лето есть лето, всем надо улететь, везде напряженка. Пик.
11.07. Авиация еще ждет своего художника. Все то, что мельком, в перерыве между очередью у стойки регистрации, духотой в накопителе, толкотней у трапа и жарой в салоне, страхом и тошнотой от болтанки и перепадов давления, жалким куском дохлой курицы, ожиданием у туалета и выходом в совсем иной, резко и непривычно приблизившийся мир другого аэропорта, – все то, что в промежутках между всей этой суетой успеет заметить в окошко замордованный пассажир, вряд ли вызовет у него заметные эстетические переживания. Ну, ускорения, ну, облака, тучи, ну, гул, тряска, страх, земля косо встала… ну, солнце взошло. Да только, к слову, во время восхода солнца измученные пассажиры все спят.
Вот я и говорю: им ли описывать красоты воздушного путешествия.
Но и мне, уж повидавшему всяких прелестей и красот небесных, в полете чаще не до них. Еще Сент-Экзюпери хорошо сказал о том, как ему видятся те прекрасные облака, которыми так восторгается наивный пассажир.
Нет, авиация еще ждет своего художника: художника-пилота и никого другого. Потому что лишь пилот глядит вперед, и все видит, и видит много, и наблюдает вроде бы одни и те же, так похожие друг на друга и такие разные картины и явления. Только вот восприятие и оценка их колеблются от «здорово как» до «подальше-подальше», с обязательным добавлением непечатного эпитета.
Тонкая полоска, полупрозрачная дымчатая вуаль на горизонте, рассекающая надвое потускневший остывающий диск заходящего солнца, вполне определенно может обещать тропопаузу и болтанку в ней, и не открутишься, потому что единственный разрешенный Васиным эшелон на Москву – 10600; километром ниже, на 9600, ветер в нюх сильнее, расход больше, не долетишь; а залезть на 11600 теперь не позволяет новая таблица в РЛЭ. И как же тут, в красоте этой, искренне не выматерить от всей души человека, за то, что урезал полетные веса на 10-15 тонн, урезал ничтоже сумняшеся, – и вот болтаемся всю дорогу в тропопаузе, или как говорит Валера, в «трепаной паузе».
Какая тут, к черту, красота. А ведь вперед посмотреть – красиво набегает волнами эта, мать бы ее, чуть заметная голубая вуаль: то ниже чуть пойдет, и тогда впереди под нею просвечивает рельефная тускло-красная верхушка светила, а самолет несется как бы над водной гладью – какой эффект движения! А то пелена стелется выше и так же стремительно проносится над головой, хоть пригибайся. Но и болтает! Всю душу до печенок вытрясет, а куда денешься. Мы-то еще терпим, подпрыгивая в креслах, а каково девчонкам в салоне людей кормить, балансировать.
И уж когда дождешься, выработаешь топливо, полезешь вверх, махом пронзив и оставив внизу растворившуюся в пространстве вуаль дымки, – как красивы уходящие вниз вершины кучевки, подсвеченные в разрывах последними лучами, снизу оранжево-розовые, а сверху иссиня-серые… нет, авиация все ждет и никак не дождется своего певца. Да только до красот ли: ветер наверху уже изменился, ничего и не выгадали, единственно, расход стал чуть поменьше. И думаешь, как же его и дотянуть, и сохранить остаток 6 тонн.
Или когда долго трясешься в отростках грозовой наковальни, извращаясь в облаках межу засветками, – и вдруг выскакиваешь и повисаешь в ослепительной пустоте, а сбоку и сзади – отвесные, темные до черноты, уходящие в немыслимую глубину, клубящиеся столбы, стены, башни, бастионы, подсвеченные тонким лучом громады, – и удивляешься, через что пролез…
Бесконечно жаль только, что летная профессия требует все более четких, жестких, строгих рамок характера. Ну кому нынче нужен пилот-романтик, любующийся, понимающий красоту, да еще и умеющий и желающий донести свои впечатления до широкого читателя… Тут бы с безопасностью полета управиться. Критерии жестки, не до красот.
Оно-то так. Но кто тогда заронит в молодую душу искру авиационной романтики? Может, красивая форма? Заработки? Пенсия? Или круглый зад проводницы?
Да кому она нужна нынче, эта романтика. Свято место пусто не бывает. Экологическая ниша все равно заполнится, а уж кто сунулся сюда всерьез – сразу затянет в шестерни, не вырвешься, пока не прокатит весь круг по зубьям, а там уж как-то привычнее прилипаешь своими вмятинами – попробуй-ка брось и начни жизнь сначала, на земле.
Мне как-то проще. Жаль только, таланту бог не дал описывать красиво; могу только фиксировать. Но красоту чувствую, только вот чувство это двоякое, как у любого специалиста. Если грубо: врач ведь, осматривая тело девушки, чувствует ее красоту, но ведь он ищет в этом красивом теле признаки болезни. Главное – дело.
Готовимся к взлету в Краснодаре. Туман, явно ощутимыми и даже поддающимися расчету волнами, натекает со стороны водохранилища на полосу, сплющенное солнце красной ковригой чуть выглядывает сверху него; самая пора для тумана. И по закону подлости нас задерживают долгой посадкой пассажиров. Тут, понимаешь, дела, не до красот, одни нервы… а ведь красота-то какая!
Взлетаем, пробивая тонкий слой тумана, уходим вверх, и солнце набирает силу с каждой секундой, с каждым десятком метров высоты. Уходит вниз земля, прикрытая непрозрачным покрывалом; сначала, в косом солнечном освещении, сквозь туман лишь просвечивают верхушки деревьев и крыши домов; потом молоко, налитое в очерченные лесополосами прямоугольники полей, разбавляется зеленью; с двухсот метров заметна лишь дымка, – но мы-то знаем цену и опасность ее. А красиво. Но не дай бог пожара на борту – сесть-то некуда, особенно, когда уже далеко отошел от спасительной полосы аэродрома. Обманчивое молоко тумана сгущается и скрывает под собой провода ЛЭП, овраги, дороги, каналы, заборы, брустверы. Пробивая тонкий слой приземного тумана по косой линии, будешь слеп, беспомощен, и надеяться придется лишь на судьбу.
Поэтому авиации нужны не художники, а практичные, деловые, в меру ограниченные, без лишних эмоций, узкие спецы. Как, впрочем, и в любом другом серьезном современном деле. А художества – собственно говоря, это тоже дело серьезное, тут нужны другие специалисты, с иными чертами характера: обнаженность, ранимость души, нервность, рефлексия, интеллект, глубина мышления, утонченная эмоциональность. Это все очень далеко от штурвала, неизмеримо, на другом полюсе.
Поэтому авиация не дождется своего художника.
Недавно читал об одном боксере… и поэте одновременно. Я знавал боксеров: был грех, сам в молодости изучал это дело, тренер у меня был. Поэтому и говорю: боксер-поэт… смешно. Может, упомянутый человек несчастен: разрываться между двумя любимыми противоположностями…
Мне ведь тоже нелегко: летать и пытаться жить духовной жизнью. Первое определенно «привуалирует над вторым», душит. За двадцать лет я преуспел в полетах, но явно деградирую в духовном. Изъясняешься, в основном, русским разговорным матом (белой вороной быть не хочу, а главное, привык!), мышление прагматично, отрывисто, поверхностно, сиюминутно и прямолинейно. Думать устаю, больше соображаю. Мне становится комфортно быть пилотягой. Через пять лет мне уже не нужно будет писать. А ведь писанина – единственное, что не даст мне опуститься на пенсии.
15.07. Киев. Одурев за два дня от сумасшедшего зноя (+30 в Красноярске хуже, чем 40 в Ташкенте), вырвались, выскреблись в жидком жарком воздухе на эшелон, врубили все вентиляторы и, все мокрые, жадно глотали бутылками сок и лимонад.
Началась проверка по самолетовождению. Проверяющий, штурман эскадрильи, хмуро висел над креслами, периодически попарывая сжавшегося Витю, а тот вертелся и делал промах за промахом.
Поистине, не всем доступен мой метод насчет «Чикалова». Да и за пять лет у меня в экипаже штурманы все одного класса: второго. Так и летают, так и я привык, и меня вполне устраивает такой штурман.
Может, я глубоко неправ, может, кощунственно посягаю на святые каноны, сложившиеся еще с По-2, но у меня на этот счет свое твердое мнение. Не надо мне штурмана-аса. Я не избалован, да и не совсем понимаю суть этого понятия: ас. Кого-то, к примеру, раздражают частые смены курса на один градус, уточнения расчетного времени пролета пунктов, отсутствие блестящей интуиции и божьей искры. Мне это не так важно. В конце концов, сидим рядом, видим одно и то же, считаем параллельно, я в тонусе.
Мне нужен рядом технический работник, который тянул бы воз ненужных бумаг, что-то там (абсолютно мне ненужное) считал и писал, обеспечивал своевременную и надежную радиосвязь с землей, издалека, заранее, следил по локатору за грозами, был весь внимание при пролете пунктов, а главное (это важнее всех теорий), постоянно контролировал исправность своих систем и освободил меня от мучительных поисков постоянно сопровождающих нас в полете отказов во всех хитросплетениях курсовой системы, ДИСС, «Михаила», планшета, локатора, радиокомпаса и других приборов. Ну, еще выдавал бы мне на палетке время, входа в зону, пролета пункта и выхода, с точностью плюс-минус одна минута, – и я в полете спокоен.
Все это Витя надежно делает, как делали до него Стас и Женя. Но есть же еще штурманская наука, есть штурманское дело, есть штурманские специфические критерии, есть и свои проверяющие. Что-то где-то не так, за это порют. Жизнь есть жизнь.
Но и времена Аккуратовых прошли. Земля следит, аппаратура другая, другие возможности. И я знаю, что от того, что Витя лучше или хуже сделает те, не нужные мне операции, полет наш не изменится. Класс его работы я определяю по одному главному показателю: мне с ним спокойно и надежно.
И потом: что бы ни случилось, я от полета не отстраняюсь, поглядываю, прислушиваюсь, есть комплекс вдолбленных с курсантских времен дедовских ремесленнических методов, которые не позволят бдительному пилоту заблудиться. Как бы командир ни доверял штурману, а параллельно, грубо, но надежно, идет прикидка, чтобы не пустить пузыря.
А если не доверять, то зачем тогда на борту штурман. Если же он меня разгружает на маршруте, то спасибо: мне нервотрепки и принятия решений хватает пока и на земле, и в воздухе. И во множестве способов сберечь силы и сохранить спокойную обстановку в экипаже свою роль играет и надежная черновая работа штурмана. Как, собственно, и каждого из нас.
Бортинженер прикрывает тылы со стороны своей железной матчасти; штурман делает то же самое со стороны пилотажно-навигационного комплекса, а также касаемо соблюдения режима полета. Второй пилот – вообще моя правая рука. Леша в любой момент возьмет управление и заменит меня, вплоть до самостоятельного принятия решения.
Конечно, проверяющий волен усмотреть причиной огрехов и отклонений разгильдяйство проверяемого, его беспечность, самоуверенность, мальчишество и т.п. Но я-то лучше знаю своего штурмана, и склонен видеть причиной шероховатостей в данном его полете – малый срок работы на новом для него типе самолета, усталость от работы без выходных и без отпуска, мучающую его всю жизнь язву желудка и связанную с нею мнительность и желчность характера, ну и… боязнь проверяющего.
Поистине, проверяющий должен быть талантлив.
Приходим на самолет. В штурманской ко мне уже подошли: надо взять сверх загрузки двоих, своих, с билетом, и т.п. Я узнаю количество зарегистрированных пассажиров: 163, одно место свободно. Отправляю людей в отдел перевозок: оформляйте как положено, 165-го возьму на приставное кресло, согласно указанию командования.
На самолете приставных кресел в вестибюлях оказывается почему-то не шесть, а только четыре. И четыре бортпроводницы. Значит, отпадает, нарушать нельзя. Но подходит еще парнишка, свой, аэрофлот, с билетом… И тут дежурная привела еще одного, своего, какого-то нагловатого мастера спорта, в аэрофлотовской форме, но с галстуком-лопатой, партикулярной расцветки. Всем надо улететь.
Начинаем разбираться с дежурной, с проводницами: они не шибко-то желают уступать свои места пассажирам. Хотя в полете пользоваться своими законными приставными креслами им вряд ли придется: некогда сидеть, будут толкаться на кухне, на контейнерах.
Я твердо говорю, что когда обещал, то рассчитывал на то, что оного перевозки оформят 164-м, другого – 165-м, на приставное. Но приставного нет, а… Меня перебивают, что – нет, обоих на приставные, – вот же они, эти кресла; а проводницы на контейнерах, как всегда… ну очень нужно… и вот еще мастер спорта.
Аэрофлотовец со служебным билетом скромно мнется у обреза двери. Все просят, умоляют.
Я не могу, не хочу нарушать. Даже 165 в данной ситуации нельзя брать: некуда по закону. Но скрепя сердце уговариваю проводниц взять этих двоих, мужа и жену: наши, в отряде работают. Ладно, девчата согласились уступить свои места супружеской паре. Иду в кабину: до вылета 15 минут, а я еще не проверял оборудование.
Дежурная на принцип: не берете моего мастера спорта – и ваши не улетят.
Стоп! Все, провокация! И экипаж, и проводницы дыбом: не берем ни-ко-го. Точка.
Дежурная принимается уговаривать: ей ну очень надо отправить спортсмена. Но нет: раз запахло паленым, никаких уговоров. Все по закону.
Ушли. Судорожно готовимся к полету. Успокаиваюсь лишь в воздухе, на эшелоне. Отдых…
И так – почти каждый полет. Жалко людей, конечно, но на будущее – всё. Зарубил: никому никакой поблажки. Свой, чужой, друг, родственник, – только по закону. Так легче и безопаснее во всех отношениях.
Слаб человек… А что людей жалко – так они тебя пожалеют…
Господи, дождусь ли того времени, когда этих зайцев не будут пускать под самолет?
В Горьком Витя точно вывел к 3-му развороту, зашли и сели в автомате.
А вот в Киеве работали соседи с другой полосы, и в эфире стоял гвалт. Мы вроде и подготовились к заходу: обогнали верхом «туполенка», чтобы не путался под ногами на снижении. На кругу Борисполь нас предупредил, что мы заходим первыми, а за нами очередь. Потом нас вынудили зайти по такой малой коробочке, что мы едва успевали все выпускать и гасить скорости, читать карту и вести связь. Развернувшись вокруг собственной пятки, выполнили четвертый; тут отказ СТУ; я краем глаза лишь заметил выпавший бленкер на приборе, а Витя (чует кот, чье сало съел!) украдкой вдогонку включил забытый тумблер командных стрелок, но автопилот мы уже выключили; Леша растерял на секунду стрелки, а я увидел, что обе полосы довольно близко, и восьмым чувством помня, что всё бегом, – молча успел довыпустить закрылки на 45, исправил и загнал Леше стрелки в центр, вышел на связь с посадкой, с досадой понужнул Витю, завозившегося с нашей дурацкой шторной картой, – но успели сделать всё.
Сел Леша; сзади повис Як-42, я взял тормоза… со злорадной усмешкой проскочил 13-ю и покатился не спеша к 14-й РД, вслух матеря службу движения и почему-то желая, чтобы невинный Як-42 угнали на второй круг. Потом опомнился: 14 РД скоростная; я успел срулить, и Як-42 плюхнулся тут же следом, а на него садился уже тот, обогнанный нами «туполенок».
Короче, скомкали нам заход, выжали как лимон, мы еле выкрутились. А ведь так все было хорошо рассчитано. Но уж такая работа, что иной раз зажмет непредсказуемо, и вылезаешь на восьмом чувстве.
Часто перечитываю старые записи и вижу: иногда сам себе противоречу. Нелогично? Что ж, поищите везде одну строгую логику – упретесь в целые завалы нелогичностей. Мы же живые люди.
Скучна была бы жизнь, расписанная по логическим коэффициентам. Да и всем коэффициентам я предпочитал всегда живое человеческое сердце. Страшновато было бы ощущать, что я – живой, знакомый, родной и так собою любимый я, – уже расписан где-то по индексам и пунктам, и что кто-то меня уже прикидывает, логически проигрывает, закладывает в память машины…
Нет уж, лучше на пенсию, а незавидную коэффициентную судьбу пусть мыкает молодое поколение, которое так рвется к летной романтике.
Гайки жмут, и тем из нас, кто начинал лет эдак двадцать пять назад, еще на Ли-2, это особенно заметно. Так и кажется, что давит, давит пресс, поворачивается и поворачивается намасленный винт, а ты уже синеешь, тужишься, тужишься, невмоготу… как-нибудь цвиркнет из тебя во все стороны кровь с дерьмом – и все, отработал а Аэрофлоте. Буквы, буквы, запятые, тире… Закрыли скобку. Задавили.
Но будь оптимистом. Штурвал из твоих рук никто не вырвет, и пока летаешь, будут, будут вставать на твоем небесном пути прекрасные рассветы, как бы и что на тебя ни давило.
20.07. Статья Герасимова в «Правде» сыграла свою роль. Васин вернул нам прежние эшелоны, и теперь 11600 снова можно занимать без ограничения полетного веса. Как просто. Значит, боятся они гласности.
Наконец-то сняли ограничения по скоростям с закрылками на наших стареньких 124-й и 134-й. Слава богу, теперь практически отпадает вопрос о закрылках на 28 – нет нужды; да и РЛЭ трактует этот, разрешенный недавно заход очень скользко: в соответствии с графиком… которого там нет.
Разрешили нам, сибирякам, носить форменные рубашки с коротким рукавом. Ну прямо прогресс!
О чем еще мечтать. Летаем умеренно, пока усталости особой нет. А впереди еще два месяца. Надо беречь силы и отдыхать при любой возможности. Валера двадцать дней отдыхал, теперь наконец Витя пошел. Хорошо, что командование, хоть таким образом, хоть по частям, но дает людям возможность восстановить силы.
20.07. В штурманской шашкентского аэропорта шел спор. Сидящие в разных углах дежурные штурманы, оба бывшие летчики, завели разговор о работе и взаимодействии экипажа современного самолета. Тот, что летал на МиГ-15, никик не мог понять, как это пилот на взлете не смотрит на прибор скорости, а верит докладам штурмана. Как это – я, пилот, на взлете не контролирую скорость. Абсурд!
Или еще: как это – самому не управлять режимом двигателей, а давать команды бортинженеру.
Оппонент, летавший командиром Ту-154, возражал. А я, с ходу включившись в разговор и приведя свои аргументы и примеры, подумал: вот, оба летчики, а понять друг друга не могут.
Тому, с МиГ-15, не понять многого. Что оторвать взгляд от осевой линии на полосе нельзя потому, что самолет, стотонная махина, может изменить направление движения за те полторы секунды, пока ты отвлекаешься на скорость и возвращаешься опять к осевой, – а при отказе двигателя на разбеге это отклонение может послужить детонатором для выкатывания вбок с полосы. Что привычка управлять двигателями посредством команд оставлена еще с Ил-18, на котором, управляя четырьмя секторами газа одной рукой, невозможно синхронно изменить тягу сразу всем, а при большом разносе двигателей от центра тяжести возникают большие разворачивающие моменты, и самолет станет рыскать на предпосадочной прямой, и вот поэтому бортмеханик по команде КВС симметрично управляет газами. А так как мы пришли на самый массовый ныне Ту-154 с самого массового в те времена Ил-18, то чтобы не сбивать стереотип, нам это оставили. Да и культура управления тридцатью тоннами тяги не допускает больших разбросов: у нас процентик оборотов «весит» тонну. Двигатели же на «Тушке» расположены не так широко, как на Ил-18, и рысканья нет.
Правда, в ЦУМВС своя технология: там пилот одной рукой крутит тяжеленный штурвал, а другой шурует газами, молча, а бортинженер уже за ним подправляет по своему разумению. Но мы, красноярцы, считаем, что это некрасиво.
Я лично против пилотирования «Ту» одной рукой, потому что не приучен, да и… я ж не штангист. А те, кто привык к этому на Ан-12, Ту-104, Ту-134, – им легче так. Дело хозяйское, но… у красноярцев культура выше. На мой взгляд – взгляд далеко не новичка в авиации, – тонко выдержать направление и дозу тяги можно лишь, пилотируя двумя руками и подавая команды голосом.
Если уж идти по такому, «однорукому» пути, – нетрудно (с бустерами-то) поставить вместо штурвала ручку управления, как на МиГ-15 и пилотировать одной рукой… левой. Либо уж ставить рычаги газа слева… или справа… нет, второму пилоту тоже слева, а ручкой управлять, как на истребителе, правой… Короче, это компетенция конструкторов, а меня на тяжелом, инертном лайнере вполне устраивает тяжелый, инертный штурвал, а одним процентом тяги я предпочитаю управлять, подавая голосом команды специально обученному человеку. Либо уж, на самый худой конец, – задавая скорость бездушному автомату тяги… но такое, извините, пилотирование уже не есть искусство, а просто грубое ремесло. Мы же привыкли к более чистой, ювелирной работе.
Многого не понять человеку, летавшему в свое время на МиГ-15 и считающему, что уж он-то – самый что ни на есть летчик. А когда такой, никогда не работавший в экипаже летчик приходит к власти, да еще когда со всем рвением берется сочинять технологию работы экипажа… ну, не сочинять, а, допустим, утверждать уже сочиненную… Вот тогда и получаются технологии, вроде нашей. И раскрепленный метод формирования экипажей.
Злые языки – а у пилотов в штурманской ох и злые же языки! – комментируя нынешний вклад Васина в перестройку, утверждают: когда случилась каршинская катастрофа, Бугаев вызвал Васина и с ходу: какие меры приняты? Тот, не подумавши, и ляпнул: так… это… автопилотом, мол, запретил пользоваться в наборе… и на снижении тоже. Ну, а потом деваться некуда – назавтра министр издал приказ.
22.07. Наивняк. Многие, как и я, неправильно поняли указание Васина об эшелонах. И теперь тем, кто глубокой грудью вздохнул, – дополнительно и уже вполне определенно разъяснено: забудьте о свободе, все остается по-старому: на те эшелоны, на которые раньше залезали без ограничений, полетный вес уменьшен аж на 10 тонн. Полтора часа пройдешь, выработаешь 10 тонн топлива, – тогда занимай.
Воздержусь от комментариев.
26.07. Очередная статья Герасимова в «ВТ». На этот раз о реверсе. О том, что мы реверсом губим полосы, а значит, там, где условия посадки позволяют, реверс надо бы использовать по усмотрению командира корабля.
Что и говорить, наши турбореактивные реверсы – полумера. Когда-то, на заре, на пассажирских лайнерах применялись тормозные парашюты, и командир сам принимал решение об эффективности использования этого тормоза, мгновенно срабатывающего и весьма эффективного в начале пробега.
Но пилоты бывают разные… начались выкатывания. К тому времени конструкторская мысль, как всегда оторванная от реалий жизни, а в данном случае – от состояния наших раздолбанных цементных полос, изобрела вот этот железный реверс, лишнюю тонну металла на борту. До полос ли было в те времена, когда с высоких трибун кричали о том, что когда эти реверсы станут широко применяться, у нас уже будет чуть не «коммунизьм», и, соответственно, всё в стране – и наши ВПП в том числе – будет близко к идеалу.
Вот в прямом контакте с этим «идеалом» и работает газовая струя двигателя на реверсе, отклоняемая вверх и вниз мощными заслонками. Естественно, цемент с гравием вышибается из покрытия и на скорости 130 и менее засасывается в двигатели.
Если сложить вместе это ограничение по скорости выключения реверса (не ниже 130) с купленным большой пилотской кровью указанием включать реверс только после приземления и уве-е-еренного прямолинейного движения на пробеге, окажется, что эффективная работа реверса составляет всего несколько секунд.
Вот Герасимов и предлагает. Летчик нынче пошел грамотный, умеет считать, вооружен графиками: если длина полосы позволяет выполнить пробег без реверса – то и не включай его.
Когда я в Сочи повредил серьгу, я использовал весь свой опыт, сел точно на знаки, оставил впереди максимум для пробега и торможения реверсом и тормозами колес. И остановился практически на середине ВПП общей длиной 2200 метров, т.е. пробег составил меньше 1100 метров. И ведь реверс выключил на скорости 130.
Но по РЛЭ, по графику этому теоретическому, выходило, что даже с закрылками, выпущенными на 45 градусов, на меньшей посадочной скорости, с гораздо меньшей, чем тогда у меня, посадочной массой, среднему пилоту этой полосы не должно было хватить.
График составлен с коэффициентом, учитывающем возможности «среднего» пилота. А мне полосы – хватило. И серьга тут ни при чем, это уж мое разгильдяйство. Так кто же составляет эти графики «на среднего?» Верить ли этим графикам?
Если «средний пилот» перелетит в Сочи метров 300-400 (на оценку 4!), а по графику для посадки у него потребная длина ВПП проходит тютелька в тютельку 2200 метров, то в конце пробега, на скорости 130, ему придется решать трудную задачу: выключать? не выключать? держать реверс до полной остановки? выпорют? не выпорют?
Правда, Герасимов оставляет за командиром право в любой сомнительной ситуации воспользоваться реверсом.
Но те пресловутые 8-10 секунд, пока все системы реверса сработают… Он же сам опытнейший пилот. Да любой командир скажет себе: э-э-э, лучше уж я сразу его включу… мало ли что… Тогда, по крайней мере, у меня в руках реальная тормозная сила, и полоса-то пока еще впереди. А двигатели – да черт с ними, с двигателями, раз на таких приходится летать. За забоины лопаток ни один командир еще ответственности не нес, а выкатись на пять метров за фонари… загрызут.
Выход, конечно, есть. Покрыть полосы возможно более толстым, в несколько десятков сантиметров, слоем жаростойкого асфальтобетона. Ребята, летавшие в Афганистане, хвалили тамошние длинные ВПП, построенные давным-давно американцами: там не бетон – асфальт, да еще какой.
Ну, о качестве наших советских ВПП из сваренных между собой бетонных плит, временных полос, по сути дела, приспособленных под выродок Ту-124, собственно, и изобретенный для эксплуатации с этих самых бетонок, а уж потом, в соответствии с наличием их, замененный на неприхотливый Ту-134, – о качестве этих, да и многих других полос, латанных-перелатанных, дважды и трижды удлинявшихся по потребности, бугристых что стиральная доска, позорных наших ВПП, – что говорить-то о них. С них надо летать. И на них приходится использовать тот реверс.
Ну а в новых аэропортах, строившихся в пресловутый период застоя, где средства уходили на помпезные беломраморные вокзалы, а бетон разворовывался на гаражи и дачи, – вот где самые плохие полосы. И полоса в Емельянове, может, еще и не самая худшая из них.
Зато такие полосы по длине вполне удовлетворяют условиям Герасимова: можно, и нужно, и необходимо садиться на них без реверса.
Ильюшин принял такое решение давным-давно и ввел в РЛЭ разрешение использовать реверс на его лайнерах по усмотрению КВС; Туполев за пять лет – не смог, или не решился, или забыл. Разве тут до этого вопроса, когда более серьезный, принципиальный – о боковых выкатываниях Ту-154 из-за того же реверса, – возобладал, отвлек внимание. А миллионы летят на ветер, и тут я боль Герасимова понимаю.
А нам в газетах долбят одно: как у экипажа в полете отказал ничего не значащий агрегат или прибор и как геройски они справились. Да, бывает и такое, но разве это гнетет нас, разве об этом болит душа?
Конечно, обывателю важнее всего то, как безопаснее доставить по воздуху свой любимый зад и кто это надежнее сделает. Ну, конечно же, геройский экипаж. А герои-то в повседневной жизни заняты совсем другим. Пусть обыватель не боится: у меня такой же любимый зад, но надо поменьше о нем думать, иначе станешь трусом.
Позавчера шли на Львов, в хорошую, ясную погоду, и я имел редкую возможность полюбоваться местами, где родился и рос, а так как трасса проходит непосредственно через мой родной Волчанск, то, слегка накренив для удобства самолет, даже увидел с 10600 свою родную Харьковскую улицу и мог угадать, где примерно стоит отчий дом. Но в харьковской зоне сильно не расчувствуешься, некогда; так и уплыли мы на Киев, а дальше нас ждали известные заботы.
В районе Черняхова стоял фронт, пришлось залезть на 11600, стали обходить. Вот здесь наглядно видны преимущества нашего планшета ПН-4.
Обычно экипаж контролирует свое место на трассе комплексно: само собой, карта с линией пути, стрелки радиокомпасов, прямоугольные координаты участка пути (оставшееся расстояние и боковое уклонение) в виде цифр в окошках НВУ, заметный радиолокационный ориентир на экране радиолокатора; но главное – постоянство азимута от маяка, установленного в поворотном пункте. Постоянный азимут – верное подтверждение того, что идем по прямой без отклонений.
Так вот мы и идем, поглядывая на показания своих приборов и сравнивая одно с другим.
Ну, а если обходишь грозу, ушел с трассы на 40-50 км, а то и на 80? Ну, отложишь с помощью транспортира и линейки свое место на карте, раз, два, – а надо ж еще записать его в бортжурнал, а еще смотреть в локатор на грозы, да на компас, да прикидывать, на сколько и куда изменить курс…
В конце концов, жить хочется – смотришь больше не на карту, а в локатор. И можно так закрутиться, что хорошо, если есть недалеко «Михаил», по которому в секунду определишься, а если нет? Не уследишь, да и земля не всегда за тобой уследит: у них как назло летом, когда грозы, локаторы вечно на профилактике.
Можно грубо определиться и по показаниям радиокомпасов: считать пеленги, откладывать на карте…
А карту эту и положить-то штурману некуда: столик у него откидной, прикрепленный к спинке кресла второго пилота, едва умещает листок бортжурнала, карандаш и неизменную навигационную линейку НЛ-10.
Наш бортовой навигационный планшет устраняет все проблемы. Специальная лента-карта, сделанная из особой пленки, либо ткани, намотана на катушку и перемещается под стеклом подобно тому, как перематывается пленка в фотоаппарате. Под стеклом же расположено колечко на палочке – индекс, символизирующий наш самолет.
На карте нанесены линия пути и поворотные пункты. Пленка ползет под индекс, а индекс может перемещаться вправо-влево. Сигналы от навигационного вычислителя управляют этими продольно-поперечными движениями таким образом, что индекс самолета на планшете постоянно находится над линией пути. При боковых отклонениях индекс уползает в сторону.
Таким образом, то, что мы видим в подслеповатых окошечках НВУ в виде цифр, планшет показывает наглядно, в виде подплывающей под самолет трассы. Задача экипажа – подворачивать самолет на заданный курс так, чтобы индекс все время пересекался линией пути.
Кстати, довороты эти может выполнять автоматика, по программе, «набиваемой» штурманом на кнопках перед каждым новым участком пути.
В нормальных условиях поглядываешь на планшет, на курс, угол сноса, азимут, радиокомпас, и так контролируешь полет. За 15 километров до поворотного пункта уже ожидаешь, что стрелка радиокомпаса вот-вот закачается и развернется назад, и тут же автомат рывочком накреняет машину и вводит ее в разворот. Из-за этого рывочка старые штурманы не любят использовать автоматику и управляют разворотом вручную, через рукоятку автопилота.
Когда в грозу шарашишься между засветками, стрелки радиокомпасов пляшут и показывают чаще на близкую тучу, чем на далекий маяк. При этом курсы далеки от заданных, а голова забита расчетами и связью с землей. Вот тогда наглядно видно на планшете, где ты, где трасса, куда и на сколько надо довернуть, сколько верст осталось до поворотного пункта и т.п.
Одно дело – снять с прибора данные «Михаила», нанести их на карту, определить на ней свое место относительно трассы, сообразить поправку в курс; другое дело – бросить взгляд на планшет, на котором ничего лишнего: вот ты, вот трасса, вот угол, вот поправка в курс. Довернул, а за это время можно пять раз все уточнить и подправить.
Когда голова забита, планшет позволяет рефлекторно, бессознательно, наглядно и безошибочно брать поправки в курс, напоминая в запарке, что скоро поворотный пункт. Даже пусть он немножко и врет, как обычно бывает, но, главное, он грубо покажет, где ты находишься.
Вот так мы и крутились над Черняховым, потом выходили на Шепетовку, потом… Засветы были серьезные, до 12000 высотой, наковальни широкие, и мы то скрывались в них, поддерживая безопасное число М=0,8 на случай броска, то выскакивали выше и, вдобавок к инструментальным данным, определяли особо опасные вершины гроз визуально.
Пока шла напряженная работа, самолет себе летел, лента-карта перемещалась, и вот уже на ее верхнем краю показались данные Львова: пора переводить курсовую систему на его меридиан. А тут встречные-поперечные борты, говорильня в эфире, а тут еще надо получить эту дурацкую информацию АТИС – о погоде…
Чтобы разгрузить диспетчера от лишней болтовни, всю информацию по аэродрому в цивилизованных странах включают в циркуляр АТИС. Ну, и у нас же это новшество вводят. Погода, условия посадки, входа-выхода, курс посадки, давление аэродрома, состояние ВПП, и прочая, и прочая, и много-много лишнего, – все это включается у нас в АТИС, записывается на магнитофон и полчаса непрерывно выдается в эфир на отдельной частоте, каждые 3-4 минуты повторяясь: пленка закольцована. Этот получасовой цикл получает имя: Анна, Борис, Василий, Женя, Роман, Щука… Через полчаса информация переписывается с изменениями и получает новое, очередное по алфавиту имя.
Задача экипажа перед запуском и перед снижением – прослушать АТИС и доложить: информацию Анна имею.
Но пока ты запустился, прочитал карту, вырулил, – информация (и ее имя) сменилась, и вот кто-то из экипажа лихорадочно и отрешенно от всего мира, прижав наушники поплотнее, слушает, слушает: сперва на импортном языке, потом на родном, и вот-вот уже выруливать на полосу, и наконец долгожданная последняя фраза: " Сообщите получение информа…» – и обрыв, либо между собой экипаж по СПУ забил – рулим ведь, работаем… И снова сиди слушай цикл, лови единственное слово… Роман, будь он проклят, поймал! Роман, мать бы его…! Информацию Роман имею, разрешите исполнительный!
С непривычки очень мешает эта обязаловка, отрывает от дела. Но диспетчер должен быть уверен, что экипаж имеет всю самую последнюю информацию.
Мало на земле – в воздухе и обстановка сложнее, и скорости не те, и не остановишься перед полосой, не подождешь. Пока прослушаешь, особенно на рубеже часа, пока там стирают старую Женю и записывают новую Зинаиду, а самолет падает по 30 метров в секунду, уже круг, уже надо на связь, надо обязательно доложить, что эту Зинаиду имею, давление такое-то.
Пока еще не мы «имеем» Зинаиду, а, скорее, она нас…
Вот так и нынче: уже не до Зинаиды было, ни мне, ни диспетчеру; пока я успел дать необходимые команды, пока контролировал снижение, да этот обязательный рубеж 3000 метров, где ограничиваются скорости, – уже Женя сменилась, а тут еще засветки и два встречных в наборе, пока разошлись, – вышел на связь с кругом, совершенно позабыв, что тут же АТИС (а не везде еще ее ввели). Круг, тоже замордованный обстановкой, отпорол меня: надо докладывать, имеете ли АТИС (он сам не знал новое имя: Анна, или Женя, или Зинаида?) и давление! Имею, говорю: давление 732, установил! Дальше ему ругать нас было некогда, и мы ушли работать с посадкой, довольные уже тем, что успели вовремя снизиться, прочитать все разделы карты, и наконец-то осталось то, что, слава богу, целиком зависит от мастерства Леши, – и он блеснул.
По мне бы, с этим АТИСом надо разобраться, упростить, оставить то, что и раньше было: видимость, облачность, ветер, давление, температура, курс посадки, коэффициент сцепления.
А то начинается: и система посадки (а если не одна, то перечисляются все), и эшелон перехода, и высота круга, и что выход по указанию диспетчера (а по чьему же еще?), и что на КПБ работает техника, и что рулить по временной разметке, и что грозоопасный очаг (азимут, удаление), и что еще один грозоопасный очаг (азимут, удаление), и что полоса сухая, отдельные лужи, сцепление 0,7 (вот это важно), и вот, наконец: «сообщите получение инфор…» – и обрыв, все сначала. Да будь же ты трижды проклята!
Вот такими, именно такими, а то еще и похлеще словами экипаж реагирует и костерит то, что, по мнению умных чиновников в кабинетах, должно – безусловно должно! – помогать бедному летчику в полете. Ой спасибо, умные люди! Тебя бы, паразита, посадить в кабину и бить кулаком в спину: давай, давай скорее АТИС, мать твою! Посмотрели бы мы, как ты завертишься.
Зато, случись чего, этот паразит умоет руки: я же всё сообщил в информации АТИС.
Ага, тогда, в Алма-Ате, ты мне сообщил всё…
Экипаж в воздухе должен по возможности действовать стереотипно. Всякое изменение, отклонение, новшество для экипажа болезненно. Нет времени переваривать, принимать новое решение. Некогда дебатировать. Поэтому-то мы все эти схемы входа-выхода-ухода смотрим еще на земле, потом еще раз на эшелоне, в спокойной обстановке, чтобы уже на сложном, сложнейшем этапе захода действовать хотя бы по этим пунктам таким образом, как рассчитывали.
Конечно, летчик – особый, тренированный на приспособляемость человек. Он умеет перестраивать привычный стереотип на ходу, в условиях интенсивных помех и дефицита времени. Но нельзя же спекулировать на этом. Товарищи паразиты, к вам обращается экипаж: уймите прыть, придите к нам в кабину, вглядитесь изнутри в нашу работу, пропотейте нашим потом. Может, хоть тогда вам немножко дойдет. По крайней мере, хоть оторветесь от своих столов и новую галиматью не успеете изобрести.
Со связью тоже куча накладок. Падаешь, к примеру, с максимальной вертикальной, ожидаемый встречный ветер стих, путевая скорость больше расчетной, успеть бы к рубежу потерять высоту до заданных 6000. За полкилометра, на высоте 6500, уже заканчиваешь с контролем, переходишь на подход: надо обязательно успеть доложить свою высоту и место. Даешь быстро: «85124, 6000, 100 км». Тишина. Самолет падает по 30 м/сек. Потом: «Восемь пять сто двадцать четыре! Я-Красноярск-подход. Курс посадки 288, ваше удаление 98 подтверждаю, занимайте на привод 1800».
Вот оно, то, что нам было нужно: 1800! Больше нам пока ничего не надо Самолет за время переговоров спокойно за 20 секунд потерял бы те 500 метров высоты и продолжал бы снижаться тем же темпом. Но пока я прослушиваю неспешную информацию, внутри все сжимается, а руки начинают подтягивать штурвал: вдруг прикажут сейчас остановиться на 6000, вдруг нам по курсу встречный на 5700 в облаках… Вот и пялишь на себя, стараясь только, чтобы перегрузка сильно не росла.
А ведь одну цифру, одну только цифру вперед – снижайтесь 1800! – и все ясно: падай дальше; – а уж вдогонку и удаление можно, и азимут, и посадочный курс, и любую дополнительную информацию. Хороший старый диспетчер, из бывших летчиков, обычно так и дает, но… они уже вымирают, а те мальчики, что кончали специальные училища и сменили на посту стариков, сами ж не летают и не летали никогда. Они действуют по своей технологии, не понимая приоритетов.
С теми же, кто в кабинетах, если уж сядет такой к тебе проверяющим, – стараешься снижаться пораньше, чтоб был хороший запас по удалению, чтоб не спеша… пусть и топливо в трубу… Правда, с высокой трибуны он будет призывать к экономии, но если ты ему покажешь отточенную, экономичную, красивую работу, выработанную многолетней практикой, – у него ж не хватит нервов, и в глазах его ты будешь разгильдяй… и обгадит перед твоими же товарищами, разнесет на весь Аэрофлот и вывалит через неделю кучу дурно пахнущих рекомендаций кабинетного производства, времен Ли-2. Воссядет после этого на свой трон, подопрет кулаком подбородок и задумается. Ну что делать: пашешь-пашешь, пишешь-пишешь, а разгильдяи не переводятся… Ведь забыл про начало снижения, начал его поздно! Ведь на грани! Ведь нарушает все законы! Ведь схему – схему! – нарушает! Правда, извернулся, успел, все успел, впритык, непонятно как… но так же ж нельзя! Нет, надо что-то делать. Надо что-то делать…
И делает. Паразит, клоп, кровосос наш.
Встретил я в штурманской Солодуна; он, с трепетом душевным, – ко мне: не слишком ли, мол, задержал тетради, уже начал седьмую, но читаю только дома, это чтение – не для рейсов.
А я, с трепетом душевным, – к нему: какое же все-таки впечатление? Он хвалил. И с сожалением, как о несбыточном, сказал: если бы всё это – только обязательно всё – напечатать… тут, мол, интересно и не летчику, а уж летчику – много полезного.
Мне странно: я больше пишу вроде как для посторонних, а для летчиков – только эмоции.
Порядочнейший человек, Солодун, меня понял.
Сегодня у меня памятная дата: день первого самостоятельного полета. И вообще юбилей: 20 лет работы пилотом. Но за работой некогда праздновать, да и что там праздновать, с кем, да и не хочу застолья, пьянки.
За месяц налетали около 70 часов, спокойно, вполне приемлемо. Вот вернемся из Львова, останется Алма-Ата, дурацкий рейс, ночной, с четырьмя посадками, промежуточная – Караганда. Это наша каторга: посадить бы того, кто этот рейс выдумал, к нам в кабину и спать не давать.
Я вообще не могу понять, кому же это удобно: не спать целую ночь, встречать-провожать, с трудом добираться в аэропорт. А нам, летчикам, бессонную ночь болтаться в воздухе, а службам аэропортов обслуживать. Может же, немножко ужаться и интенсивнее работать днем?
Ну ладно, полет с запада на восток, там встреча с ночью неизбежна, куда денешься – широка страна моя родная. Но с севера на юг, в одном практически часовом поясе, – кому это удобно, ночью? Это же трудно, тяжело же всем. Кроме того, кто это выдумал, спланировал и приказал. Может же и ему перестроиться – планировать и выдумывать по ночам, а днем отсыпаться?
Сложный это вопрос, работа ночью. Ну, ладно, там, где непрерывное литейное производство, там понятно. А если, к примеру, перевести на трехсменку, ну, комбайновый завод? Зачем это рабочему? Ясно, коэффициенты там всякие улучшатся. Но мне, конкретному мне, что от того?
Я ломаю всю свою жизнь, режим семьи – во имя коэффициента? Ну, от коэффициента нам всем будет чуть лучше жить. Но стоит ли овчинка выделки, если у нас все для блага человека, а человек уродует себе семейную жизнь и здоровье ради какого-то коэффициента.
Ведь известно, что перед ночной сменой надо поспать. После ночи тоже спать хочется, не правда ли? Значит, и новый день пропал. А если неделю подряд в ночь?
Может, мне не понять, может, не такая уж там и нагрузка? Но если бы мне предложили слетать подряд шесть, нет, пусть пять ночных Норильсков, я бы на третьем забастовал.
Я знаю один только случай, когда Гена Пуртов, уже переучившись на Ил-62, вынужден был долетывать месяц на Ту-154, какая-то острая была необходимость. Так он сделал шесть ночных Хабаровсков подряд, ну, или дней за десять, чуть с ума не сошел.
Знаю, что у нас на Ил-18 последние два года оставался лишь один рейс: ночной Мирный. Так экипажи всю жизнь свою перестроили под ночной режим.
Ночью работать очень тяжело, поэтому все министерства, ведомства и прочие конторы работают только днем.
Зато летчикам платят добавку за ночь только по темноте. И летом у нас ночи как бы и нет, если судить по оплате.
А все же работать нам этим летом стало легче. Вот уже конец июля, а усталости мы почти не чувствуем, по крайней мере, хронической. И план меньше стал – видимо, перестали планировать «от достигнутого». Даже если в нашем ведомстве перестройка будет заключаться только в этом, я скажу: слава богу. Но ведь это только первые робкие шаги.
Опять статья в «ВТ», о полетах без штурмана. Начальники говорят, что летать можно. Но не везде. Но не всем (им, во всяком случае, нельзя), но не на всех машинах. А экипажи говорят: несправедливо с оплатой. Раз экипаж делает работу за штурмана, надо доплачивать. А экипажам говорят: доплата производится только в том случае, если число полетов без штурмана у экипажа достигнет 75 процентов от месячного налета. А если 74 – то хрен вам в рот.
И это типичная картина не только для Аэрофлота, у нас везде так. Везде ступеньки, и трудяга должен каждый раз думать: а стоит ли браться, стоит ли преодолевать ступеньку, хватит ли сил? А то – лучше не рисковать, лучше своя синица в кулаке…
31.07. Москва. Как нас ни вертели в московской зоне, как ни заморачивали голову, снижая по ступенькам, как ни извращали в зоне ожидания, а мы все же сели, успевая на пределе, и даже топлива осталось против расчета на тонну больше.
Из Львова тут на днях летели спокойно, но Леша немного отвык от ночных посадок: отпорол в Уфе козлика. Через пару дней слетали каторжным рейсом в Алма-Ату, и Леша вновь отпорол козлика.
Да, отвык; значит, отдаю ему все ночные посадки. Сам-то в Караганде себя проверил: ночная посадка удалась.
5.08. Валера Ковалев, первым оттренированный к полетам без штурмана, устал уже летать одни Ташкенты и Норильски (маршруты, утвержденные для полетов без штурмана) и написал рапорт об отказе летать в сокращенном составе. В результате произошел сбой, провернулись какие-то колеса, и мы, только что выполнив ночную Москву с разворотом, вынуждены снова ночью лететь в Алма-Ату вместо Ковалева.
Два самых тяжких рейса подряд, ясно, это не по злому умыслу, а совпадение, Валера ни в чем не виноват; надо отнестись ко всему этому философски.
Прошедшую ночь протряслись в многочисленных фронтальных грозах, выстроившихся как по заказу вдоль всего маршрута. В МВЗ как всегда: куча мешающих друг другу бортов, засветки гроз на экране локатора, гвалт в эфире, не вклиниться, толчея, – а в результате вместо захода с прямой угнали на 30 км дальше вперед, заставили сделать большущий чемодан, а поджимавший сзади и болтающийся у нас на хвосте борт, которому из-за нас явно не светило зайти с прямой, повернувшись вокруг пятки, сумел сесть впереди нас.
Как всегда, что-то случилось с АБСУ, отказали директорные стрелки, и пришлось Леше извращаться в тучах вручную, но он справился и сел хорошо.
Малой радостью оставалась возможность зафиксировать в задании сложный заход: облачность десятибалльная, дождь, выскочили визуально где-то на 150 метрах. Но на метео мадам уверенно отвергла наши вожделения: «у нас низкой облачности не зафиксировано».
За окном было черно, хлестал дождь; мы захохотали гомерическим хохотом, но тщетно. Надо было дуракам после посадки доложить старту о наличии вожделенной облачности нижним краем 150 метров. Как будто у них на старте у метеонаблюдателя нет прибора.
И через час, когда уже прошло два срока наблюдения, а дождь все хлестал, на метео так и не было зафиксировано низкой облачности, и в эфир шла благостная фактическая погода, и в прогнозе не было никаких сомнений, и экипажи ломились в Московскую зону, не подозревая о наглом обмане. Правда, все как-то сумели извернуться и сесть. Весь джентльменский набор подходившего гнилостного европейского фронтика был налицо, мерзкие гадючьи головки пятитысячных грозушек светились на экране, но тетя на метео была непоколебима: «не зафиксировано» и все.
Да ты хоть в окно выглянь!
Вот так, десятилетиями, выдавали черное за белое всему народу, блаженствуя в пьянстве, а фронт подходил. Гнилой, пакостный московский фронт. Но – не зафиксировано.
А над Хантами стоял фронт в открытую. Мы, идя на Москву, обходили его на 100 км южнее, а уж назад и вовсе нас направили через Тобольск: великий Бродвей, Транссибирская трасса, закрылась. Но и на 200 км к югу мы все еще болтались в отрогах могучих наковален, черный горизонт полыхал и переливался багрово-фиолетовыми и зеленовато-белыми зарницами. Не говоря уже о том, что и между Горьким и Кировым, и над Серовым, и ближе к Колпашеву, и дома на подходе, – кругом грозы.
И снова болтался под ногами залезший на высоковатый для него эшелон 11100 «туполенок», летевший к нам в Красноярск, и мы кое-как, с помощью уже нашего диспетчера, сумели отстать от него. Посадка мне удалась.
Дремал в автобусе, сберег свежий сон до кровати и, проспав три часа, с трудом встал, переборол дрему, ибо через пару часов снова ложиться спать перед ночной Алма-Атой.
Правда, нас никто не спрашивает, мешает ли спать мощный дизельный компрессор, добросовестно продувающий нам под окном трубы отопления. Есть, правда, вариант: взять машину и уехать на дачу, там тишина; поспать – и оттуда на вылет. Но льет ливень, дорога грунтовая, боюсь застрять, лучше уж попытаться уснуть под равномерный грохот дизеля, утешая себя мыслью, что в отличие от тех трех с половиной тысяч летчиков, которые, по словам нашего министра в интервью «Известиям», нуждаются в жилье, у меня все же приличная квартира с отдельной спальней. А компрессор – какие мелочи. Летчику надо спать – он спит.
Волков там еще рассказывал сказки о том, что летчики – тоже люди, что (смех в зале) командир корабля, за спиной которого… и т.д. и т.п. – не должен стоять в общей очереди на жилье, что вот у них там, в военной авиации, все не так…
Да, у них там летчик, налетывающий сто часов в год, имеет право, обязан, раз в год отдыхать по путевке. Ну, а у нас, как лето, так по нашим путевкам, на наших местах, в Сочи и Ялте, отдыхают наши паразиты: управление, профком, контора, врачи, функционеры. А летчикам – Теберда, Домбай в декабре. Из года в год: везешь полный кузов пассажиров в Сочи, и неизменно в салоне мелькают знакомые до боли лица тех, кто с ложкой.
Да… А Ковалеву, видите ли, расхотелось выполнять работу штурмана, несмотря на все 100 процентов полетов в сокращенном составе экипажа и приличную за это доплату: 15 процентов от оклада – аж целых 22 рубля 50 копеек! В месяц! Заелся человек.
Или дошло? Ну, он сам лез, сам напрашивался: семья большая, а квартира однокомнатная. Может, учтут при распределении жилья, что Ковалев жертвовал ради производства. А может, и не учтут. Да и не видать вообще пока того мифического жилья.
Саша Ш. тоже летает без штурмана, отрабатывает за два искореженных им в Уфе кукурузника. Куда денешься.
Ну, а мне что – тоже грудью на амбразуру? Отработать за разбитое АНО?
Я ворчу. В Москве снова отказал планшет, и штурман, чертыхаясь, набивал на клавишах пульта данные, корректировал по РСБН, а мы с Лешей попеременно поглядывали в локатор, визуально наблюдали за встречными-поперечными, вели связь и с максимальной вертикальной меняли эшелоны. Когда и кому работать с тем НВУ, когда и кому успевать определять отказы, перестраивать АРК, – да что говорить. Но глаз, успевший за четыре часа полета привыкнуть и доверять картинке, недоуменно раз за разом спотыкался на нелогично торчащей на планшете схемой домодедовского круга, которая раздражала своей неуместностью.
В кабинетах же планшеты всегда работают, экономисты и бухгалтеры очень точно определяют наши трудозатраты и бросают кость: 22 р.50 коп.
Иногда смотришь на заботы муравья, как он, бедняга, упирается, влача на горбу в общагу какую-нибудь жучиную ногу, как решает свои задачи, бросает, возвращается, мечется и суетится. А у тебя по сравнению с ним – мирового масштаба заботы.
Так и я со своими микроскопическим проблемами, интересами… а в мире СПИД косит тысячи.
Господи, мне-то что до СПИДа. Грубо говоря, за все надо платить – так платите. Пусть себе вымирают. Негуманно? А может, в этом и есть великая правда и великий гуманизм: половина грешных людей, слабых, идущих на поводу у своих низменных страстей, живущих по принципу «хочу – имею», вымрет за грехи свои, а другая-то задумается.
Половина Африки вымрет – ну, в конце концов, СПИД передается извращенным половым путем – что они все там, гомосексуалисты? Получите свое.
Как хорошо СПИД все поставил на место: а не греши, не изменяй семье, не извращай естество, не употребляй наркотики, не торгуй телом.
Как, и правда, какой апокалипсис.
А я тут со своими мелкими заботами… но это – моя летная жизнь, а не гомосексуальные страсти. Мне нет нужды в подобных развлечениях, пусть и покажусь кому однобоким.
Новые имена: Анатолий Зверев, Вадим Сидур, Константин Васильев… затравленные и непризнанные социализмом. При развитом социализме задавлены, загублены, затравлены, удушены таланты. Застой, болото губит все свежее, нестандартное. Слава богу, воскресили память.
Но как мне возражать апологетам проклятого Запада, если они бросят мне еще и этот упрек? Не социализм виноват, а его водовороты? Щепки летят?
Повторяю: общество наше очень тяжело болеет, и давно. И очень долго и трудно – неизмеримо труднее, чем мы предполагаем, – придется его лечить. Тем более что половина народа не только не хочет лечиться, а и всячески препятствует этому.
7.08. Вчера вернулся из Алма-Аты и, поспав три часа, ходил потом весь день в мыле, как после болезни. За две ночи подряд заработал сто рублей. Думаю, предложи кому не поспать две ночи, а спать днем и получить за это сто рублей, – любой бы согласился. Это ж так просто.
В Москве готовились к обратному вылету; уже досаживали пассажиров, грузили багаж, только цех питания увез мыть 180 розеток и никак не возвращал, мы долбили его по радио.
Наконец, двери-люки закрыты, трап отошел. Бригадир доложила о загрузке, о готовности бригады к полету. Запустились, стали читать карту, до взлета по расписанию осталось пять минут… стук в дверь. Влетает третий номер: «Командир! Розетки не довезли!»
Три ритуальных слова. Командир, принимай решение. Двигатели молотят, 53 кг в минуту. Время идет, пахнет задержкой. Как кормить пассажиров без розеток? Велика ли потеря, ведь девчонка материально отвечает. Ну, это дело проводниц. Может, можно быстренько довезти, выбросить стремянку и забрать контейнер, не выключаясь? Запросили по радио. Молчание. Еще раз. Время идет. Задержать вылет, выключаться? На кого задержка? Мы вовремя сообщили, но нас спросят: раз не довезли вам, почему вы запустились? Ясно, виноват экипаж, не разобрался с проводниками. Но, может, довезут, успеют еще? Снова долбим по радио перрон. Перрон отвечает: вам только что подвозили, но вы уже запускались, машина вернулась. Ну, так везите снова. Нет, машина уже ушла обслуживать другой борт. Время идет, уже четыре минуты потеряно. Да черт с ней, с проводницей, надо лететь так.
Вбежала бригадир: командир, справимся без розеток. Уф. Поехали.
Пока выруливали, да в очередь третьими стояли на предварительном, ушло еще минут десять. Итого, задержка на 25 минут. Правда от начала движения только 15 минут… черт его разберет… вроде по расписанию считается.
Взлетели, крутились вокруг Москвы, пробивали облачность, а я с усилием все отгонял мысли о злополучных розетках, о проводницах, а главное, как мы все вместе прохлопали ушами. Ну, разобрались, девчонка слетает следующим рейсом, заберет розетки, а не заберет – черт с ней, пусть на будущее урок ей будет, заплатит за разгильдяйство.
Вот такие минуты потом оборачиваются многочасовой усталостью. Не в розетках дело, а в ответственности. Как это – задержка по вине экипажа. Позор!
Взлетели на Алма-Ату. Еще спать не хотелось, все же подремали перед вылетом пару часов, мой компрессор вовремя выключили, и я чутко, просыпаясь каждые 15 минут, все же покемарил. И ребята так же. Ну и слава богу, автопилот включен, и пошли продираться через фронт.
Тысяч с шести начала раскачиваться стрелка указателя числа «М». Сначала в диапазоне 0,4-0,6, потом, выше, когда «М» стало расти, стрелка переместилась правее, к 0,7-0,9, и как только пересекла 0,89, сработала звуковая и световая сигнализация Я этого, в общем, ожидал. Картина ясна: отказ прибора, где-то обрыв провода или еще что, сигнал периодически поступает и убирается, стрелка реагирует, а со стрелкой связан контакт сигнализации предельного значения.
С восьми тысяч стрелка колебалась с неторопливой периодичностью метронома: влево – тишина; вправо – пипип-пип-пип-пип-пип-пип… и красное табло «Предел скорости». Влево – тишина; вправо – пипип-пип-пип-пип-пип-пип… Влево – тишина… Вправо…
С девяти тысяч стрелку зашкалило вправо, и динамик долбил в уши, как отбойный молоток.
Все это время Валера исследовал панели АЗС: искал тот тумблер, что выключает сигнализацию. Хороша перспектива: четыре полета под аккомпанемент сигнализации отказа.
Перебрали все АЗС. Прочитали РЛЭ. На этот динамик навешано много: предельные крены, критический угол атаки, максимально допустимая перегрузка, предел скорости приборной и числа «М», все отказы АБСУ. Значит, динамик просто не отключается, нельзя его отключать, не предусмотрено.
Но не возвращаться же из-за динамика. Самолет исправен, правый указатель числа «М» работает. Надо лететь.
Короче, надо либо убрать причину, приводящую в действие сигнал, либо… оборвать провод динамика. Можно, конечно, и стекло прибора разбить, отвести стрелку влево от контакта, но это вздор. А вот динамик…
Полез Валера в гардеробчик, где за моей спиной этот динамик установлен, а там – штекерный разъем. Выдернул – и в кабине наконец-то наступила благодатная тишина. Вздохнули матом.
Теперь – как отписаться. На МСРП сигнал прошел, расшифруют: было превышение числа «М». Значит, первое: пишем в журнал об отказе и срабатывании сигнализации. Сформулировали грамотно и понятно. Второе: в Караганде надо вызвать инженера и принимать решение. Там своих «Тушек» нет, значит, либо ждать, пока нам привезут и заменят прибор (если дело в приборе, а не что другое в системе воздушных сигналов СВС), либо… А давай посмотрим по перечню допустимых отказов. Так: отказ указателя числа «М» – разрешен полет до базы с многократными посадками.
Ну, значит, принимаю решение лететь. На взлете и посадке, где «М» невелико и стрелка не дойдет до 0,89, будем динамик подключать, нормальный полет. А на высоте динамик отключать, а красное табло залепить кусочком газеты, чтобы не било ночью в глаза.
Так, теперь договоримся на случай разбора. Грамотное ли решение, нет ли риска?
Предельные крены – кроме звуковой, имеют еще и световую сигнализацию.
АУАСП – перед глазами, у него своя красная лампа есть.
Отказы АБСУ – световые табло на козырьке, у нас перед глазами.
Табло «Исправность АБСУ» – перед глазами у бортинженера.
Теперь это горящее табло «Предел приборной скорости». Оно горит и при превышении числа «М» как вот сейчас. Но нас четыре человека, перед каждым – этот прибор скорости; всю жизнь за скоростью следим. Уследим.
Все это время самолет летел, менял высоту, менял курс, обходил грозы, вел связь с землей. Кто этим занимался? Леша и наш очередной штурман, Анатолий Иванович Кравченко. На старом штурмане висело все. Каково в такой, не очень-то, в общем, и сложной ситуации, без штурмана? Леше одному было бы не сладко, а случись отказ АБСУ, он бы уже вынужден был отвлекать меня, а значит, думать мне о злополучном приборе, о связанных с ним перипетиях и пресловутом «выпорют-не выпорют», да даже просто о безопасности полета, зависящей от моего решения, было бы уже недосуг.
Но это же было только начало длинного ночного рейса, с недостаточным предполетным отдыхом, после такого же длинного ночного московского рейса.
В Караганде зашли с прямой в автомате; САУ не захватывала глиссаду, пришлось садиться в директоре. Сел я мягчайше и покатился по на удивление ровной, несмотря на помпезнейший недостроенный вокзал, полосе, не торопясь тормозить: за бортом +29. Зарулили, заказали на всякий случай воду – облить колеса: вода кипела; потом техник показал выплавившийся термосвидетель. А я ведь не 150 давление создавал в тормозах, а всего 40-50 атмосфер, катился почти до конца полосы, зная, что машина, горяченькая еще, пришла из Камчатки с тремя посадками.
То, что еще дома, в штурманской, меня уже теребили, чтобы взял лишнего пассажира на приставное, да в самолете еще утрясали, кого брать, кого не брать (взял все же 165-го, а двум отказал, некуда), – все это мелочи, а ведь расход нервов.
В Караганде заказ на обратный путь: пилот просится; ну, своих надо возить. И еще двое служебных на похороны – это святое дело, хоть стоя, а возьму.
Но надо ж еще в Алма-Ату и обратно слетать. Ну, пообещал.
Смычок до Алма-Аты. Над Балхашом гроза, а локатор дерьмо. Да и что на нашем самолете не дерьмо. Выруливали – не загорается табло «Исправность АБСУ», и ничего не высвечивается на пульте поиска неисправностей. Ну, значит, сгорела микролампочка, а менять ее – целое дело. Конструктор же понимал, что последняя проверка перед взлетом, последний пункт карты – именно это табло, и если не горит, то надо выключаться, вызывать техмощу со специальной, для этой лампочки изобретенной отверткой, и… Короче, грамотный вредитель, язви его.
Плюнули, полетели так, понимая ситуацию. Валера в полете исхитрился, подручными средствами, безо всякой спецотвертки, отвернул, заменил, загорелась. Грамотный бортинженер, золотые руки. Без высшего образования.
В Алма-Ате Леша садился в автомате, с перелетиком, как и заложено в системе, но подкрался аккуратно и уложил машину мягко. Я забрал управление, но бежал и не тормозил, а придержал выключение реверса до 130 ровно. Почти без тормозов зарулил, вышел, пощупал: горячие, черт бы их побрал.
В АДП просьба: экипаж забыл какие-то бумаги, надо их переправить в Целиноград, так захвати в Караганду, там рядом. Захватил.
В Караганде заход в автомате удался. Ну, сплошной отдых. Снова облили колеса, снова вода кипела. Отдал бумаги, подписал задание, пришли на самолет. Пилот ждал у трапа, взяли его 165-м, а те двое, по телеграмме, вошли в законное число пассажиров. Ну и хорошо.
Взлетели. Алел восток. Засасывало. Я подремал минуты четыре. Девчата принесли гору кофе, но мы выпили понемногу, чтобы сберечь сон до дома. Солнце спряталось за грозовой фронт, внизу сверкало; небо сзади нас теряло остатки фиолетового цвета и через салатный оттенок над головой переходило в желто-оранжевый на горизонте. Лиловые головы гроз как горшки на плетне торчали впереди.
Прогноз дома был на пределе, фактическая тоже не радовала: подходил туман. Выскочили из фронта на визуальный полет, отряхнулись и увидели два языка тумана, наползающие на полосу. От дальнего привода нас угнали на второй круг, причем, нелетающий мальчик-диспетчер в процессе уборки закрылков долбил нас: ваше решение? ваше решение?
Ну что за специалисты. Уход на второй круг – самый сложный момент; подожди же ты минуты две, дай управиться. Нет, ему трудно понять это там, на вышке, у него свои заботы: этажерка самолетов над приводом. Так что я краем глаза следил за приборами, молча убирал механизацию, а мозги работали в другом направлении.
Топлива хватит на три круга, а там уж можно и в Абакан… опять через этот фронт. Похоже, туман сейчас закроет всю полосу. С курсом 108 вроде пожиже, но и там уже дают 200 метров, а с 288 два языка уже закрыли и торец, и середину полосы. Ну, еще кружок…
Пока мы кружились на 900, какой-то борт вышел на привод на 1800 и, с высоты оценив обстановку, порекомендовал готовиться принимать с курсом 108: там явно протаскивало и рассасывалось. Надо отдать должное руководителю полетов: он за пару минут переключил старт, замерил видимость, и после нескольких зигзагообразных эволюций мы быстренько сели, поджимаемые целым роем бортов сзади; уж тут я тормоза не жалел, чтобы поскорее развернуться и освободить полосу по 3-й РД.
А уйди мы сразу в Абакан, а не заначь мы топлива, а не сэкономь за эти четыре полета около трех тонн, – сидели бы 12 часов, потому что рабочее время все вышло. И снова домой бы лететь ночью.
А так приехал домой, поспал три часа… и весь остальной день и вечер был в мыле, чувствовал себя больным и раздражался по малейшему поводу. Пришлось на часок съездить на машине по делу, так поймал себя на желании распинать всех с дороги, а лучше – найти кучу оконного стекла и молотком бить, бить, бить, чтобы позвонче и подальше разлетались осколки… Поскорее поставил машину в гараж, вымылся очередной раз в душе, лег с газетами на диване и пролежал без движения до ночи; спал потом как убитый.
Вот, товарищи психические интеллигенты, как за две ночи зарабатываются те сто рублей, за которые вам пахать полмесяца. Да еще попробуй их получи. У меня семья сидит две недели без денег, потому что бухгалтерии недосуг перечислить мне на счет еще июньскую зарплату, а мне недосуг урвать полдня, чтобы съездить в контору и унизительно выпрашивать свои кровные, или же трепать нервы, ругаться и писать на них рапорт. Мне хочется не ругаться, а спать. И совершенно некогда думать о гордости и достоинстве командира корабля, о чем так модно стало ботать в наших верхах. Ты не ботай, а заставь контору хотя бы даже не уважать летчика, а просто делать свое дело.
Отказались летать без штурмана все, кто было уже начал. Работы лишней много, а бесплатно; да и попробовали – это не обеспечивает безопасность. Ну-ка, к чертовой бабушке, летайте сами.
В Москве, на подлете, проводники попросили вызвать на борт врача. Дома наш цех питания вместе с превосходными красноярскими бройлерами, пожалуй, лучшими на весь аэрофлот, загрузил десяток порций черной, волосатой, вонючей, явно не красноярской, а какой-нибудь куйбышевской, насмерть затоптанной петухами престарелой курицы.
Когда грузят 164 порции, а пассажиров на вылет является почему-то меньше, то оставшиеся порции проводники под расписку сдают в цех питания того порта, куда прилетели. Видимо, и у нас кто-то из Поволжья (повторяю: уж там-то курица явно несъедобна) сдал возврат, и ворье из цеха питания тут же прихватило хорошего бройлера в сумку, а гнилой возврат сунуло нам на борт в опечатанном, как полагается, контейнере. Мол, пассажир сожрет, куда он денется.
Пассажиры есть это не стали, и девчата решили составить акт, с врачом, по всем правилам.
Москва долго упиралась, так врача мы и не дождались. На будущее, если повторится, лучше передать, что пассажиру стало плохо, обманом завлечь врача на борт, а уж там показать ему ту курицу, от вида и запаха которой действительно может стать плохо. Дохлятину ему в нос – подпишет акт, никуда не денется.
Приехал цех питания. Да, они знают, так бывает… но у них нет «такого врача». Да и стоит ли писать акт… знаете, как сейчас строго… Людей ведь с работы снимут… кто не без греха…
Ах, ворье вы проклятое. Ну, составили мы акт без врача, я подписал.
А если бы с борта радиограмму домой, да сразу бригаду ОБХСС, да поймать с сумками на проходной…
Ага. Тот ОБХСС с такими же сумками на работу ходит.
А вот летчика, что прет из Ташкента коробку помидор и сетку дынь – во! Спекулянт! Ату его! Десять кило на одного летчика! По приказу!
Дурак его подписывал, этот приказ, дурак его и исполняет. Когда ж тому летчику добывать продукты семье? Ну ладно, подавитесь вы нашими помидорами.
Как проводит свой выходной день командир корабля?
Посидел. Пописал. Дома никого, благодать. Открыл пианино, сыграл навязшую мелодию. Еще одну, разыгрался. Мало. Вытащил аккордеон, сыграл то же, потом еще, еще… соскучился.
Все-таки музыка хорошее дело. Люблю летать в Ташкент: там в бильярдной стоит старинное, столетнее пианино, деревянное, черное, высохшее и звонкое. Раздолбанная, вытертая пальцами до ямок клавиатура, треснувший вирбельбанк, – но с помощью клещей и гитарного ключа я инструмент подстроил. И – одна утеха: в то время как люди в сорокаградусную жару носятся по рынкам, я под стук шаров бренчу себе как тапер; пока никто не жаловался.
Жаль, что нет в профилакториях у нас места, где можно поиграть, пописать. Ну, почитать можно и в койке. В домодедовской читальне вовсю гремит телевизор.
Кто меня учил играть? Да сам. Ну, отец показал аккорды на гитаре да научил играть на басах на аккордеоне, а потом определил в школьный духовой оркестр, там уж по нотам играл на кларнете. В училище освоил бас-гитару. А вот на бильярде играть не умею. Видать, каждому свое.
Пойду за машиной, съездим семьей на дачу, соберем ягоду, нарежем цветов, подышим, постучу молотком. А водки не хочется.
Все же семейство мое встретило меня в мой юбилей, расцеловало, поздравило, накрыло стол, напоило коньячком. Грех обижаться.
9.08. Снова Киев, и снова – после тридцатиградусной красноярской жары. А здесь прохлада и отдых.
Взлетали в духоте, навстречу приближающемуся холодному фронту, такому… не особой сложности, а одно название. Но и те редкие грозы должны были освежить город.
Дурная ворона медленно выгребала поперек полосы на малой высоте, не особенно реагируя на наши включенные фары, потом опомнилась, рванула изо всех сил и к моменту встречи была точно посреди полосы; у нас скорость была уже где-то под 250, и я инстинктивно стал поднимать нос чуть раньше, чтобы потоком не засосало птицу в двигатель. Спрессованный поток уже хорошо обтекал крыло и отклонялся закрылками вниз; нос наехал на ворону, а куда ей, бедной, деваться: ушла под двигатели, и если не зацепило ее закрылком, то просто переломало крылья и убило волной сжатого движением воздуха. Мы не услышали характерного удара, но в течение двух секунд, продолжая поднимать нос, я ждал чего-то со стороны двигателей, а потом забыл, некогда было думать об этом.
Удар птицы в двигатель обычно выводит его из строя, а птиц вокруг аэропортов полно.
Недавно в Сумах Ан-24 поймал стаю птиц так же вот, в момент отрыва, в такую же жару. И один двигатель моментально отказал, винт зафлюгировался. Но ребята сумели продолжить взлет, зашли стандартным разворотом и сели, на пределе возможности оставшегося двигателя. Для Ан-24 такие условия очень сложны, так что молодцы.
Вскарабкались мы на эшелон, и наступило то привычное состояние, которое испытывает человек на хорошо обжитом рабочем месте: все вокруг – то же, привычные вещи – на своих местах, последовательность действий, разговоры, ритуал, – все умиротворяет, успокаивает и втягивает в привычный ритм.
Но для этого надо пройти университеты: знакомство, притирка, радость обладания, неудачи, горечь, страх, бессилие, интерес новых задач, приспособление, плюсы и минусы, колебания и твердая колея, – и после всего этого, через годы, через переживания, через не могу, появляется и крепнет хозяйское чувство: ты на своем месте, а машина – твой партнер, известный вдоль и поперек, и в паре вы оба спелись, и толк от вас есть.
Ну, тут же еще не ты один, и не одна машина, тут экипаж, тут производственные отношения, тут атмосфера. Но когда это все утрясется и устоится, на работу идешь с радостью.
Вот ушел из дому, оставив позади какие-то проблемы, какие-то трения, неувязки, унося, может быть, легкую досаду, раздражение, про себя говоря: а, к черту, есть место, где все это забудется или покажется мелочью, – туда скорей! Это место – работа. И, перетерпев впридачу еще духоту в автобусе, беготню в АДП, эту пресловутую ворону на взлете, грозовые тучи в наборе, и прочая, и прочая, – наконец-то в тихой пристани…
Нашел тихую пристань…
Но у летчиков свои понятия о тишине и покое, и вот я, спокойно откинувшись в кресле и, назло Потемкину, закрыв стекла фонаря шторками, спокойно просматриваю свежую газету. Фронт позади, а до следующего далеко. Где ж и не просматривать свежую газету, как в своем раздолбанном кресле. Я берегу силы. Пока работает экипаж; а уж в Горьком настанет мой звездный час, ну, минута: там порывистый и близкий к предельному боковой ветер, и вот там и понадобятся мои сэкономленные силы, мое чувство хозяйской уверенности, что, ребята, сейчас я вам покажу, как ЭТО делается.
Снизились, зашел, показал. Да, сплошной сдвиг ветра, болтанка, пляска скоростей, нос в сторону; мобилизующее, поднимающее тонус чувство легкой опасности, – какая там жара, духота, усталость, раздражение! Отключил автопилот, держу ось, поймал торец, до самой земли подбор режима; вступает в дело интуиция, подкорка, автоматизм; последний кренчик устранен, замерла… Знаки, касание, нос по оси, реверс, побежали. Тормозить не надо: сильный ветер и так тормозит. Да еще машина 213-я, та, на которой летали в Алма-Ату, на ней постоянно выплавляются термосвидетели; она нам пришла из рейса – выплавились два, значит, надо и здесь ожидать. Зарулили, обливаем, кипит, – точно, есть один. Видимо, один тормоз зажимает, но внешне, при рулении, никаких проявлений.
Из Горького на Киев уходим от ночи, но она фиолетовым пятном догоняет с юго-востока, и на пятне этом белеет плоская, алюминиевая луна.
В Киеве садится Леша, подкрадывается на скорости и… чуть взмывает, на 20 сантиметров, всего, но оба мы заметили, я подсказал, он ответил, что видит; мы не вмешиваемся, и машина сама садится, мягко, еле слышно, благодаря скорости.
Ну и хорошо. Как все хорошо. Идем спать.
Свежий киевский воздух. Но дышать им после полета приятно еще и по одной деликатной причине.
Воздух, которым мы дышим в самолете…
Начинается посадка пассажиров, включен кондиционер, он гонит запахи из салона к нам в кабину. Иногда везем взопревших новобранцев, другой раз – ташкентских потных пассажиров… А то и просто один неряха вздумает разуться, освежить атмосферу. В салоне явно не озон, а когда двери и люки закроют, все несется мимо нас в форточки.
Пока рулим, кондиционер включен на полную катушку: людям в салоне жарко, из них выходит тепло после всех мытарств на регистрации и посадке. А экипажу тоже жарко. Наша кабинная вентиляция слабовата на земле, и перед закрытием форточек, уже на полосе или магистральной РД, чтобы не ударило по ушам, бортинженер убирает наддув, и в салоне в этот момент вообще не работает вентиляция. А мы в течение нескольких секунд испытываем блаженство жизни: на скорости кабина насквозь продувается через форточки свежим воздухом. Потом, перед взлетом, форточки закрываются, мы взлетаем, включаем отбор воздуха, при этом вентиляция салона идет уже через выпускные клапаны, и вся вонь уходит туда, а мы дышим спокойно. До туалета.
Вонь из салона – это еще полбеды. Существенную добавку в букет дает передний туалет, отделенный от пилотской кабины не совсем герметичной дюралевой перегородкой. Когда кондиционер выключен, дурной запах из необработанных, залитых вместо дефицитной химжидкости простой водой туалетов, растекается по всему самолету. Что уж за дефицит такой эта химжидкость, но ее нигде нет, только в Москве заправляют. А туалет наш устроен так, что смыв унитаза производится жидким содержимым его приемного бака, немного отфильтрованным через сетку. Так вот, значит, то, что накапливается в баке, плюс мыльная вода, стекающая из раковины умывальника, захватывается насосом и поступает под напором на смыв. Подобное смывается подобным: ну, где ж той лишней воды набраться в полете.
Чтоб не воняло, в бак добавляют эту зеленоватую, сильно пахнущую жидкость, дезодорант, и она все перешибает. Но ее нет…
Почему-то, когда кормят экипаж, обязательно кого-то занесет в туалет, и он дважды, трижды нажмет кнопку смыва. Приятного аппетита!
Так что после посадки мы с особым наслаждением вдыхаем свежий воздух.
Конечно, пилоты не избалованы озоном, разве что на эшелоне вскочишь в озоновый слой, густой, ощутимый, но это секунды. А начинали летать мы на Ан-2: там, хочешь, не хочешь, а быстро привыкнешь к кисловатому запаху и к живописному виду больших луж блевотины на полу. Так что мы не из брезгливых. Это одна из теневых сторон летной романтики, и никуда от нее не денешься.
Почти по Чехову. Подлетая к Уралу, меня посетила мысль. Почему к Уралу, не знаю, но подлетая к нему, я спросил вдруг у экипажа: ребята, вот вы – летчики, главные фигуры в аэрофлоте, в подавляющем большинстве – члены партии, – так вот, какую роль в вашей работе и жизни, вот здесь, над Уралом, на 11600, играет партком предприятия?
Ответы лежали в узком диапазоне: от «никакой» до «на хрена он нужен вообще».
Если бы не было парткома, партийной организации и мы были бы беспартийными, то так бы и летали.
Никоим образом не влияет моя партийность и Лешина беспартийность на наше отношение к работе, на наш профессионализм, на нашу летчицкую гордость, на любовь к профессии, на романтику, на зарплату, на дисциплину, исполнительность и порядочность.
Мало того: весь мир летает, и не на таких еще самолетах, – летает, совершенно не связывая принадлежность к какой-то, пусть коммунистической, пусть хоть к партии любителей домино, – с ответственностью за свое дело.
На проклятом Западе скандинавская, явно не коммунистическая авиакомпания SAS десятки лет летает без летных происшествий, а у нас все командиры поголовно коммунисты, а бьют машины и людей так же исправно, как и самые последние лютые антикоммунисты.
И при чем же здесь партийный комитет?
Узок круг этих… Страшно далеки они от народа. Делят портфели, кабинеты, должности, льготы. Варятся в своем, кабинетном соку, плодят бумаги и создают, создают, изо всех сил создают видимость, что уж они-то главные во всем.
Убери партком – я так же буду летать. Убери крайком – я так же точно буду летать. Убери партию… стоп, стоп… Как же так?
Если бы я три года сам штаны не просиживал в том парткоме предприятия, парткоме с правами райкома, и не видел, что весь этот аппарат – лишь прикрытие, ширма, а один секретарь с руководителем предприятия все решает; и даже наоборот, все решает один руководитель предприятия, а секретарь лишь настраивает аппарат парткома для придания видимости… чего? Демократии? Всевластия партии? А мы лишь руку поднимаем, когда скажут. Да на кучу бумаг сверху, из старшего парткома, плодится десять куч ответов.
Вот, товарищ Горбачев, вам-то не надо бумажкой отчитываться перед старшим, вот – реальное положение вещей. Переходить на самофинансирование – на кой нам все эти «освобожденные» захребетники.
Так и то: их же партия кормит, взносы. За что? Зачем? Какая от них мне, моему экипажу, моему делу, отдача? Никакой. Летать меня учил не партком, а пилот-инструктор. И не по указанию парткома, а по указанию своего командира эскадрильи. И я летать учился не по партийному указанию, а по любви и из самоутверждения. Может, техник обслуживает мой самолет по партийной убежденности? Может, синоптик дает мне прогноз из партийной ответственности?
Может, наконец, партком определяет пропорции, распределение сил и средств в предприятии, чтобы эффективнее работать? Нет, это дело хозяйственника. А дело партии – работа с людьми. Так вот, со мной лично никто не работает, кроме, разве что, самого меня. И я вполне обойдусь, и другой, и десятый экипаж, – без парткома. Он бесполезен для нас. Он вреден для нас. Он – только кнут, бездушно подхлестывающий тупых волов, которые и сами влачат воз, не обращая внимания на то, хлещут их или нет.
Главное в авиации не летчик, главное – мы, власть.
Что я дал партии за двадцать лет? Да ничего, только взносы. А что мне дала партия? Ощущение того, что я в едином строю, плечом к плечу? Или ощущение вечной вины вечного разгильдяя под всевидящим и абсолютно справедливым оком?
Какое-то место в жизни народа партия занимает, но… где-то там «они», а здесь – конкретный «я», и я всегда перед ними виноват. «Они» где-то там работают, воспитывают нас, несмышленышей, но – абстрактно. Конкретно – только если ты «им» чем-то досадишь, навредишь, отклонишься от курса. Тогда тебе сломают судьбу.
Я никогда не считал себя вот именно коммунистом. Порядочным человеком – да, разделяющим идеалы коммунизма – да, согласным с Программой и Уставом – да, но… лично мне коммунизм не очень-то нужен, да я в него, честно, и не верю. Нужен идеал, цель, к идеалу этому надо стремиться, приближаться, но – асимптотически, никогда не прикасаясь. Иначе потом – что?
Меня устраивает социализм, я в нем родился, вырос, живу в нем, его идеалами воспитан, они мне понятны и близки, как любому порядочному человеку. А вот те идейные коммунисты, что целью жизни своей ставят благо общества, работают для этого день и ночь, профессионально, мыслят лишь такими, идейными категориями, а сами ходят в затрапезных шинелях, бескорыстны и безразличны к понятиям «мне, мое, много» – покажите мне такого. Горбачев? А рядом со мной?
А рядом со мной большевики пьют с девками из комсомола в бардаках.
Вот это и есть отрыв партии от народа. Да и какая там партия. Функционеры, гребут под себя, я уж не говорю о ханах рашидовых и кунаевых, о десятках секретарей обкомов, о тысячах секретарей райкомов и о несчетном племени секретарей парткомов.
А работяги себе вкалывают, приворовывают и помалкивают.
Нет уж, если есть необходимость в партии, то нужна великая цель. Ленин сумел сплотить партию борцов – вот уж буквально готовых жизнь свою положить. Правда… они потом друг дружке глотки перегрызли и сгинули в лагерях.
А я не готов положить. Я люблю свою жизнь. И другой любит, и ты любишь. И Брежнев любил жизнь, с ее радостями, утехами, наградами, сраколизами…
Тогда ладно. Не положить жизнь, а объединиться для достижения цели. Какая цель? Общие фразы, строительство будущего? Ну, вот я летаю, значит, чего-то там строю, свои кирпичики кладу. Но я и без партии их кладу.
Партия нужна для революции. Для захвата власти. И если мы, народ, начали революцию перестройки…
Да какой там народ. Народ безмолвствует.
Надо партию чистить. Не восемнадцать миллионов вялых членов. Член – он и есть член. Но тогда откуда же средства брать на утехи. Да и не на что станет содержать своих, партийных бюрократов, имя которым легион.
Придется истинным ленинцам сесть на хлеб-на воду, но… тогда их жены бросят.
Истинный коммунист должен быть подвижником, аскетом, весь – для людей. Где взять таких? Таких нет, а тех, что руководят народом, – так их вон нынче целые кодлы охранников от того народа оберегают.
Я таким аскетом стать не могу. Я люблю свое жилье, дачу свою, машину свою, гараж свой. Моё! Я не понимаю «наше». Это значит – ничье.
Короче, сомнения. Но если действительно возьмутся за чистку – отдам партбилет. Суть моя от этого не изменится, только камень с души спадет.
Или надо не задумываться. Жить, как живется, работать честно, любить семью, любить Родину, любить жизнь в тех проявлениях ее, что мне импонируют, платить партвзносы и быть проще. И не задавать экипажу глупых, провокационных вопросов, подлетая к Уралу. Фюрер думает за нас.
Но, и правда… зачем мне партком?
12.08. Из Киева возвращались с задержкой: идущий к нам борт подсадили во Внукове, чтобы вывезти в Киев какую-то итальянскую группу.
Как водится, никто ничего не знал; мы легли под вечер поспать по расписанию. Проснулись вовремя – никто нас не будит, позвонили… Короче, пришлось еще три часа проваляться, сон уже не шел, проболтали. Ночь пропала, спать не хотелось; спать будет хотеться утром.
Так и было. Усталость за лето уже накопилась: в наборе высоты клевал носом Леша; я сёк за приборами. Машина шла тяжело, несмотря на малый вес. Но московскую зону промахнули быстро, а в Горьком заход с прямой, зашли в автомате спокойно.
Из Горького в наборе засосало уже меня. Высота была 5400, я почувствовал, что не могу, вырубаюсь, надо закрыть глаза, потому что ни вентилятор, ни трение головы, ни громкая связь, ни потягивание и шевеление суставами, ни массаж шеи не помогали. Солнце било в глаза, вертикальная скорость по жаре не превышала 5 м/сек, встречных-попутных не было, гроз тоже, и я попросил ребят быть повнимательнее и толкнуть меня через 4-5 минут.
Провалился мгновенно в сон, и тут же самолет резко задрал нос; я инстинктивно схватился за штурвал и, нажав кнопку отключения автопилота, плавно перевел из набора в горизонтальный полет. Сон слетел мгновенно. Взгляд на приборы: высота 8600. Леша извинился: нечаянно чуть резче взял рукоятку управления высотой на автопилоте.
Сколько я спал? Восемь минут. И всё, сон больше не шел.
Дома на снижении шарились меж грозушек; Леша сел нормально, хотя и чуть отошла на стойках, но не козел.
У нас идет ремонт полосы, 800 метров отрезано, асфальтируют, поэтому система не работает, заход по приводам, без глиссады, тангаж гуляет, и требуется, особенно перед торцом, постоянный контроль вертикальной скорости и соответствующая этой скорости уборка режима над торцом.
Обычно, заканчивая пробег, когда все послеполетные операции на полосе выполнены, мы сгоряча скупо, короткими репликами, обсуждаем перипетии посадки. Это разбор на ходу, два слова – но самых существенных. После полета – уже не то.
Да и что там говорить-то; обычно, так: «Чуть отошла на стойках». «Да, вовремя поставил 80». «Я предупреждал: вертикальная 5». «Я прибрал над торцом, надо было 82, в самый раз бы».
Кому галиматья, а мы смысл понимаем. А больше что говорить – все ясно.
Недавно в Запорожье у Валеры Х. на взлете указатель стабилизатора показал, что при уборке закрылков стабилизатор не перекладывается. Снизили скорость, заняли высоту круга и стали думать. По поведению машины было ясно, что он-то переложился, а просто отказ указателя. По логике – можно лететь. Но… Руководство гласит: вырабатывай топливо и садись.
Как трактовать отказ? Что записывается на МСРП: отказ стабилизатора или показания прибора? Да еще незадолго перед этим командир расписывался в эскадрилье за какие-то, в общем, незначительные изменения РЛЭ, пришедшие как всегда скопом, брошюрой, на 99 процентов касающиеся не техники пилотирования, а работы систем, агрегатов: где-то на всю страницу заменена одна цифра, а где – вообще запятая. Может, там где-то что-то проскочило насчет стабилизатора, а в памяти не отложилось.
Короче, по зрелом размышлении, решил садиться на вынужденную. Сел. Как сейчас принято, в «Известиях» тут же статья: чуть не геройский поступок экипажа.
А экипаж, в своих сомнениях, листал РЛЭ, но там все было по-старому: не пытаться переложить стабилизатор вручную, отключить его от совмещенного управления, произвести немедленную (!) посадку… предварительно до-олго вырабатывая топливо до нормального посадочного веса.
А все-таки, переложился ли на ноль? Или застрял где-то между 3 и 0? Как садиться: с закрылками на 15 или без закрылков вообще? Может, при выпуске закрылков по поведению машины что-то прояснится?
Так примерно думал экипаж, и стали они экспериментировать. Забыв о том, что стабилизатор отключен ими же, что колпачок откинут согласно РЛЭ, стали выпускать закрылки: 15, потом 28… осталось довыпустить лишь на 45, чтобы создался такой пикирующий момент, что и руля бы уже не хватило вывести самолет… и убились бы. Но опомнились вовремя: все же контролировали положение руля высоты при перебалансировке. Ну, точно, как я в Перми.
Да еще напугали пассажиров, приготовив их к вынужденной посадке по всем правилам: заставили снять очки, галстуки и обувь на каблуке, вынуть челюсти и т.п. Короче, сели.
При разборе оказалось: как раз в тех, пришедших скопом изменениях, которые командир бегло пролистал и расписался в ознакомлении, – вот там-то и есть дополнение, разрешающее лететь при неисправности указателя. Так что командир виноват, за что и получил строгача. Как нам довели на разборе, Медведев в Главной инспекции пять часов отвоевывал Х. Возобладал новый взгляд: что толку снимать с летной работы, кому от этого польза? Но за неуверенность (действовать по здравому смыслу или формально?), за эксперименты и ненужное беспокойство пассажиров – наказать своей властью.
Неуверенность… Боимся мы, всего боимся.
И тут же, буквально в следующем рейсе, по закону подлости, у Х. новое ЧП. Во Владивостоке по прилету они сразу экипажем ушли в город. Бортинженер, не предупредив командира и не оставив адреса, зашел к родственникам; а тут Чикинев стал взлетать на их самолете – загорелось колесо, диспетчер увидел, скомандовал прекратить взлет. Из Красноярска оперативно вылетел дополнительный рейс, прибыл, а гнать его назад некому: у прилетевшего экипажа не хватает рабочего времени, Чикинева отстранили с этим расследованием прерванного взлета, а у Х. не вернулся еще бортинженер.
Случайно с прилетевшим экипажем прибыл проверяющим бортинженер-инструктор. Он втихаря прошел санчасть и с экипажем Х. вернулся домой. И снова Валере строгача: за плохую воспитательную работу. Наказали и разгильдяя-бортинженера.
Но вот насчет сомнений экипажа о состоянии хвостового оперения. Ильюшин на Ил-76 – военном самолете – сделал же в кабине на потолке зеркальный перископ: если есть сомнения – глянь, увидишь. Туполев, на пассажирском лайнере, применив новую, сложную систему управления стабилизатором, из-за которой, кстати, разложили не один уже самолет, не оставил ни малейшей щели, ни окошка где-нибудь в хвосте, ни блистера, ни перископа. Зато щедро подсветил специальной фарой изображение красного флага на хвосте: мол, знай наших. Ну, не глупость? Зла не хватает.
25.08. Летом главная фигура в Аэрофлоте, перед которой унижаются миллионы пассажиров, безусловно… кассир. Как нельзя огульно назвать ворами всех торговцев, так и кассиров, но ассоциации возникают одни и те же. Слишком особо, независимо и без всякого контроля вершат тот и другой свое таинство: продажу дефицита. В руках его твоя судьба; нажатием кнопки он может добыть тебе желаемое. А может и не добыть, отказать, и не проверишь.
Сейчас северяне сутками стоят в очередях, перед единственным окошечком кассы – тысячи народу, а вершитель судеб – авторучкой и ножницами – пропускает…
Видимо, система такая. Моя система, Аэрофлот. А я, летчик, как и любой пассажир, так же с суеверным страхом гляжу в щербатое рыльце динамика: там мое пассажирское счастье… или…
Кто знает, какие переплетения соединяют кассиров с тем, невидимым, кто знает количество свободных мест, «на них сидит» и отпускает нам. Это мафия. Какой процент тех мест уходит «нужным людям?» Видимо, немалый. Но доступ к этой информации плотно закрыт.
Послали тут меня в Москву с разворотом. Случай выгнал из Москвы все наши экипажи, смены нам нет, значит, погоним обратно свой рейс. Правда, между посадкой и взлетом 5 часов, но все на это закрывают глаза, что рабочее время больше нормы: отпишемся отдыхом в гостинице. Нашему отряду нужен экипаж уже назавтра, а будь смена, мы бы сидели четверо суток, – такое вот расписание.
А Москве важно вытолкнуть тех обезумевших от всех мытарств пассажиров, которые уже чуть не всю траву съели на газонах.
Летели в Москву – ветер был попутный, значит, обратно будет встречный, и топлива понадобится не 31,5 т, а на тонну больше. А значит, загрузки придется взять на тонну меньше.
С этими дальними рейсами на Ту-154 беда. Надо же что-то и везти, а не одно топливо. Коммерческая Москва решила этот вопрос примитивно: любой машине, тяжелой, легкой, с большой или малой наработкой двигателей, зимой, летом, – одна заправка: 31,5 т. Выкручивайтесь, как можете.
Определена плановая рентабельная загрузка в тоннах: 12,5 т. Продаются билеты, определенное количество. Планируется вес багажа. Все заранее продано, всем удобно… кроме экипажа, но это мелочи; регистрация идет, багаж загружают, начинается посадка пассажиров.
И чаще всего получается… недогруз, тонна – полторы. Не знаю, почему, но всегда так. А допродать билеты уже некогда: Домодедово перегружено работой.
И дозаправить тоже некогда: пассажиров досаживают и документы на них привозят в последнюю минуту, – а только по документам и определяется, что недогруз.
Поэтому нынче я сразу дал команду заправить на тонну больше. Все службы встали на дыбы, но… без топлива я не полечу. Это мое право: принимать окончательное решение о количестве топлива на борту. Тем более, что все равно ведь недогрузят.
Оказалось, наоборот: полярники-якуты нагребли аж пять тонн багажа. Не проходила даже стандартная заправка 31,5 т. Что делать?
Подсаживаться где-то на дозаправку нельзя: у нас кончается рабочее время. Резерва нет, мы одни. Пытались как-то подключить абаканцев, но у них тоже нет отдыха: пришли с разворотом.
Короче, нам идти отдыхать 10 часов, сливать топливо и потом лететь с промежуточной посадкой на дозаправку.
Я представлял себе, как это: высаживать людей в тот опостылевший августовский вокзал на 10 часов.
Витя бродил по штурманской и случайно увидел экипаж нашего Ил-62, которому вылетать через полтора часа после нас. Подал идею: перегрузить часть нашего багажа в безразмерные багажники «Ила». Москвичи было посопротивлялись, а потом очень шустро перебросили багаж, и мы благополучно улетели с задержкой на час; рабочего времени получилось с 7 вечера до 12 дня. Отписались, что отдыхали в гостинице, хотя всего часок повалялись в самолете.
Зато люди улетели.
28.08. Мы с Лешей часто спорим за жизнь. Ну, его-то жизнь била достаточно, и отношение у него к ней и к людям определенное. Вот пример его мировоззрения: когда я, анализируя ту или иную ситуацию в наших производственных отношениях, пытаюсь подходить объективно, стараюсь понять точку зрения другой стороны, которая ставит нам палки в колеса или наносит прямой ущерб, пытаюсь встать на ее место – ведь не может же быть зла без причины, может, эта причина косвенно коренится и во мне, ведь нас много, и отношения наши сложны, взаимосвязаны, одна точка зрения ничего не решит, – вот когда я так рассуждаю, Леша тут же говорит: «А ты их не защищай».
Настолько у него железная граница: вот тут я, а вон там – они. И нечего тут анализировать. Мне мое – отдай, и не мое дело, что причины, нюансы, что нас много и пр. Мне моё – отдай! Или даже так: ухватить хоть немного лишнего, а уж свое я зубами вырву. И тут – никаких моральных, нравственных тормозов, никакой совести.
Так мои кошки: играют, облизывают друг друга, но только услышат стук ножа по разделочной доске, тут же с мявом несутся, орут, запускают когти: дай! Каждой на отдельном блюдечке мясо. Задом друг к дружке, жрут, давятся, урчат через плечо, и каждая норовит скорее своим подавиться, и тут же запускает лапу в чужую тарелку, и тут же получает когтями по морде от родной сестры. Поели, облизнулись… через минуту лежат в кресле, обняв друг дружку, и вылизывают одна другой мордочки.
Вот – люди. И Леша не один такой; а уж таких как я, меньшинство. Я не глядя могу назвать у нас с десяток горлохватов, для которых слово «мораль» ничего не значит.
Если бы мне всерьез пришлось столкнуться с таким человеком, да чтобы он на меня заорал… между нами будет все кончено. А он через час подойдет, возьмет за пуговицу и попросит привезти пару рыбок с Камчатки.
Вот – то, что не дает мне права считаться настоящим аэрофлотом. Наверное, поэтому в нашей среде меня считают наивным человеком: так, в общем, ничего командир, летать вроде может, язык подвешен, но… нет, не наш человек. Мямля, слюнтяй, чистоплюй, дел делать не умеет. Ну и топчи его, путается тут… За счет этого дурачка урвем свое.
Спасает то, что я принимаю план полетов безоговорочно, без нервов, не пасусь в пульке, вообще стараюсь в эскадрилью поменьше заглядывать. Вот другой раз и затыкают мною дыры.
Правда, у хорошего комэски криком ничего не добьешься, и, глядишь, налет у всех ровный, заказанные рейсы люди получают, одни с криком, другие молча, а результат один. Но… я бывал в разных эскадрильях.
А ты их не защищай. Смотри на жизнь с высокой колокольни: я – один, дай мне моё. Дай! Как хочешь, а дай. Отпихни, скомкай, плюнь на всех остальных, а свое я у тебя из глотки вырву.
Может, это потому, что я алиментов никогда не платил, и жена от меня не уходила, ободрав как липку. У наших мужиков – у 80 процентов нелегкие судьбы.
Все упирается в мораль и нравственность. Заложено с детства – и жизнь получается глаже, а нет – ухабы, повороты, зигзаги, – и соответствующая психология и позиция.
Перестрой-ка таких. Но приходится с ними жить и использовать то хорошее в них, что полезно для дела. А дело они знают.
Вычитал в «Литературке» маленькую статью, а в ней хорошая мысль. Участники симпозиума по проблемам старения доказали, что старение мозга предопределяет старение организма. Мозг должен работать, тогда оставшиеся нервные клетки тренируются и более продуктивны.
Существуют три вида старения. Быстрое, «пикирующее», которому подвержены те, кто занимался сугубо мышечным трудом. Среднее, которое уготовано людям, выполняющим работу, связанную со стрессовыми ситуациями (ну, это точно, мне). И медленное, мягкое, – «старение мыслителя». Значит, надо мыслить.
Можно долго жить, используя благоприятные физические условия, – таковы долгожители Кавказа, не отличающиеся, впрочем, значительным уровнем интеллекта. Посильный и равномерный труд, умеренность и размеренность, горный эффект… но отнюдь не умствования. А можно и нужно, раз уж у нас нет этого горного эффекта, стараться и трудиться в меру, и мыслить. «Землю попашет – попишет стихи». Правда, горько иронизируя над нашим братом-летчиком, можно сказать: ни труда физического, ни мышления, одни стрессы, – и старость воистину пикирующая. Зато сколько примеров долгой творческой жизни в среде творческих людей. Не говорю о Толстом, но взять Утесова, Шульженко, Коненкова, Козловского. Или читаешь: «с глубоким прискорбием… на 95-м году…» – академик.
Так что думать – надо.
29.08. У меня два месяца идет тихая война с бухгалтерией. Два месяца не перечисляют мне зарплату на сберкнижку. Семья перебивается; я летаю в рейсы почти без денег, за все лето привозил три раза по пуду помидор, да еще как-то поймал в Одессе ведро вишни. А мои 1240 рэ где-то извращаются в медленных бухгалтерских колесах.
Заходил, интересовался. Объясняют по-разному.: то кто-то чего-то перепутал, девочка после десятого класса… Ладно, простим девочку. То какие-то финансовые неурядицы, нет денег на счетах и т.п. ладно, подождал еще.
Наконец, вышел на главного исполнителя, тетю Машу. Вон твои деньги, валяются на столе, когда схочу, тогда и отправлю. Ишь, умник: ему, видите ли, удобно в сберкассе поучать, а у меня картотека на два с половиной миллиона, и вообще, одна за пятерых… Короче, пошел вон, получай как все, в общей кассе.
Ну что ж, вот – типичное отношение к летчику в Аэрофлоте. Меня дома сожрали, денег нет, а тут, оказывается, я мешаю бухгалтеру работать. Мне жрать нечего, а у нее картотека.
Не стал я злиться, а написал рапорт Левандовскому. Прошло три дня, подошел обычный срок перевода, 29-е: денег нет.
Надо воевать. Либо уважение к летчику, либо все так и останется. Можно сдаться, пасть на четыре кости перед главбухом, и мне тут же выпишут деньги, – но это поражение. Еще год назад, принимая у меня заявление, бухгалтера хихикали: посмотришь, как тебе будут переводить, сам откажешься.
Нет, надо воевать. Жаль, свой брат-летчик пока меня не поддерживает: присматриваются, кто кого. А дома накаляется…
Унизительно ходить и выклянчивать у этих торгашей свои законные деньги: как собачка прыгает, а лакомый кусочек в руке все выше и выше… И так вот прыгни, а ну, еще вот так… А в сберкассу уже пятнадцатый раз заходить стыдно советскому летчику, командиру лайнера.
Наивный, о, наивный человек.
Пора заканчивать эту эпопею. Настраиваться на борьбу и какую-то перестройку? Да дай бог мне еще полетать года три-четыре. А там – пенсия, ломка всего. Кого там перестраивать на пенсии? Начинать жизнь сначала, когда тебе под 50, с внуками?
Я на перевале. Он еще протянется несколько лет, а потом – спуск; плавность и длина его зависят только от моего здоровья. Но это впереди. А сейчас надо радоваться одному. На фоне всеобщих, пусть пока словесных, преобразований, когда навозные черви, учуяв свежий воздух, завертелись, когда кругом все стало зыбко и неопределенно, моя работа, такая на вид тоже зыбкая и неопределенная, подвешенная, – да самая она надежная и есть. Уж летчика-то, пилота, никто и никуда не сдвинет. Только сберечь здоровье.
Ну, бывает, подведет матчасть. Но в нынешнее неопределенное время я гораздо больше верю в свою ненадежную матчасть, чем во всю эту говорильню. Поэтому – сюда все силы, а производственные отношения, общественную жизнь надо попросту отбросить, ибо отношения налажены, а роль моя в общественной жизни, в сравнении с моей ролью на рабочем месте, – ничтожна. Я, в конце концов, пилот, это главное.
Платят или не платят вовремя – мое от меня не уйдет, получу. Куда, в какие рейсы ставят, когда отпуска дают, – какая разница. Всегда готов. Дочь – студентка, как-нибудь уж прокормим. Семья нормальная, проживем. Лишь бы ждали.
Ну, что еще надо человеку. На следующий год отказываюсь от газет. Надо читать книги. Надо ходить в театр, отдыхать от сиюминутного.
А летать – как дышать, куда ж денешься, врос в это дело. Но – только чистый штурвал, без забот и тревог об этом самофинансировании, никаких выступлений, никакой пропаганды.
Идет, идет перестройка. А народ запился.
15.09. Взлетаем в Казани. На высоте 200 метров штурман переключает радиостанцию на частоту круга; выходим на связь – тишина. А, черт… Машина прет вверх по 20 м/сек… остановились на высоте круга в развороте на Базарные Матаки. Штурман роется в регламенте, в своих палетках. Набрал еще частоту… отвечает почему-то Горький-подход. Не то, не то… а мы продолжаем уходить от аэродрома на Матаки на высоте 600. Ощущение бессилия. И станции обе исправны, и полет без связи.
Возвращаемся на частоту старта; тот понял, что у нас что-то не то, уже связался с подходом и передает нам его частоту и команду: набирать 1500.
Наконец, Витя находит частоту в регламенте и одновременно кричит: следите за высотой перехода! Но… мы давно ее уже проскочили и заняли 1500 по давлению аэродрома. А на высоте 900 положено установить давление 760. Устанавливаем.
Подход Казани дает нам набор 5700, и все входит в колею. Но в чем причина сбоя с частотой круга?
Снова листаем регламент. Витя показывает: вот, Казань-2, круг 119,2, а нам дали 119,4, изменений нет…
Стоп! Казань-2… Так ведь недавно же переименовывали: старая – стала «Казань», а новая – «Казань-2», телеграфный позывной УВКД (КД – «Казань Два»), – так вот, теперь сделали наоборот: Казань новая стала просто «Казань» (но чтоб запутать, позывной ее остался УВКД), а старая теперь стала «Казань-2». Как все просто.
А мы-то привыкли летать в «Казань-2», и Витя, естественно, искал в регламенте «Казань-2», и записал частоту круга, как получается, старой Казани, и выставил ее на взлете. Но была ночь, а старая Казань по регламенту ночью не работает. Он не знал этого, да и никто, кроме меня, не знал, что теперь Казань-2 – старая. А я узнал случайно: как-то, листая сборник схем, увидел, что написано «Казань-2», а курсы-то старой полосы.
Недоработка предварительной и предполетной подготовки.
Невнимательность. Старательный Витя купился, а я, «Чикалов», не проконтролировал.
Я сгоряча было решил: все частоты теперь выписывать перед полетом и вывешивать на видном месте в кабине. Но ломился в открытую дверь: у Вити давно все выписано в палетки, и всегда все под рукой.
Теперь расшифруют полет: давление 760 установлено на высоте 1500 вместо 900. Ну, отгавкаюсь: мало ли что, круг отвлек какой-нибудь командой.
Еще пример. Снижались в Челябинске; было свободно и тихо кругом, и нам, против обыкновения, даже дали снижение не до 6000, а до 4500. Тишина, ночь, нестандартная заданная высота, и на нас всех нашло затмение. Леша готовился проверять работу радиовысотомера после 4000, Витя еще раз прослушивал по АТИС ветер на кругу, и вдруг все враз на 3600 мы крикнули: какая высота-то задана? Я моментально прекратил снижение, но… 1000 метров мы проскочили. Сразу на всякий случай выключил ответчик, чтобы диспетчер по вторичной локации не засек нашу высоту. Доложили, что заняли 4500, перешли на подход, получили команду занимать 1800, и через минуту я вновь включил ответчик и стал снижаться. Шли визуально, кругом никого, мы одни, и только далеко в стороне, мигая маячком, на 3000 шел встречный борт.
Подход вдруг стал интересоваться работой нашего ответчика, я доложил, что все в норме. Сели, зашли в АДП, и тут меня пригласили к руководителю полетов. Ну, значит, засекли. Пошел на заклание, готовясь снимать штаны. РП сам сидел за пультом и видел все мои хитрости. Поговорили. Я не скрывал ничего: виноват, зевнули всем экипажем. Ну, отпустил с миром – человек! А так – талон. А ну-ка – молча пересекли четыре эшелона, и ведь на 3000 встречный шел; диспетчер уже хотел нам крикнуть, но тогда бы все записалось, а это все проверяется, тогда инцидент бы не скрыть. Так что я рассыпался в извинениях и благодарностях, застегнул штаны и, пятясь, ушел.
Кто виноват? Миллионы раз, в более сложной обстановке, в шуме, в гаме, при перегрузках и усталости, – мы троекратно дублируем заданную высоту, следим во все глаза. А тут, выспавшись перед рейсом, в полной тишине, одни… Только высоту нам задали нестандартную. Может, это?
Не ищи виноватого, кроме себя. Как тогда сел до полосы в Заозерке, тоже убаюканный ночью и одиночеством в воздухе, так и здесь. Расслабляться нельзя, но, видимо, лето накладывает усталость, пора уже в отпуск. Сегодня крайний рейс в Сочи – и все.
17.09. Подписываешь в АДП задание, прощаешься и с какой-то готовностью принимаешь пожелание доброго пути, – с удовлетворением, со спокойным пониманием того, что это тебя, твой экипаж провожают в Небо, навстречу чему-то неожиданному и таинственному для остающихся на земле. Тебе желают всего доброго в твоем нелегком и уважаемом деле. Чтобы ты слетал – и вернулся.
Тебя ждут…
© Copyright: Василий Ершов, 2010
Свидетельство о публикации №21002110369
Летные дневники, Часть 5
1989-90 г.г. РАЗОЧАРОВАНИЕ.
14.11.88 г. Подготовка пилота первого класса обходится государству в среднем в один миллион рублей и занимает около 15 лет. Кто-то где-то это подсчитал и какой-то журналист озвучил.
Пусть я обошелся дешевле. Что-то не верится, чтобы в меня вбухали такие деньги. И первый класс я получил через… да ведь точно – через пятнадцать лет! Пришел на Ан-2 в 67-м, а ввелся командиром на Ту-154 в 82-м, тогда же и на класс сдал.
Так сколько же миллионов дохода получило с меня государство? Я прикидывал, округляя в меньшую сторону, примерное количество только пассажиров, перевезенных мною за двадцать лет, – где-то больше полумиллиона; и большую часть я перевез на лайнерах, летая от Львова до Камчатки. Беря среднюю стоимость билета даже 30 рублей (а на Камчатку-то из Красноярска – больше 100 р.) – и то получится миллионов 15, а ведь больше, гораздо больше. И если бы я не вез их за своей спиной, то насмарку труд всех остальных десяти обслуживающих работников Аэрофлота, приходящихся на одного меня.
Мы работаем экипажем. Даже разделив на четыре, выбросив значительную долю накладных расходов, – полагаю, что все-таки я один, сам, дал в карман государству, нации, народу, несколько миллионов рублей.
Это, естественно, наполняет меня известной гордостью за свое дело. И так же естественно спросить у общества, народа, государства: а что я имею – даже в бумажках, в рублях, – за свой труд?
Чистого дохода 6500 рублей в год.
Для сравнения. Капитан Боинга-747 в «Пан-Америкен» имеет 120.000 долларов чистого дохода в год.
Если отбросить в сторону сравнение покупательной способности доллара и рубля, пусть она даже будет равной (а это ведь далеко не так), то я против него – нищий.
Ну, лайнер-гигант, не чета Ту-154. Но на Боинге-727, аналогичном моему, думаю, доход капитана отличается от моего так же, как мой заработок – от заработка уборщицы.
Ассистентка зубного врача в США, окончившая краткосрочные курсы после средней школы, имеет доход около 10.000 долларов в год. Сержант полиции – 36.000.
Почему? Почему мне нельзя так?
А жирно будет.
Мое отечество, государство мое, беззастенчиво меня грабит.
Это общество воров, демагогов и лжецов, захвативших ключевые посты.
А такие дураки, как я, честно вкалывают и стоят в очередях со своими жалкими бумажками, ожидая, пока мафия милостиво кинет кость. И слушают речи…
И я не шибко-то уверен в завтрашнем дне. Не уверен, имея малогабаритную 4-комнатную квартиру (максимум мечтаний по советскому стандарту), дачу (4 сотки земли, домик 20 кв. м, банька, теплица), подержанный, битый-правленый, 12-летний «Москвич» и гараж к нему. И главное: пенсию 180 р., год назад зубами вырванную летным составом у правительства под шумок перестройки.
Остеохондроз, измочаленные нервы, хронический обструктивный бронхит и начинающаяся астма, которая душит по ночам, – вот здоровье пилота, пролетавшего двадцать лет. И надо еще сказать спасибо, что нет геморроя, что сердце нормально работает, давление, зубы и желудок пока тоже в норме, да очки еще не нужны.
Год не писал. Думал всё: побаловался, потравил душу, выговорился.
Помнится, оставалась куча нерешенных, беспокоящих меня аэрофлотских проблем, из источников массовой информации лилась потоком гласность, а на собраниях начинал проскакивать плюрализм.
Вымотавшись, как обычно, в прошлом сентябре до ручки, устроился впервые в жизни в санаторий (по блату), отдыхал, лечился, танцевал, упивался отдыхом и одиночеством и думал, что есть еще порох в пороховницах. Вернулся оттуда чуть простывшим, ну, акклиматизация; кашлял, кашлял, летал, добавил простуды еще в Игарке, но успел под Новый год, кашляя, пройти без замечаний годовую медкомиссию… а через неделю свалился с пневмонией, которая дала осложнением тяжелейший астматический компонент.
Оказалось, пороха-то уже почти нет, да и тот хорошо подмок. Ну, кое-как подсушили.
Самое обидное: теперь как чуть где пыль, или газ, или даже просто надышусь, работая руками, или от холодного воздуха, – астма давит. Год прошел, баня раз в шесть дней, как «отче наш», регулярно… а астма давит.
В стране события, исторические, эпохальные, гласность, обсуждения, революсьон! – а меня астма потихоньку давит. И взгляды мои потихоньку меняются.
Еще из меня что-то можно выжать, еще я летаю, да и самому надо – деньги, деньги, деньги! Но уже взгляд не тот. Я уже душой пенсионер. Выработался.
Я честно отдал свое. И пока я в системе, то вроде еще человек. Но уйду – кому я в этом обществе нужен. 180 рэ в рот – и заткнись.
А в стране-то! А в Аэрофлоте! А в крае нашем, в городе! Уже и Федирку поперли, и Долгих, его покровителя. И Васина убрали. И законы новые! И политическая реформа! И сахар по талонам! И какие-то партконференции и решения…
А я вот почитал-полистал газеты, и сам себе думаю.
Как организовались наши большевички в партию, так и стали грызться. Так и до сих пор. Как ни возьмешь списки нашего Политбюро за все 70 лет, так там всё враги народа. Всё под себя гребли.
А чем нынешние лучше? Дорвались до власти и всё сводят к одному: мы власть не отдадим. Этажом ниже – удельные князья. Этажом ниже – аппаратище. И все хватают куски.
Кунаев враг народа, а в Алма-Ате есть парк имени Кунаева и памятник Кунаеву. И Политбюро себе молчит.
Ничего пока не меняется, на четвертом году перестройки. Одна говорильня.
Не партия всколыхнулась, не 18 или там 20 миллионов возглавили перестройку. Нет. Перестройка понадобилась верхушке. Шатается трон. Шатается сам строй, как оказывается, не самый лучший строй-то. И приходится чуть попустить вожжи, а народу вдолбить, что вот он-то, народ, как раз целиком поддерживает партию, а партии вдолбить, что она-то целиком и полностью поддерживает Политбюро, а Политбюро целиком и полностью за царя, а царь-то… А царь-то говорит: нет уж, власть-то мы не отдадим, какая-такая другая партия?
Вот и вся демократия.
Если бы партия знала, что висит над плечами другая, оппозиционная партия, со своей, отличной от нашей программой, что народ может выбирать и отвергнуть скомпрометировавшую себя партию, и ее программу, и ее функционеров, и ее генсека…
Но генсек тут же, говоря о разделении партийной и советской власти, немедленно ухватил обе, и вот он уже и глава государства, и все вожжи в руках, и еще лет шесть впереди. Жить можно.
А власть мы не отдадим. Власть – это незыблемый порядок вещей, пусть и в обрамлении и завитушках гласности, плюрализма и демократии. Пар выпускается, море бушует, а утес стоит. И миллиардик партвзносов ежегодно (до недавнего времени) – на приемы, баньки, дачи, бардаки. Сейчас – чуть поскромнее.
Партия выжидает. Горлопаны и борзописцы себе пар выпускают, но партийцы – миллионы взносоплательщиков – молчат, да и не способны осмыслить, не способны на движение. Платят, единогласно голосуют и получают за это вожделенный покой.
Уйду на пенсию – уйду из партии. Какой ей от меня толк? А… взносы! Так вот, раз уж я не трибун и не борец и хочу покоя, то и кормить их не хочу.
Если бы абсолютное большинство членов положило свои партбилеты, то тем жрать там стало бы нечего, и завертелись бы. Но… каждый боится репрессий: станут съедать на работе.
Недаром партконференция не приняла и даже не ставила на повестку дня вопрос о добровольном выходе из партии. Какие там собрались делегаты – да все те же функционеры, что от взносов кормятся.
А от меня партии толку – пшик. Уйду.
Надо пролетать еще полтора года. Пока не проявится новый закон о пенсиях. Меня единственно волнует: снимут ли потолки на дополнительный заработок пенсионеров. Кому они выгодны? Потолок – это узда. Узда – это власть.
Если снимут потолки, то я смогу устроиться на любую работу, куда позволит здоровье. Не пыльную, с минимумом ответственности, позволяющую вести свободную личную жизнь.
Медицина говорит, что мне не выжить в чадном городе. Мне надо в Крым. Но там меня никто не ждет, тем более без здоровья, пенсионера, нахлебника. Может, удастся где-то в деревне купить домик. Но для этого придется продать дачу и гараж, а больше я за всю жизнь не скопил. Я же летал не на проклятом Западе.
Либо уж догнивать здесь. В чадные дни – на дачу. Разделить квартиру, отдать дочери половину, да и не мечтать о юге, тем более что там кроме Крыма нигде нет сухого чистого воздуха, а только масса людей, ютящихся в тесноте.
Все эти мысли меня занимают гораздо больше, чем моя работа, полеты. Это ремесло привычное, и хоть ярмо, отполированное до блеска, все сильнее давит, пока тащу. Стараюсь делать дело добросовестно, в такой степени, чтобы не подзалететь по собственной глупости. Мелочи в авиации есть; ненужные я опускаю, отгребаю все это дерьмо, но собственно полет – там уж без дураков. Тринадцать тысяч часов налетал, четырнадцать, думаю, не натяну. Могут списать и вот на этой комиссии, через два месяца. В той же барокамере может астма сдавить.
Я готов. Устроюсь в любой конторе электриком-столяром-сантехником. Дом у меня в этом отношении вылизан, все это я умею, литература есть.
Вот такие настроения в 44 года. Уж не жду от жизни ничего я.
Любую статью открываешь, два абзаца, – и все ясно, можно не читать, вывод известен.
Мой родной Аэрофлот меня не колышет. Мне наплевать на его проблемы и перспективы. Он забрал мое здоровье; я вырвал свою пенсию. Огромная усталость – вот единственное.
И плавно за этот год я пришел к позиции спокойного стороннего наблюдателя.
Перестройка, море гласности – в какой же кошмарной империи зла мы живем! – плюс болезнь. Этого достаточно. Наивный человек получил ответы на все вопросы.
Если бы не деньги, деньги, деньги, – дочь невеста, замуж после третьего курса; потом помогать; да машину бы новую; да и хватит, – то надо еще года полтора пахать. Но это вопросы скорее уюта, чем жизни. Проживем, если припечет, и без уюта.
Есть природа, физкультура, дача, банька, лопата, уютная квартира, книги, музыка, родное гнездо, где все вылизано, где тебя ждут, и ты ждешь, где покой, отдохновение, тихая пристань, моя крепость. И идете вы все пляшете. С вашей партией, громогласностью и прочей демократией.
Я свое отдал, начинается подготовка ко второй половине жизни. Меньшей.
Только вот астма по ночам тихонько давит, а я же еще не нажился на свете.
15.11.Страшное преступление совершили большевики перед своим народом, втоптав в грязь веру в бога.
У человека должно же быть что-то святое, незыблемое, нравственный стержень, опора, отдушина, высокая чистота, неприкосновенный центр, запретная грань.
А что дала взамен народу, сотням миллионов, партия? Веру в мировую революцию? Классовое сознание? Моральный кодекс строителя коммунизма?
Жалкий, наивный Макар Нагульнов…
Когда комсомольцы, задрав штаны, в азарте рушили храмы, топтали вековые святыни, – неужели не дрогнуло сердце от ощущения своей мерзости? Да дрогнуло, конечно, но это сложное, трепетное, искреннее чувство тут же бодренько было затоптано функционерами… а люди все же прятали глаза друг от друга.
И на каждом этапе партия, неспособная дать людям веру в единое святое, прагматично швыряла в массы лозунг. То – «наше дело правое, мы победим», то – «поднимем, засеем целинные земли», то – «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизьме», то теперь – «каждой семье отдельную квартиру к 2000 году».
Во что веровать? Кому верить, если все предыдущие вожди – лжецы и враги народа?
Вера разрушена. Корни подрублены. Народ, крестьянский, христианский народ, носитель вековой морали, кормилец, – загублен. Культура – угроблена. Рабочий класс, на который возлагались надежды, туп и развращен. Классовое сознание оказалось тормозом. Партийность искусства – тупик.
Не перед кем исповедаться. Да и зачем? Что – перед политработником?
Сейчас, прожив отпущенные мне полсрока, воспитанный в атеизме, без веры, осмыслив в доступной мне степени жизнь, я смутно ощущаю, что все мое поколение, да и поколения отцов наших, и детей, – все мы с младенчества духовно кастрированы. Умом мы понимаем, а душой не чувствуем, что какой-то корень из нас вырезан. Мы в нем вроде как и не нуждаемся. Именно вера – корень души. Бездушное поколение.
Что ж удивляться тому, что лишь в пяти странах мира, в том числе и у нас, нет обществ защиты животных. Ну, те, четыре, может, только с деревьев слезли. А мы?
Когда Рейган в свое время назвал нас «империей зла», мы ох как возмутились. Да мы! Да у нас! Да этого… вашего… секса – у нас нет!
Да мы – куча гниющего дерьма.
Цивилизованный мир взирает на нас со снисходительной улыбкой… держа на всякий случай палец на спусковом крючке. Страна зверьков… Скифы, азиаты…
Дак ведь Япония – тоже азиаты. И какая-то марионетка Южная Корея… в первой десятке развитых стран мира… второе место по судостроению после Японии.
Вот оно куда завели нас большевики. И теперь опомнились. Великая заслуга партии – увидела первая, куда мы забрались, и первая забила тревогу, и первая организовала массы на перестройку.
Да уж, в баньках и бардаках оно виднее всего. И тревожнее за нас, сирых.
Нет, не партия. Нет, не рабочий класс. Недобитая интеллигенция все воевала, прослойка жалкая между развращенным, пьяным люмпеном-рабочим и изверившимся, так же развращенным и пьяным деревенским стариком. Сахаров воевал.
А уж когда дошло до ручки, то в Политбюро зашевелились, забегали. А до этого почивали, царствовали, лежа на боку.
Власть же в стране у ведомств. У монополий. У мафии. У торгашей. И всем им выгодно прикрываться эгидой партии. Как вроде она единственная правящая.
А народ, глядя на это, ох и ворует. С чего бы?
Так если большевики еще с гражданской и до 50-х годов натравливали детей на отцов, рушили живые связи, рубили веру, корни, ставили все с ног на голову, отворили все шлюзы: руби, коли, вешай, подличай, предавай, доноси, греби под себя, вышибай стул, гадь в алтаре…
Велика вина партии перед народом.
Ни в одной стране партия не ведет народ за собой. Ни в одной. Ну, разве что в Северной Корее. Народ везде живет сам, а в партии люди объединяются для достижения каких-то своих интересов, чаще всего – власти.
А у нас партия сплотила страну в единый концентрационный лагерь – и ведет… в тупик.
Но я прожил жизнь, двадцать лет в той партии – и почти не соприкасался с нею. Она себе шумела, я себе работал. И так – миллионы.
Нам говорят: у нас накоплен громадный потенциал. Да, если подпереть плотиной озеро фекалий, то это тоже потенциал – а ну как прорвет! Всё гниль, а главное – люди. А во что верить?
Кинулись: даешь индивидуальность! Ну, куйте, куйте теперь личность.
18.11. Итак, мы живем в стране зверьков, безголовое сообщество которых закостенело в своих догмах, остановившись где-то на уровне 50-х годов. Правда, мы прочно держим первое место в мире по чугуну. Но в шахтерском городке Артеме, куда я регулярно летаю, его величество шахтерский народ все так же ютится в бараках, обшитых и крытых рубероидом.
Наш потенциал – потенциал чугуна. Все силы нашего общества партия направляет на вал чугуна, который ржавеет потом под забором; на вал сельскохозяйственной продукции, которая гниет потом в поле, на складах и базах; на вал удобрений, которые потом размываются дождями и отравляют нашу землю; на вал бумаг, долженствующих показать всем нам видимость нашей зверьковой деятельности; на вал помощи дружкам за границей, в бездонную и неблагодарную прорву, которая жирует и смеется, и презирает нас, зверьков.
Что ни возьми у нас – все второй свежести, второго, третьего и четвертого сорта, брак, некондиция. Все не мое, все – государственное, через пень-колоду, наплевать.
И как-то же надо в такой стране жить, ведь это – моя Родина… Некогда сильная и красивая, а ныне жалкая, поруганная, забитая, оплеванная и заблеванная, заголившаяся в канаве, но еще что-то лепечущая окружающим пьяница-мать. И мы, дети ее… как мы смогли допустить такой позор?
Эти оголтелые марксисты, со своим ортодоксальным видением мира скоро уже вообще не будут серьезно восприниматься цивилизацией. Больно уж негибка теория, больно уж прямолинейна.
Ну кто всерьез воспринимает в мире Ким Ир Сена или Кастро? А нас… нас пока еще побаиваются.
Свою страну накормить не могут, страну, которая мир кормила в свое время. Но навяливают идеологию, на штыках несут в феодальные страны. Африка вымирает, а мы ей все свою классовую теорию навяливаем.
Сколько я ни смотрю на наш теперешний, «развитой» по Брежневу социализм, ей-богу, хоть возвращайся в капитализм.
Народ тоскует по хозяину. Не по Никите Виссарионовичу Гитлеру, а по хозяину на каждом рабочем месте. Бесхозяйственность разорила страну и убила в людях все желания, кроме древнеримского «хлеба и зрелищ».
По сути, мир смотрит на нашу страну как на источник сырья, а на народ как на кладовую дешевой неквалифицированной рабочей силы.
Мы не умеем трудиться. Нет, конечно, как-то, на уровне начала 20-го века, шалтай-болтай, через пень-колоду, мы кое-что умеем.
Ходячее выражение на Украине, упрек тем, кто запился вконец и на работу ходит через раз, да еще и на судьбу жалуется. Так вот, ему с упреком говорят: «пить-то пей, но оно ж надо ж еще трошки и работать».
Вот именно: «трошки».
Летчики, полетавшие за границей, рассказывают. В Африке где-то аэропорт международный. Страна друзей. Прилетает наш Ту-154, заруливает; встречающий техник пальцем не шевелит, покуривает, лыбится, ручкой эдак: «прифэт, камарад!» Тут надо руководить заруливанием, колодки подставить под колеса, а он – «прифэт».
Садится «Боинг», заруливает; колодок нет. Выключился, выходит пилот, молча подсрачник негритосу ботинком, и пошел себе, а тот бегом колодки подставил, шустренько забегал вокруг самолета, работает. Вот так.
В буржуйском обществе буржуй и сам не сидит, и вокруг него не сидят, там вертятся люди. Та система опирается на жестокие законы природы. Или ты – или тебя. Там если гуманизм возник и культивируется – так это отдушина сытых.
У нас же гуманизм везде. Да только жестокое наше общество. Вот любой к тебе подойдет, злости у всех хватает, и может запросто, за так, зарезать.
Я сам наблюдал картину, как по улице бежал мужик с ножом и орал, пьяный: «Ну! Кто на меня! Подходи! Зарррежу!»
У них зарежет тот, кто иным путем уже не может добыть кусок хлеба, изгой, исторгнутый жестоким обществом. А у нас это может быть хоть сынок генсека, и спроси его, за что человека зарезал, – не ответит, не знает сам.
Да, у них негров, индейцев загнали в трущобы, им закрыты пути к образованию и далее – к высококвалифицированному труду. Единицы, однако, пробиваются. А те, кто хотят, да не могут… или не очень хотят, остались на обочине. Так сложилось исторически: не люди-неудачники, а целые племена послужили ступенькой другим, более жизнеспособным.
Негуманно? Ну и плачьте над ними. На себя оглянитесь, на 30-е годы.
А у нас десятки миллионов бичей или бичеобразных алкашей – мы их лечить собрались. Вот 50 процентов нашего труда и уйдет на их лечение… а ведь не вылечим. Гуманно ли это по отношению к нации? Им все пути открыты, да им наплевать на те пути и на всех нас.
Нам как воздух нужна безработица, вернее, ее страх. Говорю это как человек, двадцать лет проживший под таким страхом. Это как нашатырный спирт: неприятно, но хорошо прочищает мозги. Зная, что такое «волчий билет», наш брат-летчик относится к работе очень и очень ответственно. И пусть воры из министерства не тычут меня носом в тот или иной случай разгильдяйства экипажа. Во-первых, на себя там, в министерстве, ворье, оглянитесь, а во-вторых, кто знает истинную подоплеку наших ЧП?
Или это вор К., загребший под себя шикарную московскую квартиру, вместе с вором В., за воровство сосланным аж в Монреаль, в реку с чистой проточной водой, на проклятый Запад, – или это командир корабля, ютящийся с двумя детьми в однокомнатной конуре и не поспавший раз, два, три, двадцать три, сто двадцать три раза перед вылетом.
Или же это блатной, приблатненный, сынок, кум, сват, брат, – которого десять лет возили на правом кресле, все-таки по блату ввели в строй, и на 115-м часу самостоятельного налета отправили рейсом в Норильск, где он благополучно и разложил новенькую «Тушку» на пупке.
Так что, я считаю, страх безработицы живо поднял бы дисциплину везде. И это было бы по законам природы, а не выдуманного большевиками гуманизма.
Да простят мне истинные большевики, те, что жизни отдали за нас, дураков, те, что кроме той кожаной куртки или шинели, ни о чем не мечтали, а только о мировой революции. Кто ж виноват, что поверили и сгорели.
А я вот подвергаю сомнению. Как грызлись они тогда, догрызлись до того, может, что и Ленина умерли раньше времени, чтоб божка создать – да что божка… бога, еще какого, – так и сейчас грызутся. «Ты неправ, Борис! Мы тут на износ работали, особенно генсек…»
И я себе на износ работал. Верил, что создаю потенциал… Да только, возя самолетом проволоку и шурупы, не очень верилось: больно уж накладно.
Разве ж буржуй будет возить шурупы самолетом?
И людей когда возил, а из них половина – командировочные, то себе думал: да разве ж так уж необходимо перемещать десятки, сотни миллионов человек, просителей, толкачей? Разве для этого мой труд?
Да кто там нас спрашивал. А толкачи при нашем толковом народном хозяйстве были, есть и будут, и много.
19.11. Сценка из жизни советского офицерства в Артеме, в военном городке, в магазине, куда и мы, аэрофлот, как-то забрели в поисках дефицита.
Дают разливную сгущенку. Толпа офицеров, их жены, дети, нижние чины, ну, и мы в синей форме. Советский офицер кричит советскому офицеру: эй, ты, куда лезешь снова без очереди, а то вытащу и по шее накостыляю. Тот огрызается; матросики наблюдают; народ безмолвствует. Мы покраснели и ушли. Чего тут комментировать.
21.11. Заходим в Куйбышеве с юга, посадочный 151, прошли Смышляевку, держим курс 330 в район траверза. Погода средней противности, обледенение в облаках. Я себе орудую интерцепторами и регулирую режим двигателей, поддерживая оптимальное снижение. И вот, уже на высоте круга, диспетчер дает нам курс 360, потом еще правее, 20; на наш запрос о боковом удалении дает 11 км, когда тут ширина круга 8; короче, явно уводит нас вправо. Мысль: может, борт впереди заходит навстречу, на 151 с прямой, от Кошек, и нас оттягивают? Так нет: зачем вправо-то?
И вдруг доходит: а не сменили ли посадочный курс? Короткие дебаты в эфире: «Да, сменили, на 232, слушайте АТИС».
Леша вслушивается в информацию АТИС, зажал наушники руками, чтобы в тысяче данных уловить главное: ветер и коэффициент сцепления. Я пилотирую один; мы слишком быстро приближаемся к новой посадочной прямой, идем с этим курсом от 3-го к 4-му развороту. Витя долбит НВУ, пытаясь набить данные на новый посадочный курс. Я краем глаза слежу, выставил ли Леша цифры 232 на своем ПНП, и долблю Витю, переключил ли он привода и КУРС-МП; одновременно даю команды о режиме двигателей, шурую интерцепторами и деру машину, лихорадочно пытаясь погасить скорость и поскорее выпустить шасси; но по МПР мы уже где-то на посадочном, а скорость еще 400, провернемся; точно: круг отпустил на посадку, посадка дает, что мы провернулись и уже справа 4000. Удаление по «Михаилу» 16 км, есть еще запас…
Короче, к точке входа в глиссаду мы все успели, на пределах, без нарушений… кроме контроля по карте в связи с изменением посадочного курса. Леша успел принять, что Ксц=0,41, но я тут же забыл цифру, лишь понял, что сцепление не ахти, но по ветру проходит. Где-то на 150 м увидел полосу.
На земле Лешу все подмывало посоветовать службе движения, чтобы чуть пораньше давала знать экипажу о том, что меняют посадочный курс. Я же, зная Куйбышев, отнекивался: бесполезно. Заспорили.
Ну, позвонили РП. Тот тут же задергался и, еще не зная опасности, судорожно стал обставляться обтекателями. Короче: слушайте вовремя АТИС, да скажите еще спасибо, что вас не вывели на привод и не заставили сделать чемодан, как положено, а завели по кратчайшему.
Ну что ж, хорошо, что нам, опытному экипажу, понадобилось всего 10 секунд, чтобы сориентироваться в обстановке и уложиться в маневр на пределе возможностей. Мы это уже давно умеем, но… через год уйдем на пенсию. Пусть молодежь набивает шишки сама. А диспетчер такой помощник, что его благими намерениями мостится шоссе в ад.
Короче, Леша констатировал, что прав был я.
А ведь умный диспетчер, десятью секундами раньше, чем дал нам первую команду на отворот вправо, да скажи только: посадочный сменили, 232, сцепление 0,41, ветер 170, 7 порыв 9, – и всё. Мы каждый знаем, что делать; нам бы хватило 10 секунд: тут же задрать нос, интерцепторы 45, скорость 400, шасси, закрылки 15, 28, убрать интерцепторы, режим 80, скорость 320, – и спокойно брать тот курс 20 к третьему левым на 232, снижаясь до 400 м, перестраивая навигацию, и бубнить карту.
Но тот РП никогда не летал, тем более, на Ту-154. Каждому свое.
Пока еще инициатива в Аэрофлоте наказуема, и этого хватит на весь мой недолгий летный век.
Репин уже год как на пенсии. Ждал-ждал обещанное ему место инструктора тренажера, но с тренажером воз и ныне там, и Репин пока подрабатывает на своей «Волге», и зарабатывает вдвое больше, чем командир на Ту-154, и, кажется, уже плюнул на Аэрофлот.
Вот так уходят Мастера.
Зашатался Союз нерушимый республик свободных. Прибалтика под шумок перестройки пытается освободиться от нашей свободы. Разговоры о полной хозяйственной независимости, вплоть до своих денег, службы в армии прибалтам – в Прибалтике, их зэкам тоже сидеть не в Сибири; а теперь уже – и не подчиняться союзной Конституции.
Так это, считай, – отделение от Союза. Помчались туда эмиссары из Политбюро, чтобы овладеть обстановкой.
Тут Ереван опять бастует. Те грызутся за Карабах.
По мне – так метитесь все. Отделится та же Эстония – с ее культурой, традициями, опытом демократии, организованностью, национализмом и ориентацией на Запад, – будет жить. Процветать будет. И скоро. Там хозяйство отлажено, и как только империя перестанет грести под себя, «колхозу на пропастишшу», – озолотятся. И себя прокормят, и нам еще втридорога продадут.
И братья-армяне то же самое. Армения всю жизнь была на торговом перекрестке мира. У них свои традиции, законы, нравы, стремления, условия жизни. Страна торгашей, она не пропадет.
Весь мир уже пришел к выводу: войны атомной не может быть, а обычная война в странах, перенасыщенных опасным производством – атомным, химическим и др. – хуже атомной. Тысячи Чернобылей.
Военный бюджет пожирает все. Надо сокращать. Около этого пирога – миллионы и миллионы тунеядцев, в военной форме и в штатском.
И спрашивается: зачем той Эстонии сумасшедшие расходы на оборону? Конечно, она будет стремиться выйти из Союза. Наверно, выплатит какую-то контрибуцию, но обретет истинную свободу, свободу от медвежьих объятий старшего братца. Проведут референдум… То-то они так противятся притоку инородцев.
Конечно, старшой братец так запросто не отпустит. Ну, поглядим.
Вообще, если представить на минутку, что империя зла развалится, что от России отпадут все республики, то, вздохнув свободно, на своих малых территориях они за десяток лет сделают то, что, при нашей союзной неразворотливости, не сдвинуть и за полста.
Главный бюрократический аппарат – в Москве. Там центр мафии. Там главный тормоз. И заманчиво было бы обрубить концы – и суверенитет. А Расея пусть себе остается. Сырьем снабжать будет.
Ну а какой другой путь? Ну не идет перестройка, одна говорильня. Только оклады повышать. А работать не хотят: трудно это – работать. А кто хочет работать, тот повязан. Законами, инструкциями, завистью соседа, да просто общественным мнением, что ему, мол, больше всех надо.
Эх, кондовая, дремучая Русь.
23.11. Вот всё говорят: Сталин да Сталин. Один Сталин – главный палач, он все организовал, он содеял.
И партии выгодно это.
А где была партия в то время? Да, я понимаю: была индустриализация, надо было поддерживать энтузиазм народа, одной рукой… а другой, выходит, бороться против классового врага?
Где же коллективный разум – основа, для чего люди, собственно и сбиваются в партию, – где он? Что – не ведали, что творили?
Кладешь на весы хорошее и плохое.
Да, индустриализация, да, выжить. Но кругом враги, их десятки миллионов, их уничтожить! Как же так?
Я вырос в неведении. Помню еще песни о Сталине, певали в школе, как же. Ленин – Сталин – партия – наш рулевой.
Период Хрущева я помню хорошо уже после ХХ съезда. Но как плевали на портреты Сталина, я тоже хорошо помню, и помню потрясение: как же так – на Отца!
О каких-то репрессиях я услышал всерьез уже в 61-м, в институте. Но к тому времени разговоры об этом как-то уже глохли, а вот в Китае набирала силу «культурная революция», и там уж было видно, что такое культ личности, и в сомнительном ее свете как-то высветился и культ Сталина, можно было сравнивать. Но и раздувался культ Хрущева.
Время было бойкое: космонавты, лозунги, «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизьме…»
Как – вот это я уже буду жить при коммунизме?
Слишком разительным был контраст с реалиями, чтобы поверить. Начинало доходить, что – туфта. И партия… что ж: партия организовала дворцовый переворот; вот на что только ее и хватило.
Короче, партию уже тогда заела текучка, а народ – неверие.
Значит, в 30-е годы, когда началось уничтожение народа, лучшей его части, партия и себя подчистила, и в первую очередь-то себя, и не слабо. Это, что ли, заслуга, чтобы кричать на всех углах «Слава КПСС?»
В войну тоталитарный режим пошел на тоталитарный режим. Два единых концлагеря сшиблись. Две партии сплотили свои народы. Но та партия опиралась на самое низменное, на инстинкты, на вековой воинственный дух, на жажду наживы. А наша? На культ вождя. На еще живой энтузиазм. На политическую слепоту народа, не раскусившего этого вождя. На патриотизм русского народа, русского крестьянина, еще не выбитого, еще несшего в себе вековую народную мораль и силу. На кнут над спиной крепостного, тылового колхозного крестьянства. На классовую сознательность кадровых, во многих поколениях потомственных стариков-рабочих, вокруг которых организовались женщины и подростки.
Да, партия умело поддерживала этот дух. Да, победили. Но кто довел нас до такой войны? Кто братался с Гитлером? Кто рубил свой же сук, уничтожая цвет армии?
Тут куча противоречий, за и против, и я опять же не могу и тут честно сказать «слава партии». Далеко тут до славы.
После войны… Что ж, я в 64-м году, через 20 лет, еще видел в Кременчуге развалины. А в 68-м был послан в колхоз, в енисейскую деревню Масленниково, где еще никогда не было электричества.
А в это время проклятая ФРГ уже была в первой десятке. Кто же кого победил?
А мы поднимали целину, и пыльные бури в Казахстане и гниющее зерно в полях отнюдь не поют славу партии.
Но все же пелось:
Знамена шумят величавым прибоем,
Отчизна труда изобильем полна,
Нет крепче на свете колхозного строя,
Сильна необъятная наша страна!
Цветет как сад любимая отчизна,
И радость жизни входит в каждый дом.
Горят над нами зори коммунизма,
Мы славу мудрой Партии поем.
Что ни слово, то ложь.
Пошли книги, где гальванизировался труп Хозяина. Мы-то, дураки, наглядевшись на буйство Никиты, думали, что воздается справедливость. И так я и мыслил еще, пожалуй, года три назад, и желал, чтобы, к примеру, Волгоград назвать снова Сталинградом. Все же человек начал с сохой, а кончил с атомной бомбой…
Наивняк.
А теперь… я думаю и думаю.
Где ж была та партия, когда на ее глазах крепостной народ хлынул в города – чтоб выжить. Нынешний его величество рабочий класс – это же лишь в первом поколении рабочие. Это же люмпены по сознанию. Где им до кадровых питерских.
А партия рассказывала сказочки про мясные комплексы. Слава ей?
Я не знаю, чья заслуга, – но народ разогнан, достоинство Мастера уничтожено, культура забыта, кормимся объедками Запада, молодежь бездуховна, комсомол – пример махрового бюрократизма и лжи, и кругом ложь, и гниль, и сомнения.
И сам я, продукт эпохи волюнтаризма и застоя, конформист до мозга костей, приспособленец, слабый, бесхребетный человек, с кашей в голове, – какой я коммунист? Какой борец, трибун? Во что я верю?
Во мне лишь глухое раздражение, тяжкая обида прозревшего кастрата, сознание того, что все насмарку.
Партия сейчас, кого ни возьми, это портфель и кресло. И блага. В партию сейчас вступают лишь те, кто твердо уверен: перестройке не быть. Или дурачки, неспособные оглянуться назад.
А я оглядываюсь и вижу: миллионы жертв – они были нужны? И миллионы обид за эти жертвы, и миллионы надежд, и миллионы разочарований. И всеобщий страх, приспособленчество и двуличие. И правила игры, которые заданы сверху раз и навсегда, правила, которые мы принимаем. Неверие, цинизм. Низменные инстинкты. Мне, мое, много, урвать. Хорьки.
Разрушена Личность. Ущербен Мастер. Торжествующий хам у власти.
«Лишь бы не меня».
На что опереться?
На Мастерство?
Я слыхал, читал о когорте умельцев, закрывающих крышку часов паровым молотом или коробок спичек – ковшом экскаватора, или нивелирующих бульдозером на глаз стадион с точностью 2-3 сантиметра. До некоторой степени и себя примазываю к этой же категории: ведь иной раз притрешь самолет двенадцатью колесами к бетону со сравнимой точностью и мягкостью. Наверно же и я профессионал.
Но… срок вышел. Да и нет во мне той особой профессиональной гордости, высокой, что отличает Личность. Ну нет, я не цельный человек. Да и поищи их нынче, цельных. Слава КПСС.
Может, опереться на Веру?
Так нет веры. Ни во что уже я не поверю, пусть там Горбачев хоть золотые горы обещает. Не верю ни в бога, ни в духовный потенциал общества. Нету ни того, ни другого, ни третьего. Все ложь и суета.
Краткий курс истории партии. После революции она первые десять лет грызла друг другу глотки за трон, потом объявила царя, потом, уже по его указке, стала рубить головы и себе, и лучшей части народа; в 30-е годы организовала в стране голод, а страну превратила в концлагерь; зная о грядущей войне, не смогла к ней подготовиться, только захватила чужие земли и присоединила к своим, заложив мину замедленного действия на долгие годы; потом загубила 20 миллионов человек «малой кровью, могучим ударом»; силой насадила в половине Европы тоталитарные марионеточные режимы на штыках; потом десять лет вырубала под корень все, что еще порядочного осталось среди интеллигенции; отбросила назад ведущие науки, и теперь мы отстаем от мира на 20 лет; потом десять лет метаний, заскоков, прожектов; сотни тысяч судеб одним росчерком пера; добили деревню окончательно; потом двадцать лет разврата, разбазаривания пресловутого потенциала – и окончательный духовный распад общества. А теперь – снова «слава партии». И она поведет нас вперед… или назад?
И нельзя порушить эти дворцы всевозможных комитетов, нельзя выгнать и дать лопату в руки этим миллионам бездельников и демагогов…
Нет, я партии славу петь не могу и не буду. Вела она народ, как Сусанин, и завела в такое болото… Нет, партия перед народом в большом долгу., велика ее вина, а мнимые заслуги явно завышены. И еще неизвестно, что было бы с Россией, избери она иной путь. Выбор был ведь?
И на Ленина нечего ссылаться. Еще на Петра Первого бы сослались. Время Ленина прошло, заслуги его не забыты, воздано ему сверх меры, нечего на него оглядываться, надо искать свои пути. Не мог Ленин видеть на 70 лет вперед, не мог и советовать. Сейчас век коллективного разума, да, к сожалению, его у партии нашей всегда не хватало.
А причина, на мой взгляд, в том, что это партия – рабочего класса, и шоры классового сознания – не по нашим скоростям. Нынешний рабочий уже не определяет судьбу нации, а если, даст бог, подтянем свое научно-техническое отставание, то через двадцать лет мускулы и вообще станут не нужны на производстве, а значит, доля рабочего класса слишком уменьшится, чтобы как-то влиять на судьбы народа.
Мы же сознательно упираем на пролетарское происхождение. Хотя Булгаков, оплеванный в свое время «грядущим хамом», очень правильно показал, в чьи руки мы отдаем вожжи.
У рабочего много хороших качеств, но главного – теоретического ума – у него сроду не было. Так давайте скажем правду. У нас и в Верховном Совете одни министры да пролетарии, а надо же думать и решать.
Партии рабочих всегда нужен вожачок. Где ж тут коллективный разум? Партия рабочих не способна контролировать действия своего лидера, это хорошо показала история.
Нужна новая партия, партия мыслящих людей, в полной мере владеющих арсеналом демократии Сейчас задачи настолько сложны, что рабочему, колхознику, их просто не осмыслить.
Значит, самый революционный класс становится тормозом. А если его обучить, то это уже не рабочий, а значит, не самый революционный. Не так ли?
А не пора ли забыть про эти классы?
Думать, думать надо, а мы не приучены. Фюр… лидер думает за нас.
28.11. Лидер в своих речах через слово упоминает об ответственности, рабочем классе и потенциале. В связи со стремлением Эстонии обрести самостоятельность, сбросить с себя иго метрополии, он счел нужным толкнуть речь, где всячески отрицал самую возможность такого безответственного шага. Тут были и весь опыт истории Советского государства, и интересы пресловутого рабочего класса, и многое, многое другое из богатого демагогического арсенала.
А я, вспоминая прошлые годы, пытаюсь разобраться. Еще три года назад я мыслил вдолбленными стереотипами. И если что и критиковал, то все же в душе сомневался: как же тогда все-таки мы достигли вершин прогресса, как же мы все-таки стали передовым государством? И не партии ли заслуга? И сомневался во всем.
Сейчас, самое главное, я понял, да и не один я наверно. Мы – не есть передовое государство. Мы – не вершина прогресса. Мы – не первые. Мы – не главные в этом мире. Мы – такие же, как все, если не хуже. Да намного хуже! Мир ушел, ушел далеко вперед. У мира был выбор; у нас – не было.
Мы изо всех сил догоняем. Всеми методами. Насилием, обманом, верой в партию, в марксизм-ленинизм, верой в его интерпретаторов. Пытались было даже обогнать, да мир, увидев нашу голую жопу… ну, посмеялся.
Итак, партия, уничтожив внутри себя инакомыслие, стала не партией, а группой возомнивших о себе, запятнанных кровью, демагогически прикрывающихся именем Учителя преступников, возглавляющих стадо послушных взносоплательщиков. И повела, нет, погнала народ к какому-то, только ими правильно понимаемому светлому будущему.
И если рабочий класс верил этой камарилье, то только обманутый в своем невежестве.
И если кто из крестьянства верил, – то только бездельники, расхватавшие и пропившие то, что партия бесстыдно отобрала у настоящих, крепких хозяев земли.
И если кто из интеллигенции верил – то лишь те, кто понимал, что – не сдвинешь и надо приспосабливаться. Но вряд ли настоящий интеллигент, с его вселенской болью, верил. Кто хотел выжить – помалкивал.
Сейчас прикрываются Сталиным. Может, через двадцать лет, прикроемся Горбачевым, обвиним его во всех наших бедах?
Меня-то все эти вопросы так уж не волнуют. Наблюдаю и поддерживаю в себе мыслительный процесс, необходимый для биологической жизни. К слову, на мой взгляд, летчики потому долго и не живут на пенсии, что мыслить не умеют, и мозг, лишенный потребности думать, угасает. Нам же надо только соображать… да прыгать.
Итак, выросло уже несколько поколений партийных функционеров, с молоком матери впитавших в себя сознание того, что партия в нашей стране есть цемент всего, что это нервная система, имеющая чуткие окончания везде, что поэтому ей до всего есть дело, и даже, наоборот, без нее родимой ни одно маломальское дело не пойдет. И что это кормушка: партийный функционер, жрец, так сказать, партии, иерей, должен быть обеспечен так, чтобы все свои силы отдавать на благо.
Ну, на чье благо, ответ известен: спросите у любого на улице, он вам простым русским эпитетом объяснит. Себя, во всяком случае, и деток своих – не забывают, мимо рта не пронесут. И не в шинелях ходят. И не ходят, а их возят.
Иереи выработали особый взгляд на массы. Как на каловые. Массы должны быть беззаветно преданы и регулярно, два раза в год, строем, с песней, в ногу, эту преданность иереям демонстрировать, вязко протекая пред трибунами. Чтобы знал, говно, кому кланяться.
Чтобы попасть в касту, надо было хорошо пообломать рога в комсомоле, научиться там бюрократическим и демагогическим приемам и накрепко зарубить себе, что – либо в клане, либо в массах.
Каких сил, какого таланта интриги, каких связей, пробивных и иных способностей, нюха, терпения, унижений, дипломатии и множества других свойств надо набраться, какую гибкость членов надо выработать, чтобы забраться на вершину партийной власти и возвыситься над всеми иереями! И еще и по первости понравиться массам.
И все же, анализируя так называемые встречи с трудящимися, приходишь к выводу: какие это встречи – так, видимость демократии. Им некогда. Два-три общих слова, уловили тенденцию, и поехали себе дальше.
Страшно далеки они от народа, дети райкомов, вскормленные молоком марксизма-ленинизма. Все равно им мир виден не снизу, изнутри, а сверху, с трибуны, через призму бюрократических напластований. Это, по сути, несчастные люди: человек себе не принадлежит, друзей не имеет, боится их; весь в деле, громадная ответственность… а ну-ка, если не войдешь в историю! Но – ВЛАСТЬ!
Полетел на днях со мной в Ташкент Левандовский. Ну, Левандовский так Левандовский. Одно из моих достоинств, из весьма немногих достоинств, состоит в том, что не боюсь авторитетов, проверяющих, и вообще, не шибко почитаю начальство. Ты покажи, а потом требуй.
Туда слетал я; он мешал. Но мешал в меру, на взлете и на посадке. Я показал товар лицом. Назад вез он; я не мешал и не помогал. Ну что: летать он умеет, все-таки опыт, налет 19 тысяч часов. Но на «Ту» я летаю лучше. На снижении мы ему хором подсказывали, но он все же пару раз пустил пузыря. Ну, сел прилично, хоть и с креном. Ладно, хоть летать может. Но на все наши расспросы о будущем нашего предприятия он ответил лишь упреками, что мы слишком нетерпеливы, нам бы только оклады повышать.
Короче, все то же. Все связаны старыми документами. Вот и вся перестройка. А мне полтора года летать осталось, не тешась иллюзиями, а думая лишь о том, чтобы исправно работать. Не отлично, а исправно. Мое мастерство никого не колышет.
Репин сказал: какой я был дурак, что раньше не ушел из этого ё… Аэрофлота. От себя добавлю: и кому были нужны его нюансы? Душе?
30.11. Слушаешь речи Горбачева – как правильно, красиво, умно говорит, как сладко поет…
Зайдешь в магазин, на рынок, на стройку, в автобус, в службу быта, автосервис, – хочется выть. Какая-то тихая, вязкая, вонючая, упругая стена. Людей этих поневоле ненавидишь.
Все то, о чем говорит, поет наша пропаганда, людям нужно. Мало того, жизненно необходимо. Мало того, если мы не успеем, то… А мы не успеем.
Мы не успеем!
Мне все это нужно, необходимо, но сам я жду, что сделает дядя. У меня готова куча оправданий. Самое честное из них – не хочу делать. Ну и там: здоровья нет, пенсия, я свое отработал, дал обществу достаточно, пусть теперь оно…
И еще одно. Как, каким образом я смогу изменить работу сервиса, автобуса, рынка, поликлиники, аптеки, конторы?
Ну, хорошо. На своем рабочем месте? Да уж здесь-то я как никто повязан инструкциями. И так – любой. И все ждут дядю.
Посвятить свою жизнь пробиванию хоть одной, маленькой, но нужной людям задачи? Убить себя, потерять здоровье, лечь на амбразуру, чтоб через полгода после смерти ни одна собака и не вспомнила? И все затянулось?
Для этого нужен фанатизм.
У меня в характере нет ни фанатизма, ни просто чувства борца. Я уступаю.
Я всегда, везде, при любых обстоятельствах, уступлю человеку. Я считаю, что ему нужнее. В очереди, в дверях, в благах. Я потерплю. Я подожду.
И это – коммунист?
Но мне выгодно пока считаться членом партии. Это непременный атрибут командира корабля, и даже если по совести сказать своим товарищам, то не поймут и шепнут в уголке: что – дотерпеть не мог до пенсии? Что – убудет тебя от той двадцатки в месяц?
А какой командир, с такими чертами характера?
Не знаю, мы с экипажем сработались и летаем вместе пять лет без единого, хоть для смеха, хоть намека на какое-то трение. Нам удобно. И мы умеем спокойно и хорошо работать. И, видимо, в такой обстановке люди раскрывают свои лучшие профессиональные качества.
Мы ни разу за пять лет не сидели за бутылкой и не встречались семьями. Нам это не надо. Нам всем за сорок и больше, у каждого свой мир, свои связи, знакомства, и у каждого большой опыт толерантности и конформизма.
Значит, такой я командир. И это совершенно, абсолютно не зависит от какой-то там партии. Есть она, нет ее, – а мы как работали, так и работаем. Есть, видимо, реалии, которые в летном деле поважнее беззаветной преданности.
Какие это реалии, я уже упоминал выше. Но партейный иерей, отвечающий за мою работу, как говорится, в партийном порядке, считает, что партия, лично он, провели среди меня достаточную работу, и мой экипаж – созревший плод этой работы.
Вот так воруют плоды из чужой оперы.
А мы экипажем летаем, едим, спим, бродим по пустым магазинам и дорогим рынкам, читаем газеты – годами вместе, и дружно, в бога и душу материм большевиков, наивно полагающих… а впрочем, они не так наивны. Они просто и по-хозяйски грабят наши плоды и считают, что за это мы должны платить им зарплату нашими взносами.
Нет сейчас должности позорнее, безавторитетнее и бесполезнее, чем должность замполита. Нет безавторитетнее и конторы, чем политотдел.
Потому что не найдешь среди нас сейчас дурака-пролетария, который глядел бы в рот замполиту. Читаем газеты, смотрим телевизор, думаем.
Дай мне жилье, умеренно материальных благ и сервиса. – и я сам буду зубами держаться за свое дело. Зачем мне комиссар сейчас? Что – при заходе в сложняке он впереди самолета скачет? А мы, с мокрой спиной, стиснув зубы, себе работаем и не думаем, что строим Храм. Нет, мы говорим: какой, к черту, храм – кладем свои, будь они прокляты, кирпичи в эту треклятую стену.
Чувство Мастера Репин за год разменял на ремесло частного извозчика. Вот тебе и храм. И наше мастерство мы осознаем лишь на уровне кирпича – мягкой посадки.
И воспеть некому, да и не для кого. Зачем молодежи летать, когда можно шашлыки жарить.
Кажется, мой мыслительный процесс еще не избавился от эмоций. Но время лечит.
Прорезался один интересный вывод. По нынешним временам, в сложных областях человеческой деятельности, будь то АЭС, транспорт, медицина, политика, – ЧП происходят чаще по вине рядового нажимателя кнопок. Это мысль не моя. Но система, созданная специально для того, чтобы нажиматель кнопок не ошибался, и нормально функционировал, в наше время настолько перегружена сама собой, что работать в ней, подобно лазутчику во вражеском стане, должно помогать чувство постоянной опасности. Хорошее, древнее, историческое чувство, чувство оглядки. Его прекрасно использует и поддерживает капитализм. Страх – его движущая сила.
Вот мы, летая, воспитанные Аэрофлотом, пропитанные его духом, наглядевшись на всякие ЧП, выжившие, – интуитивно выработали это чувство в себе.
Я иду на работу с чувством, если не радости, то удовлетворения, что самовыражусь. Это само собой. Ну, еще и что заработаю за рейс семьдесят, допустим, рублей. Этого не отнимешь, это зримо.
Но есть еще то сложное, мобилизующее чувство, что в авиации выражается одним словечком: повнимательнее.
Чтобы выжить в нашей системе, помимо обычного фактора риска самого полета, с его возможностью отказов, непогоды и т.п., надо любой факт, любое действие, любую информацию мгновенно осмысливать с точки зрения клюющего воробья: чем опасно, каким образом может вызвать опасность, какие могут быть отдаленные последствия? Как обойти, как вообще избежать? Если неизбежно – как обставить свой зад обтекателями, как отписаться?
На работе нельзя благодушествовать. Нельзя наглеть, зажираться. Это чувства, не свойственные живой природе, искусственные, выработанные цивилизацией. А вот страх – естественное, природное, жизненно важное чувство.
Страх – это мысль. Бесстрашие – в расхожем его понимании – глупость, бессмыслица. Преодоление страха – работа мысли.
Вот тебе и свободный, творческий труд, раскрепощенная личность. Слишком было бы просто.
Иные скажут: ответственность; мы говорим: нет, страх.
Еще и еще раз повторю, и не один я: бесстрашные дураки гниют на кладбищах.
И когда большевики говорят, что нам надо освобождаться от страха, – это не так-то просто.
Я за свою жизнь набоялся предостаточно. Но не настолько, чтобы и теперь жить без восемнадцатикратной оглядки.
Да, болтать теперь можно обо всем, бояться нечего: партия выпускает пар. Но на работе – повнимательнее.
9.12. Катастрофа L-410 в Кодинске. По печальной традиции такие ЧП происходят обычно перед Новым годом. Экипаж погиб.
Предполагать что-либо трудно, но с тоскливой безысходностью думаешь: скорее всего, это обычное русское разгильдяйство. Может, влезли в обледенение, а может, просто зевнули скорость.
В Армении землетрясение, страшное бедствие, тысячи жертв.
Я в последние годы стал беречь свои нервы, и настолько доберегся, что практически перестал чувствовать чужую боль. Упал самолет… что ж: они должны падать. Трясет – что ж… слава богу, что не у нас.
Ну а что делать, если такие нервы. Если, затащив в морг обгорелые трупы своих товарищей, я потом неделю валялся с ангиной – на нервной почве. Слишком был тонкокожий, а сейчас оделся в броню равнодушия. Как-то надо жить.
28.12.Когда я пишу: есть книги, музыка, – то это не означает, что я такой уж там музыкант. Так, для себя, на слух, бренчу на чем попало. Не в этом дело. Но я хорошо понимаю любую музыку, тут для души непочатый край работы.
Вот вроде бы простейшая песня на пластинке: Марк Минков. Алла Пугачева. «Не отрекаются любя». Эстрада. Дритатушки. Их миллионы, этих песен.
А я считаю вещь выдающейся. Минкова озарило. Удивительно пропорциональная и законченная вещь. Хороша мелодия; ей и настрою песни соответствует ритм. Изумительна аранжировка. Рояль… Что говорить, рояль доминирует, и как же вкусно, глубоко, утонченно вяжет он аккомпанемент.
А как вступает оркестр – это же чудо пропорции. Всего пара тактов отдана тромбону – но он тут необходим. Скрипки на месте, бас, ударные. Гитаре – только свое место, и нет нужды реветь. И всюду – рояль…
А как нагнетается страсть! А перемены тональности в каждом куплете, а каков переход к основной тональности… и бас, о, какой бас!
И концовка… как все отточено.
Но писалось для Пугачевой, той Пугачевой, что пела душой, едва еще только обретя известность и славу. Сейчас она заелась и так уже не споет, уже разменялась на сиюминутные шлягеры, в угоду моде. А впрочем… Мастер есть Мастер.
Пугачева здесь прекрасна. Считаю, что это одна из ее лучших, если не лучшая ее песня. И слияние с оркестром абсолютное, и выражено все, что хотелось.
А вы говорите.
Так же прекрасна Аида Ведищева, открывшая нам мексиканскую песню «Корабль воспоминаний». Чудный речитатив и прекрасный аккомпанемент.
А АББА – представители проклятого западного искусства, глубоко чуждого нашей пролетарской простоте… Вот слушаю и не наслушаюсь: «My live, my life», – чудо гармонии. А каков профессионализм – нашим бы пролетарьям не завидовать их миллионным богатствам, а научиться бы так работать, как эти… дритатушечники. Вот тогда бы и поняли, каким трудом и какими мозолями на голосовых связках те миллионы достаются; да ведь и талант же!
Да… Если бы не духовой оркестр, если б не Алексей Сергеевич Журавлев, дай бог ему доброго здоровья, – да разве б я научился слушать музыку? Слышать, понимать, чувствовать, любить, и еще самостоятельно чегой-то бренчать.
А то открываешь альбом сонат Бетховена… Или духовой оркестр, старинные вальсы и марши. Или русская балалайка. Или хоровое пение. Да что говорить, целый мир!
Армения, в частности, скушала и два военных самолета. Наши красноармейцы не сумели зайти в Спитаке, где высота аэродрома 1524 метра. Это же надо к задаваемой диспетчером высоте относительно порога ВПП прибавлять еще вышеупомянутые полтора километра. Высота четвертого разворота не 500, а 2024, дальний не 200, а 1724, и т.д. Правила захода на горных аэродромах есть, оговорены в ОПП, надо ж было готовиться. Они, когда поняли, что идут ниже гор, попытались было уйти… да поздно.
А югославов сгубила АТИС. Если бы диспетчер лишний раз уточнил установку давления на эшелоне перехода… да по АТИС не положено. А тут уклонились в сторону Госграницы, в горах, задергались, вот и зевнули. А ведь заходили в абсолютном одиночестве. Непрофессионализм.
29.12. В печати поднимаются вопросы. Какой у нас социализм, и социализм ли? Правы ли Маркс и Ленин, так ли уж безоговорочно? Куда-то пропало словечко ревизионизм. Нерушим ли наш Союз, и Союз ли он? Есть ли у нас классы, и является ли классом каста управляющих? И управляемых?
Не поднимается лишь вопрос, нужна ли многопартийная система. Этот вопрос задавлен.
Андрей Д. положил свой партбилет.
Репин снялся с учета и попросил не волноваться о дальнейшей постановке на учет: «я вас 28 лет кормил…»
Торгаши устраивают саботаж. Где-то зажали стиральный порошок, где-то мыло, где-то колготки, повсеместно – бензин. Поистине, ведомства всесильны. В чем сила партии?
Репин устроился в таксистский кооператив, работает 10 дней в месяц, когда вздумается, имеет 800 р. в месяц, платит пай 60 р., никаких проблем, посмеивается, отъелся. Говорит: вот ты сейчас летишь в Норильск, за 25 рэ. Пока ты доедешь в аэропорт и сядешь за штурвал, у меня эти 25 рэ будут уже в кармане, машина в гараже, а тебе ночь не спать, и еще, может, в Игарке намерзнешься, голодный.
Он – знает…
Действительно, где же справедливость?
То ли десяток пассажиров по городу, то ли 18 тонн загрузки: полторы сотни людей, багаж, тонны три почты, за 1500 км, да столько же обратно. И заход по минимуму погоды, на скользкую полосу, с боковым ветром…
Чего плачешь? Не нравится – решай.
При капитализме я свое получил бы сполна. А здесь порядок такой, что меня бессовестно, нагло эксплуатируют и обирают.
Справедливости еще хочется. Еще пока.
1989 г.
3.01.1989 г. Итоги 1988 года. Основные факторы, повлиявшие на мои взгляды, таковы. Болезнь, новое положение о летных пенсиях, явное, зримое ощущение того, что во внутренней политике шуму много, шерсти мало.
Болезнь и связанные с нею переживания показали, что здоровье мое уже на пределе, и надо, надо, надо! думать о ближайшем будущем.
Пенсия добавила понимание того, что путь открыт, с голоду не помру, и что моя летная песенка спета.
Третий фактор окончательно открыл мне глаза на мир, в котором я живу. Последние иллюзии развеялись. У меня ни во что веры нет. Надо принимать жизнь как есть и думать только о себе.
Как же долетать до своего срока? Без эмоций. Дотерпеть. На остатках нервов. Что бы ни случилось в полете – я жизнь свою уже прожил. Делать свое дело честно, но без переживаний. Мастерства мне хватает, выкручусь, но стимула уже нет. Если я раньше переживал, что сел там не по оси, либо перелет, либо перегрузка… теперь это не имеет значения. Поддерживать себя на уровне не требует особых усилий, а шлифовать себя я уже отшлифовал.
Я смотрю: срок дал себе полтора года – вроде много, а уже январь идет. Пройду комиссию; февраль, март, отпуск, май; лето отмучаюсь – и останется одна зима. Уже лето 90 года летать не буду, а буду впервые в жизни отдыхать. И будет мне сорок шесть лет.
Леша думает дотянуть до годовой комиссии в марте. Ну, если не спишут, то еще год.
Валера в феврале проходит. Зрение у него ухудшается, а врач, что его пропускала, перевелась в другое место. Как-то еще сложатся у него отношения с новым доктором? Он готов уйти уже сейчас. Но… может, еще год.
Ну, Витя со своей язвой пролетает еще лет десять.
Итак, реально предположить, что эти полтора года экипаж мой, слетанный, пролетает со мной. Это очень хорошо.
Вот такой 1988-й год.
Относительно Аэрофлота я давно утратил иллюзии. Это зверь прожорливый и беспощадный. Он меняться, перестраиваться, отказываться от своих догм не намерен. Все мы в нем заражены бюрократизмом до мозга костей.
Х., снятый с начальника управления, летает командиром методической эскадрильи в УТО. Должность для провинившихся широкопогонников.
Летят они с Ф. на Ил-76 в Мары, оттуда планируются в Норильск, с дозаправкой в Семипалатинске. Садиться там из-за дозаправки неохота. Заливают в Марах топлива под пробки и с превышением взлетного веса на несколько тонн пытаются взлететь. А кто не бывал в Мары, тот не видал жары. Полосы явно не хватает для этого эксперимента: едва оторвавшись с последних плит, сносят колесами ограждение, антенну наземного локатора, ломают шасси, распарывают себе брюхо, – но таки взлетают и молча уходят, не доложив, что шасси повреждены и не убираются, что самолет не лезет вверх из-за превышения веса; докладывают что на выходе из зоны у них высота 3600, когда она едва 1800…
Пришлось-таки садиться в Семипалатинске, но уже вынужденно: ну никак не летел самолет, едва держался в воздухе…
Меня бы за одну только мысль об одном только из перечисленных нарушений… да уже б и косточки сгнили. Я – шерсть.
О «подвиге» Х. газета «Красноярский рабочий» – орган нашего продажного крайкома большевиков – пишет героическую поэму в прозе: герой, спас машину, в труднейшей, непредсказуемой ситуации… Мастер… Заслуженный Пилот…
И Х. вновь выставляет свою кандидатуру на выборы начальника Красноярского управления ГА.
Убытку на миллион рублей, а он – герой.
Правда, через три месяца в аэрофлотской «Гальюнер Цайтунг» статья на весь разворот, где Х. воздается, раскрываются все его нарушения.
В царской армии в такой ситуации подавали в отставку. Стрелялись. Х. же, как старший летчик в УТО, выписывает себе командировку и едет членом комиссии – расследовать свою собственную предпосылку к летному происшествию.
Нет, ребята. Аэрофлот не изменить. Да и страну, пожалуй, тоже. И сказочками о правовом государстве, декларативными законами меня не убедишь, что я – хозяин. Хозяин кто-то другой, а я – шерсть.
5.01. Кончился срок пилотского свидетельства. Я не тороплюсь на комиссию: завтра выпишут из хирургии Надю, побудем хоть пару дней вдвоем, а потом не спеша, числа с 10-го, лягу на чердак (в стационар) на обследование и комиссию.
9.01. Побыли два дня; стало Наде хуже, отвез обратно, и, наверно, уже режут. Седьмой раз… Жалко ее до слез, да что сделаешь. Дурацкое ощущение бессилия и зависимости от чьей-то непреодолимой воли. Была бы вера, молился бы за нее, а так – стараюсь отвлечься, хоть дневником, хоть стиркой, хоть каким делом.
Мысли не соберешь в кучу, сижу верхом на телефоне, но тут Горбачев подкинул очередную речь, пытаюсь ее осмыслить. Речь о том, что партия сама себя способна контролировать. Что народ увидит, народ подправит, народ не обманешь…
Это чистейшая демагогия. Нет, только вторая, оппозиционная партия увидит и быстро отреагирует: она в борьбе за власть будет чутко держать руку на пульсе.
В конце концов, в моей работе вообще никакая партия не нужна. Никогда не поверю, чтобы тот партком, жуя, оказывал хоть какое мизерное влияние на мою работу. Да, расстановка кадров… Но кадры представляем на утверждение жующим мы, летчики, мы их знаем лучше, чем жующий партком.
Никогда не прощу им ту «малину» в ресторане.
В «Известиях» снова долбают нашу аэрофлотскую мафию: ворье, знакомые фамилии, дружки нашего Х. Они жрут там друг друга, а Горбачев ждет от них перестройки. А я не жду.
Какой, к черту, чердак. Я успел в этом месяце налетать 16 часов, из них 6.20 праздничных; начисление где-то 400, ну, 300 чистыми, – считай, как пенсионер. Если с Надей определится к середине месяца, то лягу на обследование, за 12 дней получу еще по среднему, это тоже рублей 300.
Что-то я устал за эту зиму. И ожесточился на весь мир. Иногда хочется кого-нибудь бить, бить, пока не убью. Но кого бить-то? Может, себя?
Вроде и жизнь хороша. Глянешь не мир божий – солнце, снег, птички, небо ясное. Радуйся, дыши. Чего тебе надо?
На днях по телевизору Ирина Роднина давала интервью. Ей нет еще сорока, а настроение такое, как она сказала, что ее понять может лишь человек, уходящий на пенсию. Вот как, к примеру, я. И она не стесняется на весь мир об этом говорить: да, ушла, да, устроилась где нравится, да, основное свое предназначение вижу в семье, в воспитании детей, – и пошли вы все к черту.
13.01. Почему я так аполитичен? Почему ко мне, к моему зачерствелому сердцу, не достучится призыв партии?
Помню, еще на Ан-2 избрали меня секретарем эскадрильного партбюро, да еще заодно и членом партбюро предприятия. И вот, в наивняке молодости, я было попытался намекнуть комэске Русяеву, что дела эскадрильные мне, партейному вожаку, небезразличны, что, может, и со мной надо советоваться…
Иван глянул на меня как на дурачка… вот и вся роль партии.
На партбюро отряда был свидетелем, как дают партийное поручение начальнику, как он его не выполняет, как его потом журят и объявляют взыскание. Так я понял, что такое партийное взыскание и что такое партийная ответственность: никакой ответственности. Все для галочки.
Потом я двадцать лет убеждался, что партия в газетах – ложь, а партия в моей жизни, в моем коллективе, – миф, отживший ритуал… без которого нельзя.
А теперь Политбюро ломится в мое окаменевшее сердце со своим Обращением, суть которого в том, что Волга впадает… Это мы уже сто раз слышали.
Прочитал эти декларативные призывы. По ним выходит, что ну все уже у нас есть для перестройки, только вот всем миром навалиться…
Это как на том партсобрании: ну товарищи, ну давайте выступать… сами себя задерживаем…
Да понимаю я, что задерживаем… но о чем говорить-то? О чем? Не о чем. Для галочки.
Так и здесь. Всем миром. Да не хочу я. Мне глубоко плевать. Равнодушен я. Слыхали уж.
Пусть партия берет на себя ответственность, что заманила, завлекла, угрозой ведь, силой затащила (а то в командиры не введут!), – а потом весь мой душевный потенциал плавно задушила окаменевшим говном своим.
Я ведь был и чутким, и ранимым, и неравнодушным к жизни, и как-то ворочался, и порывы были… да все сплыло, остались голый ствол службы, голый профессионализм и угрюмая гордость выстраданного мастерства.
И понимал, что теряю человеческое, боролся как-то с собой, не запил, не подличал, как-то помогал людям, и мне помогали.
Не коммунист Солодун помогал коммунисту Ершову быть человеком, а Человек Солодун помогал стать личностью человеку Ершову. Не коммунист Репин увидел в коммунисте Ершове беззаветную преданность, а Человек Репин, профессионал, Мастер, увидел в ученике божью искру и чисто человеческое желание стать таким же Мастером – и потащил!
И не коммунист Ершов понимает коммуниста Репина, когда тот молча ушел из партии, а просто человек человека. Таким как мы, там не место, и гордиться там нечем.
Политбюро заявляет, что партия начала с себя и очищает свои ряды. Чтой-то не шибко очищает, а так – из кресла в кресло… Там миллионы хапуг, жующих… и миллионы таких, которым уютно, и миллионы, которым плевать.
14.01.И хоть бы платили мало, или там жилья не было, или голодал бы… Чего мне надо? Что покоя-то не дает?
Плюй на все. Радуйся тому, что имеешь. Жена выздоравливает – на этот раз все обошлось – радуйся!
Какие-то там газеты, какая-то активность, какие-то выборы… Плюнь на них. Обойдутся без тебя. Шавок хватит. Какой-то сталинизм, плюрализм, Афган, Армения, Карабах, Литва, пленум, сессия, договор…
В больнице человека видел? Он лежит, высохший, уставясь в потолок, молчит. О чем он думает? О плюрализме? О разоружении?
Вот радуйся, что ты не на его месте.
Жизни-то, собственно, в том понимании, как у большинства, – не было. Была каторга летом и одно желание: скорее бы дотянуть до осени. А зимой – скорее бы дотянуть до тепла. И таким самообманом в два кнута гнал и гнал своих лошадей. Осень уходила на то, чтобы отдышаться. Отпуск… если и выпадал на лето, то вез семью на юг, а с семьей – это не отдых, это побегушки.
Спасало то, что вечно ставили себе задачи, программу-минимум. То гараж строили, то дачу, то квартиру меняли, то другую, то ремонт, то мечтали дом построить…
Летая, я целиком ушел в свою работу, а земную жизнь обходил, благо, жить времени-то и не было. И людей обходил, и их заботы далеки от меня. И общество за эти десятилетия чем-то там жило, как-то там менялось, – а я пролетал.
И партия все обещала, обещала, и я верил, верил… не зная реальной жизни.
Перестройка открыла глаза.
Жизнь оказалась очень сложна против моей работы. Очень. Надо давать взятки. Я не умею. А ребенок мой умеет. Ребенок приспособлен к этой жизни куда лучше меня. Я не смог в Риге добыть мебель, а ребенок, отдыхая в Прибалтике, вышел на мафийку, сунул на лапу, – и мебель стоит дома.
А теперь надо готовиться к жизни в этом обществе. Придется приспособиться, ужаться, выкручусь, урезая себя. Но конкурировать не смогу.
Если у меня 4-комнатная квартира, и я палец о палец не ударил, кроме как деньги заплатил, то каков же механизм борьбы у того человека, кто 20 лет бьется, а не может добыть хоть однокомнатную? А ну, встреться мы в равной борьбе… Он победит. Он закален, в вечной борьбе своей.
Все, что у нас есть, добыто Надей, и я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Мое дело было – средства. Ее – все остальное. Ее связи заработаны честным трудом, способностями и одним хорошим качеством – разговаривать с сильными мира сего на равных, без подобострастия. Это подкупает и запоминается надолго. Но и это все же не главное, а главное – связи поддерживать; для этого нужен такт. Время пришло – связи приводятся в действие и срабатывают, и не по мелочам, а в главном.
Как бы это выразить. Тех прямолинейных пролетарьев, что воспитаны на слепой вере, либо на стремлении горлом взять, – их бьют по носу и вечно отодвигают, иной раз просто назло. Сами же воспитали таких и сами же не любят. Таким почему-то не везет в жизни, и имя им легион.
То, что мы имеем, за это совесть наша чиста. То, что сделала Надя для района, для города, вполне окупает хорошую квартиру, в хорошем месте, с телефоном, машину, гараж и дачу. Стандарт мечты советского человека.
Я тоже вроде сделал немало, но, по существующим порядкам, я шерсть, мне не положено; в лучшем случае – двухкомнатная кооперативная.
Но уж коль нам удалось – извините, мы только получили по минимуму справедливости. А то, что мой коллега живет в малосемейке, а жена его годами горло рвет в приемных… Моя горло не рвала, а вкалывала, и головой, и руками, зримо, для людей, и думала наперед.
У одних связи среди тех, кто дает сиюминутные блага: тряпку, кусок сала, лекарство, запчасть. У кого-то – среди тех, от слова которых зависит, поощрить ли толкового работника жильем или садовым участком, помочь ли устроить судьбу ребенку, найти ли хорошего врача для серьезной операции.
Такова жизнь. Я ни тех, ни других, никаких связей не имею: нет таланту. Я сумел обеспечить семью только средствами к существованию, а супруга позаботилась о крепчайших тылах. Чего ж нам стесняться.
14.01. Читая газеты, приходишь к выводу. Два характерных явления в странах социализма. Везде неспокойно, и везде инфляция.
Видимо, история сделала свой выбор и объективно оценила, что социализм капитализму проиграл. Социализм ведет к застою – это абсолютно во всех странах – и к политическим тупикам.
Большевики скажут: не социализм, а его неверная интерпретация…
Не знаю, какая интерпретация в странах капитала, но загнивающий монополистический капитализм процветает.
Сравним Японию и СССР. Феодализм, монархия, азиатство, море пережитков, – да много параллелей. Так вот, сравнивая, видишь. И там одна партия и живой император, и здесь одна партия и тоже… царь. Тут все сплотились, и там сплотились. В результате – они идут впереди острия мирового прогресса, а мы – в глубочайшей, извините, жопе, и это нам еще комплимент. И разница между нами – не меньше полувека, это если еще не стоять на месте, а ведь они – ой, не стоят.
А в соцлагере – лагерь и есть. В Венгрии было зашевелился народ – Россия задавила; в Чехословакии тож. Немцы помалкивают: попробуй, подними голову, память о войне еще свежа. А за стеной, в ФРГ… там жизнь чем-то неуловимо отличается. Ну, братушки-болгары – наша 16-я республика, больны нашими болезнями. Румыны, со своей нефтью, – сами по себе. Югославы – поиски и потери. Кругом бунтуют. Китай воюет с Вьетнамом. Северная Корея – фанатики, не шибко-то за объединение с Югом… нужна она ему. Когда Венгрия установила дипломатические отношения с классовым врагом, маршал Ким Ир-сен порвал с Венгрией. Дикие люди. Ну, а уж монголы за 65 лет шаганули по социалистическому путю ой как далече. И бедные тувинцы, сдуру примкнувшие к нам в 44-м году, наверно сейчас сожалеют об этом шаге.
Вот единый социалистический лагерь. Да, а про Польшу вообще молчу.
И везде инфляция страшная.
Чего же ждать нам?
Думается, того же.
Но что характерно. Новое политическое мышление изошло на мир в открытую – от нашей КПСС. И оно дало огромный толчок миру, факт. И мне кажется, мир этот толчок обязательно использует, как использовал до этого множество наших идей, – а мы останемся за бортом. Во вне успехи есть, внутри – тормоза. И только если все мы дружно, всем миром… Старая песня.
Нас учили: капитализм жесток и бесчеловечен. На самом деле, социализм оказался жесточе: мы все ожесточены. Социализм лицемернее.
Капитализм говорит: мне плевать, кто ты и откуда. Будь сильным, борись, как зверь, как все живое, побеждай; пусть проигравший плачет – смотри, ужасайся и не будь таким. Такова жизнь.
И ведь люди там живут – в противоречиях, в страхе, в борьбе, но в каких-то нормах.
Социализм же – как новая религия. Верь в сказки, а вера откроется только пролетарию как страдальцу. Пролетарию все пути открыты – за одно его происхождение. Ну, немножко ж надо и работать.
И – сорок миллионов народа репрессировано. И в результате – война, и еще двадцать миллионов (да двадцать ли?) в расход. И тупик. Страна пришла.
Да, больно нам узнавать, какое же мы стали дерьмо. Но некуда от правды деться – глаза нам открыла таки партия.
Венгрия решила: многопартийность.
Горбачев пока говорит: не-е… власть мы не отдадим, и ни о какой многопартийности не может быть и речи.
Пока?
Летал с проверяющим Ш. Хорошо помню его отношение к экономии топлива: он был против, потому что, мол, на меньших, экономичных режимах и скоростях полета перерабатывается ресурс, а он обходится дороже топлива.
Отсидев ночь на запасном в Оренбурге, готовились на Симферополь. Зная, что там туман, Европа и прочая бяка, даю указание залить топлива с запасом, благо, загрузки мало. Ш., прикинув, посчитал, что лишних три тонны – роскошь, упрекнул меня в непрофессионализме: надо, мол, экономить. Мы с экипажем переглянулись: уйдешь по туману на запасной, пожалеешь, что не залил лишку. Ладно, залили 28, по расчету – 27.
Я прекрасно знаю нормы расхода, умею экономить. Но мне за это не платят. Пусть же действует объективный закон. Аэрофлоту должно быть хуже от своей жадности. А иначе – не прошибешь. Мои благие устремления уже давно засохли и облетели с черного ствола службы.
Мы потом долго и со смаком смеялись. Экономист… на злобу дня.
А зашел разговор о Репине, как он ушел из партии, – Ш. сказал, что это непорядочно: как стал таксистом, так жалко стало денег, взносов, – вот, мол, что его побудило.
Ну и корми ее, свою партию. А когда я сказал, что пока буду летать, мне выгодно откупаться от нее взносами, а то по службе может не повезти, – ой как этот чистоплюй возмутился…
Конечно, мучаясь и терзаясь этими непростыми моральными вопросами, я, по порядочному, должен предстать пред лицом своих товарищей-большевиков, и, каясь, положить партбилет сейчас, – как я есть недостойный бороться за святое дело коммунизма.
Но товарищи мои, большевики, меня не поймут и втихаря обзовут дурачком. Но зато морально я буду прав, а Ш. пожмет мне руку… и, пожалуй, на совете командиров поддержит намек, что, мол, Ершов положил партбилет, так какой с него тогда командир экипажа…
Нет уж. Все мы продукты своего времени. И от партии откупаемся, чтобы помалкивала, когда воруем, или чужое место занимаем, или несостоятельны, или просто чтоб партия не укусила, если задумаешь уйти.
Несознательный я. Начитался про дурачков-правдоискателей. Зачем?
То ли дело. В баньку сходил сегодня – и счастлив. Надя выздоровела – и слава богу. Оксана на повышенную стипендию сдала сессию – вот и радость. И пошли вы все, со своей моралью, политикой и экономикой, подальше.
18.02.Государство уравнительного социализма. Страна троечников. В ее схему никак не вписывается отличник, талант. Поэтому и требования, вкусы и нормы… средненькие.
Прав был тот француз, который, выйдя из нашего столичного ГУМа, воскликнул: «Боже мой! Такое белье – и такая рождаемость!»
И правильно. По понятиям цивилизованного человека, мужчина, случайно увидевший женщину в таком белье, должен бы получить на почве нервного потрясения устойчивую импотенцию.
Не потому ли наша страна не нуждается в презервативах? Так нет же… по абортам мы не на первом даже, а на нулевом месте.
Может быть, я был бы уже миллионером, избери Россия иной путь. Кто его знает. А так я такой же нищий, как и все.
Сказать в цивилизованном обществе, что жена капитана воздушного лайнера не может купить себе бюстгальтер… Да и я хожу в ситцевых рабоче-крестьянских трусах.
20.02. То состояние мышления, которое я, как и многие, переживаю нынче, называется политическим нигилизмом. Наверное, и через это надо пройти, через эту детскую болезнь самостоятельного осмысления жизни.
У меня выходит, что Маркс, Ленин, РСДРП, революция, – все было напрасно, вело в тупик.
Вряд ли. У человечества появился выбор.. Другое дело, что новый, неизведанный социалистический путь пока не дал того результата. Коллективное хозяйствование в наших условиях пока уступает частному.
Ребенок родился преждевременно?
Умилительный пример рабочего-путиловца насчет того, что «часы теперича – наши», не подтвердился жизнью. Оказалось, что психология «мне, мое, много» более живуча и более присуща реальному человеку при любом строе. Вопрос собственности – вот главный вопрос, и при социализме «наше» не пошло, стало – «ничье». Поэтому Совет трудового коллектива – нежизнеспособная идея. Нужен Хозяин и – «мое».
А страна себе живет, государство со страшноватой историей.
Не надо все отметать. Я родился и рос, учился, кормился, трудился в этой стране, с этим народом, болел его болезнями, и вполне осознаю себя частицей Родины.
Обидно за обман, но все же это лучше, чем слепая вера, неведение и бездумье.
И опять же: линию на правду твердо держит партия. Ну, партийное руководство. Ну, не на всю правду.
Им наверно страшно глядеть на джинна, выпущенного ими же из бутылки, но деваться некуда. Всеми силами пытаются создать в народе предпосылки понимания того, что возврата нет, что все уже всё поняли и что абсолютное большинство уже подхватило знамя – и вперед!
Нет. Пока шумит и выпускает пар незначительная и не самая значимая часть народа. Народ же, привыкший не торопиться с выводами, – и не торопится. Молчит, выжидает. И я с ним. Вот нас – большинство.
Но в моей реальной жизни, в той, что меня кормит, в моих производственных отношениях, я тщательно отгораживаюсь от всего этого шума строго очерченными рамками ремесла – и не более.
22.02. Переваривая информацию и пытаясь осмыслить то, что называется перестройкой, я прихожу к одному выводу.
В стране два класса: власть имущие или бюрократия – и остальные.
Власть имущие это: Генсек, он же Председатель Президиума, это члены Политбюро и ЦК, это КГБ, это министерства и ведомства; то же самое на уровне республик. Их аппарат – миллионы человек. Их придатки – комсомольская, профсоюзная, народно-контрольная и прочая бюрократия.
На местах: обкомы с их аппаратом и придатками, и параллельно – и главнее – щупальца министерств: директора предприятий и шерсть вокруг них.
Всей этой олигархии принадлежит реальная власть. За обладание этой властью идет борьба, и они ни за что на свете власть не отдадут. Власть – их высшее, выше денег, устремление и смысл существования.
Они взяли власть еще при НЭПе, и все страшные политические преступления – дело только их рук. Народ эту власть не хочет признавать, да просто ненавидит, но… власть у них, а не у нас.
Они могут с нами заигрывать, иногда что-то подсластить, – но поступиться, ослабить хватку и отдать власть – ее они не отдадут никогда, ни за что, какой бы перестройкой ни прикрывались.
Не надо тешить себя иллюзиями. Нам сверху спущены перестройка и демократия: так надо, а то трон зашатался. Демократии – море, но – до определенной черты. Вы тут себе, внизу, шумите, выбирайте этих… депутатов, что ли, и т.п. А мы там, наверху, решим.
Не верю я им. Это – противоположный, полярный мне класс. Я их контролировать не могу.
Такое точно общество и на Западе. Тоже демократия – до уровня, до черты… а вершат олигархи.
Все уже было: хождения в народ, видимость глубокого знания народных бед, рука на пульсе… Только у нас пока еще руки из толпы не пожимают, и телохранители мумиями стоят, глазками бегают.
Они страшно далеки от народа – сынки обкомов, выросшие на доппайках и льготах и с детства надышавшиеся атмосферой власти. Они просто не могут представить себе, как это можно прожить на пенсию 60 рублей. А люди как-то же живут…
Так называемое членство в партии – фикция. Ты – маленький кирпичик в основании той пирамиды их власти. И твоя партийная организация – фикция. Она нужна им, чтобы распоряжаться кадрами, тобой распоряжаться.
Конечно, уровень демократии повысится. Да, возврата не будет. Да, оценим прошлое. Да, наобещаем на будущее. Да, вы сами. Да, преодолевайте страх. Давай-давай. Шуруй-шуруй.
Это правда. Истинная правда. Но – не вся правда.
Что реально изменится в жизни олигархии? Конечно, подчистят аппарат и выбросят старье… в связи с уходом на заслуженный отдых… тех, кто не соответствует новым требованиям.
Но сынков-то? Кровинушку-то?
То-то.
Где-то мы еще контактируем с ними – на уровне, когда они едва только начинают утверждаться в своем классе: ну, райком, райисполком, директор… Контактируем робко, на пороге приемных…
Но боже ж мой, какой уже властью и какими возможностями они обладают! Квартиры, блага, судьбы детей… У них в руках то, что недоступно всю жизнь сотням миллионов людей у нас в стране.
Что же тогда говорить о верхних эшелонах власти. И какие же у них аппетиты и запросы!
28.02. Еще два года назад я и представить себе не мог, что меня будут волновать такие вопросы. Что же это за социализм у нас такой?
Большевик сорвал за месяц куш: три миллиона рублей. Сорвал на сумасшедшей конъюнктуре. Заплатил 90 тысяч взносов. Все законно.
А моя дочь говорит: зачем всю жизнь вкалывать врачом, окончив престижный вуз, – чтобы потом за всю эту жизнь не заработать те же 90 тысяч?
На хрена нам такой социализм?
Но все законно.
1.03. Глядя на успехи наших заправил на внешнеполитическом поприще, поневоле приходишь к мысли, что Горбачев входит в глобальную историю по нашим внутренним костям, топча их.
Ну, а что же на моем рабочем месте?
Мы по-прежнему мерзнем в профилактории, на тех же неудобных, единственных во всем Аэрофлоте койках. Депутатская напротив нас, отвоеванная было под детсад и тут же сожженная и разворованная, медленно и со скрипом, как все, отвоеванное у большевиков и переданное народу, отстраивается. Говорят, уже угрохали туда больше, чем стоило бы построить новую депутатскую.
А у нас так и не работают бачки унитазов, все разграблено, вечно нет воды, и вонь.
Левандовского избрали начальником управления. На опустевшее место командира объединенного отряда метят те же ворюги, что крутились в отряде на руководящих должностях.
Но все же в профилактории кормят бесплатно; пресловутый телефон, чтобы звонить в план, работает безотказно; автобус, не менее пресловутый, ходит почти по расписанию. Успехи перестройки налицо.
Добавили нам по 30 рублей окладу… естественно, за счет сокращения премиальных за безаварийный налет. Говорят – сбылась мечта идиота! – будут платить ежемесячно за экономию топлива и летного времени. Долго боролись, но наконец отменили дурацкую производительность и удельный расход как показатели эффективности нашей работы.
Без штурмана летают добровольцы; километровые штурмана делит между собой экипаж: летом набегает добавка к зарплате до 100 рублей.
Пытались создать видимость выборов командиров эскадрилий. Хотели на место Селиванова избрать Солодуна, но не удалось: преимущество в один голос решило дело. Демократия. Остальные комэски тоже остались на местах.
Я вроде бы избран в партбюро эскадрильи. Два года не пропагандирую; отстали. Мне плевать.
Ну, Вася, ты мечтал экономить топливо. Дерзай!
А мне плевать. Посмотрим, как оно обернется. Средний заработок у меня все равно в 20 раз меньше, чем у моих коллег за рубежом. Ну, в 10. Ну, даже вдвое – и то видно, что меня обирают. И что мне та тридцатка за экономию?
Прошел годовую комиссию спокойно, с запасом. Думаю, здоровья хватит еще лет на пять, а мне больше и не надо. Здоровье очень берегу. Надо держаться за работу и спокойно себе летать до 50 лет, не беря ничего в голову.
Начали сниться полеты. Днем постоянно проигрываю в мозгах аварийные ситуации. Летаем, честно, на дерьме: того и жди…
А экономия… экономия – это очередная кость, как собаке: на, давись, только не гавкай.
Вот и вся наша перестройка.
Нигилизм нигилизмом, а в «Комсомолке» пишется ученым-марксистом, что в ведущих капиталистических странах нет и не может быть пролетарской революции, потому что там рабочие живут вполне прилично. И это так потому, что капитализм в 30-е-40-е годы сделал такой скачок вперед, какого классики марксизма в своих трудах предусмотреть не могли.
От себя добавлю: а мыслящий капиталист, изучая работы пресловутых классиков, понял, что чем готовить себе могильщика, умнее будет поступиться частью доходов и создать могильщику приемлемые условия существования. И создал. Теперь миллионы бичей-безработных у них живут на пособие, а классовые бои идут, в основном, за то, чтобы подтянуть уровень зарплат и пенсий к проценту роста уровня цен.
Когда еще мы, большевики, подтянем нашу мизерную зарплату в рублях 1961 года к уровню цен 1989 года?
А у них рабочие и на Канарах отдыхают.
16.03. Вот что интересно: если бы вдруг нашего Советского Союза не стало, в мире ничего бы не изменилось. Они без нас жили, и живут, и проживут. Обойдутся.
Так вот мы и стоим с протянутой рукой на обочине, а мимо несется мир, с любопытством поглядывая и покачивая головой. Слишком наша телега разбита, чтобы даже брать ее на буксир.
Соцстраны вьются вьюном. Китай, опомнившись после культурной революции, завертелся, себя уже накормил, торгует компьютерами. Венгрия покупает у Красноярского ОАО списанные Ил-62 – на алюминий, под пресс; расплачивается ЭВМ. Польша легализовала проклятую было «Солидарность», вводит президента и сенат, а враг народа Валенса – лауреат Нобелевской премии.
Большевики везде уже поняли, что их догмы и есть главный тормоз. Хуже их догм – только исламские. Зашореннее их мышления – только мышление аятоллы. Так он же старик, ему же больше лет, чем Брежневу было.
Куда же делись мои восторги недавних лет – восторги романтикой летной работы, мягкими посадками и постижением тонкостей ремесла?
Ремесло и есть.
Вот осваиваю для себя переплётное дело: нравится. Тоже ремесло. Кто-то овладел им – и на всю жизнь кусок хлеба. А для меня – хобби, одно из целого ряда других. Я и это могу. Руками я себя прокормлю.
Но все таки: где же восторги?
Всё, молодость прошла, 45-й год.
30.03. Началась зеленая полоса жизни. В Ташкенте, в последнем рейсе перед отпуском, у меня в автобусе профессионально вытащили из кармана пилотское свидетельство и столько-то сот рублей. Ну, деньги заработаю, их не жалко, а вот пилотское…
Согласно нашим гуманным аэрофлотским правилам, я теперь уже не пилот первого класса, и поэтому не могу летать командиром Ту-154. Только и всего. Путь к левому креслу лежит теперь через тернии: сдача зачетов на МКК управления; сдача по новой на первый класс в Ульяновске, т.е. получить все пятерки по профилирующим предметам; строгий выговор за халатность; лишение годовых премиальных.
Если не захочу или же не смогу сдать на класс, то мне выдадут пилотское второго класса, и буду летать вторым пилотом.
Ни у кого нет ни малейшего сомнения, что я, пролетав семь лет в первом классе, командиром Ту-154, вполне достоин этого звания. Все мне сочувствуют и разводят руками: таков порядок.
Лучше бы я потерял паспорт и партбилет, и военный впридачу. Там все делается автоматически. Лучше бы потерял водительские права: три минуты сдачи по карточке – и получай новые корочки.
Но пилотское…
Ну, эмоции уже прошли за 10 дней. Уже отношусь философски.
Уже слетал в Ташкент, съездил на почтамт и в бюро находок, унижался в отделениях милиции перед вежливыми чурками в погонах, пинавшими меня из одного отделения в другое, не желая брать на себя висяк. Да еще – русского, никак не желающего понять такую простую истину: за ту несчастную справку, которую я у них вымаливал, надо бакшиш – такова советская узбекская действительность. Как же без бакшиша.
Пришлось мне, честному коммунисту с 20-летним стажем, пойти на элементарную ложь, которой они скорее поверили, чем правде, и дали, наконец, ту справку, без которой нельзя начать дело восстановления документа.
А пока я – советский безработный.
Ну что ж, поеду, сдам. Отпуска у меня много. А пока хожу парюсь в баньке, и пар сегодня был отменный.
Сдать экзамены на класс для меня не проблема, ну, суета.
Случай этот лишний раз меня убедил: перестройка пока – пустой звук. А национальная проблема для меня решена. Мои узбекские братья, век бы их не видеть, расцвели у меня под крылом. Махровым цветом.
В бюро находок я видел тысячи утерянных документов: штабеля паспортов, дипломов, удостоверений, пропусков. Это все было украдено, вырезано из карманов и сумок и потом подброшено в почтовые ящики. Мое красноярское свидетельство, видимо, уничтожили за ненадобностью, а был бы я ташкентский – шантажировали бы и слупили еще несколько сот рублей, но документ бы вернули.
С каждым в нашей советской стране может случиться такая беда: как и я, миллионы людей штурмом берут переполненные автобусы каждый день. И как и у меня, у них в этих условиях щипачи могут экспроприировать содержимое карманов и сумок, как ни береги. На меня было потрачено едва ли 20 секунд – и молнию обратно закрыли…
Но в беде советский человек перед Системой одинок, а пилот первого класса – и подавно.
А тут какие-то выборы… не пошел я голосовать.
Судя по тому, что в Москве Ельцин набрал подавляющее большинство голосов, популярность его в народе велика. В своей программе он играет на больных струнах: нар-р-рёд, мол, бедствует, а большевики благодушествуют… И обещает лишить большевиков льгот.
Такое не прощают, и его сожрут. А если не сожрут, то он – реальный конкурент Горбачеву; приходит его время. Пора рубить царьков под корень.
Но нет, не даст Горбачев, он скорее полумерами спустит на тормозах проблему… хитер царь.
5.04. Зеленая полоса жизни закончилась.
Мои начальнички усердно толкали меня под наказание и во все круги нашего бюрократического ада. Замполит, вчерашний брат-летчик, Валера А. демагогически заявил, что мы же идем к правовому государству, и поэтому, мол, нельзя идти в обход инструкций. Командир летного отряда Гена П. разводил руками и поминутно бегал консультироваться к Яше Конышеву.
А у нас же недавно только поменяли пилотские свидетельства старого образца на новые.
Взял я тогда у начальника штаба в сейфе свое старое пилотское свидетельство, на котором есть и подпись, и министерская печать, и которое отличается от утерянного нового только толщиной корочек и другой формой талонов нарушений, – взял и предложил: продлить его за два прошедших года, да и летать себе. Гена П. возразил, что… номер же другой… а под текстом сквозило: а вдруг то, утерянное, всплывет… отвечай потом… как бы чего не вышло…
Короче, посоветовался я в управлении с Линой Ивановной, сходил с нею к начальнику ЛШО Вите Шуляцкому, тот взял на себя и разрешил летать со старым, а Лина Ивановна дала чистый талон нарушений №1 взамен вырезанного тогда Медведевым.
Шуляцкий позвонил моему командиру отряда Гене П., и тот продлил, подписал. Мы только молча посмотрели друг другу в глаза.
И кому какое дело, что мы идем к правовому государству. А Виктор Филиппович Шуляцкий своей властью реально помог пилоту, и спасибо ему за это.
17.04. Газеты публикуют такие цифры и такие факты, что просто оторопь, ужас берет, и жалость к народу, ободранному, обманутому и заведенному в тупик партийными сусаниными. Кругом один обман, зло и несправедливость. И не надо далеко искать корни событий в Казахстане и в Прибалтике, в Степанакерте и в Тбилиси, – везде и во всем, в конечном счете, виновата партия.
Все кругом ложь. Страна не дошла до стагнации, а катится в пропасть. Всем на все наплевать, а когда проснутся, будет поздно.
На работе опять: отслюнявим на субботник по червонцу, заткнем большевикам глотку. Ну до каких же пор? Комэска отвечает: а то пошлют доски таскать.
Да кто пошлет-то? Партком? Да послать его подальше. Собрание провести и принять резолюцию: считая, что идея ленинских субботников как образцов коммунистического труда в современных условиях изжила себя, превратившись в свою противоположность… и т п.
Вот и вся свобода личности. Не пойдешь на субботник – накажут, не мытьем так катаньем. Припомнят.
И это на пятом году перестройки, результатов которой пока не видно.
А по телевизору кинодокумент: семидесятилетние бабки валят лес, чтобы зимой себя согреть дровами, и эту перестройку называют брехней; а насчет властей – и вообще открытым текстом: «ходишь, ходишь, бьешься, бьешься… да насрать…»
Да, да. Вот именно. На нас, на народ, на наш подчиненный класс им, большевикам, начальникам, управляющему классу, – насрать.
Тоска берет. Как-то на все руки опустились. Ухожу в себя, в семью, в личное, а партийная работа, опчественные интересы как-то потеряли значимость. Плевать на все; одни полеты остались. Избрали меня в какое-то бюро – ну, ребята, это вы зря, сами скоро убедитесь. Какой я к черту коммунист.
И даже не очень волнует. Общее такое настроение: да барахло все это, вся перестройка ваша; да не стоит нервов.
Как же мы повязаны этой всей системой. Этой обязаловкой. Что вырвешься на дачу и просто дышишь. Уехать бы в деревню, осесть на земле… да приросли к городу. Поздно.
Купить новую машину… Не могу. Нет ни денег тех, десяти тысяч, нет ни машин лишних у государства этого; ворюгам и то не хватает, где уж летчикам. Боже мой.
20.04. В «Комсомолке» опубликована статья о разгерметизации Ту-154. Грузинский экипаж летел из Тбилиси в Одессу; над горами забарахлил агрегат 2077: перепад не рос, росла кабинная высота, По РЛЭ положено перейти на дублер. Опытный экипаж знает, что причин может быть две: либо отказ 2077, либо неполное закрытие клапанов сброса воздуха, т.е излишнее стравливание из кабины, никакого наддува не хватит.
Экипаж летал вместе всего 15 часов, не объясняется, почему: молодой ли, или кого-то заменили. Ну, ничтоже сумняшеся врубили дублирующий 2077, и тут же – полная и мгновенная разгерметизация на 10600.
Что-то у меня вызывает сразу сомнение эта мгновенность. Это может быть только так, как у нашего Вити Г.: ошибочно вместо «Дублер АРД» он включил похожий, под таким же колпачком и рядом расположенный тумблер «АРД – сброс давления», действительно открывающий все клапаны сброса.
Эргономика кабины, мать бы ее.
При включении дублирующего 2077 обычно бьет по ушам, но терпимо, и давит на перепонки еще минут 10-15, пока высота в кабине не опустится до нормы.
Ну ладно. Пусть молодой, неопытный командир, неслетанный экипаж. Пусть уж теперь судьбой наказаны: полтора года волокитят с пенсией, ибо списаны оба пилота и штурман – из-за гипоксии мозга. Идет шепоток о симуляции, недостойный такой шепоток… но такова наша ведомственная действительность.
Мне надо делать выводы, для себя.
И первое, что надо уяснить: при отказе 2077 (а у нас как-то частичный был, обошлось) надо учитывать, что при переходе на дублер может вот такое случиться. И над горами, когда экстренно-то не шибко снизишься, надо думать и работать, спасать людей.
А наши кислородные маски таковы, что ни на голове не держатся, ни связь в них сразу вести нельзя, ни вообще быстро надеть.
Реально одно: пилотировать одной рукой, а другой держать у лица маску. Это трудно, но другого пути нет, особенно при внезапной разгерметизации, допустим, при разрушении конструкции, при взрыве.
Я бы на их месте прежде подготовился к экстренному снижению, так, на всякий случай; для них же необходимость снижения, видимо, явилась полнейшей неожиданностью.
Надо прежде всего взять всем маски, сделать несколько глубоких вдохов, продумать действия на случай разгерметизации – и все оговорить. Лучше заранее надеть и отрегулировать, а если не получается, держать в руке. И если при включении дублера самолет разгерметизируется, то маска уже на месте. Да ее схватить в любой ситуации – две секунды.
Действия таковы. Командир дает команду на снижение, правой рукой малый газ, интерцепторы 45 и плавно штурвал от себя, триммируя и контролируя при этом перегрузку. Это займет 7-10 секунд.
Думаю, при необходимости можно сделать пару вдохов, затаить дыхание и оторвать маску от лица, оставив ее в руке; этой рукой и помогать пилотировать; можно и отдавать команды, периодически поднося маску ко рту для вдоха.
Второй пилот таким же образом выпускает шасси и левой рукой тоже давит штурвал, страхуя командира, а правой держит маску и периодически может отнимать ее от лица с задержкой дыхания.
Можно вполне справиться и установить снижение 70 м/сек, можно и перебрасываться короткими фразами, а главное, более-менее регулярно дышать.
Штурману и инженеру одной руки вполне хватит на те две минуты снижения. В горах, в облаках, ночью, штурману вполне хватит одной руки, чтобы работать с локатором.
К этим действиям надо быть готовым всегда, в любую минуту.
Видимо, грузины были просто-таки врасплох застигнуты, даже по вдоху из масок не смогли сделать.
Автопилот отключать не надо: по тангажу он сам отключится, пересиливанием, а курс оставить штурману.
А они крутили штурвалы двумя руками каждый. А бортинженер себе дышал кислородом и остался на летной работе; их же списали.
Оборачивается так, что тренированные, закаленные, контролируемые медициной летчики оказались слабы здоровьем и стали падать в обморок в метро через несколько дней после одноминутной гипоксии.
Надо полагать, что уже через минуту после начала экстренного снижения они были близки к той высоте 5000 м, которую в барокамере обязаны выносить без масок в течение 18 минут. Так что… и правда, симуляция?
Я ребятам, конечно, не завидую. Чем они виноваты, что у нас самолеты такое дерьмо? Что маски взяты из ВВС и конструкция их приспособлена не к авиагарнитуре, а к шлемофону сорокалетней давности, к которому прицеплять ее надо с помощью техника еще на земле?
Как я ни пробовал надевать ее на голую голову, без гарнитуры, пока в этих лямочках-резиночках разберешься… Даже если перед полетом ее подогнать. А по РЛЭ маску положено надевать, прицепляя ее к авиагарнитуре, т е, к наушникам.
Ну а если дым в кабине, то я уже обо всем этом писал выше, в связи с Сыктывкаром, с катастрофой Ту-134.
Короче. Самолет такой, что даже действуя по инструкции, надо ожидать любого отказа, а уж что связано с СРД, то заранее, не дожидаясь большой высоты, надо обмозговать, да приготовить все маски на всякий случай, а то и надеть, и подогнать, и связь проверить. А уж потом делать, на глубоком вдохе.
Мало просто контроля экипажа. Кстати, именно то, что экипаж отметил тот факт, что они все следили за тем, какой именно тумблер включает бортинженер (второй пилот следил, хотя ему-то за спиной как раз и не видно, ну, никак) – вот этот факт меня и настораживает: скорее всего он таки включил сброс давления вместо дублера, а потом договорились, как врать. Обычное дело.
Да, ошибиться может любой, но высока цена ошибки.
Не имею морального права упрекать моих братьев по оружию в ошибке или в симуляции. Но надо как-то защитить летчика, потерявшего здоровье на работе.
И вроде наградили экипаж … грамотами и ценными там подарками… значит, не виноваты. И списали, дали инвалидность, а вот пенсию по среднему, как положено, не дают.
Ну… там – Грузия, а командир-то русский… Говорю так потому, что сам на днях на своей шкуре испытал, каково нынче в стране Советов, в национальной черной республике, да перед начальником-националом, да русскому просителю. Вот такая действительность. Или я на нее, на советскую-то на нашу, – клевещу.
А будь экипаж грузинский – ходили бы с орденами и персональной пенсией, по среднему. Как получили ордена армяне в Армении, когда на взлете сдох двигатель. Не успел еще тот двигатель остыть, как уже был приказ.
Мне не надо ни ордена, ни той персональной пенсии. Но хочу летать социально защищенным. Однако же, пока моя защищенность – в предусмотрительности.
А случай этот, о котором я узнал из газеты, у нас в приказах и информации не проходил , а значит, не изучался. Гласность.
12.05. Как всегда после тяжелой ночи: доберешься домой и не можешь сразу уснуть: привычное жжение в груди, липкий пот, покрывающий все тело… кое-как задремлешь, спасибо, что есть где и не мешают; через пару часов просыпаешься разбитым, весь в поту, хочешь и не можешь задремать снова; вылезают болячки, кашель или еще что. С трудом дотягиваешь до вечера и уж там проваливаешься в настоящий, крепкий, выстраданный сон.
Это я вернулся из ночного Благовещенска. На обратном пути, от Киренска до Богучан, экипаж потихоньку подремывал. На что уж Витя привычный, а тут на длинном, в несколько сотен верст, прямом участке, в тишине утреннего эфира, – и он клюнул носом, но лишь я взял пару градусов правее, чтобы по моим расчетам выйти точно на ось трассы, тут же очнулся и – привычка штурмана – сразу: что за курс? И уже не расслаблялся до конца.
Проверяющий Сережа Пиляев привычно подрагивал ногами, качая коленкой в стороны: не сплю, бодрствую; а голова моталась с плеча на плечо, и тонкая нитка сонной слюны текла из открытого рта на лацкан пиджака.
Счастливый бездельем, второй пилот скорчился на приставном кресле и добирал за предыдущие бессонные ночи.
Бортинженер стерег свои приборы, раскрытая книга лежала на столике, шевелился изредка, листал.
Я терпел, хоть и засасывало; прямо уговаривал себя: ну потерпи, стисни зубы, через 20 минут снижение… а голова сама застывала в первом попавшемся положении, и веки на секунду прикрывались, опуская на усталый мозг легкую вуаль первого сновидения. Вздрагивал, гнал сон, дышал кислородом из маски; откинув спинку сиденья, качал пресс, выгибал спину, отжимался на руках, крутил чугунной шеей; все это в узком пространстве между штурвальной колонкой, педалями, спинкой кресла и коленом штурмана…
В общем, перемогся. Довез полторы сотни сонных пассажиров, в утренней дымке вышел на полосу и долго, долго добирал штурвал, чтобы мягче посадить летучую машину.
Ползли по перрону к выходу в город, а навстречу шмыгали детишки с цветами, и все мимо нас, отыскивая сзади, в толпе прилетевших, родные лица.
Вот работа. Не было никаких циклонов, гроз, болтанки; ясная ночь, синел, потом алел слева горизонт; садились из светлеющего неба в черную ночную амурскую петлю; шли в АДП в сереющих сумерках, а в окне уже зелено-розовое восточное небо на глазах багровело, и день настал.
Взлетали навстречу солнцу, а по нашему времени – половина пятого утра. За все удовольствие – полсотни рублей, и два скомканных дня: спи до того, спи после того… спи-отдыхай.
Послезавтра – четырехдневный Симферополь. По какому режиму спать, есть, – по домашнему или же перестроиться под крымский, чтобы потом снова перестроиться под домашний, чтобы через день снова лететь в Сочи…
Но это издержки. Будем развратно спать по 12 часов, ложась по красноярскому, а просыпаясь по крымскому времени. Может, съездим на троллейбусе к морю, а то будем валяться на кроватях и читать, читать впрок. И назад лететь ночью, снова чувствуя привычное жжение в груди. И так – все лето. Работать надо, за зиму наотдыхались.
Сняли нам врачи ограничения по диагнозам, но мы с Валерой отказались от продленной саннормы. Здоровье дороже. Сверхурочные у нас оплачиваются не вдвойне, а как обычно; это еще одно противозаконие, но дело не в деньгах, а в работе на износ, из ночи в ночь. И мы старимся, и жены наши старятся без нас, и годы уходят, уносят здоровье и желания, гнут и гнут… и не только спину.
Мы тут вспоминали долголетие старых летчиков-испытателей, Громова и Коккинаки, и Серега без околичностей сказал: у того Громова налет – шестая часть твоего, и ночами он большею частью спал, а если ставил рекорд, не спя по две ночи, то за это ему светил орден, а тебе – хрен в рот. И он летал один, а у тебя за спиной не балласт – люди.
Так что не разевай рот прожить 80 лет. Обидно.
Ну вот, опять нытье. Да нет, какое это нытье. Работа, конечно, трудная, и трудная не только усталостью. Мы же еще, между прочим, и задачи свои решаем.
Недавно летали с Лешей в Норильск, и нам не удались посадки. Машина только что из ремонта, подушки сидений новые, высокие, не убитые до тонкости пилотскими чугунными задами, – и горизонт проецируется чуть не по верхнему обрезу лобового стекла. А привычное глазу положение – нижняя треть. Приходится откидывать назад спинку сиденья, чтобы смотреть на горизонт через эту нижнюю треть стекла. Но тогда далеко от штурвала – прямыми руками приходится его крутить. Поближе подъехать – надо педали в глубину угонять. Регулируешь, регулируешь, туда-сюда… все не так. И хоть глаза вроде и видят тот горизонт на нижней трети, но обрез козырька приборной доски от глаз дальше, угол зрения другой, полосу охватываешь взглядом уже на другом расстоянии… короче, словами все описать я не могу, это вырабатывается годами и определяется одним только ощущением удобства, влитости в кабину, подбирается перед полетом за 5-10 секунд перемещением кресла, спинки, подлокотников и педалей, и потом проверяется удобством отклонения всех органов управления.
А тут – ну не так, и все. А в результате – ложное ощущение, что ты летишь над бетоном выше или ниже; на выравнивании, на скорости 260, когда ты должен вертикальную 3-4 м/сек уменьшить до нуля, в диапазоне высот 6-4 м, за две секунды, где все на интуиции и шестом чувстве, – в этот момент тебе кажется, что ты идешь чуть выше, что еще полсекунды… подпустить землю поближе… удар! – вот она, земля-то.
Ну, хорошо, мы опытные профессионалы, мы и это предвидим, и заранее подкрадываемся так, чтобы даже если и ошибешься, то удар будет легким толчком. Все посадки и так на пятерку, но Леша долго переживал: перегрузка 1,4 – верхний предел пятерки, а ведь он – Мастер, ас.
Но – дошло. И третью в этот день посадку я выполнил нормально, взяв управление у Леши и выравнивая, как мне казалось, чуть выше.
18.05. Как всегда после бессонной ночи. См. запись за 12-е число. Всё один к одному, только в Актюбинске уже стояли первые для нас в этом сезоне грозы, которые мы без труда обошли.
Выруливал ночью в Актюбинске, в темноте неосвещенного перрона, дал газку, прежде чем S-образным маневром вырулить на ось рулежной дорожки, все как обычно.
Вдруг кто-то резво запросил у диспетчера, какой это борт выруливает сейчас. Я отозвался сам: вдруг кто-то что-то заметил – неисправность, пламя, дверь не закрыта, что-то упало с машины, – короче, такие случаи бывают, и мы друг другу подсказываем, упреждаем.
Неизвестный начал меня оттягивать, что я, мол, «сильно газовал». Я спросил, не сделал ли я ему чего своей струей. Он угрожающе спросил еще раз номер борта и чье управление; я вежливо ответил. Еще раз переспросил его, не сделал ли какого вреда, на что он небрежно отпустил меня: лети, мол, и жди тыкву.
Неудобно было посылать коллегу в эфире на три буквы, а надо бы.
Мне диспетчер разрешил запуск и выруливание, техник визуально тоже разрешил, причем, связь с техником была не через шнур СПУ, а по радиостанции; мог бы предупредить меня, если чего, уже в процессе руления. Глаз сзади у меня нет; стоят какие-то самолеты сзади в темноте, железный ряд, ответственность несет земля.
Подозреваю, что шумел Як-42, заруливший после меня где-то за хвостом; я не интересовался, это его заботы. Если он видел, что борт запускается и собирается выруливать, мог бы предупредить; так часто делается. Я бы тогда уж точно постарался не газовать. Вон в Ташкенте АТИС предупреждает: развороты – на малом газе. Да я вполне умею подобрать безопасную порцию оборотов на рулении.
Зато я взлетал – думал, в наборе – думал, и уже в конце полета мы устроили мини-разбор и еще раз дружно послали коллегу с начальственным голосом восемнадцатикратно… туда.
В Москве, прежде чем дать разрешение на запуск, диспетчер требует, чтобы техник оценил обстановку и дополнительно разрешил, учитывая, что сзади расположены стоянки. Так в Москве хоть перрон хорошо освещен.
В Актюбинске всего четыре стоянки для лайнеров, по две в ряд; я стоял на крайней передней, рядом – однотипный. Вот у него за хвостом – железный ряд. И как тут вырулишь без газа.
Короче, вины не чувствую, но вот все разбираюсь.
Ну, пока наши аэрофлотские рапорта и докладные ходят, все пленки на самописцах будут уже стерты, сколько и когда я дал газу, не определишь, а записанные диспетчером мои ве-ежливые переговоры, где я конкретно спрашивал о претензиях, а мне ничего не сказали, дают мне право вообще не разбираться. Ничего не было, а кто-то, дядя, ну, видать, начальничек из кабинетных, с нарушением фразеологии, не назвавшись, пытался меня ни за что отругать. Смех в зале. Диспетчер же, чуя, что у него рыльце в пушку, что перрон, в нарушение правил, не освещен, во время нашей дискуссии молчал. А он за это дело отвечает.
Я хорошо помню, как у нас 417-ю посадили на стоянке на хвост. Тогда экипаж Ил-76 обвинили, что командир отказался от предлагаемой буксировки, что не осмотрел лично летное поле согласно НПП, что не выключил двигатели по команде техника, когда тот увидел, что от струи грузовика «тушка» садится на хвост. Нам же никто ничего не предлагал, а по тому темному летному полю я шел из АДП к самолету, значит, «осмотрел».
Вот и идите вы все трижды… туда, туда.
Нищета в Симферополе. Талоны на мыло… У нас хоть дорогое есть; там – голо. Ясно: расхватали, а попозже будут бабки по кусочку втридорога продавать. И то: проживи-ка на их пенсию.
Уже я не выпираю со своей профессиональной гордостью и высоким за это заработком. Денег нет, текут как вода, и я вполне осознаю, что годы застоя были для моего поколения благодатью, потому что инфляции не было. А сейчас я средненький, почти что бедненький; правда, миллионов пятьдесят у нас в стране живут в чистой, заплатанной нищете, я еще туда не скатился, но это недолго.
Нашему поколению выпала незавидная старость: после застольных лет, после бездумья и благодушия, – прозрение, разочарование, обида и резкое обнищание.
Но, ей-богу, не могу понять, чем же лично я виноват?
А каково тем Швондерам и Нагульновым, кто все положил на алтарь, а алтарь-то… И они с пеной у рта защищают и укрепляют, гнилыми веревками обматывают тот пошатнувшийся, рушащийся алтарь, который молодое нынешнее поколение просто оплевало.
А теперь можно и в баньку. И выходной впереди.
Каждый май, возвращаясь из долгого рейса, поражаюсь, как у нас холодная весна резко переходит в теплое, жаркое лето. Из шубы сразу в сарафан. Так и в этот раз: за четыре дня деревья покрылись зеленым туманом, и где-то уже зацветает черемуха. Еще неделя – жарки зальют луга и опушки, и молодая, чистая и свежая зелень будет кричать из каждой щели: как хорошо жить!
Прочитал «Белые одежды». Сильная, умная книга. Как мелки мои страсти по сравнению с теми. Но извините, как я не подвержен тем гадючьим страстям – это тоже надо ценить в себе. Каждому свое.
22.05. Как всегда после бессонной ночи, далее по тексту.
Из Сочи. Остался в эскадрилье отвоевывать Валеру, чтобы пойти в отпуск вместе. Мне дали путевку на июль в Ялту.
Если бы простому советскому человеку дали путевку на июль в Ялту, он бы скакал от радости. Но я избалован, особо не радуюсь: я знаю Ялту в июле. Всей-то радости – что не стоять с ребенком в очередях за жратвой, казна накормит, да спать в сносных условиях. А куда деваться от людей? Жаль, что не было путевки в Алушту: там по сравнению с Ялтой – рай, тишина и свобода от розовой массы человеческого тела на пляже.
Ну да ладно; главное – перерыв в полетах среди лета. И Валеру оставили со мной, вместе выйдем из отпуска.
Расписание – голимая ночь. Го-ли-ма-я. Вылеты по местному: в 22, в 24, в 2 ночи, в 5 утра. Утренние вылеты – ранние, надо с вечера заезжать спать в вонючем профилактории, без воды, на тех же провисших койках.
Летели на 202-й, той, с высокими сиденьями, справились. Я долго и нудно добирал дома, мостясь помягче. Ну, умостился. Удовлетворен.
Смотрел программу по телевизору, как святые и чистые революционеры решали судьбу царя Николая Кровавого и его проклятой семьи, как Ленин тихонько подсунул это на откуп швондерам, и как произошла революционная казнь и похороны. Мерзко.
Еще какой-то Гдлян против какого-то Лигачева. И хоть из двух зол Гдлян мне симпатичнее, но обоих бы в Магадан – в самый раз. Там бы пусть и играли в свои политические игры.
Какой-то съезд через три дня.
На днях в Актюбинске подошел ко мне в АДП Яцуненко, бывший начальник инспекции, командир отряда и прочая. Попросился зайцем домой. Что ж, он для меня теперь – только бывший коллега, списанный по здоровью, не более. То, что было в прошлом – так он продукт своей эпохи. Теперь же – больной лев, и что – пускай ослиные копыта знает?
Взял я его. Неловко было вообще выслушивать его просьбу… какой разговор – самолет 194-й, идите туда, и все.
В 50 лет списан по сердцу.
Лигачев недавно ботал: «Мы на износ тут все работаем». А я ведь до его лет не доживу. Тоже на износ.
Перед съездом закулисная борьба. Но невооруженным глазом видно, сколько ошибок уже сейчас делает наше партийное руководство. Как же неповоротлива партия!
Это – я неповоротлив. Это я не успеваю осмыслить жизнь. А какой-то Гдлян – успевает.
31.05. Ну, о съезде что говорить. Горбачев начал открывать вентиль, резьбу сорвало, пар погнало, волосенки ему встрепало, с лица почернел аж, – но куда теперь денешься, возврата нет. Не остановить.
4.06. Нигде не встречал я, выйдя из самолета после посадки, такого свежего, насыщенного ароматами хвои, травы и цветов воздуха, как в Чите после дождичка. Ну, еще разве что в Якутске, да иногда у нас в Емельянове, в штиль. Но в Чите – слаще всего. И жизнь хороша.
Ночь, третий час. Иди, иди спать; вечером снова лететь в ночь, вослед незаходящему солнцу.
А посадка дома мне удалась.
7.06. Когда нынешние моралисты усердно втолковывают, что лишь отдавая, лишь отрывая от себя, человек идет по истинному пути…
И второе: когда кругом твердят о безусловном примате коллектива…
Не знаю, не знаю. Если мы все, каждый из нас, будем только отдавать ближнему, только сгорать для других, не беречь для себя, то позвольте спросить: в чем же счастье? Это ж муравейник получается.
Можно привести ряд рассуждений, резюмируемых одним вопросом: если все будут как Данко, то кто останется просто жить?
Мировое сознание нынче пришло к выводу, что нормальное, здоровое общество нормально и здорово тогда, когда каждая личность в нем гармонично и свободно развивается. Человек, как и все живое на Земле, по природе своей эгоист, тянет к себе еще в колыбели.
Я понимаю высокую мораль, допустим, в любви двоих, в сексе: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Но это – двое, это, в принципе, двуединство ячейки общества, пары, продляющей род.
А если мы каждому встречному будем отдавать свое, родное, личное, выстраданное, скопленное по крохам, с любовью, а взамен щедро получать ношенное, с чужого плеча: добро, ласку, место под солнцем, кусок хлеба, – не получится ли по принципу «отдай жену дяде…?»
Или же подразумевается высшее наслаждение развития личности: я стремлюсь, добываю, делаю, – и тут же дарю дяде. А дяде, может, оно и не надо совсем, ему свое, выстраданное, дороже, а его тоже надо отдать кому-то, а тот о своем плачет.
Как ни песня – так сгорай для других. Как ни вирш – так не береги себя, отдай для других. А для кого же себя беречь?
И если я, эгоист до мозга костей, эгоист по природе, как и любое живое существо, – если я буду отрывать и одаривать, тем более, здоровье отдавать, то что-то не верится, что при этом не буду страдать. Своего – жалко. А раз страдание – не за ближнего, а шкурное, – то где гармония? И в чем счастье такого общества, состоящего из муравьев-дарителей? И зачем людям то, дареное, когда подразумевается только отдавать, а не брать?
А нас 70 лет учили альтруизму. И мы им – дарили. А они жировали.
К счастью, я постиг, что альтруизм хорош в сексе. И достаточно.
Да и отдавая, по той теории, ты должен все равно получать. Духовное возвышение. Я дарю – я благороден! Духовное – но под себя!
Нет, я все же – за «своё», за «моё». Здоровье не дядино, а мое, и беречь его надо для себя. И материальное благополучие тоже, и добротою шибко не раздариваться. По крайней мере, сейчас не то время и не то общество.
Зло берет. Прилетел домой, нет горячей воды, моюсь из ковшика. Улетел, вернулся, нет холодной, но есть кипяток. Обратно из ковшика. Пошел в гараж, нет света. Пошел в сберкассу, нет денег. И так везде.
А после всего этого общество гармоничных личностей, Данков этих, лишь чуть подзуди, мгновенно превращается в толпу и карабашничает в Фергане.
И жалко становится мне наших писателей, поэтов, наших моралистов.
Какая к черту свобода – отдавать, страдая при этом, как пресловутый Кондрат Майданников по своей скотине. На пропастишшу!
Нужны столетия. Когда у всех всего будет в достатке, когда пресловутое отдавание не будет ставить перед дилеммой: страдать или не страдать, – тогда, может, разовьется тот альтруизм.
Но ты же из горящего самолета не выпрыгнешь, не бросишь людей? За них же будешь свою жизнь отдавать?
Не все так просто. Я служу. Сам выбрал. Мне за это платят деньги. И в железной коробке судьба у нас одна. Борясь за себя, буду спасать других. В экстремальной ситуации летчик думает не о пассажирах за спиной. Он борется за жизнь, просто за жизнь. А думать о спасении людей он уже думал на земле, раньше, и много.
10.06. Ночная Алма-Ата с четырьмя посадками, худший наш рейс. А через пару дней – еще одна. Терплю. Утешаю себя ощущением благородной усталости и тем, что Рыжков пообещал с января убрать потолки с зарплаты работающим пенсионерам. Правда, только рабочим и мастерам. Ну, я на другое и не претендую.
Только рабочие в нашей стране – люди.
12.06. Вечером снова в Алма-Ату, надо как-то поспать. И в гараж надо срочно, налаживать машину, и постирал с утра… но пойду все-таки в баню: легкое, очень легкое недомогание, в носу что-то не так, чихаю. А после баньки, надо полагать, усну крепко.
Вчера доктора нервных наук по телевизору долго и смешно разглагольствовали о ритуалах, предшествующих сну. Вот я и думаю, какой же ритуал нужен пилоту, через сутки летающему по ночам, и как ему переработать те лишние гормоны, что выбрасываются ночью в кровь – это только при бессоннице; а при четырех взлетах-посадках?
И тут же список последствий: атеросклероз, ишемия, инфаркт…
Ничего, вот за это нам и платят 700 р. в месяц. И у меня в семье чуть не 300 рублей на человека, а текут как вода.
А люди как-то живут на 70 рублей, а есть и на 40.
Не ворчи.
Но костюм у меня уже 12 лет один. Зарплата 700 – и один пиджак… странно. Он приличный, я его берегу и смотрюсь в нем хорошо… но – один.
Конечно, хозяева мы плохие. Образ жизни нас развратил. Ничего не стоит выкинуть сотню на подарок, не глядя покупаем: набор косметики – 60, пара шампуней – 10. На десять рублей можно купить семьдесят кусков детского мыла, мыть им голову пять лет, с тем же эффектом, что и пятирублевым шампунем, хотя его не хватает и на пару месяцев. И так у нас все.
Уйду на пенсию, и сразу все встанет на место. И скромно будем мыться мылом, если к тому времени оно появится.
И вот это ощущение, что гробишь здоровье, обрываешь ниточки общения, оскопляешь свою жизнь – за те бумажки, которые летят в бездонную прорву мелочных желаний, – вот это жизнь?
Или тот клерк, что штаны просиживает за конторкой, а вечерами вместо активного отдыха зашибает рубли на том «жигуленке» – и все за призраком, за тем мыльным пузырем благополучия, – это жизнь?
Или я уйду раньше на пенсию и сохраню здоровье и ту же пенсию для семьи на долгие годы, ну, на 15-20 лет, – или еще пару лет поживем на 700, а через пять лет я загнусь, как абсолютное большинство пилотов.
Вялость окутывает. Старею буквально на глазах. Образ жизни высасывает все. Уже трудно представить себе, как это – начать новую жизнь. Нет, будет все по-прежнему: устроюсь на земле на другую работу, буду и на ней уставать, и будет не до физкультуры, и лень заест.
Но почему? Неужели я так порочен и так опустился? И весь мой порок – в ощущении постоянной усталости.
Съезд прошел. Очень много впечатлений, каша в голове, но основные выводы я сделал.
Страна зверьков, и съезд зверьков. Дикие люди. Бескультурье. Тюрьма народов, чуждых друг другу, но по инерции твердящих старые догмы. Империя зла, интриг, борьбы за власть, и какие ужасы таятся в тине, страшно представить.
А победил аппарат.
Лучше пока не будет, лет пять. Потом возобладает рынок, и станет хуже, и намного.
Альтернатива нынешнему строю есть: диктатура. Зла в народе так много, что еще пять лет – и поддержат любого экстремиста, будь то Сахаров, Ельцин или Гдлян. И тогда у меня будет веселая старость.
В республиках есть подполье, хорошо организованное и законспирированное, использующее все напряжения нашей жизни, – готовый порох, только чиркни. Контрасты наиболее видны в южных республиках; уже льется кровь, и не слабо. И будет еще литься.
Все гниет и все валится. Катастрофы одна за другой.
Государство не серьезно больно, а, пожалуй, при смерти. Уже нет здоровых сил, все захлестывает экстремизм и наплевательство.
Благополучия не будет.
Пока есть земля, будем сажать картошку, прокормимся.
Интересно, что в Фергане громят райкомы и милицию, Не громят магазины, базы, автосервис. Странно. Значит хуже всего народу от властей. А подполье, видимо, имеет отношение к базам и магазинам. А уж направить зло, чиркнуть спичкой…
Пора бы уже и Хохляндии повоевать. Что-то моя родина не выступает. Ну, разве что бандеровский край ворчит, а остальные себе молчат. Наверное, там поголовное хмельное братство.
13.06. На дубоватой, тяжелой по крену 160-й не удались все четыре посадки. Те легкие, неуловимые, автоматические исправления кренов, которых не чувствуешь на других машинах, превратились здесь в сознательные и прилично отвлекающие от земли действия, уже не кистями, а плечами. В результате, и у меня, и у Леши, подвешивание, выдерживание, ожидание, ожидание, и – плюх! Плюх в пределах 1,2… но это не наши посадки. Лишний раз подтверждается истина: посадка требует и мобилизационного напряжения (боковой ветер, низкая облачность, болтанка, плохая видимость), и в то же время свободы движений, позволяющей проявляться интуиции. Это искусство требует вдохновения. А тут – бревно.
Весь полет читал хорошую книгу Марины Влади о Высоцком. Спать не хотелось, ну, почти. Странно, но обе Алма-Аты обошлись вполне сносно. По крайней мере – мне, потому что сумел поспать часа по три перед вылетом.
14.06. По дороге на работу меня навязчиво преследуют картины пожара на взлете и нюансы действий. Это стало уже привычкой, так что, думается, случись пожар, действовать буду уверенно. Неделю назад на тренажере в Ростове элементарно зашел малым кругом, даже слишком резво, как заметил инструктор, но и тренировать больше не стал, поставил пятерки и отпустил с миром. Это – пройденный этап.
В ночных полетах – фантастически красивые, спокойные вечера, грозовые облака в неверном лунном свете и багровых сполохах молний внизу, тихие рассветы с разводами туманов по низинам, – и все это на фоне и под гнетом усталости и шума.
2.08. Отлетав положенное, ушел я в отпуск в связи с путевкой, высиженной и выбеганной мною между ночными рейсами за счет дневного отдыха. Выбегал, выпросил, выстоял за билетом и 8 июля улетел в Ялту. Насытился шашлыками, пивом и положительными эмоциями, как-то: возлежанием на пирсе, ленивым поглядыванием на тела, красивыми прыжками в воду (многочисленные зрители не дали бы соврать), аккордеоном в палате, пианино в столовой, танцами, баней (хоть и неважной против сибирской), одиночеством и бездельем, глажением великолепного санаторного кота Васи, – что еще надо? И, несмотря на двухдневную ангину и неважный поначалу сон, отдохнул хорошо, и телом, и душой.
Лениво просматривая газеты, лениво же констатировал: ага… война в Абхазии… забастовка шахтеров… ну и что?
Короче, отвлекся от этой политики.
Сегодня день удовольствий. С утра баня, потом варенье, поспал, съездил за вениками в рощу, нарезал, развесил… хорошо! А то, что через пару дней снова летняя каторга – потерпим, полтора месяца.
Бог с ней, с политикой. А вот на работе, говорят, перемены: за продленку платят теперь вдвойне. Это хорошо. Но посмотрим, как оно на самом деле. Во всяком случае, за экономию топлива я ощутимой награды так и не вижу.
Уже немножко хочется и полетать, так это, лениво, зная, что никуда оно не денется. Если бы точно узнал, что – всё, больше никогда никуда не полечу, – это ленивое желание можно было бы вполне превозмочь. Но… это еще впереди, и это будет не ленивое желание, а тоска по любимому покойнику, которого не воскресишь. Надеюсь, что и это переживу.
Нервы, нервы береги, Вася. Мысль пусть работает, чувства пускай живут, но эмоции огради от политики, абсолютно.
Страна, народ, переживали и не такое. И ты переживешь. В сорок пять лет не всякий сохраняет все зубы и прыгает в воду с высоты, работая радикулитной поясницей и оттягивая носочки так, что народ завидует. Радуйся, двигайся, плачь (ах, церковь в Ялте – какой там хор!), пей ее, родимую, в меру, – живи…
Удавалось бы каждое лето получать отпуск с путевкой в Крым (лучше бы семейной) – можно было бы летать и до 50 лет. Полтора месяца каторги до, полтора после, и не век же будут ремонтировать проклятую полосу, может, и ночи меньше будет.
Береги себя, береги. Как хорошо сказал один товарищ: сколько там той жизни осталось.
Вот так и проживу до старости, как в полусне, с приторможенными, оберегаемыми чувствами. Но что делать – может, их закалять? Искать приключений, преодолевая боль под ложечкой и бешеные скачки сердца в горле? Так мне и на работе их хватает, переварить бы.
Со стороны – вареный глист, эгоист проклятый, ни рыба ни мясо.
Да плевать мне на ту «сторону». Мой мир со мной. Обойдетесь тем, что вареный глист вас, пятьсот тысяч, а может, и больше, по воздуху перевез, достаточно при этом расходуя себя. А в душу ко мне не суйтесь.
Три наблюдения. Летел в кабине с Сергеевым. Работают молча, плюя на обязательные команды и доклады, но, конечно, страхуют друг друга. Посадки мастерские. Плюют на магнитофон, что может записать недозволенное. И – спокойны. Репин бы…
Но времена, в которые формировался характер Репина, прошли.
Леша летал с Толей К. Там вообще никакого понятия об ограничениях. Летают как хотят. Леша вслух удивился, А К. изумился его удивлению. Он вообще опускает все нюансы и спокойно себе летает.
И уже Володя З. взлетает в Челябинске в тумане. Диспетчер его информирует, что погода хуже минимума и – «ваше решение?» Володя говорит: «взлетаю». Пришла телега, дали строгача. Ну, Володя горяч, знаю. Но идти на явное нарушение?
Он, видимо, неправильно понял слова «на усмотрение командира». Ну, разъяснили.
Итак, просматривается тенденция. Летный состав наглеет. Наглеет, не выполняя массу мелочей, которые не определяют безопасность, как даже, к примеру, тот минимум на взлете. Как практический пилот, пролетавший на Ту-154 во всяких условиях, утверждаю: любой командир взлетит в тумане. Любой, мало-мальски летающий по приборам. И минимум для взлета определяется не видимостью на разбеге, а кучей других, сопутствующих обстоятельств, понятных только летчикам.
Что заставляет наглеть? Времена такие. Перестройка снизу. Эйфория. Кончилось ваше время.
Но в нашей работе, я лично считаю, безопасность зиждется на одном: высоком профессионализме и уважении себя как мастера. Я бы минимум не нарушал. Мастерство не в том, что смогу взлететь в тумане, даже с отказавшим двигателем. Мастерство – в самодисциплине. Рамки должны быть. Пусть я их сам себе установлю. Но бравировать…
Солодун бы не нарушил.
У меня в экипаже работа подтянутая. Мы получаем удовольствие от четкости, хоть она иной раз и надоедает. Зато за тылы мы спокойны, и очень бы удивились, если бы из расшифровки на нас пришла бумага. Мы знаем, что недоговоренности быть не должно, а значит, как же это – взлетать с нарушением и ждать дыню? Я так не смогу; Володя вот смог… а прекрасный же командир.
Нельзя самому упрощать работу в кабине, сбивать стереотип, разрушая с таким трудом нажитый профессионализм экипажа.
26 июля у меня личный праздник: первый самостоятельный полет; я состоялся как летающий человек. Нынче, отмечая его бутылкой шампанского в Ялте, со случайными людьми, я сказал три тоста.
Первый – за тех, кто сейчас летит. За то, чтобы не отказала матчасть, чтобы обошли грозы, за мягкую им посадку, и чтобы удалось отдохнуть.
Второй – за профессионализм, за мастерство, за состоявшуюся личность.
И третий – за тех, кто ждет нас на земле. И с моря, и с небес. Утомленных, нецелых, любых. Прекрасные, точные, литые слова Высоцкого.
В общем, я счастлив, и люди мне завидуют в чем-то, по-хорошему.
И как же тут-то – без шампанского! Эх, Федор Углов, где твоя трибуна. Нет, жизнь лозунгами не переделаешь. Да я и нужды не вижу.
7.08. Когда я слышу слово «кооператив», сразу представляю себе наши гаражи. Строили мы их каждый себе сам, но организовывал место и подвел электроэнергию нам кооператив, т.е. сообщество владельцев гаражей. Наш кооператив. Мы. Опчество. Соопча.
И этого электричества постоянно нету зимой, а летом оно пропадает именно тогда, когда необходимо готовить погреба к зиме. К кому идти, где искать концы, я не знаю, да мне и некогда. Понимаю, что, будь это частная собственность, свет был бы всегда, – но и платил бы я регулярно. Хозяин бы придумал, как брать с нас за электроэнергию.
А так оно – опчее, наше, ничье, и взносы платят только такие дурачки, как я. А света нет.
И так – завод. И так – колхоз. И везде так. Не уходи с аэродрома, не свистнув что-нибудь для дома.
Когда сосед сверху меня заливает, водой, а сосед сбоку будит по ночам дракой за стеной, а зимой в квартирах у всех холод, а весной жара, – то у меня возникает желание иметь свой дом, быть хозяином своего света, своей воды, своего тепла, своей чистоты, своей тишины, делать все своими руками, и тогда, когда этого захочу я сам, а не швондер.
Коммуналка. Барак. Бардак.
А сил оторваться, отделиться и своими руками сделать себе все – уже нет.
Так что я убежденный сторонник частной собственности, и даже наоборот: ярый противник собственности ничьей. И как это состыковать с коммунистической моралью и партбилетом?
Три месяца не платил взносы – никому и дела нет.
В бане нет воды… Поистине, отличительной чертой эпохи, у которой партия есть ум, честь и совесть, является то, что пропадает обычное. Идешь за хлебом – нет хлеба, идешь в баню – нет воды, идешь поработать в гараж или едешь на дачу – нет света, пошел на почту – закрыто, подстричься – санитарный день, за минералкой в магазин – переучет.
Создается впечатление, что идет повсеместный мелкий саботаж. И цели своей он достигает: у народа сложилось стойкое представление, что в стране бардак.
С высоких же трибун в народ летят звонкие слова, как футбольные мячи.
А я, обыватель, делаю такой вывод. Надейся в этой жизни только на себя. Имей все свое, а если нет, сужай потребности, умеряй аппетиты. Никогда не жди готовенького, учись все делать сам. На любое задуманное дело имей запасной вариант. И не верь большевикам, потому что семьдесят лет они твердили: «под руководством мудрой ленинской партии» и т.д. – а теперь скромно констатируют: «страна пришла». Или дошла. Страна оказалась.
Так что не верь им. Живи без их ума, чести и совести – имей все свое.
8.08. Уж полдень близится. А почты все нет. Лифт не работает. Молодые крысята беззаботно резвятся на лестничной клетке. Из мусоропровода прет тяжкий дух.
В порядке исключения: как ни странно, приняли в стирку белье, даже обещали подкрахмалить. И бензин на заправке есть. Так что нет причины для тоски.
Сегодня лечу в Ростов. Хватит отдыхать. У нас наконец-то заработал свой тренажер, так что Ростов теперь – рейс отдыха. Ну, запчасти поищу.
Сегодня капитан тяжелого воздушного лайнера штопал старенькие пододеяльники и ремонтировал зашмыганные рукава затасканной фланелевой рубахи. Ну, у меня это хобби, у меня получается лучше, чем у жены. Но, в принципе, чем, интересно, занимается мой коллега в США? В Южной Корее? В ЧССР?
Вся наша жизнь расходится на мелочи, на условности, которые в цивилизованном обществе решаются по телефону. Человек должен максимально реализовать себя в профессии, и она должна обеспечить ему такой уровень жизни, чтобы все остальное время уходило на духовный рост, семью и отдых.
Мне же моя работа, требующая в жертву здоровье и подчиняющая себе весь образ жизни, дает только моральное удовлетворение и немного бумажек, символизирующих возможность добычи тех благ. Но тех благ нету, и вся остальная жизнь уходит на их добывание. То есть, жизни нет, а есть сплошная очередь.
Если бы я знал, что дома после полета меня ждет отдых, а не стирка, очередь, талоны, грызня жены, вечная проблема, где достать, – то наверняка я сохранил бы оптимизм, энтузиазм, чувство собственного достоинства и здоровье. То есть, не спал бы от хронической усталости в полете, быстро реагировал бы на вводные и спокойно работал с экипажем. Что и требуется.
10.08. Ну вот, разговелся после отпуска, в штилевых, идеальных условиях: три идеальные посадки, и пульс ни на удар не увеличился. А идеальные условия, как я уже говорил, для хорошей посадки отнюдь не являются идеальными, т.к. не мобилизован, не в тонусе. Вот сложняк – мобилизует, там-то и удаются мягчайшие посадки.
Ну – удались, в штиль, после перерыва; значит, я в самой поре. И то: пора для пилота обычно – где-то 45 лет. Лучше, чем сейчас, я уже летать не буду, а так – сколько продержусь. Зависит от вдохновения, а где оно. Рутина.
Утром Челябинск вдруг закрылся: погода за три срока – туман менее 200, и на час без изменений; и мы от Златоуста повернули на Свердловск. Через 20 минут сели в Кольцово – Челябинск дал 1800 м. Ну что ж, судьба. Не высаживая пассажиров, заправились и перепрыгнули в Челябинск.
Прогноз Челябинска теперь давали: туман 400; а фактически было 5, потом 7 км, и вообще, улучшилось сразу после восхода, хотя обычно утренний туман держится еще часа три. Нетипично.
А через три часа ремонтом полосы закрывался Красноярск, мы не успевали и до вечера просидели в челябинской гостинице. Потом на два часа, тоже ремонтом, закрылся уже Челябинск. Короче, в дом я вошел в 23 по местному, а завтра с утра Хабаровск, но спать не хочу, в Челябинске выспался.
11.08. Академик Амосов в «Литературке» выступил с хорошей статьей. Его взгляды полностью совпадают с моими, а вывод один: будет хуже, надо готовиться жить беднее.
Рейс на Хабаровск отобрал Ил-62: «тушек» не хватает. Неожиданный выходной я использовал для души: сел на мокик и намотал сотни полторы километров по окрестностям, чтобы не дышать городским воздухом, особенно сегодня загазованным.
Отобрали рейс, 60 рэ, а я рад: запланировано было 83 часа, а теперь будет 75, это ближе к норме. Жаль только, что пропал длинный дневной рейс, остались короткие и ночные: Алма-Ата, Норильски, Благовещенск и т.д.
Завтра с утра в баню, а в ночь – Алма-Ата.
12.08. Церковь – для души, баня – для тела. И в душе одинаковая умиротворенность, тихая радость жизни.
Хотел как-то выразить свои ощущения в бане, да это не опишешь, это надо прочувствовать самому: весь букет раскроется, когда походишь регулярно с годик-полтора. Но так приятно пахнет от свежего тела березовым веником…
13.08. Как всегда после бессонной ночи…
16.08. Нет, это лето вполне сносное. Повторяю вновь и вновь: дайте мне отпуск в середине лета, и я буду спокойно работать, пока не спишут.
Хотя… сколько осталось той жизни, а я все пролетал. Все более и более жаль того, что не сбылось, а тем, что сбылось, я сыт по горло.
Сел с мыслью писать о полетах, а что там писать. Ну, слетали в Симферополь, ну, жарко, ну, сложно посадить машину в жару, но сажаем же.
Да будь же ты трижды проклята, эта шариковая ручка. Ну какой стержень в дурацком Советском Союзе ни купишь, все пишут отвратительно.
Вот так и вся наша нынешняя действительность: труд вбит, результат – дерьмо. А Горбачев с высокой трибуны восклицает: «Ведь можем же!» Интересно, какой он ручкой пишет? И что же мы можем же?
А купить новых стержней не смог, потому что очередь: стоят за тетрадками, берут впрок, сотнями. Газетенка, видите ли, напечатала статью, что где-то тетради по талонам продают. Теперь весь Союз хапает тетради, ручки, резинки…
Что ж: остается только водку жрать, ее качество у нас неизменно… хотя знатоки утверждают, что раньше и водка была лучше.
Нет, путь к спасению страны я вижу только в одном: разогнать весь Совет министров – наш основной тормоз – и бросить страну в рыночную стихию. И через муки, разброд, шатания, инфляцию, через кровь, – выстрадать лет за десять рыночную экономику.
При этом партия рассыплется как карточный домик, а свято место пусто не бывает: образуются новые, и будут драться. Но зато появятся хозяева труда, они, а не швондеры, вытащат страну.
Ну, а мне писать осталось недолго, и потом нужда в стержнях отпадет. Впереди грядут земные заботы: надо подыскивать работу.
И так же, как эти авторучки, надо приучиться отсекать эти мелочи жизни, эти комариные укусы. Путь лежит поневоле к аскетизму, к натуральному хозяйству. Пути, в общем-то, два: второй – богатеть. Но это не мой путь. Я – сибарит, эпикуреец. Брать на откорм бычков, выращивать тоннами цветы, пластаться… во имя чего? Рубля? Коммунизма?
Я себя реализовал вполне. Путь мой на земле очерчен. И мне надо очень немного: кусок хлеба, кусок сала, картофелину, ну, помидор. Оставьте меня в покое, я его, ей-богу, заслужил.
* * *
1990 г.
27.07.90 г. Прошел еще год жизни. Я все так же себе летаю, здоровье позволяет. Но в полетах моих произошли качественные изменения.
Я вполне отдаю себе отчет, что мастерством своего дела овладел в такой степени, что справлюсь в любой ситуации, если господь поможет.
Ну и ладно. В полетах либо сплю, либо читаю, либо созерцаю. Экипаж работает, я ему доверяю. Сам же в пилотировании прост как правда. В основном, нажимаю кнопки. Внимания хватает на все, спина практически никогда не мокрая – не от чего. Бог бережет от ситуаций, а задачи погоды решаю без труда.
Наслаждение от мягких посадок? Бог с ними, с мягкими, честно, плевать. Но, в основном, мягкие. Ремесло освоил.
Моя задача – дотянуть до 93 года, до большой пенсии.
Я смирился со всем. Берегу свое здоровье, живу в разумном эгоизме, для себя и семьи. И плавно как-то, за полтора года, появилось отношение к политике, государству, обществу, выражающееся примитивным: «да пошли они все… козлы».
Советский Союз практически не существует как единый и могучий. На местах его не слушают, делают свое.
Партия коммунистов потерпела моральный крах, выходят из нее десятками тысяч, а взносы не платит половина. Я на нее наплевал и забыл.
И вообще, мне это все не надо. Это продлится еще много лет, страна инертна. А на мой век хватит того, что имею. И жизнь прекрасна.
29.07. Три месяца подряд – три саннормы, из них две – продленные. С начала года налетал 410 часов. Впереди еще август – тоже 90 часов; вот и год за два.
Летал автоматически. Молча тянул лямку, недосыпал пресловутые светлые ночи, мотался по рынкам и тащил в дом пудами овощи и фрукты, находя в этом даже какое-то удовольствие добытчика. Погреб полон компотов, варенья и даже закупленного впрок дефицитного спиртного.
В этом году путевку мне дали аж на конец сентября, в Алушту, и если честно, меня туда не очень тянет, но еще хочется второй раз в жизни отдохнуть вдвоем с Надей, как когда-то в Болгарии.
Нарыв мой внутри, в душе, начал как-то стухать не прорвавшись. Я смирился и с тем, что здоровье уже не вернешь; и с тем, что семейная жизнь пролетела и остается сгрести дымящиеся еще остатки и греться ими до старости; и от общественной жизни (да пошли они все, козлы!) плавно ушел; и от угрызений совести – что мог бы, да не вышло, уступил, не состоялся, не достиг… Смирился со всем.
Видимо, рубеж возврата пройден, и судьба моя, направляемая кем-то по устоявшемуся руслу бесхребетности и конформизма, так и потечет к известному и уже не так далекому концу.
Ибо сохранить здоровье, ведя и далее такой же образ жизни, пилоту не дано. А восстановить или даже сохранить остатки здоровья… поздно.
Вряд ли хватит сил уже затевать что-либо новое в жизни. Хотел купить в деревне дом, дышать на старости свежим воздухом… нет, не куплю, уже и желания особого нет. Сгнием в дымном городе.
В общем-то, жить любопытно. Треску кругом много, а все стоит. И не надо перестраиваться: на мой век хватит еще лет 15-20 этой, прежней жизни.
Никому не завидую. У меня есть все для жизни. Старость, как бы ее ни обрисовывали страшные, апокалипсические прогнозы, все же обеспечена на высшем пенсионерском уровне, крыша есть, штанов накупил… аж две пары, а под кирзухи вместо носков пойдут портянки; я их наматывать умею.
Дикость, грязь, невежество, историю я принимаю как должное. И как жил, так и живу, так и буду жить.
Ну, еще пару лет, ну, три, полетаю. Оксана наконец-то вроде бы обещает на 5-м курсе, т.е. через полтора года, выйти замуж. Внучат же пока не обещает: не те времена. Ну, и будем пропадать на даче. Ну, со скуки устроюсь где-то работать. Деньги сейчас ничего не стоят, но без них тоже плохо. Ну, хоть на бензин заработать.
Я ведь летаю сейчас потому, что еще что-то можно где-то добыть. И иллюзия высоких заработков: за три месяца на книжку набегает пара тысяч, а тратить некуда, мы их профунькиваем на что попало. У меня 850, у Нади 300, у Оксаны 150, а денег лишних, хотя бы на тот домик в деревне, нет.
А домики подорожали за одно лето, и за что пять лет назад просили пятьсот, сейчас требуют пять тысяч.
Нет, я не догоню. Хватит нам и того, что есть.
Как живет Советский Союз на среднюю зарплату 250 рублей, я не интересуюсь, в очередях пока не стою, а что надо, покупаю на рынке. И лишних денег нет, и гнаться за рублем я не гонюсь. Работа каторжная, по 90 часов в месяц, позволяет, вернее, заставляет, зарабатывать много. Ну, терплю.
Да, я знаю себе цену, извините, дорогие сограждане, и с вами в очередях стоять не хочу – это мое право. Вот на пенсии – настоюсь в очередях, но это впереди.
Три месяца колотили экстрасистолы, ну, прошло. Бог с ним, с сердцем.
Самолеты угоняют через день. Уже и Александрова пытались угнать. Может, и меня завтра… Плевать.
Пришли к нам в отряд Ту-154М, летаем, в РЛЭ и не заглядываем. Плевать. Какая разница.
Забросил в шкаф фуражку, летаю в босоножках, да и все форму нарушают – ну и что. В магазинах пусто. Ладно. Плюнули на все неразумные ограничения в полетах, плюем на расшифровки – и тихо.
Стало легче жить. Основное чувство: попробуй только кто сделать мне замечание… Пошлю любого, и пусть еще скажет спасибо, что я вообще летаю. А нет – брошу на стол пилотское. Летайте сами, я уже сыт. Кстати, и начальство притихло.
Безответственно – легче жить.
Та постоянная и неуклонная, беспощадная работа над собой, то самоедство и копание в себе, тот беспокойный огонь… все погасло. Ну, угольки еще тлеют, но нарыв спадает. Ни к чему не стремлюсь.
Надо, чтобы хватило на три года, а там…
А там, подозреваю, я уже закостенею за штурвалом, прикрою шорами глаза, и все радости жизни сосредоточатся для меня в сне после вылета, сне перед вылетом и теплом душе после пудовых сумок и корзин. А у Нади с Оксаной – в созерцании меня в красивой форме с фуражкой… и в выгрузке тех корзин, которые, увы, мне таскать до могилы.
Ну, газеточки почитывать-то буду. Как там у большевичков дела процветают, да как там демократы, да сколько перерезано в карабахах; ну, этот рынок, регулируемый…
Короче, чтобы в бане политклуб поддерживать на уровне. Кстати, веничков заготовил для баньки-то вовремя. Успел.
Ну, в Аэрофлоте косметический ремонт. За продленку платят вдвойне (как раз инфляцию покрывает); поперли замполитов и все политорганы; никто не платит партвзносы (кормить этих…); летчики учат английский – летать за долларами; министра в который раз сменили. А так все по-прежнему.
Работа моя превратилась в синекуру, и я не желаю ничего менять. Есть слетанный экипаж, он работает, а я в нем уже статист. Леша, истосковавшись по командирству, командует всеми, по делу и не по делу, я его лениво окорачиваю; но дело от его команд только выигрывает. Новый молодой штурман (Витя в отпуске) старается, Валера прикрывает спину, а я, статист, лежу себе, сплю, читаю или лениво ввязываюсь в матерное соревнование, кто лучше обнажит наши язвы. Да и то, уже больше помалкиваю, ухмыляюсь, либо во все горло ору партейные песни прошлых лет. Ни с кем не спорю, ничего не пытаюсь изменить.
15.08. Валялся в ящике партбилет; я написал на нем поперек, что сыт партией по горло. Надя увидела случайно, спросила, зачем я это сделал. Затем, что – всё. Всё! Я принял решение. И нечего делать круглые глаза. Порвал и выкинул его в мусор.
В этом месяце семь рейсов укладываются в сорок часов, а весь месячный план – тринадцать рейсов и 90 часов. Усталости особой не чувствую, наркоза прошлых летних месяцев пока нет, но сплю по 12 часов в любое время суток. В полете полное расслабление, и только пара минут работы на взлете и посадке. Обязательное чтение газет; без чтения полет кажется длинным и приносит усталость. В еде себя стараюсь ограничивать.
Комэска подписал мне отпуск с 1 сентября на 36 рабочих дней – безоговорочно. С ностальгической ухмылкой я вспомнил свои предотпускные бои с Кирьяном лет шесть назад. Теперь времена другие. И я уже не тот молодой командир, на котором все пахали. В любое время могу написать на увольнение, а Савинову придется вводить в строй молодого и трястись над ним, – когда есть живой и надежный, безотказный Ершов, единственный в эскадрилье, кто для себя никогда ничего не просит и самую эскадрилью старается посещать возможно реже и только по сугубой необходимости.
Мне бы возгордиться, а я грущу. Годы ушли, жеребячий задор заглох в вязкой стене Системы, и сейчас я – вол, безропотно и терпеливо влачащий привычное ярмо службы на притертом и безукоризненно приладившемся горбу. Жую свою жвачку, и все помыслы направлены на то, как бы добыть лишнюю пару носков да приличные туфли, чтоб было в чем ехать в отпуск.
Картошку успеть выкопать. Из Краснодара привезти помидор на засолку. Съездить на поле за огурцами. Сегодня в ночь лететь. Погладить брюки и рубашку, чтоб было все готово к рейсу. Вот простые, незатейливые задачи на сию минуту.
Меньше всего меня интересует, что думают обо мне мои товарищи-летчики. Все мы – волы, дружно тащим свои скрипучие шайтан-арбы и не мычим. И все летать умеем.
17.08. Накопленная за лето усталость стала давить. Днем хочется спать, все валится из рук, полежать бы…
Если продержусь, пролетаю еще год, то средний заработок для расчета пенсии поднимется где-то до 750 рублей. До 800 мне не дотянуть, хотя поговаривают о том, что в следующем году заработки у нас будут под полторы тысячи.
А если еще и 92-й год продержаться, то в июле будет 25 лет стажа, я буду ветеран, летом будут в отпуск без боя посылать, только летай.
А может, поверить Ельцину, с его программой 500 дней? Хотелось бы, да только у нас на местах ничего не сдвинешь Только здоровье выпластаешь, а на пенсии и пожить не успеешь.
Нет, честное слово, за такую работу, за такую каторгу – и не натягивается даже 800 рублей. Да будьте же вы все прокляты, вместе с вашим феодальным социализмом. Господи, хоть бы нас кто завоевал, что ли.
20.08. Как всегда, понедельник для меня день выходной. Я вообще стараюсь жить против времени, не так, как все, сам себе хозяин. И, несмотря на то, что в ночь сегодня предстоит мерзейшая Москва с разворотом, – сохраняется впечатление выходного дня. Видимо, играет роль то, что ДВЕ! НОЧИ! ПОДРЯД! СПАЛ! по своему, красноярскому времени!
Нет, товарищи нелетающие. Вам, погрязшим в роскоши ежесуточного регулярного сна, вам, баловства для, мучающимся бессонницей и пьющим снотворные таблетки, – вам никогда этого не понять: что значит проспать две ночи подряд. Это праздник летом для пилота-высотника. Да еще если удалось после рейса выпить с женою рюмку водки по случаю праздника Воздушного Флота, символом какового для меня является кувалдой повисшая временная летняя импотенция.
Попытайтесь же хотя бы по этому символу представить, за что нам платят те жалкие 800 рублей и дают льготную пенсию.
Ни один цивилизованный человек в мире никогда не поверит, что летчик, пролетавший на лайнере 20-25 лет в стране победившего народ социализма, получает от общества («скотов» по Бакунину) пенсию 180 рублей в месяц, что по реальному на 1990-й год курсу составляет, ну, 10 (десять) долларов, т.е. 30 центов в день. Тридцать центов!
Как же не обижаться на несправедливое наше, феодальное государство, созданное коммунистами, как бы они ни откручивались.
Поэтому самый распространенный сейчас вопрос среди летчиков: ты уже вышел из партии?
Не ставится в народе под сомнение, что дни партии сочтены. Речи уже нет о каком-то авторитете, тем более о чести и совести. Ну, про ум никто и не сомневался. Висит издыхающая КПСС кувалдой у народа на чреслах – и не может народ этим… инструментом произвести что-то лучшее.
А Горбачев и иже с ним все болтают о коммунистических идеалах и о том, что нет другой такой силы.
О таких трибунах в народе точно говорят: «п…здобол».
Дожди, дожди, грибов много, но я с 12-го июля без выходных, какие к черту грибы. Ну, может числа 30-го августа… Так надо ж еще до 3 сентября выкопать картошку. А до этого еще предстоят две ночных Москвы, ночной же, проклятый, четвертый в этом месяце Норильск и дневная Алма-Ата. Дотянем на остатках нервов. А там уже пойдут и выходные. А 3-го улетим с Надей в Крым.
Все равно не умер, отлетал лето.
21.08. Описать, что ли, эту проклятую ночную Москву. Сколько их было, этих разворотных (развратных, как мы острим) Москв… Москвов… Москвей… черт бы их забрал.
Естественно, не поспавши перед вылетом (попробуйте поспать пару часов где-то между 3 и 6 часами пополудни), экипаж, успевший, используя редкие часы между полетами, уработаться по дому, быстренько собирается на вылет.
Я едва успел вернуться из гаража, как звонок: бортинженер ждет в машине, штурман тоже на подходе, а Леша уже в Емельянове, у него там однокомнатная конура, до штурманской пять минут пешком.
Десять минут на умывание, переодевание и еду.
У пилота к вылету всегда все готово: брюки и рубаха отглажены, документы и деньги в карманах, бритва, свитер и зонтик в сумке, ключи взял, ширинку проверил, жену поцеловал, «пока» – вот и все прощание. И встреча, соответственно, «привет». Вам, летающим раз в год, может, и дико; нам привычно.
Мы, летающие, за порогом оставили все мысли о доме; наши жены, постоянно провожающие и чутко спящие ночами, остаются нести свой крест; их удел – вечная тревога, ранняя седина и ожидание, ожидание…
Итак, в машину, по газам, и уже начался полет. В пути еще перебросимся каждый о своем, а уже мыслями там: звонили, узнавали, машина идет, не было бы тумана, как ветер, тут кругом грозы, как выходить…
Вам – тучи, красота, ну, дождь; а нам – засветки, тысяч до двенадцати, смещением к взлетному курсу, ветер… как там локатор на машине, не дохлый ли… и глаз ловит маленькую двухмоторную «Элку», юрко шныряющую между столбами дождевых зарядов: доброго пути вам, счастливо проскочить… да-а, без локатора-то… помню, раз на Ил-14… а мы как-то под Братском… И за всеми этими репликами стоит спокойная уверенность, что – да, засветки, да, фронт, но у нас не Ил-14, пройдем, обойдем… мы инструментом владеем.
Тут, кстати, читал на днях в «Правде» выступление какого-то уважаемого большевика, упрекающего выходящих из партии: «Тут фронт, тут бой, а вот вы – дезертиры, обыватели…»
Милай! У вас вся жизнь – бой, а вы ведь на нашем горбу воюете. Вот мне сейчас лезть через фронт, которому глубоко плевать на все ваши партии и бои. И моему коллеге, где-то в Африке, Австралии, или в Китае, – нам надо идти, лезть туда и пройти по расписанию, хоть, может, и дрогнет очко. И мы пройдем. А ты, боец, себе воюй, на бумажке, которой я потом вытру свой вспотевший пилотский зад, – только на это она, «Правда» твоя, и годна. И во все свои бои ты будешь мотаться за моей спиной. Не сумлевайся, мы довезем; воюй себе, пока еще воюется. Мы – отвоевались.
В штурманской обсуждение подробностей очередного угона за границу. И я, прицепляя к поясу набивший мне бок наган, думаю: да когда же их отменят, ведь без толку.
Самолет сел, не меняется, проходит до Москвы, т.е. исправен, и пассажирам, летящим из Полярного, не придется забирать с собой ручную кладь. Вспотевший экипаж пришел в АДП: привет-привет, все крутится-вертится, все окэй, оставили вам заначку – тонну топлива, спасибо, счастливо, и вам тоже. Ключи от «Розы» взял? Взял. Готовимся.
На метео обычное: подходит фронт, верхняя граница до 12, борты обходили севером, смещается на юго-восток, ветер по трассе… тропопауза… опять фронт, опять грозы…
Обычное мое: «что мы – гроз, что ли, не боимся? Боимся. Но -летаем».
Подписали у штурмана, в АДП; контроль по карте: ключи, «Роза», оружие, лента-карта, задание на полет, сумки… проверяющего не забыли? А – нету сегодня, хорошо. И на самолет.
На самолете. Поздоровались с проводницами. Газеты есть? Куриный цех был? Почту сняли? Где что лежит, как загружено? По матчасти замечаний нет?
Обычная рутинная подготовка. Подвезли орду, садят, путаница, ругаются, суют огромные баулы куда не положено, Леша наводит порядок.
Нет двух транзитных пассажиров, ищем, вызываем по радио. Везут багаж. Дежурная дописывает, Леша уточняет, я гоняю управление, штурман выставляет данные на НВУ, инженер бегает под самолетом, проводницы рассаживают людей.
Ноги уже гудят. Девять вечера, день позади, порядочные люди на диване смотрят программу «Время», ковыряя в зубах. А у нас до дома еще 15 часов.
Вылет по расписанию в 17.20, заход солнца в 17.17, весь полет в сумерках, а значит, оплата дневная. Сядем в Москве в полпервого ночи по красноярскому, а у них только наступит темнота.
Из принципа тянем время, чтобы переждать сумерки, но как назло все утряслось в срок, и нам удается съесть только 20 минут сумерек. Нет, ночи нас не догнать. С тем и взлетели.
Бегу по полосе; стыки начинают обычное свое «туп, туп, туп», потом «тук-тук-тук-тук»… рубеж… «та-та-та-та-та-та»… подъем… «ррынн, ррынн, ррынн, трах!»… внизу грохот и вибрация: самолет трясет убираемой ногой, как кошка, выскочившая из лужи; и еще долго, минуты две, под полом что-то живое дышит и трясет приборную доску: «уррр, уррр, уррр…»
Пролезли через засветки, выскочили – и солнышко взошло на западе и уперлось нам в глаза. На все четыре часа. Шторки на окна, торшер, газеты, – и потек полет: Колпашево, Васюган, Ханты, Серов, Киров, Горький…
С аппетитом поели, стало засасывать. Затеяли обсуждение газет, заспорили, проснулись. Готовимся к снижению.
Ну, это все рутина. Погода есть, заход в автомате, все успели с прямой, без спешки, на малом газе; на трех метрах сумеречный асфальт полосы как-то потерялся в свете наших дохлых фар, но это пройденный этап… раз-два-три-и-и – мягкое касание. Зарулили.
Поволоклись в АДП. Усталость давит, но главное другое. Могут развернуть сразу, а дома к утру ждут туман, и тогда обернется так, что в Абакане на креслах поспим.
Нет: по плану – через три с половиной часа. И машину меняют, т.е. наша идет под другой рейс, в Кызыл, а нам принимать другую, наших тут аж четыре. Значит, бортинженеру и проводницам не спать. Судьба. Мы же, белая кость, берем направление и идем в профилакторий; места, к нашему удивлению, есть, и мы ложимся на два часа поспать, а через десять минут прибегает и бортинженер. Девчата остались дремать на креслах в салоне в ожидании почты и куриного цеха.
Долго не проходит возбуждение, но таки засыпаем, видим сон, и обычное «мальчики, на вылет» путает на секунду сон с действительностью. Вскакиваю первый и, еще в дреме, ползу в туалет. Все же поспали часа полтора. Тяжко.
Снова в АДП. Погода есть, машина ждет, подписали, приняли машину, подвезли орду, шум, ссоры, баулы, чемоданы, Леша распоряжается…
Взлетели, против московского обыкновения, строго по расписанию. Леша вез, я подремывал, а после набора бессовестно уснул и прокемарил не менее часа, аж до Серова, пока солнце не разбудило. Принесли еду, взбодрились, снова газеты, какая-то книжка о половой жизни, иронические комментарии пятидесятилетних, усталых до смерти мужиков, снова политика… Нюанс: прорваться сквозь очередь пассажиров в туалет. Мы тоже люди.
Леша тоже подремал, проснулся, довез и мастерски посадил машину. Зашли в контору, поболтали десять минут ни о чем, проверили пульку, нет ли изменений, и уехали домой.
Дома пусто, сон вроде прошел, я отвлекся на дневник. Пишу и тороплюсь, не останавливаясь на подробностях. Всё рутина, приелось.
Стоит эта ночь 56 рублей. Спи-отдыхай.
Завтра выходной.
27.12. Некоторые основополагающие выводы, к которым всегда тянулась душа, но мучили угрызения: а не проклятый ли я недочеловек, что не понимаю того, что вдолблено.
Итак. Главное в жизни – Я, Личность, мне, мое, много. Проклятый эгоизм – главное в жизни, главное благо и двигатель прогресса. Я – благородное начало.
И на другом полюсе – коллектив. Общество. Мы. Наши. Стая. Муравьиная психология.
И неповторимый Я – муравей в стае. И Ценность моего Я – лишь в том, как я сумею сцепить клеточки моего неповторимого мозга в Единый Мозг Коллектива.
Нет коллектива. Вздор. Нет партии, нет класса, нет общества и нет государства. Есть миллионы Я, и каждый – неповторим. И каждый лично мне интересен – положительно или отрицательно, но – один, сам, личность. А как только они – стая, так я их ненавижу. За стайное, стадное мышление единого коллективного мозга на благо какого-то там общества или государства.
Дай мне, а я дам тебе. Но не им. Им я уже дал, много, а мне, единственному и неповторимому Мне, который – целый мир… им до меня нет дела.
Не хочу быть Данкою; этих Данков, этих Матросовых наклепано предостаточно. И если есть Бог, если есть рай, то с какой горькой улыбкой взирают их благородные души на нас, стадо, за которое они отдали жизнь. Задарма!
И нечего обманываться какой-то политикой. Хотя и без нее нельзя… грязное дело… но мое Я протестует против нее вообще и требует лишь одного: оставьте меня в покое.
Умру Я – умрет и все вокруг, потому что Я этого больше не увижу. А если есть Бог и загробная жизнь, то моей бессмертной душе там будет уже не до этой мышиной возни. Там, видимо, другие, более благородные интересы, и миллиарды умерших, их бессмертные души, хочется верить, парят во вселенских масштабах, напрочь, может быть, забыв о Земле, ну, как, к примеру, мы забыли, каково нам было эмбрионами в материнском лоне.
Ну, а если нет загробного мира?
Тогда, тем более, надо ценить свое неповторимое Я, любить себя, уважать и защищать в себе Личность. Ибо Я больше не повторюсь никогда.
Когда моя трепещущая грешная душа предстанет на суд пред Спасителем, о чем спросит Он меня? О том ли, что я сделал для коллектива? Для партии? Для государства? Для коммунизма?
Нет. Я буду держать ответ за то, как исполнял Его заповеди. Убивал ли. Воровал ли. Или желал жену другого. Или поступал с людьми не так, как хотел бы, чтобы со мной поступали. Был ли добр – не к людям, не к коллективу, а к такому же, к брату, к жене, к ребенку. Как прожил жизнь. Нажил ли врагов или друзей. Оставил ли след на земле.
И кто я был вообще на этой несправедливой, жестокой, но такой прекрасной Земле?
Я должен ответить.
1991 г. РАЗВАЛ.
26.07.91 г. Год прошел. Сегодня годовщина первого самостоятельного полета. Двадцать шесть лет…
Зачем я вновь взялся за эту писанину? Ведь бросал же, ведь бесполезно.
Засасывает бездуховность и пролетарское бытие.
Изменения есть. Ну, о политике: если коротко, то партия рушится; Ельцин, какой бы он там ни был, а в решительности ему не откажешь: он рубит сплеча и под корень.
Я и раньше говорил, что надо эту гадину рушить, а с нею торгашей и колхозы. Вот три гири у нас на ногах; ну, с партией, думаю, всё. А торгаши, у крантика которые, распределители, – жируют пока. Всё – у них, хоть этого всего и мало, хватает только на них, между собой. Но придет и их время, уже, думаю, скоро.
Я – за торгашей, за капитализм, однозначно, но – за все частное. Рискуй, торгуй, закупай, добывай, вези, продавай, – но сам, на рынке; сам и отвечай.
Почему я за капитализм? А я при нем, считай, жил, 24 года пролетал в нем, в родимом. Жесткая дисциплина, сверхэксплуатация, слова против хозяина не моги сказать, законы строго соблюдай, неотвратимость наказания, страх безработицы, – чем не джентльменский набор капитализма? Мы им дышим. И я буду верой и правдой служить Хозяину, и он один, сам, без трудового коллектива, сможет оценить и оплатить мой потенциал.
Тут вопрос решенный. А те социалистические ценности и идеалы, за которые цепляется партийная верхушка и сраколизы, – это все создано для них и их чад, моим горбом, за мой счет, а мне – фига под нос.
Тут прошлый раз осенью мы последний раз съездили на море и видели там фильм «Любовь с привилегиями», ради одного которого стоило ехать на тот курорт. «Отдыхали» в тесной комнатке, втроем, на скрипучих диванах, без половой жизни, правда, иногда даже с теплым душем, не говоря уже о жратве, – и этот фильм пришелся как раз кстати. И – всё. Не переубедишь меня никогда. Я – за капитализм, то есть, за нормальную человеческую жизнь.
Выбастовали мы себе зарплату: летом за продленку доходит до четырех тысяч деревянных рублей в месяц.
Ну и что? Пошел на рынок и купил две покрышки для своего драного «Москвича», по 500 рэ штука. И с такой зарплатой я – только что не нищий. Только-только. И не мечтаю о новой машине.
Но средний заработок я себе подниму. И как бы ни поднимался уровень минимума, пенсия будет по максимуму.
Во всяком случае, моя мечта сбылась хоть в той части, что пилот получает больше всех… в стаде. Но не сбылась в той, гораздо более существенной части, что торгаши, с зарплатой 120 р., живут лучше. Вот их-то надо заставить работать.
И разогнать колхозы. Отдать землю людям. А помещиков – кто дает отдачу – оставить, а остальных три миллиона бездельников бросить на произвол судьбы. Кто силен – выплывет.
Сбылась моя мечта и о том, чтобы дали мне второго пилота с нуля. Дали. Их пришло к нам – вагон и маленькая тележка. По два в экипаже. С «элок», с Ан-2, даже с Ми-8.
Леша ушел на пенсию, с хорошим средним, за 800 р.; сейчас, может, и жалеет: подлетнуть бы, подзаработать. Но – деньги или девать некуда, или жечь на рынке.
А мне дали парнишку с «элки», вернее, он сам, расспросив людей, попросился ко мне. Ну и талантлив оказался – не чета мне. То, что я осваивал год, да еще после Ил-18, – он освоил за месяц. Так что, возможно, Андрей Андреевич Гайер продолжит школу Солодуна.
У меня же работа превратилась не то что в синекуру – просто сплошной сон. Как в раю. Раза два в месяц я беру штурвал, чтоб поддержать форму, а так – читаю и сплю. Весь свой опыт вдалбливаю молодым, порю за мелочи на глиссаде и т.п. Но уходить от меня не хотят. Хотя Андрея уже посадили как опытного второго пилота к молодому командиру.
Это лето переношу, в общем, без особой усталости. Правда, впереди август, он покажет.
Весь год болею. Всю зиму бронхит, весь май аллергия какая-то, насморк страшный: как летал – век не забуду. Сейчас радикулит ноет второй месяц. Но рубеж возврата пройден, и я смирился с мыслью, что не проживу 70 лет. Видимо, буду продолжать погоню за призраком благополучия, пока не спишут или кондрашка не хватит. Не я первый, не я последний.
Носки, пять пар, купил в Одессе; значит, полетаю еще года полтора, а то и два.
Основные заботы: машина посыпалась резко, вожусь. На даче сделал теплицу, окупилась, надо еще две делать. Оксану выдать замуж на тот год.
Теперь уже ясно, что жизнь прожита: честно, в добродетели… но – всё. Теперь каждый год воспринимаю как подарок судьбы. От жизни так устал, что физически гнет, давит плечи.
Надо уходить в растительное, но там ждет бездуховность. Все реже открываю пианино, почти не беру аккордеон, не пою…
Не до песен.
И – четыре тысячи в месяц! И Надя – восемьсот! И Оксана двести. Пять тысяч в месяц на троих! И – не до песен?
Надо бы хоть штаны себе купить, что ли.
И белье. Белье жены капитана…
Сапоги женские – 900. Кофта – 700. Кроссовки – 1200. Джинсы – 500. Носки – 30. «Волга» – 90 000.
А о чем поют те, кто живет на 700 рублей? На 200?
Но я сам мечтал о хаосе первобытного рынка, лет эдак на 10. Да я и не плачу: меня, моей семьи, перестройка и ее издержки не коснулись. Мы как жили и работали, так и живем, что ели, то и едим, как я носил один костюм, так и ношу, как ездил на драной машине, так и езжу.
Ну, а профессионализм? Свое предназначение на земле?
Ну, профессионал. Наелся. Ничего нового уже в моей работе не вижу и не ищу. Тонкости, нюансы, то, что меня восхищало в моей работе, – все обтесалось и ушло в подкорку. Развилась интуиция, до такой степени, что расчетов почти не надо, а если где чуть и просчитаешься с цифрами, то есть десятки способов, как исправить, и я не волнуюсь за эстетику полета. Хотя иной раз, глядя на корявость второго пилота, хочется подсказать… да подумаешь: зачем? Ему еще этого не понять, пусть добывает опыт себе сам, горбом, неудачами. В пределах, естественно, допусков – на то я и капитан.
Главная задача в полете – убить время, сохранив силы для снижения и посадки. Полет по маршруту мне не интересен, на то есть штурман, это его дело, его интерес и нюансы, ну, и обязаловка для второго пилота. Я осуществляю общий контроль.
Иногда беру штурвал и показываю. Взлетать и садиться все равно люблю и все так же с болью отрываю от себя, как и все в жизни, и отдаю тому, кто больше любит. И холодка в животе уже нет. Всё.
Как-то из Норильска пассажиры, пара, допытывались у проводницы: а кто командир, не Ершов, случайно? Ершов? О – мы так и знали, мы только с ним и летаем. Молодой? Глянуть бы…
Разговор шел за задернутой шторкой в салон. Я тихонько вышмыгнул из самолета, стесняясь. Я все себя стесняюсь. Эх, Вася, ты в воздухе 26 лет, ты уже старый, седой волк, зубр, ты должен – пузо вперед, глаза оловянные… и – снисходить.
Я уже стесняюсь и своей формы; когда еду на работу, сижу молча, напыжившись, испытывая от любопытных взглядов окружающих сложное чувство долга, дисциплины и усталой уверенности. А они представляют меня таким, примерно, каковы в массе своей мои коллеги (см. 1-ю тетрадь). А я не такой. И пошли вы все.
Как бы его еще август отмотать – и в отпуск. Да подольше. Сидеть на даче, стучать молотком и жечь вечером после баньки стружки в камине, слушая, как дождь и ветер стучат в окно. И рядом чтоб мурлыкала кошка.
Пролетал я пилотом 24 года, из них командиром разных самолетов – 12 лет. Не гневя Бога и не дразня Сатану, все-таки за все время практически не было у меня ничего опасного. То ли Господь хранил, то ли судьба такая, но все же срок достаточный и для анализа: бог-то бог, да и сам не будь плох.
Сколько чего с кем ни случалось – обычно, большею частью, сами находили приключения. Бывало, конечно, что – судьба, как у несчастного Фалькова; но даже Шилак, и тот знал, что тут с центровкой не совсем так, руль балансируется высоко, – но летел.
Может быть я, не надеясь на реакцию, стараюсь предвидеть ситуацию и смотрю на три светофора вперед (Алма-Ата не в счет, а Сочи – как раз уж излишне много предвидел, накрутил нервы); может, излишняя осторожность (благодаря выкатыванию в Енисейске и попаданию в грозу в Благовещенске) заставляет продумывать варианты; может привычка держаться наработанных стереотипов, освобождающих голову для анализа, дает лишнюю секунду.
А может, все-таки, божья искра? В конце-то концов, это же мой, а не дядин мозг анализирует, направляет и обеспечивает спокойную работу экипажа. Это же мой разум не позволяет необдуманных действий в горячке, да и самой горячки не допускает.
Ну, грубых посадок за все время у меня не было. Только в Сочи; об этом я распространялся достаточно. Причина тут одна и единственная: я слишком себя уважаю как профессионал. Посадка – автограф командира. В посадке сфокусировано все: и романтика, и мастерство, и искусство, и ум, и хватка пилота.
И вот, если бы Андрюша еще полетал со мной часов 200, я бы передал, показал, влил бы в него эту премудрость, которую он впитывает, как пересохшая земля всасывает благодатный дождь. Парень насиделся, 7 месяцев ждал тренажер… короче, наша идиотская система. А пилот он – от Бога; моя бы воля – через 200 часов посадил бы его на левое кресло, нечего ему делать во вторых пилотах. Это редкостный талант, один из тысячи, и не дело сидеть ему справа: ординарных праваков хватает. А Гайер будет – командир и инструктор. Очень организован, ну, немец, педант, моторика прекрасная, чутье машины, ум. Ну, крылья у парня свои, от бога даны. И порядочный человек. Мы сошлись.
Кроме того, он еще и подметки на ходу рвет. Деловой, энергии в нем через край. Из крестьянской семьи, не избалован, трудяга, семьянин. Этот – экипаж не обидит. Постарается понять человека. В беде не оставит. Если увидит божью искру – не затопчет, продолжит дело Репина и Солодуна.
Еще бы над собой, духовно, кроме голой грамоты: книги, искусство… был бы Командир…
А вот Саша Т. С Як-40, но явно звезд с неба не хватает. Досадует, что «туполь» ему не дается. А в разговорах одно: гулянки, бабы, выпивка, драки, добыть, достать, пробить. Снимали его с летной работы за нарушение. Каков человек, таков и пилот.
Я не говорю, что он плохой, нет, но – неорганизованный. Нет стержня, нет работы над собой, раб страстей, сторонник взгляда, что в жизни можно все обойти, извернуться, все грешны, слаб человек, и т.п.
Слаб и летчик.
Коля Евдокимов. С «элки». Тюлень. Ленив. Только набрали высоту круга – включает автопилот. В полете – газеты…
Не хочешь – не надо.
Ту-154, да и любой самолет, требует постоянной работы над собой, постоянного напряженного анализа, желания, и на работе, и вне ее.
Может, поэтому я летаю без происшествий.
Но, может, поэтому я так и чувствую тяжесть прожитых лет. Если где-то прибавится, то обязательно должно где-то что-то отняться.
Я еще при первом знакомстве сказал Андрею, что главное для меня в пилоте – нравственные качества и способность работать над собой. В общем, это что-то от интеллигентности. Он понял.
Но мне грубо претит, когда за штурвал прется эдакий простяга с рабоче-крестьянским уклоном. Простяг «Тушка» не любит. А под рабоче-крестьянским уклоном обычно маскируется только хамство в его нравственно-этическом понимании: то хамство, того хама, из которого не будет пана. Опять же, пана не с классовой точки зрения, а – человека дворянски-высоких нравственных качеств, из которого вылепляется, с потом, слезами и раздумьями, Мастер.
Да простят мне простые люди. Я сам человек не простой, таких же и люблю.
Летчик – не рабочий и не крестьянин. И не прослойка. Он – летчик, он – сам по себе. Он – штучная профессия, а значит, Личность. Ну… должен быть.
Слишком много у нас в стране простых людей, продукта. А хотелось бы, чтобы моя Родина была страной Мастеров.
Есть такая штука – вдохновение. Она подразумевает присутствие в Мастере Духа. Ну, кто его вдохнул, неважно, может, Бог, но – вдохнул. Без Духа в ремесле – бездуховность и поделки. С Духом – божественная посадка в самых сложных условиях, а это уже – Искусство.
Так вот: у рабочего Духа нет. Он – раб, исполнитель. Откуда у него вдохновение. А у многих летчиков – есть.
Я работал рабочим на заводе, и знаю. Редко, очень редко среди рабочей массы встречаются мастера. Обычно они как инородное тело.
Может, я перегибаю палку, может, глубоко неправ. И я всех равно уважаю; но тех, в ком присутствует божья искра и вдохновение, я уважаю неизмеримо больше.
Это романтика во мне еще тлеет.
А у Бори К. были рабочие посадки. Он ушел.
Крестьянский сын Алексей Бабаев делал свое дело истово и с тщательно скрываемой любовью. И Бог наградил его Искусством Мягкой Посадки. Это немало, потому что мягкая посадка – вершина большой пирамиды.
И достойный преемник Леши – крестьянский же сын Андрей Гайер, так же истово делает свое дело, и горит его искра, пламенем горит!
Это – интеллигенты… хотя если бы мой Митрич о себе такое услыхал, он бы с матом расхохотался мне в лицо.
Но главное свое Дело он делал интеллигентно.
30.07. Выходной. Завтра в проклятый трехдневный Львов, а сегодня отдых, сам себе хозяин, ну там, мелочи по дому.
На днях слетали в восемьсот раз проклятый Норильск, ночной, тот, что в 23.20 по Москве. Но нам повезло: там был туман, и мы еще пару часов проспали в профилактории – без комаров! с водой! и на упругих, потрясающих воображение полутораспальных кроватях! Утром рулили на исполнительный навстречу восходящему солнцу, и Витя умудрялся досыпать над пультом и одновременно долдонить контрольную карту.
Кому нужен этот рейс в три часа ночи? Ни нам, ни пассажирам, ни службам, – ни у нас, ни в Норильске. Расписание местное, уж можно было бы днем. Вообще, летом у нас традиционно все рейсы ночью. А во всем мире вокзалы на ночь закрываются. Там ночью спят. По крайней мере, такие слухи ходят среди нашего полусонного брата.
В Норильске Саша засумлевался насчет посадки на пупок. Я показал.
Мастерство, нарождающееся в Андрее Гайере, выражается в том, что другим вторым пилотам я подсказываю до земли, ну хоть бы так: вот-вот-вот, правильно, хорошо, так, так, ну, еще чуть… А Андрею я ничего не говорю. Ни-че-го. Ему этого не требуется.
Может, я рублю под корень самостоятельность в других, но в Андрюше это прорастает само; пусть где и сам почувствует свой промах, но Мастер в моем понимании – это «Сам Я». Он сам поймет, сам сделает выводы, сам исправится и в будущем не допустит.
А другие еще нуждаются в поддержке, и я их держу под локоть, ведя сквозь сомнения, пока они методом зубрежки не уверуют в себя. Их «Сам Я» звучит поскромнее, с малой буквы, с удивленным полувопросом: я – сам?
Мастер должен уважать свое Я. Молодцы англичане: у них местоимение «я» пишется с большой буквы, а «он», «она», «они» – с маленькой.
В том и беда пролетария, что он привык все только коллективно: и трудиться и отдыхать. Сколько бутылок брать? Ну, на каждого по бутылке, плюс еще одна… нет, две…
Воспитанный на Маяковском (единица – вздор, единица – ноль), он и живет и работает, и отдыхает, и приобщается к культуре – только коллективно, локоть к локтю, плечо к плечу… а я что… я – как все…
А Мастер всегда Сам. Ему труднее, плеч и локтей рядом нет… но он свободен. И мыслит, и молится, и плачет, и принимает решение, и воплощает – он один.
Может, поэтому я недолюбливаю проверяющих, которые постоянно мягко держатся за штурвал. Толя Уткин еще на Ан-2 приучал меня: пилот садит машину сам! – и руки демонстративно убирал прочь от штурвала. Давал мне летать, спасибо ему. И Солодун так же делал. И я так же делаю. Хочу, чтобы и ученики мои так же делали.
Конечно, плечо экипажа я чувствую, и нуждаюсь в нем, но, извините, и дирижер оркестра чувствует плечо любого музыканта, но это плечо, этот смычок, – кончик его дирижерской палочки.
Как без музыкантов дирижер не создаст музыки, так и без экипажа не получится полета. Так без народных масс не получится революции. Но, извините, кто-то же берет на себя, дирижирует, принимает решение, воплощает замысел.
Молекулам тормозной жидкости уютно и комфортабельно вместе, зажатым в трубопроводах системы. И сила в ней скрыта. Но кто-то жмет на педаль.
Не в обиду моему прекрасному экипажу. Кто на что учился. Я – на Командира, человека, взвалившего на себя ответственность и груз принятия решений. Значит, я и жму на педаль. От того, как сработаем мы все – по моей команде! – зависит их судьба. Ошибусь я – и стихия разорвет трубки системы, молекулы исчезнут в разрушительной энтропии. На мне – ответственность. А результат – налицо.
Прописные истины. Но есть пилоты-личности и пилоты-лесорубы.
В Ленинграде (или Санкт-Петербурге, как сейчас решили) разложили «Тушку». Командир, пилот-инструктор, с налетом 18 000 часов, из них на «Тушке» 10 000; второй пилот – на «Тушке» 1800, кандидат на ввод. В простых условиях, заход по приводам, т.е. визуально; допустили после пролета ближнего привода большую вертикальную скорость снижения, только и всего. Для меня большая – 5 м/сек. Для них, видимо, допустимая – гораздо больше, ибо хряпнулись за 16 м до торца, самолет развалился, убили часть пассажиров.
Не вы первые, не вы последние. Но где был Командир, Инструктор, Мастер, Обучающий, Наставник? Сейчас – больница, потом зона…
Заелся? Спал? Ругались? Ну, они-то знают. А люди погибли.
И всего-то: вертикальная скорость. Вот что такое «Тушка», вот что такое авиация.
3.08. Львовский рейс. Нет топлива. Винница, дозаправка. Три нескладных Сашиных посадки. Грозы. Фарца. Вялость после ночи.
5.08.Года три назад, услышав «Белые розы» в исполнении «Ласкового мая», я подумал: началась эра примитивной, бездуховной музыкальной жвачки, возбуждающей низшие отделы спинного мозга. Пустой музыкальный онанизм. Музыка для подростков, написанная подростками же, цепко держит недозрелый туповатый интеллект в мягких кошачьих лапках. И немногим, весьма немногим индивидуумам удастся пробить этот уровень и вырваться над ним, – и то, путем серьезной работы над собой. А кому это сейчас надо – работать над своим интеллектом.
При Моцарте, Бахе, Бетховене, даже при Чайковском, для подростков музыку не писали. Подразумевалось, что отрок способен понять то же, что и взрослый, а если не понимает – пусть стремится стать взрослым. И вообще, музыка писалась для народа, а не для его групп и классов.
Слушая эту… этот ритмический шум, эти три аккорда, я думаю: еще на поколение мы отброшены назад, к жвачке, к потреблению, к винтикам, к «кулюфтиву», к стае особей с дремлющим, подростковым интеллектом.
В наше время, вернее, в это безвременье, надо изо всех сил держаться за классику. И я, донашивая предпоследние штаны, благодарю судьбу за то, что на этой работе хоть книги, по любой цене, могу покупать свободно, где ни поймаю. Да только прилавки забиты дерьмом детектива, фантастики и секса, в его кооператорской интерпретации. Редко где поймаешь вечную вещь – да еще, по иронии судьбы, ценой гораздо ниже, чем у остального чтива. Примета времени: так вот ценится настоящее и вечное в наш век временщиков и временного.
Никогда человек бездуховный не осознает в себе Мастера. Да он им и не станет. Вот итог т.н. социализма. Не потому не стало мастеров, что не по тому пути пошли, что извратили, и пр. Нет.
Не стало мастеров потому, что результатом т.н. социализма стала всеобщая бездуховность. Именно для достижения бездуховности в массах и затевался этот т.н. социализм. Коллективизация Личностей привела к стаду скотов (по Бакунину). Опчественное, кулюфтивное, ничье, нивелирует результаты именно работы мастера. Моей работы.
Как все. Не высовывайся. Оценка три. Удовлетворительно.
А я всегда был отличник. Всегда стремился быть лучшим.
Проклятый эгоизм? Если угодно, то да. Эгоизм, себялюбие, честолюбие по мне лучше, чем уравниловка и дружки. Я – сам Мастер. Один. Я за себя отвечаю.
Так называемый капитализм никем не создавался, никто ему не писал теорий. Жизнь собрала чистых эгоистов, и каждый из них, в достижении своих эгоистических целей, в крови и борьбе с себе подобными, в вымирании слабых, бесталанных, ленивых, стремясь достичь успеха, благосостояния, – каждый делал свое Дело.
Да, было много крови. Но еще больше – пота. А в результате т.н. капитализм себе живет. А мы летим – в коммуне остановка. И в руках у нас винтовка, ибо только отбирать и рушить умеем.
Как теперь воспитать Мастеров? Ведь во все времена Мастер опирался на уважение народа. А сейчас всем все до лампочки. Подрублены вековые нравственные устои. Общество ленивых рвачей и воров.
Потому что дали власть хаму.
В конце концов, там, за бугром, у власти стоят воротилы, проклятые буржуи, с рогами и хвостами, но каждый из них – делает Дело, и, будьте уверены, – Мастер.
Дураки и лентяи и там есть, без них общества не бывает. Но они – на своем месте. У конвейера. И с ними не церемонятся, когда и подсрачника дадут, если заслужил.
А наши пролетарья и работать-то толком не умеют, и с претензиями, и пролазят в Верховный Совет. Правят!
Я не клевещу. Взять производительность их шахтера и нашего. В двадцать раз! Что – наши меньше вкалывают?
Вот именно. Наш – вкалывает лопатой, чем шире ладони и лопата, тем больше звезд на груди. Как уж там, у них, какой техникой, в каких пластах, как они прилаживаются – но работают на Западе лучше, во много раз, и без звезд.
А наш шахтер, взлелеянный системой, недоучка, пьяница, живущий в бараке и не желающий даже привести свою лачугу в порядок, требует: максимальную зарплату в стране – шахтерам, а потом уже всем остальным, по ранжиру.
Ну, ладно, шахтеры. А летчики?
Мы летаем на дерьме. Оно летает, конечно, и летает само по себе неплохо, так же, как и у них, за рубежом. Неэкономично, но тянет. Как трактор СХТЗ-НАТИ, с железными шипами на колесах, против «Катерпиллера»
Мы сидим там и дергаем за веревочки, нажимаем на палочки, – но ведем железяку сквозь те же грозы, что и «Боинг». Труд тут один, и одна обученность основным законам, и грозы одни и те же. Дай мне тот «Боинг», освою, и выдам ту же производительность, и сэкономлю.
Но и мы бастуем. Нечеловеческая напряженка летом, безделье зимой, скверные условия в кабине, профзаболевания, – это все следствие Системы, где все во имя и на благо человека. И дома ни куска колбасы. И некогда бегать по очередям.
Вот поэтому я – за капитализм, чтоб не стоять в очередях. Вот поэтому я за него, родимого, что там все меряется на доллар, честно ли заработанный или же украденный, но – был бы он!
А у меня рулон бумаги с изображением дедушки Ленина. Сейчас его приукрасили, кружавчиками, как на дамских панталонах.
Пока же наши бульварные газетенки смакуют жизнь валютной проститутки, зарабатывающей своей генитальей с золотыми ободками 200 000 долларов в год – в Советском Союзе! Не вставая с постели…
Один доллар стоит сейчас сорок рублей. За эти рубли на рынке можно купить два кило отличного мяса. За доллар! А в Америке на это ушло бы 24 доллара.
Чего ж вам еще надо-то?
Я получаю за работу летом 60 долларов в месяц. А в Америке минимальная зарплата в стране – 4.20 в час. Бич на подсобных работах там за два дня заработает столько, сколько я – за продленную месячную саннорму.
Мне все мало.
Да, мало. Я – не проститутка, я – пилот.
7.08. Слетал в Краснодар. За весь прошлый месяц – ни одного хлебного рейса, и мы сами себе поставили в пульке на август Краснодар, Симферополь и Сочи на 3 ночи. Сочи у нас забрали, а эти два основных южных рейса, заготовочных, оставили. Мы, естественно, набрали в рейс тары, взяли тележки…
202-я машина подкинула нам кроссворд по шасси. И на рулении ее кидало из стороны в сторону, и по тормозам были записаны замечания, меняли колеса; короче, повнимательнее.
В Оренбурге ее кинуло на пробеге влево так, что мы чуть не выскочили с полосы. Ну, ожидал, реакция сработала. Пришлось дважды обжимать полностью правый тормоз. Зарулили: замененные колеса дымились – выгорала смазка на новых тормозах.
В Краснодаре все повторилось, но мы были готовы.
Ее бы поставить, но на стоянке встречал экипаж Васи Л. с тонной фруктов. Ну, Вася – старый волк, ему и карты в руки. Ничего там особо опасного нет, хотя в Оренбурге тогда проводницы мои чуть не упали с контейнеров. Но если ожидать, да знать, в какую сторону, да учесть, что погода звенит везде, то посадка – ну чуть сложнее чем обычно. Все дело во внезапности. Тут нужна реакция и заложенное еще со второго пилота стремление и умение садиться точно на ось.
Ну, поговорили с Васей, он поблагодарил и ушел на вылет, напутствуемый нашим «повнимательнее». Прилетит домой и поставит ее.
Девчонки с вечера где-то пронюхали, что сегодня должен сюда лететь рейс через Норильск, а значит, нам корячится через 12 часов гнать его домой, а значит, затариться надо бы с вечера.
Черт его знает, откуда у них эти сведения, но опыт подсказывал, что проводницы редко ошибаются в прогнозах. И хоть у меня в задании твердо стояло: югом туда и обратно, никаких Норильсков, – я на всякий случай подготовил коробки, веревки и тележку с вечера. И точно: утром проводники меня подняли: идет-таки с севера. Я позвонил в АДП: да, вам идет рейс, вечно путают с расписанием, и т.п.
Короче, поднял экипаж, мотнули на рыночек, и как раз управились, только поесть не успели. Я-то успел, мне подготовки меньше всего. Нагреб два пуда помидор под засолку и два ведра слив на варенье.
Сейчас вот и займусь помидорами. И душа спокойна. У нас на рынке помидоры чуть не три рубля штука, а там – девять копеек за кило в магазине, а на рынке – шестьдесят.
У Саши вроде бы медленно начинает получаться с посадкой. Ось уже ловит, за скоростями следит, но я еще строго и вслух контролирую. Ну, будет летать, куда он денется.
В Норильске я снова показал посадку на пупок; удалось. А уж рулить на 489-й после 202-й было истинным наслаждением.
Лето проходит без особого напряжения, хватает отдыха, планируют, в общем, так, что ночи в меру; а потом еще очень важно то, что ночь и переработка хорошо оплачиваются, есть стимул, это помогает переносить трудности. Разве сравнить с прошлым летом, когда за продленку едва натягивалось 900 рэ, а нынче – за две тысячи. Ну, и экипажей наклепали достаточно, план на всех разбросали, получается где-то по 70 часов.
С 1 числа буду просить отпуск, я его заслужил.
Никогда бы не подумал, что солить помидоры доставляет такое удовольствие. Пожалуй, даже большее, чем от акта любви. Вещи, конечно, несравнимые, но то можно хоть каждый день, а здесь – раз в год. Праздник.
Стареешь, Вася.
12.08. У экипажа Бовы загорелся багаж на посадке. К счастью, успели сесть, потушили ручными огнетушителями (два, кстати, оказались неисправными). Награды: второму пилоту и бортинженеру вырезали талоны, командира и штурмана простили.
Причина пожара такова. Багаж лежал слишком близко к плафону освещения багажника. А лампочек, таких, как положено, нет; ввернули нестандартную, большей мощности, и не экипаж ее ввернул, а АТБ.
Ну нет лампочек таких. Виноват оказался бортинженер: в том, что ему дали такой самолет, причем, проверять, есть ли там та лампочка и соответствует ли она ТУ, – не его обязанность.
Виноват и второй пилот. Он – член экипажа, ответственный за загрузку, причем, лазить в багажник и проверять, легко ли воспламеняем тот багаж и как далеко он расположен от той лампочки, – тоже не его обязанность. Но он отвечает за загрузку, т.е за то, что бортпроводник, 5-й номер, доложит ему, где и каким весом по отсекам расположены багаж, почта и груз.
Взялась наша Ассоциация за это дело. Ведь выеденного яйца не стоит. В Америке подали бы в суд и выиграли дело. Мало того: надо наградить экипаж за четкие действия, компенсировать ему издержки за нервотрепку и за упущенные рейсы, пока там с ними разбирались. А главное – найти и обнародовать причину, принять меры, чтобы не повторилось, а уж потом наказать виновных, а заодно и инспектора, за некомпетентность.
А пока Система молотит людей своими шестеренками, как и раньше.
Надо бы как-то и за грибами съездить. Хотя до конца месяца у меня еще 6 рейсов, все с ночевкой, и только проклятый ночной Комсомольск с разворотом.
Но все равно, найду пару дней. Август – месяц заготовок. Погреб забит соленьями-вареньями; вот еще грибов бы насолить, груздей, да опят нажарить в масле и закатать. Масла топленого 8 банок 3-литровых хранится в погребе, и растительного 4 банки тож.
Господи, неужели этим занята голова пилота в цивилизованной стране?
Но я все-таки все делаю своими руками. И ягоды, и грибы, и огурцы в теплице, – все своими руками.
Те, у кого ничего нет, большею частью – лентяи. Но ноют, что умирают с голоду в собственной стране: мол, мало платят.
Так хоть воруйте же, но живите, раз уж у нас страна воров. Тащите в дом, что плохо лежит (а лежит у нас всего везде, только бери), копайте нелегально погреба, стройте гаражи, потом все равно узаконят, ну, оштрафуют на копейки, – но работайте!
В Сибири, кто работает, кто пашет, тот с голоду никогда не умрет. Я хоть и за деньги летаю, но основа жизни все-таки – то, что руками сделаю.
На хлеб у всех есть, хлеб дешев. Но картошку сажать надо всем. Кто рыбачит, пусть рыбу солит. Кто огородник, пусть продает продукты своего труда – за деньги, по бартеру – но пусть трудится! Такое время, такой век. И не надо уповать на магазины, там скоро ничего не будет. Это объективно: страна катится, и еще 20 лет будет катиться вниз, и выживет лишь тот, кто сумеет организовать натуральное хозяйство.
Вот ведро брусники я куплю. А то – обменяю на опять же свою облепиху. Бартер. Может быть, зимой придется менять банку огурцов на кусок сала, обменяю. Только надо солить, и варить, и забивать погреб, забивать и забивать, доверху.
Я, наверное, смешон в своем мышином самодовольстве. Но, черт возьми, как все-таки приятно закатывать и ставить в ряд банки с плодами своего труда: сам добыл, сам приготовил, независим!
И умереть с голоду? А еще ж и мяса я всегда по любой цене возьму на рынке, и сала насолю сам.
Нет, жить можно. И я, поглядывая на ряд остывающих банок, думаю: да пошли вы все в задницу, с какой-то там политикой, бездельники!
А в гараже сохнут рядочками три десятка веников, заготовленных в самую пору. И сейчас, перед Симферополем, схожу в баньку, потом посплю пару часов – и на вылет. За рулон денег. Хапуга.
14.08. Так я и сделал, и было хорошо. И рейс удался, хотя в ночь, да после баньки, и чуток поспавши, все равно клонило в сон. Но это мелочи.
Новый второй пилот, случайно, на рейс. Как у всех молодых с Як-40, плавает тангаж. Ну, поработали. Три посадки его, одна моя. Тянул, тянул, еле додрал ее на последних углах атаки, вроде и без скорости, но терпимо.
Опять по пути домой заскочил на дачу, опять ведро огурчиков, опять солю.
16.08. Ночь. Из Москвы. От Колпашева грозы; Витя нервничал. Он как-то признался мне, что стал побаиваться гроз: пару раз вскакивал с другими командирами. А тут еще дали ему внезапно путевку на курорт; крайний рейс перед отпуском, хотелось без эксцессов… Короче, была суета, было страшно делово, дергался из рук в руки издыхающий локатор, выключался в кабине свет, воспаленные глаза впивались в темный, подмигивающий зарницами горизонт; а тут еще встречный борт напугал рассказом о грозе дома…
Я читал «Хождение по мукам», а Витя все нервничал. Я готовился к сложной посадке, но еще час впереди, не перегореть бы. Давали грозу с дождем, ветер до 15 м/сек, фары у нас слабые, посадка на мокрый асфальтобетон… Я запел песенку и предложил Вите что-то отвлекающее по локатору. И снова за книгу. Еще не горит.
Потрясло нас чуть на 5400, выскочили на 3000 визуально; остальное было делом техники. Гроза ушла. Посадка мне удалась, долго катились без тормозов по длинной полосе, потом чуть притормозил; зарулили: глядь – снесли колесо, новенькое, все корды снесли. Это автомат юза, я тут ни при чем, такое уже не раз бывало.
Может быть, в связи с отпуском штурмана и нам чуть пораньше выгорит отпуск? Хотя я не устал еще. Ну да впереди еще Комсомольск, и не только.
17.08. Принято графа де Сент-Экзюпери считать великим современным гуманистом, писателем-летчиком, и преклоняться перед ним.
Он как-то умел охватывать взглядом все человечество и как-то чувствовал себя частицей целого, сопричастным к общему, и пр., и пр.
Ну, а я, прожив почти полвека, так и не прочувствовал. Сопричастным себя. Частицей.
Хорошо было ему, дворянину, аристократу, ища, так сказать, себя, между делом, овладеть самолетом. Я ничего не имею против, пожалуйста, но… как пилот он был и остался скорее дилетантом, любителем, и уж отнюдь не профессионалом. Ну, как, к примеру, из Чехова врач. Он был писатель, философ, а жизнь заставила зарабатывать на хлеб за штурвалом. Да и вряд ли он так нуждался в насущном хлебе, как нуждаюсь я, мои товарищи. Хотя и роскоши он не видел, однако знал твердо, что штурвал обеспечит жизнь и даст возможность творить за столом.
И пилоты пролетарских кровей, тот же Гийоме, воспринимали его так: свой парень, умница, чудак, но… не от мира сего; вроде бы летать умеет, товарищ верный, но… любитель.
Да и не в этом дело. Они были частью Дела, Авиации, они строили Храм, а я… я кладу эти проклятые кирпичи в эту проклятую стену, а призрак Храма, романтический призрак молодости, растаял. Я поймал медведя, а он меня не отпускает. Так и ходим по кругу, держа друг друга за лапы, вокруг пресловутого угрюмого ствола службы.
Я не ощущаю себя частицей человечества. Пролетал всю жизнь над ним, а когда то немногое из прямых контактов с людьми, которые имел между полетами, переварилось, то оказалось: человечество состоит, в основном, из троечников. Таков наш мир, как ни прискорбно. И надо принимать его как есть… а я уже не могу. Я готов их презирать, а это патология; я прекрасно понимаю: они же нормальные люди. Нормальные… но уважать их не могу, уже закостенел.
Вот мое несчастье на старости. Мало того, я, всю жизнь считая себя отличником, сам стал троечником.
Почему троечник? Да потому, что и во мне умер Моцарт. Ни музыкантом я не стал, ни врачом, ни добра никому не сделал в жизни. Вернее, то добро, что делал, было без труда, без отрыва по живому от себя, а так, как гладишь кошку, походя, только потому, что не можешь не погладить. Либо из чувства долга.
Я всю жизнь прожил из чувства долга. Всем уступал, дамам руку подавал, двери открывал, ко всем приспосабливался, – только чтобы меня, мою индивидуальность не зацепили. И сделав добро, тут же стряхивал память о нем поскорее, и не помню.
Я всегда старался никому не быть должным. Ценил независимость. И – жил из чувства долга. Всем. И на мне все ездили, и ездят, и будут ездить.
А ведь я должен очень многим людям.
Глядя на многих людей, да хоть на моего штурмана, сколько раз поражался, как могут люди за свое рвать пасть. Как могут при этом оскорбить ни за что человека, к примеру, официантку, ткнуть носом в блюдо, которое, кстати, не она и готовила, и т.п. И считать это чуть не нормой.
А я с ними годами работаю. Нормально, дружески. Я им это прощаю, и многое другое, за то, что они – трудяги и в меру своих способностей усердно и ответственно тащат лямку. Вот и все. А сколько на свете пустых дураков, и все с амбициями.
А я прежде всего должен поставить себя на место той официантки. Я понимаю, что она избегалась, могла забыть, могла принести не то… я молча ем не то. Всегда. Потому что буду переживать за то, что ткнул человека носом. Буду!
А у Шукшина герой любил – срезать! И Шукшин мог его по-своему любить: как же – тип! Как же не любить типа писателю – это же жизнь! А я за срезанного испереживаюсь – и не срежу. Уступлю.
И так везде. Везде долг, везде становлюсь на его место. Дурак.
Потом, когда умру, обо мне тоже так скажут: да он блаженненький, не от мира сего; ну, летал как все, вечно ему на исправление в экипаж ссылали типов: на одном гектаре бы с ним не сел; – а этот берет, и они им в экипаже крутят.
Горькая мелочь: поцапались с чужим экипажем из-за места за столом в домодедовской столовой. Очередь… вечная проклятая очередь, оскотинивающая людей. Стоят в дверях, ждут, когда освободится стол. Мы в проеме первые. Дождались: из-за стола двое встали, двое доедают. Мы подсели. А тут стол рядом весь освободился, мы всем экипажем туда, – но тигриным прыжком от дверей долетел пилот и рвет стул: куда? вы ведь уже ТАМ сели! А мы! Ждали! Нам! Надо! СЮДА!
Я уступил. Эх, дворяне. А мой второй пилот Саша тут же – полкана спустил, с оскорблениями… Братья по небу… Измельчало все. Чистое золото души перепрело в очередях совдеповской действительности. Очередь сжирает достоинство. Вечная очередь.
Вот, брат Сент-Экс, какие дела.
Не пил с мая, а тут подвернулся случай, выпили с товарищем бутылку спирта, и я – вусмерть. За сутки до вылета. Ну, у меня на предполетном пульс и не щупают, меня знают. Да… спирт-то коварная штука.
Но усталость нервная – как ее снимать? Расслабишься – вроде легче. Да только я пить не смогу. Болею. И вкушать эту радость жизни мне не дано. Вечно обречен на трезвую жизнь, а оно, иной раз, и взвыл бы.
18.08. День Воздушного Флота. Позвонили мои с курорта, поздравили. А я с утра на автобарахолке. Выкинул тысячу, купил железку, за которую раньше бы отдал максимум полторы сотни. Ну да лишь бы было. Да, в принципе, есть все, только поискать.
Поехал на дачу, собрал малины и огурцов. Накопал картошки, весь вечер варил варенье и солил огурцы, насолил пуд. Отвез в гараж и еле втиснул в забитый погреб. Доволен.
Наблюдал по телевизору фрагменты воздушного парада, кувыркание в воздухе спортсменов, лениво слушал рассусоливание репортера о непостижимости летной профессии.
Постижима она, милый, на уровне техникума уже постижима.
Все, спать. Завтра в Сочи.
21.08. Ковырялка у Горбачева оказалась слабовата, я уже говорил об этом пять лет назад: расковырял, пошла вонь и пена, бардак, резьбу сорвало…
И вот вам результат: путч. Одиозные лица, ортодоксальные большевики, нарушив конституцию, организовали дворцовый переворот, свергли законного президента, – какой уж там он ни был, но – законного!
Это хунта. НКВД, КГБ, МО, ЦК… и примкнувший к ним верный пес Стародубцев. Завтра кузьмичи запляшут на трибунах.
Ельцин призвал к всеобщей забастовке и своим указом запретил подчиняться командам хунты. В стране чрезвычайное положение. Диктатура большевиков, опираясь на армию и КГБ, хочет захватить власть. Ельцин, возглавив сопротивление, объективно ведет страну к расколу и гражданской войне – но борется!
Посмотрим. Я как летал, так и летаю, и заинтересован в стабильности. Но стабильности быть не может. И не верю я ни Янаеву, ни Ельцину. Знаю только одно: страшная борьба за власть. Хунта – за возврат к тоталитарному социализму, а я лично – за капитализм. Весь мир от нас отшатнулся. Демократии конец. Газеты закрыли, только пробольшевистские выходят. Гласности конец. Радио – официоз.
Но народу рот уже не заткнешь. Он хватил свободы.
Вася, хватит о политике. От тебя ничего не зависит. Не исключено, что завтра нас оденут в сапоги, посадят в салоны солдат и отправят нас в Литву или Молдавию, под «Стингеры» партизан.
Что ж: будем возить солдат. Хоть дерьмо, лишь бы платили.
В конце концов: надо работать. Но только не митинговать. Митинги ведут к войне, а у меня вторая теплица не построена. Они там делят власть, а у меня чуб должен трещать? Дудки. Нет, я жил всю жизнь при диктатуре, проживу и эти оставшиеся годы при ней же.
Да они не справятся.
22.08. Кажется, гора родила мышь. Не прошло!
Смотрел я сессию Верховного Совета России. Ельцин молодец. Он не признал хунту, а за ним и многие во всех городах и весях. А там, где обкомы и прочие подчинились ей, тех он отстранил. Армия стала присягать Ельцину. Нет, далеко не все подчинились хунте.
Собрали делегацию для встречи с Горбачевым. Тут доложили, что заговорщики выехали во Внуково с неизвестной целью. Ельцин предложил их там заблокировать. Лукьянов клялся и божился, что знать не знал о заговоре, на что Ельцин ответил, что Хитрому Глазу верить нельзя. Знал…
Сегодня утром сообщение: Горбачев в Москве. Значит, жив президент. Значит, демократия взяла верх. Вот что значит – глотнуть свободы.
Теперь давить беспощадно большевиков. Они свое истинное лицо показали.
Ох, просится мысль: Горбачев с Ельциным это нарочно задумали, именно с целью показать истинное лицо истинного врага. Сразу проявились замаскированные противники перестройки. Хорошая шокотерапия.
24.08. Путч не удался. Торжество Ельцина как национального героя. Разгром КПСС, ее исторический конец.
А Горбачев зубами держится за партию, утверждая, что это охота на ведьм и что миллионы рабочих и крестьян – коммунистов – не виноваты.
Да их и нет, этих миллионов. Партии как таковой и нет; есть кучка показавших свое истинное лицо, как тот же Шенин, и есть еще дураки-взносоплательщики.
Горбачев как политик свое дело сделал и должен уступить дорогу. Он изжил себя, а если еще будет цепляться за партию, народ от него отвернется. О партии коммунистов в народе мнение однозначное: это партия преступников и дураков.
И Ельцин вчера своим указом закрыл РКП до расследования ее участия в заговоре. И Назарбаев увел казахскую, а Ниязов – узбекскую партии, и, таким образом, КПСС уже и нет.
Ну, эйфория. Одна голова отрублена. Но осталось еще две. Колхозы, за которые ратует пес Стародубцев, и торговля, за государственную монополию которой ратовал еще Ленин. Торговля, которая распределяет незаработанное в пользу коммунистов и иже с ними, в первую очередь. Остальное – на черный рынок. А нам, сирым, – шиш.
Ну а я себе летаю. Саннорму отдубасил, пошла продленка. Сумасшедшие деньги вкладываю в запчасти: две фары – 400 р., завтра еще колеса куплю. На авторынок проехать можно уже свободно, цены доступны далеко не всем. И даже я не решусь пока купить карбюратор за тысячу, головку блока за полторы и поршневую группу за две тысячи.
Но, видимо, придется. Ибо это всего лишь моя летняя месячная зарплата, ну, чуть больше. А машина жизненно необходима.
С апреля постоянно болит шея: радикулит задолбал. Терплю, это мой крест до могилы. А в полетах по пять раз на дню то мокрый весь, то ветром охватит, – гроблю здоровье, и никуда не денешься. Деньги, деньги, три, пять тысяч в месяц надо. Только чтоб существовать сносно, ну, хоть машину гнилую подправить. Я в нее уже вдвое больше вложил, чем она стоила. И одеться надо, и Оксане приданое: одно постельное белье – 150 р. комплект, да стиральную машину, да морозилку, да цветной телевизор…
Ты зажрался. Пролетарий этого не имеет.
Имеет. Пролетарий на КРАЗе гребет импортное шмотье ртом и жопой – по бартеру: и видики, и «Нисаны», и микроволновые печи… А чем он лучше меня – пилота? Он пашет, вкалывает, продает алюминий за рубеж – и имеет. А я тоже пашу и хочу тоже иметь, и больше хочу, ибо мой труд сложнее и опаснее.
А мой ребенок, если начнет трудовую жизнь с нуля, будет вечно нищий врач, с комплексом, с ненавистью к жизни. Но пока я жив и работаю, этого не будет. Стартовые условия мы создадим такие, чтобы дочь моя могла спокойно реализовать себя, хоть на первых порах не задумываясь, где сшибить десятку до получки и где добыть угол для гнезда. Это у нее уже есть сейчас.
Мы с Надей так начинали: не нищенствовали, хоть и с нуля, но зарабатывали столько, что быт не давил. Так и они, если возьмутся сразу, с умом, с бережливостью, с умеренными аппетитами, то, думаю, жизнь их не испугает и не согнет. Тылы крепкие, и мы поможем сначала.
25.08. Это лето у меня спокойное и практически без нервотрепки. Обычной августовской безнадежной усталости пока не чувствую.
Тут три фактора. Мне везет на хорошие, длинные рейсы, это раз. Потому что ввели много молодых командиров: они колупают Мирные-Полярные-Норильски; а я уже в стариках.
Второе: зарплата внезапно и резко, вдвое-втрое-вчетверо поднялась с июня. Появилась удовлетворенность и какая-то надежда выбиться из нищеты, пока деньги еще чего-то стоят. Стимул.
И третье – лично мое. Отправил семейство к едрене фене отдыхать. Как же спокойно и тихо дома! Как же я вволю отдыхаю, предоставленный сам себе, без контроля, обязаловки и мелких раздражителей, к которым так чувствителен сдавленный усталостью мозг. И дом же не рушится.
Это – фактор! И я в конце августа чувствую себя человеком, несмотря на уборку, стирку горы белья, брошенного двумя бабами в доме, на регулярные поездки на дачу, на соления и варения, на мелкий ремонт машины и по дому… Живу! Дышу! Слушаю музыку… Сегодня на барахолке купил альбом церковных песнопений, и благородная музыка прекрасным фоном накладывается на мелкие радости выходного воскресного дня, когда все в доме сделано, осталось лишь пропылесосить. И даже разыгравшийся радикулит легче переносить.
Завтра дневная Алма-Ата, возможно, без топлива в Караганде, с соответствующими перипетиями, а следом – Москва с отдыхом и поездкой в автозапчасти. И – конец лета; обещают отпуск. И мои возвращаются с курорта.
Так, церковное кончилось; включаю магнитофон: цумба-цумба-цумба-цумба- цумба… Дик, примитивен современный человек. Что это за музыка, где хоть мелодия… Ну, онанизм натуральный. Тьфу.
Ну ладно. Если так летать, как нынче летом, даже три продленки подряд, да еще если выбьем себе гарантированный минимум оплаты (командиру – 1600 рэ), да если инфляцию удастся чуть притормозить, – вот тогда можно еще тянуть до 93-го года… а потом я и сам не уйду, пока не спишут, и то еще, наверное, буду биться на ЦВЛЭК в Москве, чтоб еще годик… полгодика…
Всё. Горбачев сложил с себя полномочия Генсека КПСС и запретил ее деятельность в армии, КГБ, МВД и т.п. А так как Ельцин запретил Российскую компартию, то преступной партии большевиков (читай: партаппарату) пришел конец.
И ни при чем тут рядовые коммунисты, пусть себе живут и выздоравливают, стряхнув с себя тяжесть партийной лапы и взносов.
Как просто. Всё. ВСЁ! Издохла! Как ее ни защищал Горбачев, а покрутился-покрутился, преданный своею же партократией, видит, что народ ненавидит ее, пришлось переступить через принципы.
Драма? Да ну. Они, политики, и не такое переживут.
Итак, коммунизму конец. Жалкие остатки идейных уже вряд ли сколотят что-либо жизнеспособное, так, ошметки. Имеют право. Как и все.
Господи, снилось ли такое хоть в кошмарном сне Ленину? За что боролись?
Теперь министры. Они в массе своей поддержали путч. Кто в стране был хозяин на местах? Министерства. Вот теперь их – по шапке. Уже легче.
Но торговля! Основной создатель дефицита и спекуляции, накаляющий обстановку с каждым днем. Надо ее уничтожить без остатка, лучших продавцов (а что это такое?) еще можно трудоустроить в фирменных магазинах, а остальных – прямо в Магадан. Они – уж наворовали! Да любая уборщица в магазине живет лучше меня. У нее есть все, а у меня – далеко еще не все.
Надо, надо – немедленно! – рушить госторговлю. Это рудимент социализма, разлагающий общество. Это мафия.
Очень, ну очень мечтаю увидеть секретаря или там инструктора райкома в очереди у биржи труда, или, к примеру, с лопатой, у моей супруги, в Управлении зеленого строительства. А продавца – заискивающе зазывающего хоть зайти в тот захудалый магазинчик, хоть глянуть на тот залежавшийся товар, что он правдами и неправдами добывал за бугром и на своем горбу приволок, недосыпал, таскал и стерег, – а никто не берет!
Эх, скорее дожить бы.
Да, праздник сегодня. Додавил-таки Ельцин Горбачева.
За кого держаться мне? За Союз или за Россию? Или за свою родную Украину? Я же все-таки хохол, и язык – мой родной, и культура, – все мое. Но я родился и вырос аккурат на границе, а прожив всю сознательную жизнь в России, обрусел, даже осибирячился, полюбил здешний край и здешний народ, здесь я чувствую себя среди своих. И все больше отдаляюсь от исторической родины и от украинцев, особенно от старых знакомых, чуть ли не друзей детства, спившихся и деградировавших. Как они все к худшему изменились! Да, надо самому быть украинцем, чтобы прочувствовать, как ужасен охамевший, самодовольный, сытый и полупьяный сержант-хохол, у которого все схвачено. Но так же, как и все русское, я люблю все искренне украинское, без хамства и самодовольства: рiдну мову вовчанських тiток, сердечные песни, стихи моего родного Тараса…
Ну ладно, Это все внутреннее. А жить мне здесь, в Сибири, где я пустил крепкие корни, продолжил свой род… здесь и в землю лягу.
Союз – нечто эфемерное. Союзу я служил, потому что республики были просто его губерниями, и только. А сейчас мощный рост национализма во всем мире, и Россия возрождается; а она, с ее культурой, только без псевдо, вроде фольклорных ансамблей или пресловутого опереточного козачества, – она мне родная, точно так же, как и Украина.
Будет надо – объединимся в союз. Но держаться надо за Россию. На Украине меня ждут, может, только старики-родители и тесть с тещей, и то – на три дня в гости. А жить там… там все прогнило, измельчало душой, политизировалось.
Я Союз весь повидал, и лучше всего – здесь, в Сибири, ставшей мне второй родиной: на Енисее, с тайгой и комарами, с морозным хиусом, с баней. Только паши, вкалывай.
Вся гниль в Союзе – из теплых, хлебных, злачных мест, где все само растет, где сытно, но тесно жить. В Сибири – не тесно и не очень-то сытно, если лениться. Да, морозец заставит шевелиться. Тут не о продаже душа болит, а о добыче. Там – как бы продать: пропадает то, что с неба свалилось. Тут – как бы выпластаться, посадить, выхолить, уберечь, собрать, сохранить, да хватило бы до лета. У нас только снег лежит полгода. Вот и народ другой, цельный.
27.08. Слетали в Алма-Ату; проверяющий Сережа Пиляев, которому надо было допустить моего Сашу к самостоятельному взлету-посадке (после 200 часов налета на типе), ну и добыть чего-нибудь на салат. Ну, на салат добыли, дешевле, чем у нас, раз в 8-10.
Мне всю дорогу пришлось болтаться по кабине, бия резинкой от трусов злых осенних мух, очень досаждающих. Вели с Алексеичем разговоры. Ну, о чем могут вести разговоры летчики. Как отремонтировать нашу видавшую виды последнюю обувь. Ну, о политике. Согласись, что во время путча в Москве все стороны ждали жертв. Ждали, чтобы использовать их как аргумент. Поэтому и такие помпезно-затяжные похороны троих случайно попавших под гусеницы зевак: с прощаниями президентов, с политическими, насквозь сочащимися лютым полемическим ядом, отточенными выступлениями фанатика Черниченко и змеюки Боннэр… с аэростатом… Даже церковь, даже правовернейшие иудейские раввины, тысячелетиями не отступающие от Завета, – нарушили каноны: церковь отпела вообще некрещеных, а раввин хоронил еврея в субботу. Везде политика. Надо как-то жить.
От Караганды домой вез я, спокойно-полусонно зашел дома, выровнял чуть выше и драл, пока мягко не упала на левое колесо. Надо бы полетать, мне двух посадок в месяц маловато.
Ну да что там летать. Отпуск с 9.09, уже в пульке отмечено. План – две Москвы, да Сочи на три ночи через Норильск. Сочи бы мне уже и ни к чему: шея по утрам клинит, болит, разминаю через силу, – какое к черту море. Надо грязи; ну, это в отпуске.
Украина отделяется от Союза. Страшновато и лететь в Харьков сейчас, да и не горит; думаю, обойдемся.
Ну, а в Сочи полно водки коммерческой, по 16 р., надо взять ящик. А дома лежат талоны за квартал, на водку же, но пусть большевики ими подавятся, чем я полезу в ту проклятую очередь. Во всяком случае, к свадьбе ребенка спиртное будет. Там и коньяк по 37 р. возьму. Я тут за неделю между делом высосал бутылочку коньячку, с удовольствием.
Очевидцы утверждают: когда Шенин уезжал с повышением в Москву, наблюдали, сколько же было загружено барахла. Контейнеры: 20-тонник, 5-тонник и 2 трехтонника. Остальное, видимо, в драгоценностях и валюте. Наверное, на барахолке набрал.
И он же никогда палец о палец не ударил. И зарплата его была ну никак не меньше моей. Вор. Третье лицо в партии ворюг. И первое лицо в партии ворюг был Горбачев.
Надо ехать на дачу, собрать очередное ведро огурцов, уже не себе, а друзьям, да накопать ведро картошки. Надя приедет, чтобы все в доме было. А у нее как раз начнется период осенних посадок – самая нервотрепка.
Все-таки недаром моя жена живет на свете. Где ни глянь в городе – эти вот деревья она сажала, этот скверик – ее рук дело, эта улица из пустыря превращена в цветущий майский сад ее стараниями и умением, эти лиственницы она выкопала зимой, с комом, привезла, посадила, отлила и выходила… Главный озеленитель города. Есть чем гордиться: оставила свой след на земле. Уйдет она – а лиственницы эти еще сотню лет стоять будут.
Но какими нервами, какой пробивной силой, каким истовым отношением к работе, какой самоотдачей все это делалось! Каким здоровьем! Всю жизнь бьется за опчественное, а себе… ну, квартирка с телефоном, ну сад о четырех сотках, ну, гараж и драный «Москвич».
Поэтому когда я, летчик и барин, берусь дома за стирку или готовлю какой завалящий кусок мяса, то это не блажь, а разумный эгоизм: жену надо жалеть и беречь. На дом меня хватает. На все остальное – нет.
Но представить, чтобы моя супруга, деловая, современная, умная женщина, на которую заглядываются такие ли еще мужики… да и сам другой раз глянешь – и холодок в животе… – представить, чтобы она не работала, а занималась собой и только и ждала меня из полета, чтобы ублажать… Нет. Наш крест иной.
Ешь, Вася, свои помидоры с огурцами, лелей свою летнюю импотенцию и жди просвета в тучах. Октябрь будешь отходить от лета, как после наркоза; в ноябре начнутся обоюдные обострения всех болячек; потом наступят холода, когда супруга ложится спать в двухконтурных штанах, носках и пуховом платке; у тебя начнется обычный бронхит…
Жизнь прожита, чего уж там. Все удовольствия становятся редким исключением из обычной, будничной, постоянной болячки. И вечером ждем мы с нетерпением не близости, а газет. Ночь же приходит как избавление от дневной усталости и возбуждает единое чувство: наконец-то упасть! И – падает.
И при чем тут гибель какой-то партии. Да хоть миллионером меня сделай сейчас – и за те миллионы никто уже не вернет нам с Надей те бессонные ночи и то здоровье, что убили на текучку. Всё.
Свой сорок восьмой год жизни я встречу, естественно, в полете. Не надо было рождаться в час пик. Да я и не в обиде. Выпито и отгуляно на подобных мероприятиях достаточно. Хватит. Ну, иной раз и выпил бы. Да нет условий, да нет и той водки, да суета с продуктами, да… Это как бабу на стороне ублажать: да суета, да подход, да место, да время, да чужая же… да… а если даст? да СПИД, да… Да пошла ты со своим утюгом! Лучше я на Москву слетаю, а там же так уютно спится…
Кажется, начинаю ощущать усталость. На дачу приехал – ничего не интересно, набрал огурцов, быстро полил, накопал картошки и скорее домой. Ездить стал очень агрессивно – первейший признак нервной усталости. Вася, повнимательнее за рулем!
Зато весь дом в цветах, все вазы заполнены. Что-что, а мой день варенья весь в астрах. Хороший цветок, люблю. И прекрасная белейшая роза расцвела, и вот-вот раскроются два бутона красных.
Купил два гидроцилиндра для автоматического открывания фрамуг в теплице. Рад. Надо еще продумать управляемое от гидроцилиндра же капельное орошение. Ну, на это зима впереди.
Другому скучно жить, а тут мозгу времени не хватает, да и рукам. Столько дела кругом… одно мне мешает – моя природная, неповторимая, холеная лень, лень-фактор, с которым надо считаться.
Как трудно нагнуть себя. Но уж если начал, втравился, увлекся, втянулся, – в туалет сбегать некогда. Я в работе себя не помню, когда увлекусь. А потом все болит, потому что без меры.
29.08. Поработаешь тут. Мало того, что шею клинит каждое утро, так еще и в поясницу вступило. Ползаю, отставив зад, – какая уж тут работа.
Слетали в Москву, с задержками, ну, час пик. Уже было засобирались на запасной во Внуково, но туман начал приподниматься, и мы сели, выскочив из низких облаков на 60 метрах. Ну, вокзал в Домодедове – сумасшедший дом, как обычно в конце августа. Запарка, задержки, потная толпа…
Обратно дома садился я, вроде мягко.
Всунули нам еще Благовещенск на завтра. Это уже будет 100 часов, сумасшедшие деньги. Но сон пока хороший, падаю и тут же засыпаю. Если бы не шея, затекающая до острой боли через 3-4 часа, то спал бы мертво. Но некогда лечиться, уж в отпуске займусь.
Утром проснулся, были планы повозиться с машиной, но тут позвонили из профсоюза и велели мчаться на вещевой склад, выкупить две пары меховых штанов, выделенные восьми ветеранам, в т.ч. и мне. Из этих штанов шьются великолепные черные демисезонные куртки на меху, цигейка там что надо. Так что меня поощрили, ну, спасибо. Дюфцит!
Подозреваю, что администрация побаивается того, что с нового года многие ветераны, опытнейшие кадры, уйдут на обещанную Ельциным высокую пенсию, и вот нас стимулируют, создают лучшие условия для работы, подкидывают дефицит… Ну, как говорят, довелось и свинье на небо глянуть – когда резали…
31.08. Лето завершает ночной Благовещенск. Второй пилот Сережа Квиткевич, уже раз летал со мной. Как всегда, морока с тангажом. Туда садился я, с попутничком, на неровную, грохочущую полосу. Радик задолбал: полз в АДП с откляченным задом, едва ворочая шеей.
Назад садился он; дома была низкая облачность, вывалились сбоку полосы метров сто, Сергей стал вяло доворачивать, пришлось буквально выхватить штурвал, сделать энергичный S-образный доворот на ось, железными руками зафиксировать и отдать управление. Мою команду «Малый газ» Валера не расслышал. И мы мирно свистели над полосой с версту, потом опомнились, убрали с режима 78 и сели. Едва успели освободить полосу, на нас садился Ил-86. Усталость.
4.09. Сегодня Сочи на четыре ночи, через Норильск. Была бы в Норильске погода. Как одеться. Шея и поясница болят, но ворочаются. Надо поваляться на раскаленных камнях, но, учитывая, что ни дня не загорал, сгорю в первый же день. Значит, закопаться в грязноватый горячий песок.
Мои бы проблемы советскому пролетарию. Сочи! На четыре ночи! Есть где спать, и кормят бесплатно! Да хоть с инфарктом миокарда. Подумаешь, радик скрутил. Два дня на море – рукой снимет.
Но в болтанку, когда длинная оглобля самолетного носа подпрыгивает и качается из сторны в сторону, радикулитчику удовольствия мало.
Отпуск подписал сегодня на 36 дней. Надя улетела вчера к родителям сама, у нее отпуск кончается. Обошлось без скандала. Большие деньги…
Усталости особой так и нет. Спокойно отработали лето. Но и здоровья особого тоже нет. А точнее – болею весь год. Помимо прежних болячек, под конец августа стала одолевать сонливость, побаливает голова. Надо пить водку, ну, коньяк.
Там какой-то съезд. Чегой-то решают. Да пошли вы все, козлы. Всех в Магадан. Я ничего не хочу. Все-таки устал.
9.09. Отпуск. Возвращались из Сочи с чувством: как бы чего не вышло в крайнем рейсе. Поэтому, страхуя Сашу на пупке в Норильске, я перестраховал: когда он начал низко выравнивать, земля набежала и он понял, что надо хватать, я, боясь взмывания или хоро-о-шего козлища, аж за пупок, придержал ему штурвал. А он не хватанул. Врубились в полосу с перегрузкой 1,5.
Конец летней работы, отпуск, отдых, усё.
Спину и шею грел в Сочи бишофитом в кровати, под шорох дождичка. Отоспался, начитался газет. Бишофит помог: чуть побаливает, но входит в норму. Надо плавно втягиваться в физический труд. Главное, в Сочи выспался.
16.09. Получил отпускные. С августовской и сентябрьской зарплатой, за 36 дней отпуска, на руки – 4100 деревянных. Но это не труд мой стал дороже цениться. Это инфляция подстегнула. А народ в массе своей как получал двести, так и получает.
Я тут в баньке разговорился с коллегой-пилотом, пенсионером, что, да как, да сколько… Сидевший рядом человек, видимо, из крестьян, слушал-слушал, а потом возмутился. Ну, вы даете, мужики. Я столько не получаю, сколько вам пенсия…
Я ему ответил, что мы не получаем, а зарабатываем. Но он не понял и стал доказывать что-то насчет того, как он в уборочную… Ну, кто на что учился.
Однако если его величество гегемон и трудовое пьющее крестьянство нас не понимают, и не хотят понять, а хотят получать больше за свои дедовские серп и молот, то это пахнет диким русским бунтом. И я спрятал свой язык подальше.
Ибо я – за капитализм, где надо вкалывать, а не получать. И скрутить-таки шею колхозам, чтобы мой банный собеседник забрал свой пай земли, взял свои вилы в мозолистые руки, крепостные, пораскинул мозгами и стал бы пахать на себя. А со мною в бане заключил бы договор на поставку, допустим, картошки. А я бы заплатил ему, а сам, вместо того, чтобы горбатиться после полетов на поле, пошел бы в спортзал, а в теплице вместо огурцов выращивал бы розы. Для души.
18.09. Вчера с детьми ездили за грибами, и сегодня собираемся. Оказывается, в жизни, кроме службы, есть еще радости. Да только летчику они отмеряются мизерной дозой, а его величеству гегемону – во вполне достаточном количестве Он-то себе грибов давно насолил.
Кто на что учился, Вася.
Но мне повезло нынче на отпуск: еще только начинается золотая осень, еще не было ни одного заморозка, тепло и солнечно, и нет комаров. Не сильно уставший за лето мозг строит планы. Хочется сделать и то, и это. Правда, в дебильном нашем государстве и купил бы материал, так нету, надо воровать. Вчера на свалке искал трубы для водопровода, нашел; а в парке украл пару толстых труб: валялись в траве; распилил и увез, пойдут на теплицу. Я бы заплатил, но надо красть.
И ремонт в доме надо, но это по дождям. И машину. И погреб. И отпуска не хватит.
Партию большевиков разогнали. Рушат истуканов, собираются закопать тело основателя. Партия рухнула враз, рассыпалась, как громадное, с виду крепкое, но трухлявое внутри дерево. Ей уже не воскреснуть никогда. И ничегошеньки не изменилось в моей жизни.
Я, в дикости своей, понял лишь одно. Мне повезло родиться в таком лживом государстве, так мне в нем врали все и так врут по сей день, ну, вчера еще врали, кончая Горбачевым, – что ни единому официальному слову верить нельзя. Ни е-ди-но-му. Ни-ко-му.
А у кого реальная власть, вот пример.
Лечу из Сочи, везу зайца-пилота. Он среди пассажиров вдруг узнает директора ракетного завода, выпускающего, кроме ракет, еще ширпотребом и холодильники «Бирюса». Когда-то у них с директором были деловые связи по полетам. Заяц взвился пробить для меня вожделенный морозильник, за которым я охотился по всему Союзу. Ни грамма не веря, я все же создал им условия для выпивки коньяка, который заяц готовил для меня. Директор в подпитии снисходительно пообещал вещицу; баба, что слетела с ним, записала мои данные. Жди, тебе позвонят.
И я жду. Мне нужен морозильник, как и всем другим. И сильная личность, власть имущая, мне с барского плеча может кинуть. Но, скорее всего, забудет.
Вот у кого реальная власть. А мне поют про демократию. Претворять в жизнь барскую милость будет его секретутка, которая ублажала его на курортах и которую мы тоже поили. Вот у нее – реальная власть.
И так во всем государстве. Репин шесть лет назад так же лебезил перед власть имущим большевиком, и ему кинули вожделенную черную «Волгу», предварительно всласть наслушавшись униженных просьб и вежливых напоминаний.
И не верю я про ту морозилку, кому я там нужен. Хорошо, хоть сам не унижался и не просил; заяц работал. Потому-то и не будет морозилки. Преданности не выказал. Но власть имущий меня по плечу потрепал. Командира корабля. Пассажир. В полете. Потому что командир тут – проситель. И устраивает пьянку пассажиру в вестибюле.
Эх, зла не хватает. Вот он, реальный наш развитой социализм. Все мы – сраколизы. Потому что нам всем очень надо морозилку.
А завтра подберутся кадры у Ельцина, рассядутся у крантиков и будут нас по плечу трепать Поэтому я им и не верю.
Жаль, что не умею я холодильник своими руками сделать. И как хорошо, что многое все-таки руками умею. Это – лучшая гарантия независимости.
Но все-таки как приятно, что съезды партии превратились в разъезды. Все же остается какая-то надежда.
19.09. Основное сопротивление перестройке, повторюсь, – на местах. Это – директора. Всех рангов и мастей.
А значит, надо приватизировать. Но ведь оборонку не приватизируешь. И тяжмаш. И иже с ними. Это и есть военно-промышленный комплекс. Воротилы. Олигархия.
И какой бы доброй ни была улыбка милейшего Рыжкова, никогда не надо забывать, что он многие годы был директором Уралмаша, а значит, так же пьянствовал в полете и трепал по плечу командира. Как треплют по холке симпатичного глупого бычка в стаде скотов. И командир, глупейше улыбаясь, пускал слюни, что ему отломится нечто вожделенное.
А встанешь поперек – сметут. Пока власть – у них. Партия им только служила. Всякие там федирки, шенины. С ними в доле были члены Политбюро, высший генералитет. Все они – гекачеписты. Павлова они приблизили, выдвинули, подзудили, а теперь он же – козел отпущения.
Теперь партии нет, и Политбюро нет, но все они живы и опять рвутся к власти. Их поддерживает абсолютно большая часть стариков страны. Даром, что ли, Зыкина поет дифирамбы Язову, что он, мол, и Лермонтова наизусть в лицах читает, и сам, видите ли, поэт…
Все они – поэты… в одних бардаках поены, в одних баньках мыты-парены.
Значит, борьба будет тихая и долгая, на сколько хватит им здоровья. А им его хватит. Это мы скорее сдохнем в бессильных попытках что-то сдвинуть.
Значит так. Когда в Москве народ – народ! нар-р-р-рёд, черт возьми! – делал ту августовскую революцию, – чем занимались остальные? Те, что не нар-р-рёд? Те, которых большинство? Ибо под танками крутились и попадали под гусеницы все-таки, в основном, пацаны, да те, кому делать ночью нечего.
Нар-р-р-ёд себе работал. И я – работал. Я в ту ночь не спал, летел в небе. И народ не спал – в цехах, в ночную смену. И народ же просто – спал после работы. По всей стране.
Это к вопросу о том, что лет через пяток – как бы новые историки, всплывшие на пене, пиша новую историю КПСС, или ГКЧП, или еще черт знает чью новейшую историю, – как бы они, родимые, не оболванили нас истиной, что нар-р-рёд спас Белый дом, нар-р-рёд остановил танки, и т.п.
Народ знать ничего не знал.
Но через несколько дней, когда кому-то взбрела идейка поощрить медиков, помогавших защищать тот Белый дом, а именно: повысить их, фигурально выражаясь, в классе, – короче, ощутимо материально, – на следующий день после объявления с утра ломилась толпа врачей-бутербродников – сотни и тысячи. Мы! Пахали! Мы защищали! Нас поощрите! Меня, меня! Мне! – и до драки…
Вот ваш нар-р-рёд. Их на деле-то было десяток, да и до дела-то не дошло. Но – выгода, мелкая, ма-асковская, бутербродная… а уж известно, что москвич за копейку зайца в поле на четвереньках догонит… не моя поговорка, слышал не раз.
И этот народ делал революцию?
А весь Советский Союз?
Вот так же и в 17-м году нар-р-рёд сверг буржуев. Знаем мы этот народ.
Народ безмолвствует. А когда унюхает, откуда пирогами пахнет, туда и кинется.
Все делает кучка заинтересованных лиц.
А мы молча пашем. Ослы.
Мне ли было до той революции, когда сверхпродленная саннорма и забота буквально о хлебе насущном. Та революция меня этой зимой не накормит.
А почти ничего не производящая, паразитирующая на стране Москва бродит оттого, что жрать-то хочется, а в мутной воде, среди идеек, среди информации, глядишь – ухватит свой бутерброд.
Они, москвичи, петербуржцы, столичные баловни, может, годик всего-то и поголодали… если назвать голодом мясо в магазинах по 7 р., сахар по прописке всем, да хлеб любой всегда, и кылба-аса-то, са-асисчки га-аряченькие тож. Это что ли – голод? Бананасов им… А нам – зла не хватает.
Видели бы они красноярское картофельное действо. Видели бы они, как миллионный город, все как один, пролетарии и профессора, во вторую неделю сентября, хворые, здоровые, старики и подростки, на автобусах, на любой ценой доведенных до рабочего состояния к этому, скупо отпущенному природой погожему дню личных машинах, с прицепами и без, с утра пораньше, с вилами на плече, сплошными потоками транспорта, на все четыре стороны – и по окрестным полям!
Это вам не в колхоз. Этот день – год кормит. А вечером какая пыль и дым над городом, и рев тяжелых грузовиков, и толпы народу у гаражей, и мешки, мешки, мешки…
А кто не успел – изворачивается на неделе. А потом зарядят дожди.
Вам, зажравшимся, с холеными, румяными щеками, с тщательно лелеемыми прыщиками, вам – р-р-революционерам, этого не понять. А это тот самый русский народ добывает себе горбом пропитание. Будет картошка – будем жить. Без всяких революций. Это Сибирь. Земли полно. И не надо нам ни белых домов, ни черных, ни коммунистов, ни демократов. А надо нам в меру солнышка и в меру дождичка.
Я видел у человека лопату в специально пошитом чехле. Ну, как партбилет в обложке. Кормилица.
Так что, пока вы там паровозы оставляли, идя на баррикады, мы себе копали картошку. Или грибы собирали. Вкалывали.
Вот поэтому мне Сибирь нравится больше Европы. Народ здесь лучше. Здесь никакого вашего плюрализьма: когда копаешь картошку, то видно, что это – единый порыв единого народа: выжить.
Прошла революция. Или там путч. Ну, как гром прогремел, и все. Что-то игрушечное. Была сто лет партия – и рассыпалась. И что изменилось в моей жизни? На моем рабочем месте? Да ничего.
24.09. Голодная Москва митингует. Возбужденный до предела, с ног до головы обполитизированный, потерявший в этом всякое чувство меры бутербродник хватается за грудки. Какие-то глистоподобные мальчики раздают свои «Искры», из которых ничего, кроме вони, не возгорается. За мэра… против мэра…
В Санктъ-Петербурге произросло 60 000 казаков. Откуда? Ну прям как в той песне: «Еврейское козачество возстало, в Биробиджане ой, был переворот…»
Армения отделяется; все – за. И я – за. Только уж без дураков. По мировым ценам, за валюту. Три года назад я говорил, что отделятся прибалты и армяне. Скатертью дорога.
И Грузия граждански воюет. Пусть повоюет себе.
И вообще, раз в газетах пишут, что не допускать развала Союза, значит – гори оно все синим огнем; скорее бы Россия осталась одна.
Украина вон тоже: сама себе суверенная, а как дошло до крепежного леса, что всю жизнь везли им с Дальнего Востока, так шахты встали… и электростанции… и пошло.
Рубите лес в Карпатах. «Україно, ненька рiдна, ми вiльнi!» – вот вам воля. На халяву воли не бывает.
Рушить надо это единое экономическое пространство. Чтоб лес не возить через все это пространство. А потом деловые люди утрясут все. Не надо только докапываться, честным ли трудом добыт их капитал. У нас у всех все краденое. А добиваются честности те шариковы, кто сам не мог, завидовал, а теперь не терпится отнять и разделить, урвать и пропить.
Мой отпуск золотой осенью продолжается. Грибов наготовили. Гараж разгреб. Шея побаливает, каждое утро делаю «гимнастику для хвоста», разминаю шею и спину. Утром еле разгибаюсь, но насильно заставляю себя двигаться.
На днях встретились с Лешей Бабаевым, распили бутылочку. Он бы мог еще пару лет полетать. А сейчас скучает один. Ну, полетали за столом.
А я как подумаю, что через месяц снова в самолет… Но пока еще впереди месяц отдыха, на даче дел невпроворот; убухаюсь так, что самому захочется отдохнуть за штурвалом.
Намечается новая дача. Вроде бы десять соток земли, как раз то, что мне надо. Где только взять силы? Но Надя тоже желает, через не могу, через болячки, стиснув зубы. Новая, очередная задача в жизни.
25.09. Почему во главе национально-освободительных движений у нас на окраинах империи встали профессора?
Видимо, перед ними, интеллектуальной элитой общества, наиболее ясно встали противоречия между потенциалом Мастера и его фактически развеществленным большевиками нищенским существованием.
То, что открылось мне, пилоту лайнера, три года назад, они наблюдали с 50-х годов. Они ездили за рубеж, общались, и т.д. Им и тогда очевидно было. А сейчас – напрело.
А летчики наши тоже летали за рубеж, и моряки хаживали. Да только мы были в еще более жестких замполитских тисках Системы, где шаг влево, шаг вправо – расстрел, т.е. отлучение от неба.
Профессора не лишишь диплома, и его работа – мозгами и языком. А у летчиков дважды женатому путь за рубеж закрыт. Изменив жене – изменишь Родине. И наш брат ударился в фарцу. Да и интеллект у профессора несколько повыше, особенно когда читаешь незамысловатые летчицкие мемуары. Поэтому наш брат ограничился красивыми бусами, зеркальцами и иголками цивилизованного Запада, купленными за сэкономленную на своей прихваченной картошке валюту.
Если из пилотов в политике кое-кто и достиг успеха, как, к примеру, Раджив Ганди, то и летал он скорее из прихоти. А мы себе шлифовали беззаветную преданность идеям и готовность по первому прыказу – упырёд.
Как тут Горбачев шипел на Литву: профессссорский заговоррр…
Но и другой полюс. Глядя на Грузию и ее президента… Тоже вроде профессор, но ума у него поменьше.
Погода в крае стоит такая, что еще не везде убрали на силос кукурузно-подсолнечную смесь: не было заморозков, и агрономы, рискуя, выжимают небывалый урожай зеленой массы. Раньше косили к 25 августа, а тут на месяц позже – уже початки созрели (бедный Хрущев…), у подсолнуха головы повисли.
И если при таком урожае не будет молока и мяса…
Не знаю, как где, а наш край себя всем обеспечил. Все у нас есть: и уголь, и нефть, и энергия, и золото, и алмазы, и лес, и рыба. И хлеб, и картошка, и всякая овощь, и земля, и вода, и заводы. И народ еще не совсем спился. Жить бы да жить.
Для наших шахт лес издалека возить не надо. За нашу проклятую норильскую медь и никель можно покупать сталь. Да и не в этом дело. Дело в коммунизме. Коммунизм сидит в нас всех.
«От каждого по способности» – глупее лозунга нет. Это противоестественно. Даже на даче я работаю не по способности, а пока не кончу конкретное дело, не разгибаясь. Надо. Жизнь заставляет.
Ну, и «каждому по потребности». Лозунг шариковых. Нет уж, каждому – по его труду, по конечному результату, по пользе.
Но тогда надо перестать кормить партийных работничков. А им до ноября еще идет зарплата. Когда нужна расплата.
Как они завопили: «Только не охота на ведьм!» Отрыгивается им 37-й год, завертелись. А ведь они и их сторонники – это 20-30 миллионов потенциальных врагов, пока не издохнут, будут тормозить, саботировать.
Моя бы воля – всех, кто в кабинетах парткомов сиживал, отстранить, дать в руки серп и молот и не допускать к принятию решений. Даже лояльных, даже тех, кто пристроился к перестройке. Как бы они ни твердили, что среди них много честных людей и т.п. Они не способны мыслить иначе, чем по-советски.
Честный человек в партийный кабинет не сядет. Честный человек комсомольским богом не будет, задницу лизать и яйца на поворотах заносить партийному боссу не станет. Все они – приспособленцы, бесталанные работники, захребетники, посредственности, которых жизнь забросила пеной наверх.
Поэтому пусть даже мы потеряем эту «честную» часть, пусть общества убудет на их «потенциал», но – всех отстранить и забыть само слово коммунизм. Ибо в нем – притягательная, бездельная и безответственная, хапужническая и халявская зараза. Преследовать их не надо, но заставить работать – простыми исполнителями. А рискуют и принимают решения пусть деловые люди.
Так их и в деловой мир просочилось видимо-невидимо. Не отделишь.
Политика, политика… эх ты, летчик.
26.09.Вчера вечером, в сумерках, ехал с дачи, заехал на гору, и такая вокруг была золотая красота, такой покой, такая умиротворенность, что залюбовался задремавшей природой и сквозь подступившие слезы подумал: «Господи, слава тебе, что даешь возможность наслаждаться простой радостью бытия. Годы еще не старые, работа есть, болячки еще терпимы, семья нормальная, проблем особых еще нет. Это же лучшие годы жизни!»
Сколько раз уже я себе так говорил: «это же лучшие годы жизни». Оборачивается так, что много, много было лучших лет жизни, грех обижаться. Слава тебе, Господи.
Умиротворенность. Надя сказала бы: блаженненький.
Страна развалена. Булгаковская разруха быта, политический распад, угроза голодной и холодной зимы, экстремизм и преступность, разброд и неверие, безразличие и бесчеловечность кругом. А я блаженствую. И уж отнюдь не мучаюсь комплексом, как жить дальше.
Пошли они все, козлы. Завтра еду за опятами. Сегодня пришел из баньки: день отдыха. А там оно как-то образуется. Без меня образуется. Я отпахал, и на зиму обеспечен. Голода у меня не будет.
И холода не будет: есть рефлекторы и теплорадиаторы. Есть, на худой конец, две буржуйки. Нет – сложу в доме печь, выведу трубу в окно. Кирпича наворую, лесу кругом хватит. Еще другому сложу печь – за сало. Я – умею.
Я умею многое и поэтому в этой разрухе – выживу. Инструмент есть, запасся.
Пусть тревога мучает тех, кто привык всю жизнь за чужой спиной или за счет обмана. Кто умеет достать, выбить, выманить, выпросить. Кто не умеет руками. Пусть их мучает комплекс; я же сплю спокойно. Вот – истоки моего блаженства.
Большевики больше всех воровали, руками водили; они же больше всех и орут о голоде и холоде. Так поди же попляши. Поделом.
Я ехал с Украины в Сибирь добровольно: себя испытать. Я готовился к суровой жизни, выработал в себе какой-то аскетизм, и хоть и ленив от природы, но все же сам себя многому научил. А теперь мне здесь ничего не страшно. Я руками при нужде сделаю себе и дом, и верстак, и печку, и балалайку.
Но лучше всего я все-таки умею пилотировать самолет. Пока здоровье есть, это мой основной кусок хлеба. Так зачем тревожиться напрасно. Нервы мне, блаженненькому, нужны для дела.
30.09. Голодновато. По понедельникам в магазинах хлеб да соль. За молоком очереди. Яиц нет. Сегодня раздобыл ливерную колбасу 3-го сорта. Кот не ест. Я ем. Ну, допустим, с детства люблю ливерную колбасу; я не избалован: пирожки с ливером, бычки в томате были изысканным лакомством, а сыр… ну, сыр я пробовал пару раз только по великим праздникам. Так тогда же ливер был съедобный, вкусный, печеночный, а сейчас… ухо-горло-нос, сиська-писька-хвост; и кот не ест, а я – по инерции…
На Украине нет авиатоплива. Суверенитет! Как летать на Львов, на Одессу? И летать ли? По мне, гори они синим огнем; Россия велика.
В Хатанге упал Ан-12, военный. Не долетел 200 метров до торца, говорят, полная выработка топлива. Штурман погиб. Ну, разберутся.
1.10. Октябрь уж наступил.
С утра мотнул по магазинам, добыл мяса и колбасы – 5 кг на 100 р. Своя игра; мясо – вырезка. Сахара нет, яиц нет, жиров нет. Но потихоньку в коопторге появляются: перец, гранаты, помидоры, икра, красная рыба, – зачем в Камчатку летать. Цены очень высокие, но для меня пока приемлемы. А вот со сладким беда: добираем запасы сгущенки, что годами копилась в холодильниках, спасибо нищим инвалидам-родителям, что присылали… а теперь на Украине суверенитет. У них мясо пока не по 20, а по 7 рублей, и аж два вида колбасы. И шахтеры еще бастуют. Зажрались.
Съездил, получил свои десять соток земли под виллу. В исключительно живописном и тихом месте, но, правда, от асфальта – 4 км лесной дороги… авторалли. Как там строить, из чего строить, как доставлять – ума пока не приложу. Но земля – чернозем, хоть сейчас паши и сажай.
Ну, надежда на то, что наше начальство тоже там, выбрало себе лучшие куски, а значит, дорогу сделают, электричество проведут, скважину пробьют, колодец я сам выкопаю в низинке перед домом. Было бы здоровье.
А воздух там…
В общем, жить и жить. Дел куча.
2.10. Вам слишком долго говорили неправду. Так вот вам вся правда: золотой запас Союза всего 240 тонн. Три вагона. Все наши деньги – простые бумажки, ничем не обеспеченные. Золото пропили большевики.
Союз уже не существует. Закон о пенсиях оказался мифом. А Россия – первая среди нищих. Как жить дальше?
Кто будет кормить меня через три года? Кормить, обдуренного пропагандой, обманутого ложными посулами отдавшего здоровье за миф. Работать никто не хочет; все хотят посредничать и с этого иметь.
Не на кого надеяться, только на себя и на свои руки.
А на кого надеяться миллионам москвичей?
Никак оно не образуется. Никак.
Рушится Союз. Рушится Россия. Завтра отделятся от нее татаре и башкирцы, калмыки и горцы, вогулы и остяки.
Но как мы жили, так и жить будем.
Русский человек всегда кормился от земли; так он и будет кормиться.
Через пару лет, возможно, прекратится добыча нефти, автомобиль станет не нужен. Прекратится добыча угля, не станет электричества, да и ГЭС долго при таких порядках не проработает, откроют заслонки и спустят водохранилище, и Енисей оживет и зарыбится вновь.
Да еще сорок-пятьдесят лет назад здесь, в Красноярске и вокруг, жили без угля и электричества, керосин только в лампах жгли по праздникам, но жили же!
Вот так и мы будем привыкать. Как, к примеру, на даче: свет вырубили, угля нет, а дрова в печке трещат, вода в колодце есть, остальное все добывается тоже руками.
Вполне разумно было бы сейчас потихоньку запасти бочечку-другую того же керосина, и ламповых стекол тоже. Не станет электролампочек – чем освещать дом? А бочки надолго хватит…
Дикость. Но, вероятно, может быть еще хуже. Может наступить полная анархия, и отребье станет сбиваться в стаи. Надо искать оружие. Не ждать от дяди из НКВД порядка – его не будет; не бояться законов – их нет, как уже и нет государства, – а искать оружие и боеприпасы. Будет опять закон сильного. А стрелять у нас в семье умеют все, и неплохо. Понадобится, может быть, добыть того же зверя Попасть. Или же попасть во врага, чуть раньше, чем он в тебя. Допустим, если застанешь его грабящим твое поле, оставляющим твою семью умирать от голода.
Тут уже не о пенсии речь. Выживет хитрый, ловкий, умелый, сильный, здоровый, не обремененный моралью и совестью, безжалостный.
Так же и в бизнесе: те же самые законы.
Жизнеспособные вовремя подсуетились, набрали по 12 холодильников; теперь это валюта. А я летал, зарабатывал мифическую пенсию. И теперь вынужден буду держаться за штурвал до могилы, пока эти деревянные деньги хоть что-то дают. Но вряд ли нам еще повысят зарплату. А инфляция идет вверх.
Уйди я с летной работы – через два года меня на земле никуда не возьмут. Таких будет хоть отбавляй.
Там, наверху, все рушится. Уже разрушилось. Вчера. Уже собраны чемоданы, уже переведена за границу валюта, вырученная за золотой запас. И пускай они не врут нам – есть, есть у них вклады в швейцарских банках. Власть хоть уже и вырвалась из рук, но еще кончиками ногтей держатся. Уже все пропито, растранжирено, роздано дружкам. Крысы уже сбежали, корабль до палубы уже полон воды, еще немного – и последний водоворот… но эти – в надежной лодке.
Подождем еще?
Все же велика Россия, полна сырья; ну не все же поставляется с Украины, Армении или Прибалтики. Местная промышленность будет работать. Нужны промышленники, хозяева, буржуи, люди, решающие дело. Думаю, за год, за два сама жизнь их выдвинет. Дальше некуда. Страна дошла.
Нужны ли еще голод и холод нынешней зимы? Чтобы уж до конца обнажить? Может, оно и так. Но народу все равно достаточно будет лишь найти виноватого и разорвать на площади, а те, кто за кулисами тормозят, останутся в тени.
И все равно, полно еще дурачков, которые не могут поступиться принципами. И все разжигают и расшуровывают топку нашего пресловутого паровоза, когда и так ясно: да в коммунизме уже мы. На дне. Приехали.
3.10. На даче. Не торопясь полдня колотил штакетник; завтра доделаю ворота – и новый забор готов. С утра донимала поясница, но размял.
Вечер. Приготовил нехитрый ужин, дернул две стопки перцовки – и счастлив. Тишина…
Трещит камин. Действо. Покой.
4.10. Кто заинтересован в том, чтобы напугать, встревожить и озлобить народ, расшевелить в нем дремучее, – народ, от которого сейчас ничего не зависит? Народ, которому долбят одно: надо работать.
Почему нас все время пугают: то разрушением связей, то анархией и бунтом, то кооперативами и рынком, вообще хаосом, который обязательно должен наступить?
И доходят ли эти страхи до русского мужика в глухой таежной деревеньке?
Да все это потому, что рушатся их теплые городские места. Рушится их жизнь и благополучие. А моя жизнь не рушится, и в той деревеньке – тоже нет. Мы работали и работаем. Так было всегда. А они никогда толком, производительно, не работали, ибо партийная и вообще административная работа при социалистическом реализме непродуктивна, скорее – только ритуал. Но ритуал, развративший настоящего работника, ритуал, дававший кусок белого хлеба с икрой функционеру.
Так не надо бояться. Не погибнет ни народ наш, ни республики не погибнут. Переболеют – да, но не погибнут. Живут же в мире какие-то Гана, Того, Лесото, Кот-д’Ивуар, наконец. А той Ганы… да Мотыгинский район больше.
Да не может же быть такого, чтобы двухсотмиллионный русский народ, на одной шестой части планеты, народ, имеющий героическую историю, купающийся в природных богатствах, тонущий в лесах, за одну миллионную часть которых та же Гана купалась бы в роскоши, имеющий в недрах всю таблицу Менделеева, да земли, да реки, да Байкал… и пропасть, раствориться… Не поверю никогда.
Большевизм в нашей истории – секунда. Ну… чихнул за рулем, врезался в дерево, помял крыло. Выправим и покатим дальше.
Без сахара проживем год, два. Но ведь на Белгородщине, возле моего Волчанска, как сажали буряк, так и будут сажать. Куда его девать? Будет, будет сахар, утрясется.
Все дело в том, что сажали-то крепостные, с расчетом псов стародубцевых на то, что с завода и института пригонят крепостных на уборку. Летчиков пригонят.
А теперь никто не придет. Придется поголодать; потом через заросшую паутиной задницу должно дойти, что надо выгнать поганых псов, взять свою землю и сажать столько, сколько сам сможешь убрать, либо найми батрака, да прежде еще найди его и уговори. Частная собственность и рынок. Сам будешь сыт и страну накормишь.
Если Левандовский с Медведевым закупят на корню всю красноярскую авиацию и организуют частную капиталистическую авиакомпанию «Левандовский, Медведев и К;», я согласен у них летать. Договоримся.
Но там же крутиться надо, а здесь – только крантики открывай и за веревочки дергай. Там – конкуренция и страх прогореть, а здесь – партийная ответственность. Вот почему Шенин – гекачепист и пугает нас разрушением связей и анархией.
Я об одном мечтаю. Чтоб был у каждого кусок земли, огороженный забором с надписью «Моё», и чтобы никто не мог без моего разрешения переступить его границу. А если переступит, чтобы я бы мог его пристрелить на месте, и закон чтобы был на моей стороне.
Ну-у, скажут большевики, отгородимся в своих крепостях, а как же коммуналка? А строем, с песней, в ногу?
Надо будет – договоримся. Заставит жизнь – пойдем в ногу. Но коммун, коммуналок и казарм не должно быть на земле. Личность должна принадлежать себе, а не строю. А захотим – соберемся и будем хором петь. Но – на сытый желудок, сложив на коленях натруженные на своем поле руки.
А пока мы голодаем, потому что не с чего кормиться. А депутаты наши, большевики, всё в парламентах болтают о чем попало, только не о главном. Боятся. А сами тем временем добывают себе блага, квартиры, машины, дачи, пенсии, деток устраивают в престижные институты, чтоб за границу ухряли и жили там, мучились, вдали от родины.
В пионерах тягостнее всего было стоять на линейке и, глядя товарищам в глаза, петь «в борьбе создавали, и Ленин, и Сталин, отечество наше для нас». В большевиках – то же самое: тягостно было на партконференциях петь «Интернационал», про последний и решительный бой, и, глядя в глаза стоящим в презюдиуме, думать: неужели вот они так истово и безоглядно верят? А те раскрывали рты, глядя сквозь меня оловянными глазами, а потом, после боя, ехали бардак с банькой и предавались там всем порокам, с чувством выполненного долга. Сволочи.
9.10. С содроганием думаю о предстоящих полетах: нигде нет топлива. Этот год будем мучиться с суверенными государствами, пока они не перейдут на мировые цены. Пока же на Одессу рейс доходит до Донецка, и сами командиры кораблей, созвонившись с Одессой и убедившись, что топлива нет и не будет, молча разворачиваются, благо, со своим самолетом, без эстафеты, и летят себе назад. И то, с нарушениями: заливают заначку еще дома, добавляют в Казани… короче, как моя прошлогодняя Алма-Ата.
Это – не работа. И надо добиваться гарантированной зарплаты, хотя бы тысячи полторы. Тогда можно и загорать в гостиницах в ожидании того топлива. Летчик спит, а деньги идут.
Если уж в Домодедове пассажиры выскочили на полосу, а в АДП чуть не разорвали диспетчеров, то дальше некуда. Кругом бунты: водочные, сахарные, пассажирские…
Так что – с содроганием…
Но еще десять дней жизни впереди. Как быстро промелькнул этот отпуск.
Оно оборачивается так, что надо бы и Руководство открыть, хоть глазами пробежать, а то ведь можно и забыть, от чего кормишься. Не лезть в дебри, а так, нормальную эксплуатацию, и особые случаи. Для себя.
17.10. По радио интервью с деловым человеком, миллионером. Доктор наук, профессор, был крупным руководителем (читай, директором завода), но решил основать свое дело: брокерская фирма с компьютерной начинкой. Взял кредит – дали под его респектабельное реноме, – деньги в оборот, пошла прибыль, и т.д.
Он дал рабочие места 15 тысячам человек. Он делает какое-то полезное дело, помогает людям торговать, чтобы не бегали и не искали покупатели производителей и наоборот. Он – свободный человек. Надо полагать, вот такие и вытащат страну из дерьма.
Под мое реноме никто кредитов не даст. Поэтому следует ожидать, что страну вытащат более респектабельные люди. А я обречен продавать свой труд и всегда буду зависеть от хозяина, ибо – безынициативен. Я – исполнитель. Моя инициатива не распространяется дальше строительства собственного дома, да и то: как где чего по мелочи украсть, раз нет денег. Найди-ка еще стройматериалы, транспорт, грузчиков, и т.д. Да и денег таких нет, а только на брус надо единовременно 10 тысяч. И цены вот-вот подскочат, и началась гонка за призраком.
Надя недовольна. И место не то, лес, нет людей и пр., и проект не то… все не то.
Ну, а если мы не можем договориться, то нет и смысла затевать. Цены тем временем уйдут. Ладно, хоть будем сажать там картошку.
А если бы не раздумывать, а немедленно добыть денег и вложить их в дом, то через десять лет он окупился бы вдесятеро. Народ все равно побежит из города.
20.10. Последние дни отпуска прошли в прожектерстве. Рассмотрены несколько проектов дома, естественно, моего исполнения. В дереве, кирпиче, из шлакобетонных пустотелых блоков.
И прихожу к выводу. Через месяц-два, скорее всего, с нового года, Ельцин обещает отпустить цены. Естественно, они подскочат, и в первую очередь, не на молоко. Стройматериалы и сейчас дефицит, и строиться может позволить себе очень состоятельный человек, либо вор, с приличным заработком, связями и техникой в руках, т.е., в большинстве своем, начальство высокого ранга. А те, кто берется за производство стройматериалов, озолотятся.
Так вот: достаточно ли я состоятельный человек, чтобы построить себе дом?
Да я нищий. И сейчас-то мы едва наскребем тысяч пять-семь, а оно оборачивается в ближайший год десятками тысяч. Нет, вряд ли потянем.
Если не поймать до зимы стройматериал, то дохлый номер.
Союз рассыпался. Безвластие. Гражданские войнишки местного значения. Беженцы. Интересно, куда придется бежать из Сибири. Каждая суверенная тянет лоскутное одеяло на себя, и уже разодрали на клочки. Из газет: развал Союза для России – трагедия, для республик – гибель. Даже Украина не продержится. Ее зерно и сало никому не нужны, уголь кончается, дышать и так нечем, а закрой заводы – всё.
Ельцин судорожно гребет под себя остатки одеяла: за Россию боится, что не сдюжит и она. Но все же есть надежда.
Для России времена тяжкие; жить, видимо, будем нищенски.
Я вижу один путь: только раздел. И то: Россия останется одна, а у самой татаре с якутами и мордвой – опять раздел. Но все же, продрав на живом теле дыру и выбросив всех желающих самостийности и суверенитета, как тот же Северный Кавказ (на хрен бы он нам, русским, сдался), все же хватит и территории, и людей, и богатств.
Наши богатства – не золото и алмазы: их всю жизнь большевики пропивали. Наши богатства – земля, леса, чистая вода, нефть, уголь, руды. Ну а люди… что ж, с такими людьми можно выжить. Русскому человеку надо видеть перспективу, надо дать ему свободу, мечту.
Дай ему землю – он вспашет; дай еще – еще вспашет, и еще кусок прихватит, просто так, пригодится. Тут – душа, тут есть нечто, непонятное расчетливому европейцу. Вот наш потенциал.
Я на сибиряков смотрю, кто не знал крепостного права, разве только под большевиками. Крепко жил народ. И оживет еще. И мороз не страшен.
21.10. День прекрасный, самое время на дачу, но… началось содрогание. С утра квартальный медосмотр, потом поеду в контору. Надо собирать экипаж.
22.10. Профсоюз заявляет, что вроде бы, по слухам, с июля 92 года летчикам, имеющим льготный стаж 40 и более лет, пенсия будет, вроде бы, независимо от среднего заработка, 750 р. Но это все – вроде бы, слухи. И что такое 750 р. летом 92 года?
А Серега Пиляев уверенно строит себе в Енисейске двухэтажный дом. Мотоблок купил, «Нива» у него; руки все в мозолях.
Люди думают о будущем. И пенсия тут лишь подмога: на кусок хлеба, сахар, курево, спички.
Завтра с утра в резерв, на тренажер… Началась осенне-зимняя навигация.
28.10. Сразу после отпуска – четыре ночи подряд. Чтоб жизнь медом не казалась. Почти каждая машина – кроссворд и ребус. То одно, то другое.
Хуже стало добираться на работу: тяжело с автобусами, очереди, драки у входной двери… Все как и было, и все хуже и хуже, и начальство хмуро обнадеживает, что лучшего и не ждите, лучше уже было.
Власть в стране перешла к дерьмократам, они ничуть не лучше большевиков и все заняты обустройством жоп в креслах. А в моей жизни, в жизни народа, так ничего и не изменилось. Только поубавилось надежд и здоровья.
Вчера вот белили кухню, красили, надышался; с 4-х утра потихоньку задыхаюсь, пью лекарство, – но собираюсь лететь в Самару на завод, перегонять новую машину. Если все нормально, то к ночи облетаем, перегоним ее в Курумоч, станем в план, найдем загрузку и к утру, даст бог, отмучившись сутки на ногах, вылетим домой. А там выстоим полтора часа в ожидании автобуса и… см. запись пяти- или семилетней давности «после бессонной ночи…»
Ничего не меняется в жизни. Идет развал всего, все шныряют, тащат куски, пир во время чумы в разгаре, а у нас ничего не меняется.
Народ не знает, что ему делать и как быть, сто миллионов взрослых людей – каждый в отдельности – не знают, не видят перспектив и опустили руки. Единицы – ну, несколько тысяч, – рвут, пока есть что.
Это страшно. Нужна цель и нужен вдохновитель; но я сомневаюсь, что народ хоть кому теперь поверит. Изверились.
29.10. Вычитал мысль, которая уже и так давно крутится в мозгах и просится в формулировку. А именно: пытаться отдать или продать предприятие в собственность кулюфтиву рабочих – это запрягать в одну телегу тупого рабочего коня и трепетную лань выстраданной частной собственности. То есть, смешивать обычный т.н. капитализм с самым оголтелым марксистско-профсоюзным опчим социализмом. Не выйдет. Опчее – оно и есть опчее, ничье, и рабочему на не свое – плевать, у него никогда не будет болеть голова за нюансы, которыми нынче как раз и движется дело.
Я был всегда (а сейчас твердокаменно) уверен: рабочему надо то-то и то-то, и много, и – от сих до сих. И бутылку. Какой с него владелец. Да никакой.
Владелец должен быть творцом, мозгом, идеей, жить делом, ну, и использовать рабочего. Ис-поль-зо-вать. А кулюфтив тех, кого используют, ну, летчиков, к примеру, – это рабочее тело, гидросмесь. Без нас в авиации не обойтись, верно. Но и только. Мне некогда, да и плевать на то, кто, как и за какие веревочки тянет, где и что добывает, чтобы обеспечить мой полет, за который мне надо заработать много денег. И всё.
Слетал вчера за машиной, получил, пригнал. Это наша новая 702-я, уже немного полетала, облезла вся; рекламация, погнали на перекраску; и вот я ее, перекрашенную, обратно пригнал домой. Мое какое дело: поскорее пригнать, ибо сегодня у меня ночная Москва пропадает, т.е. налет, т.е. деньги. Вот и весь мой интерес. И когда б это я еще думал, как и куда воткнуть ту 702-ю, чтоб был меньше простой и убытки, и т.п. Я тут – гидросмесь, рабочий, исполнитель, ездовой пес. Да, пес. Тягло. И я этим удовлетворен, такая у меня профессия. А уж в пределах ее рамок, в небе, в полете, я – творец.
Но гораздо больший творец я – на даче. Там я – собственник, там идеи, там фантазия, там душа болит и по ночам не спится.
Гляжу на творчество людей на дачах: какие дома, какой полет мечты, какая инициатива, пробивная сила, труд, фантазия, сколько вложено средств и души, – гляжу и думаю: нет, шалишь, жива Россия, жив народ! Только волю ему дай и дай «мне, мое, много, навсегда!» – и все устроится. Не дураки мы, и не разучили нас коммунисты творить и работать. Рушится не народ, рушится империя, туда ей и дорога.
Осень нынче затяжная. То чуть приморозит, то снова тепло и сыро. Клевер цвел в октябре, и маслята поздние пошли. Но ничего не сделаешь против природы: грядут морозы, и как ни крутись, а утепляйся, набивай закрома, надевай шубу. Мороз сибирский – здоровый мороз, он все равно наступит. И тараканы вымерзнут. Но мы выдюжим.
© Copyright: Василий Ершов, 2010
Свидетельство о публикации №21008110283
Летные дневники. Часть 6
Василий Ершов
1991-1992 г.г. Конец СССР. 30.10. 91. Выйдя из отпуска, я за неделю спал две ночи, из них одну дома, а пять провел в полете, причем, четыре из них – подряд, и сегодня вот только проснулся после шестой. Ну, заработал около тысячи деревянных, что в пересчете на валюту составит 20 долларов. На эти доллары я ничего не могу купить, и дома жрать просто нечего. Поглядываю на с трудом добытый, окольными путями, из закрытого Красноярска-26, кошачий минтай; ну только что кота сожрать осталось. Из суверенной Украины старики-родители с трудом прислали посылку яблок; едим яблоки. Вчера в домодедовском аэровокзале шел мимо бесконечного ряда кооперативных ларьков и не давал себе завидовать, и глушил холодную злость. За эти мои шесть бессонных ночей, за идеальную, невесомую вчерашнюю посадку, за полторы тысячи перевезенных пассажиров, я не смогу приобрести даже захудалые кеды, грудой лежащие на прилавке. Ну, бутылку-другую фальшивого коньяка «Наполеон». Пейте вы его сами, а я буду жрать свою, политую своим потом между двумя бессонными ночами картошку. Вот к чему пришло первое в мире социалистическое государство, под серпом и молотом. Вот плод великих идей. Вот светлое будущее наших дедов. Ради нас, счастливых потомков. А Ельцин говорит, что только полгода потерпите, а там… А там слетит и Ельцин, и Горбачев, и дерьмократы. Это будет ровно семь лет их перестройке. А я как бороздил, так и бороздю, борозжу, рассекаю просторы. За так. За романтику полета. И опять тысячи и тысячи строителей коммунизма за спиной… куда их черти только носят. Я их перевез уже миллион. Хоть бы для дела, а то ведь так, кто на курорты, кто фарца, кто артисты, спортсмены, солдаты… Кто только производит продукт? Для чего мой труд, избитые чуть не до дыр лайнеры, море топлива, – какая от этого реальная, материальная польза? Но я все летаю. Как и десять, и двадцать лет назад. И за моей спиной блаженно потягивает коньяк сытый и наглый торгаш, не производящий никакого продукта. Потом он заберет моих проводниц и укатит на машине, а я буду мерзнуть в последних холодных ботинках в ожидании автобуса, молча, зло лезть в двери, отпихивая женщин и огрызаясь, слушая дикие вопли моих же пассажиров, вкушающих в дверях автобуса остатки нашего ненавязчивого сервиса. А дома брошу пачку-другую в ящик, чтобы через неделю убедиться, что деньги ушли, как вода в песок. Иди, иди, Вася, в баньку. Успокойся, прогрей косточки. Съешь яблочко и иди. Завтра с утра в Одессу-маму. За песнями. 4.10. От бани до бани. Намерзся в ожидании автобусов, закашлял. Два дня назад, вернувшись из Одессы, стоял-стоял в очереди, автобусов все не было, замерз, плюнул и пошел себе спать в профилакторий, ибо, даже дождавшись того автобуса, даже влезши по головам и грудным младенцам, – пока обилетят, да пока доедешь, домой, а с автовокзала добираться только на такси, а они не шибко-то берут нашего брата, зато дерут тройной тариф… А ноги… ноги задубели так уже, что в профилактории, где чудом оказалась теплая вода, со стоном подсовывал их под кран и не чувствовал ожога, только боль. А утром, покашливая, на служебном – домой, а там Надя ждет со скандалом… ну, обошлось. План такой, что с 22 по 6-е – без выходных и голимая ночь. Вчера смотались в Комсомольск, но, благодаря двухчасовой задержке, все же пару часов провалялись в профилактории и даже уснули. Домой добрался в сумерках и тянул длинный и сонный вечер, ловя косые взгляды жены, и, совсем уже без сил, все-таки исполнил свой редкий супружеский долг. Пропади она пропадом, такая жизнь, но куда денешься. Деньги надо зарабатывать. Я не брокер. Саша Корсаков ушел в 50 лет на пенсию, долго высиживал место на тренажере, высидел, получил. Ехал на работу на своей машине, инсульт, упал на руль, вылетел на встречную полосу… Сейчас между жизнью и смертью в больнице, уже месяц. Я думаю, инсульт в 50 лет некоторым образом связан с нашими бессонными ночами. Сегодня ночная Москва с разворотом, и чтобы уснуть днем, а также в целях борьбы с начавшимся кашлем, собираюсь в баню с утра. Держал в руках свежеиспеченный контракт, который будем заключать с января, профсоюз привез из Москвы. Там насчет труда и отдыха сказано так. Предполетный отдых, как и послеполетный, равен двойному времени пребывания в рейсе. Т.е. перед Одессой – 48 часов и после нее столько же. И, кроме того, через каждые 7 дней нам обязаны дать 48 часов выходных. И получается: два дня выходных, потом два дня перед Одессой, да два дня после Одессы, – шесть дней. Что – один рейс в неделю? Оговорено еще: в оклад входит гарантированная оплата 80 процентов саннормы. А что выше саннормы – оплата отдельно, по какому-то там тарифу. Спи-отдыхай! Лечу я в Одессу дня четыре назад. В Донецке нет топлива; я лечу на «эмке», беру дома заначку, беру в Казани заначку и превышаю все допустимые веса на 4 тонны. Учу молодого второго пилота, как сажать самолет с превышением допустимой посадочной массы на 4 тонны, даю штурвал. И так же обратно. А согласно тому контракту будет так. Нет топлива – пошли в гостиницу. За 56 часов нам оплата гарантирована, а зимой больше и не налетывают. И гори оно синим огнем. Пока же – сплошные нарушения. Согласно контракту, доставка на работу и с работы – транспортом предприятия. А его нету. Тогда оплата за проезд на такси из дома в аэропорт и обратно по какому-то там тарифу. Но какой-то там тариф – это тариф, а таксист дерет 60 рэ с рыла. И оборачивается так, что контракт-то совковый, т.е. одна бумага. Хотя наш профсоюз и выбил условия, но их нет. Ну не будут же увеличивать втрое количество экипажей. Пилотов-то нет. Это домодедовцам, летающим на Ил-62 в месяц по 4-5 беспосадочных рейсов на Хабаровск и Камчатку, – вот им удобно. Это же железный план: один рейс в неделю, и – 48 часов до, 48 после. А у меня летом 20 посадок в месяц – норма, а если продленка – то доходит и до сорока посадок. 14 рейсов в месяц, иные с перерывом в 10-12 часов, да если чуть задержка, то и того меньше; рвешь налет… А откажешься (имеешь ведь право!) – все как снежный ком, план к черту. И так ведь задарма работаем, а дождись мы контракта – работать вообще не будем. На самолете, да в нашем бардаке, всегда можно найти сто причин отказаться от рейса, а денежки-то идут… Мы вам наработаем. Видимо, рушится все. Дай нам попробовать контракта, потом переиграй-ка назад: сразу забастовка. Это не наши заботы, что вы не можете обеспечить. Нам – дай; а уж в полете дадим мы. Ну, а раз обеспечить нельзя, то встанет отрасль. Может, молодежь еще будет рыпаться, но только не мы, старики. Мы – наелись. Вчера подняли нас на вылет, идем и мечтаем: чтоб колеса полопались, чтоб полоса треснула, чтоб… А фарца подождет, а мы поспим… Пришли на самолет: фарца-то… одни грудные младенцы на руках. Правда, сумки необъятные, забит весь салон. Слышу, проводница, вежливо так, объявляет по громкой связи: «Я же вас предупреждала, товарищи пассажиры, на входе еще: убирайте вещи, убирайте, ставьте их под сиденья. Убирайте, убирайте…» И после паузы: «Сволочи». Я ошалел. Потом дошло, что она сказала «с полочек». Но так вписывалось в контекст, что сразу не дошло. Ох как вписывалось. Зла не хватает: ну куда летят, зачем, какого черта рыщут по нашей нищей стране? И нам поспать не дают. Если бы сказать иностранцу, что билет до Москвы, за 3600 км, стоит… ну, три доллара… А что: 108 рублей – разве деньги? Надо поднимать тарифы. Во всем мире летают только состоятельные люди. А у нас – любой бич, пардон, строитель коммунизма. Мы захлебываемся в пассажирах – и мы нищие. Работаем – и задарма. И сдерживает рост тарифов – государство. Которого уже нет. Если цены на все возросли втрое-впятеро, то на авиабилеты – всего на 40 процентов. Не время сейчас летать. Не время преодолевать пространства гигантской нищей страны за куском мокрой московской колбасы. Надо сидеть на месте и производить, производить, изворачиваться в местных условиях, из местных ресурсов, пусть хоть лапти плести – но свои, но плести! Наш край отправляет брус на Украину за подсолнечное масло. Мы рубим кедр на брус, а кедровое масло в сто раз ценнее подсолнечного. Страна тысячу раз дураков. Проклятая богом и людьми, и уже разваливающаяся на дымящиеся ненавистью обломки. Страна пришла. Но это не Маркс и не Ленин виноваты, не-е-е. Это демократы и деструктивные элементы. И партии, партии, партийки… Но ты сам мечтал об этом. Переживи. А чтоб стресс не заводился – в баньку. И Васька не чешись. Две-три посадки удались утонченно. Вошел в колею. И Саня садит уверенно и мягко, хватка есть. Правда, вчера в Комсомольске он корячился на посадке: был сильный ветер, а заход по приводам: на таком лайнере чуть зевни – выскочишь из условной глиссады. Я не мешал, хоть и болтало; Валера едва успевал двигать газы туда-сюда из-за пляски скоростей. После ближнего машина шла чуть выше, отклонение носа вниз вызвало рост скорости; короче, над торцом мы оказались в довольно глупом положении: скорость 290, носом вниз, выше на 5 метров и вертикальная 5 м/сек. Малый газ… надо подхватывать; я это и сказал, Саня потащил штурвал, выбирая все ускорявшуюся просадку, – малый же газ стоит; порыв ветра утих, скорость тут же упала, и мы мягко плюхнулись за 20 м до знаков: ветерок-то встречный и хороший, метров 12-15. Присадило. Но – мягко, вовремя погасили вертикальную. В таких случаях надо все-таки идти пониже, к торцу ее, к торцу жать, на режиме; пусть будет скоростная посадка, на 260-270, но путевая скорость касания получится всего 220-210, зато управляемость гораздо лучше, чем вот так, по-вороньи, как упали мы. Но это все – нюансы. 5.11. Что-то у Сани повторяется подвешивание над торцом. Как болтанка, так не хватает внимания на глиссаду, и уходит выше. То ли он оставляет давящие усилия на штурвале, а когда отвлекается на пляску скоростей и курса, ослабляет давление, и машину тащит вверх. То ли просто не уделяет должного внимания глиссаде. Вчера – ну болтало, ну гуляло все, ну корячился… но подвесил. Режим 78, на точку выше глиссады, нос вниз, скорость 280, вертикальная 5 и торец под нами. Пришлось помочь ему подхватить: вяло выбирал просадку. Но сел мягко. Землю он видит, значит, летать будет. 250 часов уже есть. Вся черновая работа по выработке и твердому усвоению навыков молодым специалистом проводится в рядовом экипаже. Потом получившийся полуфабрикат берет инструктор, доводит до кондиции, выпускает самостоятельно и говорит, что он ввел в строй человека. Но не надо забывать про экипаж, который годы был семьей, в укладе которой варился тот человек. Где терпеливо и настойчиво воспитывали и нарабатывали профессионализм. Думаю, моя лепта тоже весома. Это мне очень повезло, что и вторым пилотом я летал с Солодуном, и вводил меня он же. Но учили меня летать многие, и им мое спасибо не меньше, чем Солодуну. 6.10. Возникла идея поставить в гараже небольшую печь. Гибрид буржуйки и каменного теплообогревающего щитка. За два дня я все приготовил, натаскал кирпича, частью с дачи, частью с крыш гаражей, где его валяется предостаточно, привез глины, песку, сочинил в полете чертеж, и сейчас, наконец, иду в гараж – ложить. Может, за день-два и сложу. 11.10. Сложил печку за два дня, спина поболела и прошла, а вот колено не на шутку перегрузил, и вот сижу с обычным своим бурситом, замотав ногу эластичным бинтом. С горечью убеждаюсь, что браться за серьезную стройку мне уже, увы, поздно. Если я перебросал всего-то 150 штук кирпича, завел три ведра раствора – и уже неработоспособен, буду неделю хромать (а надо ж еще немножко и летать), то какая там стройка. Все надо было делать вовремя. Ну ладно. Гараж теперь теплый, подлечу ногу, займусь машиной. Разберу и не спеша начну доводить вручную. Зима длинная. Слетали сегодня ночью в Москву. Нижний край около 100 м; зашел в автомате и сел, спокойно. Нас отправили в профилакторий на 2 часа, и мы, едва провалившись в сон, вынуждены были снова топать на вылет, в самом неработоспособном состоянии. Полдороги домой дремал я; от васюганской зоны чуть не до Ачинска провалился железный Витя, а мы с Сашей осуществляли за него комплексное самолетовождение. Сели за 15 минут до служебного автобуса, дождались трапа, я быстро подписал задание, бессовестно бросил экипаж с его послеполетными делами и таки дохромал до автобуса за минуту до отправления. Довез дремоту до дома, упал и спал до 3-х дня. Сейчас дурак-дураком. В Москву везли зайцем второго пилота с Ан-2 Енисейского отряда. Парнишка – вылитый я в молодости, но – новое поколение. Сам с Днепропетровска, бойкий, деловой, рвется на Украину. Тряпки, видики, валюта… короче, мне этого не понять. Заработки у него за 1000 рублей, а недоволен. Я начинал со 180. Но бутылку спирта я взял с него без зазрения совести. Пусть себе летит к маме. Что хорошего в Днепре, какая там летная работа, – поживет, узнает, еще пожалеет. А может, займется фарцой, они нынче все спекулируют. Но что-то вякал о романтике. Так и оставайся же в Сибири, тут этой романтики – как г…на за баней. Хоть Астафьев и плачет, что, мол, загубили Сибирь, – я-то, полетавши над ней 25 лет, скажу так: она слишком, слишком велика. Хватит нам ее, чтобы опомниться и начать беречь. Еще лет на триста хватит, а уж к тому времени, может, опомнимся, или уже вымрем все. Леса, воздуха, воды, зверя, птицы, рыбы и ягоды здесь хватит на все человечество. Слишком, немыслимо огромна и богата Сибирь. И если даже человечество вымрет или уничтожит себя, то здесь, именно здесь, на грани биологического выживания, люди еще смогут восстановить популяцию. Но отнюдь не в Днепропетровске. Я кожей ощущаю, как мировая цивилизация уходит, стремительно уносится куда-то вперед и в сторону от меня. С нею меня связывает только внешняя оболочка – работа на самолете. А быт и вся жизнь увязли в тупике на уровне 50-х годов. Позавчера на автобарахолке кольнуло это ощущение прошлого: на багажнике лежали сапоги, хромовые, сработанные мастером, вручную… на березовых гвоздях, как 40 лет назад. Мои интересы так и остались на уровне детских воспоминаний об образе жизни тех лет. Копать землю лопатой. Топить печь дровами. Носить воду из колодца. Сапоги на березовых гвоздях. Запах махорки. Куфайка. Уборная с дыркой. Валенки с галошами. Песни под баян. Танго. Очередь за хлебом. Читальный зал. Духовой оркестр. Вид современного крутого прыщавого мальчика, в норковой шапке, шароварах, зимних кедах и подстреленной кожаной курточке, производит, с одной стороны, впечатление какого-то шута скоморохового, а с другой – мелкого хищника, эдакой красивой, жестокой, сгорбленной ласочки: мелкие зубки и вострые, подло бегающие глазки из-под нависшей норковой шапки… Это племя хорей расправило плечики. Глядя на них, испытываю примерно то же чувство, что и глядя на ментов: и там, и тут – мелкая власть, сила и уверенность в своей местечковой безнаказанности. Хозяева жизни. И шерсть моя, шерсть ездовой собаки, встает дыбом. Но… таков удел пса. Мои собачьи интересы на работе – процесс движения, преодоления сугробов, упряжь, мороз, кусок рыбы на палке перед носом… догнать, догнать, ухватить… слюна катится… А палку ту держит хорек, хозяин жизни. Романтика преодоления стихии – и романтика торговли. А что: вполне может быть. Ездовой собаке этого не понять. Как я не могу понять интереса к голам, очкам, секундам и турнирной таблице. Может, и правда, есть своя романтика в вечном риске добычи и перепродажи массы барахла, в фарте, в куше, в обмане, в сделке. Как через мои руки протекают миллионы километров пространства, так через их руки проходят сотни тонн продукта, оставляя золотой налет, прилипая, обволакивая… А я купаюсь в километрах. Моя семья тоже в них купается. Ну, я что-то там перемещаю в пространстве. В конце концов, цивилизация движется именно производством и перемещением продукта. Но нынче смешно доказывать, что главный в жизни – производитель и переместитель. Главный нынче – менеджер. Он затевает дело, он дает импульс. А ездовой пес, пусть и хороший, пусть вожак, остается собакой. Я ведь не голодаю. Согласен, что если ты организовал дело, то должен иметь с этого дела много и плевать с высоты. Но ведь племя-то хорьков, этих, подстреленных, в кедах, – это же наперсточники, жулики, шулера, шпана. К этому пришла страна. А дело организовывать кто-то не дает. Не дает землю. Борьба. И пока процветают хорьки. Вся эта городская цивилизация идет мимо, а я остаюсь в куфайке и валенках у печки. Мне совершенно не надо видюшников, порнухи, импортного пива, игральных автоматов, зимних кроссовок, дебильной музыки, тусовки, «Тойот» и компьютеров. Я люблю кота, духовой оркестр, баню, лопату, гул в натруженных руках и материальное его воплощение, будь то сложенная печка или окрашенный мною забор. Ну, мягкая посадка в сложняке. 18.11. От Владика два впечатления. Одно – утонченная, невесомая посадка дома на скользкую полосу с боковым ветром. Даже видавший виды и избалованный посадками Леши Бабаева мой Филаретыч – и то спросил после пробега: а что, мол, это ты перед приземлением носом туда-сюда… Я говорю: Витя – после, после приземления; да, туда-сюда, убирал снос, опускал ножку… но – после, после приземления… Мы его и не почувствовали. Ну, правда, на скользкую полосу мягко и дурак посадит, а ты попробуй на сухой бетон. Второе впечатление. Вез из Владика молодого штурманца, недавно у нас летает. Он добыл там «Тойоту», как-то через мафию, через местных рэкетиров. Отдал 45 тысяч, да еще 2600 за контейнер, поездом. Всех дел – полтора дня; торопился домой: у него завтра рейс… Люди, чтобы добыть машину, берут отпуск. Сунься туда, во Владик, я – остался бы без денег, либо, в лучшем случае, всучили бы битое старье. Да и где мне взять полста тысяч? Я же всего лишь командир Ту-154. А он – он продал старую машину, да одолжил, видя, что если в этом году не успеет… Короче, он знает конъюнктуру, цены, варианты, каналы, ловит тенденции, видит перспективу и т.п. Он эту машину толкнет на рынке, рассчитается с долгом и купит новую, выгодно продаст и ее, добавит… Коммерция. И в рейс успеет. Он же, между делом, еще и штурман. С ним летел такой же, между делом, врач. Фарца. Эти люди не ждут. Они молоды, энергичны и любым путем стараются добыть. Любым. А я – законным. От трудов праведных. Завтра он подаст мне милостыню и скажет: а чего ж ты не вертелся? Он не задумывается о профессионализме. В мутной воде рыбу ловят не методами и способами, а наглостью и нахрапом. А я наслаждаюсь мягкой посадкой. Значит, мне вымирать. Белка в колесе, напрасный труд. На работе все то же. Эксплуатация человека-функции. Нас не спрашивают. У них свои проблемы: тасование экипажей, ввод молодых, УТО, а нами, стариками, затыкают дыры. И так, использовав до конца, выкинут, как грязную тряпку. Вон Боря К. ушел на пенсию, два года промучился, теперь пытается восстановиться. И так же Костя Г. На пенсию 240 р. и вкалывая еще на земле, – не прожить. И лезут снова за штурвал, хотя здесь – беспросветная каторга. Но не прожить нынче летчику на пенсию. По нынешним ценам это – четвертак. Не 120 даже, как раньше, а, считай, 25 рублей. Как жить? Это безысходность, деваться некуда, только вперед, на остатках здоровья. Что – романтика полетов им спать не дает? Штурвала вновь захотелось? Ага. Надо знать и Борю, и Костю: это деловые люди, у них все схвачено. И – не прожить. 23.11. Из размышлений в очереди за сахаром. Хитро продуманная система льгот в приобретении материальных благ и услуг. Герои – вне очереди. Ветераны. Афганцы. Чернобыльцы. Депутаты. Инвалиды. А очередь стоит и ненавидит всех этих героев, депутатов и афганцев. Чтоб они скорее сдохли, эти ветераны, с их орденами. А ветераны и афганцы ненавидят ту очередь, мимо которой надо – морду лопатой и стиснув зубы, зная, что глаза в глаза – ненависть. А с заднего крыльца менты, шпана и блатные. И очередь ненавидит торгаша. А продавец ненавидит очередь, которую надо успевать отоваривать, в туалет сбегать некогда. Разделяй и властвуй. Все налито отстоявшейся злостью. Злость закипает в ногах. Через полгода может все взорваться. Тогда мы окажемся на опушке первобытного капитализма, через который надо пройти. Отменить все льготы, дать льготникам достойную пенсию. Мечты, мечты… 26.11. В Костроме у пилотов Ан-2 не стало работы. Аэрофлот поднял тарифы на местных линиях вдесятеро и сразу отбил у людей охоту летать. Заработки летчиков упали до 200 рублей. Нет, ну это ж надо так резко, без ума, взвинтить цены на билеты. Корреспондент телевидения сетует: что бедным пенсионерам самолет теперь не по карману, а в местных магазинах, мол, ничего нет, а если где в магазинах что-то еще можно найти, туда только самолетом можно долететь. Вот-вот, и я о том же. Не по карману – не летай. Кушай свою картошку. В сердце России, в Костромской области, мало дорог. Аэрофлот просто использовал это обстоятельство. А теперь на халяву возить нет смысла. Пассажиропоток упал, снижать тариф невыгодно, кто же будет работать себе в убыток. Значит, сворачивай производство, перебрасывай туда, где выгодно, да еще протиснись между конкурентами. А пилотов куда девать? У них же семьи. И у меня семья. Я в молодости повез за собой молодую жену туда, куда раньше ссылали. И мы здесь, в трудных условиях, нашли и работу, и жилье. Да, намерзлись. Да, от мамы далеко, и от моря, и от фруктов. Каждый выбирает сам. Они присоседились к Москве. Ну и пусть там живут. Работа малой авиации – не там, где столица. Там заведомо делать нечего: полно дорог. Самолет окупается на бездорожье и на дальних расстояниях. Тот же Ан-2 у нас в крае летает дальше, чем под Москвой – Як-40 и Ан-24. Да и Ан-2 дешевле других. А уж необходимость… Мужику надо кирпич на печку в тот же Александровский шлюз. А там пески, глины нет. И он везет поддон кирпича из Енисейска на Ан-2. Дорого. Но печка жизненно необходима. Суровая проза сибирской жизни. Так самолет дает человеку саму возможность существовать. И мы, возя кирпич, стекло, гвозди, понимали это и гордились, и люди нам говорили спасибо. Я знаю цену этой благодарности. Корову человеку перебросили через водораздел, это целая эпопея, иного пути нет. Весь самолет в дерьме, но – кормилицу, молоко детям… Они там чуть не языками машину вылизали. Это тебе не за гнилой колбасой в столицу смотаться. Ну как ты ту корову по болоту да по горам этапом погонишь. И человек долго думает, считает и платит кровные. Поэтому работы у енисейских пилотов хватит надолго. Все хотят где потеплее и на халяву. Сидишь там, под Москвой, востришь зубы на дармовую, дешевую, сворованную у всего народа московскую колбасу – а самолетом на халяву возить тебя теперь невыгодно. Ну почему я должен людей даром возить, а сам зубы на полку класть. Нет уж, плати, плати всерьез и думай. Невыгодно – сиди дома, делай дело и изыскивай колбасу на месте. Не можешь – сдыхай. Алексеич давно поставил точку в дискуссии. Должно быть так: кто не работает, тот не ест. Работай. Нет работы – ищи. Или живи на зарплату пилота 200 рублей. Это ж они теперь без налета сидят, теряют и без того слабую квалификацию. Кому и где нужен такой пилот? Грядет конкуренция, и шансы их катятся к нулю. Но Москва-кормилица рядом… Мама рядом. Вологодское масло рядом. Костромская область. Три, ну, пять районов. Четыреста километров на двести. Железная дорога на Вологду и Киров. Да у нас Енисейский район больше. Надо поднимать тарифы, диктовать свои условия, разумно. Это рынок. А иначе мы, летчики, всегда будем нищие, и дети наши будут играть шоколадками и беречь их, а не есть. 27.11. Ноябрь – время снегопадов. И самолетопадов. Вообще, большинство тяжелых летных происшествий происходит почему-то осенью и в начале зимы. Опять упал Ан-24, в Бугульме. Конечно, самолеты всегда падали и будут падать, как сходили и сходят с рельсов поезда, как тонут корабли и сталкиваются автомобили, как обваливаются шахты и горят дома, как, в конце концов, взрываются на старте космические ракеты. Но в ноябрьских авиакатастрофах явственно проглядывают все беды и пороки нашего общества. Непрофессионализм накладывается на отказ матчасти, а хроническая усталость экипажей объединяется с усталостью металла, с непогодой и с общей усталостью нашего народа, выражающейся формулой «да пошли они все, козлы». Всем на все наплевать. И люди принимают неадекватные решения: нарушают минимум погоды, нарушают правила загрузки, заправки, нарушают РЛЭ, часто в принятии решения руководствуются не безопасностью полета, не здравым смыслом, а сиюминутными, житейскими потребностями, вроде: прорваться, а то на рынок (автобус, праздник, свидание) не успеем. Успевают в гости к богу. Понятно, в ноябре погода не балует. Но нырять под глиссаду в поисках земли на Ан-12 нельзя, уже не раз доказано, как нельзя и превышать вертикальную скорость перед торцом на Ту-154. И так далее. Беда наша в том, что вынуждены летать, заходить в сложняке почти визуально. Наши системы захода на посадку дремуче устарели, да и те не работают в самый осенний период. Вечно локатор на профилактике – и не в июле, а именно в ноябре. Потом… где густо, где пусто. Кострома сидит без работы, а красноярцы в ноябре вылетывают дикую ночную саннорму. Я в начале месяца из ночи не вылезал, сейчас побаливает голова. Нас плохо кормят, а экипажи Ан-24 вообще в полете голодные. Вообще же, в ноябре все мы как-то дотерпливаем в ожидании, что вот-вот сократятся до зимнего минимума рейсы, выйдут экипажи из отпусков, УТЦ и годовых медкомиссий, и наконец наступит зимнее безделье, когда дают всего три-четыре рейса в месяц, экипажей много; практически это неофициальный зимний отпуск, где между водочкой иногда немножко и подлетываешь. Вот это ожидание есть реакция на чудовищную летнюю эксплуатацию, отдаленные последствия которой сказываются до поздней осени в виде наступившего наплевательства и неизбежных катастроф. По крайней мере, так вижу ситуацию я, пилот. Ну, а в Госавианадзоре и прочих горних высях, в кабинетах, аналитики мыслят, может, и по-другому. Я именно дотерпливаю. Глянул в пульку на декабрь – боже мой: опять саннорма, да еще мелочевки… рейсов восемь или девять. Летом бы так – одна радость, а зимой… Когда жить-то? Денег за октябрь я еще не получил, нет в банке. Ну, жена кормит. А получу – куда девать эти тысячи? Разве что купить на них на барахолке кеды. 28.11. Надо начинать готовиться к годовой комиссии. Пить шиповник, выдерживать диету, сдавать заранее анализы, забивать очередь на велоэргометр, на РЭГ. И все это между рейсами. Хромую ногу вроде подлечил, но о полноценном велосипеде пока речи нет. Вот так из-за отстегнувшейся радикулитной ноги списали в свое время по велосипеду Антона Ц. Не смог выдать обороты. Надо быть в форме, либо не идти вовсе. Престарелые родители вдруг прислали посылку, а в ней немножко фасоли, немножко муки и сахару. Мол, мы тут, на Украине как-нибудь проживем, а вам, у Сибiрягу прокляту… Спасибо, конечно, но мы пока в Сибиряге еще вполне сносно живем. 2.12. Понедельник, мой любимый выходной. Все ушли, кот меня разбудил, и теперь я тяну время, наслаждаюсь одиночеством. Как в замедленном кино. Сейчас пойду в гараж, не спеша затоплю печку и буду ковыряться. Наверху какая-то политика, чего-то там замораживают, чего-то отпускают, какие-то референдумы, договоры, программы,… А я пока еще пью кофе «Арабика» с отвратительным, правда, азербайджанским, – но коньяком. Саннорму отдубасил – и Васька не чешись. Вчера слетали в Норильск – рейс отдыха, погода звенела. Взяли оттуда зайцем офицера, спешил на семейное торжество из командировки, поставил бутылку хорошего коньяка, досталась Вите – его очередь. И никакого смущения. Мне человека выручить не жалко, пожалуйста. А мог бы сидеть в вокзале, унижаясь перед администратором, ждать, пока найдется место, – и не попасть на юбилей. Довезли, сели, я ему говорю: вот – рейс отдыха; он только головой покачал: ничего себе отдых… а какова же тогда работа? Ну, это наши проблемы. Рассказывал нам: прапорщик у него был, тупой, выше не тянул. Как-то сумел уволиться из армии, теперь работает в совместном предприятии, за месяц сорвал куш: где-то 68 тысяч. Наверное, вкалывал, вся спина мокрая. Или трещал извилиной. А капитан окончил финансовый техникум, высшее финансовое училище, академию, теперь служит в Норильске за полторы тысячи. А я – за три. А наверху, в горних высях большой политики мечется вьюга взаимоисключающих и бесполезных полурешений. Пош-шел я в гараж… 5.12. Чуть не опоздал на сочинский рейс, намерзся в ожидании транспорта, в последний срок успел добраться в ледяном автобусе, быстренько подписал решение на вылет, добежал до самолета и, наконец, попал в тепло, стал оттаивать и блаженствовать. Нет, надо брать унты. Но как ты в Сочи полетишь в унтах. Взлетели, заняли 10600 и стали дожидаться обеда. А после обеда, в самом благостном расположении духа, подходя уже к Тобольску, решили, что надо бы занять 11600, т.к. здесь ветерок сильно встречный, все не хочет уменьшаться. Тобольск разрешил; я дал команду «Номинал» и успел краем глаза увидеть, что рычаги внешних двигателей медленно, осторожно поползли вперед. Алексеич умеет выводить на номинал не торопясь, с гарантией, как рекомендует РЛЭ. И тут нас тряхнуло. Сильная вибрация, какой-то зуд, самолет мелко заходил ходуном; мысль: «в чем дело?» – и обороты третьего двигателя поехали вниз, за ними – рычаг газа; тряску как обрезало, Алексеич доложил: «Отказ третьего, останов Т газов!» И все. Пять-семь секунд. Доложили земле. Я преодолел минутный страх, дал команду снижаться до 9600. Приняли решение идти пока в Самару, установили расход 6 тонн в час, проанализировали путевую скорость, хватит ли топлива, взяли все погодки по трассе, прикинули, где лучше кормят и где лучше гостиница, а где бардак. В Свердловск лучше не лезть из-за бардака; в Уфе, по пути, сесть всегда успеем; надо лететь по расписанию в Самару, но там ухудшается погода. Так… где какой ветерок на посадке, коэффициент сцепления… Короче, шел анализ, все вошло в колею, экипаж работал; неизбежный заяц, 2-й пилот с Ан-2, молчал как мышь. Ну и – у чем дело? Помпаж явный, но отчего? Мы ни задрать тангаж резко не успели, да у нас и не принято, смена эшелона делается как в замедленном кино; ни газы резко не давали, Алексеич умеет; ни второй двигатель, больше других, казалось, боящийся большого тангажа, не трогали: его-то выводят на режим уже в установившемся наборе высоты, чтобы из-за длинного фюзеляжа не произошел срыв потока на входе в воздухозаборник и не начался помпаж. Единственно чего я не успел засечь, это обороты. Но все в один голос уверяли, что симметрично было по 92 процента; затем, после помпажа, мы к первому двигателю и не прикасались: как стоял у него номинал, так и добавили второму тоже до номинала, 92, все это видели; так и стали снижаться, все по РЛЭ. Ну, перед снижением чуточку был пресловутый холодок в животе. Нас бережно вели, спрямляя по возможности маршрут, сдержанно интересовались, что да как. В Самаре шел снег, на посадку давали видимость 1200, полоса 15, с прямой, нас устраивала, борты кружились этажеркой в зоне ожидания; нас с почетом вели к полосе, было аж неловко. Сел я исключительно мягко, с закрылками на 28, реверсом почти не пользовался, тормозами тоже; зарулили, выключились. От полосы потянулись пожарные и санитарные машины. Ну, объяснительные, два слова; мы чувствовали себя чуть не героями, ну, по крайней мере, обошлось. Конечно, Сочи рявкнулись, останемся без мандарин, из-за чего, собственно, и рейс просили… но – обошлось. В Куйбышеве бардак, как нигде во всей стране, бардак и советский союз. Долго я просидел в ПДСП, пока беседовал по телефону с Красноярском, докладывал, спрашивал, что нам делать, когда будет нам самолет; короче, насмотрелся, как работает их ПДСП… да как и 15 лет назад, еще хуже. Проводники и Алексеич сидели в самолете, ждали, пока разгрузят. Только часов через шесть все утряслось, и мы, перекусив в самолете остатками курицы, ушли в гостиницу. Утром я беседовал с начальником инспекции управления; ну, говорить, собственно, не о чем. Он сам 10 лет летал на этом самолете, в курсе дела, и только выразил озабоченность: а случайно не поставили ли мы взлетный режим? Я клятвенно заверил, что нет, что опытнейший бортинженер, тысячи раз… и т.п. Но на всякий случай решил сходить в расшифровку. В расшифровке меня уже ждали. Точно: Алексеич установил третьему взлетный режим, и какой – 98,5! Это максимально допустимые обороты, выше не бывает. Сходили с ним вдвоем еще раз, сняли для контроля показания первого двигателя: оказалось, и там взлетный, но 96 процентов. Как же так? Еще раз обсудили в экипаже. Решили замерить еще параметры номинала в конце набора высоты 10600 в начале полета. Ведь такой же точно номинал Валера ставил – что на взлете, что в начале набора 11600. Условия – что в конце набора 10600, что в начале набора 11600, – одинаковые; должны совпадать и параметры. Кроме того, мы не снимали с номинала и вообще не трогали после помпажа первый двигатель: так и стали снижаться до 9600 на том режиме, что установили в начале злосчастного набора 11600, – и что, на взлетном снижались? Расшифровщикам мы порядком надоели, дело к вечеру, у них своих дел куча, но мы уговорили: сняли-таки параметры номинала в первоначальном наборе после взлета. И что же: 90 процентов! То есть: мы действительно набирали после взлета на номинале, даже чуть ниже номинала, 90, а для набора 11600 был действительно установлен взлетный режим. Все против нас. Но экипаж клянется и божится, что все видели по тахометрам 92, чистый номинал, симметрично, двум крайним двигателям. Все видели, что никто потом не трогал 1-й двигатель, что добавили 2-му тоже 92. Ну не может быть, чтобы пролетавший 25 лет бортинженер, ежедневно по несколько раз устанавливающий этот самый номинальный режим двигателям – это его хлеб, как дышать, – и чтобы он вдруг на высоте влупил взлетный… Но расшифровка у меня в руках: УПРТ стоит 110 вместо 106, обороты 98,5 вместо 92, расход 4500 вместо 3000-3500. Валера подозревает отказ командного агрегата на двигателе и раскрутку оборотов до срабатывания ограничителя, а в результате – помпаж, двигатель захлебнулся топливом. УПРТ на 3 больше – это мелочи; взлетный режим устанавливается РУДом до упора, на 116, и УПРТ 116 соответствуют оборотам 98,5. И то, на взлете у нас, при морозе -25, УПРТ был 116, а обороты по расшифровке 95, а по прибору, он запомнил, вообще было 93, потому что мороз. Короче, не верю я этому объективному контролю. Я еще хорошо помню расшифровку в Сочи: «два козла за три секунды». Не верю. А не верить своему бортинженеру, с которым пролетал без малого 9 лет, у меня нет оснований. Но бумажка против нас. Ну что ж, мы пока – хвост пистолетом, знать ничего не знаем, ведать не ведаем. Придут результаты расследования, тогда видно будет. Если неисправность, нас не тронут, а если будет все в порядке, если обгоняют двигатель и ничего не найдут, тогда будет считаться ошибка экипажа; ну, выговор, никуда не денешься, переморгаем это дебильство. Мы делали все как всегда. Но по РЛЭ я же имею право в экстренной ситуации, допустим, при обходе грозы, использовать взлетный режим на любой высоте, сразу всем трем, без задержки! Хотя в нормальной эксплуатации выше 10000 запрещается. Значит, двигатель обязан был нормально работать, а не помпажировать! Что-то там есть, должны разобраться. Это уже не 85-й год. Плевать я хотел. Идут они все, козлы. Выговор – да пусть хоть десять. Ну, а я в экстремальной ситуации? Хотя какая там экстремальная – полет с отказом двигателя у нас считается нормальной эксплуатацией и не требует никаких особых действий. Заходи, как всегда, и садись. Но на эмоции действует. Ну, и ответственность: не дай бог чего. Короче: я справился, экипаж действовал спокойно, анализ обстановки грамотный; ну, пришлось хорошо набегаться за полторы версты в расшифровку, с больной ногой. Вот первый случай за всю 25-летнюю работу: настоящий отказ матчасти. Нет, вру, второй: был когда-то еще отказ двигателя на Ил-18, тоже в наборе. И подозреваю, что это только цветочки. Ткацкий пригнал самолет ночью и ушел нашим рейсом на Сочи; наши проводницы упросились с ним за мандаринами, ну, а нам было не до них. Дождались ночью его обратно и, стоя, зайцами, долетели домой. Обычное дело. Дома -39, пока доехал домой на служебном, замерз как собака, вскочил в ванну и парил ноги с полчаса, вспотел, потом уснул. Вот – обычный рейс, не рейс отдыха. Послезавтра Ташкент; поеду в унтах, ботинки прихвачу на сменку. Хватит мерзнуть. Завтра надо в баньку, а лучше бы сегодня, но там женский день, а в город, в 35 мороза, в баню, – не даст эффекта, как бы хуже не сделать. Жаль, что у нас в Роще баня через день. 6.12. Вчера Надя, как всегда, устроила мне летный разбор. Она на полном серьезе и ревниво интересуется всеми мелочами: как я, профессионально ли справился… ну и чисто по-человечески за меня переживает, что ведь страшно же было. Я еще раз тщательно перебрал в памяти все перипетии этого события. Смущает только одно: я не помню обороты. Не видел, на что-то отвлекся. Это рутина, тысячи раз… Но – не помню. Экипаж, штурман и второй пилот, в голос утверждают: симметрично 92. И первому как поставили, так и не трогали потом до самого эшелона 9600, и там, разогнавшись и установив параметры полета, – лишь тогда сдернули с номинала. Страх был чисто животный – не от мысли, не от сознания, что – а вдруг, вот сейчас, пожар… – нет, страх типа: идешь, а сзади из подворотни прямо за спиной резко гавкнула собака – и весь мокрый. Ну, правда, мокрыми мы не были, но – гавкнуло за спиной резко. Ну, я понимаю Рэмбо. Он всю жизнь в нервном напряжении, собран, ждет удара, готов реагировать, вообще – готов. А мы хоть и тоже готовы вообще, но часами, месяцами и годами вечно в напряжении не будешь. Вот и вздрогнули. Секунд пять – как при затяжном прыжке с парашютом в первый раз; потом хаос мыслей, потом выкристаллизовываются опорные островки, становятся шире, шире, разрывают сеть страха, загоняют его в желудок, и он там холодком… Однако же представьте себе такое: вы идете на 10600, в 90 км от Тобольска, днем, визуально, – и пожар. И полоса видна впереди, правда, не слишком большая, под «туполенок», легкая, но сесть при случае можно. Но – представьте. Я, профессионал, считаю, что это задача на пределе возможностей. Потому что за 4 минуты, ну, за 5, надо сесть. А визуально полоса соблазнительно близка. Но до нее, на скорости 900, – минимум 10 минут лету на эшелоне. А по мере снижения скорость будет не выше 600. И кроме всего того, что наваливается на экипаж в процессе тушения пожара и экстренного снижения по пределам, будет давить еще и эмоциональный пресс: вот она, полоса, а – низьзя! Надо падать раньше, пока не сгорел, – и куда? Искать. В поле, на болото, на реку, на озеро, на дорогу… В Чехословакии года полтора назад сели вот так в поле: загорелся груз сигарет, 15 тонн в салоне, везли из Европы на «эмке», без пассажиров. Я видел на фото, что осталось от самолета: кабина с экипажем – чудо! – и хвост. И все остались живы! Но они не сели, они упали. Они ничего не видели в дыму, даже приборов, даже в дымозащитных масках. Они упали удачно, в поле, потому что командир интуитивно выдерживал параметры, близкие к горизонтальному полету: но это был уже не полет, а чистая случайность: земля подкатила под колеса относительно мягко, и только раз всего задели за высоковольтку. Но, собственно, этого раза и хватило, чтобы остались лишь кабина и хвост. И это было днем, визуально, это чудовищное везение. Ну, хватит об этом. Да минует нас чаша сия. 9.12. Вылет на Ташкент в 5 20, это 9.20 утра по местному. Встал без десяти шесть, сделал зарядку для хвоста и не спеша поехал на автовокзал. Приехал – автобус только что ушел; ну, еще почти три часа до вылета… и так я ждал с час, потом забеспокоился, забегал; неплохо бы предупредить по телефону, но… советский союз, телефоны все оборваны; наконец за час сорок до вылета подошел автобус; пока я с больным коленом лез, оборвали все пуговицы… и места мне не досталось: народ, намерзшийся на тридцатиградусном морозе, тек вязкой, плотной, неостановимой и непробиваемой лавой. Ну, плюнул, дождался следующего, теперь они пошли караваном. Опоздал на полчаса; уже было подняли резерв, но успел. Ребята без меня уже проанализировали погоду, тут я Виктору Филаретычу, штурману, доверяю; мне осталось только подписать решение. Если б я не захватил унты (это на Ташкент!), то намерзся бы, а так – бегал в них по холодному вокзалу и в автобусе наконец-то не мучился вечно холодными ногами. В самолете переобулся в ботинки – благодать! Ну, слетали нормально. Заяц, бутылка спирту, моя очередь. А тут у дочери как раз день рождения, бутылка пригодилась. Начал проходить годовую комиссию, заранее записался на все эти велосипеды и бигуди; ну, после дня рождения кровь успокоится, пойду сдавать анализы. Полетел разбираться в Самару Попков, звонил мне. Я попросил его сравнить расшифровки номинала в наборе высоты и на снижении с одним отказавшим, с показаниями того номинала, что расшифровали как взлетный. Ну, мысль толкнул, а там пусть он сам сориентируется. Если уж действительно окажется, что везде номинал, а мы дали взлетный и на взлетном первого двигателя снижались, то мы дураки. Ну, подождем. Украина вышла из Союза. Осталось выйти России. ССГ – Союз, Слепленный Горбачевым, оказался жертвой аборта. Но почему они все, Горбачев, Шеварднадзе и другие, так стремятся вновь слепить Союз из обломков? Ведь коню понятно, что народы так натерпелись от этого союза, что теперь, пока не отделятся совсем, не наголодаются и не опомнятся, – и мысли не будет о воссоединении. А уж потом, когда отстоится, выстрадается и верх возьмут раздумья, тогда, надо будет, – объединимся, жизнь заставит. Кроме прибалтов. Те знавали лучшие времена. 10.12. Россия, Украина и Белоруссия в совместном заявлении констатировали прекращение деятельности Союза ССР. Итак, перестройка, затеянная Горбачевым со товарищи как перекраска фасада, через семь лет привела к полному краху идеи построения коммунизма в отдельно взятой стране, ко всеобщему презрению этой идеи, к полной дискредитации слова коммунист, к развалу т.н. социалистического лагеря, к трагедии разложения созданных на советских штыках т.н. государств народной демократии, к трагедии целых народов, к перекройке всей Европы, к кипению всего цивилизованного мира. Поистине, имя Горбачева войдет в историю как имя великого разрушителя. Он только чуть стронул вентиль, а рухнула империя зла – целых полмира. Он один сделал то, за что боролись целые поколения всяких ЦРУ, о чем мечтали проклятые капиталисты всех стран, да и только ли капиталисты… ведь весь мир боялся нас и ненавидел. Что же отломилось Горбачеву в итоге? Свой же корифан, посмевший было посягнуть и жестоко осаженный на пленуме, неправый Борис, вышиб почву из-под ног, перехватил инициативу, вцепился в лучший кусок заплесневевшего пирога, занял самый большой, хоть и тоже дырявый, спасательный плот – Россию… И в результате – не исполнение мечты, а подвешенное состояние, миг перед падением в кучу дерьма с разъехавшихся, загаженных досточек. Ибо чем был тот Союз, как не кучей слепленных кое-как, но крепко скрученных колючей проволокой досточек, над идеей, долженствующей дать твердую опору всему миру. Теперь идея эта наголе, всем видно, что она собой представляет, кто ее претворял, кто рушил свои же храмы и уничтожал свой же народ – частью физически, частью – превратив в тупой скот. Назарбаев, убегая, назвал феодальным пережитком идею панславянской конфедерации. А я, наслушавшись всяких политиков, сам себе и думаю: Э! Империю-то создавали славяне. Славяне проливали кровь, свою и чужую, – но это дело их рук, наша империя. Казахи и таджики еще полвека назад знали только свой кетмень, паранджу и акынов. Я выражаюсь несколько прямолинейно. Но они и сейчас живут родовым строем, кланами, тейпами, племенами; это совершенно иной образ жизни и иное мышление. А главное, я стал доверять своему сердцу. К кому оно тянется? Я насмотрелся на этих азиатов на рынках. Хватит. Я отнюдь, далеко не националист, я готов понять и принять представителя любой нации. Но не садись у меня дома мне на шею. Для кого Союз был вотчиной? Для Кавказа, вернее, Закавказья. Это несправедливо и обидно. Везде русский – дурак. А у южанина деньги на деревьях растут, надо только найти осла русского. Я всю жизнь прожил в Сибири, знаю, как тут существовать. И сравнивая южан, их образ жизни, понимаю одно: им так вкалывать не надо. Так вот: пусть идут к себе домой и там сами себе живут, пусть решают свои карабашные проблемы со своими же южными соседями. А мы посмотрим. А славянин всю жизнь боролся просто за выживание. Хуже жизнь только у малых народов Севера – это уже изгои цивилизации, загнанные на биологический предел выживаемости. Даже дома, на Украине, приезжая в отпуск, глядишь, как наши отборные вишни растут под окном, на улице, в пыли, никому не нужные, сорняк сорняком. А я за ведро ягоды в Сибири плачу две сотни. И за ведро той же вишни в Ростове – сорок рублей. Поэтому я за славянский союз. Это и вера общая… если она еще осталась. Мне нечего делить с белорусом и хохлом… сам такой. А с узбеком в деле я уже познакомился, когда бегал по ташкентским ментовкам. Нет, я их стерплю, я уважаю их узбекскую тысячелетнюю мудрость и обычаи, я понимаю, что нет глупых народов… но чужие они мне. Еще болгары… братушками звали, язык похож на наш. А какой мне братушка туркмен или эстонец. Пусть Назарбаев возьмет и организует пантюркский союз. Он умный мужик, но ему ближе тюрки, вот и карты в руки. А Союзу прежнему не воскресать. Умерла так умерла. Ну а Горбачев… уже поздно и в отставку: где он раньше был. Но скорее всего, уйдет; он уже никому не нужен. Тесть мой, немногословный старик-хохол, на мою болтовню вокруг Горбачева только плюнул и сказал: «ага, наш путь верный… – и прямо у Швейцарию…» А куда еще. Как Кутузов после Отечественной войны. Правильно говорят: трагедия великого человека, которого обогнало время. Пришли вести из Самары. Пока, по слухам, конструктивно-производственный дефект. Но меня попросили письменно объяснить причину занятия эшелона 11600. Как если бы столяра попросили объяснить, почему он эту доску строгал ровно, а ту – косо. Потому что. И Попков все равно летит разбираться. Привяжутся к этому мифическому взлетному режиму, мы еще и виноваты будем. Сказали же инженеры из АТБ: если бы не понадобилось набирать этот эшелон, двигатель бы и не отказал! Так что – давайте-ка запишем в индивидуальные особенности этой машины: выше 10000 м не набирать! Так, что ли? Учитывая, что цены на основную массу продуктов, товаров и услуг на черном, т.е. основном рынке возросли в среднем в 10 раз, я бы, заключая контракт, оценил на сегодняшний день свой труд в 10 тысяч рублей в месяц. Тогда бы все осталось на уровне прошлого года, не считая хлеба и молока. Ибо год назад у меня средний был где-то под тысячу. А так, при нынешнем уровне зарплаты, уровень жизни моей семьи упал где-то вчетверо. Из разговора бортпроводниц, услышанного краем уха: вот одна продавала шубу на барахолке, просила не 8 или 10, а все 15. Тысяч. А брала ее во Львове за 800. Обычное дело. Так что заткнись, пилот, чужие деньги не считай, а зарабатывай честно свои. И помни, помни глаза проводницы, влетевшей в кабину после того помпажа: «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?!!» Пришел из ночного резерва. Спали одевшись, опять тепла нет. Прикидываю на будущее: где бы выломать в квартире перегородку и поставить печь. Можно одну между спальней и кабинетом поставить для Оксаны, а между нашей спальней и коридором – еще одну. Ну а топлива в Сибири хватит. Но мерзнуть, как в блокадном Ленинграде, я не собираюсь. Вот за водой на Енисей – далековато, а главное – круто, обрыв метров 50 к воде. Но – рюкзак на плечи, канистры есть, санки в зубы, – и работай, Васька, не чешись. Оно и сейчас, в холодную зиму, другой раз так прижмет, что с радостью затопил бы печь, будь она в квартире. Это идея… и живи я один – молча бы уже сделал. А так – надо еще преодолеть сопротивление моих косных домочадцев. Ну, как было с балконами: малый-то я застеклил, через ожесточенное сопротивление, дождавшись, когда они месяц были на курорте; так ведь приехавши, ругались… но дело сделано. А сейчас привыкли, как так и надо. Но лоджию так и не дали, и сейчас там пыль и грязь. И уже все соседи, глядя на меня, застеклили, и уже и мои вроде не против… но теперь нет материала. Так и печь. Вот дождусь их отъезда и за недельку состряпаю, оштукатурю и скажу, что так и было. Покричат, поголосят… а в мороз мы и затопим… Одно дело ложиться спать в двухконтурных штанах, другое – в сорокаградусный мороз у теплой печки под боком. Что такое теплый бок печки против дохлого радиатора под окном! Вся Россия зимой мерзнет в каменных и бетонных домах. Дураки дураками. Надо дома строить сразу с печами: мало ли что с теплосетью может быть… и бывает! Но мозгов нет. Невыгодно! Вся проблема – дымоход. Выпускать железную трубу в окно – неэстетично, завихрения от ветра… Но не до хорошего, а в мороз и ветра-то нет. О пожарном надзоре я не беспокоюсь: все будет сделано, как требуют СНиП. Единственно: какой же пролетарий, а особливо евонная озябшая жена, стерпит перед замерзшим носом своим дымящую трубу. Тут же окажется, что им ну прям дышать нечем. Классовая ненависть. Ничего, мы ночью подтапливать будем. А если чего – и в рожу… Ну а что делать, если к тому идет. Хорошо, если не понадобится. И все же надо учиться науке выживания. Вспоминаю послевоенное детство. Не было у нас в городке ни ателье, ни сапожных мастерских, ни молочного магазина. Обувь сапожники тачали на дому; костюмы и платья заказывали мадиске (модистке), тоже на дому; за парным молоком я с бидончиком ходил к бабке; мебель делали столяра, добротную, из чистого дерева; печки ложили печники; сосед, сухорукий сапожник дядя Гриша Золотко, дымя махоркой, подбивал подошвы моих башмаков кожимитом, березовыми гвоздями: «Це будэ стоить сорок пьять копеек…» Между прочим, чуть не всего Лермонтова наизусть знал. Где они теперь – печники, сапожники, мадиски, молочницы, плотники, мебельщики, колодезные мастера? Люди, перед умением которых я до сих пор преклоняюсь? Вытравили. А ведь эти люди – производили! А теперь – «дай». Наплодили ПТУ, с конвейера гонят вал сопляков – без умения, без желания, без достоинства мастера, без сознания своей профессиональной состоятельности и необходимости. И они – дают! Весь мир удивляется: во дают! Вот я и вынужден быть сам себе мастером, в меру сил и способностей Сам себе и печник, и каменщик, и плотник, и столяр, и слесарь, и механик, и повар, и музыкант. И все – на тройку, выше я не умею, ибо – самоучка. Спасибо, что родители чему-то научили, да надоумили учиться ремеслам самостоятельно. Надо только понять будущим исследователям психологии людей в период т.н. перестройки: какой же гигантской силы пресс советской действительности нас плющил – а мы выжили! Не скурвились, остались людьми… правда, ожесточились. Бегут за рубеж, за бугор, самые истовые дерьмократы, митинговые трибуны, бегут, набив шишки о бетонную стену действительности; бегут и кто послабее духом, устав от бардака и нищеты. А я не испытываю и теперь никакого желания хрять. Я – кот, гуляю где мне вздумается, но я люблю свое место. Не надо мне пальм, не надо жары, пляжей, пива без очереди, кондишенов и т.п. сервиса цивилизации. Мне и в куфайке хорошо в Сибири. Они бегут от людей – к людям же. От плохих наших к хорошим ихним. Они там среди тех хороших собираются делать бизнес, вертеться в беличьем колесе – среди таких же, но более опытных и отнюдь не желающих пропустить вперед чужака. А главное: вспомнят же под пальмами родные березки – неужели не дрогнет сердце, не набежит слеза? Я далек от того, чтобы уж так клясться в любви к родному пепелищу, но, черт возьми, я и не настолько нищ духом, чтобы не осознать, где, в каком краю я живу и что могу потерять. Там я буду не жить, а биться за существование среди чуждой толпы. Чуждой. Там будет кондишен, но не будет русской общей бани, где свои под веничек поругивают правительство. Там не будет каменистого берега Енисея с чистейшей водой. За доллар там тебя свозят хоть в Большой Каньон, за доллар высунут в частном лесу из-под земли гриб, вытолкнут к крючку рыбку… а уж от берега Миссисипи сам убежишь, зажав нос. Здесь страшно ходить в лес, медведь в нем хозяин, но лесов на нас всех хватает; там же каждый акр куплен, просчитан, цивилизован, огорожен, и за доллар тебе в нем будет отведено твое место и время. Нет уж, я доживу свои дни здесь. Я отдал своей стране лучшие годы, здоровье, пыл молодости; так что теперь – бежать от самого себя? Не побегу я к сервису. Я его буду делать для себя сам, своими руками, пусть на куфаечном уровне, но – сам. Я хочу делать не то дело, за которое больше платят, а то дело, которое люблю. Я над этой страной пролетал и насмотрелся на нее достаточно, чтобы кровью и плотью понять: это моя РОДИНА. Как ни пытаются опошлить и обгадить это понятие, но оно в сердце, и словами этого не объяснишь. Я чувствую, что существую в среде, покинуть которую не в силах. Видимо, я из тех людей, которых властно держит за сердце ностальгия. Как человек города, допустим, москвич, знает и любит свой Арбат, Охотный ряд, Волхонку, Таганку, – так я знаю и люблю мои Саяны, и Становой хребет, Кавказ и Крым, Волгу и Лену, Байкал и Балхаш, пики Удокана и Тянь-Шаня, Обскую Губу, Корякскую сопку, Ханты-Мансийск и Серов, Домодедово и Кольцово, Сергелийский рынок и Привоз… хотя на том Сергелийском рынке у меня и украли документы. Но я все это ощупал глазами и обнял душой, я постигал эту красоту светлыми бессонными ночами, и туманными зорями, и при солнечном свете, и под прессом усталости, на взлете и на посадке, на вираже и на эшелоне, и в болтанку, и через редкие облака, летом и зимой, в снегу и в зелени, и в золоте осени, и в половодье весны, и под грозами, и в пыльную бурю, и под полярным сиянием… Это моя жизнь, это в меня вросло тысячами побегов и корней. Какая, к черту, заграница. Полетайте с мое, поглядите на мир – лучше моей родной страны нет. Можете упрекнуть меня в квасном патриотизме, но, извините, этот квас изрядно разбавлен потом моей мокрой пилотской задницы. Я для моей Родины работал. Я не заседал в президиумах и комитетах, а пахал и пахал свое небо. И если посевы взошли и дали мне плод, ну, пусть не ура-патриотизма, а тихой, уверенной любви к родной земле, – слава Богу. 12.12. Хорошие анализы. Гора с плеч: половина медкомиссии, считай. Ну, собственно велосипеда и бигудей я не боюсь. А дальше – лишь бы хирург не заметил больное колено. Ну, у меня другой хирургический диагноз, он отвлечет. Колено мешает рулить педалями на старых машинах, где нет ручки. Ну, помогаю на развороте левой рукой, упираю ее в колено, разгружаю. Летом буду давать рулить вторым пилотам, а нынче, в гололед, извините, приходится самому, через боль. 14.12. Приехал вчера в контору в надежде получить зарплату сразу за два месяца. Спасибо, дали хоть за октябрь, но… рублевыми бумажками. Принес домой два кило рублевок, ну, на мелкие расходы. 16.02. Погуляли у друзей на юбилее. Компания подобралась очень дружная и голосистая: только я растянул аккордеон – как грянули «Казака», и потом орали весь вечер, дружно и чисто, на голоса, и я орал, дурак дураком, завелся, да так, что и закусить путем было некогда. Пришел домой пьяный, с чувством легкого голода, и тут же лег спать. Но повеселились хорошо. И о политике некогда и незачем было болтать. Специалисты в газетенке учат, как выжить в условиях инфляции. Много разговоров вокруг. Но, в конечном счете, речь идет о том, чтобы те, кто привык жить на халяву, поняли: мы не все равны. Самолет, ресторан, отдых на море, автомобиль пока доступны лишь тем, кто набрал больший потенциал, а теперь, вот нынче, дает отдачу большую, чем другие, ну, больше вкалывает, от кого больше конечный результат. Или кто больше ворует. Ну, такова жизнь. А остальным… даются советы, как выжить. Главный из них: шевелись, не сиди, делай что-нибудь, думай, думай, рискуй! Правда, эти советы заработают лишь на пустой желудок. Гром не грянет – мужик не перекрестится. Вот я сижу, балдею, веселюсь и ем, ибо еще не все проел. А как начнем с себя проедать, не поздно ли будет шевелиться? Склоняюсь к мысли, что ни капитализм не наберет силу через пару лет, ни гражданской войны не будет, а будем просто гнить. 18.12. Вроде бы отстали от нас с этим двигателем. Заводчики его тут же списали, т.к. с ним еще прошлым летом у Бовы был подобный отказ и вынужденная в Актюбинске. Они еще заикнулись было, что ради пущей объективности надо бы упомянуть о неправильных действиях экипажа… Но прибывший к шапочному разбору Попков потребовал тогда замерить показания датчиков… а поезд уже ушел, расследование закончено, – ну, тогда с нас взятки гладки. Ну и бог с ним. Простили. Вот так у нас всегда: экипаж в полете поджимал хвост и работал, исправляя чей-то брак и, чего уж там, – спасая свою шкуру, не говоря уже о пассажирах, – и спасибо, что простили. Слетали в Норильск. Условия, в общем, ординарные: давали ветерок под 35 слева, 10-12 м/сек, видимость хорошая, сцепление 0,5, изморозь. Ну, я и сел ординарно. Протянул вдоль пупка, чуть подхватил… и – выше, на 10 см, но выше, выровнял. Пупок ушел, и мы понеслись на метре, на метре, на метре… еще чуть подобрал, потому что потащило вправо, заметно потащило; ну, коснулись мягко, но – справа от оси, метров пять. Назад рулили, и в свете фар на заиндевевшей полосе отчетливо и позорно видны были все нюансы касания: что бежали мы левой ногой по осевой линии, это 4,5 м справа от оси; что коснулись, справедливости ради, сбоку всего метра три, касание, правда, мягкое: пунктир от цыпочек, нижних, передних колес тележек, тянулся около сотни метров, потом уверенный след, но – чуть по диагонали вправо; значит, посадка была со сносом, спасла изморозь, смягчила… мастер… твою мать. И самый-то позор: на пупке – едва заметный след первого касания, мы его не ощутили. То есть: козлик таки был, и – точно по центру. Значит, подхватил чуть резче, чем надо бы; если бы в этот момент замереть, посадка была бы идеальной. Ну, к этому надо стремиться, но не всегда получается. Может, не совсем экстремальные условия, не тот тонус, может, давно не летал, может, разгильдяйство. Ветер, правда, судя по поземку, был не под 35, а под все 60, но что это меняет. Я должен садиться при сносе хоть 8 градусов, как в этот раз, хоть 19, как, помнится, на Ил-14 на Диксоне, – но строго по оси. Это школа Репина и Солодуна. Молодой штурман (мой Витя в отпуске) на мое ворчание по поводу посадки недоуменно заикнулся, что, мол, хорошая же посадка, а 5 или 8 метров сбоку от оси – это ж допустимая погрешность… Я ему объяснил, что мои критерии – ноль, так меня учили. На что он, подумав, резюмировал, что хорошо учили. А сам штурманец – из молодого поколения, новой формации: связь ведет свободно на английском, имеет допуск за границу и работает молча и уверенно, несмотря на малый стаж: всего 4 года на «туполенке», а у нас – с июля. Ну, это пока мое первое впечатление о нем. Дома садился Саша: все хорошо, но после ВПР разболтал глиссаду, выхватил на выравнивании и тоже воспарил, сантиметров на 30-40, потом упал на три точки поодиночке. Ветер нам давали метров пять, оказалось – более десяти, вот его и присадило на правую ногу. Как раз проходил фронтик, слабо выраженный, при ясном небе, а вот ветерок менялся. Но все это – в пределах пятерки. Ну ладно, полетел я в Москву. 19.12. Саша свозил меня туда и обратно; отдохнуть в Домодедове 10 часов не удалось, потому что какой-то рейс задержался поздним прибытием самолета, а он с разворотом; чтобы вылет из Москвы не задерживать, выдернули первый на очереди экипаж, а нас всех передвинули; поспать удалось только два часа. Весь обратный полет я дремал, но рад, что вернулись раньше: завтра пойду на велоэргометр, предварительно отдохнув дома, а то получалось, что чуть не сразу по прилету. Но ночь все равно без сна, так, в легкой дреме за штурвалом, с полным контролем всех зон и пунктов. Зато Саня перед вылетом успел выспаться, как знал; он и довез, и хорошо посадил. В отряде денег не давали, но продавали в счет зарплаты знаменитый «Агдам»; где-то провернули же, и дешево: по червонцу огнетушитель. Я взял шесть штук, пригодятся. А то моим бедным женщинам в застолье и выпить нечего, так пусть пьют бичевский напиток. Хотя мужики клялись, что качественный портвейн. Организуется у нас 4-я эскадрилья для полетов за границу, ну, блатные… Саша Ш. ее возглавил. Я отказался туда идти. Тогда Савинов стал долбить меня летать без штурмана; я – категорически; тогда он предложил стать внештатным пилотом-инструктором. Нужны срочно два инструктора. Думаю. Объективно, на эту должность ставить некого. Из шести возможных кандидатур, стариков, трое – одиозные личности, еще двое – отнюдь не педагоги. Значит, мне. Остальные почти все – год как ввелись, за ними самими глаз да глаз. И еще одного кого-то надо; выбирают из тех, кто уже два года командиром. Это ж у меня отберут мой любимый экипаж. Буду летать с вновь создаваемыми экипажами, отдавать их введенному молодому командиру – и по новой. Ну, само собой, нервы. Правда, пока до сих пор я обкатывал вообще зеленых вторых пилотов, перворазников, ну а теперь дадут готовых к вводу, старых волков, только без опыта полетов с левого сиденья. Ну, я-то сам с правого справлюсь, дадут три-четыре полета для пристрелки – и получай допуск. Главное – самостоятельно не буду летать. Я и так щедро даю штурвал молодым, а теперь, по должности, – вообще. Это болезненно. Ну там, пару-тройку посадок в месяц, в сложняке, я, конечно, отберу. Но пора свободных полетов кончится; теперь я буду только передавать опыт. Школа Репина и Солодуна логически продолжится. Ну, оплата чуть выше. Может, какие-то там рейсы можно будет выбрать. Но это мелочи. И не отстанут ведь: у меня есть документ, я уже был на инструкторских курсах, а нынче Ульяновск требует за это триста тысяч; да и время на подготовку инструктора потребуется, а я готов, только тренировку на допуск дать. Это все решится после Нового года. Но к тому времени многое изменится, еще дожить надо. Кругом политика. Идет стремительное разваливание кружащегося в штопоре государства. Отвалившиеся куски, в падении своем, кукарекают о самостоятельности. Но пока это только куски. И вся страна, бывший Союз, вечерами приникает к телеэкранам и ждет новостей из газет. И я жду. 23.12. Вернулся с Камчатки. С погодой и топливом повезло, тягомотный рейс завершен, и я рад, что теперь не скоро полечу туда. Только на этот рейс приехал, не успел выйти из автобуса, как уже налетела толпа: «командир, подпиши на приставное кресло». Все просители – свои; молча подписал билетов пять, пусть идут, на самолете разберемся. Пока подписывал, уже портфель мой открыли, набросали туда бутылок и даже – еще в Красноярске! – банку икры… Потом еще свой человек передал рюкзак картошки и чемодан до Магадана, там встретят; взял, еще бутылка. По пути к самолету встретил командира летного отряда, принял от него заказ на икру и рыбу… святое дело. В самолете уже сидели три зайца, мои же коллеги, да у проводниц своих двое. Короче, долететь до Магадана – и меня уже смело можно было там оставлять на срок. Всем нужна икра, нужна рыба, – это нынче валюта. А в Петропавловске валюта – водка, поэтому самолет ею был налит доверху. Я из дому еще на всякий случай прихватил бутылку спирта. Так и полетели, друг на дружке. А еще просился совсем уж посторонний, без билета, лепетал что-то о больном сыне, о лекарстве, которое только в Японии, о корабле, единственном, уходящем туда как раз завтра, просил помочь – за любые деньги… а у меня сорок минут до вылета; короче, я с оловянными глазами ему отказал: надо было еще протащить на территорию тот рюкзак. И все – нужным людям, своим же коллегам; и не откажешь, ибо завтра так же буду просителем я. В стране воров и несунов это – наше воровство. Долетели, устроились вместе с зайцами в гостиницу, и пошел поток продавцов: «Икру надо? Рыбу надо?» Какой там сон. Каждые десять минут – шаги, стук в дверь, шепот, шелест бумаги, звон стекла… Ну, пару часов удалось подремать, потом сходили в кафе перекусили, надо опять ложиться поспать перед ночным длинным рейсом. Но опять продавцы; я уже раздал экипажу заработанные бутылки, себя тоже не обидел: мне досталось пять увесистых копченых рыбин исключительно товарного вида и отменного вкуса. Наконец кончилась валюта. Повесили на дверь лаконичную надпись: «ничего не надо». И удалось часа три поспать. Погода звенела. К самолету мои зайцы везли на санках и тащили волоком по снегу сумки, коробки, пласты мороженой рыбы, осторожно несли банки драгоценной икры, которую у нас продают по 250 рублей за килограмм. Валюта! Бартер! Блага! Ну а я привез себе баночку икры, 650 г; мои ходят кругами вокруг, хочется ж и попробовать, и к Новому году… ну, попробовали. А рыбку отвезу, хоть по одной штучке, родителям, своим и Надиным, надо после праздников слетать, в этом году я не смог. Ну, сам полет – это не главное. Это мелочи. И, как всегда, после бессонной ночи… 24.12. Почти прошел было комиссию, но обязательно какая-то подлость: понадобилась флюорография, хотя нам вроде бы положено раз в три года; понадобилась и спирография. Стал бегать: ну, ванька дома – маньки нет… Завтра убью утро на флюорографию, потом в гараж, потом посплю, а в ночь – Ленинград, или как это… Санкт -Петербург. Мне, если честно, не нравится это «Санкт», да и «Петербург» отдает плесенью. Мне, пилоту, привычнее, удобнее, мобильнее пользоваться в радиообмене приевшимися, прижившимися названиями: Свердловск, Куйбышев, Ленинград, – без всякой тут политики. Эти смены названий – дань волюшке толпы горожан и протест против советского пресса, что наболело. Да и пошли они все. 25.12. Вчера у хирурга, показывая товар лицом, бодренько рванул становой динамометр, и внизу шеи обреченно чавкнул и стеганул болью раздавленный межпозвоночный диск. Ну, не раздавленный, но прижал крепко, теперь болит. Зато получил запись хирурга, что я здоров. Это уже грудной отдел, ну, надо и к этому привыкать: а не поднимай руками тяжелого. Хвост надо беречь. Помню, в молодости, без ограничений, помогал дома еще не старому отцу своему грузить какие-то мешки, хватал и метал… а отец все уговаривал не рвать, потише, осторожнее… Теперь я его понимаю. У невропатолога рассыпал лживые комплименты, лишь бы не взбрыкнула, не отправила еще на какие-то пробы. Тут недавно командир Ил-62 выкинул номер: на посадке, уже в глиссаде – эпилептический припадок, еле вырвали штурвал; пришлось второму пилоту сделать два круга, ну, посадил. Потом командир очнулся на земле – ничего понять не может, ничего не помнит. Списали немедленно. Я и боялся, что эксперт начнет свирепствовать после этого случая… расточал улыбки, льстил… ну, обошлось. Слаб человек, каюсь. Все равно мы врачей боимся, заискиваем перед ними, льстим, и готовы на все, лишь бы допустили. И как же много тут субъективного. Вот и меня гоняют из-за спирограммы, никому не нужной, а я после нее два дня кашляю. Но – прынцып… хотя у нее самой муж – такой же пилот. По глазам – думал, уже все, выпишут очки. С великим трудом, почти на догадках, дотянул, опознал цифры в нижнем ряду; еще годик без очков протяну. Хотя рук – отодвигать текст – уже почти не хватает. Старею. И хоть Надя мне еще провозглашает дежурные комплименты, что, мол, еще ничего мужичок… нет, старею. И стараюсь по возможности отодвинуть хоть символ старости – очки. 29.12. Вчера у меня был праздник. С утра получил зарплату за ноябрь – 2400, и все двухсотками. Вчера же завершил медкомиссию, уговорил доктора обойтись без спирограммы. Так что на следующий Новый год я должен быть не в рейсе, а дома: годовая комиссия-то кончается 28-го декабря! Кроме того, гляжу, в пульке мой обратный рейс из Москвы, завтрашний, передвинут на полсуток раньше, успеваем домой к обеду 31-го. Кроме того, отпустили в январе на четверо суток слетать к родителям. Кроме того, вчера была суббота и баня, где я четыре часа выпаривал остатки простуды и радика. Домой приплыл с красными глазами, хлопнул хорошую рюмку водки, потом еще одну, потом, втихаря от супруги, – третью… но она заметила. Ну, и кончилась баня. Сегодня я выходной. Из забот в этом году осталось только поставить и нарядить елку, но, ей-богу, это приятные заботы. Кончается год. Год тревог. Что там деется в стране, в экономических пространствах, в карабахах и на баррикадах, – меня не шибко волнует. Они там сами по себе, а я в этом году отдубасил саннорму, и ни одна собака не упрекнет меня в безделье. Я в этом году, как и в предыдущие, пахал свою ниву. Дай же бог, чтоб и в последующие годы, сколько их там осталось, у меня хватало сил и дальше так же пахать. Главный итог 1991 года – империя зла, созданная большевиками, на штыках, развалилась. Как говорится, мне выпало счастье жить в это славное время. Надо запомнить главные впечатления, чтобы потом, в кругу внучат… А нет их, впечатлений. Ну, рухнуло. Ну, треск. Усталость – вот впечатление. Устал я от всего этого, и готов ко всему, и приму все, и скоро. Как теперь мелки все дебаты. О шестой статье Конституции. О роли и судьбе партии. Материалы съездов каких-то депутатов. Самих-то депутатов – под зад. Красное знамя, серп и молот, демонстрации по праздникам, сами праздники… субботники… октябрины… И Буш подвел итог. Он сказал: в длительной борьбе с коммунизмом победили наши нравственные ценности. 9.01.1992 г. Слетал на Украину. Общее впечатление: доволен. Старики еще бодры, но подкрадывается нищета. Видя, к чему идет, старики мои полтора года назад взяли 13 соток земли – своей родной земли, со своей же бывшей усадьбы, отрезанной лет 15 назад, когда у нас в огородах прокладывали новую улицу. Тогда кусок этот, сплошное вечное болото, никто не взял, земля пустовала. Они забрали ее назад, благо, это угол нашего же бывшего огорода, – и благоустроили. За полтора года навозили туда полсотни машин чернозема, перегноя, песка, подняли уровень, сделали дренажи, все вспахали, потом еще раз вручную перелопатили (в 75-то лет!), посадили картошку, помидоры, клубнику, собрали урожай, а сбоку еще вырыли широкую канаву, целый пруд, разводят там карасей. Они не ждут милостей и едят свой продукт. Рождество встретил в харьковском храме. Много суеты, хор неплохой, но слабоваты басы. А в общем, в храм ходить лучше в будни, а то и те хилые ростки, что вроде затеплились в душе, затопчет толпа. Модно стало ходить в храм, ставить свечки без толку, размашисто креститься невпопад… и, глядишь, истинно верующему человеку и перекреститься не дают выступающие всюду широкие плечи в модных ременных подстреленных курточках. Было свободное время, погулял по Харькову. Чужой город. Поехал в парк Горького, походил по местам своей юности: ничего не узнать, все перестроено, все не так. Долго искал парашютную вышку, первую свою покоренную высоту… нету вышки, снесли, пошла, должно быть, на шампуры. Такое время. Но все равно доволен поездкой, даже хотя бы потому, что весь день Рождества прошел у меня, заполненный чувством глубокой и острой грусти – грусти в общем, грусти от познания, которое, как известно, умножает скорбь. Туда я добрался без проблем, а обратно не везло с самого утра: то автобус опоздал, и я из-за него не успел к рейсу; потом, прогулявши весь день по городу, договорился было с харьковским экипажем, зайцем на Внуково; уже было пошли на самолет, как вдруг разбегавшийся Ан-24 на наших глазах убрал шасси и пополз на брюхе по гололеду аж до конца. Ну, все: эвакуация машины – дело долгое; порт закрыли, я переориентировался на ночной прямой рейс до Красноярска, договорился с экипажем Ту-134. Вылет неоднократно переносили, потом отбили до утра. Спасибо ребятам-землякам: взяли меня с собой в гостиницу, провели в столовую, короче, братья-летчики… Довезли до дому, отдал им бутылку – еще мне и спасибо сказали. Видимо, еще и то, что я все-таки командир Ту-154, оказали уважение. Нет, спасибо мужикам. Когда еще сидели в Харькове в штурманской, обсуждали это ЧП; ну, случай типичный, сколько уже раз убирали шасси на разбеге на Ан-24. Видимо, застучала нога, командир молча взял штурвал, чтобы разгрузить, поднял нос, а бортмеханик, Махачкала, подумал, что уже летят, без команды убрал шасси. Там блокировка случайной уборки снимается при разгруженной передней стойке… Пришел в штурманскую тот командир с махачкалинского рейса, искать инспектора, оформлять летное происшествие: лица нет… Мы все тактично умолкли; инспектор, старый пилот, быстренько увел мужика к себе… Чем он виноват? Что плохо воспитал подчиненного? Или недоработал с ним технологию? Или сам ввел в заблуждение, молча подняв ногу? Или… Мы не стали вдаваться в обсуждение. Все в годах, у всех бывало. Только посочувствовали. Ну, эвакуация затянулась из-за непрофессионализма. То не надувались подушки, то надувались несимметрично, то ветер мешал… плохому танцору… Но никак не удавалось приподнять машину и выпустить вручную шасси. Наконец, удалось. Подцепили водило, не проверив, встала ли передняя нога на замок, дернули раз, два, – гололед; короче, нога сложилась снова, нос упал на водило, помяли… снова подняли, повезли и уткнули в углу носом в грязь. Оно, может, дешевле было бы вообще столкнуть самолет бульдозером с полосы: самолет, верно, уже вылетал свое и окупился, а убытки от закрытого порта на всю ночь – гораздо больше, чем пришлось бы платить Махачкале за металлолом. Сравнивая пилотирование и технологию работы на Ту-134 и у нас, отмечаю, что у нас все-таки – может, что именно красноярская строгая школа, – класс работы заметно выше. Да и самолет посолиднее, мы им так не швыряемся, и с тангажом поаккуратнее… а уж газами сучить, как они, вообще несерьезно. У нас, прежде чем дать команду бортинженеру, еще подумаешь, а там-то газы в руке у пилота. Ну что ж, люби свою технику, старайся. Да еще если у меня на борту свой брат-пилот, я уж стараюсь, пожалуй, почище, чем при проверяющем высокого ранга. Тот, если я где пузыря пущу, поймет и простит – сам такой; а линейный-то пилот за спиной себе ухмыльнется. Его-то не проведешь. Перед ним-то и стыдно, перед ним-то и стараешься показать свою строгую красноярскую школу. 10.01. Два выходных, покой, лень и маленькие радости, вроде бани или рюмки лимонной водки под бутербродик с икрой. И все это под аккомпанемент тревожных сообщений по радио. Да пошли они все, козлы. Непопулярные меры правительства тем и непопулярны, что – для массы, для неимущих. Им труднее всего. Я же спокойно жарю гуляш и стараюсь не думать о том, что в любой момент, случись что со здоровьем, могу пополнить армию этих голодных и озлобленных людей. Я слышал, как вчера хором и громко матерились работяги, увидев торговлю яблоками по 300 рублей кило. И в бане за 7 рублей народу поубавилось. Но, кажется мне, наш народ вытерпит и приспособится. Я тут спросил у родителей: в войну и после нее, в 47-м, – было хуже? Они только засмеялись. Разве сравнить. Там мерли с голоду, а тут сметану дорогую не берут. Возьмут, когда припечет. Непопулярные меры – это кнут, которым людям вбивают через заднее крыльцо: плати, плати, плати за все. Плати за квартиру – это во всем мире очень дорого. За садик ребенку – тоже очень дорого. И за общественный транспорт, и за продукты, и за одежду, и за мебель, и за автомобиль, – это все очень дорого и далеко не всем доступно в цивилизованном мире. Дешевое пока спиртное у нас – уступка люмпену, расплата за совковый образ жизни, где все – через бутылку. За все плати. Но зато вынужден будешь думать, как заработать. И как работать. Миллионы и миллионы развращенных строителей коммунизма поймут, что это – всерьез, без дураков, навсегда; надо вкалывать, и вкалывать с умом, иначе выкинут за борт. Тогда и появятся товары и услуги, и качество появится. И землю будут хватать. Мне-то привыкать не к чему, я приучен. И поэтому без зазрения совести могу себе спокойно жарить жирный кусок мяса. Жизнь-то одна. Надо бы с февраля еще поднять тарифы, хотя бы вдвое. Уже и так появились свободные кресла, но количество рейсов еще не сокращается. А надо бы довести до того, что рейсы сократить процентов на 20, тогда станет хватать топлива и мы сможем войти в колею. И народ привыкнет, что прежде чем смотаться через всю Россию, надо годик повкалывать. Ну не время сейчас для прогресса. Я еще лет восемь назад писал: куда мы несемся, не пора ли остановиться, оглядеться, собраться с мыслями и силами. Так вот: давайте постоим, подумаем, повострим острие прогресса. Оглядимся: стоит ли вообще летать? Ну, кому уж очень надо, тот заплатит. А остальным не горит, пусть заработают. Надо уже перестать коситься на тех, кто может заплатить: мол, а ты с какого классу? С классу имущих, вот и все. Весь мир, который мы так мчались обогнать, с голым задом, – именно так он и оценивает: не по идее, а по долларам. Легко тебе говорить. Кто на что учился. Хочешь жить – расти над собой. 15.01. В Москву меня свозил второй пилот. Обратно зайцем летел наш родной Леша Бабаев, в своем экипаже… эх, жаль, рано ушел на пенсию… такой летчик! Я сажал дома самолет в идеальных условиях, старался. На четвертом развороте, ну, перед ним, при выпуске шасси не загорелась одна зеленая лампочка. Я ко второму пилоту: проверь; так он же не знает, где та кнопка, ну, с Ан-2 парень, ему этот, типичный для всех самолетов пульт контроля шасси еще внове. Ну, пока я сам дотянулся, проверил, –провернулись; едва успел вписаться в глиссаду, одновременно гася скорость, довыпуская на 45 закрылки, долдоня карту и ведя связь. Второй пока не помощник. Садился в штиль, добирал на последних углах атаки, чувствуя всей спиной – не проверяющего, нет, – а Великого Мастера Мягких Посадок Алексея Дмитриевича Бабаева, моего давнего второго пилота, у которого я сам учился и по-хорошему завидовал его божьему дару. Ну, посадил. Не посрамил. И доволен как дурак: удалось! Повторяю: не перед проверяющим – бог с ними, с проверяющими, – перед Лешей моим старался. Перед нищим пенсионером. И экипаж меня понимал. 20.01. Из Норильска дома пришлось садиться мне: давали хороший ветерок, до 15 м/cек, болтало. И что-то я так это грязновато пилотировал, прямо как никогда. И сирена срабатывала, и скорости гуляли от минимума до максимума, даже Валера сзади молча совал газы; наконец, вышел я к торцу. Выровнял, прижал, замерла, выждал, чуть подхватил… и тут порыв ветра: мы неслись на высоте десяти сантиметров, и я только чуть заметным левым кренчиком придерживал появившийся неизбежный снос вправо. Долго ли, коротко ли мы так парили – пришло время падать. Я еще чуть добрал. И снова мы понеслись. Малый газ я поставил вовремя, это точно, над торцом краем глаза засек скорость: 270, соответствует массе. Должна бы уже упасть, но летит. Но всему приходит конец: я крепко потянул штурвал, задрав нос вверх до возможных пределов, и мы упали. Падение с высоты 10 сантиметров – это на пятерку. Максимальная перегрузка на акселерометре зафиксировалась 1,25 – это за весь заход, несмотря на болтанку: я не мешал машине самостоятельно исправлять крены, не дергал тангаж, и хотя мы болтались как дерьмо в проруби, общие волны болтанки обтекали нас плавно. Короче, я себя вслух отругал, экипаж тактично промолчал, и только Филаретыч отметил мою самокритичность как положительное командирское качество. Нет, надо таки летать чаще. 21.01. Выходной день, т.е. я дома один. Выходной от людей, пусть даже родных и близких. Обязаловка с утра есть: что-то приготовить на обед. Ну, готовлю. Чем-то трогают за душу стихи Ду-Фу: Всю жизнь я стремился Уйти в одиночество, в горы. И вот уже стар, – а свое Не исполнил желанье. Давно бы я бросил Служебные дрязги и ссоры, Лишь бедность мешает мне Жить в добровольном изгнанье. Потребительская корзина у нас где-то около двух тысяч. Мы с Надей зарабатываем шесть. На троих – только-только, на грани нищеты. Вчера на проходной, гляжу, сидит Слава Д., мой бывший замкомэски еще на Ан-2. Старый, лысый, в очках… списанный пилот, которому на пенсию не прожить. А больше, со своими примитивными жабрами и хвостом, мы, летчики, ни на что на земле не годимся. Я потихоньку забываю музыку. Слушать слушаю, а играю все реже. Костенею. Не до игры. С грустью вспоминаю пьяные застольные годы – годы моего расцвета, когда я верил. Все было впереди, жизнь была легка, я пил ее и не напивался. Вот тогда – игралось и пелось. Иной раз, в согласии хора, горло пресекалось пьяной слезой: как прекрасен мир! Да мир все равно прекрасен! Не надо искать оправданий, не надо искать пути, – это не мой удел. Вспомни нынешнюю золотую осень, Вася. И то ощущение острого счастья жизни. Вот и все. Ты гармонично живешь? Вполне. Тридцать часов налета обеспечивают тебе три тысячи деревянных и свободное время? Обеспечивают. Руки гудят от работы в гараже? Гудят. Баня есть? Есть. Пишешь свою мемуарию? Нравится? Ну что еще надо. Мишка рядом покусывает за кончик авторучки, мурлычет и просит зарыться носом в его чистую и теплую шерсть. Жизнь прекрасна. А тревожные мысли – только необходимый противовес. Нельзя жить безмятежно: только в сравнении осознаешь свое счастье. И не надо никому завидовать. 22.01. Банный день. Мне близок шукшинский Алеша Бесконвойный. И я так же вот просыпаюсь с праздничным ощущением: «будет!» – как в молодости ждал с этим чувством свидания с любимой. Что делать – всякому времени свои радости; теперь для меня свидание – с баней. Будет! Я не тороплюсь. Я выпрягаюсь. Поделал мелочи по дому, теперь собираюсь. Размочил старый веник, он еще на один раз сгодится; дал стечь воде, завернул в старую газету. Тапочки, мочалка, шапка и рукавицы, мыло, шампунь, пихтовое масло. Полотенце не забыть. Отдельно – чай. Пока закипает вода, набираю в особую кастрюльку лечебных трав: мята, подорожник, мать-и-мачеха; листовой чай для заварки. Брусники размял. Варенья смородинового пару ложек. Термос, воронка, ситечко. Ритуал. Вчера навкалывался в гараже молотком и зубилом: выколачивал и подгонял для выгнившего угла колесной ниши деталь сложной конфигурации. Рубил, клепал, творил, пел песни, потом нажарил на конфорке печки картошки с салом, достал из погреба огурчики, бутылку того самого «Агдама», налил себе стакан – и полчаса наслаждался легким хмелем, едой, отдыхом, уютом у печки и чтением газет трехлетней давности. Боже, как давно это было: Политбюро, социалистический выбор, задачи партии по работе с молодежью, Афганистан, землетрясение в Армении, какие-то ферганские события… А у меня жизнь из одних наслаждений. Газет на этот год мы не выписали ни одной. И как же ж хорошо-то! Там грузины граждански воюют… да пусть хоть все друг друга перестреляют. Я знать ничего не хочу, что есть на свете еще какая-то Грузия. Я иду в баню. А грузины там, или филиппинцы, сами решат свои проблемы. Им моя баня – до фени. Оно, может, и лучше так. Надоело, когда тебя берут за шкирку и суют носом в каждую задницу. Так что годик отдохнем от прессы и вообще от информации. И сбережем этим себе здоровья лет на десять. Будет баня! 24.01. В эскадрилье с меня не слезли, и с начала февраля планируют посадить мне на левое кресло молодого командира Чекина… с моим экипажем. Ну, уговор такой, что откатаю Чекина, возьму следующего; пока его откатаю, Чекин с моим экипажем налетает свои первые 200 самостоятельных часов, ему сформируют постоянный экипаж, а мне возвратят моих Филаретыча и Алексеича. Ну а Саня Тихонов пошел пока по рукам: такая планида. Может, к тому времени подойдет и его очередь на ввод, да что загадывать. В юанях это обернется мне где-то на 700 деревянных больше, а если учитывать, что налет у рядовых сейчас в среднем часов по 30, а мне на ввод Чекина дают месяца три и сто пятьдесят часов, то я и налетывать буду больше других. Ну, это вроде как плюсы, а о минусах я уже писал выше. Ладно, попробую вкус инструкторского хлеба. Немного лестно поначалу, но я достаточно знаю нашу кухню, чтобы особо не восторгаться. Ну а сегодня возили меня на тренажере с правого кресла, чтобы технологию работы вспомнил. На днях дадут четыре захода на самолете – и в путь. Пока же завтра лечу в Москву. Практически ничего не меняется. Тот же экипаж, та же работа со вторым пилотом, только я справа, а он слева, но он уже КВС-стажер, и мы все начеку. Но мы и всегда начеку, а работаем спокойно и доброжелательно. Школа Солодуна. Прочитал пару рассказов Грина, и в голове почему-то смутно стала определяться одна мысль. Вот я, много, честно и тяжело работающий мужчина, радуюсь тому, что в магазинах стали появляться товары, а мне достаточно много платят, чтобы я мог позволить себе их приобретать, как и дорогие продукты. Но сознание того, что кому-то, многим, эти блага не по карману, что они и появились-то в магазинах не потому, что их стали больше производить, а потому, что многим не купить… Не купить потому, что зарабатывают мало, что не очень способны, не талантливы, пристроились, думая, что обхитрили жизнь, либо кому просто не повезло, а кого дурит и обдирает государство. Чем виноваты их жены и дети, почему они должны страдать – и уступать мне, много, честно и тяжело работающему, уступать моей семье, моему ребенку? Неужели в этом справедливость жизни? Или их отцы и мужья не много, честно и тяжело работают? Вот сознание всего этого вызывает во мне стыд. И все-таки умом я понимаю: в этом – биологическая справедливость жизни. Выживает сильнейший, приспосабливаемый, гибкий, жестокий, равнодушный. Но еще больше в нашей жизни сытых захребетников. И они живут еще лучше, и их полно во всем мире. Видимо, таков тоже закон жизни: они выкарабкались. Они сумели приспособиться, выжить и выдрать кусок изо рта ближнего, оставив голодными его жену и ребенка. И им – не стыдно. 27.01. Слетал в Москву, и сразу же тренировка с правого сиденья. Попков дал мне одну посадку, сказал «хватит» – и я допущен к работе внештатным пилотом-инструктором, с правом ввода в строй молодых командиров и с дополнительной оплатой пол-оклада. Никакого дискомфорта от правого сиденья я не ощутил, без труда мягко сел под сверлившими спину взглядами новичков-вторых пилотов: знай наших. Боря К., пару лет побыв в кооператорах на пенсии и вернувшийся за штурвал, установил себе железную дверь, и тут же, в одном из первых рейсов, был ограблен, обворован до нитки: дверь явилась признаком зажиточности, и пока он летал, а жена куда-то ушла, дверь ту профессионально вскрыли и вынесли все, вплоть до шампуней, примерно, тысяч на 180. Мы с Лешей Пушкаревым, нищие пилоты, пролетавшие 25 и 30 лет соответственно и живущие на одной площадке, решили в свой коридорчик железную дверь не ставить, не дразнить собак, а поставили стеклянную. Да и то: каждая собака знает о нашем богачестве. 30.01. Слетали в Москву последний раз с Сашей Тихоновым. Ну что, летать он научился, вполне сносно сажает, а нынче выдал мне и идеальный взлет, и идеальную посадку. Что ж, я доволен: школа Репина и Солодуна действует. Теперь пусть идет в любой экипаж, мне не стыдно, если спросят, с кем летал, кто учил. 3.02. С Оксаной моей нынче на сессии произошел казус. Всегда она сдавала экзамены не ниже чем на четыре, а больше на пятерки; упорным трудом, неизбежной зубрежкой медицинских терминов и добросовестнейшим отношением к учебе удивляла не только нас. И тут – последний в сессии экзамен, мы в случайном разговоре заикнулись об этом хорошей нашей знакомой, профессору; она между делом пообещала подстраховать, мало ли что. Ну, спасибо, конечно, да не надо, зачем… ребенок все равно добросовестно учит… Теперь не подвести бы профессора… На экзамене вышло так, что профессор уехала в командировку, но просьбу ее передали тете-преподавателю, и та, закусив удила, не только не смотря на просьбу, а прямо вопреки ей, завалила ребенка. Ну, переживания, комплекс неполноценности, обида… хотя Оксана знала материал очень хорошо. Вернулась профессор, удивилась. Теперь уж просьба профессора – профессору, зав. кафедрой: принять экзамен персонально. Оксана снова зубрила, с дрожью в сердце пошла на пересдачу; зав. кафедрой предварительно позвонил той преподавательнице, она охарактеризовала Оксану отрицательно. Ну, собрался консилиум, и стали пытать студентку, подряд два часа. А у нее – от зубов все отскакивает. Ребенок действительно знает материал, да еще и сверх программы, да еще и думающий студент… Короче, можно ставить шестерку, но порядок такой, что пересдача – не выше четверки. Да бог с ним, главное – отстояла себя, показала товар лицом, полностью опарафинив ту тетю, что ничтоже сумняшеся завалила чуть не лучшую студентку факультета. Пошла слава… Ну, ребенок доволен. Самоутвердился. А я вспоминаю, как сам сдавал в свое время. Как заходили преподаватели с других кафедр послушать, как сдает этот курсант, и засиживались… Это было торжество знания, уверенности в себе, артистизма, логики, умения формулировать, изящества и простоты изложения. Может, на безрыбье… Но я всегда знал твердо, что лучше меня в училище, да и в ШВЛП, все равно никто не построит столь красивый, краткий, полный, логичный, изящный ответ, на чистом литературном языке и в абсолютно спокойной и достойной манере: смотрите, ведь мы же с вами вполне понимаем друг друга. Я мог поспорить с экзаменатором. Мог задать ему вопрос по существу дела. То есть, экзамен был для меня не отчетом, не рапортом, не докладом, не оправданием, а беседой умных людей. Ты умный – я тоже умный, и ты видишь это. Если ты не совсем удачно сформулировал вопрос, я помогу тебе яснее изложить мне суть вопроса, ибо мы – коллеги. А уж ответить – отвечу красиво и самую суть. И увяжу с жизнью. И приведу примеры. Да мало ли как можно показать свои знания и готовность применить их на практике. Но главное – я никогда не боялся преподавателя. Если мы взялись изучать этот предмет, то будьте уверены: Ершова запомнят как сильного ученика. И принимать экзамен у него – одно удовольствие. Ну, а если он меня вообще впервые видит, то я уж сумею показать ему еще в преамбуле то, о чем сказал выше. Бывало и так, что для порядку задаст дополнительный вопрос, а я не знаю. Все ведь знать невозможно. Я так и говорил: не знаю. Но общее впечатление от ответа, от манеры, от потенциала, было таким высоким, что экзаменатору становилось даже неловко, он конфузился и отпускал меня с миром. Вот так, отличником, я и прожил всю жизнь. Не считая, конечно, института. Там был кризис, ломка, разочарование, и если я получал двойки, то – без борьбы, без унижения. Это было мне не нужно, бессмысленно, не мое. Теперь вот предстоит эти свои знания и умения передавать ученикам. Завтра первый рейс со стажером. Этап. Но никаких эмоций: научу. 10.02. Слетали в Москву, в новом качестве. Саша слегка подвесил машину в Домодедове, ну, на обратном пути исправился, дома сел отлично. Дело пойдет. На рулении я, конечно, был напряжен, и слава богу, что машины оба раза были старые, с управлением от педалей, где мне легче помогать, а ему ближе к его привычному Як-40. Но завтра попадет с «балдой», там уж и ему и мне придется попотеть. 13.02. Казалось бы, ввод в строй – надо давать рейсы с максимальным количеством посадок, чтоб хорошо набить руку. Нет, наоборот: длинные полеты, а посадок всего две, туда и обратно. За посадки теперь платят: один полет – 68 рублей. А за ночь теперь не платят. Платят за часы: рассчитали стоимость часа с учетом ночи, в среднем, т.е. вроде бы как добавили. Что ж, теперь одни будут летать днем, а другие, вот как я: то Москва с разворотом, то Комсомольск, будь он проклят, с разворотом же, то восемнадцатикратно проклятый Львов, две ночи подряд. Ну, вытерпим. Отмучился Саша Корсаков; за ним следом тихо умер Степа Ваньков, а он же моложе меня. Судьба. 20.02. Вернулся из проклятого Львова. Еще чудом обошлось нам, что везде было топливо, слетали по расписанию. Рейс тяжелый. И две ночи, причем, перед вылетом намучились на проклятых койках в профилактории: заехали же с вечера хоть часа четыре поспать перед вылетом… поспали… с боку на бок. И погодки как на заказ: то гололед, то свежий снег, сцепление 0,32, то видимость, то болтанка, а то все вместе. Плюс «эмка» с неудобной балдой ручного управления передней ногой. Ну, Саша справляется хорошо, молодец, сильный летчик. Если зимой набьет руку, то летом проблем не ожидается; хороший будет командир. Ввод в строй намечается, несмотря на уменьшение объемов работ. Общая тенденция – избавляться от стариков. На годовой медкомиссии по «бигудям» затормозили 44 человека. Это последствия и эпилептического припадка с командиром К., и внезапной смерти Степы Ванькова сразу после квартального медосмотра. Вчера ночью, выключив свет в кабине, разглядывал с высоты свой родной Волчанск, угадывал по огням знакомые улицы… Романтика! Может, как раз случайно вышли перед сном во двор мои старики, увидели в чистом ночном небе мигающий маячок, услышали характерный гул со свистом, может, подумали: не сынок ли летит… И мало ли чего подумают родители-учителя о сыне, избравшем такую профессию… а теперь вон уже и сам учит летать молодых. Романтика. Однако же далеко не каждому дано увидеть дом родной с высоты десяти километров. А я вижу, периодически, и мне это важно. Дом родной, малая моя родина – и мое большое Дело, проносящее меня над родным гнездом – мимо, мимо, – и ничего тут не поделаешь: это сильнее желаний, это – неизбежная жертва, но и горьковатая награда. 22.02. Вернулись из Ростова. Ну, рулили с Сашей, или, вернее, рулил по гололеду его руками я, т.к. «балда» в кабине только слева. На нервах, конечно. Плюс машина музыкальная – свист и вой в кабине: где-то отстала резиночка уплотнения, ее отсасывает в дырочку, она поет, а мы себе летим и устаем. Я ведь ничего не делаю, все делает стажер, но устаем все. Ну, за это и платят. Хотел описать какую-то несуразность, то ли по кабине, то ли по технологии… да у нас их столько, что уже и забыл. Иду спать. 25.02. Сколько лет нам болванили голову о том, что жизнь на Западе если и не сущий ад, то уж сильно приукрашена ихней пропагандой. А сейчас немцы и евреи уезжают туда сотнями тысяч и не шибко-то возвращаются, разочаровавшись. Люди отчаялись добиться сносной жизни в нашей стране, а годы уходят. Хоть ради детей и внуков наши немцы, без языка, без здоровья, готовы ехать. У них есть главный козырь: Конституция Германии, где сказано, что немец везде, на любом краю земли, остается гражданином Германии. Там, в богатой стране, воссозданной из пепла умным, дисциплинироанным и работящим народом, любому находится место, хороший кусок хлеба с маслом, – всегда и везде, и без очередей и талонов. Как же устал наш народ… А эти сволочи все делят власть. И никто уже им не верит. Все остается на том же самом уровне, что и семь лет назад. Нет частника, нет легального капиталиста, хозяина, нет земли и нет свободы, нигде и ни в чем. Есть одни талоны, и крантики в тех же руках. Опчественная собственность, кулюфтив, колхоз имени какого-то съезда ср…й партии. Я не вижу той тайной гигантской работы, которая якобы совершается в клетках якобы выздоравливающего организма. Тимур и его кабинетная команда – якобы видят. Как якобы видели Горбачев и иже с ним. В Ростове на рынке бродили по рядам барахолки, где можно найти почти все, о чем может только мечтать мастеровой человек. Но цены… Ну ладно. Уже уходя, я, в восхищении богатством выбора, обронил, вроде про себя: «только пулемета и не хватает…» И отойдя шагов на десять, услышал в спину негромкое и спокойное: «можно и пулемет». Можно. Народ готовится, мало ли что. Вчера только видел, как напротив меня обокрали гараж: проломили заднюю стенку и пошерстили. Машину не угнали только потому, видимо, что стоит неисправная, а так забрали все, что можно унести. И что сделаешь. Гаражи наши без присмотра, пять тысяч гаражей скопом, кооператив, кулюфтив. Сообщили в милицию. Что – примчались? Ага, щас. Короче, безвластие. 28.02. Рейс в Москву с приключениями. Туда долетели нормально, а за два часа до подъема на обратный вылет нас разбудили: пришло указание Медведева перегнать в Челябинск машину и выполнить оттуда рейс на Ростов вместо сломавшегося Васи Козлова. Ну, поворчали, но делать нечего, других отдохнувших экипажей нет. Так и пришлось лететь в Челябинск, оттуда – в Ростов и обратно домой, прихватив зайцами из Челябинска экипаж Козлова. Обернулось это восемнадцатью часами работы; ну, отписались. Не оставаться же на весь день в Ростове отдыхать, а потом третью ночь подряд не спать, гнать домой рейс. Ну, перетерпели. А у Васи на взлете дома лопнуло колесо; ему на борт сообщили по радио, он в Челябинске сел благополучно, но, как оказалось, ошметками резины порвало шланги, еще чего-то повредило; пока привезут запчасти… ну и нечего там сидеть. Нам же – лишних пять часов налета и три посадки. Куда деньги будем складывать. И так уже в этом месяце получается семь тысяч. И еще обещают добавить зарплату. Правда, и цены растут. Но нам жить можно. Надо как-то перетерпеть этот период, чтобы не соваться к огню, чтобы не вскипал внутри гнилой пар бессильного отчаяния и тоскливой пустоты в душе. И самое достойное занятие для меня этой зимой – гараж. Так зима и пролетела. Один бок у машины зашит и защищен. Со вторым уже будет легче. Мы все терпим. Оксана терпеливо дожевывает свой мединститут. Надя терпит вечный холод на работе, дома вечерами после ужина оттаивает у телевизора и тут же засыпает. Дом заброшен. Мы поднимаем средний заработок, понимая, что так вечно не будет, скоро эта лафа кончится, а пенсия на носу. А я приспособился, дотягиваю свои последние летные годы, надо тоже дотерпеть. В полетах тихо сплю, читаю, убиваю время и практически ни во что не вмешиваюсь. Ребята – знают. Саша Чекин летает уверенно, только дотерпеть пару месяцев, пока набьет руку на новых стереотипах. О смысле жизни не надо задумываться. Смысл – в самой жизни. Я ее принимаю как есть, без особой борьбы. Стараюсь находить удовольствие даже в том, что отягощает всех: в уборке, в ремонте, в приготовлении пищи, стирке, глажке белья и прочих атрибутах быта. Понимаю, что большинство нынче живет не так: они митингуют, читают газеты, стоят в очередях и потихоньку блудят, в грязи и безделье, а главное – терзаются неудовлетворенными желаниями, завистью, и наливаются злобой, как кабан салом. Зачем? Я ни на кого не злюсь, никому не завидую. Та ненависть ко всему, когда хотелось бить и бить, – прошла. Я не агрессивен, мне некогда, у меня много мелких и интересных только мне дел. Идите, идите себе, оставьте меня в покое. Сейчас пойду в гараж. По пути возле котельной скоммунизжу саночки угля. Затоплю печь. Надену валенки. Переверну талями машину и подвешу к потолку за другой бок. Начну отдирать и вырубать порог, чистить грязь и ржавчину. Подготовлю новый порог, сделаю подпорожек вместо сгнившего. Тут обед; см. предыдущее описание. И снова за молоток и зубило. Вот что я предвкушаю. Грязь и пыль, заусенцы и черные ногти, рукавицы, тяжелые инструменты, валенки с галошами, тишина, покой, я один… А завтра – баня. А другому это – тяжкий и унизительный труд… когда можно же собраться с дружками, попить водочки, пожевать политику; а то – с девочками, под музычку, кофеечек с сигареткой… пустота. На здоровье; каждому свое. А я открою ворота гаража, выйду под стылое звездное небо и пойду устало домой. Дома у телевизора семья; кот встретит и упадет у дверей, вытянув перпендикулярно хвост и поджав пальцы на всех лапах, прося ласки; Надя заворчит: где ты шляешься допоздна… Хорошо. Но… как же я приблизился к земле. И неизвестно еще, что лучше: витать ли в эмпиреях, ковыряться в дерьме политики или рубить зубилом металл. Я и читать все так же люблю, но это больше в рейсах. Вот снова увлекся Грином: какой утонченный, нервный психолог, аналитик, философ, художник! А вот добыл Кафку: надо хоть попытаться понять – ведь весь мир его читает почему-то. А впрочем, пошел он, этот весь мир… и Кафка тоже. И тут же – Глеб Успенский – продают-то по рубль шестьдесят. Успенский, Лесков, Мельников-Печерский, Андреев, Сергеев-Ценский, прочие российские звезды второй величины, – почему-то нынче не в почете. А в почете – Чейзы, Хейзы, и протчие Агаты Христи. Христи нынче богаты. На обложках – пистолеты и сиськи во всех ракурсах. Нет, лучше в гараж. А потом снова за штурвал, снова над облаками звездное небо и очередное ночное путешествие вокруг света… сколько я уже этих кругов намотал. Мы, в общем, ночные птицы. Светлые пятна городов внизу, звезды и полярные сияния вверху, красные и белые маячки встречных и поперечных самолетов, их серебристые следы в лунном свете, шум раздираемого воздуха за бортом, ленивые реплики в кабине, крепкий чай… Хорошо. Хороша жизнь сама по себе. И какой там, к черту, смысл. Месяц уже не прикасался к штурвалу; надо бы хоть полет у Саши отобрать, так никак же не осмелюсь. Все погоды простые; ну, дождусь своего сложняка… А парень, в общем, неплохо летает. 1.03. Зима пролетела; как ею ни пугали, а все обошлось спокойно. Народ привыкает. Заводы правительство подкармливает, а пенсионеры разобщены, голодают, читают газеты; большевики их подзуживают. Не читают газет такие, как вот я. Нам некогда, мы зарабатываем. Нас не то что подкармливают, а заведомо берегут и лелеют. Вот Ростов дает в полет питание на экипаж, на 155 рублей: там лосось, колбаса, сыр, масло, курица, чай со сгущенкой… Красноярск, правда, кормит победнее, нет лосося и масла, но терпимо. В полет свыше 3-х часов дают еще сухой паек (мы называем его «гаражный вариант»): тушенка и рыбные консервы. Это идет не в гараж, а домой. В Ростове рынок забит мясом. Забит. По 70 рублей; а у нас по 120. Забито все: творогом, сметаной, растительным маслом, рыбой, – все дешево. Ну, возим. Из Ростова кооператоры повезли свои кроссовки, которые там уже никто не берет. Затоварились. Пошел товар по стране. Пошла нам загрузка. Оплата экипажам у нас теперь, в очередной, (и последний ли) раз, такая. Оклад КВС – 1400, за летный час – 28, за взлет-посадку – 68, какие-то премиальные, выслуга, вредность, – это еще рублей 700 набегает; плюс за экономию топлива – с каждой тонны – 100 рублей; на все это коэффициент: 30 процентов северных; и выходит за саннорму где-то 6 тысяч; ну а мне за инструкторскую работу – еще тысяча. Мало. Куртка-пуховик, которую мечтает купить мне Надя, стоит уже за 5 тысяч. Туфли Оксане – 2700. Не успеваем. Я должен зарабатывать так, чтобы не думая пошел и с зарплаты взял любую вещь в дом безболезненно, будь то телевизор, мебель, холодильник, ковер или песцовая шапка. Так было в застойные годы. Пока мы живем хуже. Я не кощунствую. Работаю я не хуже и не меньше прежнего, наоборот, более квалифицированно. Судьба неудачников и тех, кто за бортом, за чертой и пр. – это их проблемы. Завтра меня спишут и я пополню их скорбный ряд. Но сегодня я пока на коне, и нечего тут стесняться. Мне мало. На рынок идешь – в кармане тысяча. Назад – несешь мяса в одной руке. Но жить можно, и я пока еще пью коньяк и доедаю остатки икры. Да, вспомнил ту несуразицу по кабине. У нас на «эмках» новые манометры с плоской горизонтальной шкалой, вместо старых, круглых, со стрелками. На черном фоне – белые деления и цифры. А стрелки-указателя нет; сбоку ходит треугольный микроскопический указатель, со спичечную головку величиной… желтого цвета. Днем еще что-то кое-как можно разглядеть, а ночью он пропадает. Манометр гидросистемы, важнейший прибор – и без ясной стрелки. Советский союз. В гараже работа движется. Но руки… руки никак не приспособятся к труду. Болят от локтя до кончиков пальцев. Какие же железные руки у крестьянина, слесаря или кузнеца. А я пытаюсь совместить рояль и зубило. Гармония… И все же – гармония! Так и надо жить. «Землю попашет – попишет стихи». Вся жизнь оборачивается так, что с машиной ты человек, а без нее – пассажир проклятого всеми общественного транспорта. Ой как надо ее беречь. А цены на запчасти… Это же немыслимо: пилот нынче на одну зарплату может купить аж полторы шины от автомобиля. Я помню лучшие времена, когда мог купить, ну… десять-двенадцать. Тоже дорого, но тогда переобуть машину можно было безболезненно. Вася, бойся пенсии. Летай, сокол, пей пока живую кровь; падалью ты еще наешься. 3.03. До чего же тяжко после двух подряд ночей. Сколько здоровья выпивает такая работа. Безысходность. Уже ж нет того здоровья, а куда денешься. Ну, посплю, наконец… …Поспали с Мишкой три часа; встал… как отбивная. Вялый, разбитый, с налитыми свинцом бессильными руками. Делал неизбежную мою зарядку, со стиснутыми зубами поднимая и сгибая болящие руки, разминал, гнул себя, а внутри все выло: покоя! Покоя!!! Ну нет, это мы проходили, знаем, покоя не дадим. Размялся, умылся обычным своим вонючим потом, затем уже водой; умылся и… покоя!!! Каждая клеточка требует покоя, а нельзя. Надо двигаться, надо жить. Первую ночь я в полете бессовестно спал. Минут двадцать. Симферополь обещал туман, везде все закрывалось; пришлось залить топлива побольше и взять запасными Краснодар и Сочи. Вот я и отдыхал, ибо решил, что пришел мой сложнячок. Но мы успели сесть до тумана, и я рутинно посадил машину на яркий световой ковер полосы. Ну, разговелся. Снижались дома, это была уже вторая ночь; я до снижения отвлекся на чтение Успенского, а на снижении боролся с наваливающейся дремотой, но без успеха: с 3-х тысяч провалился в сладчайший и яркий сон, и Вите пришлось громче обычного крикнуть: «Тысяча восемьсот!» – я с трудом вернулся к реалиям. Село нас сразу три борта, пятьсот человек, а автобус лишь через час… ну, прождали в штурманской; мороз, толпа… взяли штурмом автобус, по головам, уселись под аккомпанемент мата и драки, держали места подбегавшим экипажам; с боем, но все наши сели и уехали. В автобусе снова уснул… и дома уснул с Мишкой в ногах, и тело все равно плачет… покоя… Выпил глоток коньяка: мало; еще хороший глоток…тепло в горле… и чуть мягче стало изнуренным бессонной вибрацией клеточкам. Устаток. Завтра в баню, а сегодня житейские заботы отняли вечер. Так что ж – один устаток? За сон в полете семь тысяч в месяц – и он еще жалуется? Да нет уж, конечно, есть золотые зерна удовлетворения от тяжелой, неизбежно тяжелой, но без нас невыполнимой работы. Кто ж их довезет. И приди с моря туман на час раньше – тут уж только мои руки. Тут уж только моя квалификация, да слаженная работа экипажа, ОВИ, световой ковер, хорошая работа систем, спокойные команды диспетчера, труд сотен людей на земле, – и из рук в руки, бережно, за тысячи верст, на жесткий бетон, на скорости 260, семнадцать тонн фарцы, мяса, загрузки… живых человеческих трепещущих душ, с детьми, с попугайчиками в клетках, тихо и плавно, как так и надо, будут доставлены к перрону согласно купленным билетам, и движение незаметно прекратится на стоянке. И это перемещение по воздуху за тысячи верст пассажир получит за… три кило колбасы, если перевести стоимость билета в реалии дня. Кое-кто, выходя на трап, бросит проводницам «спасибо». И вам спасибо за ваше «спасибо». Вы уже давно, в делах или в заботах своих, забыли, как прокемарили ночь в кресле, а у меня, у моих ребят, еще вибрируют клеточки. Потихоньку то Витя, то Валера между делом подсказывают мне: ты ему то, ты ему это растолкуй, объясни, покажи, научи. Им же с ним летать. Такой же летчик, пилот, как и я… а сколько еще нюансов. Вот они-то, эти нюансы, и определяют то мастерство, которое помогает человеку побеждать по очкам. Так уж жизнь устроена, что нокаутом – не удается. Надежность набирается по крупицам и в комплексе. Побеждает многоборец. И вот я вливаю в него то, что отстоялось за годы и годы, на всех моих типах самолетов, на которых пришлось потеть. Лет семь назад я иронизировал: «эх ты, мастер…» Ну, а что теперь? Вот берусь я нынче за автопилот, он раздолбанный; раз дернул машину, два… Витя – матерком… Да уж, навыки плавного управления, и правда, теряются. То, что реакция экипажа именно такая, матерком, – так я сам приучил же, что акселерометр должен показывать единицу перегрузки, а тут – 1,3. Виноват. Мелочи, конечно, проруха… А все же… эх ты, мастер… Ну, а мат – наш совковый язык. Но это шутки. А всерьез, Витя толкует мне: ты ему подскажи… вроде надежно летает, ну, еще точнее на глиссаде… да вот, с вертикальной скоростью… вот, директорные стрелки… вот, команды почетче да погромче, командирским голосом… А Алексеич в другое ухо: вот, то да се… ты ему про режимы, пусть газами не сучит… да ты ему самые тонкости, да самое нутро… вроде парень понимает… Он будет летать как положено. У него свой почерк. Привыкнете. Я отдам все. И вас ему отдам на время. Поддержите, подстрахуете, подскажете, с замиранием сердца будете ожидать первых посадок, результата нашего с вами общего труда. Подхваливайте же его за успехи. Вы – старшие, а он нам как сын. А я займусь другим. С начала. И скучно будет сперва без вас, и холодновато спине. Кто и как еще ее прикроет, а уж в моих мужиках я уверен, как в старых добрых ношеных башмаках. Удобно и надежно. Экипаж. Это вам не на троих сообразить. Это – годы. Наверно я счастливый человек, что за рутиной работы (а у кого за 25 лет она не рутинная) я отчетливо вижу конечный результат. За кирпичиками, которые и сами по себе мне, в общем, нравятся, хоть все-таки и приелись, – я вижу Храм. В моих колючих, независимых, в чем-то даже противных ворчунах-коллегах и товарищах, привычные физиономии которых уже надоели за эти годы, я всегда чувствую крепкое плечо и единодушие целесообразного и единственно необходимого для нас труда. А теперь этот труд обретает еще более высокий смысл передачи опыта и связи поколений. А ну-ка найдите мне человека, который не имел бы врагов по работе и по жизни, который никого бы не ненавидел, никому не завидовал, не копал яму другому, не радовался чьей-то неудаче, – короче, человека, который в повседневной рутине обязаловки и сложности производственных отношений не утопил радость Труда. Вот поэтому я и говорю: наверное, это простое счастье, далеко не каждому доступное, – даровано мне свыше. Я рад видеть своих ребят, с удовольствием пожимаю им руки при встрече, улыбаюсь им с чистым сердцем и знаю: нам вместе удобно и хорошо, и нравится делать свое дело, и мы его сделаем, как учили. Наверно, блаженненький. Но ели это помогает мне летать, если это помогло перевезти по воздуху миллион живых людей… Ну, бросьте в меня камень. Мучаемся с рулением. Гололеды; машины то с ручкой, то без, все время юз… Тут надо в комплексе: ручка, газы, педали с подтормаживанием, да куча всяких нюансов, а тут еще технология, строго по инструкции; да еще: то на «балде» установлена кнопка СПУ, то нет, а то и самой «балды» нет; а на «эмках» против «бешек» и сама «балда» установлена чуть не там, руке непривычно; и углы разворота передней ноги разные, а еще запаздывание исполнительных механизмов, и надо же сразу все прочувствовать и упредить… Как все это объяснить словами, на пальцах, когда не можешь показать, т.к. у меня справа нет органов управления передней ногой. Ну ладно, я еще могу языком изъясняться, а есть же таланты типа «во-во-во – и усё!» – как тогда в Норильске. Пыдагог… С трудом, великими усилиями сдерживаю в себе желание подсказать под руку. Надо, чтобы сам прочувствовал, испытал, сделал молча вывод… а это ж… едешь же, по фонарям же… Но – терплю, терплю и жду: проскочим – не проскочим? Потом уже пара реплик… с мокрой спиной. Так рождается в человеке какая-то самостоятельность, уверенность в себе, набивается рука. И это же не салага. Это бывший командир Як-40, человек, обкатанный и умеющий принимать решения, не вечный второй пилот. Полетит на проверку, спросят: кто вводил? Ершов. Хотелось бы, чтобы это звучало как: Солодун, Репин, Садыков. Но пока, как говорят на Украине, далэко куцому до зайця. Как, какой внутренней работой над собой накапливается во мне, да и в любом опытном пилоте, этот драгоценный опыт, чего он стоит, этот отлежавшийся, чистый и надежный сплав чутья и умения, – это, видимо, богатая почва для психологических исследователей такого рутинного, но такого тонкого понятия как истинный профессионализм. Но когда я только подумаю, каким тяжким трудом, зубрежкой и повторением куется и сколько тонкостей и нюансов содержит в себе мастерство музыканта, или актера, или хирурга, каких оно иногда требует вдохновения и силы воли, – я склоняю голову. Потому что, для непосвященного, вышеупомянутые мастера могут тысячи раз повторить одно и то же одинаково. У нас же нет двух одинаковых полетов. И нет времени на зубрежку. Я за свою жизнь совершил, может, тысячу посадок. Всего. А сколько узлов вывязал хирург, пока довел до автоматизма умение? Сколько раз повторил виртуозный пассаж скрипач? Если бы мне предоставилась возможность, как тому кузнецу на паровом молоте, десятки тысяч раз бить и бить по наковальне выковывая одинаковые подковы, то, может, и я бы смог, выражаясь фигурально, колесом шасси закрыть крышку часов. Но: веса разные, машины разные, разные атмосферные условия, состояние полосы, состояние нервов… Каждый полет – экспромт, импровизация. Однако же в музыкальной профессии и ценится больше всего способность к импровизации. Ну, гордись, Вася: у нас, в летной профессии это обязаловка. А уж на вертолетах, да и на моем Ту-154, – жизненно важное качество. 7.03. Послезавтра сажусь в УТО на 10 дней, переводить время в дугу. Была б моя воля, я бы эту учебу отменил навсегда. Пролетав 25 лет, я там ни грамма не почерпнул новой информации, не имею за все время никаких конспектов, просто не нуждаюсь в них. Пожалуй, со мной согласятся 99 процентов обычных летчиков: учебно-тренировочные отряды превратились в кормушку для списанных пьяниц с хорошо подвешенным языком, умеющих создавать имитацию бурной деятельности. Для рядового же летчика такое повышение квалификации не нужно, ибо его и нет. Если жизнь заставит, летчик сам найдет первоисточник и получит информацию; да ведущие специалисты в летном отряде все это сделают сами, потом соберут летный состав и уж до буквы вдолбят. Вообще, все необходимое для полета заключено в десятке страниц РЛЭ. Основы же, фундамент, элементарные понятия, почему, к примеру, нельзя превышать числа «М» на эшелоне или терять скорость на развороте, закладываются накрепко еще в училище и школе высшей летной подготовки. Вот там надо драть не три, а десять шкур с курсанта и слушателя. Дальше изучать теорию будет и некогда, и просто у летчика теряется интерес к повторению одного и того же, раз и навсегда вдолбленного в школе. Пусть не обижаются преподаватели учебных центров, старые списанные летчики: они нам, летающим, не нужны. Все новинки мы изучим за два часа самостоятельно в летном отряде. УТО нужны разве что для начальников местных аэродромов, площадок МВЛ, короче, для стрелочников, чтобы ввести посторонних людей в курс дела, объяснить им элементарные понятия. Хоть Ан-2, хоть «Боинг», хоть «Буран», а формулы одни, их всего-то десяток, нужных, в той аэродинамике. Больше знать пилоту не надо, даже вредно, как, к примеру, шоферу не надо забивать голову тем, как влияет качественный состав компонентов шины на ее способность к юзу… с точки зрения маслобака в системе единиц СИ. Не нужно. Шофер знает, что такое юз и как с ним бороться, без особой теории – и на всю жизнь. Есть разумные пределы. Нужна хорошая библиотека у инженера летного отряда, либо в методкабинете. Я видел тут подборку книг, кучу теории, напрочь оторванной от жизни, но «рекомендуемой для летного состава». Дерьмо. Каждая книжонка начинается словами: «Руководствуясь решениями…» чуть не II съезда РСДРП… В середине – графики, диаграммы, схемы, интегралы, таблицы; в заключении – твердая уверенность, что уж без этой-то информации пилот непременно убьется. Нет таких книг. Не написаны еще. Чтобы не на потребу дня, текущего момента, политической конъюнктуры, ИБД, и т.д. Чтобы такая книга была у пилота настольной. Таких еще нет. А вот вышеприведенных – море. Море и специалистов, знающих, умеющих объяснить и расставить все по ранжиру, а главное – убедительно оправдать свое на свете бесполезное и бесталанное существование. Вот они-то большею частию и заседают в кабинетах и на всяческих курсах повышения квалификации. А квалификация у нас одна: на уровне совета рабочих, крестьянских, казачьих и собачьих депутатов, создавших и лелеющих всю эту систему. Кто напишет умную и простую книгу? Я не знаю. Не я – это уж точно. Вот Дэвис в свое время – да, хорошую книгу написал: «Пилотирование тяжелых транспортных самолетов». Без формул и графиков, без схем и классификаций, простыми словами. Но… это библиографическая редкость. А я – я не смогу. У меня одни эмоции, а тут нужна система. Потом, у меня апломб, да зазнайство, а нужен объективный взгляд. Да еще потребуется рецензент, какой-нибудь Васин… Я же, в самомнении своем, в рецензиях и отзывах не нуждаюсь. Ну, разве что спросить мнение учителей своих: Садыкова, Солодуна, Репина… да Репину этого уже и не надо. А если допустить отзывы… у каждого свой взгляд; на всякий чих не наздравствуешься… увязнешь, растеряешь уверенность. Автор же должен переть вперед, как ледокол. Но для себя, в стол… надо подумать. 10.03. Весна, все потихоньку оттаивает. А мы переводим время в дугу; крупицы нового тут же тонут в ворохе дополнений и изменений, имеющих целью создать ИБД тех, кто их выпускает в свет. В подкорке же сидит прочно затверженный комплекс древних стереотипов, вдолбленных еще в ШВЛП; вот по ним и летаем. Шепнули тут мне посвященные, что КВС О. умудрился недавно довести «эмку» до сваливания на высоте круга: снижался до 900 с выпущенными интерцепторами, стал гасить скорость с ними же, забыл про них, да выпустил еще шасси; сработала сигнализация АУАСП… ну, реакция пилота: успел толкнуть вниз рукоятку закрылков, убрал интерцепторы… но самолет все же стал валиться на нос. Закрылки медленно оттянули критический угол атаки, срыв прекратился, однако потеряли метров 400 высоты. Обошлось. Если, конечно, верить всему этому… Ну, О. – человек сложной летной судьбы, из тех, кого приключения постоянно сами находят. Думаю, помогли, конечно, и обстоятельства, но не обошлось, видимо, и без этого его природного громоотводного качества – притягивать к себе молнии. Зачем нарушать РЛЭ и снижаться ниже эшелона перехода с интерцепторами? Прощелкал расчет высоты. А и у меня ведь тоже пару раз проскальзывала потеря скорости до 340 перед выпуском закрылков на 28, даже раз в болтанку пискнул АУАСП. Было, было… Ведь на «эмке» это самый опасный момент: чистое крыло, шасси выпущены, скорость близка к минимальной, запас по углу атаки – ну, полтора градуса, а то и меньше. Баев бы тут развел теории на час, Стенина – на полтора; а решают доли секунды. Не дай бог, совпадут вместе: перевод в горизонт из снижения, да потеря скорости от недодачи режима двигателям, да выпуск шасси, да еще маленький вертикальный порыв; – тут и без интерцепторов свалишься. И спасет лишь мгновенный выпуск закрылков. Я неоднократно наблюдал, как стремительно при этом убегает стрелка текущего угла атаки от красного сектора – сразу где-то в район 2-3 градусов; а потом под брюхом вспухает ощутимый пузырь вновь обретенной подъемной силы – только ж добавь газу, либо чуть отдай штурвал и снижайся, а то скорость быстро упадет и подведет тебя к сваливанию уже в этой конфигурации. Тут надо бдеть. Пиляев пристрастно расспрашивает меня, как я ввожу Чекина, как у нас получается, какие проблемы; жалуется попутно на своего стажера, который откровенно слаб, с ним надо работать, как с курсантом, чуть не с нуля, хотя он вроде бы опытный второй пилот Ту-154. Ну, значит, мне с моим повезло. Сидим, мэтры… В перерывах обмениваемся нюансами нюансов: уже не как делать по РЛЭ, а как отступать от его несовершенств, добиваясь практически максимальной отдачи от инструмента. Как садиться в боковой ветер, прикрываясь – боже мой! – креном до касания. Как и насколько чуть поджимать машину под глиссаду после ближнего привода, чтобы не перелететь и не выкатиться при низком сцеплении. Ну и так далее. Весь класс – опытные командиры кораблей, со стажем, кто десять, кто и пятнадцать лет на левой табуретке «Туполя»; в очках, седые, задницей познавшие все взбрыки сложной машины, познавшие их лучше, чем, может, особенности характера своей жены. Пацаны-вторые пилоты смотрят нам в рот – и верят, что вот эта практика – важнее в миллион раз всякой заумной теории. А нам с доски: формулы и страсти, формулы и страсти… Аэродинамика. Вежливо слушаем. Баев витийствует. Умный, летавший летчик, бывший начальник ЛШО, грамотный, с хорошо подвешенным, литературным языком… неординарная личность. Но в стенах УТО, в рамках нашей системы, он стал буквально непредсказуем. Обратной связи-то нет. Мы безгласны, только поддакиваем, подхихикиваем. С ним же невозможно спорить. Терпим. Вытерпим и Баева. А он сыплет формулами. Конечно, нам бы попроще. Подальше от кабинета, от доски, от учебника, поближе к штурвалу. А нам – страсти про то, что даже теоретически, даже с точки зрения пилота, вроде возможно… а практически, с точки зрения того же пилота, но летающего не на Ил-18, а на Ту-154, на котором Баев никогда не летал, – такого не бывает. Не может быть таких страстей. Это подтверждают мозоли на заднице, годами набитые жестким сиденьем «тушки». Страсти бывают… но другие, простые и непредсказуемые теоретически, о которых потом, после поминок, вдогонку, сочиняются теории, вписываемые их кровью в документы, по которым нам летать. Кровью Фалькова, например. Где ж вы были раньше, теоретики, когда у Шилака на глиссаде руль выходил на упор… И мы летали и не боялись, пока не помог Шилаку убиться автомат тяги. А теперь-то мы дружно дуем на холодную воду, следим, следим за рулем высоты… чего за ним следить: на других самолетах и указателя-то такого не придумано, сроду не было в нем нужды, а летали и летают. А Баев нам – про спутный след, да формулы, да вывод формул, да какие-то приросты перегрузки… Я прирост перегрузки испытал, когда вскочил в грозу в Благовещенске; там же, кстати, под Средне-Белой, и в спутный след встречного борта в наборе раз врубился в облаках: ну, тряхнуло. И при чем тут прирост. И чем тут помогут формулы, а паче их вывод на доске. Знаю и верю: формулы есть, они правильные. Однако знаю и верю: неприятно, может и свалить в спутном следе; но если тот след видно, мы его обходим, а если не видно, то и без формул вскочим. Много лишнего. Это курсанту, который, как вот мой Мишка, всюду сует любопытную мордочку, – вот ему и рассказывайте, вот ему и доказывайте все те страсти, с формулами, с выводами. А мы и так верим. Как поверили в тот сдвиг ветра. Верим, что он есть, знаем, что его трудно измерить. Знаем, каково в этом сдвиге, пробовали. Верим, что написаны книги с формулами. Да никто толком не может что-то порекомендовать, разве что увеличить скорость на глиссаде, чтоб не присадило до полосы. Если я, заходя в Сочи на полосу 02, длиной 2200, с весом 75 тонн, при сдвиге ветра увеличу скорость и буду держать таковую до торца, согласно рекомендациям РЛЭ, то могу на пробеге укатиться в ущелье, к истокам Мзымты. Ибо пресловутый сдвиг в Сочи, вдоль береговых холмов, непредсказуем. Тут надо держать ухо востро и четко ловить тенденцию скорости, задавая вовремя правильный режим двигателям; кроме того надо уметь исправить до торца внезапно появившуюся ошибку, потому что в Сочи уход на второй круг, пересекши береговую черту, невозможен. Нет, были герои, уходили даже от торца, но это – счастливый случай, что сумели славировать в предгорьях и вырваться из ущелья. Слава неизвестным героям. Я – не из их числа. Поэтому в Сочи решает хватка, а не формула. Я Сочами битый: уже пролетав почти три года командиром, хоть и справился со сдвигом ветра, но отдал этому все силы и допустил на пробеге досадную, нервную ошибку. А теперь я должен провезти туда Сашу уже как командира, т.е. как-то суметь втолковать ему эти нюансы, которые только своей задницей и познаешь. А мне – формулы. Я прекрасно в них разбираюсь, но по очевидной их бесполезности в реальном полете я их забросил. Я верю и так; мне раз когда-то объяснили, и я понял, что – да, верно, доказано, обосновано. И больше я в формулах, а тем более в решении теоретических задач по этим формулам, не нуждаюсь. У меня в полете дела поважнее и потоньше. Я практик. Я верю в необходимость теоретического обоснования моих действий, но все-таки суть моей работы – в тонкостях и нюансах, в той самой психологии, которую формулами не выразишь. Ясно, что свалишься. Теорией доказано. И сваливались же. В Карши, например, мы об этой катастрофе все знаем. Или, втихаря, тот же О. Но и те, кто погиб под Карши, и наши, знали, что на малой скорости свалишься. Были подготовлены теоретически. А вот что же у них там произошло, почему, какая взаимосвязь, а главное, что делать нам, чтобы такого не повторить, – вот задача. Неважно, какой был угол атаки под Каршами. Критический. Не летный. Уснул экипаж, понимаете? Не ставили бы этот дурацкий полетный загружатель, они спросонок бы, под пипиканье АУАСП, сунули бы штурвалы от себя до доски, ну, подлетели бы под потолок – но спаслись бы! А так – упор, стенка…. Кто думал о тугой пружине? А пружину ту придумал теоретик в кабинете, чтобы пилот в полете, на эшелоне, на скорости 900, да сдуру не вздумал так изо всей силы сунуть штурвал от себя, что и самолет бы сломал. А у нас – дело чести пилотировать самолет с приростом перегрузки плюс-минус 0,1. Но должна же быть защита от русского дурака. Эх… не было бы той пружины – дурак сунул бы спросонья от себя и спас бы машину и всех. Ибо на той скорости по прибору, 405, суй, не суй, – не создалось бы разрушающей отрицательной перегрузки, зато угол атаки, может, и выскочил бы на докритические значения. Теперь-то эту пружину, что не дает сунуть «от себя», сняли. Дураком оказался теоретик. Вот поэтому по всему я двадцать пять лет летаю молча, а в УТО хожу регулярно, не имея ни одного конспекта. Они мне не нужны. Моя теория осталась в училище, там я ее знал как отче наш, там я ее понял, заложил основы, и за двадцать пять лет летной работы не встретил в воздухе ничего такого, о чем бы не имел достаточного представления. А уж экзамен я сдам. Все эти курсы, занятия, зачеты, сбор денег на водку и подарки преподавателям, все эти официальные галочки, – все это было и есть пустая забава, в которой едва ли полпроцента наберется действительно ценной и используемой информации. И все это прекрасно понимают и ничего не делают. Такова Система, товарищи Ельцин и Тимур с командой. И так у нас – везде. А нам семь лет твердят о какой-то перестройке. Пока старые документы упраздненного МГА будут действовать под эгидой какого-то нового образования, департамента, – все будет оставаться по-старому. Командовать будут те же воры; любое их новшество – это взбаламучивание воды, в которой очень легко ловится рыбка. Все надо рушить. И УТО рушить, вернее, УТЦ. Эту теорию могу в отряде и я у доски на занятии прочитать, и без формул растолковать, не хуже того Баева, тем более что я летаю на этом самолете. Но нет: Баев, хоть на нем не летал, но преподавать допущен, он что-то кончал, из той же Системы. Так же давал на водку. А допускал его старший рангом, и он тоже давал в свое время на водку. Обязательно должен быть допущенный Преподаватель, Проверяющий, Верховный, Генеральный. А вот основы знаний дает и основы характера закладывает Учитель. В училище, в ШВЛП, помню, были прекрасные преподаватели, мэтры, практические пилоты, дававшие нам, щенкам, хорошую теорию, сдобренную кучей практических примеров и иллюстраций. А уже в Ульяновске появились хапуги, вроде известных всей большой авиации местных преподавателей аэродинамики. Там уже были одни умствования, долженствующие доказать тупому седому пилоту: ты беспросветно глуп, собирай-ка лучше деньги на подарок и метись отсюда, а галочку мы тебе поставим. «А мне твердят о наступившем лете…» 11.03. Крутятся в голове абзацы задумываемой книги. Но это абзацы, а нужны план, схема, скелет, идея, – следуя которым, надо будет строго, не отступая, заполнять клеточки глав теми, еще не родившимися на бумаге, но уже давно прочувствованными абзацами. И не бояться того, что кто-то, поопытнее меня, дай-то бог, прочитает и в пух и прах раскритикует. Ты возьми тогда и напиши сам. Я уже рассуждал о том пресловутом рулении: это целая глава. Никто, повторяю, никто об этом ничего у нас не написал. А я вот возьму и напишу. И пусть найдется коллега, который бросит в меня камень и уличит в некомпетентности, дилетантстве, фантазерстве и переводе бумаги. А хорошо было бы, если бы нашелся коллега, который вчитался бы, а потом подсказал что-нибудь путное, упущенное мною. Ну да это уже из области фантазии… Просто я хочу профессионально, без эмоций, выговориться. Пусть в стол. Разговариваю с ребятами. За два десятка лет у каждого накопилось. С каждым случалось. Все так или иначе, по той или иной причине, поступали не по Руководству. Это и естественно: в прокрустово ложе РЛЭ, НПП и т.п. не уложишь реальную летную работу. Все нарушали минимум погоды. Причем, неоднократно. Причин много. А садиться вслепую, ниже высоты принятия решения, когда полоса тому кабинетному летчику открылась, как удар в нос… и снова закрылась… ну, какое тут решение? В кабинете первейшее, что приходит в голову: не имеешь права рисковать жизнями вверенных тебе пассажиров, а значит, необходимо немедленно уйти на второй круг – и на запасный аэродром. Да, в кабинете оно все однозначно, оно и на запасный легко. А если в Сочи? И уходить некуда: ущелье закрыто. Что ж – смерть? Ему – да. А нам надо уметь садиться и вслепую. На мокрый, черный, невидимый ночью асфальт. На белый снег, в белой мгле, в метели, в тумане, без осевой линии и без боковых огней. Нырять в дым, в ливень при отказавших дворниках, садиться с растрескавшимся стеклом, в болтанку, при боковом ветре, на нестандартной глиссаде, на пупок полосы… С отказавшим при этом двигателем, и двумя, и когда горишь, когда во что бы то ни стало надо сесть, – да сколько случаев может подсунуть судьба линейному пилоту, а решение принимать же ему, а не тому, в кабинете, кто, куря, подумывает о вверенных пассажирах, изобретая обтекаемые формулировки усредненных рекомендаций, которые, между прочим, должны еще и на всякий случай прикрывать ему зад. И мы умеем садиться вслепую. Это тоже целая глава. А кто не умеет, кто не уверен в себе, тот дергается… Кто ж его знает, сколько катастроф произошло вот из-за такого, зашоренного, прямолинейного исполнительского мышления. Никогда человек, если он не обучен и не оттренирован, психологически не готов, – никогда он не совершит такой подвиг как посадка вне видимости земли. О, это подвиг! Для кабинета. Или нарушение – ату его! В зависимости от обстоятельств. Но если экипаж знает, что командир бывал в переделках и - может, что если, не дай бог, припечет, то все равно сядем, живы будем, – тогда и работа спокойная, и командиру помощь от экипажа реальная. Сам, один, он, конечно, никогда и не справится. Только экипаж, слетанный, психологически готовый. Не должно быть средних пилотов. По крайней мере, на Ту-154. Сколько я мучился с Валерой К. еще семь лет назад – все ловили ось полосы. Он и сейчас, будучи давно сам командиром, так ее и не может поймать. Не дано. Не видит. А так ведь – грамотный, опытный пилот и командир, все у него в порядке. Но летает… не чисто. Не знаю как относится к этому его экипаж. Но второй пилот, летая с ним, мучился, ибо ему – было дано, и он видел… а как поможешь. А Валера так и не видит. Не в обиду ему, таких вот на «Тушке» быть не должно. Нужен, еще до того, строгий отбор. Нужны критерии и принципиальный подход. А что у нас: идут вечные вторые пилоты с Як-40, никогда не летавшие командирами ни на чем, идут командиры Ми-8, идут с Ан-2… Мельчает большая авиация. Теряется мастерство, размываются критерии, нарушается принцип: от простого к сложному, затем к еще более сложному. Пилоты не умеют работать над собой, иным это было никогда не надо, иные не успели набраться такого опыта – мало было ступенек. Уже по пальцам пересчитаешь тех, кто начинал на Як-12 (сразу командиром!), потом Ан-2, Ли-2, и на Ил-18, и на Ан-12, а уж потом попал к нам. Эти обычно летают уверенно, работать с ними просто, и им не надо при вводе в строй командиром на Ту-154 объяснять, что если полоса у тебя уходит по стеклу вниз, то это перелет, а если вверх – то это недолет. А ведь и такие попадаются. Какие задачи сможет самостоятельно решать такой вымученный командир, и когда еще… А пассажиров ему садят сейчас. И зарплату платят за потенциал. 13.03. Не один я так думаю: многие командиры считают, что строгого отбора, когда командиром тяжелого лайнера мог стать только неординарный пилот, – такого отбора сейчас нет. Просто очередь да блат. Это дань т.н. демократии, а на самом деле – худшая ее разновидность, уравниловка, которая губит любое дело, низводя его до профанации. Простая как мычание мысль простолюдина: «все могут, а я чем хуже», производная от «нам открыты все дороги, все пути» и «кухарка может управлять государством», – опошляет идею высочайшего профессионализма, идею работы личности над собой. Напор толпы, хапок, возможность на халяву урвать теплое местечко… да, да, дилетанту от авиации кажется, что командирское кресло – тепленькое. А оно – горячее. Кухарка лишь тогда сможет управлять государством, когда она возвысится до понятий, в большинстве своем недоступных пониманию кухарок. Ну а ближе к реалиям: командиром тяжелого и сложного самолета, капитаном корабля может стать человек, не только одаренный, но и сознающий свою цену и свою ответственность. Да, мы люди одаренные. Не так это все просто. И я знаю человека, которого вводят в строй, ему не дается, и он с круглыми глазами риторически вопрошает: что я – дурак, что ли? Почему не получается? Потому и не получается. Не одарен. Слуха нет. А очередь к кормушке – подошла. Демократия. Все равны. Ан – не все, оказывается. И что тут скажешь человеку? Он просто не чувствует своих способностей, а паче, неспособностей, потолка. Он зубрила. Это тупик. Никто не берет на себя ответственности – загородить дорогу серости. И введут, и будет он летать, и будут за него трястись… а потом выпадет вакансия на более тяжелый тип – его с радостью сплавят туда, в вечные вторые пилоты, с глаз долой, из сердца вон. И он займет то место, на которое претендовал бы более талантливый. Так бурьян глушит культурное растение. Это так везде. Таков уровень, такие вот требования у нас сейчас в авиации. И спасает только то, что все-таки пока еще к нам прорываются талантливые ребята, их пока большинство. Но общий уровень падает. Мало того, и грамотные приходят, очень грамотные, а – разгильдяи. Свобода. Мы, мое поколение, против них – вымуштрованы, в нас накрепко вбиты понятия, от которых молодежь нынче отмахивается. Это – от формы одежды до строгой самодисциплины. Но у нас инерция, мы привыкли, вбито, въелось, стало образом мышления. И оборачивается, мы – последние из могикан той авиации, в которой не было мелочей. И въевшееся в нас чувство внутренних тормозов потихоньку начинает ржаветь под ветрами нынешних свободы, демократии и наплевательства. Поистине, свобода – это добровольное самоограничение, это самодисциплина. Но и, как результат работы над собой, – высокий уровень профессионализма, высокий же уровень притязаний, весьма болезненное самолюбие, самомнение и самооценка. Мы себе цену знаем. В полете мы свободны постольку, поскольку держим себя в рамках обеспечения безопасности загрузки. Не моги дрогнуть ногой, не моги дернуть штурвалом, – это свобода самоограничения ради живых людей за спиной. Но зато один на один с погодой и матчастью – это тоже свобода, и на нее на высоте принятия решения почему-то никто не посягает. Решай ты, дядя-капитан. Вся ценность любого командира – в умении принимать решения. Вот это талант. 20.03. Все на свете кончается; кончилось и УТО. Напоследок Баев собрал всех заваленных им, в том числе и меня, общим числом человек полсотни, часок поиздевался и отпустил. Я стараюсь не поддаваться тому впечатлению, которое он в нас всемерно укрепляет: что мы все есть набитые дураки, аэродинамики не знаем и летаем как бог на душу положит, оставаясь в живых только благодаря исключительно счастливому стечению обстоятельств. Как раз я, с училища прекрасно знавший и любивший аэродинамику, я, споривший на экзамене со Стениной, которая в свое время того же Баева учила, споривший и получавший у нее только пятерки, даже автоматом, уверенный в своих знаниях и в том, что в практической работе уж кто-кто, а я-то как раз правильно и применю их на практике, – вот я-то и не должен поддаваться. Надо отдавать себе отчет, что такие вот Баевы, а в Ульяновске Стариковы, – вот они-то старательно уводят нас, летчиков, в сторону от простых и ясных истин, запутывая в дебрях околонаучной схоластики. Разговор-то ведется о сложных вещах, умозрительных, которых не пощупать и не увидеть, иногда о спорных, – и ведется языком простолюдина, на пальцах, на базе физики Перышкина, с людьми, не привыкшими ни так мыслить, ни так изъясняться, не приученными к теоретическому анализу, не имеющими ни путных учебников, ни конспектов, – с практиками, которые, тем не менее, могут показать эти вещи руками. Поэтому я на все это наплевал и забыл. Напоследок Баев задал мне вопрос: на глиссаде, при одном и том же перемещении колонки штурвала от себя и на себя, – во сколько раз и в какую сторону будет эффективнее действовать руль высоты и почему. Ну, я ляпнул, что вниз, раза в три… угадал. Шилак покойный тоже знал, наверно, что вниз, раза в три. И это ему помогло в Норильске? Мне эти цифры не нужны. Я не думаю об этом на глиссаде. Я и так знаю, что вниз машина стремится сильнее, а вверх… не очень, помню об этом всегда и учитываю, без цифр. Я чутьем это ощущаю. И Баев, когда летал на своем Ан-2, об этом тоже не думал. Как и я не думаю о том, сколько и каких материалов, рассчитанных с использованием диаграммы состояния железа-углерода, пошло на лопатки компрессора. Это не мое дело, а ведь лопатка эта убила Фалькова. И чем бы помогло ему знание той пресловутой диаграммы? Считается, что если я буду знать ответы на подобные вопросы, то заведомо справлюсь в любой ситуации. Так считается. Дураками в верхах так считается. На чем тогда завалил нас Баев? На элементарном. Какое число «М» надо держать на эшелоне при встречном ветре 250 км/час? Один сказал – 0,85, другой – 0, 86; я сказал – 0, 84. Неверно. Правильный ответ: 0,825. Ну что ж: никогда не летавший на Ту-154 и не нюхавший струи в 250 км/час преподаватель прав. А мы, пролетавшие на этом лайнере командирами по 10 лет, первыми в стране эксплуатировавшие машину с весом 100 тонн, набившие руку на Москве с разворотом и привозящие из каждого такого рейса по тонне экономии, – мы неправы. А ведь мы держим «М» сначала 0,85, потом 0,84, перед снижением 0,83, а на обратном пути, при путевой скорости за 1100, все равно держим 0,82, и только часа полтора последних – 0,81. Это на эшелоне 11100. Если я подвешу стотонную машину против струи на 0,825, при путевой 700, то едва ли дотяну до Кирова. Уж всяко экспериментировали. В УТО на стенде взял книжку, сочиненную под техническим руководством доктора педагогических наук профессора Васина, а бледным рецензентом, к стыду моему, оказался там Марк Галлай. Книжка называется «Летная эксплуатация», рекомендуется для курсантов и слушателей. Полистал. Не говоря о массе опечаток и несуразиц, в общем, книга ни о чем. О Волге, впадающей в море. Если эту книжонку прочитает курсант летного училища, то к полетам у него начисто пропадет аппетит. То, что там наворочено, при всем наукообразии, интегралах, мнемосхемах, алгоритмах и прочей белиберде, – вызовет один страх. Как же это все сложно… Вот такие книжонки и поселяют в молодом летчике то самое чувство: я непробиваемый дурак, дурак, дурак… И Баевы со Стариковыми еще добавляют. А мы ж себе как-то летаем. Неужели серьезному исследователю летной эксплуатации кажется, что мы, летчики, действительно можем переварить – да нет, просто хотя бы понять – то, о чем нам вещается со страниц этого, с позволения сказать, учебника? Или у нас в мозгу что – постоянно протекает такая колоссальная работа по анализу, систематизации и учету всех этих надуманных факторов, без знания которых… Да, без знания их самых. К сожалению. Без систематизации. Летаем себе. Десятилетиями. Вообще, что он хотел нам сказать? Судя по тому, что листы плотно слеплены, аж склеены, книгу эту, стоящую на витрине под крикливой рубрикой «Летать – как дышать», стоящую там с 1986 года, года ее выпуска, ни один пилот, кроме меня, дурака, и не открывал. И правильно делал. Надышишься еще… Конечно, наука есть наука. Есть ученые, со своим мышлением и языком, со своими методами, им доступно то, что для меня, и правда, темный лес. Они, конечно же, использовали в своей работе все эти энтропийные декременты. Флаг им в руки, почет и уважение, спасибо за сложнейший труд и за его конечный результат, на чем летаем. Но, извините, инженерная мысль, блуждая в лабиринтах поиска, должна, в конце концов, привести меня, пилота, к элементарным реакциям и движениям, простым, как «му». Ибо, набив мозоли на заднице и нервах, я и через 25 лет пресловутой летной эксплуатации не устаю повторять: реализуется полет простейшими действиями. Их, этих действий, много, иной раз слишком много; не надо еще усложнять. Инженер-пилот хорошо для испытателя. Для линейного пилота – слишком хорошо, аж плохо. В полете можно думать о чем угодно, но только не о том, как этот полет выполнять. В полете надо соображать, и быстро, желательно, на подкорке. Интересно, о чем думает инженер-доменщик, пробивая ломом летку в домне и наблюдая за стремительной струей металла? Наверное, о том же, что и инженер-лесоруб, выскакивая из-под падающей лесины. Мы – оперативные работники. А это совсем иная категория, чем инженеры. Ложь, придуманная профессором-пилотом, заключается в том, что, оторвав от полетов и поварив дурака-пилота несколько лет в околоинженерных щах, получишь и навар, и качество. Истина в том, что качество каким было, таким и осталось: кость. Только летные навыки растеряешь. А навар… да. Мы всегда давали им навар с себя. Множественные курсы, КУНСы, УТО, ШВЛП, Академия, – но везде один класс: пролеткульт. Гиперинфляция покатилась с горы, уже не остановить. Но это не значит, что я не выживу. Главное, продержаться на летной работе два года, пока дочь не получит диплом. Одна надежда: чем выше тарифы на авиаперевозки, тем относительно меньше будет рейсов, а значит, смогу сохранить остатки здоровья. А за здоровье ведь люди готовы отдать любые деньги. Меньше будем летать, меньше зарабатывать, будем бастовать, требовать повышения, а значит, объективно подталкивать инфляцию. Но надо любой ценой удержаться, через любые муки на ВЛЭК. Лишь бы не инфаркт, как в 44 года у Саши Улыбышева, командира Ту-154. Он вынужден уйти на пенсию со средним 2500, пенсия будет всего 1800 рэ. А что такое сейчас 1800 рэ? Те же 180, как раньше? Мы тут с Надей подсчитали, и выходит, что в среднем цены выросли в 25 раз. Мясо с 4.50 до 100. Масло с 3.60 до 200. Колбаса с 4.00 до 150. Картошка с 2.00 ведро до 70. Сметана с 1.80 до 50. Минтай с 2.50 до 25. Яблоки с 2.00 до 50. Штаны с 40 до 700. Башмаки с 50 до 3000. И так далее. А зарплата моя – с 900 до 4000. А я же этот год как-то жил. И как-то жили вокруг люди. Чтобы жить и покупать все, как прежде, надо мне зарабатывать 20 тысяч. Но мне сейчас надо: машину новую – а они подорожали в 40 раз; холодильник – а они стали дороже в 60 раз; а топливо, когда я ту машину покупал, стоило 1 рубль канистра, а теперь литр – 20 р., одна заправка – 1000 р. Тысяча! Так что – продавать машину? Нет. Надо зарабатывать 50-100 тысяч в месяц, тогда я буду жить, примерно, как прежде. Не лучше. Ну, немногим лучше. Разевая рот на зарплату 50 тысяч, я только хочу жить как обычно, как все должны жить. А как же те, кто за чертой? Как же те 80 процентов населения? И у кого тогда, и сколько, накоплено того добра, что тюками и годами лежало на полках магазинов? Ткани, белье, одеяла, те, что сейчас по 6000, – все это разметено теми 80 процентами. Может, не всеми, но более жизнеспособной и трезвомыслящей их частью. У кого ни спроси – дома мешок муки и мешок сахару, соли, ящик тушенки и ящик сгущенки, двадцать комплектов постельного белья, рулон тюля, куль макарон и гречки, и т.п. А уж в гаражах набито холодильников и стиральных машин… Так что я, несмелый, не долезши тогда за толпой до прилавка, нынче с чистой совестью разеваю рот и на 100 тысяч. 23.03. Что характерно. Вот покойные Корсаков и Ваньков: у обоих были серьезные бытовые неприятности, нервное напряжение, тяжелые стрессы. То же самое у Улыбышева. Кто следующий? Боря К., обкраденный недавно до нитки? Вывод: Вася, это не с тобой. Да даже если случится и с тобой, не бери в голову. Жизнь хороша, в жизни много радостей, только выбирай шапку по сеньке. Гони тревоги, вкушай, смакуй скромные удовольствия, не накапливай богатств и не трясись над ними, спи спокойно, бери от жизни свое, другие вон уже давно берут, пей регулярно в меру спиртное, снимай стресс, делай зарядку, парься в бане, двигайся и твори. Разбей большие проблемы на кучу маленьких, старайся ими увлечься. Используй свою обезьянью природу себе на пользу. Забывай плохое. Гладь кота. Ты прекрасно реализовал себя на самой лучшей в мире работе. У тебя не семья, а рай. Денег хватает, дома атмосфера сибаритская. Все необходимое есть. Ребенок у тебя один, взрослый уже, на пороге самостоятельности. Здоровье еще есть, слава богу. Нет нищеты и безысходного состояния. Нет пьянок и скандалов. Нет безысходного гнета. Нет отвращения. Как в хорошем старом аквариуме: вода переболела и отстоялась, корм и тепло есть, все обитатели притерлись, приспособились и нужны друг другу. И какое нам всем дело до того, что на улице пожар. Нет, конечно же, как можно спокойно спать, когда вон в Зимбабве негров убивают. Или в Карабахе. Да мне на них всех глубочайше наплевать. Витя Гусаков пару лет побыл на пенсии, на тренажере с Гурецким, а сейчас вернулся летать. Его отдают Чекину в экипаж, а Алексеич, чтобы остаться со мной, согласился уйти в отпуск, пусть даже ценой небольшой потери среднего заработка. Говорит, этим, мол, купили: останешься с Ершовым. Докатаете Чекина, Гусаков останется с ним, а вы будете снова вместе. Да я-то согласен. Витя Гусаков тоже опытнейший бортмеханик, Саше такой и нужен. В экипаже главное – тандем: командир-бортинженер. Штурман, конечно, тоже важен, но, уверяю, для меня потеря бортинженера гораздо болезненнее. Да Филаретыч от нас и не уйдет: с его ворчливым характером только я и ужился, да и он рвется в наш экипаж опять. Пиляев вроде бы грозится протолкнуть ко мне на ввод Сергея Аблицова. Я с ним летал, парень с Як-40, старый волк. Но, в связи с сокращением рейсов, ввода в командиры пока не предвидится. В этом месяце две Москвы с разворотом и Комсомольск. Торопятся с вводом, спешат подготовить к лету новый экипаж, поэтому о лишних посадках речи нет, Чекин и так летает хорошо, и нам дают длинные рейсы. На апрель Чекину запланированы провозки: Камчатка, Владивосток, Полярный. Ну, а в мае, видимо, провезу его везде. Планы на месяц по 40 часов, ну, нам-то, может, подкинут еще рейсик. Сегодня ночная Москва с разворотом. Из дому выхожу в 2 часа дня, домой вернусь к 8 утра. 24.03. После ночи впервые отказался от бани. Чувствую: слишком велика нагрузка. Хоть вроде и поспал урывками с 8 до 12 дня. И перед вылетом вчера удалось час поспать дома. Приехали ж в отряд за три часа до вылета, думали получить зарплату. Зарплата, полмиллиона, только что кончилась. Ну, поматерились: денег-то уж совсем в обрез. Зато узнали о том, что забастовка наша не отменяется. В мелочах-то наши требования удовлетворили, как говорят, Ельцин все подписал, и Гайдар подписал, – и пошли гонять бумаги по кругу. Однако главный вопрос – об особых условиях труда и отдыха летного состава – умело саботируется министерством транспорта. А это ведь и снижение саннормы, и увеличение отпуска и отдыха, и учет ночи и прочих трудностей, – и не по КЗОТу, а сверх него. Короче, надо показать этим транспортным воротилам, что с летным составом надо считаться не так, как с металлургами или шахтерами, а как с редкими и исключительно дорогостоящими специалистами, и подход к нам должен быть соответственный. Гайдар, конечно, дал указание: разработать Положение в первом полугодии… Да оно уже давно разработано, готово и лежит под сукном. Вот завтра в 7.59 утра пусть его вынут и подпишут. А иначе мы в 8.00 начинаем забастовку. Пришли в АДП. С вокзала уже за руки хватают: увези. Нет уж, это дело отдела перевозок. Меня ждал заяц в штурманской, предложил оплатить половину билета, больше денег нет, отдал все за двух ценных щенков, надо срочно везти в Москву. Ну, щенки – это его проблема. Взял я его: деньги нам нужны. Без малейшего зазрения. Экипаж доволен. Купили в домодедовском буфете хорошей колбасы. Я еще в киоске разорился на два тома «Жизнеописаний» Плутарха. Самолеты полны. И на приставные кресла просятся. И это ж цена билета 900 р. Надо еще и еще повышать, но плавно. Нам, действительно, еще повысят зарплату, но, скорее всего, не до 25, а до 15 тысяч. Мало, мало. И за тот месяц, что мы ждем заработанных денег, они обесцениваются на 20 процентов. А ну-ка: апрель на носу, а мы еще февральской зарплаты не видели. Ну, о полете что писать. Полет как полет, это мелочи. А ночь как ночь: тяжела, но не из одних же наслаждений состоит жизнь. Не зная, куда деть горящие и гудящие ноги, накинув на замерзшее плечо чехол от сиденья, напрягая глаза в неверном свете хитро подвешенной над головой лампочки-«мышонка», я все же умудрился весь полет туда и обратно читать какую-то фантастику, в полном отключении от полета: работали стажер, Виктор Филаретыч и штурман-проверяющий. На снижении дома внезапно поменяли посадочный курс; заход получался с прямой, пришлось энергично и одновременно выполнить несколько операций, наслаивая их одна на другую. Саша не успевал по своей флегматичности… а я вспомнил, как при вводе в строй так же подстраховывал и подгонял меня Солодун. Ну, вписались, дальше было дело техники. Сели, стали разворачиваться, а в пяти километрах висит борт, откуда он выскочил, мы не слыхали. Я схватил газы, помог дать импульс, опомнился, и Саша уже сам быстренько домчался до 3-й РД и срулил с полосы, когда борт уже включил фары и висел на ВПР. Да, насколько все-таки быстрее мыслит и реагирует опытный командир, против стажера. Тут руки сами действуют. Но ничего: я был такой же, а научился. Так вот: промолотив на предварительном старте 15 минут, мы слетали в Москву против ветра, с разворотом, держали сначала 0,85, потом уменьшали; обратно держали 0,82 – и привезли три тонны экономии. Ну, пусть в расчетах машина нам завысила заправку, но уж тонну-то мы точно сэкономили. А, товарищ Баев? 25.03. Вернемся к нашей забастовке и посмотрим, какую же мышь родила наша гора. Естественно, забастовка не состоялась, естественно, заключен компромисс, естественно, забастовочное положение продляется до… и т.д. Собрали нас утром и доложили. По всем пунктам наших требований, кроме двух, пришли к соглашению. Гайдар выпросил три месяца для проработки и утверждения пресловутого Положения о режиме труда и отдыха. Хасбулатов уговорил подождать до 5 апреля, когда парламент утвердит индексацию среднего заработка для расчета пенсий всем пенсионерам России, а не только нам. Согласились подождать до 15 апреля, но уж если нас нае…, то бастуем с 15-го. Короче, очень сложная система начисления зарплаты и пенсии, много слов по тарифному соглашению; получается, не вставая с постели, 16 тысяч, плюс налет… Не верится. А вот Черемшанка 4 часа бастовала. Летчики Як-40 выдвинули ряд внутриотрядных требований, в частности, отстранить от должности командира летного отряда: заелся. Ну, директор все удовлетворил, а с КЛО не решил. И ни один самолет не взлетел. Пришлось КЛО писать заявление об уходе по собственному желанию. И только когда приказ об увольнении повесили на стену, пилоты пошли летать. Тут еще вчера в Богучанах упал Ми-6. Что-то с двигателем, да еще груз на подвеске, – сбросили груз, боролись, но таки упали. С малой, правда, высоты, все живы, ушиблись только. Вертолет загорелся, бортмеханик сильно обгорел, 40 процентов… А был бы одет в специально для этого придуманную кожаную куртку… Но кожаные куртки у нас носит только всякая спекулятивная сволочь, да шофера начальников. Надо требовать, и все найдется. Ну, если, и правда, добились таких успехов, то силен наш профсоюз. Ну ладно. Испугавшись голодных летчиков, нам быстренько заткнули рот довольно высокой зарплатой, и, я уверен, забастовочный запал надолго спадет. А когда-то еще будет следующая индексация, и надолго собаке блин. И все же я доволен. Зарплата растет в геометрической прогрессии, а инфляция пока вроде как в арифметической. Жить можно. Пережита зима, которой боялись, к которой готовились. Самым, пожалуй, шокирующим в этот период был невиданный рост цен. И хотя лично мне, моей семье, хуже не стало, а стало чуть лучше, потому что приобретено кое-что из дефицита, все же психологически мы так и не смогли преодолеть инерцию мышления. Кажется, получаем сумасшедшие деньги, а купить на них ничего не можем, так, мелочи. Надо научиться воспринимать эти быстрые перемены чисто умом, напрочь отбросив эмоции. Старики-пенсионеры, возмущающиеся каждым новым повышением цен, обречены. Хоть им и поднимают пенсию, хоть голодная смерть им и не грозит, но они вымрут от шока, от закостенелости мышления. Как бы там ни было, а я, как сильно не ходящий по магазинам, особо и не интересуюсь ценами; зато каждая новая зарплата воспринимается как подарок судьбы. Как-то интуитивно я цепляюсь именно за эту психологическую уловку, так мне легче жить, и кажется, что жизнь, в общем-то, хороша. Тяжко тем, кто весь интерес жизни видит в вещном. Я же пытаюсь заряжаться от вечного, а сиюминутные интересы посвящаю своим увлечениям. Научился не переживать по переменному. Это мелочи, это все преходяще. Глобальные проблемы, с моим отказом от газет, от сосания политики, – отодвинулись с переднего плана куда-то к горизонту и горят там синим, серным огнем нечистых карабашных войнишек. Изредка все-таки газеты просматриваю и вижу там лишь болезненное сосание грязноватого пальца. Воистину, расплодившейся (лишь бы не работать) армии борзописцев нечего делать, кроме как травить душу мятущемуся народу. Но – только не мне, извините. Нашли дурака. Надо переждать. И даже если пережидание затянется на десятилетия, надо жить собой, своим миром, своей семьей, уважать этот мир и считать его стержнем жизни, а окружающую действительность воспринимать так, как если бы она шла по телевизору. Никаких катаклизмов в России ожидать не приходится. Идет медленный процесс жизни; как все настоящее, он незаметен. Будут колебания, шатания, вывихи, перемены, но суть в принципе не изменится. Все эти приватизации, земельные реформы, инфляция, рвачество, спекуляция, преступность,– возьмут свое, но все утрясется. Даже если пустить все на самотек. Вернее, лучше всего оно и утрясется, если пойдет самотеком.
1992 г. Воровская бухгалтерия. 7.04.92 г. Читаю Плутарха. И лишний раз убеждаюсь в том, что и две тысячи лет назад люди так же объединялись в какие-то партии, создаваемые для достижения своих, узко специфических, сиюминутных целей, а цари, волею судеб оказавшиеся на вершине государственной пирамиды, пытались как-то их примирить – для своих, узко специфических целей. И сейчас происходит то же самое, и будет еще долго происходить, пока существуют групповые интересы, – а они существовали и будут существовать всегда. И не надо ни лезть туда, ни вообще брать себе в голову, поскольку ты далек от политики. Оно как-то само образуется, пусть на время; потом снова будет борьба, и так, волнами будет накатываться и откатываться то, что называется опчественной жизнью. То, от чего кормятся миллионы не способных к производительному труду клиентов. Возрождается какое-то псевдоказачество. Я раньше думал, что казаки, народ свободолюбивый и независимый, из беглых рабов, осев на окраинах страны, подальше от столицы, занимались вольным хлебопашеством и попутно разбоем окружающих земель, косвенно защищая таким образом землю русскую. Потом, конечно, государство прибрало их к рукам, разумно используя исконный казачий патриотизм, но суть этого сословия осталась та же: крестьянин, на окраине, жуликоватый и беспардонный к соседским владениям, всегда готов служить за веру, царя и отечество, особенно если можно с этого поживиться трофеем. Теперь же возникло какое-то вообще петербургское казачество. Петербургские крестьяне, очень уж рвущиеся по нынешним временам в жандармы. Порядки наводить. Так и надо ж называть своими именами. Опричники. Уже кубанские казаки приглашены в чужую молдавскую землю защищать русскоязычных граждан суверенного государства Молдовы. Мне очень смешно было бы предположить, что наши казачки-лампасники вдруг погрузились бы на корабли да и поехали в Канаду защищать тамошних русскоязычных единоверцев от притеснений. Тем единоверцам, в Канаде, это даже и в голову не приходит… и не приглашают. А у нас вот – приходит. Значится, кому-то выгодно. Из всей казачьей опереточной кутерьмы я бы выделил одно полезное для народа в наших условиях, производительное дело: коневодство. Глядишь, фермер бы, куркуль проклятый, спасибо бы сказал. Так это ж работать надо… Вчера в магазине взял на 166 рублей: две буханки хлеба, кило вареной колбасы и два десятка яиц. Два года назад я бы заплатил за все это 5.12. Всего в 30 с лишним раз. Но тогда я чистыми получал где-то 700, а нынче, один раз всего, 12 тысяч. Получается, в 15 раз. Следовательно, уровень моей жизни упал вдвое. И снова я считаю свои гроши, прежде чем идти в магазин, и снова не могу купить себе башмаки на работу. Но пока я летаю, я должен жрать полноценную пищу, и вволю. Это аксиома. Поехал в магазин, выброшу полтысячи на сыр и масло, да Мишке надо рыбки. …Оказывается, масло можно не покупать килограммовым куском и потом месяц соскребать с него прогорклый, желтеющий слой, а взять одну… нет, жадность наша… две пачки, по 200 грамм, свежего. А потом приду и еще возьму. Правда, нет гарантии, что продукты скоро снова не исчезнут, но пока, благодаря высоким ценам, они еще есть. 16.04. Норильск отобрал две ночи. Заехал я к вечеру в профилакторий поспать перед ранним вылетом. Поспал; и как всегда: «Мальчики, на вылет!», потом, как всегда на Норильск: «Командиру позвонить в АДП». Экипаж, ворча, снова лег, ибо, скорее всего, прогноз таков, что командиру нужно брать на себя, и чаще всего командир говорит: подождем еще один срок, может, улучшится, либо ухудшится уж твердо, тогда дадим задержку. Экипажу вновь уже не уснуть. Ну, встали и пошли с Сашей на метео. Погода и прогноз были на пределе, и нет причины не лететь; надо поднимать экипаж. Но тут в Норильске наступил рассвет, ОВИ перестали улучшать видимость, пришла погодка: 500 м, потом 300 м, белая мгла. Мглу эту я знаю. Синоптическую карту мы с Сашей изучили: смущал циклон, нестандартно подходивший с юго-запада, и ветер, северо-восточный, вместо обычного юго-восточного. Циклон разворачивался и волнил, устанавливаясь в параллельных потоках. Короче, дал я задержку на два часа и вновь ушел в профилакторий, предоставив диспетчеру АДП решать дальше теперь уже очевидно упростившуюся задачу: читать очередную погоду хуже минимума и продлять задержку каждые два часа. По прогнозу обещалось улучшение только к вечеру, но надо знать непредсказуемый Норильск: он мог открыться в любое время. Потолкавшись в эскадрилье, ушли вновь в нумера и уснули до обеда. Самый крепкий сон после такой вот ночи бывает с 10 до часу дня. Пообедав, решили на всякий случай пойти в АДП и дожидаться улучшения погоды: Норильск давал устойчиво 800 м, а минимум там 900. Дождались 900. Я трижды ходил анализировать по карте смещение циклона; Саша как привязанный ходил за мной. Какое там смещение, в параллельных-то потоках: фронт стоял неподвижно… но таки чуть выпрямлялся, дуга на карте потихоньку уходила на восток, ветер мало-помалу утихал. Дал команду садить пассажиров. Попутно поинтересовался, как там с забастовкой водителей топливозаправщиков, которые требовали повышения зарплаты втрое, мотивируя тем, что, мол, желтопогонники (как они величают нас), ничего не делая, не бия палец о палец, в белых воротничках, при галстуках и жареной курице, получают по 8 тысяч… и нам, мол, тоже по столько же хочется. Я, не бия палец о палец, уже восемь часов принимал решение, анализировал, брал на себя ответственность и рисковал, уйдя на запасной, выбросить в воздух на сотню-другую тысяч рублей топливной гари, да ресурса техники. По моей команде зашевелились службы, справедливо полагая, что командир знает что делает, знает лучше всех, – на то он и командир, за то ему и деньги плотют. Шофера не добились ничего, и аэропорт зажил обычной жизнью. Мы вылетели, как и планировали, успев при этом надрать начавший было выруливать с дальнего угла Ил-76, дочитали карту на ходу и сэкономили таким вот образом десять минут работы двигателей на земле, тонну топлива, и ушли от необходимости извращаться в воздухе, обгоняя менее скоростную и тяжело груженую махину, летящую в Норильск же. Погода в Норильске плавно улучшалась; мы выполнили обычный спокойный полет, идеальный, точно рассчитанный заход с прямой, подстраховались от обещанного в циркуляре, но реально не проявившегося сдвига ветра и мягко сели с курсом 14. Но в магазин до его закрытия успела сбегать лишь одна свободная проводница, набрала сумку сметаны, майонеза и прочей вкусноты, которая нынче там гораздо дешевле, чем у нас. В возмещение нашего огорчения нам на обратном пути в той сметане была зажарена курица, за что и спасибо. Поставили заход по минимуму; нам надо за период ввода три таких захода набрать. Назад нас долго загружали багажом; оборачивалось так, что уже на муниципальный транспорт не успеваем, значит, спать снова в нумерах. Поворчали. Назад взлетели следом за тем же Ил-76 и обогнали его уже над Енисейском. Дома ухудшалось; мы успели сесть в болтанку и обледенение; сильный ветер швырял в лицо копны лохматого снега. Саша сел, я помог поставить нос по оси и на пробеге подсказал держать ось строго: реверс при выключении немного стаскивал в сторону, а полоса была покрыта слякотью; переходило через ноль, короче, гадость. За нами сел грузовик, за ним успела еще «Тушка», а «баклажан» уже угнали в Новосибирск; камчатский борт кружил над приводом, благо, «эмка», топлива много; луна пробивалась сквозь тучи снега, на перроне мело. Мы были довольны, что справились, что не было бы счастья, да несчастье помогло: задержка в Норильске обернулась для нас заходом дома снова по минимуму, и успели вовремя, как раз. Хорошо! Дорогие товарищи топливозаправщики. Я вам сочувствую: у вас тоже дети, вы тоже рассчитываете на кусок хлеба с маслом, вы дышите керосиновой гарью и испарениями…. Но – кто на что учился, тот за то, в той степени и отвечает, и получает в той же степени. Обратно в профилакторий шли не спеша. Слаженная и четкая работа, хоть и на формальном пределе возможностей экипажа, не утомила: налету-то 4 часа всего, да днем выспались. А минимум… Бывает и похлеще. Возлегли на свои провисшие койки и четыре часа болтали на высокие темы. Уснули в пятом часу, бортинженер кашлял и храпел, по коридору ходили, хлопали дверями… короче, утром еле продрали глаза. Денег в отряде не было, уехали на служебном домой. Два захода по минимуму погоды, со всеми пакостными довесками: и болтанка, и обледенение, и ветер, и снег, и скользкие карманы в концах ВПП, руление и развороты по льду с юзом, асимметричное выключение реверса на пробеге… Мелочи. Но все это побеждал стажер; я уже не вмешиваюсь, дело к концу. За это мне доплатили полтыщи рублей: два кило сыру, два кило масла. Конечно, я понимаю, двадцать раз за смену подогнать заправщик к самолету, заземлить, контролировать перекачку, в валенках с галошами, на ветру, на морозе, – тоже не очень сладко. Но мой предыдущий второй пилот, в свое время снимавшийся с летной работы за предпосылку к летному происшествию, три года отработал заправщиком, даже бригадиром у них был. Не переработался. Спина там сухая. Я взял с собой в этот рейс: пальто зимнее и зимние ботинки, шапку и фуражку, перчатки и теплые запасные носки, пуловер, трико и резервный, для ветра, шарф,– чтоб если, не дай бог, сядем в Игарке, так было в чем и ходить, и спать, если опять в гостинице холод. Туда ехал в фуражке, а назад уже в шапке. В Норильске за час температура понизилась с -10 до -22, с ветром до 10 м/сек; у нас к ночи тоже похолодало, короче, вернулась зима. «Желтопогонники…» Алексеич мой в отпуске, а летает с нами вернувшийся с пенсии снова на летную работу Витя Гусаков; он и останется с Сашей, а мы с Алексеичем продолжим работать вместе. Валера дома там переживает, жаловался по телефону Наде, что, мол, бросили его; короче, позвонил я ему, успокоил, через несколько дней мы с ним слетаем во Владик (ему дали рейсик после отпуска для поддержки штанов), а там нам с Сашей останется три рейса – и конец программы; он готов. Дальше с ним будет уже летать закрепленный опытный второй пилот, нянька, а штатный пилот-инструктор будет сидеть у них за спиной 25 часов, наблюдать и подсказывать. Потом проверка командиром летного отряда – и ПСП, первый самостоятельный полет. И в добрый путь. Мы с Алексеичем летаем уже девятый год вместе, сдружились, единомышленники. Надо держаться друг за друга: этот – не подведет. В жизни мы, в силу замкнутости характеров, встречаемся исключительно редко, семьями – никогда, но друг другу мы нужны. Саша рулит на машине все еще как по телевизору. Да один ли он такой. Еще не чувствует. Заруливаем недавно в насквозь обледеневший карман на норильской полосе: боится прижаться вправо, к краю кармана, чтобы не зацепить угловой фонарь, не чувствует еще колею наружной тележки. Перекладку передней ноги, самый сложный на гололеде элемент, еще до конца не уяснил. Сунул ручку влево, нога чуть с запаздыванием развернулась из крайнего положения 55 градусов вправо в крайнее положение 55 влево, а нос как шел вперед, параллельно обводу кармана, так и идет. Надо ж было вовремя помочь левым тормозом, создать импульс угловой скорости вращения влево; но нет: центр тяжести машины так и идет по инерции вперед, на бруствер. Передние колеса, развернувшись до упора влево, заблокировались, идут юзом, машину трясет, она потеряла импульс движения, тормозится. Я добавляю режим правому двигателю, подсказываю: помогай левым тормозом, импульсами, а чтобы разблокировались передние колеса, советую уменьшить угол отклонения «балды» ближе к нейтрали, а когда появится хоть малая угловая скорость влево, – чуть-чуть, на грани юза, снова увеличь отклонение передних колес, и помогай, помогай левым тормозом; потом, соразмерно росту угловой скорости вращения, увеличивай угол отклонения передних колес, и все это на грани юза; лучше использовать всю глубину кармана, почти по обочине, большим радиусом, помогая тормозом, но не теряя угловую скорость. Газ убирай, когда уже развернулся от противоположной обочины под углом к оси ВПП; выходишь на ось – переедь ее, машина же вся сзади, еще она вся справа, протяни, передняя нога уже на сухом бетоне, управляема, используй ее, плавно доверни вправо, выведи на ось, переключи на малые углы и ногами окончательно установи строго вдоль оси; заодно проверишь управляемость передней ноги от педалей. Кое-то у него получается, кое-что нет; говорит, лучше бы я до кармана, на сухом бетоне, малым радиусом развернулся. А сядешь в Игарке? В Полярном? Там всегда заснежено, укатано, и тот же гололед в карманах. Нет уж, на бетоне и дурак развернется. Это все придет само, к следующей осени; за лето он должен прочувствовать машину сам, без болтливого инструктора справа. Сам пару раз застрянет под 90, с носом, свесившимся за фонари обочины, взмокнет, тогда поймет, почему нельзя терять импульс вращения и каков радиус разворота; это на развороте – главное, и существует несколько способов этот импульс сохранить. Научится. Все научились. И я сегодня пустил пузыря. Дома дают минус ноль, проходит фронт, снегопад с дождем. Соображай же, что уже на кругу может быть обледенение. Нет, увлекся расчетом высоты, на каком удалении какую высоту занимать: вижу, что рановато снизились, можно было повыше идти, ветер встречный… А тут и РИО загорелось, инженер включил ПОС полностью и дал двигателям режим. Теперь уже надо выпускать интерцепторы и снижаться, а она не хочет, а боковое уже 10, а у нас еще 900 метров и скорость 450 – и не гасится на режиме-то. Пришлось задрать ее до 1100 метров, убрали спойлера, выпустили шасси, закрылки, стали занимать 500, а уже 4-й разворот. Помог только ветер: оттащил нас влево, вышли из 4-го на удалении 20, успели до входа в глиссаду и скорость погасить, и высоту потерять. Оно, конечно, хочется красиво, без газа зайти. А получилась горка до 1100 м, а сзади нас уже занял 900 Ил-76. Это с нашей стороны безграмотно, некрасиво. Надо предвидеть, господин инструктор. Встретил тут в Москве однокашника, летает на Ил-76 в Магадане. Ну, весь деловой. Летает за рубеж, бабки, бабки, валюта, зайцы, левый груз, нелегальная доставка легковых автомобилей в Европу; попутно брокерствует, деньги в обороте… Возят нелегально по Союзу делового бортинженера-англичанина с «Боинга», тот торгует компьютерами, нашел золотую жилу с транспортом, приплачивает им, ну, центы, конечно; ест и спит в самолете, без визы… А я стесняюсь брать зайцев. А у него квартира в Майкопе, квартира в Магадане, дом под Харьковом, дела, дела… И, между делом, еще ж командир Ил-76. Ну, дай бог. Я на это неспособен. Это не мой удел. Я ему верю, что живет он лучше, богаче меня. Но он сам проговорился: диплом академии купил за рыбу, так же учился и английскому; да и весь образ жизни определенный: ресторан, гараж, бутылка… Обычно деловые люди настолько полны энергии, это у них от бога, что хватают жизнь ртом и задницей; их хватает и на постоянные пьянки, и на дела, и на баб, и о здоровье они не думают, и перегрузки как-то переносят, и вертятся, и горят, горят, как ракета… а потом – хлоп! И всё. А я тлею, как гнилушка, тихо, спокойно, сам в себе, берегу свою гниль, а по сути проживу столько же. Мне бог не дал гореть, а сгнивают сейчас быстро. 27.04. Мысль о Молдавии посетила в полете. Вот сейчас мы ворчим, что молдаване убивают русских в Приднестровье, что возомнили о какой-то там независимости, а мы уже и казачков туда подкинули, добровольцев, как когда-то в Испанию (на хрен бы нам тогда было землю в Гренаде крестьянам отдавать): короче, народ-дурак, недаром одесское еврейство на всех углах анекдоты про дурака-молдавана травит, как про того чукчу, а еврей – он умный, он – знает… Да ничего он, умный, про этот народ не знает. И я не знаю умом, а вот доверяю чистым эмоциям, и, думаю, они не дадут ошибиться. Я с детства люблю музыку, купаюсь в ней, сам играл, и в оркестре, и так, и не ошибусь, пожалуй, если отнесу молдавскую национальную музыкальную культуру к наиболее богатым не только в Европе, но, пожалуй, и в мире. Народ, одаренный Богом, что в строительстве, что в виноделии, что в музыке. Ему бы жить в своем земном раю и славить Всевышнего, ибо и характер у молдаван, как у птиц. Кстати, вы видели вусмерть пьяного молдаванина? А мы: «дурак». Задавили такой народ, сгноили его, завертели в большевистской кутерьме и пропаганде, отравили его землю, – и еще заставляем петь: Мир! Какое небо надо мной! Мир! Какой простор, какой покой! Сами мы дураки, дичь и сволочи. По одному российскому рогу, двухрядке и ложкам можно судить, кто есть кто, по крайней мере, в музыке. Ну не может душа моя смириться, слушая дикие, азиатские наши фольклорные распевы, или гнусаво-трескучие роговые оркестры с ложкарями, или слушая недоделанную нашу двухрядку… А тут в любом молдавском селе наберется порядочный оркестр на самый что ни на есть европейский манер: контрабас со смычком, скрипки, трубы, кларнет, аккордеон, рокочущие цимбалы, ну и на закуску флуер и най – с хроматическим строем, а не на фригийский или дорийский лад. А ритмы, а мелодии, а лирика, а огонь… Какое богатство! А мы: «дурак-народ». Нет, не поверю я, никогда, ни за что. У этого народа, как и у российского, как и у хохла, и белоруса, – есть душа. Что ж мы глотки-то друг другу грызем? Нищие… при таком духовном богатстве! Я всегда любил и буду любить прекрасную молдавскую музыку, ибо в ней – душа народа. Нет дураков-народов, есть подлецы-политики. И толпа, которую можно настропалить на любую подлость. Заход в Чите. Ночь, подвесили впереди нас Ан-24, нам дали возможность зайти впереди него, подвели к 3-му по малому кругу, тут ветерок боковой «помог»; короче, пришлось одновременно исправлять хороший проворот и догонять крутую глиссаду, не успев толком не то что погасить скорость, а даже выпустить шасси-то едва успели. Ну, с грехом пополам, собрали стрелки в кучу к дальнему приводу, успели в снижении выпустить и довыпустить закрылки, но подобрать потребный на глиссаде режим так и не смогли и, ловя его, вилкой, туда-сюда, одновременно стали поджимать машину под глиссаду, заодно потеряв скорость и установив чуть не номинал для ее восстановления; при этом переборщили и провалились под глиссаду так, что от ближнего пришлось позорно тянуть с недолетом, как на Ан-2; ну, уж к торцу, кое-как, вдвоем, сумели стабилизировать то, что должно было установиться еще с удаления 17 км. Помогло нам сесть, безусловно, только наработанные годами мое чутье и хватка. Выкрутился. В общем, надо было, конечно, уходить на второй круг еще с 4-го разворота. Я так и посоветовал Саше на будущее. Не хочется вспоминать. Худший мой заход за всю жизнь. Ну, переморгаю. Инструктор… На обратном пути все компенсировали. 5.05. У нас в стране два миллиона депутатов всех рангов. Известно, кто в большинстве туда пролез и лезет сейчас. Система десятилетиями нас оболванивала; в результате мы их избрали, т.е. произвели физическое движение бросания бюллетеня в урну, либо и вовсе не пришли на избирательный участок; а как это там делается, я видел своими глазами, будучи неоднократно членом избирательной комиссии: 99 и девять десятых. Таким вот образом осуществляется в стране власть Советов. Эти Советы людей, стоящих над законом, управляются кучкой людей, приближенных к действительно власть имущим. Наш дебильный дерьмократический закон защищает эту армию депутатской неприкосновенностью. Примеров же попрания законов депутатами сколько угодно. За рубежом парламентская неприкосновенность кончается за порогом парламента: на улице ты такой же, как все. «Аргументы и факты» опубликовали список депутатов этого съезда (в разъезд его, а лучше бы – в расход), забаллотировавших новый закон о земле. Причем, сгруппировали их по занимаемым, нынче ли, или в прошлом, должностям. И впереди стоит самая массовая когорта: первых секретарей, вторых секретарей; за ними всякие остальные секи, председатели исполкомов, директора крупных предприятий, огромная колонна колхозных помещиков и директоров совхозов, потом идут начальники снабов и сбытов, районные начальники всех мастей; ну а в конце – всяка шерсть: военнослужащий, врач, юрист и затесавшийся в эту кодлу болван-рабочий. Система взлелеяла такой корпус тормозителей нового, что все и стоит. Их ничем не прошибить. Уничтожить эту раковую опухоль можно двумя путями: либо диктатура, либо постепенный, демократический путь. Диктатура отбросит нас назад. Это не Гватемала, это шестая часть планеты. В российской грязи увязнет любая революция, любая реформа. Демократический путь в нашей азиатской стране потребует многих десятилетий, может, пары веков. Тот тонкий плодоносный пласт, что веками копился на нашей тощей, утоптанной земле, пласт предпринимателей, движущих страну вперед, – уничтожен. Нового ждать – век. Больше опереться не на кого. Ну не на тормозную же жидкость, его величество рабочий класс. Придется пережить этот век. Век страданий, век наработок. Жизнь будет продолжаться, нарастать количественно, оставаясь тощей качественно. Но людям надо отстраниться от политики. Политика нынче не движет государство вперед. Политика – для политиканов; это – черви в выгребной яме. Не спасут ни Собчаки, ни Гайдары, ни Ельцины. Они уйдут, не оставив заметного следа, но нахапав и себе, и детям, и внукам своим. Надо просто жить, как жили люди в Европе триста лет назад: принимать жизнь, как она есть. Главное – работать, работать, чтобы не сдохнуть с голоду. Большего нам на нашем веку не дано. Можно воровать. В России для этого благодатная почва. Мошенничать, посредничать, обманывать, спекулировать, – но вертеться. Такие уже нахапали. Один спекулянт водкой хвастался в «Комсомолке»: «я свой первый миллион сколотил за две недели». Вот из массы таких через десятилетия отцедится тончайший слой нового гумуса. Слетали в Краснодар, спокойно. Теперь 8-го Алма-Ата, 12-го Сочи; Саша уходит, а я собираю новый экипаж, сажусь снова на левое кресло, Алексеич прикрывает спину, – и вперед. Рейса три, может, еще дадут. Мы всю жизнь мечтали летать по 40 часов в месяц, а получать за это так, чтобы хватило на жизнь и чтоб свободное время было. Такие времена настали. Не утруждаясь, работая 10 дней в месяц, мы получаем тысяч 10 чистыми. Жить вполне можно, а здоровье сохраняется. Я получал раньше 700, а сейчас где-то 14 тысяч за 50 часов. Но тогда я пластался, за саннорму без выходных натягивал до 900; сейчас за саннорму было бы больше 20 тысяч, но… нет той саннормы. Да и черт с ней. Каждый месяц такой вот, как сейчас, работы я воспринимаю как подарок судьбы. На сколько мне еще отпущено такой халявы, я не знаю; надо этот год продержаться, поднять средний заработок. А если я долетаю до 50 лет, вот так, спокойно, с кучей выходных, – то это немыслимый рай. Зачем тогда и отпуск. Раньше билет на Москву стоил 70 р. Сейчас – 900. Ожидается 2000. Мало. Рейсы полупустые. Летает один Кавказ. Вот пусть они одни и летают и платят десятки тысяч за билет. Либо страна согласится на неравенство людей, как во всем мире, либо откажется от своей авиации как от излишества. На запасной аэродром сейчас лучше не уходить: нигде нет топлива; просидишь и неделю, и две, а кормежка – за наличные, и хоть нам и оплачивают за это сто рублей в день, но время золотое уйдет. Так что при принятии решения надо вертеться, грамотно выбирать запасные аэродромы. К примеру: Самара, запасные Ульяновск и Казань. Но там нет топлива, а есть в Уфе. Это чуть дальше. Значит, зальем побольше дома. Загрузки-то почти нет, ну будем топливо возить. В Сочи уже грозы. Запасные: Краснодар, Анапа, Минводы, Сухуми, Ставрополь. Нигде топлива нет. Сухуми вообще за границей. Вот и думай. Тогда уж лучше выбирать запасные не по погоде, не по наличию топлива, а по наличию профилактория с бесплатным питанием. Это – только в Минводах, но там профилакторий тесный, скорее всего, поселят в гостинице аэропорта. Но там хоть в АДП есть дешевая служебная столовая. Короче, к опыту летному ощутимо примешивается опыт житейский. Ну что. Отлетали без эксцессов, спокойно, можно смело ставить Саше пятерку и отдавать на проверку. 21.05. Слетали на Камчатку. Дома жарища под 30; с удовольствием отдохнули от нее на эшелоне, обсохли, даже чуть замерзли. А в Якутске уже +1. Ну, пилотировал я, разговелся с левого кресла. Новый второй пилот, с «элки», под 45 лет, Саша М., только и сказал: летай, набивай руку, а я подожду. И я выполнил все четыре посадки. Вошел в колею, все нормально. На Камчатку у меня заказов не было: в мае там только соленущая рыба, да такая же соленущая икра, любителей мало. Выспались, собрались на обратный вылет, машина села. Ну, у людей рыба, икра, а я с портфельчиком. И тут бригадир проводников докладывает: отсутствуют две проводницы. Они принесли рыбы и снова ушли мышковать, пообещав за два с половиной часа до вылета вернуться; остается час, садят пассажиров, что будем делать? Решай, командир. Ну, думаю, как всегда: подбегут, где-то задержался автобус. Рыба, документы и сумки их остались в гостинице. Бригадир предупредила горничную, чтоб как только, так сразу: ждем девчонок до последнего. Я пока не переживал. Три проводника у меня есть, лететь можно, пассажиров мало. Ну, чтобы отвлечься, сходил на экскурсию к прилетевшему «Руслану», погулял. Время истекало. Задержку делать нельзя. На чей счет ее отнести, кто будет платить? Я имею право лететь, значит, надо лететь. Ну а если что случилось с девчонками? Молоденькие, может, опаздывая, в запарке вскочили не в тот автобус, а может, в первую попутную машину… а их куда-нибудь в кусты… Но корабль должен уйти по расписанию. Осталось 15 минут до закрытия дверей. Я пошел на вышку, составил со сменным начальником ПДСП акт о неявке проводниц на вылет и о принятом решении лететь. Вскочили мы в кресла, запустились, все еще надеясь, что вот-вот подбегут, а самолет у самого вокзала… Нет, не подбежали. Ну, и полетели. Из Якутска потом я еще пытался дозвониться, но с Камчаткой в советском союзе связи нет. Душа все же болела. Хоть начальник ПДСП и пообещал, если долго не будет девчонок, сообщить в милицию и начать розыск, но… я все же командир, а бросил людей на произвол судьбы… У них с собой тысячи денег и куча рыбы. Если что, договорятся с москвичами на Ил-62, ну, толкнут им рыбу по дешевке, улетят зайцами в Москву, а оттуда уж полно наших рейсов. Это их проблемы. Были бы живы. Ну, а я обставился обтекателями. В санчасти записали в задание, что летим без двух проводниц, составили об этом акт; правда, копию акта в ПДСП не сделали, листок бумаги-то второпях едва нашли, но начальник пообещал, если что, прислать копию. Ему-то что: это моя беда, он только констатировал, ему – лишь бы не задержка. И мне тоже, в общем. Сейчас иду на разбор эскадрильи, доложу Савинову. Задерживать рейс я не мог: экипаж в сборе, готов, а с тремя проводницами мы официально летаем на Норильск и Мирный, значит, имели право. Сто раз были случаи в Москве, Ленинграде, когда отставали проводники от рейса, ну, брали у других экипажей, а отставшие потом добирались на более поздних рейсах. А на Камчатку следующий рейс – только через три дня, да прорвется ли еще. Так что пришлось сделать все по закону: не дай бог, если произошел какой несчастный случай с ними, – затаскают. Ну, что ж, командир. На то ты и командир, чтобы принимать решения. Но и обязан в рейсе обеспечить дисциплину персонала. Правда, как? Что я их – за одно место держать должен? Ночью я спал, парень-проводник спал рядом со мной, вот его я контролировал. Утром в столовой все были на месте. А потом ушли не спросившись. Да у них свой бригадир есть, это их проблемы. Жадность человеческая. Надо как-то жить, вот и гребут рыбу, столько, что и унести за раз не могут, рискуют, рыщут по браконьерским задворкам с тысячами в кармане. А я полетел с двухсоткой. Тридцать рублей на автобус; да на четвертак съел в кафе котлетку; чай у меня с собой. Назад ночью на такси, еще четвертак. Да еще спасибо, что штурман довез до города на своей машине. И осталось в кармане 120 рэ, это по старым ценам – пятерка. Денег в отряде пока нет, но начисление, говорят, появилось, а мы до сих пор не знаем, сколько же заработали в апреле. Ну, в рейсе случай, как всегда, когда подопрет с деньгами. Дежурный-якут садит нам зайцем курсанта, и тот признается, что этот слупил с него стоимость билета. Наш шустрый второй пилот с проводницами тут же ободрали дежурного; ну, хоть по сотне на брата. Ну, это – случай, сто рублей не деньги. Но за эту сотню я на дармовщинку прокатился ночью в город на такси, а так бы остался ночевать до утра в профилактории. Еще непривычно брать взятку, но, глядя на людей, вижу: дурак. Все берут. Надо как-то жить. Человек, чтобы улететь, дает любые деньги. Надо брать. Домой пришел – дома один хлеб. Так хоть полкило масла же куплю. Жизнь заставляет преступать нравственные нормы. Остатки стыда. Ожесточаюсь. Да пошли они, эти проводницы. Еще б за них душа болела. Вчера взлетели с Камчатки, заболел желудок. Язву наживать из-за них. А если их убили? Ну а я-то при чем. Я их в лицо-то не видел. Прошел мимо, поздоровался, они заняты на кухне, даже не ответили. Я работаю с бригадиром. Каждый должен отвечать за себя. Вот сейчас они там побегают. Если живы. К кому обратится рыдающая мать? К командиру экипажа. «Как же так? Куда ж ты смотрел?» А вот если бы я сделал задержку и Медведеву за это пришел хороший счет, – вот стал ли бы он меня корить за то, что бросил людей на произвол судьбы? Как же. Он бы сказал: да пошли они к черту, нужны они тебе, эти проводницы, ты убыток нанес предприятию – на каком основании? Забота? Да пошли они. Забота ничего не стоит, а вот задержка… У Алексеича супруга работает в ПДСП. Пришел из Москвы рейс, проходящий, на Благовещенск, а груз, 200 кг всего, завален благовещенским багажом, разгребать его некогда, время уходит. И Нина Яковлевна принимает решение: пусть эти несчастные 200 кг, неучтенные, смотаются зайцем в Благовещенск и обратно – лишь бы не было задержки и убытка отряду. Ну, инспекция раскрутила, подняли хай. А Медведев сказал: убытка нет? Безопасность нарушена? Взлетный вес превышен? Нет? Отстаньте от человека. Правильно сделала. Вот так же он оценит и этот мой случай. Экономика. Ты же сам пришел к выводу, что – только капитализм. Это штука жестокая, каждый сам за себя отвечает. Так что ж ты переживаешь и мучишься этическими проблемами? Тут жесткий расчет. Ну и съездил, доложил командиру эскадрильи. Савинов только и спросил, оформил ли я все как положено, не удрал ли по-партизански. Ну и все; остальное – не наша забота. 25.05. Девственницы мои опоздали, по их словам, на 20 минут. Перепутали время, видите ли. Ну, как я и предположил, добрались через Москву. Ну, наказали их. Стоило переживать. Немного похолодало, надо картошку сажать. Сегодня день отдыха. Съездил за зарплатой… хрен. Ну, увидел начисление: на руки 14 тысяч; этого хватит только на холодильник: пришла бумага, выкупить до 26-го, т.е. завтра. Что-то 14 тысяч мало. Пошел в бухгалтерию. Ага: как только нам повысили оклады до 6600, так мне тут же инструкторские начислить «забыли». Нашел: 4 тысячи. А не пошел бы – так и ушло бы в небытие. Итак, за апрель начисление около 20 тысяч. Мало. Я говорил: к лету надо зарабатывать по 50 тысяч, к осени по 100. В Норильске металлургам и шахтерам так и добавляют. Им – находят. А мы только что не голодаем. Надоело. Хочу масла. Не хочу ждать. Моя жизнь уходит, а морда Гайдара все холенее. Затоптал я остатки совести и растер сапогом. Буду брать взятки и возить зайцев. 27.05. Слетали в Мирный. Два хороших полета. В Мирном был ветерок, болтанка, затягивало под глиссаду, но к торцу все собрал в кучу и совершил мягкую посадку. И дома то же самое. Немножко отвык за зиму от термической болтанки. Зато заход от эшелона до четвертого разворота – на малом газе. Ну, второму пилоту хороший пример. Он пока присматривается, желания летать особого не выказывает, зато коммерция… Пошел он в Мирном в вокзал, нашел дежурную, та просит взять на приставное кресло человека, ну, как обычно в Мирном. Он ей прямо: рыночные отношения. Ты мне находишь и приводишь как можно больше зайцев до Красноярска, а я беру твоего на приставное. Все ясно, договорились. Ну, заяц нашелся всего один, разодрали, поделились с проводниками; ну так, на кило масла и полкило сыру досталось каждому. Все ж недаром. Да прихватили летчика со стеклянным билетом; ну, это штурману нашему стимул: он нас развозит по домам на своей машине. Заправка сейчас стоит дорого. У нас начальнички из АТБ и наземных служб положили глаз на списанные и ржавеющие под забором самолеты в дальнем углу аэродрома. Тут же организовали какую-то контору по сбыту металлолома: какие-то договоры с алюминиевым заводом, ты мне, я тебе… Короче, опять за нашей спиной и за наш счет. А когда им стали пенять, они, оглянувшись через плечо, тихонько так говорят: а кто тебе мешал? Шумишь то чё? Чё шумишь то? Вот-вот. Я в этих делах не смыслю, я ездовая собака, а кругом рыночный капитализм, дикий, совковый, полуворовство у всех на виду. Пока я летаю, вырабатываю самолетный ресурс, эти за моей спиной подсчитают дивиденды, примут у меня доведенный мною до кондиции самолет и оприходуют за валюту. А мне выпишут 20 тысяч деревянных, да еще я их буду выхаживать неделями. Денег на жизнь нет, ну, нашел доброго человека, одолжил 10 тысяч. Надя между делом договорилась в магазине заменить двухкамерную «Бирюсу-22» на вожделенный морозильник. Сегодня едем выкупать. Пошли в сберкассу и выдавили со сберкнижек все остатки: наскребся чек на 5 тысяч; ну хоть эту мелочь от Гайдара спасли. Кто гарантирует, что я в июне получу свою зарплату? Егор и его команда вполне могут и заморозить, и конфисковать, вот люди и хапают, пока деньги еще в цене и можно на них хоть что-то купить. Надо, надо воровать. Ворованное будет целее всего. Ворованное – всегда в наличии, твое, в руке. А заработанное – пока еще в небе, поймаешь ли. Наложат на него лапу и скажут: ну что ж, потерпи, всем тяжело, другие вон… А я терпеть не хочу. Я и работаю, и шабашу, и приворовываю, чтоб моя семья жила более-менее сносно. А кто-то, может, в задрипанном НИИ кроссворды разгадывает – он тоже потерпит, и ему тоже будет тяжело. Вот он пусть и терпит, а я пойду вкалывать. Но чтоб Гайдар свои лапы мне в карман не совал. Мой труд тяжелее и весомее многих иных, я имею право не терпеть. Я натерпелся там. 4.06. В Ростов добирались с нарушениями по топливу: нагребли в Челябинске под пробки, чтобы потом, если потребуется, хватило бы перелететь на дозаправку в Волгоград. Потребовалось. Перелетели в Волгоград; после бумажной волокиты (рыночные отношения!) нас обслужили. Но поставили на маленький пятачок, всего о двух стоянках, так, что только под буксир. А что такое искать буксир в чужом порту в час пик. Ну, пока, не высаживая, заправили… со всеми возможными нарушениями: один трап, без пожарной машины… И тут рядом, на левую стоянку, зарулил еще один Ту-154. Мы-то рассчитывали извернуться и вырулить самостоятельно через левое плечо и через эту стоянку; теперь занято. Некуда выруливать. Пятачок по размерам нестандартный, стоянки чуть просторнее обычных, и вокруг есть немного места. Техники предложили вырулить через правое плечо; правда, при этом, во время разворота на 180, был риск хлестнуть струей по соседнему самолету. Мне нужен был только хороший импульс вперед; места для разгона вроде хватало. Уговорили диспетчера руления, он разрешил; техники оттащили в сторону стремянки, отвели подальше соседских пассажиров, откатили топливозаправщик. Я продумывал, как решить задачу. Дал команду на запуск. Взвыл стартер. Экипаж соседнего самолета шел от АДП; остановились, качали головами. Место было. Но… маловато-таки для разгона вперед, чтобы набрать импульс скорости. Но если сопли не сосать… Мало меня учили Репин с Солодуном? Ну, решился. Дал хорошего газу; спиной чувствуя, что струя достает аж до находящихся далеко сзади, за магистральной РД, стоянок Як-40, отпустил тормоза. Машина пошла, газон пополз под нос, пора ногу вправо… пошло, пошло вращение… еще 20 градусов; убрать газы! Самолет провернулся на эти градусы, затихающая струя хлопнула по хвосту соседа, и тут же по радио оттуда нервно крикнул бортинженер, с тревогой ожидающий, как я его сейчас хлестну: «убери газ, перевернешь самолет, будут пороть вместе с диспетчером!» Диспетчер с вышки молча наблюдал и трясся. Тем временем самолет развернулся уже на 80 градусов и стал терять угловую скорость. Ну, теперь момент истины: увидим, каков расчет, хватает ли импульса и мастерства. Кругом меня уже был один газон, бетон ушел под кабину, передние колеса за моей спиной катились дугой по самой кромке; струя оглаживала фюзеляж соседа. Справа выезжал угол перрона… еще 15 градусов… ну! Переехали! Добавил газку, зная, что соседний самолет уже вышел из-под сектора обдува… а там, чуть дальше, стоят пришвартованные Ан-2… потише, потише, но таки на газочке… поддержать импульс… ну, 65, ну, 62… малый газ… Еле-еле, но мы таки доворачивали на магистральную. Наконец и Ан-2 вышли из сектора обстрела; добавил газу, и мы помчались по осевой. Спросил по радио: как там, нормально? Пауза… Бортинженер соседа буркнул в эфир: нормально. Ну и слава богу, ответил я ему. Подрулили к полосе, связались со стартом, и тут заклинило, в какую сторону взлетать. Неустойчивый ветерок крутил, можно с любым курсом, но нам надо на север; запросили… наоборот. Диспетчер удивился, уточнил, запретил. Ну, ладно, поехал на полосу… и повернул в другую сторону, все еще не врубаясь, где юг, а где север. Бросил взгляд на компас, дошло, затормозил. Старт со смехом спросил: что – голова закружилась? Я ответил, что, ага, закружилась, развернулся и порулил куда надо. Взлетели. Кругом были грозы, но мы их как-то прошли. В мозгу все стояли перипетии выруливания с того пятачка. И хоть после выруливания мы все оглянулись, не свалили ли случайно какую стремянку, не упустили ли какую мелочь: ну, галька там брызнула в окно, либо пассажирку какую с ног сдуло, а может, трап покатили, – да нет, вроде бы все в порядке. И претензий к нам нет; все дело заняло, ну, десять секунд… но какие же они долгие! Минут 15 эти мысли все лезли в голову: а что если бы… а что как вдруг… Потом я плюнул, сказал себе: да пошли они все, козлы, я прав, победителей не судят; хрять из этого Волгограда поскорее, забыть, впереди еще две посадки, кругом грозы, локатор слабоват… Когда мы еще шли на вылет в Красноярске, как раз выруливал молодой командир со стоянок, забитых самолетами, и на наших глазах нерешительно остановился, едва отвернув под 45 со стоянки. Не хватило импульса, еще не чувствует ни мощь самолета, ни его массу. Ну, добавил газу и дунул на соседа. А там рядом толпа пассажиров и трап между стоянками. Сверкнули голые ноги из-под задравшихся платьев; трап аж наклонился, чуть-чуть не перевернулся. Вот тебе и мастер. На моем месте в Волгограде он полдня бы ждал буксир, и правильно бы сделал. Признаться, теперь, после пережитого, я бы, пожалуй, тоже дожидался бы тягача. Риск был явно не оправдан, элемент лихачества усматривался, особенно на фоне этого жалкого выруливания молодого капитана у нас дома… но, главное, мои коллеги в Волгограде, шли же мимо меня по пятачку и качали головами. Они-то все видели; наверное, и сейчас еще качают головами: ну и ну… А меня ж заело; ну, я и показал. На пределе пределов. Ну, справился, и пошли они все. Репин летал командиром на «Ту» десять лет. Я тоже. Инструментом овладел. Рулю я, конечно, лихо. Именно лихо. Очень энергично… но плавно. Плавно страгиваюсь, плавно ввожу в разворот, так же плавно вывожу, но уж на развороте максимально использую инерцию. Углы срезаю рационально, острые сопряжения проруливаю, тщательно соизмеряя инерцию, угловую скорость, осевую, фонари и обочины; торможу и останавливаюсь неслышно, переднюю ногу не насилую ни резкими перекладками, ни клевками. Но тормоза задействованы постоянно, именно ими достигается вся плавность при энергичном рулении. Но весь комплекс чутья машины, вся интуитивная взаимосвязь газа, тормозов, передней ноги, инерции, угловых скоростей, разгонов и торможений, – это все итог десятилетней, постоянной, въедливой и творческой тренировки. И уж если раз дал газу – то ни больше, ни меньше, и рука с газов убрана: нет нужды, все рассчитано. Бывают просчеты, конечно, но связаны они обычно с внезапными помехами. Просчетом я считаю дополнительную дачу газа. Свободное же руление дает ощущение раскованной и эстетически законченной связи с машиной. И вода из стакана не плеснет. Мало били? Да нет, хватало. Но, извините, летать – так уж летать, рулить – так уж рулить, владеть инструментом – так уж владеть. А другие… пусть качают головами. Конечно, и на старуху бывает проруха, но все же на меня и десять лет спустя нет ни одной расшифровки. Я себе цену знаю. Самолюбование? Нет, самоудовлетворение. За двадцать лет я стал профессионалом и мастером своего дела; вот теперь учусь искусству учить других. Вступая в авиацию, я, тогда еще интуитивно, неосознанно, стремился: уж если в авиацию – то только летать; уж если летать – то только командиром; уж если командиром – то только на лайнере. Извечное пилотское «лучше быть головой у мухи, чем ж…й у слона» я спокойно перефразирую: «быть головой у слона». Если не будет перед глазами молодых летчиков таких ярких примеров мастерства, если не будет среди них авторитетных мастеров своего дела, то все посереет, ремесло осреднится, и восторжествует троечная посредственность. Да, я самолюбив. Еще как. И вот тут нужен железный самоконтроль, ибо иной раз жаркой волной бьет в мозги дворянская спесь заслуженного элитарного мастерства при лае из подворотни троечной шавки. Тут я могу потерять голову. И Солодун, помню, был такой же. И это объяснимо. Мы – не серые, заслуженно, горбом не серые; мы – отличники, элита. Когда я только попал на «Тушки», я гордился, что попал в элиту авиации. Но я не понимал еще, что элита – это не полетный вес машины и не дальние рейсы, а то неповторимое, трепетное, но уверенное слияние Личности с Машиной, в высшей, божественной, недоступной большинству степени. Сейчас, глядя на пришедшую нашу смену, я это чувствую особенно остро: им предстоит тяжкий труд познания новой техники, познание себя в новом качестве, своих возможностей и способностей к росту, к полному слиянию с этим благородным железом. Вот Андрюша Гайер это поймет рано, ибо ему – доступно. Этот – будет головой у слона. Толя ушел на пенсию. Гена ушел. Боря ушел. Собирается всерьез Вася. Осторожнейший Валера. Это все летчики одного пошиба, вспоминал Репин недавно. Это люди, у которых закрыт тончайший уровень; они довольствуются средним, рабочим. Может, так в большинстве и надо… но я, разумом это понимая, так летать не могу. Что-то внутри воет и скребет. Ну, как слушать бездарного гармониста. Вчера на рынке в Ростове – да их сейчас и везде развелось – сидит и пилит нечто немузыкальное пожилой мужчина, среди толпы, не стесняясь посредственного исполнения, – на шикарно-строгом, черном аккордеоне прекрасной немецкой фирмы «Ройял Стандард». Ну, режет слух. А чуть дальше – два парня, один на баяне, а другой на таком же, только красном, «Ройял Стандарде», шпарят дуэтом популярные мелодии, чисто, легко, лихо, импровизируя и, видимо, наслаждаясь процессом. Люди бросают деньги, и я бросил, и спасибо сказал. Талант и бесталанность. Я знаю, что у меня к полетам есть талант, чувствую его, а главное, я свой талант могу реально претворять в жизнь, решая сложные задачи, и вчерашнее выруливание было одной из таких решенных задач. Скажите мне, кто в жизни не решал сложную задачу – и без шероховатостей? И сколько на свете задниц у слона? Сырой летчик и летчик, вареный в собственном бессонном соку. Саша мой нынешний, в 45 лет, после вертолета, Ан-2 и «элки», пока сырой. Качественного скачка в мышлении, варения в собственном соку еще не произошло, и, видать, не произойдет. Слишком занят коммерцией и прочими делами, летает явно между прочим, ну, конечно, старается в меру. Видит свою перспективу именно задницей у слона, смирился с этим; да он счастлив этим, он с этой должности берет максимальный дивиденд. Что ж, годы ушли. Если у нас в 50 с лишним ввелись «молодые командиры» Юра Б. и Гена Ш., так, извините, они всласть полетали командирами на Ил-14 и Ил-18, да и вторыми на «тушке» предостаточно. У Саши же багаж невелик: Ан-2 и легкая «элка»… а годы ушли. Есть пилоты от Бога; этим – дается. Леша Бабаев, Андрюша Гайер, Слава Солодун, Валера Герасимов, Репин, Садыков, Горбатенко… да им несть числа. Есть трудяги, как Юра Чикинев, изучивший РЛЭ наизусть, а на своем грузовом «Фантомасе» оббивший боками весь Союз. Есть талантливые хваты вроде Мехова, Медведева и Левандовского. Ну… и я где-то посередке между теми и этими. Дома ночью садился с курсом 109, прибирал газы, жался к торцу, прижимал ее под горку – и все равно сел с толчком: 1,2. Под горку – и не перелететь, это тоже надо уметь. А в Волгограде совпали передняя центровка, на пределе, да горячая полоса, да попутный ветерок, да термическая болтанка. Пришлось подхватить 80-тонную машину на газу, малый газ ставить перед самым касанием и… чуть, едва заметно, чиркнули колесами… должна сесть, на цыпочках… нет, летим-таки. Козлик… плюх… побежали. Так и не понял, был козел или цыпочки. Скорее всего – козел, ибо если на цыпочках, чувствуется еле слышная вибрация раскручиваемых колес. Но главное не в этих нюансах. Главное – задачи решаются, а шероховатости были и будут всегда. 18.06. В Мирном работала недружная смена: все друг друга боятся, с ментами делиться не хотят. Короче, зайцев мы нашли, большею частью детей Кавказа, но перевозки зашумели; пришлось зайцам срочно покупать билеты и проходить досмотр как положено. В полете мы с них, сидящих друг на друге, взяли мзду – за то, что они сидят друг на друге, но летят. Мзда была с благодарностью дана и благосклонно принята, правда, в меньшем чем обычно количестве, раз люди вынуждены были купить билеты. Но что такое лишняя пара тысяч для гражданина сопредельного государства. Просто у нас еще есть остатки совести. Но тысячу шестьсот я себе в карман положил. Это на 11 кило мяса. Морозилку-то новую, вожделенную, еще и не включали, а пора бы. Завтра опять Мирный. Туда стал ходить из Москвы беспосадочный Ил-62. Конкуренты. Те совестью не мучаются, и никогда ее у них не было, а задний багажник у них вмещает куда больше, чем наш техотсек. Так что, пока они не пронюхали обстановку, надо брать свое. Оксанин одноклассник после школы все не мог определиться. Хотел устроиться к нам бортпроводником, я даже ходил за него хлопотать, но что-то там не срослось. Он частенько захаживал к нам, но никак себе не мог ответить на вопрос: как же жить, как обеспечить будущую семью? Ну, учеба в институте у него не пошла. Заглядывался на Оксану, но… не мог удовлетворить ее интеллектуальные запросы. Спортсмен. А потом как-то быстро женился на дочке моего коллеги, родили ребенка, устроился работать на алюминиевый завод. И сейчас зарабатывает честным трудом 23 тысячи в месяц. Ему 23 года – и 23 тысячи. Мне лет чуть побольше, а зарплата чуть поменьше. И я тоже задаю вопросы. Почему рабочий на заводе получает больше и живет лучше, чем я, пилот? Я ему не завидую. Сходите в цех и гляньте: там такие электромагнитные поля, что лом между ваннами стоит, качается, не знает в какую сторону упасть. Но слетайте и со мной в кабине. Неудобно как-то зарабатывать меньше мальчишки. Ну что ж, приворуем. Идет всеобщий, обвальный спад производства. Никто в этой рухнувшей системе не хочет работать: невыгодно. Выгодно торговать, спекулировать, воровать. Растут как грибы ларьки в нашем вокзале. Я не хочу докапываться, какими путями что где достается. Вижу только: жизнь стала темным лесом, где за каждым кустом сидит хищник и дерет с проходящего, а тот, за своим кустом, – с другого. Мне не изменить этот порядок… но и не пережить его в чистоплюйстве. Не тот век. Надо выбирать свой куст. Откуда я знаю, где и как добыл свои тысячи обдираемый мною заяц. Это его проблемы. Обидно ли мне, что стал люмпеном? Да уже как-то и не очень. Жизнь надо принимать как есть. В этой нашей совковой жизни не стало места классикам, их ни к чему не приложишь: Чехова, Достоевского, Толстого… А наши, современные, Солженицын и пр., тоже уже не нужны. И их время прошло. Утром перед вылетом зашел в контору, там как раз сидит наш профсоюзный бог, вхожий во все высокие двери. Короче, он нам выбил гарантированный заработок 23 тысячи, не подходя к самолету, как он выразился. Правительство идет на любые обещания, а значит, не собирается нести никакой ответственности в этом развале. Что такое будут эти 23 тысячи к зиме? Рассказывал нам эпопею, как он хотел сдать чек и получить по нему обратно наличные деньги, что законом разрешено. Ни у нас, ни в Москве ничего не получилось, не берут. Он пошел к министру финансов, взял его за руку и обошел с ним ряд магазинов, аптек и сберкасс. В сберкассе сказал: вот перед вами стоит министр финансов. А тетя из окошка ему: а что мне ваш министр – чеки могут подделывать, зачем мне брать на себя? Короче, выдали деньги только по письменному указанию министра. Такая вот ситуация. Такое вот правительство. Такая вот у него власть. И такое вот наше быдло: никого не боится. Я за гайдаровские пять тысяч на руки работать не хочу. Противно. И бросить не бросишь, и работать нет желания. Так… кантоваться до лучших времен. Я вынужден брать взятку с пассажира. Только и держит теперь, именно теперь, когда не стало денежной массы, возможность ограбить пассажира. Это наша золотая жила, и пока она не иссякла, надо доить. У нас в бане основной контингент – рабочие алюминиевого завода. Я все допытываюсь у них о роли человека на этом современном производстве. Ну, оно, действительно, современное: аноды-катоды, электролиз, крылатый металл, – это вам не паровоз Черепанова. Опуская все технологические подробности, можно сделать вывод: электролизник – дворник при электролизной ванне. И за это, за две извилины, ему платят. Ну, и за дым, и за стоящие ломы. И выходит, у него зарплата больше, чем у пилота. А ведь у пилота четыре извилины. Нет, несправедливо. 23.06. Норильск с утра был закрыт низкой облачностью, переходящей временами в туман. Обычная норильская погода, правда, характерная больше для конца мая, но нынче лето холодное. Мы потолкались в эскадрилье, где оживленно обсуждалось вступившее в силу с июня тарифное соглашение, потом пошли спать в профилакторий. Но тут Норильск открылся. А в такую погоду ждать нечего: окно должно скоро закрыться. Пошли на вылет. Взлетел Саша Шевченко, он стоял первым рейсом, а мы за ним, примерно через полчаса. У него был почти полный салон пассажиров, а у нас четыре тонны почты и тридцать человек; у нас «эмка», залили для центровки 4 тонны керосину в балластный бак. Через час полета земля сообщила, что в Норильске выкатился Ан-12 и что Шевченко сел в Игарке; обещали, что полоса в Норильске будет закрыта еще в течение часа. Топлива у нас было много, и мы продолжили полет, рассчитывая в случае задержки покружиться в зоне ожидания минут 20-30: это все же экономичнее, чем садиться и потом взлетать в Игарке. На траверзе Игарки Норильск сообщил, что будет закрыт надолго; мы стали снижаться за 50 км до Игарки, поизвращались на схеме, за один круг сумели потерять высоту и зайти на посадку по РТС обратного старта. Зарулили, встали рядом с самолетом Шевченко; тут же сел и зарулил еще москвич, следующий в Певек. В АДП только что прилетевший из Норильска командир Як-40 рассказал, что Ан-12 сел до полосы, вроде бы дымил, потом диспетчер сообщил, что есть жертвы. Через два часа сидения в самолете, мы увидели, что привели на посадку пассажиров москвичу, потом бегом пробежал мимо нас экипаж Ан-26, мы окликнули их, нам на бегу ответили, что Норильск принимает. Пассажиры были у нас на борту, заправки хватало, и мы взлетели первыми, а Саша задержался посадкой пассажиров. Москвич ушел на Певек, оставив несколько норильских пассажиров нам; Саша их забрал. Норильск давал нижний край 100, видимость 2100, заход на 14, с прямой. Пока снижались, видимость ухудшилась, облачность понизилась так, что к выпуску закрылков уже было 80/1000. Я подготовил экипаж. Раз самолет лежит у торца, значит, вполне возможны помехи в работе курсо-глиссадной системы. Контроль по приводам, контроль высоты по удалению, контроль скоростей, взаимоконтроль в экипаже, спокойствие; пилотирую я, в директорном режиме, поточнее. Зашли. Я строго держал стрелки в центре. Почему-то диспетчер дал за 8 км при высоте 400 м информацию «подходите к глиссаде». Ведь вход на 500 и за 10 км. Первый нам сигнал: что-то не так, повнимательнее. Напомнил еще раз порядок ухода на второй круг, мало ли что. Еще строже пилотировал; штурман пару раз улавливал легкие отклонения от глиссады, я исправлял, успокаивал. Легкое обледенение смыл дождь, ПОС включена полностью, Алексеич четко ставил режимы, а я старался с ними не дергаться. – 200 метров, дальней нет! Я поставил режим 86 и перевел в горизонт. Нет, зазвенел маркер, я краем глаза поймал отсечку стрелки АРК, убрал режим до прежнего и догнал глиссаду. Пока все в норме, стрелки стоят как вкопанные. 100 метров. Мрак. Метров на 70 в разрывах уверенно замелькала земля. Садимся. Выскочили на 40 метров… аккурат перед торцом, я зебру уже не увидел, ушла под меня, а понял только, что очень высоко, хотя строго держал глиссаду по директору. Машина пустая, центровка задняя, пришлось досаживать силой, с тоской наблюдая, как знаки одни за другими исчезают под брюхом. Полоса оставалась сзади, а мы все летели. На метре, не дожидаясь касания, скомандовал «реверс!», тут же ткнул ее в бетон, не особенно жестко, где-то 1,25, дождался скорости 220, опустил ногу и полностью, но плавно обжал тормоза. Полоса в Норильске 3700, но так перелетать я себе никогда не позволял. Ну, так нас вывело. Конечно, мы затормозились еще на середине полосы, потихоньку доехали и срулили по 2-й РД. Катастрофа катастрофой, а магазин-то закрывается, и я первым делом побежал туда. Добыл дефицитных электролампочек, кефиру и творожку, подешевле, чем у нас, и получше качеством. А штурман пошел к своему знакомому руководителю полетов, который только что принял смену, и они съездили к месту падения. Ну что. До ВПР они шли нормально, диспетчер старта увидел машину визуально, у самой земли, потом снова пропали в облаках, и всё. Он сначала подумал, что они сели. Но они упали, чуть за торцом и в километре справа от полосы, т.е. их выбросило под 45 градусов от курса; упали с креном, самолет разлетелся, все всмятку. Ну, еще жив был второй пилот: глаз выскочил, голова размозжена, но шевелился, пытался вытереть лицо… Скорее всего, не жилец. Одежда вся от удара лопнула на клочки. Ну, останки экипажа, сопровождающих и зайцев собрали в кучу, погрузили на грузовик… Врачи разберутся, сколько их всего было, но, где-то, примерно, человек 12. Ребята ходили посмотреть; я не пошел. Здоровье надо беречь С меня хватит и после катастрофы Фалькова. Я особенно и не переживал, зажал намертво этот крантик. Мало я их перевидел… Такое случается на турбовинтовом самолете обычно при отказе крайнего двигателя. На глиссаде отказал и зафлюгировался четвертый. Асимметричная тяга, потащило вправо, ветер слева, заход по ПСП, экипаж видит, что не вписывается, в курс. Высота принятия решения… Это секунды. Еще, может, и не дошло, что двигатель отказал. А газы на «Фантомасе» в руках у пилотов. «Уходим, взлетный!» – сунул; асимметрия тяги превышает предел управляемости по боковому каналу, крен больше, больше… и ведь не уберешь газ: вот она, земля. Ну и… вот она, родная, полон рот. Сколько их, турбовинтовых, так упало. Сам летал, знаю. 4-й двигатель – критический: закрутка струи и прочие отрицательные факторы при его отказе – максимально препятствуют выходу из крена. Да еще дефицит времени и высоты: ясное дело, там облачность была не 80 м; они лезли, как и я лез. Если бы это было чуть повыше, то успели бы прибрать первому до полетного малого газа, внутренним взлетный, а уж потом, по мере необходимости, плавно добавляли бы первому и корячились – но ушли бы и остались живы. Судьба. Ну, будет комиссия, расследуют, может, там что и другое было. Но я предполагаю именно вот такую картину. Пока сажали пассажиров – полный самолет детишек в лагеря, – я вижу, погода-то ухудшается. Прогудел над головой Шевченко, ушел на второй круг, покружился и выпросил-таки посадку с обратным курсом. Молодец. Ну, нас выпустили при видимости 200, дали, конечно, положенные 400, по блату, все же РП знакомый. Взлетели, разошлись с уходящим в Хатангу на запасной бортом, на котором спешил к месту катастрофы Левандовский. Саша взлетел попозже, и Норильск закрылся, и сейчас еще закрыт. Так что нам повезло. Прилетели домой в 12-м часу ночи. Поползли спать в профилакторий. Навалилась эмоциональная усталость; я еле волочил ноги по привокзальной площади мимо ряда автобусов с надписью «Норильск. Лагерь отдыха «Таежный». Водители дремали в кабинах, толпа детишек вываливалась на площадь следом за мной; я свое дело сделал. Поблагодарил и похвалил экипаж. Что и говорить: сработали профессионально, да еще на фоне такого неблагоприятного эмоционального стресса. Думал, долго не усну. Нет, уснул быстро и крепко спал на проклятой койке, а утром долго и со стонами разминал затекшую радикулитную шею. 25.06. Кто кого кормит в авиации. Все начальство получило свои полные немалые оклады. Всем службам выплатили тоже полностью. Летчикам – тянули-тянули, наконец отпечатали ведомость: по 5 гайдаровских тысяч. Отряд бушует: или все, или ничего! Профсоюзные наши лидеры организовали в отряде какой-то кооператив: спекулируют спиртным. Я с ними разговаривал дня два назад; они говорят: чё шумишь-то? Шумишь-то чё раньше времени? Ты эти пять тысяч в руках держал? Будет день, будет пища. Короче, общие фразы, а когда дошло до дела, профсоюза нет, директора нет, главбуха нет, а зам. главбуха говорит, что и чеков нет, надо писать заявление, переведут в емельяновский банк, пойдете туда, там выпишут чек. А это месяц пройдет. Так что надо бастовать. За чек на пять тысяч я работать не хочу. А с июля ждут новые наценки. Или пойти в отпуск? Отпускные еще выдают наличными, это, пожалуй, единственный путь выручить деньги. Отпуска хватает. Нет, это не жизнь, в подвешенном состоянии. Работать так никакого желания нет. Встретил вчера Сашу Чекина из первого самостоятельного полета. С букетом цветов, при пассажирах, поздравил у трапа, как положено. Из начальства не было никого, станут они еще с цветами встречать, когда тут бунт назревает, попрятались. Ну, поехали с экипажем обмывать, я еще вручил ему командирские погоны. Человек доволен, и слава богу. Экипаж тоже доволен, ребята хвалят молодого командира. Первая моя ласточка, первый блин, – и вроде не комом. 26.06. С утра разогнал всех на работу, и наступило мое любимое свободное время. Весь день еще впереди, я один, рядом под лампой дремлет кот. В ночь у меня проклятый Комсомольск с разворотом, бесполезный, пустой и тяжкий рейс; одна радость только, что рядом мой верный штурман Филаретыч, а сзади верный бортмеханик Алексеич: собрались случайно вместе, пока Чекин отдыхает. Легче будет коротать бесконечную светлую ночь в привычном кругу старой летной семьи, где нет тайн, где все с полуслова и полувзгляда, на одном касании и едином дыхании. Есть же что-то незыблемое, на что можно опереться в этой суете, и это – слетанный экипаж. Что ж, кто понимает, тот мне позавидует. Надя снова нашла шабашку: вечером будем сажать с нею цветы. Потом едем на дачу, я оттуда поеду в ночь на вылет. Гоню и гоню от себя мысли о пресловутых пяти тысячах. Как-то же проживем. Но обида гложет: ну когда же я, пилот, наконец перестану думать о деньгах? Вот Кутломаметов Александр Кириллыч, КВС Ту-154: пролетал 37 лет. Всю жизнь копил к старости на машину. Скопил 20 тысяч: думал же, хватит еще и на дачный домик, собирался на пенсию. И что же: наконец-то, на 56-м году жизни, отряд ему выделил талон на машину. Но тут же акулой метнулась начальник профилактория, Люба С. и перехватила. Вот ей, сейчас, немедленно, оказалось нужнее. Это у нее, кстати, уже третья машина. Кириллыч заплакал. А дальше началась инфляция, старик гнался, не догнал, деньги вылетели в трубу. Сейчас он впервые получил те же 20 тысяч за один месяц работы. Ну и что: поезд ушел, не догнать. А такие, как С., конъюнктуру нюхом чуют, и они ж знали, что это последняя возможность, и переступили через человека. А сейчас муж ее на Ил-62 возит из Ленинбурга импортный спирт, а Люба, вместе с профсоюзными лидерами и примкнувшими к ним приближенными, торгует им в отряде. Кооператив… Поневоле лезут и лезут эти мысли в голову. Мне обидно: 25 лет пролетал, а так на совковом уровне и остался. А Кириллычу ведь намного обиднее: он уже старик. Правда, ни сединки. В эскадрилье как-то травили баланду, зашел Коля Филиппович, штурман, мой ровесник, кудрявый, но уже весь седой. Так Кириллыч и рассказал. Когда-то давно, еще на По-2, прилетел он молодым пилотом в Краснотуранск. Ну, детишки сбежались, а среди них – вот этот, Коля, в трусиках: «дядя, прокати». А сейчас Коля уже седой весь, а дядя все черный. И все такой же нищий, ибо всю жизнь жил честным трудом. Вот и я, почти месячную саннорму отлетав, перед тяжелым ночным рейсом буду не отдыхать, а шабашить, чтоб зашибить ту копейку, ибо законную зарплату забрали Тимур и его команда, чтоб они ею подавились, суки, а мне надо жить. А уборщица свои пять тысяч получит полностью. А тут слухи ходят, что придется доплачивать за доучивание дочери в институте. Где ж набраться тех денег? Манили-манили нас, как тот заяц лису, заманили между двух берез, втиснули, а теперь… снимай штаны, заходят с курсом 42. И нарушат. А у кого-то в квартирах комнаты до потолка набиты купюрами. 30.06. Почему Комсомольск проклятый? Да вот по тому самому. В жарищу, отшабашив вечер на посадке цветов, отвез Надю на дачу, два часа подремал, снова за руль – и вернулся с рейса только к часу дня. Два часа подремал – и за работу на даче, кто ж за меня сделает. Вечером банька, умеренная; ночь поспал, с утра поехали к доброму человеку на дачу, там я до вечера на жаре делал ему летний душ, ибо он – профессор-хирург, руками работать ему нельзя, только в рукавицах, ну, только если что подать, принести, поддержать. Пока добрались от них домой, пока поставил машину, помылся, уже ночь, а утром рано на служебный – и в отряд на собрание по поводу зарплаты, а оттуда на внеочередной, подсунутый нам Благовещенск, а потом, вечером, еще два часа на ногах ждали проклятый автобус; добрался домой в 12 ночи, пока поужинал, уже час. Горячей воды помыться нет… сволочи… Короче, не отдохнул путем, а утром у меня полугодовая медкомиссия… ну и кардиограмма не пошла. Проклятый Комсомольск. Так хотелось спать после взлета и набора высоты, что никаких сил не было терпеть. Уж как я ни делал зарядку для хвоста, как ни разминался, но голова падала и падала, и только громадными усилиями воли как-то держал себя и все пытался завести усталый экипаж на болтовню. Только болтовня в полете и спасает от дремоты. Ну, разболтались и как-то долетели. Будь он трижды, нет, восемнадцатикратно, проклят. На том собрании, не дождавшись конца которого, мы ушли на вылет, было объявлено, что зарплата будет действительно где-то 60 тысяч за саннорму, но… получим полностью только за май, а июньская и отпускные ограничатся пресловутыми пятью тысячами… ну, там, чеки, банк… нам разъяснили. А решение собрания такое: идти на поклон к губернатору и объяснить ему, что летчик на 5 тысяч не проживет и безопасность не обеспечит. Думаю, губернатору нашему, большевику и помещику Вепреву, это до лампочки. Он прекрасно понимает, что это – конфискация, и навсегда, и за счет богатеньких, в т.ч. и нас, летчиков. Я надрываю сердце в полетах – и за пять тысяч? Не могу с этим смириться. И за эту суку Ельцина еще кто-то голосовал? Ну ладно. Рейс на Благовещенск гнали транзитом из Москвы; обнаружился подозрительный груз, по липовой накладной, с сопровождающим; девчата в бумагах вычислили: ликеро-водочные изделия, 400 кг. Ясно, человек договорился в Москве с грузчиками, дал мзду тому экипажу… Саша было собрался по прилету идти в перевозки, выяснять… Я тут же среагировал: «Стоп! Найти сопровождающего и ободрать». И второй пилот вполне профессионально вытряс из парня три пятьсот: тот клялся, что деньги эти – все что есть, дал пачку пятерок, десяток, даже с бору по сосенке собранную тысячу разномастных, от 50 до рубля, но перевязанных и с надписью «1000». Ясно: они тоже знают, и ждут, и готовятся, и прикидываются казанской сиротой. Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Не хочешь жить как все, на 5 тысяч? Не хочу. Я – не как все. Все кантуются на работе, а я пластаюсь. Всех много, а нас мало. А профессор-хирург, зав. кафедрой, получает 4 тысячи. Их, профессоров, Хирургов от Бога, с Золотым скальпелем, видимо, очень много, лишние они, профессора-то нынче, нахлебники, тунеядцы. Вот шахтеры – да, шахтер – профессия сурьезная. Шахтеры нужны, нефтяники, металлурги… летчики… С этими – заигрывают. Ну, заигрывали. А теперь всех уравняли. Сволочи они все. И как мне ни объясняй логику их поведения и истоки их ошибок, я все равно не хочу этого понимать. Я – ездовой пес, вожак, мчусь за куском мяса, подвешенным перед носом… и задыхаюсь. Им на меня – плевать, я для них – материал. Стряхнут… Вон, Степа Ваньков: еще не остыл. Так за всю жизнь и не видел зарплаты выше 10 тысяч, упал на бегу, щелкнув напоследок зубами на тот кусок… а он хоть и перед носом, но каюром-то Гайдар… Я ж тут было выпросил себе южный рейс; дали Краснодар, на завтра, а меня зарубили врачи: кардиограмма не идет. Завтра с утра еще одна попытка; если нет, откручу велосипед, если и под нагрузкой не пойдет, придется, видимо, идти в отпуск, за пресловутые 5 тысяч. И те наличные, что лежат дома, растают быстро. Если бы не десять тысяч, содранные за месяц с зайцев, то вообще была бы беда. На жратву не хватит. А рынок чеки не берет, как и продуктовые ларьки. Кругом саботаж. Так кто же посмеет меня обвинить в том, что я беру, вынужден брать взятки. Пока кушаю изюм: восстанавливаю калий в организме. Сегодня у меня день вынужденного отдыха. И правда, чувствую себя хреновенько. Устал. Ноги, ноги гудят, и это с утра. 1.07. Мой скромнейший Алексеич еще в молодости, из принципа, занимался серьезно каким-то Гегелем и Достоевским. И вообще, замечаю, изменением моего мировоззрения и реальному взгляду на жизнь я, взращенный библиотекой и улицей, в определенной степени обязан выросшему среди людей и привыкшему работать и мыслить самостоятельно моему бортмеханику. Не только ему, конечно, но – в значительной степени ему. Алексеич тоже, как и я, не особо стремился к инженерному диплому, вкалывал руками. Не достигнув 30 лет, попал в авиационное происшествие и покалечился, остался почти без рук. Спасибо супруге его, Нине Яковлевне, что поддержала, помогла как-то восстановить здоровье, сохранила семью, и до сих пор, работая в аэропорту, встречает у трапа и целует перед всем народом. Видно, есть за что. А авария у них была серьезная. На вертолете Ми-4, где он летал бортмехаником, в полете над тайгой рассоединилась муфта свободного хода несущего винта – примерно такая же, как во втулке заднего колеса на велосипеде. Двигатель воет, а винт, извините, отсоединился. Ну, садились на авторотации, на сплошной ковер тайги. Винт, достигнув вершин елок, стал рубить деревья и разрушился, и вертолет отвесно упал в лес с высоты 30 метров. Кабину сплющило тяжелым редуктором, людей поломало; у Валеры выскочили из плечевых суставов руки, а ноги по колени стали синие, ну, еще позвонки, ребра… Короче, его кое-как вытащили, положили, а комары жрут, мошка, гнус… а рук нету… С тех пор он, как услышит зуд комара, весь дергается. Три дня их искали, а тайга скрыла все следы; ну, жгли костер, по дыму нашли их, спасли. Тот, кто вот так, без рук, без ног, со сломанными ребрами и поврежденным позвоночником полежал в тайге, в тридцатиградусную жару, съедаемый гнусом, уже попрощавшийся с жизнью и заведомо – с летной работой, – тот, я полагаю, мыслить умеет и на жизнь смотрит трезво. Молодость взяла свое; большую роль сыграла забота жены: она ему массаж часами делала, зарядку, а главное, убедила, что он вернется летать, и всякими правдами и неправдами протащила его через медкомиссию. И вот уже двадцать пятый год Алексеич пилит воздух и девять лет прикрывает мне спину, а до этого работал в одном экипаже в Абакане еще семь лет, и я от него не откажусь никогда. И тот его командир, на Ан-24, как встречаются, обнимаются, тоже тепло вспоминает, да что там говорить. Ну, пьет человек, но пьет он только дома, под одеялом, под контролем жены, но – до потери сознательности. И хорошая семья, и уже дед, а сыну вот только 14, кормить еще и кормить, а руки и ноги болят… И сидим мы в полете, и корчимся, и постанываем. Филаретыч месяца полтора назад, садясь в давке на служебный автобус, неудачно упал и сломал ребро. Ну, как это у нас в советском союзе делается, от врачей – боже упаси – скрыл, взял отпуск и лечился подпольно, да еще пришлось хвораючи слетать в Актюбинск, чтоб как-то повернуть в нужное русло судьбу сына, курсанта летного училища, который уже шестой год как не может кончить эту богадельню. То парня в армию со второго курса забрали, идиоты большевистские, то теперь с топливом, то с матчастью, – короче, летчик свою судьбу должен нынче выстрадать. Ну, подняли старые связи, все-таки династия Гришаниных, все авиаторы; дали долетать последние три месяца перед выпуском. Потом решилось и с топливом, и с неблатными: дадут и им долетать, ведь миллионы в этих ребят вложены. Отпуск кончился, Витя наш стал летать с несросшимся ребром. Одно – что заработки, другое – Чекин засиделся в девках, надо вводить. Ну, так вот, в полетах, оно и срослось. Вот судьба моего штурмана. Сын старейшего нашего бортмеханика Филарета Степановича Гришанина, поступил после школы в летное училище на пилота; после первого курса списали по язве, так и не попробовал штурвала; ну, подлечился, устроился бортпроводником, полетал несколько лет, потом пришлось комсомольским вожачком устроиться на годик, чтобы партия разрешила в бортрадисты попасть. Полетал радистом, потом пошла эпопея переучивания радистов на штурманов, поехал, окончил штурманское училище, и вот, после такой одиссеи, пашет уже лет 20 в небе. Какой должен выработаться характер у язвенника, если весил 72 кг, а сейчас 58, а язва не проходит: слаб человек, живет на кофе и табаке; но примернейший семьянин и глава: командует в семье как положено и все несет в дом. Теперь вот повторяется одиссея и с его Димкой, ну, вроде бы успешно. Вот династия. 6.07. Когда пилот приземляет машину и нет какого-то особого, нестандартного требования к решению этой задачи, он всецело, всеми клеточками мозга и тела, отдается сложному процессу. Казалось бы: раз-раз-раз – и всё. Но, как известно, это «раз-раз-раз» иной раз растягивается в достаточно протяженный и даже нестерпимо долгий пучок секунд, каждая из которых пышет жаром вольтовой дуги посадочного напряжения. Правда, когда задача посадки усложнена факторами, не относящимися непосредственно к пилотированию, мозг раздваивается, и в решении задачи приземления все в большей степени начинает участвовать подкорка. Если бы все так работали. Но каждый из нас ловил себя на мысли, что иной раз, делая тысячекратно отработанное свое дело, ремесло, думаешь совсем о другом, а руки работают автоматически. Пилот же так не может, это одна из особенностей летной психологии. Абсолютное растворение личности в сотворении чуда соприкосновения с землей. В эти секунды летчика ничто на свете не интересует кроме его искусства. Конечно, можно найти аналогии и в других профессиях, но круг их весьма ограничен, и все эти профессии есть результат сгорания человека. Кардиограмма, наконец, пошла, и меня допустили летать. Краснодарский рейс начался вроде бы хорошо: вылетели по расписанию, удались посадки; в Краснодаре Саша сел не хуже Леши Бабаева, невесомо; ну, курс-глиссада еще на уровне Л-410, однако землю видит. В Краснодаре вечером было прохладно, комаров мало, мы выспались под гул кондиционера, а с утра стал накрапывать дождик. А потом он пошел и пошел, и я понял, что надо хватать вишню, всю, что есть на рыночке, брать по любой цене, возможно пораньше ибо это последняя вечерняя, а утром по дождю ее никто рвать не будет. Алексеич со мной согласился. И мы хоть и вымокли, но нагребли на полторы тысячи, и ягода закончилась. После обеда немного подвезли еще, хватило и Саше со штурманом; ну, им меньше надо было. Если когда-то мы брали вишню по червонцу за ведро, то нынче отдавали по полсотни рублей за килограмм. Ну, где-то сорок кило я взял. И стали ждать самолет. А потом обратили внимание, что по радио в вокзале долдонят одно и то же: рейсы задерживаются отсутствием топлива в Краснодаре. Приплыли. Дождь лил и лил: с моря вышел отвратительный, мелкий кавказский циклончик и стал извращаться на месте так, что уже холодный фронт протянулся с юго-запада на северо-восток, разворачиваясь и уходя влево, на северо-запад, и неся прохладу с юга на север. Все наоборот. Но нам от этого было не легче. В Краснодаре все очень дорого, и мы, пока насыщали свои утробы скудной, весьма скромной для щедрого в прошлом Краснодара пищей, едва успевали отстегивать полусотни да сотни. А вишня наша прела в коробках и корзинах. Вылетел из дому наш борт, «эмка» Ну, может, догадаются, натопчут в Оренбурге побольше топлива, тем более что предупреждение есть. В АДП было вавилонское столпотворение. Десятки экипажей пытались что-то выяснить. А армянский коммерческий рейс ушел, забрав в порту все остатки топлива: заплатили валютой. Единственно, что удалось нам выяснить у диспетчера: борт нам сел, остаток 12 тонн. Можно перелететь в Волгоград… Но уже и в Краснодар подвезли наконец топливо, ждали отстой; вот-вот должны были начать заправлять, устанавливалась очередь на выпуск. Порт был забит: «тушки» стояли уже на первой ВПП. Мы пошли в гостиницу ждать «до команды». Тут в нумера к нам ввалился Вадим Мехов с экипажем. Молодец, постарался, зная, что у нас пропадает же вишня… да сам за ней прилетел. Они привезли остаток 16 тонн, но по бумагам проходило только 12, вот и передали по радио законный остаток. И их поставили на первой РД, заперев с двух сторон другими самолетами. Но это мелочи: ребята, долго ли дернуть буксиром впереди стоящий борт, когда топливо есть! Долго. Всю ночь. Мы было дали команду в АДП: сажайте пассажиров, топлива хватает до Оренбурга, может, еще успеем по расписанию взлететь. Наивняк. Забросив мокнущую и скисающую ягоду в лайнер, поплелись мы с Саней искать ПДСП, ибо вся кухня работы порта именно там. Долго мы искали, нашли открытые ворота, через которые на территорию можно было бы провести кучу зайцев… наконец, нашли эту службу. Там сидела тетя. Переговоры с нею ни к чему не привели: им не до нас. Вот через три часа уйдет стоящий впереди вас борт, тогда и вас отправим. Ваши сменщики сами виноваты: передали малый остаток по радио, вот их и заперли. Ага, передай-ка фактический остаток. А потом отбрехивайся от инспекции… Мехов виноват. Он нарушил все, но привез экипажу топливо, рассчитывая, что и ему завтра так же нелегально привезет следующий экипаж, так же нарушая и беря на себя. Летчики всегда виноваты. Пошли мы на самолет, уставшие, с гудящими ногами, промокшие, по воде, аки посуху. Уже плевать было, что ноги мокрые. Ну, и началась обычная ночь в самолете. Я сел в свое командирское кресло и, проваливаясь иногда в дремоту, то беседовал с ПДСП, то подсчитывал, сколько ушло бортов… Дневной предполетный отдых, беготня, очереди, рынок, буфет, ПДСП… все растворилось в обычной, привычной усталости. На рассвете нас отбуксировали на стоянку, быстренько обслужили, посадили пассажиров и выпустили. Оказалось, что в этом бардаке аэропорт рассосал десятка четыре рейсов. Все-таки молодцы, справились. Когда мы совсем уж раскиселились и усталость стала нестерпимой, как водится, начался полет. Дальше неинтересно. Ягоду проквасили. Убытков получилось примерно на ту тысячу, что бог дал с зайцев в Оренбурге. Бог и взял. Прилетевши домой, я развез экипаж, приволок коробки и корзины на горбу на пятый этаж (лифт, естественно, не работал), высыпал в тазы и вместо послеполетного отдыха принялся спасать остатки. Ну, ушло в отходы ведра два. Наварили компоту 28 литров и варенья литров пять. Да черешни съели с ведро. Своя игра. Еле дотянул до вечера, в девять упал спать, а мои возились до трех ночи. 8.07. Слетали в Норильск. Хорошая погода, хорошая посадка на пупок. На глиссаде отвлекался, ища упавший самолет, и удивился, как далеко сбоку он лежит от полосы и как далеко вперед от торца он улетел. Где-то около 2 км сбоку и столько же вперед, почти наравне с центром ВПП. Ну, норильские авиаторы говорят, что на левой плоскости, на законцовке, остались следы изола: значит, коснулись полосы левым крылом (это же какой крен был у высокоплана), затем хватанули на себя и… Оборачивается школьной ошибкой: просто потеряли скорость и свалились на правое крыло. Наверное, были же сопутствующие факторы, но… ни один самописец не работал, остается только предполагать. Но предположение, что это элементарная ошибка, что лезли, искали землю, выскочили сбоку, справа, резко с левым креном довернули на полосу, но не успели убрать крен, хватанули до пупа… Это ужасно. Это непрофессионально. Это беда фантомасников; примерам несть числа. Я-то предполагал отказ матчасти… а они искали землю. Ну, будут выводы комиссии. 9.07. Энергия летящего на эшелоне самолета соизмерима с энергией, к примеру, идущего полным ходом «Титаника». Массы несоизмеримы, но – квадрат скорости… И этой огромной, миллиарды килограммометров в секунду, энергией пилот распоряжается едва заметным движением органов управления. Если бы он мог зримо представить себе эти три миллиарда килограммометров в каждую секунду, привязанных к кнопке триммера, то, наверное, не смог бы пилотировать. Наше спасение в том, что самолет висит в плотном и вязком воздухе, как в масле, и трудно, невозможно себе представить все те силы, которые уравновешенно воздействуют на машину, но готовы, чуть что не так, разорвать ее на мелкие клочки. Мы выучили пару формул и заклинаний, типа, бойся потерять скорость, – и боимся. Обставились сигнализаторами, следим за ними весь полет. Но вот он, случай в Норильске, когда цепь ошибок вывела экипаж на ту грань, когда смерть улыбается в глаза; осталась секунда жизни… и срабатывает уже не холодный разум, а слепой инстинкт самосохранения: от земли! Вверх! И всё. Сигнализаторы уже не помогут: процесс необратим. Когда лезешь, помни: ни на секунду нельзя терять контроль над ситуацией. Ибо ты лезешь в воронку, выхода из которой нет, и спасение лишь в одном: строго выдерживай параметры – и проскочишь. А чуть что не так – не думай, не сомневайся, не дергайся, а вовремя уходи. Как тогда в Алма-Ате на «туполенке»: завели их в горы, лезут; параметры схемы захода не в норме, сомневаются, но все равно лезут. Сработала сигнализация опасного сближения с землей – а, вечно эта ССОС гудит на малых высотах… Да ведь горы же! Хоть это-то должно насторожить: рядом хребет 4 км высотой. И всё: увидели перед носом гору, дернули, сунули газы… и нескольких метров высоты не хватило. А если бы дернули и сунули в тот момент, когда загудела ССОС, то хватило бы, чтобы спастись. При заходе в горах надо очень четко уяснить себе, что там нет места, там тесно, маршрут по схеме захода – единственный, любое отклонение, по высоте и дальности, по пеленгу и курсу, – чревато. Параметры схемы надо выдерживать. И всегда быть готовым к уходу вверх, если рявкнет сирена. Мы как-то в Чите забыли установить давление аэродрома и снижались по давлению 760 до заданной нам высоты 1000 м, а это истинная метров 400-350, и только спасло то, что дело было днем. Мы опомнились, увидев землю слишком близко; притом, до полосы было еще достаточно далеко. Рано снизились! Холодный пот прошиб. Ночью бы точно въехали в холмы. Вот точно так въехал в горы в Ленинакане Ил-76. Трудно, очень трудно представить себе, что в равнинном Норильске, имеющем все средства контроля, заходя на четырехмоторном Ан-12 по приборам, экипаж сумел от ближнего привода так разболтать машину, что не попал на полосу, пришлось доворачивать с запредельным креном на малой высоте. Нет, что-то тут не так. Я себе этого ни представить, ни позволить не могу. 15.07. После Владивостока. В Чите идеально сел, но чуть с перелетом: жара +30, полоса держит, а режим с крутой глиссады сразу убирать нельзя. Ну, на шестерку расчет, на восьмерку посадка. Во Владике обещали туман, но я решился лететь. И не унюхал: пришлось-таки подсесть в Хабаровске. Ну, за лишние посадки и лишние часы нам платят, а пассажирам все равно, в каком вокзале стоять ночь: в читинском или в хабаровском. Мы спали в профилактории. Самолет тут еще барахлил все время: Алексеич долго бился с аккумуляторами, но как-то все же исхитрился запустить ВСУ. Так и спал в самолете, а с утра вызвал лучшие умы и с ними вместе, так путем и не разобравшись, снова запустил ВСУ, заправился и смог запустить двигатели. Так что мы пригнали во Владик неисправный самолет и всучили его экипажу, а уж те, с нашими советами, домучили его до дома. Назад в Чите у меня получилась совсем уж идеальная посадка, и я почил на лаврах. Вез зайцем коллегу на празднование 30-летия школьного выпуска. Он попросил показать нашу работу его знакомой тете-пассажирке. Ну, показал. Потому и старался. Хоронят донецких шахтеров. Взорвался газ, люди погибли. Опасная работа. И похоронили летчиков. Шахтеры не виноваты: они себе кидали лопатами (ну, электролопатами) уголек в вагонетки, когда рвануло. А летчики – виноваты. Лезли в непогоду, это их удел; что-то там не учли, ошиблись – сами ошиблись! – и всё. У нас работа такая: принять решение, основываясь на множестве непонятных непосвященным людям данных, на интуиции, надеясь, что в последний момент с погодой повезет, на всякий случай подготовив себе и мостик для отступления… для прокурора… ну, это не для шахтерского ума. Потом привести машину туда по воздуху и, если повезет с погодой, если прогноз оправдается, приземлить. Не говоря о самой технике пилотирования и технологии работы, это элементарно, ну, как иным кидать лопатой уголь. Но случаются моменты, когда складываются вместе все минусы, и превозмочь их может только отточенное мастерство, сверхрезервы, багаж многих лет. И бывает, что не превозможет, хоть и борются до конца. Последние слова Фалькова: «Взлетный режим!» Каково последнее мычание сгоревшей в хлеву коровы, знает только бог. И где-то в этом ряду занимают свое законное место моряки, шоферы, машинисты, водолазы, шахтеры, бухгалтеры и инженеры. Ты слетай разок на Комсомольск, в грозах, посиди хоть за моей спиной, вставляй спички в глаза, чтоб не закрывались, делай что хочешь, но не спи. Попробуй. Только высиди. А потом, когда нет уже никаких сил и желаний, кроме одного – спать! СПАТЬ! – вот после этого еще лезь в сложных метеоусловиях… и не ошибись. И посади самолет. Мягко. Как ласкают друг друга губы влюбленных. А потом получи зарплату… вслед за шахтерами и металлургами. Да никогда в жизни. Извините, в этом ряду мы должны стоять первыми. Тупое, здоровое, самовлюбленное, с апломбом, самодовольство.
1992 г. Достоинство. 17.07.92 г. Вчера был день березовых веников. Нарезал четыре десятка, развешал в гараже, доволен. Жизнь идет своим чередом. Июль для меня нынче месяц юбилейный. Первый самостоятельный полет на Як-18 – в 65-м; начало работы пилотом – в 67-м; ввелся командиром на «Ту» в июле 82-го. И в этом году отмечаю как раз 25 лет работы пилотом и 10 лет командиром на Ту-154. Отбрасывая мелочевку, текучку и неизбежные шероховатости жизни, чего же я достиг за 25 лет? Полетал на Ан-2, Ил-14, Ил-18, Ту-154. На каждом из предыдущих типов летал командиром по году – и сразу дальше. На «тушке» прижился: самолет как раз по мне. Практически с июля 1979 года, с переучивания, я 13 лет отдал этой машине, 10 лет уже как командир на ней; стал инструктором, научил человека. Мало. Все это время работал на себя, варился в собственном соку и достиг известной степени мастерства, позволяющего себя уважать. В принципе, могу решить любую задачу, используя столь сложный инструмент. Сжился, сросся с ним. Сколотил хороший, работоспособный, надежный экипаж, проверенный многими и многими годами работы в одной кабине. И всё. Ну там, произвел определенное количество работы по перемещению загрузки в пространстве. Собственно, то, для чего работаю пилотом, ради чего производились все вышеперечисленные действия. Много людей перевез, больше миллиона. Наконец-то, через 25 лет, мне стали более-менее достойно за эту работу платить. Пятнадцать тысяч часов в небе. Около семидесяти лет льготного трудового стажа. И не думал, и не мечтал, что проживу такой летный век, достигну таких высот в летной профессии, что хватит сил, здоровья, таланта и характера. Всю жизнь тяготился этой нелегкой работой, принятием решений, разрушением здоровья, всю жизнь мечтал о пенсии и материальной независимости, а теперь вот врос в летную жизнь, и вынужденный уход из нее будет для меня серьезной травмой. Все настоящее постигается через страдания и долгий, тяжкий труд, ценой жертв и уступок во имя главного. И это не только на нашей работе, но на ней – особенно. Спасение только в том, чтобы найти в работе точки интереса и увлечения. А в ремесле это непросто. Но я нашел. Путем постоянного самоанализа я искал и лепил то сложное, многоступенчатое, не поддающееся сухому, рациональному осмыслению, творческое, глубинное понятие: чутье машины. Словечко, конечно, облегченное, из арсенала большевиков (там – классовое чутье…), но лучшего пока не придумал. Я ее чую. У каждой их этих стотонных железных птиц свой характер, но сев за штурвал, я его сразу распознаю. И поэтому у меня обычно все получается. Была бы похвальба, но есть средства объективного контроля, обратная связь, которая говорит мне: да, ты ее чуешь настолько, что летаешь, за редким исключением, практически без отклонений. На Ершова расшифровок нет. Это есть профессионализм, основа, стержень всей моей личности. И я себе в этом цену знаю. Но я знаю и цену того, как это все мне досталось, чем я за это заплатил. И знаю, что жертвы эти были не напрасны. Ибо в награду я получил прекрасное чувство собственной состоятельности и целый букет утонченных нюансов летной жизни, переполненной неземными ощущениями, тайна которых скрыта для непосвященного за дверью пилотской кабины. Покорение высоты… Слова. Высоте плевать, что ее покоряют. Она милостиво и небрежно позволяет. Но так же небрежно может щелчком сбросить тебя, как блоху. А ты извернешься, если еще сможешь. Покоритель. Тысячи людей мыслили и трудились, чтобы ты ее это… корил. Так уж хоть летай профессионально. 21.07. Сегодня разбор летного отряда. Интересно, как нас там будут воспитывать. Ну, поеду, узнаю. Послезавтра разворотная Москва, потом Мирный; остальную Москву отменили из-за нехватки топлива. Всего 45 часов в июле: когда-нибудь смел ли я мечтать о такой роскоши? После разбора. О катастрофе Ан-12. Они заходили, как школьники: пролет БПРМ на 200 метров левее, в то время как допускается отклонение максимум 32 м; ну, S-образный маневр вправо, перескочили ось, доворот влево на предельно малой высоте, тут опомнились, дали взлетный, штурвал до пупа, да поздно: с левым креном трахнулись о полосу с перегрузкой 2,25, на скорости 220, на закритических углах атаки. Т.е. они свалились на левое крыло над торцом. Ну, упали, ладно, так нет – упали же справа налево, под углом 30 градусов к оси, а там бугры, а за буграми стоянки военных самолетов, а взлетный режим дан, а штурвалы так и взяты до упора. Подрыв на малой скорости, ушли в облака, глаза во флюгер, потеряли пространственное положение и свалились на закритических углах, теперь уже на правое крыло. На скорости 230, при вертикальной 16, упали с креном 45. Вот это профессионализм… 23.07. Отвез Надю на работу и стал готовиться к ночной Москве. Рейсы задерживались, машина под окном; дозвонился, рейс по расписанию, заехал за Алексеичем, и не спеша покатили на вылет. Пока ждали самолет, я утрясал загрузку и заправку. Подписал двоим на приставное, утрясли, 166 пассажиров. Саша тем временем торжественно вынул бумажки с начислением за предыдущий месяц. Да, мы хоть и ожидали, но не по столько же. За 67 часов я заработал 68 тысяч, 63 – на руки. Полетели. На взлете, катясь по полосе навстречу вечернему солнцу, я посетовал, что уже пульс и на удар не учащается, хоть замерьте. Долго бежали, оторвались, я спокойно осматривал уходящую вниз полосу, покосы вокруг нее, ближний привод, дачи за бугорком, стоянки, тучки на горизонте, а сам тем временем триммировал усилия, давал привычные команды и разгонял скорость. Машина висела и не лезла вверх из-за жары. Пошла обычная работа. Спокойно, уверенно, в расцвете зрелого, полновесного мастерства я делал свое привычное дело; экипаж обеспечивал полет играючи. Зашел и мягчайше сел в Домодедове. Учитесь, пока я жив. В АДП встречали свои летчики: с тренажера летит экипаж Ил-86. Кто-то из них смог сделать билет, кто зайцем, там со служебным билетом беготни много. Ну, это не с прогулки, работа есть работа, – садитесь все кто куда, и поехали. На обратном пути засосало между 4 и 5 утра, собачья вахта. Экипаж по очереди дремал, участок от Васюгана до Колпашева проскочили мгновенно, потом проснулись, разболтались, размялись. Снижался Саша, на траверзе стояла засветочка, пришлось сузить круг и жаться к полосе, а как поднырнули, увидели серьезные столбы ливня, подсвеченные восходящим солнцем, как под столом в детстве: вверху темно, по бокам ножки. Локаторы на этой «эмке» подмышками, штурману ничего не видать, не «эмка», а прямо как «элка». Ну, чуть зацепили дождя. Саша заходил по ОСП, гулял по курсу и гонял вертикальную, а тут еще попутничек, ну, протащило выше над торцом, сели на последние знаки. Терпимо, полоса большая; ну, чувства торца, визуального, что это же я сам иду в торец, – этого у него еще нет. Это приходит с опытом, а пока человек старается: уже хоть начал чувствовать скорости, тангаж, а это для пилота с «элки» немало. Разъехались; в 7 утра прибыл домой. Лег спать после глотка коньяку и провалился в сон. Что же сама работа? За что – 60 тысяч? А за надежность. Триста человек из очередного своего миллиона я доставил спокойно, неброско и надежно, как, допустим, смотрится на джентльмене не бросающийся в глаза, добротный, высшего качества, влитой костюм. Глоточек коньячку. Кусочек шоколадки. Да, букет хорош, жаль, что мало взял. А шоколадку эту, немецкую, Оксана купила за 120 рублей, ела и плакала о деньгах. Дочь капитана никак не привыкнет, что есть, есть деньги. Говорит, лучше не привыкать, вот спишут тебя, снова нищета… Вот теперь на одну зарплату я могу и прокормить семью, и купить дорогую вещь в дом, и, в принципе, съездить на курорт. И зайцев этих теперь гнать подальше. Удовлетворен. А впереди еще отпуск, с 10-го августа, зарплата за июль и отпускные. Это уже много, очень много денег. Но надо их еще получить на руки. Обещают на днях. И еще ж Надя не получала свою зарплату… ну, это на мелкие расходы. В газетах читаешь: «продам наркоманам пару тюбиков «Момента»; я – мать-одиночка, для меня и 10 рублей – большие деньги». Ну что: если я поработаю так год и заработаю миллион, я, пожалуй, от щедрот своих, подам ей милостыню. А пока, извините, я сам еще не наелся. Нет, не наелся еще, и за мокрой колбасой терпеливо стою в очереди. За мать-одиночку мне пока не стыдно. Она приехала из деревни покорять большой город – пусть покоряет. Пусть выстрадает. Жалко ребенка, но не я его ей сделал, а ее глупость. А дураков не жалеют. Настрадается, наберется ума, примет решение и, если хватит характера, стиснет зубы, выстрадает профессию, станет приносить пользу и получать за это деньги. Либо пусть идет на панель. Там думать не надо… работа – не вставая с постели… Надя тут выпила со мной шампанского и «залетала». Ну, как вот мы, летчики: в полете – о выпивке и женщинах, а выпивая с женщинами – о полетах. Так и Надя: за бокалом – в своем озеленении «летает». Потому что она живет своим делом, она его выстрадала, она – мастер и личность, еще какая. А можно было сесть на шею мужу: пусть кормит. И он кормил бы ее и говорил о ней: моя… овца. Каждый делает сам себя, стиснув зубы. Больные, калеки – находят себя в Деле. Художник пишет картины, без рук, без ног, зубами кисть держит, – и какие картины! Вот – Личность. А можно постоять в очереди за «Моментом», это легче. И найти сотню оправданий. Можно без ног сшибать на тележке копейки у пивной, а можно – стать Рузвельтом. Но 63 тысячи на руки – это много, очень много. Ой, не верится. 28.07. Вчера, в день юбилея, я получил в кассе на руки 170 тысяч: зарплату за два месяца и отпускные. Тощая пачечка пятитысячных купюр. Ну, собрали дома всю наличность: 223 тысячи. Немного потерпеть, немного добавить – и к октябрю можно было бы купить новый автомобиль. Но нет. Мы половину этих денег прокутим. Съездим семьей в Ялту, по пути погостим у родителей, оставим им немного денег. Мы пока еще не привыкли распоряжаться такими суммами, и надо скорее с ними расставаться. Еще заработаем. Не бия палец о палец, мы получаем. Ибо работа та же. Просто нам отдают награбленное. Как у Беляева: ноздря Ай-Тойона выдыхает воздух. Летчики удовлетворены и получают в кассе пачки денег со спокойным достоинством. То, что во всем мире разумеется само собой, мы только-только начали осознавать. Это очень простое слово: свобода. Раньше мы все были рабы и ждали свой клок сена у кормушки. А теперь мы свободны от тяжкого гнета: добыть, добыть, урвать, выжить… И боимся сказать ближнему, сколько зарабатываем, ибо ближний от зависти готов впиться в горло. Как я годами, десятилетиями не считал ту копейку, так оно и теперь. Не успел привыкнуть к экономии. Десятки тысяч быстро складываются в сотни; на столе лежат кучки крупных купюр, много, мы считаем, сбиваемся, начинаем снова… Много, очень много… Пятисотки путаются с пятитысячными: две пятитысячных автоматически считаем за тысячу… даже тягостно считать и считать. Набралась тысяча рублями, тройками и пятерками – отгребли в сторону: мелочь. Сто тысяч… двести… Средний заработок по России – три тысячи в месяц. Сюда входит и моя зарплата, и зарплата врача, инженера, уборщицы. Надо стесняться. Надо мучиться совестью. Надо быть равным… Надо быть рабом. А я не раб, а мастер. Вчера в Москве удалась посадка на горячую полосу. Выровнял, убрал газ и добирал, добирал, напряженно и тщательнейше, – за спиной снова сидел Леша Бабаев, такой же мастер, в соревновании с которым и росло мое, наше с ним, обоюдное мастерство, каким и держится наше Дело. И унюхал: едва заметно зацепились за ровнейший бетон полосы 317 левой. Долго бежали на цыпочках, правда, что-то она виляла пятками, видимо, подвешена была очень тонко; клубящийся над бетоном горячий воздух упруго давил под крылья, и она висела, катясь передними колесами тележек, а я все чуть добирал, поддерживая это неустойчивое, зыбкое равновесие, пока опускались пятки, потом невесомо опустил переднюю ногу, радостно чувствуя: не ударил лицом в грязь! Красивая посадка, ничего не скажешь. И что – клок сена рядом с уборщицей? Да. Зарулили, выключились, еще полные радостного возбуждения: никакой экипаж не остается равнодушным, если его работу командир завершил таким виртуозным пассажем. Сработали отлично. И тут сзади, со спокойной издевкой, Алексеич негромко спросил: а механизацию кто будет убирать? Срезал. Забыли. В эйфории. Ничего криминального нет, но для Мастера… Больно уж радостно было. Ну, плюнул и ушел, стараясь забыть эту досадную занозу. Мелочи. Нетипично. Арбузная корка. Ма-астер… твою мать. Саше досталась более сложная посадка: ночью, на мокрый асфальтобетон, заход по приводам, в облаках. Я помогал ему войти в пределы допустимого клина отклонений; штурман хорошо контролировал и подсказывал курсы и удаления; вместе мы крикнули «дальней нет!» и перевели в горизонт; две секунды, маркер, и снова снижение; дальше я не мешал Саше подкрасться к полосе и… потерять землю на трех метрах. Не успел он подхватить: это именно то, что чует задница, налетавшая тысячи часов. Если ты над торцом прибрал газ менее 80, выровнял, – тут же, через секунду, машина начнет падать. Поставил малый газ – выжди секунду и хорошо потяни штурвал, потом замри. Саша как раз и не потянул. Ну, мягко упали с полуметра, перегрузка 1,3 – на уровне проверяющего высокого ранга. Сильно уж Саша надеется на свой верный глаз. Да, глаз верный, но вот так Миша Е. во Внуково и потерял мокрый асфальт. У Леши Бабаева глаз – вообще теодолит, но и задница опытнейшая. Тут сплав, редкостный, пропорциональный, от Бога. И в награду – бабаевская посадка. Это вам не фраер. Как же я только стараюсь не ударить перед ним лицом в грязь. Тут уж – нюансы нюансов, это не для среднего пилота и уж заведомо не для проверяющего высо-окого ранга. Их удел – тройка, в нашем с Лешей зазнайском понимании. Пассажиру-то все равно. Он человек посторонний, перепуганный, он ждет поскорее тупого удара. Но Леша – профессионал высочайшего класса, он пассажира радует и удивляет. Тех, кому даны Богом вот такие тонкости, такое чутье, такие обнаженные рецепторы, среди нас немного. Я, например, не дотягиваю. Но мы с Бабаевым понимаем посадку как произведение летного искусства, как подтверждение достоинства истинного, утонченного мастера. И пока я буду летать, за спиной у меня всегда незримо будет присутствовать пенсионер-фарцовщик, Великий Мастер, Алексей Дмитриевич Бабаев. В Москве, на посадке пассажиров, я неторопливо, руки за спиной, прохаживался у трапа. Ну, разрешил пассажиру везти в вестибюле телевизор. Ну, двоих на приставные кресла. Дежурная говорит: вот билет вам, вот – мне, прилетите, сдадите в кассу, получите деньги… а плюсовать этих двоих в ведомость не будем… Я спокойно отправил ее к проводницам: не хочу больше пачкаться. Я теперь себе на жизнь зарабатываю достаточно. Разбирайтесь сами. Может, впервые в жизни вглядывался в лица людей, которые доверили мне свою жизнь. Сто шестьдесят шесть душ. Вот семья летит на похороны. А вот еще живая душа – черненький котенок на руках. Вот явно фарцовщики: сумки неподъемные, образца «спекуль-92». Пожалуй, никто и не сомневается, что я их благополучно довезу; да об этом никто и не думает: давка на трапе, куда рассовать сумки и баулы; муж с женой на разных местах, а хотят рядом… Помог кому-то поставить ящик, сумку, тележки, еще по щелям рассовали кладь. Прошел в кабину, сел в командирское кресло. Оглянулся – в спину удивленные взгляды: вот это и есть капитан? Да, вот это он самый. Ямщик. И – воспарили. Ехал домой на машине, развез экипаж и коллег-зайцев; ночь, дождик, легкая усталость, удовлетворение и ощущение радости бытия. 4.08. Достоинство человека зиждется на незыблемом. А незыблемого у нас нынче ничего нет. У меня во всей жизни было и есть одно незыблемое: штурвал. Вот на него только и опирается достоинство пилота. Я нынче еду на своем клепаном рыдване по городу, и никто не догадывается, что тут какой-то штурвал где-то присутствует. А видят только, что нищий едет. Когда штурвал позволит мне не только иметь кучу денег, а и получать все блага жизни по звонку телефона, – вот это будет достоинство. А то ведь с деньгами своими еще настоишься в очереди с фарцой и цыганами, в очереди за всем: от хлеба до билета на свой же самолет. Ибо нет тех благ в изобилии. Нищая страна. Не надо переживать из-за этого. Надо умерить аппетиты, а упавшие случайно с неба блага так и воспринимать: как подарок судьбы. Это я к тому, что вот полетим в Крым (достав билеты по великому блату), там настоимся в очереди: на троллейбус, в столовку, за вьетнамками, за пивом… А ты хотел возлечь на пляже с телефоном в руках? Не мечтай. Этого у тебя не будет никогда. Все мое достоинство – перед самим собой, и сварилось оно в собственном соку. Летаю двадцать пять лет и всегда боюсь не своего непрофессионализма, а того, что спасую как личность перед стихией, перед отказом матчасти, пожаром, – короче, перед непреодолимым. Под Иркутском упал «Фантомас»: отказ всех четырех двигателей. Самолет разложили, но остались чудом живы. Но отказ-то по какой причине? Обход гроз; обходили столь «грамотно», что затрясся и отказал сначала один, потом и второй: влезли, значит. Ну а потом и остальные сдохли. Хотя был случай 13 лет назад: в Норильске случайно залили воду вместо керосина в такой же Ан-12; под Енисейском двигатели захлебнулись водой… катастрофа. Но тут не вода. Тут не сумели предвидеть последствий и полезли в грозу. А дальше сложилось: стихия спровоцировала отказ. Я и сейчас переживаю: а вдруг, не дай бог, пожар, ночью, над горами… Как быть? Как действовать? Куда снижаться? Такие вопросы волнуют командира всегда. Я об этом переживал и десять лет назад. Уповаешь буквально на Бога. Вроде бы ни к чему такие мысли за три часа до вылета, но они не спрашивают, а лезут. И так всегда. Может, поэтому при первом знакомстве люди обычно спрашивают меня: а страшно летать? Страшно не летать, хотя и там бывает. Страшно вообще быть летчиком. Свои страхи мы переживаем и оставляем на земле. Может, в том и есть достоинство летчика, что он постоянно побеждает страхи. А в полете, даже глядя в глаза смерти, никто из нас не кричит «мама!» и не бросает штурвал. Смерть Шилака, смерть Фалькова, – достойная смерть. Я равнодушен к тому, как меня будут хоронить. Но как я приму свою смерть – к этому я неравнодушен. А ведь приму. Все примем. Но одно дело быть в жизни мастером – и тогда смерть мою в небе люди воспримут как рок, фатум, как неизбежное и предначертанное; другое дело – когда скажут: да он и в жизни был разгильдяй, и летал так, и вообще… неудивительно… следовало ожидать… Шилак был Мастер, и смерть победила его новым, неизвестным ранее, непредвидимым способом. Фальков тоже был прекрасный пилот; его смерть явилась следствием как недоработок и отказов матчасти, так и неразработанных еще, непредвидимых особенностей технологии работы экипажа в столь непредсказуемой экстремальной ситуации. И тот, и другой своей кровью вписали новые страницы в историю борьбы с неизвестностью. Это достойный вклад, ценой жизни; благодаря ему я постараюсь выжить, если такое случится со мной. Я низко склоняю голову перед их достойной памятью. Да, это был рок. А я стараюсь быть мастером. Достоинства сейчас люди не поймут. Поймут – что вор; поймут – что троечник, что – как все; поймут – что устал, что плюешь на все, что работаешь через пень-колоду. Поймут, пожалуй, и высокую зарплату: за риск, как же. А мое достоинство профессионала – это только перед самим собой и перед моими коллегами. В работе меня сейчас удовлетворяет все. И налет не особо большой, и не так уж много ночи, и земля вроде справляется, и матчасть не подводит, и оплата труда адекватна. Мешает лишь одно. Как назойливые мухи, вьются вокруг командира зайцы. И служебные, и посторонние. Слишком многим надо, прямо невтерпеж, срочно улететь. Я мечтаю о том времени, когда в самолете будут пустые кресла, хоть несколько. Когда меня никто не будет умолять: возьми двух, трех, десятерых на приставное кресло. Когда летчики сами не будут рыскать зайцами по стране, выискивая эфемерные блага, которые должны быть на месте, дома, по звонку. Чтобы я к родителям мог улететь в любой момент, купив свободно билет в кассе. Чтоб эти клопы, кассиры, не наживались на дефиците. И чтоб мои братья-летчики не брали деньги с пассажиров и не унижали свое летное достоинство. 5.08. Ну все, летние полеты завершены, через четыре дня отпуск, но так обернулось, что длинную Москву заменили разворотной, ночной. Слетали в Москву хорошо. Как всегда, куча на приставные кресла; взял аж четверых, все свои, всем надо. Одного кавказского парня взял по просьбе нашего профсоюзного бога; ну, он тут мне кое-что растолковал насчет оплаты за путевку, а я взял его протеже, с билетом, но уж очень он просился хоть раз в кабине пролететь. Сидел тихо как мышь, а уходя, преподнес в знак благодарности бутылку превосходного импортного ликера. Ну, я выдал посадку – на пресловутую 317 левую, в 31 градус жары. Был небольшой сдвиг, со 150 до земли, тащило вбок, я прикрывался креном почти до касания, остро ощущая себя, свой крен, свое перемещение точно над осью, свою потерю скорости… Выждал те положенные, определенные интуицией секунды и потянул штурвал… а-а-а-ххх… Высшее наслаждение мягкого касания, реверс, опустить ногу… учитесь же, пока я еще жив! Ей-богу, это стоит бутылки хорошего ликера. Спасибо человеку. Если он, конечно, хоть что-то, хоть малую часть, хоть внешне, – понял. Ну а назад, как обычно, свои. Леша Бабаев вез очередную партию кофе – сбывать на нашем рынке. Три-четыре таких ходки в месяц – три-четыре пенсии. Правильно мужик делает. Лучше спекулировать кофеем, чем гнить на проходной. А я ему помогу. Такой Мастер не должен гнить, а должен жить по-человечески. А если система не может, мы поможем… за ее счет. Ну и свой летчик поставил литряк, это уж ребятам. Так что отпуск обмоем. Деньги – это взятка, а бутылка – подарок от коллеги. Какой разговор. Саше, как всегда, досталась посадка дома, по приводам. Вилял-вилял, вышел к торцу… и полез выше. Я абсолютно не мешал. И только когда он поставил на 10 м малый газ, видя, что перелетает же, да еще на скорости 260, я дал команду: добирай! Да добирай же! Посыпались, но Саша все же подхватил, и на последних углах атаки мы по-вороньи мягко упали на последние знаки, 1,25. Ну, орлята учатся летать. Это все потом, после отпуска. Слава богу, отлетали сезон без малейшего приключения, спокойно. В полете читали статью в «Гальюнер цайтунг»: разогнали отряд Ан-2 по нерентабельности; пилот, командир, остался не у дел, полтора года обивал пороги министерства, благо, от Москвы недалеко, ничего не добился, плюнул, пошел на заработки, строил дачные домики по всему Союзу и т.п. Сейчас перебивается, спекулируя мылом… Ах, как его жалко. Ах, проклятый капитализм. Ах, социальная незащищенность. Сразу запахло черносотенной «Красноярской газетенкой». А что ж ты сразу не поехал в Магадан? В Певек? На Шмидта? Там нередко находят приют и летную работу многие списанные пьяницы, а не то что здоровый и перспективный командир Ан-2. Что ж ты не учился, не работал над собой, чтобы попытаться пробиться на тяжелую технику, что ж ты не рискнул семьей, жильем, перипетиями переездов? Как многие наши летчики. И неча на зеркало пенять. Крутись. Капитализм отсеивает слабых и закаляет сильных. Как в свое время Ту-154 отсеял неспособных, но мнивших о себе пилотов. И всё. Не тянешь, не можешь, боишься, бесталанен, троечник? Спекулируй мылом, строй дачные домики. А может, здесь и прорежется твоя золотая жила? У нас половина отряда живет за сотни километров от Красноярска. Мой второй пилот на каждый вылет прилетает из Кызыла зайцем. Штурман, аналогично, ездит на вылет из Ачинска на машине. И таких – пруд пруди. Ребята зубами держатся за работу. Какая, к черту, социальная защита. Слабых надо сокращать. А не хочешь сокращаться – думай и шевелись. Мне вовремя добрые люди подсказали: не засиживайся на легких самолетах. И я не засиделся. Легкий самолет и есть легкий, и работать на нем легко, и жить легко… до поры. А на тяжелом – тяжело. Кое-кто поспорит: да на ином легком тяжелее, чем на тяжелом! Ага. Мне бы списанный Ан-2 купить – летал бы на рыбалку, как на мотоциклете. 21.09. Вышел из отпуска. В штурманской висит бумага о катастрофе Ту-134 в Иваново. Ну что: заход в сложняке, с прямой, подвели высоко, экипаж торопился потерять высоту, РСБН заработал только с 4-го разворота. Старый, опытный командир, 53 года, волк… Штурман ему еще кричал, чтобы уходил на второй круг, ибо этот волк заходил, как бык пос…л, зигзагообразно. После ДПРМ, видя, что надо энергично доворачивать, попытался это сделать, как очень часто делается на «туполенке»… ногой: некоординированный доворот, скольжение с креном более 30 градусов, вертикальная 12 м/сек – и полон рот земли. Обычная, тривиальная катастрофа. Тот же пресловутый непрофессионализм. Что я заметил, часто грешат такой расхлябанной самоуверенностью старики. А у меня уже подходит такой возраст. И я о себе уж слишком понимаю. Может, и он тоже о себе мнил? Но уж если с прямой, да в условиях, близких к минимуму (100/1000), так – считай же! Без «Михаила» там просто нечего делать. Выходи тогда на привод и крути коробочку. Нет, ждали, что включат РСБН, вот-вот… Где был штурман, да что там штурман – где был Командир? Правильно говорил мне как-то харьковский штурман Юра С. о своем старике-командире: «Мы пашем, крутимся, считаем, а он себе сидит – как у раю…» Видимо, и здесь сидел. Досиделся. Нет, роль командира в полете – не только организовать работу экипажа и руководить. Командир должен – в общем, в главном, в решающем, – мыслить быстрее экипажа, оставляя частное специалистам. Пусть штурман высчитывает удаление и соотносит его с высотой, выдавая рекомендуемую вертикальную, – командир должен сразу, одним взглядом, определить: высоко подошли, не успеваем, нечего и лезть. Или: нет РСБН – некого ловить. Не рисковать! Или уж: взялся пилотировать сам, а стрелки разбегаются, никак в кучу не собрать, ситуация опережает мышление, накладки всякие… Не думай! Не переживай, что не справляешься, не береги авторитет, а помни одно: ОПАСНОСТЬ! Опасность для всех! Memento mori! И – отрежь, уйди, потом разберешься. При заходе с прямой я всегда строго слежу за рубежами, и вслух постоянно контролирую, и настраиваю на это же экипаж. Удаление 100 – высота должна быть 6000. Удаление 60 – соответственно 3000. За 30 должно быть 1200 по давлению аэродрома и скорость 450, тогда все успеваешь: и скорость погасить, и шасси выпустить, и механизацию, и, глядишь, – вот отшкалилась глиссадная стрелка, а у тебя уже и скорость 290, и удаление по Михаилу соответствует точке входа в глиссаду; довыпускай закрылки, добавь режим до расчетного и снижайся по глиссаде. Не говорю уже о курсе. Если на глиссаде сучишь ногами и гоняешься за курсами – на лайнере! – то что же ты делал все 16000 часов своего налета? Легко говорить об этом за столом. Но если я за столом этого всего не продумаю заранее, то за штурвалом могу и не успеть подумать. Там прыгать надо. Простые, банальные истины. 24.09. Из ночного резерва утром отправили на Норильск. Ну, разговелся. Под впечатлением ивановской катастрофы (а мы все под впечатлением) решил показать экипажу образцовый заход с прямой. Ну, показал. Вчера поехали на занятия к ОЗП. Это два часа говорильни. Но разбирали подробнее ивановскую катастрофу. Оказывается, заход у них был не с прямой, а под 90, но что это меняет. Командир характеризуется как средний пилот. Все остальные – пацаны, с налетом на «туполенке» кто 20, кто 70, кто 200 часов, т.е. абсолютный нуль. Андрюши Гайера, к несчастью, среди них не было: этот – не дал бы убиться. Заход был по курсо-глиссадной системе, все работало, кроме РСБН, который заработал на 4-м развороте. Ну, чуть подрезали 3-й и вышли под 90 аккурат в точку входа в глиссаду… на высоте 1020 м вместо 400. Штурман предложил сделать вираж и потерять высоту к 4-му. Командир спокойно заверил, что успеет. Он, действительно, успел: провернувшись 1900 м, взял курс на дальний с углом выхода около 30 градусов и вертикальной 12 м/сек; и он таки вышел на ДПРМ на высоте 190 м. Но. На «туполенке» нет интерцепторов, используемых в полете, и эта вертикальная скорость была достигнута за счет разгона поступательной. Хотя шасси и были выпущены, но закрылки выпустить не успели: скорость была 360 над дальним. Естественно, штурманенок закричал, что надо уходить на второй круг. Нет, сядем… и матюки. Нижний край давали 110 м, но, видимо, в просветах показалась земля и на ней знакомые ориентиры… Командир, проскочив линию курса над ДПРМ, резко заложил правый крен до 37 градусов; самолет, продолжая увеличивать крен, пересек линию курса уже слева направо, опустил нос, еще увеличил вертикальную скорость и, зацепившись крылом за деревья, перевернулся на спину. Всё. У меня закрадывается мысль, что командир умер над приводом. Конечно, угол выхода большой. Можно было перед дальним приводом начать доворачивать в район ближнего, а потом вцепиться в директорные стрелки, и главное, уменьшить вертикальную до 5 м/сек. Если не отвлекаться на землю, можно было бы успеть погасить скорость и выпустить закрылки над ближним приводом. Но это все техника. А психология? Возможно, пролетав 30 лет, из них 10 командиром Ту-134, средний пилот так и не отучился от вредной привычки искать землю под облаками. И так уж он ее искал, что аж крен завалил под 40. Но где был второй пилот? Сидел как у раю? Второй пилот, который был обязан держать по приборам? Значит, тоже искал землю. Видимо, недавно пришел с Ан-2, а те ребята иначе и не летают. Да еще, может, с химии, где нередко закладывают виражи и похлеще. Он думал, что дед делает как и надо. Я тоже люблю подходить на 1000 м без газа к третьему и при этом знаю, что вполне успею выпустить шасси и закрылки, выполнить третий, либо сначала третий, потом шасси и закрылки, – это уже тонкости опыта. И потихоньку потеряю и высоту, и лишнюю скорость, сохранив ее запас таким, чтобы перед входом в глиссаду установить нужный режим и довыпустить закрылки. Но, не имея возможности притормозить в воздухе интерцепторами, выходить в ТВГ, под 90, на скорости круга, на 600 м выше… это безрассудство. Нет, мне все-таки кажется, что старика над приводом от перенапряжения хватил удар. Это разумное объяснение. А определить это невозможно, ибо… что от них осталось. 25.09. Вчера приехал на вылет: туман, задержка, пошел в контору. В эскадрилье народ обсуждал подробности катастрофы: уж очень она всех задела. Спорили два старых капитана: С. и Д. С. накануне делал на занятиях как раз доклад о катастрофе, и, по его мнению, командир был пилот классный, раз взялся за такое, раз сумел выполнить такой маневр. Весь-то спор был о том, классный ли он пилот или дурак и убийца. Д. сказал, что по расшифровке переговоров экипажа командир матерился до самой встречи с землей. Ну, тогда ясно. Тогда, и правда, убийца. Ну, а С. его защищает. Ибо сам когда-то, уходя на второй круг, коснулся крылом бетона, то есть, считает, что мастерство командира именно в этом, в пилотаже. Коснулся – но ушел же… Ну, а мы все считаем, что мастерство командира в том, чтобы в такие ситуации вообще не попадать, а уж если попал, вовремя опомниться и уйти. И мастерство С. мы знаем. В Благовещенск летели с молодым, только что из училища, штурманом, выполняющим свой третий или пятый самостоятельный полет. Мне Савинов хотел его предложить в экипаж на месяц, чтобы в порядочном экипаже обтерся, освоился и спокойно набивал руку, а то свободное место было только у Т., где, по словам комэски, от мальчика не осталось бы ни человека, ни штурмана. Я вроде бы и согласился сначала… но уж очень соскучился по своему Филаретычу, да и они с Чекиным уже намолотили 200 часов, Витя рвется назад ко мне. Ну, нашли парнишке место в экипаже К., слава богу, а Филаретыч вернется к нам в октябре. Ну что. Парню 21 год, а уже целый самостоятельный штурман на Ту-154, зарабатывает по 50 тысяч, это тебе не фарца. Старается. Я не мешал, но, конечно, поглядывал. Ну, беседовали. Он, естественно, счастлив полетами. Да мне бы 25 лет назад, да попасть на большой самолет… Но я и на Ан-2 был так же счастлив. Жизнь движется быстро, и нынче мальчишки управляются с огромными машинами. Кто хочет, конечно. Кто очень хочет. Ну и у кого еще, при прочих равных условиях, дядя – Заслуженный штурман… А по мне – и пусть. Есть пример, есть возможность, есть протекция, – только расти. Ведь и Тарас Шевченко стал признанным поэтом не без помощи высоких покровителей. Так почему не использовать протекцию штурману Тарасу Б. Добрый путь. В Благовещенске заканчивается ремонт многострадальной полосы, и я с удовольствием притер машину к непривычно ровному асфальту. Красиво. Вышел в салон, переполненный лицами кавказской национальности, каковой, по словам некоторых их политиканов, – нэт. Есть, есть она. Ее сразу видно. Так вот, передо мной шустро убирались из прохода ноги и углы объемистых сумок, и краем ревнивого уха я услышал из кавказских уст тихо произнесенное за спиной: «маладэц». Ну что ж, из меня прет. Люблю, когда меня хвалят за работу. Я тщеславен и самолюбив. Но дело-то я сделал отлично. Ну, и Тарасу приятно, что я первое впечатление оправдал: Савинов, видимо, ему меня хвалил. Дома заходил Саша, визуально, и мы все дружно наделали кучу ошибок. Я своими советами подвел Сашу к 3-му на 800 м; это бы ладно, да Тарас немного подрезал и вывел нас прямо к 4-му, близко к ТВГ. Саша хоть и успел снизиться до 500 и выпустить шасси, но добавил слишком большой режим, и машина стала разгоняться. Я скомандовал Алексеичу установить малый газ и, следя за скоростью, вел связь и выпускал фары, заодно помог Саше довернуться на полосу, ибо проскакивали четвертый разворот. Подошла глиссада, Саша дернулся с режимом, а я молча довыпустил закрылки до 45. Тарас шустро читал карту, мы снижались. И тут я увидел и почуял, что нас затягивает под глиссаду, заодно и скорость падает из-за малого режима, а штурвал ползет до пупа. Мгновенный взгляд на положение руля высоты: 25 градусов – ясно, забыл переложить стабилизатор, машина-то без задатчика. Одной рукой быстро переложил, тут же сунул газы; Саша и понять не успел: он все пытался и никак не мог стриммировать кривоватую и верткую машину. К дальнему приводу успели загнать руль в зеленый сектор, все уравновесить и запросили посадку. Но были суета и спешка, спешка… Некрасиво. А ветерок на глиссаде оказался попутный. Установленный мною расчетный режим был великоват, машину тащило выше глиссады; пока мы подбирали режим, уже ВПР; я тыкал штурвал, норовя под торец, Саша, как всегда, шел на знаки, с попутничком и вертикальной 5. Ну, сел мягко, с перелетиком. Фары чуть не забыли включить. Суета, суета… Пока нас заталкивали на стоянку, разобрались. Моя ошибка: пытался с еще неопытным вторым пилотом решить задачу экономного захода, что доступно не сразу и не всем. Штурман подвел слишком близко к 4-му и не смог предвидеть, по неопытности, попутного ветра и трудностей, связанных с ним. Я не проследил за стабилизатором. Алексеич самокритично заметил, что и он не видел сзади: мы затеняем прибор. Ну и Саша запутался в пилотировании, особенно с подбором режимов двигателей на заходе. Да это не сразу и удается. Ну и чем лучше этот заход того, что закончился катастрофой в Иваново? Засранец я, а не мастер. Только болтать, да чтоб меня хвалили, как же. Надо работать с людьми поэтапно, а не комплексно. Еще сырой второй пилот. Ну, штурман молодой, это случайность. А у покойного Груздева в Иваново экипаж был собран в резерв из случайных, первых под руку попавшихся специалистов, пацанов; 20 часов на ногах, рейс с шестью посадками; целая куча случайностей… Я инструктор или где. Должен справляться, должен предвидеть, предвидеть и контролировать незаметно всех. Сегодня в ночь Комсомольск, но только до Хабаровска. В Хурбе размыло полосу, и мы будем ждать, пока наших пассажиров довезут на легких самолетах, а попутно надеемся раздобыть дешевой брусники. 30.09. Только стали снижаться в Хабаровске, как нам предложили садиться в Комсомольске: он только что дал годность. Но нет, так не делается. У меня задание на полет до Хабаровска, готовился я на Хабаровск, запасным был Завитинск, а не Комсомольск; еще неизвестно, какая информация поступила из того Комсомольска… Короче, я битый командир и рисковать не стал. Сел в Хабаровске, потребовал запросить Красноярск, чтобы мне продлили задание до Комсомольска, да чтоб пришла на этот счет РД – документ, обтекатель на мой зад. Никто ничего о Комсомольске не знал, технического рейса туда не было, и я вот, по идее, и должен был его выполнить… ага, с пассажирами на борту. Ясное дело, в Комсомольске тоже не дураки, даром годность давать не будут. Пришла РД, и мы стали готовиться. А летели же мы в Хабаровск-то за брусникой. Ну, я девственниц отпустил на час, и они помчались на такси на рынок, а мы с экипажем стали готовиться к полету. Поворчали, да делать нечего. Едва заправились, как объявили посадку; девчата примчались на самолет за две минуты перед пассажирами; брусника жалкая, измочаленная, привезенная поездом из Чегдомына, пару раз перепроданная, текла… Но по 700 рублей ведро, считай, даром. Мы с ребятами поглядели… даром не надо. И вообще: «…зелен, ягодки нет зрелой, тотчас оскомину набьешь…» В Комсомольске после циклона месяц стояла вода на полосе. Ну, вода ушла, выждали, полоса не просела… дали годность. Мы сели – все как всегда. Пошли в военторг, накупили барахла и улетели домой, записав в задание максимальное рабочее время и переработку. Вчера вернулись из Владивостока. Стиснув зубы, сумели там не уснуть днем, зато перед вылетом поспали, часа четыре. И по прилету я смог не спать, а собрался в баню. В бане, слегка перегретой, народу было немного. Худощавый человек моего возраста натирал тело свежей крапивой, прямо охапкой, в рукавицах, брал и растирался весь. Бр-р-р. А потом – в парную… Ну, зацепились языками. На шее у него крест, и как-то потихоньку, в нюансах разговора, почувствовалось, что это – ловец человеческих душ. Три часа он беседовал среди меня; мы вели спокойный диалог, плавно переходящий в его монолог. Специалист. Ну, описывать трудно, а результат разговора существен: во мне снова подстегнулась и идет сложная духовная работа. Если она что-то родит, тогда сформирую и сформулирую. Все религиозные деятели упорно внедряют в наше сознание мысль, что смысл жизни человека один: служение Богу. Да не хочу я ему служить. Тут только спину начал разгибать, только запахло свободой – и снова служи. Не хочу. Тут проходит граница, край моего понимания. Зачем Ему – наша, моя служба. Служение. Услужение. Тот же большевик. Гонит к вечному, райскому, коммунистическому блаженству. Я хочу жить сам по себе, служить только своим желаниям, отдавать отчет и исповедоваться только себе, перед собой. Ну, иногда хочется поплакаться кому-то в жилетку, иногда – помочь человеку, но – только не обязаловка. Я так понимаю свободу. А служу я Авиации. С другой стороны: кто все время заставляет меня судить свои поступки и работать над собой? Я, в меру своего понимания, отвечу: только мое достоинство личности. Только моя гордость личности. Я – не нищий духом, которые, по Евангелию, блаженны. Если бы я был нищ духом, то не был бы командиром корабля. А так как это и только это составляет стержень моей личности, то я это и формирую в себе сам. Зачем мне нищее блаженство. Ну и как же – без Бога формируешь? А не знаю. Без него пока. Эгоист проклятый. Гордыня. В лапах дьявола. Ага. В лапах. Миллион человек перевез – и в лапах… Пока этот спор бесконечен, а я, как сам себе установил нормы, так их и придерживаюсь. По воле Бога? Кто меня там, в небе, хранит? Может, молитвы моих близких? Хранит ведь. У Нади в бухгалтерии где-то что-то пересчитали и отвалили заначку, 29 тысяч. Зачем и летать. Через недельку еще что-то нарыли: 19 тысяч. Женщина. Вкалывает. Честно. Квалифицированно. Берет на себя. Принимает решения. Делает Дело. И зарабатывает большие деньги. Горбом. И пошли они все, козлы. Поучитесь у нас, как надо работать. Горды-ыня… Кругом все рушится, на границах пожары, всеобщий развал, тащат куски, ловят рыбу в мутной воде, хапают и хапают, обманывают, попирают человеческое, организуют мафию, закручивается водоворот первозданной человеческой плазмы, из которой потом, по прошествии поколений, должно в муках родиться новое общество. А мы, семья Ершовых, живем, трудимся и ведем себя среди людей – достойно. Как и жили всегда. Не знаю, Бог ли руководит. Если да, то слава ему. Ну а если мы и сами такие… Чего стесняться. Нашу семью все знают как нечто цельное, добротное и надежное. Во Владике случайно разговорились с коллегой. Командир Ан-12 из Якутии, работает по аренде на каких-то золотодобытчиков. Эксплуатируют его как хотят, но… платят 700 000 в месяц. Семьсот тысяч в месяц. Может, загнул. Может, один раз только так и заплатили. Но это – моя годовая зарплата – и то, только ожидается, только в следующем году. Если доживу. Вот так, я понимаю, и должен зарабатывать пилот тяжелого самолета. 5.10. В субботу с утра поехали на дачу доделывать дела и закрывать сезон. Что-то копали, садили, корчевали, чистили теплицы… Ну, думал же, что хорошо разогрелся, рванул хороший навильник ботвы, и тут же щелкнула поясница. Все, работник кончился. Кое-как доехали домой, поставил машину, дополз и лег. А через два часа в ночной резерв. Немного отлежался, острая боль растеклась по всей пояснице, притупилась, но ходил с откляченным задом. Нажрался таблеток, доехал на работу, набрав в портфель кучу теплой одежды, чтоб спать в ледяном профилактории. А как раз же собрался старый экипаж. Ну, рады. И тут же еще радость: не ложитесь, сейчас погоните 44-й рейс на Москву, скорее всего, с разворотом. Ага, отлежался. Судьба. Ну, потолкались в АДП, утрясли все, я взгромоздился на свое левое кресло, да так и не слезал с него часов 14. Бессовестно спал от Хант до Кирова, зная, что Витя довезет. Да он говорил, что мы все спали; сам-то в один момент тоже было провалился, но тут подошла Московская зона, все проснулись… Погода звенела. Я, на радостях, что старый, родной экипаж, блеснул исключительной, бабаевской посадкой, лихо зарулил на стоянку, даже отвыкший от такой прыти Филаретыч заметил, что не слишком ли резво… Нет, не слишком, привыкай снова, рулю как всегда. На обратном пути всю дорогу читал «Аэропорт» Хейли. Наушники снял, выключил динамики и молча ушел в мир той, достойной авиации. Саша дома сел отлично. Был день, светило солнце, Витя довез нас до города на своем рыдване, достойном встать в одной паре с моим. На ходу что-то загорелось под капотом, дым в кабине… короче, там масло подкапывает на выхлопную трубу… ну, советский штурман, из самолета не вылазит, каждый месяц продленная саннорма, с язвой… а ездит на раздолбанной «Ниве». Как многие. Запоздалое тепло октябрьского бабьего лета застало меня врасплох: одетый в теплое, дохромал я до троллейбуса и успел сесть к окну, но через остановку ко мне подсела и придавила к окну грузная дама, на которой лежало полтроллейбуса народу. Ни повернуться, ни расстегнуться. Солнечная сторона… я прел, и стало серьезно подташнивать. Как пассажиром в Ан-2. Еле дотерпел до дома, вышел, весь в мыле, и прямо из лифта прыгнул в душ, а из душа – в постель. В шесть вечера меня растолкала Надя, я промыкался до девяти, снова лег и проспал до шести утра. Размял хвост, побаливает, но надо идти в гараж и что-то делать. За 10 дней налетал 40 часов, это своя игра. На месяц запланировано 60 часов, да эта вот свалившаяся с неба Москва, – снова саннорма. Читаешь Хейли… У них пилот В-707 в 68-м году получал 30 тысяч в год – и имел все. Жена не работала. И он уверенно шагал по земле и всех откровенно презирал. Презирал как Мастер, который не среди вас, а где-то там, в высях, делает дело, позволяющее ему жить достойно. Он понимал, что он – величина. Капитан. Ну, и так далее. А у меня жена полдня собирала по ягодке облепиху, на ветру, пока я не озверел, схватил секатор и за 10 минут обкарнал верхушки веток с ягодой, а потом уж, в тепле, мы их стали доводить до ума. И хрен с ними, с деревьями, этот сорняк нарастет за год. Когда можно же отдать три тысячи – тридцатку – за ведро на рынке. Надя говорит, что из меня прет. Прет ЭТО. А из Димиреста не прет? Да он этим аж светится. Он – Капитан! Он в обществе свободных и достойных людей – личность выдающаяся, и он об себе так уж понимает; он в открытую говорит о людях все, что о них думает, терзает даже экипаж (сволочь, в общем-то), но знает: он как Мастер непогрешим. Возьми-ка завтра и проверь его ты, которого он сейчас порет с презрением, – и не подкопаешься! А из меня прет среди совков. Ну кто среди вас всех, вот сейчас, сможет так сказать: на, проверь-ка меня, да и сам покажи, как надо. Да считанные единицы. А масса, каждый себе, подумает: а черт его знает, все не без греха, чем я-то лучше, вот возьмет и найдет, и ткнет мордой в г…но. Вот то-то. А ко мне садись и проверяй, хоть Господь Бог. И я покажу. И Леша Бабаев покажет. И экипаж мой, Витя Гришанин и Валера Копылов, – покажут, как надо работать. Научат. И сами ткнут мордой. И таких экипажей у нас предостаточно. Большинство. Прет из нас. Ага. Дошло до нас, что мы – тоже люди, а не собаки. Почему-то наши, совковые летчики на Западе в цене. Когда нам семьдесят лет вдалбливали, что так называемая свобода на Западе есть обман, а мы – в едином строю… – то старались убить главное: достоинство Личности. И убили. Хейли пишет о пилоте-ветеране, пролетавшем 23 года, с седыми бровями, к которому все обращаются «сэр». А к нам – «товарищ». Дружок. Ага: Шарик. Бобик… Видимо, у них там не принято долго летать, что ли. И еще. Весь восьмичасовой полет над океаном капитан, инструктор, не собирается расслабляться: опыт говорит, что только так можно пролетать долго. Ну, в книге оно легко – не расслабляться. Это – для читателей. А я по опыту двадцати пяти лет изнуряющих полетов знаю: после сорока пяти лет любой человек ночью не высидит несколько часов перед приборами, особенно если у него не было полноценного предполетного отдыха. Особенно, если он вынужден не спать вторую, а то и третью, а бывало – и четвертую ночь подряд. Это я утверждаю как испытавший на своей шкуре, неоднократно. И мы все спим в полете, по очереди. И так будет до тех пор, пока летчик будет летать продленные саннормы и план ему при этом будут тасовать каждые два дня. Продленная саннорма – такой же абсурд, как легкая беременность. Это не норма, а эксплуатация человека социалистическими условиями. Когда у нас каждый второй рейс по полусуток задерживается, а в так называемом профилактории вечный холод, – о каком ночном бдении в полете может быть разговор. Выживаем, как можем. Тут все искусство экипажа в том, чтобы суметь сохранить силы до посадки, потом до второй посадки, до третьей за ночь, а то и до четвертой, утренней, самой сложной. Эта санитарная норма, легкая беременность, пустячок, – для большинства экипажей Ан-24, Як-40 и Ту-134 вечный крест, да не редкость и у нас, на Ту-154. А мы удивляемся катастрофам. А ты хотел 50 часов в месяц? 5 рейсов? По одной посадке? Днем? Планировать за месяц вперед и незыблемо? И еще за это получать деньги? И немалые? Так это там, у них, так. У нас так не можно. Фарца рвется в Благовещенск и Владивосток за товаром, а пролетарий – в Москву за колбасой. Я бы поднял тарифы в сто раз. На одних этих рейсах все окупится. Итак, осталось только насолить капусты. Я люблю этот вечер, когда Надя, чистая, румяная, в белой косынке, с обнаженными красивыми руками, в теплой, чистой кухне, на широкой доске тоненько шинькает капусту, обильно смешивает ее с морковкой, солит, добавляет пряности, мнет в тазу и набивает бачок. А я рядом чищу и тру на терке морковку. А Мишка лежит на подоконнике и водит глазами туда-сюда. Этот вечер – символ плодородной осени, конец сезона заготовок и всех трудов, вздох облегчения и удовлетворения перед долгой зимой: мы к ней готовы. Спина побаливает, но я все-таки поехал в гараж, насеял полмешка песку, заложил в ямку морковку и свеклу и засыпал. Потом брусника. Потом магазин. Хотел купить пива, но в советском союзе по понедельникам его не бывает. Спина все болит. Плюнул и лег дочитывать «Аэропорт». Одно дело – читать непосвященному, другое – профессиональному пилоту. Надо отдать должное писателю: он – сумел… Читал я, второй уже раз перечитывал, – и жил там. И – мокрый. Всё – правда. Жаль только, что на «Боингах» пилоты ели омары и еще что-то, чего я и в глаза не видел, – кушали это еще три десятка лет назад; и кислородные маски перед лицом пассажиров; и специальная связь с любой точкой… А у нас в с…ном союзе и сейчас связи нет, и долго еще будет бардак и не будет омаров. И максимальное количество полос в аэропортах – одна, и то годами без боковых полос безопасности. А где их уже аж две (по пальцам пересчитать), то все равно работает всегда одна. Жаль. Завтра лечу в Сочи. 12.10. В Сочи пассажиром летел с нами старик Фридманович. Он переучивал меня с Ил-14 на Ил-18, дал один полет и сказал: можно выпускать самостоятельно. Я это запомнил и постарался теперь не ударить лицом в грязь. Мне важен профессионализм. Старый еврей, со своими прекрасными еврейскими глазами, пыхтя, сидел за моей спиной и рассказывал байки из своей 39-летней летной жизни. А я его довез. И показал. Ну какая тебе разница. Ну почему обязательно надо кому-то показывать. Что за натура такая хвастливая. А то. Это экзамен. Сам себе. Мою работу должен видеть и прочувствовать специалист и мастер этого дела. Это не значит, что я люблю летать с проверяющими. Но обо мне, об Ершове, должны правильно знать братья по профессии. Я этим питаюсь. Прет из меня. Эх, если б из каждого так перло. 14.10. Летели из Сочи, в наборе высоты вошли в Краснодарскую зону, машина шла хорошо, по 10-12 м/сек; а в районе Краснодара стоял фронт, строго поперек и шириной километров 100-120. Визуально я прикинул, что наберем свои 9600 до фронта, он вроде бы ниже обычных летних, уже ведь осень на дворе. А она тысяч с восьми – и не полезла. Внезапное тепло на высоте. Повисли… По локатору – сплошная засветка, стена. Визуально: сверкает. И где-то верхняя кромка ее – на нашей высоте. Мы сходились. Конечно, еще можно было принять решение и обойти; крюк в 200 верст. Где ты раньше был, командир? Ну ладно. Саша пилотировал и норовил задрать ее; я не давал драть, чтобы сохранить на всякий случай кинетическую энергию, если понадобится перепрыгнуть метров 500. Обычно со скорости 550 энергии хватает, чтобы, плавно и соразмерно теряя скорость до 500 км/час, набрать в динамике 1000 метров; но стояла жара. Полез в локатор и стал щупать верхнюю кромку. Еще не поздно развернуться, если что. Но так не бывает, чтобы не было в стене ямки, да еще на осеннем фронте. И точно, нашел две дырочки: общая высота кромки была где-то чуть выше 10 тысяч, а дырочки ощутимо ниже; по крайней мере, запросим 10600 и потихоньку выползем на эшелон. Протиснемся между очагами; ну, потрясет. Дал команду пристегнуться потуже; у пассажиров табло и так включено. Забегали чертики по стеклам, взмокла спина. Так не бывает, чтобы у летчика вблизи грозы спина была сухая. Все были при деле, один Алексеич молча переживал сзади. Я, скорее для него, бодро приговаривал, что еще 10 километров, 5, вот, под нами уже… Спасибо, что не было встречных и Краснодар дал нам 10600. Трясло, чертики устойчиво плясали на дворниках; я разрешил Саше плавно уменьшить скорость до 500, и к моменту, когда мы влезли в слоистую облачность, высота была уже выше 10100. Ну, пролезли. В разрывах видны были две шапки, слева и справа, выше нас, мы продрались, казалось, цепляясь за них крыльями, хотя до каждой было достаточное расстояние, – и вырвались в синее вечернее небо. Могло и трахнуть, вполне. Моя ошибка была в том, что понадеялся на мощь аэроплана, малый полетный вес и большое удаление до грозы. А оно – еле-еле. Мало летаем в грозах, отвыкли; все рейсы на восток, а там оно как-то легче, да и год такой, гроз почти нет. Теряем навык опаски и предварительного, дальнего расчета. Урок на будущее. Гроз надо бояться всегда и пристреливаться к ним далеко-далеко заранее, учитывая все возможные отклонения от стандарта. Саше достались две ночные посадки в отвратительную болтанку; ну, пришлось помогать, особенно держать ось при сносе более 10 градусов: и у нас, и в Самаре боковые ветерки на кругу были до 20 м/сек. Вообще, для «элочника» снос на посадке, да еще в болтанку, да ночью, – преодолевается тяжело. Нужна тренировка и тренировка. Саша пожаловался, что спина мокрая. Мы дружно заржали. 16.10. Сегодня летим во Владивосток. Но Саша не летит. На днях мы из резерва поехали домой, а он остался «на нарах» до утра, чтоб первым рейсом улететь в Кызыл, домой. Вечером возле гостиницы его избили и ограбили, забрали зарплату: 55 тысяч. Ну, живой, на ногах, утром видели его с синяками; втихаря улетел домой и отсиживается. Шум не поднимают: с каждым может нынче такое случиться; за нами охотятся, особенно после получки. Савинов в курсе, дал нам другого второго пилота. Медицина знать не должна: травма черепа, в любой форме, может поставить крест на летной работе. 19.10. Две хорошие посадки: моя в Чите и Володина дома. Молодец, старается. Ну а во Владике ночью он подкрадывался к бетону слишком осторожно и высоковато, сел по-вороньи. Но так лучше, чем, выхватывая единым махом, когда-нибудь впилиться в мокрый асфальт и откозлить на скорости. Вчера во Владике подписал человеку билет на приставное кресло. Мест оказалось достаточно, а человек оказался корреспондентом, фотографом, и предложил сфотографировать нас на рабочем месте. Я разрешил. Мы работали, а он незаметно щелкал камерой, ловя удачные, на его взгляд, кадры. Взял телефон, обещал прислать фото. Мне-то фото без особой нужды, я не любитель. А вот полет и посадку в прекрасных условиях сделали – экскурсия! Пусть человек посмотрит, как красиво работает экипаж. Как спокойно, несуетно, слаженно все делается, и венец всему – прекрасная посадка. Чего ж нам стесняться. Смотрите: хоть здесь вы увидите настоящее мастерство, настоящую, красивую, достойную работу, – в этом мире спекуляции, рвачества и обмана. 21.10. Вчера был рейс отдыха в Волгоград. Пока Саша выздоравливает, с нами слетал Леша О., седой, старый волк, горький пьяница, кстати. Он по этому делу не раз горел, но все как-то выкручивался. Летает же он прекрасно, работает очень четко. В этот раз с ним случилось несчастье: в автобусе дверью ему так придавило бок, что он подозревает перелом ребра. Ну, кое-как, согнувшись, слетал, не прикасаясь к штурвалу. Делов-то: со сломанным ребром… Ну а я сотворил две посадки. Из-за малой загрузки центровка была задняя, и машина вела себя как надутый пузырь. В Волгограде был встречный ветер, я прижимался под глиссаду, под торец, дождался, когда знаки подошли уже под нос, плавно поставил малый газ, ожидая, что тут же подхвачу и нас присадит, но вес малый, машина летучая, пришлось несколько долгих секунд миллиметровыми движениями поддерживать ее в метре над полосой. Только собрался хорошо добрать, ожидая последней, сантиметровой просадки и удивляясь, почему это Витя методически ровно докладывает «четыре метра, четыре метра, четыре…» – не столь важно мне, сколько метров, как постоянство отсчитываемой высоты, то, что я называю «замерла», – хотя высоковато вроде бы… ну, добрал чуть – и зацепились. Козел? Козлик..? Потянул-то я хорошо, зная, что скорости уже нет, если упадем, так хоть на углах атаки, мягко… Нет – катимся! На цыпочках, дыша как воздушный пузырь, с высоко задранным носом, катимся. Не козел это был, а касание носочками, без скорости. Долго, очень долго опускал переднюю ногу и все не чувствовал ее касания; потом уже Леша одной рукой дожал штурвал от себя – оказывается, нога давно опустилась и обжалась, а я и не почувствовал. Черт знает что. Садишь машину и не чувствуешь касания, опускания ноги, как по телевизору. И вся дышит. Дома садился ночью. Старался не ударить лицом в грязь. Опять замерла, добирал, добирал, ну, притер, как Бабаев. Доволен. Интересно вот что. Когда я решаю дома бытовые задачи. Надя удивляется, как я внешне выгляжу беспомощным, как сто раз переспрашиваю и уясняю очевидное, то, что реализуется в рабочем порядке, на лету. А я говорю: это – печать профессии. Я перед полетом должен все себе сто раз уяснить, чтобы там не думать и не решать, чтобы только действовать, ибо времени на раздумья лишнего не будет. И переношу все это на земные заботы, автоматически. Таков я теперь, по прошествии четверти века полетов. Зануда и буквоед, отвратительно, до тонкости пережевывающий в безвкусную кашицу самые пряные, самые лакомые куски жизни, те, которые надо хватать на лету, пока горячий жир течет. И наслажда-а-аться… Однако горячим куском в болтанку можно и подавиться. Хотите спокойно летать в самолете – дайте возможность пилоту пережевать в скучную, безвкусную, отвратительную массу все возможные и невозможные обстоятельства и неожиданности будущего полета. И долетите благополучно. Я же наслажусь утонченным оргазмом в соприкосновении с землей, чего вам, любящим горячие куски, не дано понять никогда. 23.10. После ночной Москвы. Полдороги противно болтало: струя, тропопауза, верхняя кромка, – короче, терпели. Потом все же у бортов расспросили, говорят, ниже – спокойнее. Только пересекли 10300, как утихло. А везли пассажирами экипаж Ил-86 с проводниками, всего 17 человек, ну, ребята заходили к нам перекурить. Штурманы нашли общий язык, и я с интересом прислушивался к профессиональной беседе и тонкостям их искусства. Вторым пилотом с нами был Саша Тихонов, он допущен к полетам без штурмана, он и работал. А я полистывал газетки и материл свои глаза: ну ничего уже не видно; спасибо, штурман с Ил-86 дал свои очки, единичку, – ой, какая же благодать! Ну, раз коллеги за спиной, надо же показать товар лицом. Как раз было в воздухе тесно, и мы едва успевали с прямой; ну, взял в свои руки и выжал из машины все, на что она способна, – а она способна на многое, и мы вписались. Заход в автомате; погода была серая: 170/1300, дождь со снегом, сдвиг ветра, сцепление 0,5, но ветерок дул по полосе. Блистать особо было нечем; с ВПР отключил автопилот и четко, мелко работая рулями, убрал режим над знаками, помня, что ветер же встречный; только замерла, хотел подхватить, как уже мягко шлепнулись, и тут же опустилась передняя нога; ну, в пределах 1,2, строго по оси. Надо было над торцом не прибирать 2 процента, тогда сел бы с выдерживанием, но, возможно, чуть помягче. А так воткнулся строго по Руководству, без того наслаждения, которое пилот испытывает на выдерживании. Но вполне сносно. Ну, полупьяные пассажиры обблевали весь салон, а один бедняга не донес до туалета и выдал харч прямо на дверь… Все же болтанка их доконала. Попей-ка ее, родимую. Рейс отдыха. Девочки отлично накормили, с бульончиком, с жареной на заказ курицей, белое мясо… Все же меня, мой экипаж, уважают. В домодедовском вокзале фарца: поляки, предлагают товар; ну, купил Наде кофточку. На обратном пути работал Саша, а я подремывал, просыпаясь от холода; Витя прел в жаркой кабине, а я мерз от окна; уже и отъехал, сколько возможно, назад, укрыл плечо чехлом от сиденья… Филаретыч только успокаивал: спи, спи. Ну, экипаж… Как-то перемогся до Колпашева, читал книгу. Дома по прогнозу обещали туман временами, а тут еще вылет из Москвы задержали на час. Но тумана не было, а был, наоборот, непредвиденный боковой ветер до 12 м/сек, как раз Саше тренировка. Ну, он волк старый, после полетов со мной заметно прибавил в мастерстве; я не мешал, но заход был все же для него сложноват. Кое-где чуть придерживал его, не давал уйти выше глиссады, хотя нас и норовило вышибить вверх; не дал и высоко выровнять при боковом ветре. Но все же нас поддуло и понесло над осью. Раз добрал, замер… нет, не зацепились… еще добрал… зацепились; ногу – хорошо по сносу… опустил нос, реверс… Да, тренировка хорошая. Развез всех по домам, поставил машину под окном, упал и вырубился, мертво. Рейс отдыха… 28.10. Москва. День. Сумрачно. Дымка, снег, дают 0,34 на полосе. Заход в автомате с прямой. От Нижнего старался отстать от влезшего откуда-то однотипного – 10 км впереди и ниже нас. Отстали. Но на кругу, на прямой, он снова как-то оказался впереди нас, 12 км. Вошли в глиссаду, снег, нижний край давали 200 м; показались огни подхода, а борт все не освобождал полосу. Значит, катится до конца, может не успеть срулить. Спокойно напомнил экипажу порядок ухода на второй круг: закрылки 28, шасси, фары… Метров со ста угнали. Наверно первый раз в жизни так спокойно ушел, все сделал, все успел, установил режим полета по кругу… и вылетел на 600 м – отвык от низких, 400-метровых кругов, их уже почти нигде нет. Ну, снова заход в автомате, ВПР, отключил автопилот… зебра, ось, знаки… и стал добирать. Замерла, еще добрал, знаки уехали под меня, еще, еще… так долго не парят… – Да мы катимся! – сам себе вслух удивился. Опустил ногу, попробовал тормоза – гололед. Ну, Москва есть Москва. Худо-бедно катились, строго по оси. Понял, что по косой, скоростной РД не успею срулить, не стал рисковать на скорости, поехал до конца. И впереди еще верста гололедной, нерасчищенной полосы, а сзади на глиссаде висит коллега, а скорость руления почти нулевая… Ну, доползли до торца, гольный лед, накат. Коллега нервно запросил подтвердить посадку. Диспетчер буркнул: «Дополнительно». Я тут же перевел машину в плавный разворот на рулежку и крикнул: «Освободил!» Ну, борт успел сесть. Как ни странно, спина сухая. Кое-как доползли до перрона. По закону подлости, всем на стоянку своим ходом, а нам – под буксир. А что такое тягач на льду? Правильно: корова. Полчаса нас судорожно, фрикциями, заталкивали на стоянку. Одно колесо все-таки лопнуло. Не снесли, а провернулось на барабане. Черт его знает почему, но замечено: мягкая посадка – меняй колесо, особенно на «бешке». Но у нас, наоборот, «эмка». И корды все целые, а лопнуло. А посадка, точно, бабаевская. Старался же: снова вез экипаж, с Ил-62. Обратно летели, поспав шесть часов; опять задержка: снегопад. Два часа ждали облив, обдув, буксир. Порт работал – ну прям почти как у Хейли. Ну, ухряли, и слава богу. Домой – спокойный полет. Понравилось спокойное пилотирование Толи Плякина. Для «элочника» – отлично. 30.10. Пришла зима. Пока возился на крыше гаража, пошел снег, и сыпал, сыпал из хмурых туч, в тихом, безветренном вечернем воздухе. Уходил домой – снег уже лежал толстым слоем. Однажды мне пришлось наблюдать редкостный, зримый, шокирующий переход от осени к зиме. Тогда я много ходил пешком вокруг Зеленой Рощи, тренируя сердце и попутно дыша всякой красноярской дрянью. Подходила к концу часовая прогулка в начинающихся сумерках. Заходящее солнце закрыла большая туча, поднимающаяся на западе. Было еще тепло, я обходил лужи на тротуаре; на вязах еще зеленели листья. Подул ветер, туча закрыла небо, и вдруг ударил такой снежный заряд, что видимость ухудшилась до сотни метров. Это был прямо-таки буран, правда, кратковременный. Ветер через несколько минут утих, но снег, лохматый, крупными хлопьями, все падал и падал; тут же зажглись оранжевые фонари (тогда еще хорошо освещали улицы), снег тихо и густо кружил вокруг них, и за десять минут в мире наступила белая тьма, раздираемая строчками огней. Все побелело, покрылось слоем чистейшего снега; сразу похолодало и запахло Новым Годом. И настолько быстрым, молниеносным, был переход от света к тьме, от сухой и не поздней еще осени – сразу к глубокой зиме, – что резануло острое осознание быстротекучести жизни: как стремительно все уносится в бесконечность… Я запомнил это ощущение: безысходной, мудрой грусти. А снег уже так и не таял до весны. 3.11. Предпоследний рейс в этом году – Москва. Взлетал в начинавшемся снегопаде по начинавшемуся гололеду, ночью, и в свете фар косо несущийся слева снег прилично мешал выдерживать направление на разбеге. Пришлось расфокусировать зрение, перенести взгляд с осевой на горизонт, улавливая только общее направление ВПП по огням, – и сразу стало легче. Так обычно взлетаешь с заснеженных полос, когда не видно оси. Расфокусированное, боковое зрение еще никогда меня не подводило, а помогает здорово. И вообще, мой лозунг – «шире кругозор», в прямом и переносном смысле. Весь полет увлеченно читал популярную нынче книгу «Как выжить в советской тюрьме». А что: от этого ни один совок не застрахован. Книга интересная и полезная. Кругозор… В Москве погода звенела; зашел и сел визуально, причем, поставив на пяти метрах малый газ и краем уха ориентируясь на отсчет высоты по радиовысотомеру, плавно и непрерывно тянул штурвал на себя, не допуская взмывания: чуял, что несусь в 20 сантиметрах над бетоном, несмотря на доклады Филаретыча «три метра, три метра…» Знаки проплыли, и мы по-бабаевски соприкоснулись с осью; перелет для захода в автомате вполне допустимый. Москву просил Витя: встретить и увезти сына, только что окончившего, наконец, Актюбинское училище и вытолкнутого из стен альма-матер в одном пиджачке и с семью сотнями подъемных. Ну, встретили, одели в прихваченную из дому теплую одежду; переночевали в профилактории, превращенном в заурядную гостиницу: кто хочет, плати 600 р. и ночуй с питанием. Дождались вечера и полетели домой. Ну, Димка уже пилот, уже 120 часов налету, на двух типах, Ан-2 и Як-40. так что нам с ним, двум пилотам, уже было о чем поговорить. И Витя тоже весь полет задавал парню задачки по самолетовождению, а я… тихонько ему завидовал: как же – сыночка, дорогой, уже коллега, уже взрослый, уже с ним можно без сюсюканья; а дед-то, дед Филарет, старый бортмеханик, ждет не дождется третьего летчика в роду… Попутная струя домчала нас за 3.40; заход с прямой. Погода не баловала: снег 1100, по ОВИ 2300, нижний край 160, сцепление 0,35, система не работает, заход РСП+ОСП. Я принял решение садиться самому, а Володе Гебгардту отдать долг в следующий раз. Шутки шутками, а при путевой 1100 км/час надо таки успеть снизиться; на кругу тоже попутничек, да обледенение вдобавок; короче пришлось немножко поработать. Алексеич даже не отвлек меня, когда загорелось РИО, а просто молча включил ПОС, молча чуть добавил режим, чтобы записалось на МСРП, молча убрал до малого газа крайним, чтобы не разгоняться и не путать мои расчеты, – короче, сам сделал все то, что мы тысячу раз делаем. Я краем глаза видел и поблагодарил. Что значит – с полувзгляда… Система работала, но не в регламенте после ремонта, как всегда осенью. Работала как обычно, но еще не облетана и не отписана официально; претензий же от экипажей к ее работе не было. Курс захватила точно, но когда подошли поближе, выпал бленкер глиссады, и я по глиссаде пилотировал вручную. Так что заход фактически был в полуавтомате. Ну, и зашли, и засветились огни… Димка дышал мне в затылок. Со ста метров я отключил курсовой канал, взял управление и, краем уха ориентируясь на команды диспетчера по РСП, касающиеся глиссады, чуть дожал машину к торцу. Витя долдонил «три метра, три метра», мы нежнейше коснулись снега, Витя вдогонку крикнул «два метра-метр-касание», я плавно опустил переднюю ножку… а сзади висел борт, а она – юзом, юзом… Ну, остановились, развернулись, срулили. В два часа ночи, уговорив водителя автобуса, я добрался домой. Ночью кашлял, а сейчас иду в баню. Всё. 4.11. На днях в Чите упал МАПовский Ан-8. Причина абсолютно та же, что и с прошлогодним Ан-12, МАПовским же. Загрузились на Камчатке импортными автомобилями и, залив топлива под пробки, тянули на максимальную дальность. И тому, и другому не хватило пары километров до полосы. Жадность человеческая. 5.11. Кончится эта тетрадь – надо годик отдохнуть. Спишут на пенсию – писать станет не о чем, ведь основа писанины все же – мои полеты. Я не хочу сказать, что на пенсии стану влачить жалкое совковое существование, изредка, за рюмкой в гараже, оживляя его воспоминаниями. Нет. Я был и останусь личностью, сумею преодолеть стресс, смещу приоритеты, найду новые интересы и буду так же мыслить, мыслить и нагружать мозг и тело. Но главного стержня, чугунного ствола Службы, – не станет. И кот ученый, на цепи, просто перестанет рассказывать свои небесные сказки. А земные – кому они нужны. 10.11. Сочинским рейсом, мягчайшей посадкой, закончились мои полеты в этом году. Обратно вез второй пилот, Олег Бурминский, хороший летчик; если бы летал со мной, стал бы отличным пилотом: есть способности, хватка и честолюбие, хотя летал только справа, на Ан-2 и Як-40. Ну, у него еще все впереди. Да и не один ведь я могу научить человека. А хотелось бы. 16.11. Наблюдая, как на школьной помойке десятилетние мальчишки ломают и жгут еще целые, выброшенные из школы за ненадобностью, а скорее, по глупости, стулья, я подумал: через десяток лет у этих детей Шарикова появятся свои дети, такие же… 17.11. Сегодня ночью, во сне, летел почему-то на Ил-18 через грозовой фронт. Штурман уткнулся в локатор, второй пилот выполнял мои команды, а я пытался визуально найти светлые разрывы в черных, спрессованных до плотности воды, или даже грязи, облаках. То мы перескакивали через вершину облачной волны, теряя скорость почти до сваливания, то ныряли под низ, к самой земле, и я все цеплялся за светлые пятна, а вещество облаков, грязь, слизь, комьями разбивалась о стекло и сползала по нему вверх, как всегда в самолете ползут вверх по стеклу капли дождя. И так мы долетались до того, что под нижней кромкой, у самой земли, с холодком в животе, сумели потерять скорость до последней степени. Когда земля приблизилась вплотную, осталось только поставить малый газ; мы коснулись, облака ушли вверх, и вдруг наш самолет остановился в каком-то громадном цеху… Ну, и дальше уже как всегда, тревоги, тревоги: влезли… как будем выкручиваться… топливо… до Москвы… если сейчас же взлететь… нас там уже потеряли… Такие сны снятся летчику, ну, через две ночи на третью. И всё тревоги. Вся наша жизнь в тревогах. И не то тревоги, что попал в грозу, что может убить… Нет, это полет, это наша обычная жизнь. А то тревоги, что земля цепко держит: «нас уже там потеряли…» Время уходит… как выкрутиться… И так всегда. Вчера в бане анализировали с Репиным три последние катастрофы. Везде виноват один только экипаж. Один только командир корабля. Мастер. Вот хоть последняя катастрофа. Один только командир принимал окончательное решение: сколько «Тойот» загрузить на Камчатке, чтобы на соплях дотянуть до Читы. Не дотянул. Встретил тут недавно еще летчика. Он сам себе хозяин. Имеет свой личный, частный Як-40. Работает на «Алданзолото». Доход в месяц – 350 тысяч. Собирается купить Ан-74. Но – надо вертеться. Мало того: надо жить этим верчением, а штурвал – лишь экономия на зарплате экипажу. И постепенно человек отходит от полетов к бизнесу. Собственно, таков путь большинства летчиков на Западе. А я, например, уже окостенел за штурвалом; за ним, даст Бог, и умру. В этом я консервативен и, видимо, ущербен, отстал от жизни. И один ли я такой. Мы не хозяева, а наемные батраки. А хозяин я в своем хобби: на даче, в гараже, – не более. Вот он, этот якутский пилот, – он в самолете – хозяин. О нем никто не заботится; он сам в заботах: договаривается, выбивает, крутится, не спит ночей… но он же сам и летает по ночам, а после ночи вынужден решать земные задачи, вместо отдыха. Что ж, хоть 33 года жить, но питаться сырым мясом… А я всю жизнь – падалью. Кончается, кончается тетрадь. Наверное, надолго, если не навсегда, я с нею прощаюсь. Стал повторяться. Нет смысла вести дальше эти, интересные только мне бредни. И все же в этих тетрадях – половина моей жизни. Потеряй я эти записи – половина сердца оторвется. Я этим жил. Именно здесь я ощущал, утверждал себя личностью, именно на этих страницах я как-то разбирался в себе, судил себя, делался хоть немного лучше. Здесь я сам перед собой исповедовался, изливал душу. Вот – главная удовлетворенная потребность. С человеком встретишься случайно, поговоришь – и то, становится легче. А тут такая отдушина. Но… не всю же жизнь. Надо отдыхать и от этого. Потребуется – вернусь. Здесь много говорилось о достоинстве. О том, что вскипело вдруг во мне мутной пеной – и поперло. Да уж, мутноватая пена, но, надеюсь, переиграет и осядет. Что-то же отстоится, останется. В конце концов, за 48 лет жизни я чего-то стою, не правда ли? Что-то же я умею, не хуже, а во многом лучше других. Какая-то польза же от меня есть. Ну вот, это оно самое и есть: спокойное, выстраданное, уверенное и надежное достоинство профессионала. Всю жизнь у меня за спиной шипели троечники: чего высовываешься, куда прешь, нарываешься, все тебе мало… выискался… А мне всю мою сознательную жизнь хотелось научиться настоящему Делу и показать, как ЭТО делается: учитесь же, пока я еще жив! Кто из нас прав?
© Copyright: Василий Ершов, 2010
Летные дневники. Часть 7
Василий Ершов
1993-95 г.г. Экипаж.
6.02.1993 г.Когда мы летали на Ил-14 зимой, то рулежные фары, спрятанные под стеклянными обтекателями в носу, включали ночью постоянно, благо режим работы у них неограниченный. Высоты наших полетов, где-то 1800-3000, проходили обычно либо в облаках, либо по верхней кромке, а противообледенительная система там слабенькая, вот мы визуально и контролировали условия полета, наблюдая в снопах желтоватого света, как в лицо летит снег, либо дождь либо, что хуже всего, дождь со снегом – эдакие блестящие прерывистые нити с вкраплением белого. На скорости 300 разглядеть можно. В таких случаях надо срочно менять высоту, зимой лучше уходить от такого переохлажденного дождя вверх, к сухому снегу. Но какие возможности у поршневого тихоходного аэроплана: вертикальная 3-4 м/сек, да и негерметичная кабина не позволяла забираться выше 3900.
На Ту-154М есть сигнальные фары, мощные, спрятанные тоже под обтекателем. Иногда балуюсь, включаю в наборе высоты или на снижении. Но – не те скорости: снежный заряд налетает, как залп из холодного огнемета, и мгновенно пропадает; снег и дождь – белые полосы; в затемненной кабине тревожно мечутся светлые сполохи; но той особой, неспешной красоты уже нет.
Обычные же самолетные фары – очень мощные, небольшие по размеру прожектора; на больших скоростях они убраны, а на взлете-посадке выпускаются специальным электромеханизмом. Иногда забудешь убрать после взлета – в кабине посторонний гул… пока дойдет… Уберешь – тишина.
Как-то на Ил-18 забыли в Москве выключить и убрать крыльевые фары; сели днем в Норильске – горят. А допустимый режим работы у них – 5 минут. Выдержали. Позор, конечно… но всякое бывает.
Сейчас-то положено выпускать фары и днем, и ночью, от птиц. Выработался стереотип на взлете: шасси убрать; фары выключить, убрать; закрылки 15; закрылки ноль; номинал.
Потом кто-то в верхах дал указание: если птичья обстановка спокойная, фары днем можно не выпускать ради их экономии.
А нам удобнее в полете действовать по установившемуся стереотипу. На спичках не сэкономишь.
9.02.Слетали с Пиляевым еще раз, в Краснодар. Туда я болтался пассажиром, а работал молодой второй пилот. Обратно летел я. Машина – «эмка», 704-я, тяжеловата, висит на газу, и мы решили проверить, может, это просто Андрей еще не справляется с глиссадой. Нет, действительно, она ну прямо норовит поднырнуть.
Ну ладно. В Оренбурге я ее спокойно посадил точно на знаки: только поставил перед ними малый газ, как пришлось хорошо потянуть, и упала, но на 1,15.
Понравились самому взлеты, выходы разворотом на 180, с разгоном скорости до 550 к концу разворота; ну, вошел в колею. Все очень спокойно.
Дома к вечеру ждали фронт. Снижаться стали за 190 км, но попутная струя не стихала до 5000, пришлось подтормаживать интерцепторами перед эшелоном перехода.
На глиссаде шаланду хорошо болтало, а где-то со 150 метров скорость резко упала, Витя нервно крикнул: «Скорость 250! 240!» Мы с Серегой одновременно скомандовали: «88!»; потом, через секунду, я понял, что мало, крикнул: «90!» Алексеич потом признался, что поставил 92, номинал; но подлетел очередной порыв, нас поставило колом, скорость прыгнула на 280, я последовательно давал команды: «84, 83, 80, 78», а с 50 метров, видя, что скорость с 280 поехала к 270, поставил 82, прижал ее к торцу и стал плавно уменьшать вертикальную. Сережа мой сначала вообще не держался за штурвал – демонстративно, – а тут взялся, и крепко. Я обычно над торцом мельчу, идут нюансы нюансов, ну, такая натура; он предупредил: «большая вертикальная». Я ответил: «видишь, уменьшаю». А руки у него все крепче и крепче; сам-то под 100 кг, крестьянская кость.Короче, я подхватил, не унюхал, потащило… вот тут надо снова чуть-чуть добрать, замерла же… Но проверяющий надежный, штурвал зажал железобетонно: все же уже сделано, не напортачить бы лишним, к чему нюансы… и мы мягко-мягко шлепнулись.
А могла бы получиться бабаевская посадка: скорости хватало даже для 704-й. Но и так получилось все добротно.
Сергей прослушал погоду: ветерок порывами до 23 м/сек. Выходили на трап, самолет качало, держали шапки. Он мимоходом спросил, чего это я мельчу движениями; я ответил, что такая натура. А он предпочитает не мешать шаланде: лишняя работа.
А для меня же это – высшее наслаждение…
В Полярном шлепнулся с недолетом «Руслан»; заруливал, из шасси хлестала жидкость: шланги порвал. Видимо, сдвиг ветра. Большим самолетам он особенно опасен, а тут еще заход по ОСП… нищета наша.
В Иране столкнулась с истребителем самарская «тушка». Командир отряда… Все погибли.
15.02. Прошлая Москва: спокойный полет до Марьина; на снижении Домодедово закрылось очисткой полосы на 25 минут; зона ожидания над приводом на 1800; дерганье: уйдем в Нижний или сядем; Внуково закрыто; заряд в Домодедово; ветер предельный боковой; топлива достаточно – «эмка». Наконец все открылось; посадка на световой ковер, на фиг он нужен, ослепил; подвесил машину и драл, пока не упал за ковром, хотя прекрасно слышал отсчет Филаретычем высоты.
Дома хорошо сел Андрей; надо дать человеку полетать самому.
Сейчас иду снова на Москву.
16.02.Андрей Кибиткин набивает руку. Даю летать вволю. Ну, на разбеге ось: то держит, то нет; человек пришел с «элки», но я требую строго. Посадки, вместе, удаются, но пока, конечно, леплю я. И вертикальная, и малый газ, и выдерживание – все пока по моей подсказке. Но садит мягко. Ну, директорные стрелки: тут пока сыро. Автопилот, первое знакомство.
Но на снижении с эшелона, заход с обратным курсом, – очень культурно распорядился расходом высоты и скорости, ну очень даже культурно. Начали снижение за 200 км, ветер попутный тут же стих; вижу, не хватит ему метров 500 высоты. Нет, вытянул. Пла-авно, аккура-атно дотянул до 4-го разворота без газа. Меня приятно поразило. Молодец. Старается человек, ну, а мы таким отдаем всё. Филаретыч его оседлал с самолетовождением, так что весь полет мне было как у раю.
Надо с ним полетать, часов хотя бы сто. Да оно вроде так и наклевывается. Хотя Коля Евдокимов плачется, просится ко мне. Ну да ко мне многие просятся. Потерпит. Тут надо человека ввести в строй и отдать толковому командиру в экипаж. Будут с Андрея люди.
17.02.Когда-то, курсантом еще, подходил к Ан-2 после Як-18 и думал: во, лайнер… Потом так же – к Ан-24 и Ил-14; после – к Ил-18. Летая на «Ту», уже бывалым пилотом, с известной все же робостью подходил к Ил-62, к Ил-86, к «Антею», «Руслану», трогал рукой в Полярном «Мрiю» и мечтал полетать на Боинге-747.
Да ерунда все это. С известными оговорками, чуть набив руку, одинаково понял бы и прочувствовал, приноровился бы к любому летающему сараю.
Все мы летаем в одном небе и все там абсолютно равны перед ним. Вот и всё.
Поэтому нечего драть нос перед экипажами более легких машин. Тут кому уж как повезло. А что касается ситуаций, то их у всех предостаточно. И я переболел, давно уже, шириной погон на плечах.
Стремиться, конечно, надо, головой у слона, но если и у мухи – не огорчайся. Не верь, что чем тяжелее машина, тем тяжелее работа. Ответственность – да, сложность решения задач – да, а вот сама работа на тяжелых машинах гораздо, во много раз легче. Само пилотирование и вообще отбирает мало сил: продумано же, сконструировано и набито в самолет предостаточно аппаратуры, чтобы облегчить труд, освободить экипаж для решения самых ответственных задач.
Весь полет для меня сейчас – это просто лежание в кресле. Второй пилот взял тормоза на исполнительном старте – и я снимаю руки со штурвала, а ноги с педалей. А дальше – нажимание кнопок.
Вначале полет на тяжелом самолете отличается от полета на легком только страхом большого, сложного и неизвестного.
Да, страх есть. Да, велика Федора. Но чуть освойся с нею, вложи свой опыт, способности, старание и труд, – и познаешь ее, и освоишься, и уйдет страх. И полюбишь, и восхитишься; а на старую свою машину будешь оглядываться со снисходительной любовью, и та твоя машина будет уходить, уходить из памяти, стираться в мелочах, и, в конце концов, останется только благодарность и уверенность в себе.
Как я могу забыть солидный, надежный, неторопливый лайнер Ил-18. Его круглый штурвал с потрескавшейся желтоватой пластмассой, дрожание упругой струи на рулях, скрип рулевых машинок автопилота, простейшую посадку: «внутренним ноль, всем ноль, с упора!» – и побежали… Конечно, кое-какие скорости подзабылись, но, приведись снова взлететь, – полчаса полистал РЛЭ и поехали.
Так же и Ил-14 – там уже совсем просто. Железяки, рычаги, рукояти, поршня… Скорость на глиссаде 180…
Ну а Ан-2, тот, перед которым робел в училище… купить бы в личное пользование, как лимузин.
Все это кажется так просто – возвращаясь назад. А идти оттуда сюда было непросто, и много пролито пота. Но нечего зазнаваться. Надо знать себе цену – и только.
22.02. На той неделе, я уже упоминал, кружились в зоне ожидания над Домодедово. До Марьина все было как всегда; снижались, погода была везде хорошая. Потом земля между делом спросила, в курсе ли мы, что через три минуты Домодедово закрывается очисткой ВПП на 25 минут; Внуково тоже закрыто очисткой; ваш запасной вне Московской зоны, минимум и остаток топлива? Ваше решение?
Будь мы на «Б» – тут же развернулись бы в Нижний, до него от Марьина 400 км. Но была машина «М»; попутный, восточный ветер сэкономил нам топливо, у нас оставалось еще 11 тонн, это с ВПР – на 1 ч. 35 мин. Полчаса свободно покружимся.
И все бы хорошо, да на втором круге подошел заряд: видимость в пределах минимума, но – сильный ливневой снег. А умник же ж Васин когда-то запретил заход в сильных ливневых осадках при видимости менее 1000, а снег же ж – тоже осадки.
Так. Сколько осталось? Пока 9 тонн. Еще кружок. Как там Внуково? Заряд, видимость 200. А заряды ж идут к нам от Внукова, с запада.
В Домодедове видимость улучшилась Сильный ливневой, но более 1000 м. И еще 8 минут до открытия полосы. Так: как там Горький?
Какой, к черту Нижний Новгород, какая Самара, какой еще Санкт-Петербург, когда жареный петух долбит в задницу.
Горький? Погода хорошая. Так. А Внуково? Минутку…
Еще круг. Семь тонн. Так: во Внуково пока 450 метров. А у нас: боковой ветерок задул, 8, порывы 11, под углом к полосе 53 градуса, сцепление 0,36. Подходит?
Считаем. 8 метров-то подходит, а вот порывы 11 – нет. Стоп… у нас же «эмка», у нее допуски чуть больше… таблицу давай…
По таблице у Андрея проходит 10,8, у меня – 11,1… сколько там топлива…. 6500… рискнуть еще кружок или рвать когти на Горький, благо, идем как раз от 2-го к 3-му, 317, на Картино, Люберцы… помни урок Ленинграда…
В Шереметьево выкатился на пробеге иностранец; все шереметьевские косяком потянулись в Домодедово, над нами этажерка; сейчас начнется кутерьма.
Видимо, руководитель полетов принял решение. На траверзе, на 1800, нам дали команду снижаться. Погода: ветер 11 м/сек, сцепление 0,36. И мы камнем рухнули в район третьего.
Ну а дальше был тот дурацкий световой ковер, и ослепил-то уже над торцом, некогда было не то что просить убавить яркость на пару ступеней, а и «мама» крикнуть; боролся со сносом, потом драл, драл, пока тот ковер не кончился. Выдрал…
Какие тут факторы? Сидел в кресле, сытый, в тепле, заднице жарко аж было, нажимал кнопки. В кабине пахло потом. И покатились.
Вышли на трап. Противный снег и ветер, то подует, то утихнет, да порывистый.Заруливали борты, один за другим выныривая из заряда. Алексеич внизу стучал отверткой по звонким горячим колесам. А в шереметьевской инспекции вежливый чиновник пытал командира «Боинга», а тот мучительно анализировал свои действия и искал причину выкатывания. Все мы – братья, и всех нас поклевывает в задницу жареный петушок.
А Филаретыч все ворчал и оправдывался, что у него не так выходила коробочка: то ширина, то четвертый разворот… Господи, да нужна мне была та ширина. Но таково беспокойное сердце штурмана: свое дело надо делать при любых факторах красиво.
26.02. Поздний вечер. Все спят, а я только вернулся из Норильска, пью чай. Только уснувшая Надя встретила босиком: чап-чап-чап, – ткнулась мне в воротник, я развернул ее носом в спальню и затолкал добирать.
На Норильск заехали вчера с вечера. Поболтали пару часов и вырубились на известных профилакторных койках.
Утром подняли на вылет, но как всегда: то ветер там чуть изменил направление и коэффициент сцепления, минимальный, 0,3, уже не проходил. То дали коэффициент 0,35, но и ветер подвернул, и снова не хватало полметра в секунду. Потом у них погас световой старт, налаживали два часа. Потом настал день, и не стал нужен уже этот световой старт. Тут уже, наконец, они закрылись очисткой полосы… и пришла первая хорошая погода. Как назло.
Дали задержку, уже пятую, и пошли спать. И поспали часа два.
Витя с нами не ночевал, а с утра примчался на работу на своей машине, шебутился, разводил панику и психовал. Я отдал ему бразды, а сам экономил нервы, понимая, что между двумя фронтами есть шанс прорваться, надо только выждать время, когда первый фронт уйдет за Путоран.
Ну, подняли. И резерв тоже: выполнять рейс за вчерашнее число. Мы плотно поели и стали готовиться. И все, наконец, было готово, и был запрошен запуск. Но тут передали: Норильск снова чинит свои огни на ВПП; вылет через 40 минут.
Дождались, взлетели.
Над Туруханском снова паника: Норильск передал, что старт не горит, погода – нижний край 80 м; запасные, Игарка и Хатанга, на ночь закрываются по регламенту, отдыхать там негде…
Хорошо, Витя с утра подал идею залить лишнего керосинцу; ну, я дал команду дополнительно плеснуть… тонн шесть. Так что нам его хватало дойти до Норильска и, если что, уйти с ВПР на Красноярск. Ну, не сядем, – но ведь до Норильска дойдем и вернемся обратно; за налет нам оплатят, считай, выполнили рейс. Не суетитесь, войдем в зону, там все уточним.
Конечно, мы летаем не за налет, а везем 80 пассажиров; надо довезти людей.
Вошли в зону Норильска. Он дал погоду: видимость 2500, нижняя кромка 210. Пока еще день; раз погода выше чем 200/2000, световой старт не нужен, а мы, по расчету, должны успеть аккурат за минуту до захода.
Диспетчер пообещал, что все равно примут. Ну, и чего было переживать. Погода, для Норильска, зимой, – небывалая.
Ну, сели. Старт, четыре-пять огней, прерывистой ниткой светился по правой обочине полосы длиной 3700; слева занесен снегом, но два фонаря и там светилось. Куда с добром. Полосу в сумерках прекрасно видно. Кое-как развернулись, порулили ко 2-й РД, не распознали ее между двумя снеговыми горами, проскочили, развернулись… Ну, зарулили. Следом сел Гена Шестаков, и закрылись.
Через час старт сделали, загорелся. Мы стали ждать загрузку, а ветер между тем усилился, и когда мы выруливали, замело: подошел следующий фронт. Видимость нам дали 540 м; полоса колыхалась в мареве мглы, дымки, снега и поземка, начиналась общая метель. Ось едва просматривалась, и я решил взлетать сам. Короткий разбег; я старался выдержать курс, чтобы Витя на ходу выставил точнее ГПК; потом энергично взял штурвал на себя и резво ушел в темное небо.
Домой развез Витя. Полпервого ночи. Завтра заезжаю на ранний Благовещенск.
Не столько того полета, того пилотирования, той, собственно, летной работы, сколько нервотрепки на земле и принятия решений.
5.03. Вчера был разбор ЛО. Ни о чем. Ну, довели случай. Наш Ил-76 летел из Норильска в Москву, и бортинженер стал перекачивать топливо, выравнивать по группам; довыравнивался до того, что выключились все четыре двигателя. Ночь, высота 9600, самолет обесточен, планер по сути, командир вслепую снижается, инженер бьется с запуском; ну, на 3800 запустил, долетели благополучно.
Комэска Ил-62 жалуется: нет работы, нет налета, экипажи идут на редкие вылеты неготовыми, собирают с бору по сосенке, тех, кому подошла очередь налетать свои 5 часов; знакомятся пять человек в штурманской перед полетом; минимумы подтверждать – нет заходов; какая, к черту, безопасность полетов…
Я, чтобы поддержать свою квалификацию, подлетываю достаточно. Мне неплохо сидится и дома. Конечно, разврат. Но что я могу сделать. А моральное оправдание всегда наготове: вспомните-ка, сколько налетано и перелетано продленных саннорм, да не записано в летную книжку, ибо ни в какие рамки не влезало, – сотни часов! А теперь мы поспим.
9.03. Три рейса всего в этом месяце, но, естественно, на 8 Марта я летал. Рейс отдыха. Вез из Благовещенска зайцем штурманессу, Тамару Кондратьевну Афанасьеву: летает в Тюмени на Ту-134, а сюда прилетала навестить больную сестру. Ну, болтали всю дорогу. Все-таки единственная в стране женщина-штурман, попала в Аэрофлот по протекции самого Аккуратова, бывалая, 15 тысяч часов налету. Ну, расстались друзьями. А частенько в полетах слышал ее голос над западной Сибирью…
Естественно, постарался рассчитать дома заход с прямой и посадку, чтоб товар лицом. Ну, вроде удалось. Это ведь на посторонний человек, а штурман, считать умеет.
10.03. Читаешь Жюль Верна: как статично. Или, допустим, Готье, путешествие по России. Или «Фрегат Паллада» Гончарова. Какие неспешные, утонченные, подробные описания…
А нам, нынешним, некогда. Не до описаний – прыгать надо. Наш век – век скорости, динамики, действия, темпа, принятия множества решений.
А все же хочется на время попасть туда, в середину ХIХ века, в несуетную, медленную, созерцательную жизнь, от которой не устаешь…
Ничего, в старости будет тебе неспешная жизнь.
Я мечтаю: полетать бы на дирижабле. На полном серьезе. У меня и книжка есть об особенностях пилотирования дирижаблей. А как бы хорошо было: под звуки марша отчалить – и медленно, величаво, неспешно…
Но нет. Люди будущего, изучая историю авиации, будут удивляться: на таком ненадежном, эфемерном, на сжатии и разрежении воздуха, – и ведь летали! На реве и свисте, на раздирании воздуха, на огненном хвосте…
Ну, удивляйтесь. А мы – дети своего века.
Все те описания и раздумья дали свои плоды. Человечество обдумало, спрессовало, претворило в железо; дальше думать некогда, надо прыгать в воздух. А описания… не успеешь путем и разглядеть, когда уж там описывать.
Но я все равно убегаю от этой динамики в какую-нибудь келью: на дачу, в гараж; там не спеша убиваю день за днем над примитивной вещью, с лопатой, либо с молотком и напильником. Мне это надо.
Но еще больше мне надо взять в руки вытертые и облупленные, тяжелые рога штурвала и за считанные секунды вонзиться в небо, раздирая воздух.
Смейтесь, улыбайтесь, дети будущего. За считанные секунды… Это – как читать воспоминания автогонщика начала века, достигшего скорости 40 км/час: «Это было безумие…»
Что ж, все устаревает. Но я прекрасно понимаю восторги того автогонщика: он был на острие прогресса. Он – вонзался…
23.03.Вчера слетали на «эмке» с разворотом во Владик. Ну почему бы так всю жизнь не работать. Вылетели утром, вернулись вечером. Спокойнейше.
Добрались до Владивостока, Коля благополучно посадил тяжелую машину в условиях еще непривычной в марте термической болтанки, причем, я вмешивался пару раз, только голосом, а не руками. Мягко сели.
На обратном пути засосало: ночью дома отдохнуть не удалось из-за болезни Оксаны. Часа два дремал, проваливаясь и просыпаясь; Витя с Колей колдовали над штурманскими приборами, и я всеми клеточками ощущал: машина идет по трассе надежно, довезут. Какое все-таки благостное чувство: доверять товарищам. И если бы раз или два, а то ведь восемь лет. Виктор Филаретыч – довезет. Я открывал глаза, а Витя над ухом бросал: спи, спи давай. Заботятся…
Солнце тусклой оранжевой каплей растекалось справа по горизонту, фиолетовая ночь обнимала нас сзади своими крыльями; машина сидела в плотном как масло воздухе, и теплая ленивая усталость заполняла позвонки.
Снижение с прямой я решил попытаться сделать образцово-показательным. Начали за 200 км и потихоньку, без интерцепторов, на предельной скорости, опускались в волшебную, раннюю, невесомую ночь. Сквозь сиреневую мглу едва просвечивали белые дороги и реки, над городом столбами стояли белесоватые дымы, над нырнувшим за бок Земли усталым солнцем светилось зеленоватое небо, все в розовых бороздах от наших воздушных плугов, с первой несмелой звездочкой в темнеющем зените, – а мы углублялись в сгущающийся мрак. Тепло светились шкалы приборов с замершими стрелками, и только в окошке РСБН быстро сменяли друг друга цифры удаления, да мигали тусклые красные светодиоды на табло «Квитка».
Все шло как я и учил Колю: за 100 км высота 5400, за 65 – 3000, за 30 – 1200. Площадка, гашение скорости: 500, 450, 400, – и над своим родным домом, через который проходит наш входной коридор, я ввел машину в глиссаду, по которой, на пределах, выпуская последовательно шасси и закрылки, так и снижался без газа, иногда замирая в сомнении, успею погасить скорость или нет перед очередным этапом выпуска механизации.
Все успел; подошла глиссада, довыпустил закрылки на 45 и только тогда поставил режим 80. Действительно, образцово-показательный заход, заход на острие бритвы, заход по-репински, по-солодуновски, ну и теперь вот – по-ершовски. Учись же, пока я еще жив.
Эх, Солодуна бы сейчас мне рядом: как бы порадовался Учитель. Да, собственно… он и так знает. Но – порадовался бы.
Посадка началась по-бабаевски, коснулись цыпочками; машина была легкая, и было поставлено 75 над торцом, и прижато, и замерло все… И после цыпочек-то, да добрать бы чуть-чуть еще… Но нет, бог следил и тщательно отмерил мне блаженства: хватит с тебя и расчета на снижении.
Пятки чуть хлопнули; мне сдуру показалось, что это хлопнула опустившаяся передняя нога… так нет – вроде нос еще высоко… Реверс был уже включен, но я для порядку все поддерживал штурвалом на себя переднюю ногу. И хорошо сделал, ибо только при выключении реверса на скорости 160 км/час нос ощутимо опустился и нога наконец-то мягко коснулась оси. Ну, короче, не на 8 посадка, а где-то на 6.
Был коньяк. Пока нас буксировали, мы успели выпить и закусить, благо, продуктов набрали из дому с собой, совершенно не рассчитывая на то, что во Владике вдруг появится топливо и нас развернут. И в самом распрекрасном расположении духа сели на служебный и покатили домой.
По пути легкий хмель развязал языки, и мы с бортинженером Геной Б. рассуждали о профессионализме. Между прочим, выяснилось, что когда-то где-то я, оказывается, взял его с семьей пассажирами, хотя свободных мест не было, он помнит и благодарен; я, честно, забыл. Что ж, я такой был и есть, а раз человек говорит, значит, было. Ну и слава богу.
А насчет профессионализма… я занесся и ляпнул, что, мол, стараюсь так делать, чтоб люди сказали: Ершов – это да… И немедленно получил в ответ: да уж слышано предостаточно, каков есть Ершов.
Сладкая отрава удовлетворенного тщеславия…
А с другой стороны: нас, стариков, знают все. Основная масса летчиков у нас сейчас – молодежь, пришедшая с других типов три, ну пять лет назад. Я сам таким был и сам приглядывался к старикам: каков Жиров, каков Первов, каковы Скотников, Репин, Чикинев, Красоткин, Аникеенко, Петухов… иных уж нет…
Так же и молодые приглядываются ко мне, пролетавшему на «тушке»13 лет, – когда они еще в школе учились. Мне же уже под 50. И ко мне просятся. Мой экипаж – самый стабильный, подобных, пожалуй, у нас больше и нет. Только Леша Пушкарев много лет летает со штурманом Гришей Соловьевым. Но нас-то трое, а до этого было четверо: совсем недавно ушел не забытый нами Великий Мастер Бабаев.
А ну-ка оглянитесь на себя, мои воздушные братья: всем ли так везло с экипажем?
Особенно это важно для вторых пилотов, будущих командиров. Привыкнет к частой смене членов экипажа – считай всё: это не Командир будет, а так… начальник. И люди у него будут – кнопки.
А если повезет, как вот мне, – научится, даст бог, ценить человека, поймет, что надо считаться с людьми, надо в чем-то и от себя оторвать для человека, и пожертвовать, и с чем-то стерпеться, а главное – уважать личность и понимать, что тут мы все личности и все зависим друг от друга, и надо доверять… Если бы всем так везло…
Вчера оставил кабину на минутку, вернулся, лезу в кресло. Кресло отодвинуто далеко, сел, а надо подъехать поближе по кривым рельсам, а ролики вечно заедают; обычно правой рукой хватаешься за угол центрального пульта, а левой снимаешь кресло с фиксатора – и рывком вперед.
Я взялся правой рукой… за рог штурвала – и рывком…
Ну, на скорости 900 оно немножко того… взбрыкнуло. Если кто в тот момент мостился в туалете на унитаз…
Автопилот отключился по тангажу, сирена, мы с Колей столкнулись руками на пульте автопилота, он успел стабилизировать высоту. У Филаретыча тырлы выскочили на секунду.
Перегрузка-то всего 1,35, но в хвосте наверно людей присадило. Тьфу ты, аж взмок. Ну, три ритуальных слова… Мастер.
26.03. Из Норильска. Теплый весенний день. На взлете дома первый раз в жизни одним движением нашел нужное положение триммера РВ: при изменении всех пикирующих и кабрирующих моментов от уборки механизации, не вмешивался, только ждал, чуть придерживая штурвал, – и усилия сами собой снялись. Чутье.
Спокойно, раскованно и красиво взлетел, абсолютно выдержав все параметры, но в наборе высоты при балансировке по тангажу все же допустил увеличение скорости: плюс 10 км/час в течение 10 секунд.
Садился в Алыкеле на пупок, на тяжелой машине, протянул, прижал, выждал, добрал, коснулся… добротная посадка – но не бабаевская, не дал бог.
31.03. Вечером, побеседовав с синоптиками, лег спать в сомнении: тот волнистый фронт, что стоял возле Диксона, мог к утру спуститься на пятьсот верст южнее. Хотя синоптики утверждали, что не должен: в параллельных потоках…
К утру фронт стоял над Норильском. Там еще не мело, но шел снег; и система в Алыкеле, по закону подлости, не работала. Но я решился лететь.
Полюбовавшись прекрасными видами излетанных в молодости приенисейских мест, я задремал, чтобы сберечь силы для посадки; с вечера, наломавшись в гараже, путем не поспал на неудобной койке в профилактории.
Над Туруханском Витя меня растолкал: видимость 1000, а минимум там 1200. Ну, подготовились к уходу на Игарку, однако шли вперед.
Дали снижение. Мы не задавали вопросов: диспетчер знает. И уже на кругу, когда выпустили шасси, дали нам видимость 1820, нижний край 100.
На третьем развороте нам предложили пройти еще чуть дальше с курсом, обратным посадочному: заряд, видимость 750, нижний край 60. Я еще было что-то вякнул, да и замолк. Заряд. Север.
Убрал шасси, прошел километров 20, до озера Пясино. Филаретыч по локатору контролировал, чтобы не подойти близко к горам. Развернулись, взяли посадочный курс; диспетчер дал видимость 1120. Мало. Потом 1400, нижний край 100. Выпустили шасси. Топлива оставалось 6500; при остатке 6 тонн положено уходить в Игарку. Выпустили закрылки. Подошла глиссада – глиссадный маяк системы работал, но нас заводили по РСП+ОСП. Только хотел начать снижаться, как снова дали нижний край 70.
Ну что – уходить? Минутку. Контрольный замер: 80. Мало. Минутку. Еще минутку…
Витя заблажил: хватит экспериментировать, осталось 6 тонн, пошли в Игарку!
Я еще ждал секунды. Ушла глиссада, уже не успеем. Тут нам дали 90 метров, и как всегда: ваше решение?
– Ну… уходим.
Тишина. Дал номинал, скомандовал убрать шасси, закрылки. Диспетчер пробормотал:
– Протяните до дальнего привода…
Ага. Меряют. Думают. Сейчас дадут…
Витя жал нас в Игарку, но я понимал: сейчас дадут, сейчас; логика изменения – в лучшую сторону…
– Берите курс в район третьего!
Ну, все ясно. Резво развернулся и на минимальном боковом удалении, вокруг своей пятки, выполнил третий; шасси, закрылки, фары… и тут дали нижнюю кромку 100, а видимость аж 1800.
Посадка была делом техники, хотя линию электропередачи на ближний привод я засек метров с девяноста, а торец увидел лишь метров с сорока: высоковато; но с перелетом пресловутого пупка сели в серовато-белую мглу. Какие там фонари. Все клубилось и слепило знаменитой норильской белизной.
Обратный взлет был вообще просто вслепую, хотя видимость давали 820. И рулил вслепую, и выполз на полосу, ориентируясь только по бледным огням торца, и протянул по ней куда-то туда, во мглу, а Витя ориентировочно выставил взлетный курс.
На разбеге, куда-то туда, одна мысль: не сучить ногами. Месяц назад вот здесь, вот так же, выкатился в сугроб местный Ан-12.
Перевалив пупок, заметил краем глаза фонарь слева, потом, попозже, такой же справа: вроде примерно на одинаковом расстоянии; скорость уже под 200, зажать ноги, уже до обочины не достанем… И вдруг поймал взглядом шов между плитами ВПП: мы чуть смещались вправо; исправил, крикнул Вите «засекай!» и плавно потянул на себя, абсолютно вслепую, довел тангаж до 15 градусов, задницей почувствовал, что полетели, скомандовал убрать шасси. А Витя успел засечь курс, когда самолет шел строго параллельно оси: на ГПК было 197 при взлетном 194; потом ввел поправку.
И всё.
А если бы на разбеге отказал двигатель и нас потащило бы куда-то вбок?
Ну, сшибли бы перед отрывом пару фонарей.
Вечером снял напряжение в бане.
2.04. Сегодня стою в плане на ночную Москву с разворотом. Мне доверено открыть первый рейс на самолете-салоне, с первым классом, бизнес-классом, ну и остальным, рабочим классом, ну, третьим: это во втором салоне. Среди меня вчера была проведена беседа командиром отряда и еще каким-то чином, он мне не представился.
Полетов все меньше и меньше. Билет на Москву теперь стоит: первый класс – 47 тысяч; второй, т.е. бизнес-класс, – 44 тысячи; рабочему классу – 29 тысяч. Кто ж полетит. Вот, пока среди пассажиров шок, нас выгоняют в отпуска, у кого они еще остались.
Основное противоречие в авиации: топливо и загрузка. В сумме вес конструкции, загрузка и топливо не должны превышать допустимой подъемной силы крыла. Загрузки больше – бери топлива меньше. А голубая мечта экипажа – полный бак топлива. Как у нас говорят: лишнее топливо в баках – не лишнее.
Поэтому, правдами и неправдами, экипаж старается заначить топливо. Оставляем всегда друг другу лишнюю неучтенную тонну при передаче машины по эстафете. На дальних рейсах только это и выручает. А значит: экипажи давным-давно эксплуатируют самолеты с превышением заявленного конструктором максимального полетного веса, или точнее, взлетной массы. Потом, по прошествии лет, эксплуатант добивается у конструктора узаконивания этого, проверенного жизнью нарушения.
Так мы стали летать с взлетной массой 100 тонн вместо 98, а теперь разрешили 102 тонны.
Но по бумагам, боже упаси, все по закону. Это уж наши маленькие секреты. Правда, это секреты Полишинеля: их все знают. Летишь туда – расход ну уж очень большой, пишешь маленький остаток (чтоб не превысить посадочную массу 80 тонн). Летишь обратно – расход ну уж очень маленький, ветер всегда ну очень попутный. И в баках плещется заначка. Ну и так далее.
Но вот короткий полет – в Норильск. Как ни крутись, а заправка на «бешке» 20 тонн, если запасной Игарка, и 21 тонна, если Хатанга. И на ВПР в Норильске остается 6.5, ну, 7 тонн, это на 1 ч.15 мин. Можно сделать один кружок, если что.
Вот мне и пришлось повертеться нынче. Была бы пара тонн лишних, я бы спокойно ходил по кругу, ожидая, пока пройдет заряд. А тут разрываешься между ожиданием минимальной высоты облаков, которая вот-вот повысится, и между страхом, хватит ли топлива до Игарки, а заход там – по приводам обратного старта, что для нашего лайнера просто нонсенс; да вдруг там придется сделать еще кружок. И Витя, начальник паники, уже вертится волчком и резонно отталкивает подальше от греха. А я, командир, должен использовать все возможности, весь опыт, интуицию, профессионализм, разумный риск, – и выполнить-таки полет без тупого ухода на запасной, не поддаваясь при этом слепому азарту решения задачи. И вертятся с сумасшедшей скоростью колесики в мозгу, перемалывая нервные клетки, а глиссада тем временем уже ушла вниз и гнаться за нею бесполезно и опасно: только без спешки на прямой, лучше сделать еще круг.
Что-что, а на глиссаде не должно быть НИКАКИХ нестандартных моментов. Только стереотип, выработанный годами, только строгая технология и четкое, отработанное, привычное взаимодействие подготовленного экипажа. Если этого нет – лучше уйти на второй круг и сделать повторный заход или уйти на запасной. А топлива-то и нет…
Мой экипаж – опытнейший, вот ему-то и по плечу решение таких, и более сложных задач. Но у всех живые нервы, и вот тут командир должен в двух словах, в один момент, найти что сказать людям, чтобы разрядить эмоциональное напряжение, а лучше – перевести его в решение задачи.
Нам не хватило десяти секунд, глиссада ушла вниз, я эдаким неуверенным тоном доложил земле решение: «ну… уходим…» И земля прекрасно поняла мое состояние и сумела сработать как надо: «протяните до дальней…»
Я сказал экипажу: «щас дадут». И как только получил команду к третьему, тут же отключил автопилот и решительно развернулся на 180, озадачив сразу Филаретыча: какой курс? 360? 355? И Витя углубился в расчеты и через 5 секунд, пока я крутил вираж, выдал курс, – и какая там Игарка.
Минимальное удаление от полосы, с которого, заходя с прямой на высоте 500, можно без нарушений успеть выполнить все операции, начиная с выпуска шасси, в Норильске – 15 км. И то: надо подвесить машину на скорости 380, чтобы выпуск шасси погасил скорость до 360; закрылки 28, перебалансировать, заранее добавить режим до 80, убедиться, что на этой скорости в горизонте машина летит, отдолдонить карту, да не формально, а с особым пристрастием, для себя, ибо тут все по пределам и надо не упустить контроль жизненно важных моментов: шасси, закрылки, загружатели; – а тут уже вход в глиссаду: успеть погасить скорость менее 300, довыпустить закрылки, выпустить фары, опять карту, – и только теперь все должно пойти по стереотипу и начнет решаться задача захода по локатору с контролем по приводам; поиск земных ориентиров перед ВПР; зацепиться глазами за землю, убедиться, что положение самолета посадочное, и – решение.
О том, что не попадем на полосу, не может быть и мысли. Такой экипаж.
Я не знаю, о чем думают при сложном заходе мои мужики, но уверен: в том, что мы, безусловно, сядем, если я сказал «садимся, ребята», – они уверены абсолютно. И что посадка будет мягкая, это точно.
Если же на прямой командир не сумел поймать курс-глиссаду, подобрать скорость и режим двигателей, начинает нервно сучить газами, – бортинженер за спиной делает вывод: убивают! И либо проявляет инициативу, причем, как правило, на 180, либо путает команды в растерянности и вносит свою лепту в разрушение и так уже размазанного захода.
Но это я так предполагаю умозрительно, ибо у меня такого не было никогда. Если моей спине тепло оттого, что там – Алексеич, то он чувствует то же самое оттого, что команды подаю ему я, либо мой воспитанник, второй пилот, а значит, растерянности быть не может.
Это – мой экипаж. Это не фраера, а волки. Спокойные. Несмотря на то, что Филаретыч иногда бегает по потолку. Ему нужно одно мое слово, и даже не слово, а интонация. Ну, такой он человек, я привык.
И вот Алексеич лежит на чердаке, мне меняют инженеров, и спине чуть зябко в полете. Пусть люди не обижаются: я сам создал себе этот относительный комфорт, зато в такой обстановке мы способны решать любые задачи, и начальство наше это знает.
Если от некоторых командиров отказываются – и все об этом знают, – то ко мне просятся. Но я свой экипаж берегу.
Ага. Привык: как у раю.
Ну что ж, создайте себе такой же рай, но уверяю: потребует приличного, тонкого труда, и над собой тоже.
Или тупо сосуществуйте: ты начальник – я дурак.
Вчера в эскадрилье, при стечении народа, я между делом долго доказывал Савинову, что мой экипаж – особый, единственный, я его разбить не дам: мы – самый старый и слетанный коллектив. И если есть где в экипаже пары, слетанные годами, как-то: Хатнюк-Гафаров или Пушкарев-Соловьев, – так это же только пары, а мы еще недавно летали вчетвером – многие и многие годы, не три года, и не пять, а больше, и сейчас остались втроем, пролетав более восьми лет вместе, а с Копыловым – десять, спина к спине…
3.04. Ну, слетал тем бизнес-рейсом. Открыл. Это анекдот.
Смена, как назло, не сумела подготовить машину: спешка, суета, две или три дозаправки, не проходила центровка, балластный бак…
Для полноты счастья, кто-то позвонил, что самолет заминирован. Куча ментов; для порядку позаглядывали во все углы, естественно, ничего не нашли. А принять решение о вылете некому, кроме, естественно, командира корабля, что я и сделал. И пресса вьется, телевидение… а тех бизнесменов, тех пассажиров первого класса, так и не оказалось. Пришлось сажать в бизнес-салон обычных пассажиров, для центровки. Смех в зале.
Корреспондент слетал с нами туда и обратно; ну, спасибо, болтали всю ночь, хоть спать не хотелось.
Москва, естественно, о таком рейсе ни сном, ни духом не знала: продали 145 билетов, а мест всего 132, бизнесменов нет; снова для центровки посадили на их места простой люд. Тут из аэровокзала автобус подвез еще группу, в которой, наконец, оказалось пятеро пассажиров первого класса; ну, опять разбор с местами, извинения, суета проводников…
Посадка в Москве хорошая. Дома садился Коля, ну, молодец, притер на цыпочках при хорошей болтанке; ну, товар лицом.
Доехал до дому на служебном, попил чаю, кое-как снялось возбуждение, упал и проспал пять часов. Усталость от нервотрепки. Еле расходился; теперь, пожалуй, долго не усну. Холод и ветер за окном.
В полете, беседуя в пространном и свободном интервью, я много говорил корреспонденту о моем экипаже, о моем исключительном, редкостном для Аэрофлота и наверно единственном в управлении экипаже. О Валере и Леше, о том, как тепло спине, прикрытой надежным помощником и другом, о высочайшем наслаждении от Лешиных посадок, о большом везении и великом профессиональном счастье работать в таком коллективе, о традициях и преемственности, о летной династии Гришаниных, о Службе и великой усталости, о святой романтике, которая все еще влечет в небо молодежь.
9.04. Подсунули нам еще облет машины после смены двух двигателей. Ну, облетали. Бросилось в глаза то, как мы зашорены стереотипами. Здесь пришлось задавать машине нестандартные режимы, как-то: одному двигателю взлетный режим, другому – малый газ; либо полет на большой высоте и минимальной скорости – и взлетный режим; либо взлетный же режим на максимальной скорости; либо вписаться в радиусы разворота по схеме полетов в зоне на высоте 11100 при скорости 900, и т.д. Приходится думать, решать и реагировать быстро, а параметры полета норовят выскочить за допустимые рамки. Ну, это полезно. Откажет в полете двигатель, не дай бог, – так уже вроде и не страшно.
В зоне пилотировал я, а взлет и посадку с задней центровкой отдал Коле для тренировки; ну, он справился хорошо.
16.04. Благородной, легчайшей, аристократически-утонченной, бабаевской посадкой наградил господь перед уходом в отпуск. Ощущение завершенности. Лучше сделать невозможно. И сделал-то не глядя, в спокойных, идеальных, не мобилизующих условиях, ну, в сумерках; заход в автомате до ВПР. Долго катились по рулежкам вокруг домодедовского перрона, встали в дальний угол.Хорошо.
4.05. Съездили с Надей на Украину, проведали стариков. Обратно поездом до Москвы, оттуда домой самолетом.
В Домодедово уже три дня не было топлива; мы попали как раз на третий день. Пришлось помыкаться по вокзалу; ночевали в холле профилактория на вытащенных по случаю ремонта пустых кроватях, спасибо, хоть не выгнали. А в вокзале ступить было некогда… как я ненавижу вокзалы…
Повезло нам, что сидящий в Москве наш молодой командир летного отряда выбил топливо на Ил-86, на котором он как раз вводится с левого сиденья; я попросился с женой, ну, взял, спасибо.
Провел я Надю через проходную АДП, сунув пару тысяч тете-начальнику турникета. Это – с билетами! На регистрацию же и досмотр было не пролезть из-за мешочников; а что такое две тысячи – тьфу…
Ну, долетели: Надя на приставном, я рядом на контейнере, проводницы знакомые, устроили, спасибо. Командир на посадке приложил машину – ну, на уровне проверяющего с гербовыми пуговицами. Да ему мягче и не требуется. Сойдет.
В полете я от скуки зашел в кабину. Ну, все вроде знакомо и понятно, но, естественно, не та компоновка, мнемосхемы, глазу непривычно. Экипаж работал. И тут вдруг обострившимся, чуть посторонним сознанием я понял, шкурой ощутил, до восторга, – как же сложна наша работа! Только знать все это, как что работает, как им пользоваться. Как вместе это дело делать, как это дело делать хорошо, добротно. Как много надо трудиться для того, чтобы понять все тонкости. Какой огромный труд и талант надо сложить вместе, чтобы воплотить весь этот багаж в утонченной бабаевской посадке, сколько надо набить мозолей на нервах, чтобы такие посадки стали нормой…
Или же клепать добротные, с тупым ударом в задницу, посадки, типа вот этой, пережитой мною вместе с Надей? У нее на секунду от толчка выпали глаза.
Нет, я так не сажаю. Не умею. И Надя знает это, и ей стыдно было за этот толчок.
Дай бог, конечно, моему начальнику и коллеге научиться хорошо летать на тяжелом лайнере. Хотя… это очень трудно. Много надо летать. Много думать об этом, и перед полетами, и в полетах, и после. Переживать, не спать ночами, мучительно перебирая в памяти и анализируя свои действия, скрипеть зубами и в душе плакать сухими слезами о своей профессиональной несостоятельности – и бороться с собой.
Словеса.
25.05. Слетал в Краснодар после отпуска. Посадок отличных бог не дал, а так… добротные.
В Оренбурге был хороший ветерок, а машина пустая, 30 пассажиров, задняя центровка, вот и пришлось жать машину к полосе при боковом ветре, и когда ее поставило колом над торцом, трудно было совместить укрощение болтанки и сноса с гашением высоты и скорости таким образом, чтобы все воплотилось в мягкое касание. Машина коснулась не столь мягко, как хотелось бы, и мы запрыгали по стиральной доске оренбургской полосы, где Альянов как-то вообще потерял одно колесо на передней стойке: зарулил, а одного колеса нет. Нашли потом на полосе; ну там старая трещина оси, редкостный случай. Однако же стиральная доска «помогла».
И у Коли не все получалось; особенно не нравится мне его уход из створа оси после дальнего привода – типичная ошибка. А потом, после ВПР уже, лезет на ось, отвлекается от тангажа, и т.д., и т.п.
Так-то он уже хорошо летает, но я все требую и требую лучше. Садит хорошо… но таки сбоку от оси, а на меня тут не угодишь, не терплю, режет. Ты профессионал или где.
В Уфе Коля боролся с боковым ветром, ну, неплохо боролся, а выровнял высоковато, а скорость была с запасцем; повисли, понесло, и стало ясно, что сейчас упадем с боковой нагрузкой на шасси. Я, когда пилотирует Коля, за штурвал не держусь; голосом подсказал: добери же! Ну, добрал, чуть плюхнулись боком, терпимо, перегрузка 1,3. Для проверяющего высокого ранга – неплохо, для рядового второго пилота – удовлетворительная тройка.Позорище.
В Норильске заходил я, в идеальных условиях, на пресловутый пупок с курсом 194. Над торцом успел заметить скорость: 260; выровнял, протянул вдоль пупка хорошим, заметным движением от себя, парируя все ту же заднюю центровку; выждал обычное «раз, два, три», добрал… летит… еще чуть выждал, еще добрал – ну, всё уже! – нет, летит… плюхнулись. Выровнял, значит, на 10 см выше. Центровка помогла. Хоть и протянул, а все же недожал.
Ну, если с высоты 10 см уронить ручные часы, им ничего не будет. Если уронить телевизор – уже чувствительно для него. Если, к примеру, паровоз… А тут самолет, он потяжелее паровоза будет. Конечно, хоть и на мягкие лапы упали, но слышно. Да еще и приподнялась на цыпочках и снова хлопнула пятками по непривычно сухому бетону: в Норильске уже весна, +1, полоса оттаивает.
Домой Коля довез хорошо, мягко сел сбоку от оси, снова упустив створ где-то со 100 метров, за что был дружно выпорот экипажем.
Ну, ладно, разговелись.
Было 12 ночи. Пошли в профилакторий спать до утра. Чтоб добираться ночью домой, нет и речи: мы все боимся. Да и кто развезет с автовокзала. Ладно, переночуем здесь.
Я изорвал кашлем горло; очень надо было бы сделать ингаляцию с эвкалиптом, да попить бы горячего чайку… ну, ладно. И поесть бы тоже не мешало, ибо рейс через Норильск-Уфу только ввели в расписание, мы его открыли, а значит, голодный: Краснодар сказал, что договор еще не заключили, денег не перечислили… как обычно. Так и гнали голодный рейс до дому.
Конечно, в Уфе проглотили в буфете по пирожку, а я даже прорвался в закрывающееся кафе и съел там пару горячих котлет, да купил на экипаж кольцо колбасы и хлеба в дорогу. Перебились.
Уже разделись, как вдруг Алексеича осенило: есть же литр прекрасно разбавленного спирта от зайца…
Ну что ж, с удовольствием. Я быстро организовал пьянку экипажа в профилактории для отдыха летного состава. С устатку. Поскребли по сусекам закусь. Две редиски разрезали пополам, огурец, вареное яйцо, три кусочка хлеба. Прекрасно.
И хряпнули, сперва по полстакана. Оч-чень хорошая штука. Потом еще раз. В груди зажгло. Я лег, а ребята додавили бутылку… сколько там того спирту. Покурили, вырубили свет, и я проснулся около 9 утра, Спал, как в раю, ни разу не кашлянул.
31.05. На днях в резерве пошли на тренажер и стали выполнять обычную программу. Тренажер ли барахлил или же я хворал, но получалось далеко не все. Когда нам отключили три генератора и надо было срочно снижаться и садиться (так уж устроен этот лайнер, что без кулонов может лететь считанные минуты), то, уже в виду полосы, на прямой, я сдуру ткнул ручку выпуска закрылков… а контроля-то по прибору нет, без напряжения 36 вольт стрелки не покажут отклонение… Тут приходится считать время выпуска по секундам, потом ставить рукоятку в нужное положение; я об этом забыл… короче, нас затянуло в пикирование, и мы с грохотом убились.
Ну, это ладно. Тут сработал глупейший стереотип: полоса по курсу – выпускай закрылки. В обычных условиях, при видимости земли, может быть, и хватило бы внимания на то, что нас затягивает, да и вообще на этот усложненный выпуск вручную. Но на тренажере же весь полет – это постоянная борьба с тангажами и вертикальными скоростями. Тут наша совковая наука так и не смогла ничего придумать: чуть дашь от себя – через 5 секунд уже вертикальная чуть не 100 м/сек; возьмешь чуть на себя – через 5 секунд то же, но с обратным знаком. Какие уж тут задачи – удержать бы хоть высоту.
Потом были отказы одного и второго двигателей, заход на третьем, снова борьба за высоту на взлетном режиме… короче, на полосу я попал, но с недолетом, где-то на КПБ сел, меду ближним приводом и торцом. Но выскочил на полосу.
Ладно. Сложно вам – получите задание проще: взлет, на высоте 50 м пожар, стандартный разворот и посадка с обратным курсом.
Это – то же самое, что я еще 7 лет назад выполнял за 2 минуты 47 секунд. Я был к этому готов. И как только после взлета загорелось табло «Пожар», энергично заложил крен 30, и, не успев еще прибрать режим со взлетного до номинала на высоте 200 метров, увидел, что уже отвернул на 80 градусов; тут же перевел в противоположный крен, скорость 300… мы это умеем!
Стрелки радиокомпаса показывали, что мы крутимся где-то в районе дальнего привода, это 4 километра до торца… высоту держать не более 200 метров… так, шасси… что-то полезла вверх, от себя, еще, еще… что за черт…
И началась свистопляска с высотами, с вариометром; почему-то шарик ушел не на полдиаметра-диаметр, а до упора влево; я давил левой ногой, выбирал триммер, не помогало… Шла борьба с машиной, на которой полет с отказом одного двигателя есть нормальный, не отличающийся от обычного полет.
Пересекли линию посадочного курса; я еще пытался учесть, что надо же чуть сбросить высоту, полоса приближается, надо снижаться… но нас тащило влево, и земля подсказала, что мы уже слева 2500 метров, и до торца – столько же; по всем законам – уже не вписаться…
Я держал правый крен 30, но курс полз почему-то медленно; потом вдруг резко упала высота, даже поджались ноги: сейчас зацепим… нет, выдрал, взлетный режим!
Я совсем забыл, что это тренажер. Я летел и боролся за жизнь.
Сработал АУАСП: слишком передрал, критические углы атаки… так, чуть от себя…
И вдруг в стороне забелело пятно: полоса за деревьями! Смутно, расплывчато, как в тумане; и видно, что ухожу в сторону…
Снова падаем, снова выдираю над самой землей… уже нет никаких сил бороться… бросить все… не вышел полет…
Видимо, такая же мысль мелькнула тогда и у покойного Фалькова. По всем законам – всё… Но он боролся до конца.
И тут меня зло взяло. Ну, сука, я тебе покажу. Не по законам? Ладно, не по законам. И я вцепился глазами в полосу, и заложил крен не по законам. Известно же, что на нашем тренажере визуально не зайдешь на полосу, надо только по стрелкам. Но тут я про все забыл: полоса, полоса передо мной, и я – не зайду? Я, летчик, – и не зайду?
Дальше были железные руки и немыслимые зигзаги. И я сумел на высоте 20 метров, едва не цепляя задницей за землю, погасить синусоиду колебаний курса, поймал створ и приложил машину точно на ось. Знай наших!
Не по законам…
Это была борьба за жизнь.
Я вышел из кабины, мокрый с головы до пяток. Лицо горело, жар бил изнутри. Я боролся и победил! Черт возьми, это была победа, хоть и наворочено было ошибок, – но я, может, впервые, почувствовал, как это, когда смерть глядит в глаза и по одному разжимает мне пальцы на штурвале, а я не даюсь, бьюсь и выезжаю на одной злости.
Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного. А ведь это был просто неисправный тренажер, железяка. И задание для меня, старого волка, было – семечки.
Не цифры кренов, курсов, секунд и скоростей я отработал, а борьбу за жизнь на взбесившейся машине. Вот самое важное, что дал мне этот полет.
Алексеич, когда понял, что пожар не погасить, переключился полностью мне на помощь: там где я не успевал уследить за падением скорости, он совал взлетный режим, а как только скорость нарастала, прибирал. Коля не давал мне, в увлечении кренами, выполнить «бочку», придерживал предельные крены и тангажи, чтобы я уж совсем не закувыркался. Филаретыч следил за курсами, высотой и скоростями, вовремя кричал.
Вообще же, в критической ситуации важен тандем: командир-бортинженер. Тут, сидя спина к спине, не видя друг друга, оба должны дополнять действия каждого, веря, что товарищ свое дело делает как положено. И лишнего не болтать: некогда.
А второй пилот и штурман контролируют пространственное положение и навигацию, все нюансы, и должны не забыть о вроде бы второстепенном на этот момент: выпуск шасси; вовремя потерять лишнюю высоту; не разогнать вертикальную; контроль по карте…
Но уж, случись, не дай бог, пожар на взлете, справимся, не дрогнем. Это отработано.
3.06. Слетали в Москву. Везли группу американских туристов, прилетавших в Мирный по делам алмазного бизнеса. Двое из них попросились в кабину. Представились: оба летчики, один США, другой Канада.
Я, на своем, отнюдь не оксфордском инглише предложил коллегам располагаться в пилотской кабине. Они поблагодарили, тот, который помоложе, со свойственной всем американцам деловитостью, вытащил небольшой компьютер, размером с полкниги, подключил провод с какой-то присоской, прилепил ее к верхнему окошку со словами «спутник нэвигейшн», и мы с интересом стали изучать чудо заморской техники.
Этот «Магеллан» аналогичен пресловутой «Омеге», но питается от батареек, абсолютно автономен, хоть в автомобиль ставь, и работает не с радиостанциями, а с пятью геостационарными спутниками.
Машинка выдала нам все координаты, Филаретыч быстро разобрался, что к чему, и мы весь полет ее использовали.
Я же, сам поражаясь всплывшему вдруг из глубин памяти своему скверному английскому, как-то сумел вести если не светский, то на бытовом уровне разговор.
Коллега мой, из Штатов, капитан Боинга-727, пожилой уже, летает 40 (сорок!) лет. Как он выразился, взглянув на часы, вот только что, 1 июня, исполнилось ровно 40, и прибавил с улыбкой: «и 15 минут». Ну, я перевел мужикам, и мы его поздравили.
Налетал он за эти 40 лет 14600 часов, у него записано на бумажке; видимо, об этом же говорили с предыдущим экипажем, который вез их с Мирного. Ну, летал на «Дугласах», и «Локхидах», и «Беллах», много типов. Мы тоже рассказали, кто на чем, и т.п.
Я расспросил его о Боинге-727, основные данные, ведь машины наши очень похожи. Но… у него 110 тонн против наших 100; а скорость на глиссаде… перевели узлы в километры… 225 против наших 260; а дальность 5000 км против 3500 у нас; а расход 4500 против наших 6000 кг/час; и т.д. Ну, летчики и на пальцах поймут друг друга.
Зашел разговор о зарплате. У них – от 100 000 долларов в год до 250 000 на различных типах. Работа такая же, как и у нас, те же 700 часов в год, те же 90 в летние месяцы, те же 40 посадок в месяц.
Я же говорю: мы все – братья, все делаем одно дело, одинаково трудное и ответственное. Но… он сколотил состояние, может туристом запросто прилететь к нам и попутно вложить деньги в наши алмазы. А у меня… подсчитали: по нынешнему курсу… 800 долларов в год. Он спросил: почему? Я пожал плечами и ответил: Soviet Union.
А что я ему скажу. Страна нищих.
Спросили, летаю ли я за рубеж или только в пределах страны. Ну, я ответил, что, мол, видите же, в какой степени владею английским, а мне под 50, летной жизни-то года два осталось… поздно.
Да и заработки у нас только в Иране, месяцами в командировках; жару я не переношу, от семьи отрываться не хочу ради тех несчастных долларов, а здоровье угроблю; и так медкомиссию с трудом прохожу, астму от докторов скрываю…
Я об этом им, конечно, не сказал. Но с первым объяснением они согласились: в 50 лет – поздно.
А почему же так слабо с английским? Да, говорю, потому, что наши коммунистические учителя в детстве нам вдалбливали, что весь мир в будущем должен разговаривать на русском, потому что им разговаривал Ленин… Они вежливо посмеялись. Ну, особо не посмеешься, глядя из своего сытого окна на ободранную бездомную кошку, с оглядкой роющуюся на помойке. Жалко же, ведь тоже живое существо…
Принесли жратву. Я снова извинился за наше совковое меню, за вторую свежесть… Хорошо хоть икру дали… однако они ее есть не стали. Мы же свою уплели с удовольствием. А они без масла ее не едят.
Короче, комплекс неполноценности давил меня изнутри. И хоть я такой же капитан, хоть за 26 лет налетал больше, чем он за свои 40, хоть и капитаном я 11 лет, что их прямо поразило… а призрак драного «Москвича» стоял перед глазами. Глядя на стайки цифр, скачущих по крохотному экрану заморской игрушки, которая стоит те самые 850 долларов, за которые мне бы вкалывать год, – я явственно ощущал, что я – нищий, да еще и обдуренный, облапошенный верными ленинцами.
Ну, бог с ним. Довезли мы их до Москвы, я постарался, посадил прилично, расстались с самыми добрыми пожеланиями.
Дома я рассказал своим, так бросили и телевизор, сбежались слушать: интересно же. Всех, и меня самого, поразило, что я смог беседовать с американцами на их языке, пусть там еле-еле, но смог. И экипаж, и проводники, и моя семья, – удивились.
А они тоже дома соберутся с семьей и расскажут о России, о просторах и потенциале, о возможностях… ну, и о встречах с коллегами, нищими российскими летчиками, которые удивляются компьютеру, а умеют летать на палочках-веревочках, и не хуже.
И еще я осознал, как важно знать язык, а годы ушли… эх, дурак, болван. На фортепьянах сам выучился, а элементарный инглиш, хотя бы на бытовом уровне, не освоил. Варился в собственном соку, не было нужды, как ее не было у Сталина, Брежнева и иже с ними. А сынков-то пристроили в английские школы, поняли на старости-то.
Вот и я на старости понял, и надо долбить детей, чтоб совершенствовались, чтоб могли свободно говорить на английском. Все-таки этот язык, а не русский, является языком международного общения.
Из Москвы задание у нас было напрямую на Мирный, а оттуда уже – на Красноярск. Ну, слетали, ночь отдыха; прилетели из Мирного домой в 6 утра, а в 12 уже стоим в плане на тот же Мирный. Ну, не резерву же отдавать: поспали в профилактории 4 часа и слетали еще разок в Мирный, уже по другому заданию на полет.
Двух одинаковых полетов не бывает; через каких-то восемь часов обстановка в Мирном была совсем не та, что ночью. Тогда было тихо, спокойно, садился Коля; сейчас же дул ветерок, была болтанка, особенно вблизи пресловутой ямы, трубки Мира, через которую мы садились (а дна не видно, так она глубока); ну, я покорячился, но прилично сел.
Остальные полеты все отдал Коле: ему на днях проверяться на первый класс. Так ось у него и гуляет, он замечает отклонение слишком, по моему понятию, поздно, потом до торца борется, а последнее исправление делает уже на выравнивании и даже на выдерживании.
Вчера его потащило уже на метре, слышу, сует ногу, я зажал педали, не дал. Сели, я ему еще раз объяснил.
Если бы мне его проверять на классность, то я его классным пилотом пока не назвал бы. Летает на «хор». Но наши условные классы дают большую прибавку к зарплате, а все мы люди… Пускай попытается сдать, проверяющим будет наш новый командир отряда, может, у него требования не столь высоки. А мы потом еще полетаем, и я попытаюсь вложить в человека весь свой опыт. Вижу, что он уже может летать сам, т.е. мне нет нужды с ним держаться за штурвал.
Теперь предстоит дело самое скучное: шлифовка. А уж на вводе в строй – полировка. Ну, это так Солодун и Репин считают. И я, сирый, тоже не отступаю от этих принципов. Зато потом спросят, с кем летал, и он ответит, что с Ершовым. Я тщеславен.
10.06. Давно не был в Полярном; ну, побывал. Там полоса ямой, выровнял у знаков, чуть выдержал, добрал – летит… Короче, долго летели. Пока яма не кончилась.
На пупок надо уметь сажать, а на яму, само собой, тоже. Тут надо давить от себя смелее. Центровка, конечно, задняя, пассажиров в ту сторону летом нет, загрузка вся оттуда… но главное: я про ту яму просто забыл. Я там до этого и был-то три раза всего, еще вторым пилотом.
Большую часть полетов отдаю Коле. Даю рулить на машинах с ножным управлением передней ногой. Ну, сыровато, особенно с газами, с чутьем импульса тяги, со скоростями руления и разворота… ну, все еще впереди.
А по штурманской части работают с Витей хорошо. Возятся с «Квитком», с НВУ, с картами… Пускай новое поколение будет грамотнее нас.
Слетали в Москву; нам ее втиснули из-за нехватки экипажей, которые сидят в Сочи отсутствием топлива уже неделю (мне бы там посидеть…). А по прилету домой мы уже стояли через 6 часов в плане на Краснодар. Ну, поспали в профилактории и… задержка до вечера. Рейс из-за отсутствия загрузки в Оренбурге сделали прямым, нужна дальнобойная «эмка», а ее на базе не оказалось. Пришлось ждать.
Пришла «эмка»: замечание по РСБН. Техмоща поковырялась, отписалась и тихо слиняла в пересмену, ну а мы сели и полетели. В Краснодаре заход с прямой, я спокойно рассчитал снижение и как всегда показывал, как это делается. За 30 км высота была 1200, скорость где-то 450; все было прекрасно… но почему-то шли выше глиссады. Обычно, если чуть выше глиссады, то уж до высоты круга, постепенно выпуская шасси и закрылки, гасишь и гасишь скорость на малом газе и всегда успеваешь догнать перед официальной точкой входа в глиссаду, еще чуть идешь в горизонте, потом довыпускаешь закрылки на 45. А тут не получалось. Я заранее, не за 16, а за 25 км, выпустил шасси, закрылки… нет, глиссада уходила вниз. Что за черт?
И только когда из дымки впереди выползла полоса и стало видно, что да, высоковато, да какое там – высоко идем-то, тогда стало ясно, что «Михаил» врет, что дальность не 12 км, как он нам давал, а где-то всего 7, уже надо снижаться по 10 м/сек… и Коля вдруг доложил: да вот же домик дальнего привода под носом, а высота 400…
Ну, тут прыгать надо. Малый газ, дожал; сработала ССОС: опасное, слишком резкое снижение вблизи земли! Ну, до дальней только-только сумел догнать глиссаду на малом газе, а карту читали уже вдогонку запросу о посадке: если не успел запросить до дальнего привода – угонят.
Так, на неподобранном режиме, суча газами до земли, я и плюхнулся на полосу, не долетев 50 м до знаков. Спешка.
Это все я позволил себе лишь только потому, что погода была идеальная, визуальный контроль. Ну не уходить же на второй круг из-за ничего, из-за РСБН, при видимости 20 км.
Конечно, приборам надо доверять. И людям тоже. Я еще этим жучкам-рэсосникам сказал тогда: рассчитываю на ваш профессионализм. Ага, рассчитывал.
Конечно, если бы в сложняке, то даже и думать нечего: раз глиссада внизу, а уже дальний привод, то что ж… не вышел заход, уходи. Уходи! Никто не осудит, тем более что прибор отказал.
Но! Кто ж нам помешал, в сомнениях, запросить хотя бы раз удаление? Тем более, зная, что было замечание по работе РСБН, именно по каналу дальности.
Правда, на маршруте «Михаил» выдавал дальность, в общем, точно, и кто же знал, что он, подлюга, врет на 5 километров? На эшелоне это не заметно, да и не так важно, а вот вблизи полосы – принципиально. Усыпил бдительность.
Вот так летаешь, летаешь, 26 лет уже, а на мякине провели. Тьфу.
Урок на будущее: проверять работу РСБН запросом дальности у диспетчера обязательно.
Пока мы ждали дома «эмку», меня вызвал на беседу командир отряда. Ну, как всегда, мною затыкают дырку. Нам доверено возить швейцарских туристов по стране. Шереметьево, Норильск, Петербург, Иркутск. Персональная машина, бригада проводников, обученная французскому, немецкому и английскому; всегда по расписанию, всегда с топливом, 25 рейсов, 200 часов, до октября. Ну, чековая книжка, реквизиты и т.п. бухгалтерские тонкости, в которых я ноль; ну, провезут, покажут, объяснят.
Оно, конечно, неплохо, с персональным самолетом и по расписанию, без нервов. Но… каждый вылет в 7 утра, а значит, заезжать с вечера. Я оговорил, чтоб хоть в резервы не ставили нас: мало мы валяемся на этих койках.
Рейсы эти мелкие, этим летом будет саннорма, но – с огромным количеством посадок. Что ж, не все коту масленица. Отдохнули – и будя.
Я берегу здоровье, внаглую отключаясь в полете: снимаю наушники и чего-нибудь рисую в своей тетрадке, большею частью, слесарные задачи. Время тогда летит быстро, глядишь, уже пора снижаться. Работает Коля: ему в охотку, пришла его пора, вошел во вкус. Это уже не позапрошлым летом, когда в грозу забыл шасси убрать на взлете. Сейчас Коля Евдокимов – грамотный, умелый второй пилот, в самом соку, в расцвете здоровья и молодости. Моя правая рука, смена.
Ну а Витя пашет, как старый конь, и я ему полностью доверяю. Проверено: он обладает исключительным чувством ответственности.
Алексеич за спиной тоже: то читает, то что-то изобретает в уме, с нетерпением ожидая свободного дня, когда на кухонном подоконнике возьмется за напильник.
Ну, ворчат, как же без этого. Ну, курят. Семья. Старейший, сбитый-спаянный экипаж.
Корреспондент в газетенке таки о нас пропечатал. И Митрича вспомнил: мол, признанный мастер мягких посадок. Справедливо. Я газетенку случайно в самолете нашел, ну, привез домой, пусть мои почитают.
Скоро, значится, меня выпорют, уж такая примета.
29.06. Ребята тут описывали прелести полетов в Иране. Горы, грозы, болтанка, туманы, отсутствие радиолокационного контроля; аэропортов у них, имеющих системы захода, только три; когда синоптик прогнозирует 4 балла кучевки, никто кроме русских решения на вылет не принимает. Хорошие русские летчики: за так, задарма, за 1500 долларов в месяц… а летают здорово.
Не знаю. Нет во мне той лихой ухватистости. Я там не уверен. Как ребята там работают, какой стимул, какие экипажи…
Моя уверенность в себе зиждется и на собственном опыте, и на коллективном опыте моих учителей, и на опыте экипажа, и на локте товарища и теплой спине, и на том, что внизу родная земля и русские люди. При чем тут земля, я не знаю, но – при том.
Ну просто трус и лентяй. Оговорки. А вот полтора миллиона в месяц…
Каждый выбирает свой путь. Я пошел дорогой постижения глубинных нюансов мастерства. Кому-то же достаточно просто набитой руки для добычи материальных благ. Он использует самолет для достижения каких-то материальных целей, а я к ним, к целям, почти равнодушен, но глубоко неравнодушен к собственно Мастерству. Ну, казните меня за это. Ну, интеллигент я в полетах. Ну, не пришло еще время оценивать тонкости; пока «привуалировают» рабочие посадки и рвачество. Страна у нас такая, и такая психология.
Раньше я дописал бы: «Может, я не прав…»
Но нет. Теперь я твердо знаю, что прав – я, что судьба любой профессии все-таки в руках Мастеров, что рабочее отношение к Делу есть профанация, размывание критериев и неизбежный приход к совковому, усреднено-низменному, колхозному стандарту, к тройке. Да что далеко ходить – целая несчастная моя страна тому пример.
30.06.Жизнь так прекрасна, а смерть так внезапна, жестока и неумолима; она не спрашивает, успел ты или не догнал, добился или не достиг, оставил след или исчез из памяти, – она молча забирает человека, озадачив этими вопросами живых.
Кому нужен мой профессионализм, кроме самого меня?
Я отдаю себе отчет в том, что меня судят те, кто летал со мной, – судят мое умение, характер, поведение, дают оценку всем качествам. После смерти мне будет все равно, но сейчас – нет.
«Memento mori»… Сейчас я ревниво слежу, как бы не обгадиться перед людьми, а уж если пущу пузыря – достойно снести позор. Пусть молодые учатся и этому. Думаю, я не дам повода к презрительно процеженному сквозь зубы нелестному слову. Стараюсь не обидеть человека. Ну, помогу, чем умею. Оторву от себя. Только вот кто это оценит. Да какая, собственно, разница.
Жизнь тем и хороша, что я ощущаю себя звеном в цепочке, нужным звеном, а не пустым местом.
18.07. Эту неделю убили на иркутское колесо. То стояла жара, а тут долгожданные фронты опустились с севера, и первый Иркутск чуть накрыло облачками. На другой день в Москве уже всерьез мерзли: там дожди; ну, напитались холодом. И дома резко похолодало: до +10 утром. Вся природа вздохнула полной грудью.
Наши бедные туристы, вкусив прелестей сибирской жары (а доходило до +38), резко изменили свое представление о Сибири как о крае холода. Ну, сибиряк-то жары не боится, а европейцам было тяжеловато.
Зато новая группа попала в рай и осталась очень довольной поездкой на Байкал. Однако же Иркутск, один из самых наших бардачных аэропортов, задержал трап на 35 минут, и одна пассажирка, которую черт понес сюда с двумя малыми детьми, всердцах сказала что-то вроде: знала бы – век бы сюда не совалась.
Им наш ненавязчивый сервис непонятен. Я видел, как через одну спотыкались женщины, поднимаясь в наш чудовищный, львовского завода, ископаемый автобус: такой высоты ступеньки явно сконструированы в расчете на грязь по колено и резиновые чеботы.
Второй Иркутск – уже по холодку. Предупредили нас, что там нет топлива. А его нигде нет. Ну, пришлось заправить сразу и на обратный путь. Да с вечера мы еще оставили заначку, тонны две; короче, превысили прилично посадочную массу, а куда денешься.
Ну, пилоту первого класса Николаю Евдокимову и карты в руки: в Иркутске крутая глиссада, низкое давление, да вот еще и посадочный вес больше 80 тонн, и ветерок на посадке попутный. Решай задачу.
Коля сделал все как надо, но… после ВПР пошел ниже глиссады, как и положено, чтоб же не перелететь с попутником, да уехал на точку ниже, и торец проходил, хоть и на хорошей скорости, 280, но – уже деря нос на себя. Не спеша убрал режим до 80, машина замерла, малый газ – плюх, плюх, плюх… Она же не летит с такой массой и задранным носом. Ну, где-то 1,3. Надо было так и садиться на газу, ну, не на 80, а на 78.
А сзади же сидел турист, инструктор на легких самолетах, типа «Цессны», но все равно, свой брат-летчик. Только ж хвалил за вчерашнюю посадку… Ну, обгадились. Пришлось дома мне реабилитироваться. Ну, сумел.
Надо сказать, во всех полетах после посадки пассажиры благодарят экипаж аплодисментами. У них, на Западе, так принято. Нам, конечно, приятно. И понятно: там умеют ценить мастерство. Но за такую посадку при аплодисментах становится стыдно.
Вообще же все посадки у нас с туристами образцовые. Стараемся: тут оценят.
Наши – нет, наши не хлопают. Троечник считает, что любая посадка – рабочая; живы – и ладно. Пилотам за это деньги плотют.
А нам проводницы прямо подчеркивают: ну, ребята, сегодня вам и хлопали…
Что ж, приятно, черт возьми.
Коля, пока мы стояли в Шереметьеве, съездил в департамент и сдал на первый класс. Сейчас это делается просто и делово. Налажена четкая система передачи по наследству: последующие знают от предыдущих, на кого выходить; такса – ящик водки, можно наличными, по рыночной цене… Ну, предварительно созваниваются.
Короче, сдал, и ладно. Мое же дело сейчас – шлифовка новоявленного первоклассника. Когда в разговорах проводницы спросили меня, почему я не учу английский и не рвусь за рубеж, их бригадир, или инструктор, Лена, сказала: «Василий Васильевич учит летать вторых пилотов».
А учить английский поздновато. И хоть самолюбие и страдает, но еще больше оно будет страдать, если второй пилот где-то пустит пузыря, а спросят, с кем летал… Тут я ревниво самолюбив. Моя фирма – это качество. Вкладываю в Колю опыт – мой будущий моральный капитал, мой авторитет. С кем летал? С Ершовым. А-а, ясно.
Кое-кому напрочь непонятно, что я озабочен какими-то учениками, когда надо рвать.
Новые штурман и бортинженер. Приглядываются. Ну, я своих взглядов не меняю и откровенно делюсь с ними: насчет роли командира, насчет воспитания, профессионализма, доверия, школы и пр.
Гена Шестаков взлетел в Ташкенте, не убралась передняя нога; ну, с выпущенными шасси долетел до дому, прошел над стартом, визуально проверили: нога развернута влево. Делать нечего: зашел и сел. Как у нас пены нет, то никто и не удосужился ничего сделать, хотя бы полить полосу водой. Сели, держали-держали ногу, но все же она опустилась, их выбросило на грунт; остановились в 10 метрах от бетонного забора.. Ну, обошлось. Экипаж простили.
30.07. Летаем себе. Я отдаю все Коле, он старается, он справляется, он мотается, обретает уверенность и ради Христа просит, чтоб я его никому не отдавал.
Конечно, любой второй пилот мечтал бы о такой работе: Коля делает все то, что должен делать командир, вплоть до принятия решения на вылет, ну, под моим контролем.
Я ж говорю: ко мне в экипаж просятся, и всегда будут проситься. Ибо здесь человек остается человеком, к нему относятся, как к сыну, и работа здесь идет именно так, как она должна идти в цивилизованном обществе. На, бери, работай, принимай решения, раскрывайся, расцветай. Может, когда-нибудь вспомнишь меня и дернешь стопку. Школа Солодуна живет.
Я же только иногда, разик, прошу у Коли штурвал, с удовольствием выполняю полет, показываю, как надо, чтоб сравнивал, чтоб стремился летать лучше меня. Объясняю, как делал. Если были ошибочки, обращаю его внимание, что вот там-то и там-то я пустил пузыря. Надо было делать так-то и так-то. Исправлял таким вот и таким образом. На будущее надо учесть то-то и то-то.
Без ложной гордости. Без боязни уронить свой авторитет. Главное – Дело, а я ему служу честно. Чего пыжиться.
Это все прописные истины. Да вот следовать им – слаб человек! – не всем удается. Мне же только и приходится преодолевать в себе жадность человеческую к полетам: хватал бы и хватал тот штурвал.
Но Коле хочется больше.
Из него получится хороший, надежный командир, и дай его мне на ввод, я только подстрахую справа. Готовый командир; иных выпускают похуже. Хорошо, надежно летает, пилотирует, думает. Теперь наступает время решения задач.
А безвременье наше губит таланты, душит в очередях. Командиры сейчас не нужны.
Саша Чекин, мой первый ученик, пролетал первый год, без замечаний, освоился, окреп. Ну что тут скажешь: кто вводил? Ершов. Школа Солодуна.
2.08. Иркутск. Льет дождь; наши туристы вкушают удовольствия на Байкале, а мы валяемся на креслах в самолете.
Эту ночь коротали на продавленных койках в профилактории, не выспались. Подняли нас на вылет на полтора часа позже – уж так сработали службы; пришлось подсуетиться. Приехала за нами машина и возила от столовой в санчасть, потом в АДП, потом на самолет, где нас уже минут двадцать дожидались пассажиры. Мы прошли салоном в кабину, бормоча направо и налево «гут морген»; нас встретили ироническими аплодисментами и вопросом «Кэптен слип?» Ага. Попробовали бы вы «слип» на наших койках.
В Иркутск вез я; взлетал в дожде и садился в дожде, аккуратно выровнял, слушая отсчет штурмана «метр, метр, метр», а сам вижу, что чуть, самую малость, взмыл и завис, завис… а знаки уплывают, уплывают… но надо выдержать секунды. Хорошо подхватил, и мягко покатились с задранным носом. Ну, уж тут-то я аплодисменты заслужил.
Назад вез Коля, в дожде садился, точно так же, как и я: выровнял на метре и завис, потом чуть стал отдаляться от земли; я подсказал, он подхватил, но чуть поздно, скорость упала, плюхнулся на левое колесо.
Может «помог» включенный на малую скорость дворник. Я для себя по-фраерски поставил малую скорость дворника, мол мне, мастеру, и так все видно; Коля скопировал… и напрасно. Надо не фраериться, а гарантировать себя от возможного усиления дождя перед торцом. Может, слабо сбиваемый со стекла дождь и помешал.
Во всем виноват капитан, инструктор; надо думать наперед.
Ну, заход с прямой Коля производил сам, активно работал интерцепторами (снижаться равномерно мешали встречные борты), считал, и вышел-таки в точку входа в глиссаду на малом газе, молодец.
Накануне вечером к нам в нумера заскочил Леша Бабаев; ну, зацепились языками. И резко стала видна разница: обнищавший, бьющийся о жизнь пенсионер – и зажравшийся, имущийлетчик летающий.
Леша очень интересуется политикой; я на нее плюю.
Держись, держись, Вася, за работу.
4.08. Виталик П. снес три колеса, причем, полопались они на рулении после посадки, громко; ну, остановились, тихонько отбуксировались. Кто ж его знает отчего. Мы дома на посадке вообще не тормозим, полоса-то 3700; ну, чуть-чуть притормаживаем, со 180-160, перед выключением реверса, чтоб не прыгнула.
Предположить можно только, что тормоз был чуть нажат в то время, когда колеса после касания на секунду отошли от земли: пилот в этот момент ногой разворачивал машину по оси и, возможно, давая ногу, непроизвольно чуть нажал тормоз. Или если старая машина, где нет блокировки, как тогда у меня в Сочи. Либо (я не знаю) если блокировка работает от обжатия концевика на одной стойке, а она как раз в этот момент отделилась; так бывает при посадке «на три точки поодиночке»; ну, Виталику виднее. А проверяющим с ним был Пиляев. А в общем, П. летает нормально.
11.08.Как рушатся незыблемые понятия. Ну кто бы усомнился в том, что нельзя работать лучше и надежнее, чем Сочинский аэропорт, где 364 с половиной дня в году погода звенит.
Мы помним туманные задержки в Москве, когда десятки тысяч пассажиров вытаптывали в конце августа весь лес в округе, ожидая погоды. И затоки тумана с моря в Магадане и Владивостоке. И морозные туманы в Якутске. И вечную нехватку топлива в Казани. Ну, Норильск… тут все ясно: полгода закрыт.
Но Сочи! Рейс в Сочи всегда был поощрением, наградой, отдыхом, уделом блатных. Полет в Сочи – железный.
А теперь там вечно нет топлива, закрывается на несколько суток и т.д. Ну, и теперь туда ставят, естественно, Ершова и ему подобных. А особы приближенные летают в Мирный и Полярный: там топлива завезено давно и много; там оч-чень дорогая водка, и особы приближенные возят ее туда ящиками. Все правильно.
Ну, я ж просил юг. Полетели. Через Норильск.
Коля тренировался в посадке на пупок; ну, протянул вдоль пупка чуть сильнее чем необходимо и впилился в него: 1,3. Зато прочувствовал темп этого протягивания.
Машина с ножным управлением ногой; ну, учились рулить.
Из Норильска полно народу на юг. Запустились. И тут руление передало: пришла РД из Сочи, что аэропорт закрыт отсутствием мест стоянок и ГСМ. Ваше решение?
Что тут решать. Ну не оставаться же в Норильске. Тут и гостиница дорогая, и питание еще дороже, и сколько дней сидеть, неизвестно, и денег ребята прихватили с собой не густо, и компенсируют-то нам питание по 450 р. в день, а в Норильске это обойдется по 5000. Да и вообще, мы в Сочи летим или куда? Пошли они все, козлы… Вперед!
В Уфе никто ничего не знал. Ребята подталкивали меня: мол, давай втихаря вылетим, а там прорвемся.
Но так не делается. Присадят в Краснодаре, а потом выбивай гарантии, что предприятие оплатит заправку и обслугу, а цены там только чуть ниже, чем в Норильске.
Я стал добиваться – и нашли в АДП аналогичную РД о закрытии Сочи. Ну, давай созваниваться с Сочами. Связь отвратительная, но я понял, что нас ни в какую не принимают. Официальный срок закрытия кончался через пару часов, потом следовало ожидать новую РД, с новым сроком, и по нему давать задержку нашему рейсу.
Попытались подремать в самолете, ну, бесполезно.
Короче, семь часов я на ногах добивался, созванивался, уговаривал и занимался тем, чем должны заниматься производственные службы предприятий… которым лететь не надо, а надо – мне.
Залили мы топлива с явным превышением посадочной массы, тонн на пять; ну, это мелочи. Получался остаток в Сочи тонн 17, этого с лихвой хватит долететь от Сочи до первого пункта дозаправки: хоть до Краснодара, хоть до Ростова, хоть до самого Волгограда. Только вот кто согласится заправлять – не меня, а тот экипаж, который погонит рейс назад.
Я связался с нашим емельяновским ПДСП, с трудом понял, что они по своим каналам будут добиваться дозаправки в Краснодаре, дадут гарантии оплаты. Короче, сочинили мы РД в Сочи: принимаете ли рейс без заправки у вас? Ответ пришел радостный: конечно принимаем! А ведь час назад они вообще передавали, что информация о судьбе нашего рейса будет не ранее чем через двое суток.
Ну, с персональным разрешением в руках, мы вылетели. Уфа выталкивала нас, и вот по какой причине. Через два часа должен был вылетать на Сочи уфимский Ту-134; его решили отменить, и если бы их пассажиры услышали по информации, что производится посадка на наш рейс, а их рейс отменяется…
Ну, выпихнули нас.
Ростов нас стал бомбить по радио: кто, да куда, а вы знаете, что Сочи закрыт, а сколько у вас топлива, а запасной? И Краснодар так же долбил и принуждал сесть у него. И подход Сочи тоже пихал нас в Краснодар. А тут грозы, надо вертеться; ну, отбрыкались.
Сел я в Сочи, срулил с полосы… железный ряд… ну, одна стоянка еще была свободна, зарулили.
В ПДСП дядя накинулся на нас: вы обманом прилетели, вы ответите, вы на чемоданах будете сидеть, пока эстафетный экипаж не улетит… куда, с таким остатком…
Щас. Пошел ты. Козел. Вот это я, пилот, продравшийся только что сквозь грозы, после восемнадцати часов ночной работы и нервотрепки, буду с тобой вообще разговаривать. Кинул ему на стол его же радиограмму о нашем приеме: решай свои проблемы сам. А то попривыкали: в Сочи четкая работа. Вот и работай в сбойной ситуации, принимай решения, набивай руку.
А воскресенье же. Начальства нет, решать некому. А на себя брать человек не приучен и не умеет: всю жизнь по расписанию, конвейер…
И я прошел мимо него.
Профилакторий был забит. Мы – уже третий экипаж на очереди; за нами прямым рейсом пришел из Красноярска четвертый, Боря Покатило, его тоже не предупредили, вернее, сказали: топлива там нет, но все летают, лети и ты. Ну, прилетел.
Забегали экипажи. Пока искали на пляже Татарова, Голощапов от меня узнал обстановку. Совместно решили: надо слить остаток топлива с «эмки» Бори Покатило, дозаправить нашу «бешку», 184-ю, хватит до Уфы; вот и пусть Татаров, первый на очереди, летит норильским рейсом.
Уперлась служба ГСМ: это ж надо работать, сливать, заливать, анализы и пр. А думали же в воскресенье, да при отсутствии топлива, посачковать.
Мотался-мотался примчавшийся с пляжа, весь в мыле, Татаров, плюнул и отказался.Не царево дело бегать, выбивать топливо, если службы не хотят.
Не стали мы дожидаться, когда нам Татаров освободит свои нумера, оставили у него свое барахло и поехали на море. Попили пивка, окунулись… и жизнь затеплилась в уставших, измордованных бессонной ночью, работой, нервотрепкой и влажной сочинской духотой наших организмах. Да вечером еще пивка, да шашлык…
В благостном настроении ползли в сумерках в профилакторий… а … утрясется… И точно: уже по рыночку мотался с коробками, весь в поту, Татаров, загребал сливы и помидоры. Все же его заправили, слили топливо из 708-й. Все же раскачались службы.
И мы пошли в освободившиеся комнаты и упали на кровати после теплого душа. Все-таки прорвались в Сочи, лежим в нумерах, со всеми совковыми удобствами, с хреновеньким, но бесплатным харчем, у моря… Да гори оно все синим ог…И – вырубился до утра.
А экипаж Покатило все ждал своей очереди на размещение. Как-то, с помощью ОМОНа, прошерстили один этаж, разогнали всяких блатных грузин и выбили экипажу и проводницам одну комнату, где вповалку, ребята на пружинах, а девчата на матрацах, кто на балконе, кто на полу, забылись тяжелым сном.
Черт его знает: восьмиэтажный корпус профилактория забит всякой швалью, а экипажам, для кого он и построен, места там нет. А пьянь слышна за версту.
Утром сходили на море, но подошедший холодный фронт с ливнем разогнал всех, едва окунулись. Вернулись назад, узнали обстановку: прилетел прямым рейсом Цой, топливо будет к вечеру, и то, первая партия. Три наших машины и четыре экипажа готовы.
Вечером залетали самолеты. Подняли Голощапова, ушел. Боря Покатило извиняющимся тоном уточнял, что если вдруг ночью придет еще рейс, то чтобы летел я, а он же за мной в очереди, а то он ту ночь не спал, вторая подряд, тяжело.
Да-да, конечно. Только вот моих двоих членов с пляжа нету, если что, все-таки будь готов, подстрахуй.
И тут меня подняли на вылет. А ребят нету. Пришлось лететь Боре. Обидно им: за фруктами же летели; ну, передали они нам свои заказы насчет фруктов. Конечно, конечно, возьмем. Извините, ребята.
Покатило улетел, тут заявились мои ребята. Они с пляжа звонили в АДП, им сказали, что отбой до утра, но душа не на месте, вот, на всякий случай пришли. Откуда только взялся этот неожиданный рейс?
Ладно, поспали хоть до утра. Выспавшись, стали готовиться к затариванию: своё плюс заказы того экипажа. Я позвонил в ПДСП, мне не смогли сказать ничего определенного. Хотел было уже простирнуть свою форменную рубашку (сменку сдуру с собой не взял – Сочи же), а потом подумал: не делай глупости, дотерпи. И через пять минут меня вызвали к телефону. Ну, туда-сюда… есть ли у вас чековая книжка… Нету? Ну… подходите в АДП… может, полетите…
Я возмутился, связался с АДП и потребовал, чтобы нас или оставили в покое, или официально подняли на вылет и назначили точное время. Ну, добился. На 11.00. Поднял экипаж. Сгребли рынок. Пошли косяком пассажиры, чтобы подписал билет на приставное, как всегда…
Оказалось, пассажиров всего 90, да 3 тонны груза.
Домой добрались за 5 часов. Коля вез; Саша, штурман, что-то хворал, и Коля прекрасно справлялся и за себя, и за него. Залезли на 11100, выше гроз, и через два циклона, по трясучей дороге, Коля довез и мастерски, по-бабаевски, притер машину. Специалист, язви его.
16.08. Тринадцатого, в пятницу, был дневной Владивосток с разворотом. С раннего утра меня предупредили, что с топливом проблемы, будет задержечка, часика на полтора-два. Ну, ясно: дай бог в полдень взлететь. Взял машину, чтобы было на чем ночью возвратиться домой.
И точно: где-то к полудню взмыли, начался отдых. Лезли через циклоны, трясло, барахлил локатор, пришлось на «эмке» лезть на 11100, но все это – мелочи. Главное: экипаж в полном составе, ибо вышел из отпуска наш Засушенный Геракл (так мы втихаря обзываем Филаретыча за субтильную фигуру и явно не соответствующие ей гонор и нахрап). А раз мой Витя на месте, то – довезет, тем более, штурман-проверяющий на борту, довезут; я занялся рисованием своих чертежей.
На снижении во Владике влезли в свору мелких грозушек, продирались по локатору, а их становилось все гуще и гуще, особенно на посадочной прямой, за 20 км до торца, аккурат перед 4-м разворотом.
Диспетчер забеспокоился, зайдем ли мы с прямой. Удаление было 27, боковое – правее 12, какой уж тут заход с прямой. Витя было заикнулся, что, мол, успеем, вот сейчас влево под 90…
Я мгновенно представил себе спешку, суетню в сужающемся клине; где-то за горизонтом памяти мелькнула недавняя Игарка…
Стоп, ребята, зачем нам это? Выйдем на привод, построим коробочку… Тут диспетчер добавил: «третий чуть пораньше, да? перед горушкой?» Да, да, куда спешить, нам ведь за часы платят.
Значит так. Строим схему. Коля осуществляет чистое пилотирование. Витя с проверяющим Колей Филипповичем контролируют параметры коробочки и безопасные высоты. Я осуществляю общий контроль и принятие решений. Алексеич прикрывает спину, как всегда.
Во-первых, у нас высота уже 1200; надо набрать 1400, высоту круга. Во-вторых, где-то тут, как раз под нами, горушка, отгороженная на карте ограничительным пеленгом, она стережет… а мы ученые, и диспетчер о ней вовремя предупредил, молодец.
Пошла работа. Дождь лупил в окна, ребята поглядывали в локатор, перестраивали забарахлившее НВУ; Коля крутил, я краем глаза следил по своему локатору за засветками, краем другого глаза – за режимом двигателей и скоростями, безукоризненно выдерживаемыми Колей, а краем третьего глаза – за стрелкой АРК: должен бытьь сейчас пролет привода… так, курс… угол выхода большой, проскочим створ… вот пролет, крен 25 вправо…. Так, давай шасси!Как боковое? Поправка в курс… ага, засветка между 3-м и 4-м, так… радиальное удаление? ага: 21, поехали третий…. Так, вот и диспетчер подсказал… курс к 4-му, боковое 10, успеем… не снижаться пока… так, ограничительный пеленг… прошли горушку? Снижаемся до 750… скорость 370, пора закрылки на 28… закрылки выпускаются синхронно… дождь врезал по стеклам, как там засветка, прошли? Снижаемся, глиссада…. Боковое… пора четвертый… курс отшкалился, ага, вписались… гасим скорость… закрылки 45, фары, карту…
Между этими отрывочными контрольными мыслями железно светилась одна: ну, экипаж, ну, механизм… молодцы… так, так, ну, отлично, ну – все как учили, все на едином дыхании, спокойно, с сухой спиной, от простого к сложному… ай да мы!
Так вот, под мои спокойные похвалы, мы выскочили из-под низких облаков в раннюю дождливую ночь; полоса смутно светилась по курсу, дворники метались по стеклам… Коля подвел ее, родимую, подкрался, подвесил, осторожно убрал режим до 80, потом до 78, потом до малого газа, и, выждав положенные секунды, длинно добрал…
Ну что тут скажешь. Я и сказал. Отличная работа всего экипажа, товар лицом. И зачем бы нам суетиться и пытаться, дергаясь, зайти с той несчастной прямой. Нет, ребята, вот – грамотное решение, вот – спокойная работа, вот – наш опыт и мастерство. Надежность. Это – экипаж Ершова.
А у других что, хуже экипажи? Подумаешь – что особенного. Вышли на привод и зашли по схеме. Тысячи экипажей так делают.
А в Алма-Ате казанский «туполенок» врубился в гору. А в Иванове упал до полосы. И сколько таких примеров. Суета сует – и полон рот земли…
Мой экипаж должен работать надежно, тогда мне, капитану, легко будет принимать грамотное решение. И в этом – весь смысл моей работы. Безопасность полетов.
Обратно летел я, то есть, оторвал машину и включил автопилот. Всю ночь мы тряслись на эшелоне; экипаж подремывал, а мы с Филаретычем сидели молча, задумавшись каждый о своем. Ночь шла.
Снижался я с прямой, на пределе пределов, догнал глиссаду и довыпустил закрылки на высоте 450 м, на том же малом газе, затем установил режим 82 и не трогал до земли; оптимальнее зайти нельзя. Над торцом прибрал два процента, чтоб далеко не перелетать, хотя знал, что машина тяжелая; только поставил малый газ и хорошо добрал, и она тут же грузно, но мягко утвердилась на бетоне, точно на знаки. Оптимальная посадка: из РЛЭ выжато всё.
А если бы не убрал те проценты, то мягко коснулся бы с перелетом метров 150. Но у меня была цель: показать оптимальные заход и посадку, самым экономичным способом, но – культурно. Чтобы Коля видел, какие результаты можно выжать из машины опытному пилоту. Пусть из всех демонстрируемых мною вариантов выберет по себе.
Может быть, когда-то, потом, сам будучи командиром, с установившимся летным почерком, он будет учить второго пилота и между делом вспомнит: а вот у меня был один командир, так уж он рассчитывал заход с прямой… И сам покажет.
Мне это нужно не только для удовлетворения тщеславия. Нет, ну это само собой, но, главное, – чтоб опыт Солодуна и Репина, через Ершова, через Евдокимова, шел дальше, чтобы Мастерство жило. Чтобы не было рабочих заходов и рабочих посадок, чтобы было творчество.
Может, мне богом не даны столь утонченные посадки, как Бабаеву, но что касается расчета снижения, тут, уж точно, бог помогает. И если наша смена будет стремиться совершать оптимальные расчеты снижения и бабаевские посадки – мы уже недаром прожили жизнь.
25.08. Заехали с вечера на Мирный, вылет в 4 утра; спали плохо. Как всегда: только разоспались – подъем… как тоскуют руки по штурвалу… ну, встали. И – с 2 часов ночи до 5 вечера.
Полон самолет детишек: из Краснодара летят. Ну, экскурсия, полная кабина пацанов; пока шла перерегистрация багажа из-за каких-то наземных ошибок, мы в кабине не спеша и обстоятельно отвечали на десятки вопросов.
Так как обратно рейс ожидался пустым, залили балластный бак топливом, а для оптимальной центровки посадили всех на взлете назад… и напрасно. И с балластным-то баком центровка получилась задняя, и в полете пришлось их снова пересадить вперед, места были. Руль высоты и не отреагировал на перемещение столь незначительной массы. А заливали балласт дома потому, что в Мирном же топливо дорогое.
Долетели до Мирного, и когда были уже на кругу, вдруг резко ухудшилась погода, сразу ниже минимума. Вспомнилась давняя лихорадочная посадка с детьми на запасном в Надыме, когда закрылся Норильск. Я передернулся и сразу принял решение: поехали в Якутск! Тем более что нам платят за налет, а после Якутска уже пойдет переработка – вдвойне.
Ну, сели в Якутске. Мирный к тому времени уже открылся, но мы протянули время до нового, хорошего прогноза. Перепрыгнули в Мирный; оттуда загрузка – один пассажир. Потом закрылся на два часа Красноярск, и нас не выпускали. Потом сломался буксир. Короче, полный рабочий день, 14 часов. Устали.
Две приличные посадки у Коли. Одна – на небольшой пупок и потом под уклон в Мирном – очень полезная в смысле расчета на посадку и выдерживания направления и темпа торможения на пробеге по трясучей бетонке при задней центровке. А в Якутске – обычная посадка на жесткий бетон в штиль.
Полет с предельно задней центровкой из Мирного в Красноярск я выполнил сам, благо, опыт перелетов в свое время из Северного в Емельяново и обратно имею, причем, знаю об опасности выбрасывания с полосы, если не выдержать направления на пробеге, – что Коля еще задницей не понял. Ну наблюдай же, как я держу направление.
Подвел машину к земле на минимальной скорости, где-то 250, плавно убрал на выравнивании режим и замер. Все внимание на то, чтобы не отошла от земли, штурвал чуть от себя, давлю подушку, еще, еще… Знаки один за другим уходили под крыло. И за последними знаками, под дружный смех всего экипажа, смех удивления, – чуть добрал и притер… но с перелетом за тысячу метров. На каких углах атаки она летела, я не знаю; ногу после касания я опускал с высоты, не большей чем обычно; масса была 76 тонн, скорость пересечения торца даже меньше расчетной, малый газ поставил на 6 м, ветер встречный 4 м/сек, температура +23, после ВПР шел на точку ниже глиссады, над бетоном давил от себя… Видать, на святом духе она парила.
На пробеге главное было – все время сохранять тормозной импульс и по мере падения скорости обжимать тормоза с таким расчетом, чтобы ее все время тянуло на нос, при этом передняя нога была загружена и хорошо реагировала на мелкие движения педалями. Я все это делал и рассказывал, так что пробег получился показательный.
Ну, а посадка… Ей-богу, святым духом…
29.08. По каким-то служебным причинам Колю заменили Андреем Ф., с которым я летал как-то года два назад и запомнил только, что он с Ан-2 и слабоват. Что ж, они группой пришли два года назад: и Андрей, и Евдокимов, и Гайер, и еще несколько, и у всех были равные стартовые возможности; ну, может, бог не равной мерой отмерил каждому летного таланту.
Андрей явно слабее. Тот же пресловутый тангаж, то же сучение газами, слабые понятия о подборе режима перед входом в глиссаду, ну, и землю на посадке видит явно не так, как Коля. В Москве машину подвесил, ждал-ждал… и сронил. Нос безвольно опустился, и она рухнула, наверно с недоумением обернувшись на пилота через плечо: ты-то там зачем сидишь?
Дома на обратном пути он мостился в болтанку; мне пришлось разок выдернуть машину, нырнувшую было на полторы точки под глиссаду где-то между дальним и ближним приводами. Ну, после предварительной беседы о том, как рекомендовалось бы сажать, он, и правда, подвесил (о команде «малый газ» он хронически забывает, видимо, не приучен), подождал под мое размеренное «раз, два, три», потом подождал еще, и хватанул ее как раз в тот момент, когда она стала падать. Поздно… Получился классический козел, правда, без скорости. Ветерок еще был встречный, порывы до 11, видать, помог; короче, и для проверяющего-то высокого ранга слабовато, а уж для второго пилота…
Ну, еще побеседовали. Он летает в экипаже Бори К., апологета «рабочих посадок». Ну, если бы его ко мне в экипаж месяца на два, то, присмотревшись к его почерку, повозился бы с ним. Так-то он работает хорошо.
Я же выполнил полет до Норильска на весьма дубоватой 181-й, подвел пониже и едва успел чуть энергичнее выровнять этот обломок цивилизации, как нежно коснулись и грузно покатились. Весьма же прилично она просаживается – только интуиция помогла мне начать выравнивание этого дубка более энергичным темпом.
Может, отчасти в этом и причина того, что Андрей уронил ее в Москве. Но там не было и намека добирать: он подкрался очень осторожно и высоко, хотя мне объясняет, что его командир учит подводить пониже и на скорости, и он сам старается делать так же. Я мысленно пожал плечами: ну так делай же!
Нет, талант талантом, а опыт полетов на тяжелых самолетах после аэроплана Ан-2 надо набирать и набирать, его не заменишь никакими академиями. Только от простого к сложному. Гайер – не в счет, это иная, высшая категория таланта; с таких и спрос особый, к таким подход тоньше, и еще не всякий сермяжный инструктор имеет моральное право этот камень гранить.
31.08. После хорошей бани я поехал на ночной Мирный. Благодаря задержке, рейс пришел только утром, и мы прекрасно выспались. Спокойно слетали, днем, но с переработкой, т.к. по заданию рабочее время нам шло с 2 часов ночи, начинаясь за час до вылета по расписанию. Тете Маше все равно, отдыхали мы или толкались это время на ногах; мы записали, что на ногах, и оплата за полет – как за переработку, вдвойне. Никаких угрызений совести.
Коля все же хочет хорошо притереть машину на пупок… хотя в Мирном – того пупка… Но в Мирном обычно вырубается электроэнергия, РСБН и система ИЛС выключаются как раз тогда, когда самолет на кругу. Так и в этот раз: РСБН выключили при входе в зону, ИЛС отключилась за 30 км, потом включилась, а с 3-го разворота заработал и РСБН; перед входом в глиссаду ИЛС снова выключилась, и пришлось заходить по ОСП.
Колю тащило ниже глиссады, пришлось даже крикнуть «дальней нет» и на 200 м вытащить машину в горизонт, пока не прозвенел маркер и стрелка не дала отсечку; потом Коля снова норовил поднырнуть пониже, и БПРМ прошли ниже метров на 15; под торец он снова норовил поднырнуть…
На большом лайнере визуальный заход именно тем и затруднен: не по чему контролировать глиссаду, нужен опыт и опыт, пока набьется глаз и выработается чувство задницы. Ну вот, я глаз Коле и набивал, а он все норовил пониже; я не дал, и мы прошли торец на 15 м с вертикальной 4 м/сек – классика. Дальше Коля прибрал режим до 80, потом 78, низко выхватил, но с запасцем, чтоб же не впилиться… и передрал: пупок просвистел под крылом, и полоса стала заметно удаляться вниз, ибо дальше – уклон; мы же летели пока вверх. Коля стал прижимать нос, т.е. делать то, что надо было начинать метров за 300 до пупка, а теперь уже поздно. Я посоветовал исправлять, как обычное взмывание. Нос уже был прижат, стремление машины вверх парировано, мы зависли, теряя скорость, знаки свистели под крылом. Все это время нас трепал ветер, в лоб, порывы до 11 м/сек; Коля между делом исправлял крены и держал ось. Выждал, подхватил… а под уклон же – машина не успела коснуться, и земля снова ушла на сантиметры вниз.
Но все кончается, кончилась и скорость, Коля добрал так, чтобы только не свалиться, и траектория снижения почти совпала с уклоном полосы. Мы сели, в общем, прилично; дальше интенсивно пошли в ход тормоза: Коля хорошо понимает, что при перелете, да еще под уклон, ждать конца полосы нечего. Нормально, успел; помог и встречный ветерок. Сам зарулил на перрон.
Кто летал в Мирный и садился с курсом 244, может только пожать плечами: о чем там рассусоливать, садись как обычно, и все. Какие уж там такие пупки и уклоны… ну, есть чуть… мелочи.
Но разговор идет о нюансах. О сознательном расчленении так называемого обычного захода и посадки на элементы; о тонкостях выполнения этих элементов; о решении задач, состоящих из этих тонкостей.
А проверяющий высокого ранга, только что из кабинета, пускай себе садится ничтоже сумняшеся, согласно РЛЭ, без нюансов. На здоровье.
В АДП Мирного встретил однокашника, Колю А. Летает в Ленске на Ми-8. Он хорошо учился в училище, окончил его с отличием, поступил в академию, потом в аспирантуру… ради левого кресла вертолета? Ну, был одно время комэской.
Вспомнили молодость, перебрали общих знакомых…
Он мне задал вопрос, который, видимо, самого его мучает: «Ну, ты себя реализовал? Не жалеешь, что 26 лет жизни провел за штурвалом?»
Да. Я себя реализовал. Я для этого создан. Я к этому стремился и сделал себя своими руками. Обошелся без академий и – боже упаси – аспирантур. Не жалею ни грамма.
Обратный рейс был с задней центровкой. Шесть пассажиров, балластный бак, посадочная масса 68 тонн, – Коле уже пора потренироваться и в этих, усложненных условиях. Как рулить, разворачиваться в кармане, угловые скорости, управляемость от передней ноги, от тормозов, и т.д., и т.п. Чтобы понял, как это, когда юзит на сухом бетоне, как ее вертит пустую, как это – стремиться все время создавать тормозами импульс на нос.
Оторвал он осторожно, ожидая, что пойдет резво вверх. Соображает. Ну, дальше обычный полет. Дома заход с рулем высоты, отклоненным вниз на 5 градусов. Я на глиссаде убрал стабилизатор с 5,5 до 3, и руль встал нейтрально: все же легче пилотировать.
Коля долго выдерживал легкую машину над полосой, чуть, креном не давая уйти с оси; все в меру, исправлял и случайные крены от болтанки, Ну, посадил, наконец, но левой рукой потянулся за реверсами, еще не коснувшись земли: видимо, ему показалось, что удалась бабаевская посадка; – а тут машина мягко и коснулась. Все совпало, все в пределах 1,2.
Дальше пошло торможение, выдерживание направления на вихлючей машине, – вот в эти несколько секунд и набирается тот опыт, что, может, раз в жизни, а пригодится.
Зашли в контору, получили отпускные. Ну, и заглянули в эскадрилью, может, по шеям надают за что-нибудь.
В эскадрилье сидели командиры и профбоссы. Хором сказали мне: зайди в эскадрилью к Селиванову, надо поговорить. О чем? Он тебя забирает замкомэской. Он уже решил.
Щас. Всю жизнь мечтал.
Они хором на меня навалились и стали сватать. Сперва, как водится, разъяснили плюсы. Однако меня на это не купишь. Потом, вроде как шутейно, предупредили, что можно ж и приказать…
Ну, со мной так разговаривать не надо. Я еще с Енисейска ученый. Из меня тут же поперло пресловутое дерьмо, и я со смехом сказал, что я любого – лю-бо-го! – смело могу и послать…
Ладно, замяли, все смехом, шутками… но Савинов таки давил. Я сказал серьезно, что я упрямый хохол: бесполезно. Ну, привел свои известные контраргументы.
Я – пилот, рядовой, рейсовый, мое амплуа – обкатывать молодых вторых пилотов, учить их тому, что сам умею делать, причем, учить добротно. Ну, крайнее, – ввести в строй молодого командира. Но сидеть над пулькой и наживать себе врагов… Да и вообще: сидеть днями в эскадрилье – увольте. Я свободный ездовой пес. И что, в отряде – один Ершов?
Оборачивается так. По крайней мере, в эскадрилье из рядовых один я имею инструкторский допуск.
В отряде же хоть и хватает внештатных инструкторов, не чета мне, но все они почему-то перебежали в блатную импортную эскадрилью, за валютой. Прямо беда. Не отзывать же людей: они английский учили…
Ну да. А ты, Вася, отдай жену дяде, а сам иди к…
Да никогда я свой экипаж не брошу.
Коля, едучи со мной в автобусе, внимательноприслушивался к моим аргументам. Я спросил его, а он – не желает ли в импортную эскадрилью?
Он ответил: я желаю ввестись командиром.
А другие хотят материальных благ, пусть и быть вечной ж…й у слона. Какой там ввод, зацепиться бы за загранку…
А Коля Евдокимов хочет стать командиром и научиться хорошо летать. Тут я ему – помощник. И всё.
Мы в авиацию пришли по любви, а не по расчету. Время наше, неверное, шаткое время, высветило, кто есть кто. Я им не судья. Но Коля, мечтающий стать капитаном, пусть и без валюты, – Коля мне по душе.
Ушел я из эскадрильи, не заходя к Селиванову. Если я ему нужен – пусть сам меня найдет. Но я предупредил: бесполезно. Я не люблю власти. И не хочу входить в клан приближенных.
14.09. В отпуске. Дел невпроворот.Но доходят слухи о каких-то случаях с нашими экипажами.
Командир Т. забыл переключить перед взлетом ногу на малые углы. Взлетел с горящим табло «К взлету не готов».
Командир Г. уходил на второй круг, с задней центровкой, запурхался с уборкой механизации, что-то у него в мозгах заклинило (два ж высших образования), стал дергать ручку управления закрылками вверх-вниз… короче, вылетели на 1190 метров, чуть не на мертвую петлю, стабилизатор отклонен максимально, а закрылки ноль, скорость потеряли до 315, а машину дерет вверх; он решил выпустить шасси, чтобы как-то компенсировать кабрирующий момент… Ну, специалист: скорости ведь и так нет… Кто ж так делает. Чудом, чудом не свалился. Ну, кое-как стабилизатор убрался, это их спасло, а то бы каюк. Машина Б-1, старая, что-то они там забыли сделать: может, отключили стабилизатор от совмещенного управления, а потом забыли… Порют его. Скорее всего, переведут во вторые пилоты.
Я же пока в отпуске, и пошло оно все.
21.10. Ждали-ждали этот Норильск… Конечно, отдохнуть я перед ночным вылетом не успел. Кто ж знал, что он откроется к ночи; а ложиться спать перед вечером, чтобы потом, если продлят задержку до утра, крутить бочки всю ночь в постели… Короче, ехал на автобусе и чуть придремывал.
Принял решение на вылет; нас загрузили, и мы взмыли ровно в 10 вечера, сразу окунувшись в толчки, болтанку, обледенение, а в наборе высоты меня засосало в легкую дрему. Вылез на эшелон, откинулся в кресле и 20 минут дремал. Силы надо беречь для посадки.
Над Норильском во тьме висело рентгеновское северное сияние, пока еще бледное по осени, без ярких зимних сполохов. Сквозь тонкие приземные облака проглядывалось зарево города, светились огни Кайеркана на 3-м развороте. Центр циклона был под нами, и погода менялась быстро. Давали видимость пять тысяч, потом три, потом 2500, на четвертом развороте – 600, ОВИ 1800, на глиссаде – 360, ОВИ 1000, нижний край 130; мы дружно сказали в кабине: ну, всё, молчи, диспетчер, дай сесть. Он замолк.
Полосу увидели за 8 км. Но Норильск надо знать, и мы его знали. Началась раскачка по тангажу, я отключил автопилот и на несколько секунд погрузился в иллюзорный мир стрелок, команд, болтанки и снега, бьющего в стекло в свете фар. Оговорили, какие фары выключать, если ослепит экран. Да и, независимо от фар, ясно было, что предстоит слепая посадка.
Стараясь не поддаваться иллюзии, что это я неподвижен, а вокруг, в тумане стрелок, огоньков, шума за окном и команд в кабине, сгущается качающийся мир, упираясь в крест директорных планок в центре авиагоризонта, я подвинул кресло на щелчок вперед, встряхнулся, крепко держа штурвал, добавил режим и стал вытаскивать машину из-под глиссады, куда ее засасывал сдвиг ветра.
После высоты принятия решения снизу выплыло зарево огней высокой интенсивности, за ним зеленые огни торца, а внутри частокола боковых столбов света – черная, таинственная трапеция полосы, по которой в свете фар косо змеились жгуты поземка, а под ними – тьма, в которой нас ждал пресловутый пупок.
Я убрал режим на пару процентов, бросил последний взгляд на скорость, чтобы засечь тенденции. Скорость была 270, даже с запасцем, стабильна, и я распустил взгляд по темноте полосы, краями глаз чувствуя крены по пятнам боковых огней. Теперь главное – уши. Витя четко отсчитывал: 15 метров, торец, десять, пять, три метра, три метра, три метра… Вот-вот, это-то мне и надо: три метра… Пла-а-авно малый газ… и замер. Кругом клубящийся мрак, и пятна огней, проплывающие по бокам. Я знал, что под нас медленно подкатывает выпуклость пупка. Делать тут больше нечего: сиди, кури, жди тупого удара. Всё сделано.
Земной шар подъехал под колеса мягко. Что ж, знай наших. Плавно опустил ногу и стал искать осевую линию среди струй поземка. Где ось? Коля подсказал: чуть справа, вот, вот она… ага, увидел, метра три, бежим параллельно. Реверс включить.
Ну что ж, это и есть слепая посадка. Да, тут, на полосе, ничего не видно, но саму-то полосу, габариты-то ее, видно все время и издалека, и нет никакой трудности, кроме борьбы с собой, со своей неуверенностью и страхом тупого удара.
Совершенно не чувствуя из-за поземка, как гасится скорость, ориентируясь только на слух по отсчету штурмана, я не спеша тормозил, выдерживая пробег параллельно выскакивающим из поземка и пропадающим обрывкам оси, пока не зацепился взглядом, уже реально, за пятно ближайшего фонаря справа; медленно подтянул к нему машину, как можно ближе, еще ближе, чтобы было аж страшно, не раздавить бы фонарь, а после этого – еще чуть-чуть ближе. Развернулся строго по посадочному курсу – размытое пятно фонаря отъехало на безопасное расстояние. Остановился, убедился, что правее некуда, и – с богом, добавив правому двигателю до 80, ввел машину в энергичный левый разворот против ветра, придал машине хороший импульс угловой скорости, чувствуя, что нос железно проходит и не вылезает за кромку левой обочины… еще, еще… Развернулись и покатили по полосе в обратную сторону. Теперь выключить второй двигатель, добавить до 80 первому, разогнать по полосе, установить малый газ, – и ищите, ребята, вторую РД, не проскочить бы. Я свое дело сделал.
Как всегда, в массе почты нашлась нарушенная посылка, а милиционер, который обязан теперь вместе с бортпроводником следить за разгрузкой, прошляпил момент ее выгрузки и теперь напал на нашего проводника. В таких случаях составляется акт с тремя подписями; так нет, он потребовал с парня еще объяснительную, да, главное, чтоб писал под его диктовку…
Опытные девчата не дали подвести мальчишку под статью, сообщили мне. Ну, это, собственно, прерогатива Вити: он сам в свое время летал проводником и очень близко к сердцу принимает их проблемы. Я не позавидовал бедному менту.
Витя отодвинул в сторону бледного пацана-проводника, открыл хайло и на взлетном режиме выдал там всем складским и работнику милиции по самую защелку. Примчалась тетя, начальник смены, вытащила из самолета ретивого сержанта, который было стал грозиться. Ну, Филаретычу это как скипидар под хвост; уже мне пришлось его придерживать. Ладно, разобрались, отстояли проводника.
И еще проблема: заяц. И не заяц, а собака. Умное животное забралось по трапу в теплый салон и ни в какую не хотело его покидать, рыча на всех, кто пытался его выгнать. Благо, пассажиров было во втором салоне немного; бедный намерзшийся пес забился под кресло и так и улетел с нами в теплые края, даже вместе с пассажирами уехал со стоянки на автобусе. Знает грамоте, язви его.
Коля взмыл в вихрях снега и довез до дому. Дома проходил фронт, была болтанка, машину выкидывало из глиссады, стаскивало с курса, лупил снег с дождем… Короче, в этих прелестях Коля стабильно, железно, практически не меняя режим, довел лайнер до бетона, приземлил его на цыпочки, и грузно осевшая на пятки машина ровно покатила строго по оси. Ну что скажешь: спец.
Витя развез экипаж по домам, и ночь кончилась.
Вертится и вертится в голове мысль. Да, посадкам вслепую надо учить. Это против всех теорий, против никому не нужной лженауки о т.н. безопасности полетов, от которой у нас кормится немало пришей-пристебаев.
Когда полеты по приборам и посадки в сложных погодных условиях только завоевывали себе право на жизнь, естественно, существовал психологический барьер. И мы, пришедшие с Ан-2, отдали дань страху перед сложными заходами. И перебороли себя.
Но ведь сейчас приходит молодежь с Л-410, где по приборам начинают летать прямо со школьной скамьи. С молоком альма-матер молодежь впитывает понятие, что заход по приборам – норма, что существует ВПР, зависящая от квалификации пилота, что визуальный заход на тяжелом самолете просто нестабилен, ненадежен, неточен, неинструментален, несовременен.
Нас учили, что главное на посадке – визуальный контакт с землей, и далее – до самого касания. А не дай бог, потерял этот самый контакт – уходи, даже после принятия решения «садимся».
Просто и однозначно. Белое – красное. Садимся – уходим. Решил садиться, информировал об этом экипаж – садись. Но если после этого вдруг, откуда-то, с неба ли, с земли или из преисподней, нагрянет мрак, – уходи, даже после принятия решения о посадке. Просто и тупо.
Но так ведь не бывает. А бывает по-другому. Экипаж готовится к посадке в приземном тумане и ожидает, что на выравнивании заведомо, на секунду-две, вскочит в него. Или белая мгла на Севере. Или просто мокрый асфальт в дождь ночью. Или видишь же, что над торцом полосы заряд, что влетишь в него, и осадки зальют стекло. Или пресловутый экран от фар в снегопаде. Или пришел на запасной, а здесь прогноз тоже не оправдался, и погода хуже минимума, а садиться надо.
Есть еще дым от ближайшей котельной или горящей свалки. Много всего бывает.
Экипаж разумный обычно предвидит ухудшение видимости, особенно на выравнивании; он готовится. Ведь очень часто метеонаблюдатель дает нам плохую видимость у земли, на предполагаемой высоте пилотской кабины, видимость, близкую или даже хуже минимума, – а чуть выше, где нет того поземка или пыльной бури, полосу видно издалека.
Надо же как-то с этим бороться. Да, существуют нормативы, для прокурора, Существуют какие-то единые минимумы погоды. Но бывают объективные условия, когда экипаж вынужден эти минимумы нарушать. И что – убиваться? Тем более, людей, индивидуумов, в рамки не втиснешь, а дело делают именно личности.
Вот и появляются неписаные рекомендации.
Кто пролетал много лет, тому шестым чувством ясно поведение самолета. Если ты сам его не разболтал, он никуда не денется. Да, требуется особое внимание к выдерживанию курса на ВПР, да, требуется твердость в строгом выдерживании и плавности изменений тангажа и вертикальной скорости вблизи земли. Эти требования должны вбиваться курсантам в школе с той же настойчивостью, с какой недавно нам вбивалась беззаветная преданность. Для пилота это столь же важно, как и скорость на четвертом развороте.
Если пилот твердо уверен в том, что самолет подчиняется законам физики больше, чем судорожным движениям штурвала, то к нему вполне может прийти уверенность и в том, что глаза на посадке хоть и очень важны, но не столь уж жизненно необходимы. И можно иногда обойтись без школьного принципа «приближается – добирай». Только эту уверенность в толковом летчике нужно развивать постепенно.
Даже без отсчета высоты по радиовысотомеру, даже без выравнивания, наш самолет все равно сядет, если вовремя плавно убрать режим на малый газ. Машина ляжет на воздушную подушку и сама уменьшит вертикальную скорость. Главное только – чтобы вертикальная перед торцом была в норме, не более 5 м/сек. Да, посадка получится грубее обычного, но это же вообще без вмешательства, без помощи пилота.
Надо только чуточку помочь. Над торцом чуть уменьшить вертикальную скорость. Малый газ поставить попозже, поплавнее, уже выровняв машину. И всё.
Неужели это так трудно? Нет. Но в кабинетах не хотят понимать, как это – садиться без глаз. Хотя в РЛЭ пишут: выравнивать, не допуская выдерживания; при этом приземление происходит с вертикальной 0,5-1 м/сек.
Да с такой вертикальной – зачем и глаза. Она и сама, бедная, так сядет.
Андрей Гайер прямо считает: низкое выравнивание, одним махом, на тяжелом самолете опасно. И я так же считаю. Хотя, конечно, острый, бабаевский глаз на посадке позволяет садиться утонченно.
Но нам нужна надежная посадка в любых, самых неблагоприятных условиях. Нам нужны универсальные пилоты, обладающие всем арсеналом различных методик посадки, умеющие выбрать в любых условиях адекватный способ.
Разговор, конечно, не о начинающих. Я говорю о высшей школе. Нужна высшая школа пилотирования, которую надо планомерно внедрять в массу молодых, грамотных, смелых пилотов. Наша смена должна летать лучше нас.
Нужна элита. Элита профессионалов.
29.10. Норильски, Норильски… один за другим. Осень же… кому ж как не мне.
Не долетая до Туруханска, внезапно получили информацию: Норильск закрылся коэффициентом сцепления, а в Игарке погода хуже минимума, видимость 1300.
Так минимум же в Игарке 70/900, мы же готовились, смотрели!
Нет, только что, вот сию, пришло изменение: в Игарке нет метеонаблюдателя на БПРМ, и минимум поднялся до 1400. Ваше решение?
Три ритуальных слова.
Срочно запросил прогноз на час и фактическую Игарки. Сзади беспокойно заворочался коллега-заяц, уже выставивший бутылку «Тройки»… Куда ты торопился, черта дразнишь…
За 100 км до Туруханска, на рубеже возврата, я предупредил, что если через минуту у меня не будет прогноза Игарки, я возвращаюсь в Красноярск. Тут Коля поймал по УКВ погоду Игарки: 3000… и тут же Туруханск передал: вас персонально Норильск принимает.
А в Игарке же нет топлива, и брали ее запасным мы чисто юридически. А если все-таки придется сесть там и записать в задании фактический наш остаток 11 тонн, которого вполне хватило бы перелететь потом в Норильск, то юридически превысим посадочную массу: по закону проходит только остаток 9,5 т, этого мало…
Короче, норильский РП опомнился вовремя, взял на себя.
Теперь задача. Загрузка полнее полного, центровка передняя, возможно, придется заходить с закрылками на 28, это мы определим по балансировочному положению руля высоты на кругу, на скорости 400. Прогнозируется обледенение, значит, потребуется увеличение скорости на глиссаде на 15 км/час против расчетной. Значит, садиться будем на скорости 280, а на глиссаде держим 290. А сцепление 0,3, а давали вообще 0,28; это персонально для нас дали 0,3, чтоб смогли сесть. Ну, полоса длинная, 3700, погода хорошая. Да еще на рулении передняя нога очень уж вяло реагировала. Но это даже лучше: на гололеде, если «балду» чуть передашь, хоть юзом не пойдет.
Короче, мне, командиру, надо настраивать экипаж. А что их настраивать, когда и так ясно.
Так и вышло. Обледенели немного, да на скорости 400 руль установился на -10, это предел. Я решил заходить с закрылками на 28; когда их выпустили, руль встал на -15, так же стоял и на глиссаде; я до пролета дальней подкорректировал стабилизатор с 3 до 5,5, и руль встал нейтрально.
Барахлила система, барахлил ДИСС, стрелки гуляли, я заходил почти визуально, диспетчер блажил нам; «ниже 15, правее 60»; я мысленно посылал его, а сам мостился под торец: перелет нам ну никак не желателен.
Выровнял: нос непривычно высоко, но так, собственно, и положено с закрылками на 28. Длинно, одним махом, протянул вдоль пупка и дожал штурвал от себя, хорошо дожал, и мягко коснулись. Со скорости 240 притормаживал, а с 200 тормозил хорошо. Сцепление где-то 0,5; на полполосы остановились.
Теперь развернуться. По обочинам лед; мы было протянули до сопряжения с 4-й РД, а там вообще голый лед. Я все же попытался на него заехать, поглубже, аж на РД, плавно ввел в разворот… не идет: развернулись где-то под 60 градусов, а уже обочина рядом. Вялая нога, мал импульс тяги из-за риска сорваться в юз на обочину, мала угловая скорость, не помогает подтормаживание внутренней ноги на льду… зачем рисковать. Поехал в самый конец полосы, там чернел вроде бы расчищенный карман. Ну, подкрался елико возможно, зацепился колесами за бетон, дал 85 правому, и она как миленькая развернулась. Вот это – грамотно.
5.11. Сижу в УТО. Обычная тягомотина. Ну, вытерпеть еще раза два … а там уже и конец моей летной работе.
Пока нам рассказывали, как и почему при запуске двигателей на «эмке» немножко поддувается кабина, я вспомнил один случай. Как-то раз, еще на заре эксплуатации «эмок», старый бортмеханик Юра Т. уже было начал запуск, как подвезли двух отставших пассажиров. Я перед запуском всегда закрывал форточку, чтобы через меня не дуло из салона, поэтому самолет в процессе запуска оказался загерметизированным и слегка надутым. Юра по моей команде прекратил запуск и пошел открывать переднюю дверь. Хорошо, он – старый, опытный волк: нацепил предохранительный ремень поперек двери. Стронул ручку, дверь рвануло наружу, он так и повис пополам на ремне, а наставленные пассажирами в вестибюле сумки и коробки буквально высвистело под трап. И, вдобавок, сломался болт кронштейна подвески двери, правда, малозначащий; заменили за пять минут. Обошлось.
С тех пор я форточку на запуске всегда оставляю приоткрытой, хоть и свистит над ухом. И прежде чем открывать дверь, тоже всегда открываю прежде форточку, уравниваю давление.
Учеба стала даваться немного туже. Стареем.
12.11. Позавчера Баев устроил нам пятиминутку с условием: кто напишет на 5, освобождается от экзамена. Раздал билеты: из пяти вариантов надо ответить на три, по своему выбору.
Я выбрал такие вопросы: посадка в условиях экрана; руление по гололеду (усилие на педалях для эффективного торможения в процентах от максимального при коэффициенте сцепления 0,2; определение фокуса самолета.
Ну, что писать о слепой посадке. Я только удивился тому, что Баев вставил в билет то, чего не рекомендуют нигде: ведь надо просто уходить на второй круг, и всё. Думал, нет ли какого подвоха, а потом плюнул и изложил кратко и ясно свою, т.е. Солодуна и Репина, теорию слепой посадки: будь что будет.
О гололеде… ну как ты тут замеришь те усилия. Ясно, что мизерные. Была-не была: раз сцепление 0,2, то и я дам 20 процентов. Попал!
Ну, а что такое фокус, нам Стенина в свое время на пальцах разъяснила, а я люблю четкие формулировки. Это азы.
Баев поставил «пять». Особенно ему понравилось то, что второй пилот контролирует крены по прибору и исправляет их до самого касания. Хвалил. Стал меня называть по имени-отчеству, занес в свою записную книжку на будущее.
Ну что ж. Оказывается, Баев-пилот учит пилотов не только зубрить цифры (хотя и требует), но и учит думать нестандартно, учит понимать суть ситуации и действовать адекватно. Эх, если бы не недостатки воспитания и непредсказуемость характера, не мания величия, апломб и беспардонность, не болезнь собственной значимости… Да еще, если уж такой умный, написал бы хороший учебник, ну, пособие…
Так что освободил он от экзамена меня и еще четверых, кому повезло угадать, а молодежи учинил КВН; сегодня узнаем результаты.
13.11. Читали нам на аварийно-спасательных о давнем случае под Сыктывкаром; я описывал в свое время, как из-за дыма в кабине посадили на лес «туполенок». А тут – расписано от и до.
Они взлетели из Сыктывкара, и на 5600 в наборе учуяли дым. Командир отправил бортмеханика проверить задний багажник. Тот поковырялся: ну, дым оттуда идет… надо что-то делать. Пошел туда сам командир, поковырялся: да… надо что-то делать. Опять отправил туда механика со вторым пилотом, тушить, а сам… сам набирает себе высоту.
Те гасили-гасили, разрядили в багаж два огнетушителя, остальных просто не нашли. А оно себе дымит, да так уже, что у людей кровь из носа пошла.
Ну, забегали. Давай возвращаться назад… а до полосы 140 км. Давай экстренно снижаться. Короче, когда снизились, стало совсем невмоготу. Решили садиться на вынужденную; девять минут порхали в поисках площадки в лесу. И когда совсем уж нечем стало дышать, упали прямо перед собой на лес, убили полсотни пассажиров и двух членов экипажа. Летали почти полчаса.
Нет, с огнем не шутят. Тем более, когда действительно горит, с дымом, а не просто сработало табло «Пожар». Тут медлить не то что нельзя, тут – смерть.
Не дай бог.
17.11.УТО нынче заметно лояльнее к нашему брату. Другие времена, другие веяния. Экзамены сдаются чисто формально. Все слышнее разговоры о том, что летный состав задавлен инструкциями и наставлениями, где все по полочкам, а весь мир, мол, летает по здравому смыслу.
Ну, мне-то легче еще и потому, что авторитет работает на меня. До сих пор многие считают, что я знаю всё. А я… я уже толком не знаю ничего, да и зачем. Старый багаж еще потихоньку расходуется, а в основном, работает драгоценный опыт.
В нашей работе очень важно то, что с годами мастерство только растет. Может, по-человечески я и деградирую – и наверняка, но в ремесле своем – отнюдь, нет, и вздумай судьба испытать на прочность меня или же моих коллег-стариков, она, скорее всего, останется довольной нашим сопротивлением.
А где тот перед или зад у двигателя, я уже и забыл. Как и виды картографических проекций, в которых сработаны наши карты. Зачем? Оно мне надо?
Общее развитие, которое формирует личность и авторитет командира, – это уже позади. Мне лично его хватит до самой смерти… а я все же еще немного работаю над собой, но – уже лично для себя.
В своем пилотском кругу, где все знают цену каждого, мы тихо сбрасываемся на традиционную бутылку преподавателю, такому же летчику или инженеру в прошлом, – чтоб оставил нас в покое. Кое-что потускневшее вновь проявилось в небогатых летчицких мозгах – и ладно, до новых встреч. Удачных полетов вам, мужики…
А молодежь… молодежь пошла грамотная, язви их; любой разговор поддержат, да еще какие понятия вертятся на языке: мнемоническое правило… энтропия… джойстик…
А за стариков взялась медкомиссия. Да и кому они нужны, старики: опыт опытом, а надо же кого-то сокращать. Вот и подпирает нас смена, тридцатилетние… наши дети уже. Успеть бы опыт передать.
5.12. Вчера Рыхтиков взлетел на 213-й, в наборе высоты земля доложила ему: на ВПП после взлета найдены фрагменты резины от колес. Ну, вернулся, выработал топливо, выпустил шасси, с земли осмотрели: на правой ноге два колеса разрушены. Ну, сел.
Телевидение раздуло подвиг. Ну, борзописцы. И, главное, ни один пассажир не отказался лететь, когда дали другой самолет. Ага, откажешься – топай в Полярный пешком… или от Ленска на машине по зимнику, 1000 верст.
Нас же на разборе предупредили: не выдерживают новые покрышки, выпущенные Красноярским шинным заводом; а у нас в них обуто 75 процентов «тушек». Реклама по телевидению у них оч-чень отработана. Надо было к этому сюжету, о подвиге-то, о профессионализме-то… да добавить рекламу профессионалов с шинного завода. Одни профессионалы, понимаешь, совершают подвиги, благодаря браку других профессионалов. В жизни нашей всегда есть место подвигам.
16.12. Как с похмелья. Это выдыхается который по счету ночной Норильск.
С утра позвонил: погода есть; выехали с экипажем на служебном автобусе, полчаса прождали его на морозе, и хорошо что я надел унты. Ну, по приезде в АДП погода уже испортилась. В Норильске замело, фронт установился в параллельных потоках вдоль Енисея, и я принял решение о задержке до вечера.
Ребятам удалось поспать часок, а меня через каждые полчаса дергала неопытная тетя-диспетчер из АДП. Как приходит новая погода, она берет линейку и высчитывает, что ветер и коэффициент сцепления как раз соответствуют… ой, извините, ошиблась… Только задремлешь – опять…
Сразу после выхода из санчасти нас поймал заказчик: склад не хочет грузить его груз, семьсот кг кедровых орехов… посодействуйте. Ну, пришлось побегать Коле, да и я зашел в перевозки: что за ерунда такая. Упирался начальник склада, приводил какие-то ерундовые аргументы; было ясно, что ему нужна мзда. Мы тем временем дождались вечера, смена пришла другая; и в Норильске заступил новый руководитель полетов и дал сразу коэффициент сцепления 0,51 вместо 0,4; все завертелось, началась посадка пассажиров, Коля помчался на склад.
Витя, начальник паники, задергался было, потому что в УТО нам только что по метеорологии втолковывали, что ветер теперь дают истинный, а не магнитный, и получалось, что… стоп… что мы, выходит, могли еще с обеда лететь? Там склонение -20, значит… дают 160 градусов 10, порывы 15, а на самом деле…
Короче, он нам всем чуть не запудрил мозги; пришлось для порядку по телефону выяснять, что за новшество; оказалось, как и прежде: по прогнозу Норильск всем дает ветер истинный, 160, а своим для взлета – магнитный, 140.
Вот так поддашься панике и купишься. Но лучше перебдеть, за что мы Витю и ценим.
Пока мы разбирались с ветрами, в Норильске замело. Три часа Валера с проводницами и пассажирами на самолете ждали, пока мы примем решение. Пассажиры впились в кресла, настоявшись в вокзале; теперь их не высадишь. Но зато Коля с заказчиком уломали склад, и груз махом оказался в самолете.
Я долго не решался. Жалко было и того заказчика: он намерзся, изнервничался, заболел… И не хотелось идти на запасной, а все параметры в Норильске были на пределе: и видимость, и нижний край облачности, и ветер боковой, и коэффициент сцепления. Мы внимательно изучали синоптическую карту. Витя всегда активно участвует в принятии решения, и это отлично.
Я устал. С утра на ногах, ну, днем часок полежал, вскакивая к телефону и разбавляя кровь адреналином, – какой сон. Шел уже первый час ночи.
Наконец, дождавшись первого просвета, решился. По всем данным, по расчетам, по интуиции, выходило: вот-вот фронт протащит.
И мы прорвались. От Туруханска уже улучшилось, заходили вообще при видимости 2000 м. Диспетчер любезно спросил, не слишком ли ярко горят огни, и я попросил пару ступеней убавить. Садился на пупок, с максимальным посадочным весом; краем глаза увидев, что перед торцом скорость стала падать, добавил процент и для гарантии не стал протягивать вдоль пупка, а задержал штурвал, дождался, когда земля стала приближаться, и хорошо, энергично добрал. Косой поземок не мешал, видно было даже ось, и машина, уже падающая, но вовремя подхваченная, мягко приземлилась и тут же опустила ногу.
Подруливая ко 2-й РД, я держал скорость чуть выше, чем надо бы. На сопряжении были передувы; я дал ногу, вписывая машину на скорости в большой радиус… и тут передняя нога резко сорвалась в юз; нас потащило на фонарь. Пришлось энергичным подтормаживанием левой ноги, находящейся еще на бетоне, помочь; нас рвануло в другую сторону. Но все же я сумел в два приема укротить машину и выскочил на рулежку, мотая носом. Некрасиво, рисково, а главная ошибка – в определении скорости начала разворота с бетона на лед, прикрытый снегом. Там, оказывается, проложен временный кабель, засыпан снегом и залит водой, а сверху этого ледяного покрытия насыпало снежку. И я ведь знаю, что в Норильске, как только срулишь с бетона – начинается лед, и всегда почти останавливаюсь, перед тем как начать разворот на рулежную дорожку.
Ошибка школьная. Что ж, мастер, не зажирайся. А ведь так умеешь чувствовать нюансы руления. Значит, распустил себя. А времена не те. И нечего оправдываться усталостью. И не так уставали, еще в недавние годы, а летали же.
Ну, прорвались, довольны.
Коля довез назад, сел мягко.
Тут недавно взлетал Ан-26 в Туре. Командир не выдержал направление на разбеге, уклонился, прекратил взлет. Развернулся в сугробах, выехал вновь на полосу и, не слушая увещеваний экипажа и команд диспетчера, вновь стал разбегаться, вновь под углом к полосе… снова прекратил, развернулся вообще поперек, и вновь влупил взлетный режим. Влетел в бруствер, подломил ногу и заглох. Потом в объяснительной писал, что «на него нашло затмение». Ну, сейчас не время затмений. На ВЛЭК с ним разберутся. Молодой еще мужик.
22.12. Слетали вчера в Самару. Не повезло с машиной: замороженная за трое суток «эмка» барахлила, подкидывала ребусы еще в процессе подготовки.
Мы пришли на самолет, рассчитывая, что Алексеич уже запустил ВСУ и нагрел кабину. Но ВСУ не запускалась: как машина придет из-за границы, где ее интенсивно насилуют, так всё разрегулировано. Пока техники спорили с рэсосниками, кому что делать – то ли техникам крутить винты, то ли рэсосникам менять систему управления ВСУ, – наши ноги стали замерзать. Я, пользуясь правом сильного, бросил экипаж и пошел на соседний самолет, где деловито шумела система обогрева. Минут десять отогревал там ноги, зная, что если этого не сделаю, то заболею. Вернулся – техмоща все же подкрутила винтики, и ВСУ запустилась. Алексеич врубил ускоренный прогрев; пассажиры садились в ледяные кресла: в салонах было -10.
Ребята закаленные, разделись, а я остался в легкой куртке, так в ней полполета и летел, аж пока термометр не показал +27 в кабине.
Стали запускаться – 1-й и 3-й вышли на обороты, а 2-й никак не зажигался. Выключились. Инженерная мысль нашла и перещелкнула в хвосте какой-то АЗС; с контактов сбило ледяную корку, и мы, наконец, запустились.
Ноги отошли к третьему часу полета. Летал Коля, я дал ему посадку в Самаре на короткую полосу, на пупок, при коэффициенте сцепления 0,32, слякоть 2 мм.
Оговорили тактику расчета на посадку. Полоса 2500, перелетать – непозволительная роскошь; в конце полосы явно слякоти больше, чем в месте приземления, поэтому тормоза использовать сразу, интенсивно, но в меру. Лучше сесть на самое начало полосы, а для этого идти на точку ниже глиссады, скорость строго 270; имеем право сесть за 50 м до знаков, это на оценку «хорошо», – используем.
Коля отлично решил задачу. Правда, недолет, как мне показалось, получился скорее вынужденно, чем сознательно: налетел пупок и помог коснуться метров за 70 до знаков. Но общее стремление подвести пониже (но в пределах допусков), четкое управление режимом двигателей, торможение и выдерживание направления ясно говорили о том, что человек сознательно поставил себе задачу и решил ее грамотно. Похвалил.
Обратно Коля с Витей везли нас; мне делать было абсолютно нечего, я рисовал схемы и втравил Алексеича в технологический спор, до хрипоты; потом долго отхрюкивался и отхаркивался.
Коля справился со сдвигом ветра, но к торцу скорость получилась под 300; мы по очереди прибирали режим: 80, 78, 75; – машина зависла на метре, и Коля искусно, на глазомере, держал ее строго по оси, ожидая, когда упадет лишняя скорость. Мягчайшая, бабаевская посадка. Спец.
27.12. Еще одна Самара. Туда и обратно везли кучу курсантов на каникулы. Кто с билетом, кто со стеклянным. Короче, вернувшись ночью, устроили в профилактории скромную попойку с закусью: целая банка шпрот и печенье… ну, хлеб еще был. Полетали.
Коля свозил нас туда и обратно, на старой машине, без «балды», так уж нарулился по гололеду в Самаре. Там та же погода, но похолодало, и вместо слякоти на полосе снег, не везде расчищенный, а в конце ВПП и на рулежках вообще голимый лед. Дома же пришлось садиться в сильный ветер и болтанку.
Ну, хвалили мы Колю за бутылкой. Человек пролетал три года, освоил машину так, что мы ему полностью доверяем. Пора бы вводить. Но он признался, что на взлете еще скован, напряжен, что-то еще отвлекает от решения задач. Что ж, поработаем.
4.01.94 г.В Иркутске вчера упал на взлете Ту-154М, один к одному фальковский случай. Пожар двигателя в наборе высоты, и через 12 минут полета они упали.
Снова сверлит, сверлит мысль: почему?
Днем легче найти площадку и сесть; они же упали на ферму, еще и там кого-то убили. Разброс обломков, как передают, небольшой, в радиусе 400 м; это падение, а не посадка. Значит, снова отказ управления.
Конечно, сейчас я уже не тот, что был десять лет назад. Эмоций уже нет. Но мне надо знать причину, ибо завтра это может случиться со мной, и я должен справиться.
6.01. В газетах одни борзописцы сообщают, что у иркутян двигатель переработал ресурс, в других говорят, что двигатель только из ремонта. Одни утверждают, что самолет до самой земли снижался по пологой, практически посадочной траектории, но снес ферму со скотом. Другие – что при развороте на аэродром выключились и остальные двигатели, отказало управление, и машина свалилась чуть не в штопор.
Экипаж опытный. Да у нас неопытных и нет. Но я знаю, что представляет собой «молодой» командир на «Ту» в возрасте за пятьдесят, и что такое опытный летчик Гайер, тридцати лет. Это не критерий. И судить по газетам – последнее дело. Надо ждать приказ.
13.01. Доминяк был в составе комиссии, расследующей иркутскую катастрофу. Ну, при нынешней гласности, он не смог много добавить к уже опубликованным данным.
Управление у них отказало, когда они, потушив пожар, возвращались на аэродром. Машина была стриммирована, плавно снижалась, но экипажу не подчинялась, и они докладывали земле все детали, моля бога, чтобы уткнул их траекторию куда-то в поле; но бог воткнул их в угол фермы, самолет пробил ее, крыша рухнула, и ком обломков, разделившись на семь фрагментов, понесся в поле и овраг. Взрыва не было, тела остались в одежде, и потом уже все тихо догорало.
Экипаж нашли, только когда стали разбирать обломки фермы: они там и остались под рухнувшей крышей; опознать удалось лишь бортинженера.
Версия о причине пожара. Вроде бы не отключился при запуске стартер и пошел в разнос, разлетелись привода, и пр.
Да, у них барахлил стартер, все может быть. Но почему отказывают сразу все три гидросистемы? И почему нет на этом сверхнадежном самолете механической проводки, как на Ил-76?
Когда я в молодости входил сверху в неровную кромку облаков и на меня налетала серая клубящаяся стена, хотелось зажмуриться; потом привык и встречал ее с открытыми глазами, понимая: не дай бог конечно, но, возможно, вот так же когда-нибудь я встречусь с землей, и это будет последнее, что я увижу в своей жизни.
Вот так же и они смотрели, как приближается стена фермы, и со сжавшимися сердцами гадали: пронесет или нет, – и надеялись…
27.01. Норильская полоса светилась издали, но законы норильской погоды неумолимо ухудшали видимость у земли до предельно малой. Для полноты счастья ветер подвернул под 90 и усилился более допустимого. Обычное дело.
Рубеж возврата был пройден, запасных не было, и нам все равно надо было садиться в Норильске. Поэтому я заранее настроил экипаж, кому что делать, если что.
На высоте круга по балансировочному положению руля высоты определилось, что центровка сильно передняя; в этих случаях рекомендуется пересаживать в хвост пассажиров, но я просто решил садиться с закрылками на 28, подкорректировав стабилизатор вручную до 5,5. При таком ветре передняя центровка улучшит нам устойчивость.
Раз стабилизатор будет отключен от совмещенного управления, а условия захода таковы, что дрогнувший диспетчер запросто может угнать на второй круг по боковому ветру, да и вообще, мало ли что, – я повторил с экипажем порядок действий при уходе на второй круг, оговорив, что стабилизатором управляю вручную сам, но экипажу за положением стабилизатора следить. Если в запарке ухода забуду, то три человека подстрахуют. Подвиг командира Г. повторять не надо.
Ну, вроде все готово, вошли в глиссаду. Диспетчер сделал контрольный замер ветра: 110 градусов, 14, порывы 17. При коэффициенте сцепления 0,48 проходит под 90 только 13. Ну, что под 90, что под 84 градуса – то же самое.
«Будете садиться?»
Конечно, будем. А куда денешься, если рубеж возврата пройден и до Красноярска топлива уже не хватит, а Игарка и Хатанга закрыты.
Пятно огней маячило впереди, в правом углу лобового стекла. В таких условиях посадка для опытного экипажа особой сложности не представляет. Разве что на выравнивании от пилота требуется известная твердость руки, чтобы уменьшить вертикальную и замереть, слушая в снежной круговерти отсчет высоты по радиовысотомеру и при необходимости чуть корректируя темп приближения земли на слух.
Я заранее попросил убавить яркость огней. Все равно садиться вслепую в черныйколодец полосы. Мне важно будет определить глазами не приближение этой черноты, а равноудаленность моего позвоночника от правой и левой светящейся снежной стены, это главное. Если я буду идти параллельно этим стенам, то сяду при любом боковом ветре, и меня не стащит вбок.
Где тут какая-то осевая линия, смешно и гадать; но шестое чувство, и громадный опыт, и уроки мастеров выведут меня где-то посредине, в этом я уверен. А к земле подкрадусь на газу, пупок поможет. Главное – не дергать штурвал ни на себя, ни от себя. Зажать, замереть и ждать.
Затягивало под глиссаду. Метров со ста пятидесяти диспетчер даже скомандовал прекратить снижение, пришлось чуть поддернуть машину, что внесло диссонанс в ясную мелодию сложного захода, но, поймав глиссаду, я снова успокоил машину и уже не допускал отклонений.
Перед ВПР диспетчер взял на себя ответственность и скороговоркой дал «контрольный замер»: ветер под 80 градусов – 13 метров. Я успел сказать ему спасибо, а экипажу обычное: садимся, ребята. Что ж, диспетчер разделил со мной ответственность. Человек.
О каких там тринадцати метрах в секунду говорить, когда снос был такой, что фары освещали клубящуюся атмосферу далеко за левой обочиной. Путь наш… во мраке.
Торец, 15; чуть на себя, замер… и тут же, за 70 метров до знаков, пупок полосы мягко подкатил под колеса. Не летит машина, скорость для закрылков на 28 строго расчетная, без запаса. Я поставил малый газ и плавно стал выводить нос так, чтобы машина бежала по невидимой оси. Потом бережно опустил ногу.
Если честно, был козлик, плавный, сантиметровый, едва чувствительный, за ним еще один, на цыпочках. Витя, учуяв твердое соприкосновение с землей, потянул рукоятку интерцепторов, а Алексеич, уставши ждать команду, сам громко крикнул «Реверс?» Мне пришлось его успокоить, что да, да, реверс включить. Андрей потянул рукоятки реверса, и Алексеич, учуяв свободу рычагов газа, дожал их до упора.
Я не был уверен, что бегу параллельно оси. Ничего не было видно, один снег, рекой, слева направо, да пятна огней, плывущие под ним.
Ну и всё. Перегрузка зафиксировалась 1,15 – фирма! И спина сухая. Все делалось спокойно, как и подобает мастерскому экипажу. Андрей Кибиткин страховал по приборам до касания. Ну что тут скажешь.
Но посадка была абсолютно вслепую – ну ничегошеньки не видать. Отличная тренировка.
К моменту вылета в обратный путь замело уже всерьез. Самолет, стоя на земле, махал крыльями и скрипел. Нет, ребята, надо хрять, и поскорее.
Запросили запуск. После некоторых дебатов я сумел заверить службу, что при таком ветре взлечу. Такой – это 17, порывы до 22, под 90. Ну, дождусь на полосе, когда чуть утихнет… ну, как обычно… ну, мужики, соображайте же, тут же не фраера…
Ладно, разрешили запуск. Полоса, в общем-то, сухая, по центру – вообще сухой бетон, где-то 0,6; допустимый боковой ветер 17 м/сек, это максимум для нашего самолета. Ну, обочины во льду; тут надо уверенно разбегаться по оси, строго по оси…
А я когда-нибудь не по оси вообще в жизни разбегался?
А если откажет левый двигатель и меня потащит на левую обочину?
Ну что ж, надо бежать параллельно оси, но справа от нее, метров пять. В таких условиях это самый оптимальный вариант. Пока потащит, успею оторваться до фонарей. Загрузка небольшая, это секунды.
А если что вдруг случится с правым двигателем или с правыми колесами – ветер не даст уйти вправо.
Но нужна твердая рука. Вернее будет сказать, твердая нога.
Еле нашли в смерчах ту взлетную полосу. Кое-как протащил машину вдоль предполагаемой, но невидимой под белой простыней поземка оси ВПП, чтобы Витя выставил курсовую с точностью плюс-минус два градуса. И – с богом.
Легкая машина набирала скорость быстро, но, ей-богу, я не видел путем ни оси, ни швов, ни, в общем-то, отдельных фонарей. А так: распустил взгляд по белой простыне и, доверившись своему превосходному боковому зрению, жался чуть к правой, светящейся и клубящейся снеговой стене. Рубеж, отрыв – и тангаж 10. Земля ушла вниз и задернула снеговой шторой цепочку вдруг проявившихся с высоты огней полосы. Через 15 секунд мы выскочили под занавесь северного сияния и со звоном ушли в семидесятиградусный стратосферный мороз.
Ночью пили в профилактории коньяк и разбирали посадку. Не знаю, какое вдохновение раскрепостило меня на посадке, – но мужики были напряжены. Их напряжением и облегчилась моя, командирская работа. Их нервами укрепилась моя уверенность. Они были нервными окончаниями моих пальцев. Им – досталось…
А я снял сливки. Я получил оргазм. А Алексеич от напряжения не расслышал моей команды «малый газ» после касания, говорит, сам убрал, когда уже покатились. Витя же после первого касания не рискнул выпускать интерцепторы (а вдруг козлина такой, что подвесили машину и сейчас упадем), и только когда убедился, что сели третий раз и покатились, осторожно потянул ручку.
Ну, у нас в экипаже принято при уверенной посадке интерцепторы выпускать без команды, вернее, по команде «реверс включить».
Проводницам же посадка очень понравилась именно мягкостью.
Я не очень корил себя за эти козления: попробуй-ка кто, сядь лучше в таких условиях. И то: интуиция подсказала правильный темп выравнивания, а дальше жди тупого удара… а у нас-то 1,15.
Насчет позднего включения реверса. Алексеичу показалось, что мы уже полполосы пробежали, как бы не выкатиться… это на полосе 3700! А я еще и ногу не успел опустить, это 2-3 секунды. Ох, как они тянутся иногда, эти секунды, в напряжении-то…
Да. А самолет с закрылками на 28 долго не летит, падает быстрее, чем с закрылками на 45. И дело тут не в аэродинамике, а в психологии. На 45 мы еще с катастрофы Шилака держим скорость на 10-15 больше, чем положено по РЛЭ; а на 28 – точно рекомендованную. Чуть убрал газ – она садится. Это зарубка на будущее.
Я спросил Андрея, не почувствовал ли он, что я на ВПР чуть вроде сунул было ногу, чтобы довернуть на ось? Где там… он был напряжен, следил за приборами и не заметил. А у меня сомнение: неужто я и на краю гроба не отучусь сучить ногами? Однако же я сам заметил и сам себя сдержал.
Но главное резюме этого полета: экипаж видел, что значит командир. Лишний раз убедились, что и в сложных, даже слишком, условиях я не теряюсь, а все вместе мы справляемся – с запасом. Для меня преподать такой урок – очень важно. Вот этим и укрепляется авторитет командира: ты покажи руками.
Ну, документы, нормативы, НПП… это все в прошлом, это фундамент, это основа для молодых. А у нас есть здравый смысл, уверенность, слетанность, позволяющие разумно рисковать. Да и деваться-то было все равно некуда. Это наши резервы, глубины мастерства.
А зачинался этот рейс тяжело. Мы приехали в АДП, предварительно узнав по телефону, что погода есть, топливо тоже, машина готова. А оно стало ухудшаться, а прогноз нелетный, а тетя в АДП – посторонний человек, неспособный к анализу условий, и… командир, решай.
Я решался два часа. Все ждал, что, согласно тому прогнозу, погода ухудшится ниже минимума и мы с чистой совестью уйдем спать. Но предельный боковой ветер не увеличивался, предельная видимость не ухудшалась, коэффициент сцепления не уменьшался, волнистый фронт на карте никак не выказывал своего влияния на погоду, а с запада напирал мощнейший циклон, суток на трое. Прогноз же обещал одно: сильный снег, видимость 600. А фактически давали 1100, по огням 1800. Хоть вылетай. Но полет же по расчету получался более двух часов, а при этом фактическая погода для принятия решения не учитывается. А запасных нет: Игарка не принимает, в Хатанге туман. Брать Красноярск с рубежа возврата – вернешься от Туруханска, потом спросят: куда ты лез?
Дал я задержку, и пошли мы спать, с нечистой совестью.
Поспали до вечера, душа болит. Пошел к синоптикам: весь день фактическая погода на пределе, но все-таки летная, а прогноз… хуже минимума. Из Норильска звонят: все летают, а вы почему сидите, не вылетаете?
Так дайте летный прогноз, я ведь по нему решение принимаю. А как там у вас летают и как принимают решения – это на их совести.
Ну, выдавливают.
Однако же я заявил молодому второму пилоту: главное качество капитана – терпение. Никаких эмоций, только разум и расчет.
Филаретыч пошел выжимать из компьютера новый расчет полета, чтобы был менее двух часов, тогда можно принять решение на вылет по фактической погоде, без учета прогноза.
Я жал на АДП и синоптиков: добейтесь летного прогноза от Норильска.
Филаретыч пришел с новым расчетом полета: 1 час, 59 минут.
Проанализировав в который раз погоду, я таки решился. Весь день погода летная, ну, на пределе. Маловероятно, что ухудшится, но и ждать некогда, ибо подпирает с запада циклон. Надо вылетать: либо сейчас, либо уж через трое суток.
Дозаправили две тонны топлива, выжав из перевозок точную загрузку. Теперь рубеж возврата получается не за 100 км до Туруханска, а через 100 км после него, уже в норильской зоне. Свяжемся по УКВ напрямую, из первых уст получим свежие условия и примем окончательное решение.
Но, сказал я ребятам, запомните мои слова. Держаться-то держится, а к нашему прилету ухудшится до самого минимума, и садиться придется, приложив все свое умение. Это уж проверено.
Вот эти слова мы и вспоминали, снимая стресс и усталость в холодноватом номере профилактория. Коньячок пошел хорошо.
В общем-то, мы – полярные летчики. Нам наиболее близки заходы в снежной круговерти, в цепляющейся за землю низкой облачности, в зарядах, в поземке и общей метели, в снежной белой мгле полярного дня, в морозной приземной инверсии, посадки на скользкую полосу. Привычное дело.
3.03. На днях в Перу упал наш Як-40, черемшанский; погиб Витя Е., хороший мужик, никого не обижал, будучи комэской; все бегал по утрам от инфаркта… Да только от судьбы не убежишь: высадил второго пилота и полетел вместо него; через 6 минут упали в горах. Вот уж кому судьба.
Кто ж его знает, как они там ту валюту зарабатывают; однако Як-40 – очень надежный самолет, и на моей памяти ни один не упал по вине матчасти, а все по вине экипажа. По нынешним временам приходится все чаще и все наглее нарушать, чтобы ухватить тот несчастный кусок.
4.03. Настырный корреспондент «Огонька» обстоятельно вынюхивал у комиссии подробности иркутской катастрофы. Наша местная газетенка «Комок» сумела добыть его репортаж.
Ну что. Впервые представитель прессы постарался более-менее объективно и толково разобраться.
То, что нам, пилотам, никогда не доводят, охраняя наши эмоции, – записи переговоров, – он привел. Оставляя в стороне все перипетии, приведшие к пожару, я уясняю для себя главное: с момента загорания табло «Пожар» и до потери управляемости прошло 4 минуты и 20 секунд. Такое примерно время я отвожу себе при пожаре на эшелоне, чтобы экстренно снизиться, выбрать площадку, сесть и начать высаживать тех, кто останется в живых. И прихожу, кстати, к мысли: да ни хрена не успеть, сгоришь.
А здесь пожар произошел в наборе высоты, через 3 минуты 54 секунды после начала разбега. С взлетной массой 100 тонн вертикальная зимой, в среднем, 15-17 м/сек; это набор 1000 метров в минуту. Значит, с разбегом и уборкой механизации, успели набрать ну никак не выше 3300-3600. И полет вокруг аэродрома: взлетали на восток, развернулись и пошли на запад. Это как раз траверз полосы.
Стандартный, классический фальковский случай, один к одному. У них оставалось 4 минуты 20 секунд управляемого полета; если сразу по 15 м/сек снижаться, как раз успели бы сесть, а если по 20, то заведомо.
Реакция опытнейшего, старейшего командира: что горит? Где горит? Давай туши… Ты все правильно сделал? Доложи обстановку…
И только через полторы минуты – доклад земле о пожаре и решении садиться правым доворотом. У них оставалось менее трех минут работы гидросистем.
Об этом думано-передумано, писано-переписано, омыто потом на тренажере: камнем надо падать на полосу! Камнем!
Управление отказало, когда они стали выпускать шасси – мощнейший потребитель гидросистемы. Уж тогда лучше не выпускать ничего, а садиться на брюхо на грунтовую полосу, есть шанс… Одной догорающей гидросистемы явно не хватит на все потребители.
И не хватило. И две минуты самолет плавно снижался, с работающим одним или двумя двигателями (записи МСРП сильно повреждены), не обесточенный, и, может, командир пытался перепрыгнуть через ферму, используя взлетный режим и стабилизатор вручную. А может, не использовал. Последние две минуты магнитофон «не писал», так сообщили корреспонденту.
Еще и еще раз подтверждается закон: при пожаре сразу все не сгорает, но – горит, около 4-х минут. Думать тут некогда, тут все в руках командира, и одна цель: скорее, возможно скорее на полосу, пока еще есть давление в гидросистеме, хотя бы в одной.
Главный конструктор Шенгардт сказал: не надо было доводить до пожара. Выходит, и он понимает, что на его детище пожар в хвосте – смерть.
Что ж, таков самолет.
А причина пожара выяснена. Как только пошли «эмки», так пошли разрушения направляющих лопаток воздухо-воздушного радиатора, ВВР; обломки клинили в открытом положении заслонку отбора воздуха на стартер, двигатель после запуска гнал воздух назад, стартер шел в разнос и рано или поздно разлетался.
Да, горела у них на старте лампочка «Опасные обороты стартера», но о ней в РЛЭ сказано: если загорится при запуске, двигатель выключить. А у них загорелась на предварительном старте, а что было дальше – покрыто мраком; но лампочка горела, факт, и они взлетели после этого, это тоже факт, и через 4 минуты возник пожар этого двигателя, и нашли обломки разлетевшейся турбины стартера.
Случаев разрушения ВВР полно, инженерия знала, КБ знало, одни летчики не знали. Ну, теперь мы все узнали, теперь нас настращали.
А что там сокрыто еще под сукном КБ, как тот же руль высоты, убивший Шилака, мы ведь так и не знаем.
Но я твердо знаю одно. Пожары возникают на взлете, последствия скоротечны и смертельны, и одно надо: скорее к земле.
Экипаж явно прошляпил. И нечего тут сюсюкать. Долго раскачивались. Командир виноват, тем более, опытнейший.
Солодун сказал: в стандартных условиях (+15 и 760 мм) самолет на одном двигателеидет в горизонте у земли с массой 84 тонны на номинале. А зимой, в мороз, на высоте 1000 м, на взлетном режиме двух двигателей? Стотонный самолет должен набирать высоту, тем более, на двух двигателях. Нос направлен в сторону Байкала… дотянуть до замерзшего озера, а там ледяная ВПП – почти тысяча верст.
Ведь он же не падал, как Фальков, а летел без крена, только чуть ниже глиссады, с вертикальной, ну, 5 м/сек. Поставить плавно номинал…
Солодун считает, что с управляемостью по тангажу, при условии передней центровки, проблем особых нет. Все-таки есть и режим двигателей, и стабилизатор. Перемещение же пассажиров по салону опасно: возможна, да безусловно, будет паника.
Поэтому, пусть пепел Шилака хоть и стучит в наши сердца, но я сторонник передней центровки и на взлете, и на посадке; мой учитель Солодун думает так же. Если есть передняя центровка, можно на любой скорости чуточку, на долю градуса, отклонить стабилизатор вверх, а прочувствовав степень управляемости, можно пытаться сбалансировать полет по тангажу. И если балансировочное положение стабилизатора будет полтора-два градуса, можно быть уверенным, что снижением управлять возможно, исправляя отклонения и вверх, и вниз, короткими нажатиями на планку ручного управления.
Если работают два двигателя, первый и третий, то и курсом можно как-то управлять, используя их разнотяг.
Единственно, мы с Солодуном сомневаемся в поперечной устойчивости самолета: все-таки отрицательное «V» крыла. Но ведь на глиссаде она идет как влитая, не в неустойчивом же равновесии, сама летит.
Должна, должна лететь машина. Важно только поймать момент начала отказа гидросистем и успеть установить рули нейтрально и оттриммировать, чтобы летела сама.
Мне кажется, Фальков упал с креном 60 именно оттого, что элероны замерли в крене, и пока давление не упало до нуля, создавали кренящий эффект.
Почему же тогда иркутяне снижались целых две минуты, до самой той несчастной фермы, и шли без крена?
Где все это смоделировать? Только летными испытаниями. Да только им – там, в верхах, – не горит…
Но и сидеть сложа руки и ждать смерти я не буду.
Мы сетовали с Солодуном: нам, летающим и рискующим пилотам, капитанам, как воздух нужны материалы этой катастрофы, подробный разбор, расклад по времени переговоров, связи, действий экипажа и реакции машины. Но все это пока тайна. До каких пор?
На тренажере схема висит: пожар двигателя и заход по кратчайшему с любой точки круга полетов. Со второго разворота: курс в траверз ближней, боковое 4, скорость 450, спаренный разворот, выпуск шасси, закрылков, – с высоты 700 метров до касания это займет 2 минуты 28 секунд.
А с высоты 3000 метров – только держи снижение 15 м/сек, а все остальное так же. Ну, три минуты, ну, четыре. И чего там расспрашивать бортинженера, какую кнопку он нажал.
Я крикну Алексеичу «Туши!», а сам брошу машину в разворот со снижением, и нет сомнений. Мое дело – земля, скорее к земле! Это я умею.
Тот лепет, что был у меня девять лет назад, – это уже позади. Я тут справлюсь. И даже так: кто же, как не я. Много, очень много бессонных ночей я на это потратил, может, больше чем кто-либо. Именно я-то и должен справиться.
На днях летал с Петей Р. в Москву. Зная, что он кандидат на ввод, дал ему штурвал и приглядывался. А до этого я его, за все четыре года, что он у нас летает, в глаза не видел.
Ну и что же? Хвалили мне его заочно. Но или я зажрался в своей требовательности, или он мне не показался. Ну, с Ан-2 парень, с солидным командирским налетом, да и у нас вторым уже тысячи две налетал.
Нет, это не Евдокимов, и уж далеко не Гайер. Далеко…
На горизонтальной площадке после выпуска шасси и закрылков он сучил газами и барахтался, как щенок. Недоученность. В собственном соку варился, хватка есть, но когда я спросил, учили ли командиры его подбирать расчетный режим заранее, он только пожал плечами.
Дать бы его мне на месяц, из этого курсанта я бы вымуштровал надежного ординарного пилота. А месяца за три довел бы до кондиции моей обычной продукции. Коля вон как теперь летает… из тюленя-то.
Ну ладно. Обратно я попросил у него штурвал слетать. Он: «Конечно, конечно… а я посмотрю».
Ага. А ты и посмотри. И думай на будущее. Тебе бы не со мной – с Солодуном бы слетать, с настоящим методистом.
Как раз инверсия была: на высоте круга где-то -15, а у земли все 30 мороза. Я предупредил, чтобы он пригляделся и ожидал уменьшения потребного режима на глиссаде.
Ну, со 150 метров так и прибирали: 78, потом 75, потом сдернули до 73 и так на этом режиме и сели. Элементарная посадка, днем, в штиль, – я разложил ее по полочкам. Но мне кажется, кое-что стало для Пети откровением, как, к примеру, то, почему, когда машина замерла на метре, вместо обещанного «раз-два-триии» и добрать, я сказал только «раз», подхватил и замер: режим-то 73, она не летит, падает сразу.
И вот такому пилоту, не дай бог, случись что, я должен отдать штурвал, а сам хватать микрофон и что-то щебетать пассажирам? Обойдутся. Мне будет некогда.
И каждому новому второму пилоту я тороплюсь вдолбить набившие мне оскомину простые истины – а ему же это откровение! – и скорее, скорее набить ему руку.
Скажет ли кто потом спасибо, в этом безвременье. Но я уже иначе не могу: это моя работа и смысл жизни.
Не шизонуться бы на этой катастрофе.
В Индии ЧП. Стоял российский Ил-86, загруженный барахлом нашей фарцы, заправлялся. А в небе тренировался «Боинг». Что-то там у него произошло, он загорелся, взорвался, горящий кусок упал рядом с нашим аэробусом, и тот сгорел дотла, вместе с вещами и документами пассажиров. Ну, судьба.
В Перу скалолазы соскребают останки нашего Як-40 с горы. На борту, оказывается, был их шеф-пилот, провозил по трассе. Видимо, жара, высокогорье, не вытянули… За 800 долларов в месяц…
16.03. Коэффициент сцепления в Полярном девять месяцев в году остается постоянным: 0,32. С посадочным курсом 350 система захода там – ОСП+РСП, а с курсом 170 – РТС обратного старта; соответственно и минимумы 100/1200 и 200/2500.
Вылетели туда вчера по прекрасному прогнозу: видимость более 10, временами 5 км. Подлетели – нам дают 1500, снег. Ветер южный, 5 м/сек.
При такой видимости заход только по ОСП+РСП с курсом 350, с попутным ветром. Во-первых, какая-никакая, а система; во-вторых, пробег на горку… хотя посадка в ямку; в-третьих… от дальнего привода все же есть просека в лесу, параллельная оси ВПП, и в снегопаде есть резон зацепиться за нее взглядом и корректировать курс.
Летал Коля, я освободился для контроля над ситуацией. Хотели использовать автопилот до ВПР, но он что-то очень вяло реагировал на рукоятку «Разворот», на четвертом из-за этого провернулись, и диспетчер дал команду взять курс 340, потом даже 320, это нам ни к чему.
Обычно по РСП надо подкрадываться издалека и постараться точнее вписаться в курс; нам же помешал западный ветер на кругу. Ну, отключили автопилот, и Коля худо-бедно стал по командам диспетчера выходить на посадочный курс. Я взялся за штурвал, ибо по опыту знаю, что при заходе по неточным системам неизбежны ошибки, а думать тут некогда.
Скомканный заход; я сам виноват: не учел попутную составляющую ветра от 3-го к 4-му.
Ну, вышли на курс. Диспетчер пристреливался с таким разбросом, что стало ясно: в Полярном локатор используется не очень часто. Курс 340, курс 0, курс 345, курс 350 и т.д. Витя контролировал по приводам, я понимал, что летим, в общем, туда, и следил за тем, как Коля пытается подобрать режим в горизонте. Ну, один раз он таки потерял скорость в горизонте с закрылками на 28, пришлось сунуть 85. В конце концов, с моей помощью, установили 82, а тут уже глиссада, команда диспетчера, надо снижаться.
И тут диспетчер стал донимать нас видимостью, что, мол, дают 1000 метров, а минимум… 80/1000… нет, 100/1200… нет… короче, сам запутался и нас пытается запутать, а мы читаем карту… Я быстро и напористо запросил разрешение на посадку. Он разрешил… и чего уж тут мелочиться из-за двухсот метров…
От дальнего я зацепился краем глаза за ту просеку, даже их две рядом. Проконтролировал МПР ближней: да, летим правильно, и просеки ведут туда, к полосе. И по глиссаде диспетчер подтвердил, что точно идем, и вертикальная 5, правильно, ветерок попутный. Теперь сесть без перелета, проверить торможение и быть готовым использовать реверс до полной остановки, мало ли что.
Замаячил домик БПРМ, подходит ВПР. И тут Коля прижал. Так это хорошо опустил нос – землю увидел. А я ж был начеку, ибо столько уже было случаев, когда на тяжелых самолетах пилоты – и опытные уже – покупались, ныряя под глиссаду, и – полон рот земли. У нас и так вертикальная 5 из-за попутника, а он ее уже довел до 7. Я резво и очень прилично вытащил машину на глиссаду, успев только сказать, что прижимать нельзя, вертикальную держим строго расчетную… и тут Витя крикнул: «Решение?» Я, грешен, нажал не ту кнопку, да и выдал в эфир: «Садимся, садимся, ребята!» «Садитесь?» –удивленно спросил диспетчер, и я торопливо подтвердил: «Да, да, полосу отлично видно».
Торец вырисовался в белой мгле точно по курсу. Шли по продолженной глиссаде (если она вообще существует при такой системе захода), а перелетать нельзя. Кое-как, вместе, мы дожали машину к полосе, я отпустил штурвал и только говорил Коле: дави, дави ее, не давай перелетать. А Коля замер, пытаясь поймать заснеженный белый бетон, и так и сел в пресловутую яму; я тут же перехватил тормоза, скомандовал «Реверс!» и плавно обжал педали до упора.
Ну, это не Горький, да и я уже не тот. Спокойно прикидывал: скорость 200, впереди еще два километра полосы, главное сейчас – оценить эффективность торможения; при малейшем сомнении – держим реверс до полной остановки.
Ну, схватывало, но слабенько. Проскочили рулежку, осталось 600 метров до кармана, а там еще метров 400 до торца; скорость 140, 130, выключить реверс; держат, держат тормоза; теперь вопрос: хватит ли их до кармана или не рисковать и, притормаживая, катиться потихоньку в конец полосы.
Хватило как раз. Развернулся в кармане, зарулил, всё. Кажется, нарушили минимум по видимости, да и черт с ним. Я бы очень удивился, если бы мне здесь кто-нибудь предъявил претензии. Зашли в АДП и с ходу поставили в задании сложный заход: видимость 1200. А теперь предъявляйте претензии.
И что – уходить на запасной в Мирный? Смех в зале. Эту тысячу метров и дали-то один всего раз; потом было 1500 и более.
Я объяснил Коле то, что он и так знал, но… слаб человек, увидел землю – и к ней, к родимой…
Да, вот так, с таких казусов, и закаляется воля будущего капитана: хочется прижаться к земле, вот она, – а нельзя. Memento mori! На что Коля тут же отреагировал: «моментом – в море».
Ага, моментом.
Еще и еще раз: после ВПР вертикальная скорость на глиссаде – только строго расчетная, и только у самого торца можно ее чуть подкорректировать. Если нужно прижать, это делается оч-чень плавно и немного: «только подумать». Если понадобится чуть уменьшить вертикальную над торцом, тоже надо «только подумать» и замереть.
А вне видимости земли, в тумане, в экране, в белой мгле, – только чуть на себя, на, а не от. И жди тупого удара в зад. Да, будет перелетик, но – соображай, прикидывай и учитывай это заранее, еще перед снижением, и обязательно готовь к этому экипаж.
4.04. Подробности катастрофы А-310. Расшифровали. Передают по «Маяку».
Ну что. Папа дал деткам порулить. Вез в Гонконг сына и дочь, высадил второго пилота, вылез сам, а на свое место посадил сына… Короче, когда уводил дочь в салон, мальчишка, видимо, начал что-то двигать и нажимать, автопилот отключился. За 22 секунды крен достиг 55 градусов, самолет опустил нос… папа влетел в кабину… пока вытащил, пока вскочил в кресло, а может, и не успел, схватил штурвал через плечи сына… Да кто-то из них попутно перевел стабилизатор на кабрирование…
Ну, верить этой радиопередаче, не видя официальных выкладок, трудно. Однако картина ясна и так. Самолет свалился в крутую спираль; говорят (говорят!), им не хватило тысячи метров высоты для вывода. Ага, а скорость? А перегрузка? Щас.
Зажрались мы. Деток за штурвал садим, сами гуляем по салону… А пятнадцатилетние капитаны управляются с судном. Но это только в книжечках для умных деток у них все сразу получается.
Какая же глупость. Ну, на весь свет: вот какие мы дураки, непуганые.
Ну, ладно бы, отказала матчасть – это наш удел. Но так позорно погибнуть – вариант самоубийства… Жалко же невинных людей, его же детей жалко: пацан не ведал, что творил.
А ведь на А-310 у нас не каждый, далеко не каждый пилот допущен летать, а только самые уж самые… Уж во всяком случае не я.
8.04. Слетал в Москву с Андреем Ч., ну, все хорошо, кроме посадки. Я лишний раз убедился, как важно не выскочить выше глиссады при сильном встречном ветре: он шел по глиссаде, а после ВПР механически продолжал выдерживать траекторию; поддуло, пошел выше, скорость стала возрастать. Я посоветовал прижать и сдернул пару процентов, вертикальная увеличилась, я снова подсказал. Он начал с 20 метров уменьшать ее… подвесил на 6 м, кое-как снизился до 3-х, и, в конечном счете, получилась натуральнейшая воронья посадка на последних углах атаки, даже с легким отскоком.
Ну куда тут денешься: с налетом менее 5000 часов на легком самолете – откуда же быть интуиции в пилотировании тяжелого лайнера. Я сжимал руками колени, но не лез, не мешал, а внутри все кричало: да прижми же ее пониже, да выровняй пониже, да сажай же на скорости!
Он потом бормотал что-то о просадке, о предварительном уменьшении вертикальной… Теоретик.
Сильный встречный ветер на глиссаде требует повышенного режима двигателей и, соответственно, меньшей вертикальной скорости. О какой тогда просадке на выравнивании может идти речь? О каком там уменьшении вертикальной? Как шел, так и иди, жмись чуть ниже глиссады, на полточки перед ВПР, на точку после нее. И как только знаки подойдут под тебя, пла-авно ставь малый газ и замри. Всё. Тут же и упадешь. Если есть чутье, успеешь чуточку подхватить, будет очень мягкое касание. А на уровне проверяющего с гербовыми пуговицами достаточно только, услышав доклад штурмана «два метра», скомандовать: «малый газ»; – и задача решена.
Ну, молод еще, пусть учится.
Зато назад он так выспорил расчетное удаление начала снижения, так подвел машину на малом газе к третьему развороту, что я его похвалил. Грамотный, язви его. Будут люди.
Правда, задачу он решил несколько однобоко: следил только за расходом высоты, а кинетическую энергию растратил зря. Поэтому мы, подходя к траверзу полосы, висели еще на 3000, спасибо, терпеливый диспетчер нам не попенял, да и бортов вокруг не было.
Ну, ничего. Умеет распорядиться потенциальной энергией – потом научится грамотно расходовать и кинетическую, а уж потом слепит все это воедино. От простого к сложному.
Вот так, методом проб и ошибок, я потихоньку постигаю инструкторское мастерство. Кажется, я немного, самую малость, научился разбираться в психологии ошибок новичков, знаю, что им рекомендовать на первых порах.
Причину катастрофы А-310 все средства массовой информации плавно, на тормозах, замяли. Внятно было сказано один раз, по «Маяку»; я как раз его слушал тогда. Остальные СМИ упомянули глухо, потом, видимо, поступила команда не муссировать… Досадная, мол, оплошность. А ведь по сути, это иллюстрация всей русской расхлябанной жизни. У нас это было, есть и будет.
15.04. По А-310 вдруг заговорили, что ничего еще не ясно, что уже претензии к производителю, что все еще ищут останки автопилота…
Раз за разом сообщения уже и совсем из ряда колдовских. Какие-то сильно умные читинские биоэнергетики предполагают, что самолет, давя бетон в Шереметьеве, долгое время находился под излучением каких-то нечистых сил, а пролетая над горой Белухой на Алтае, которая (всем же известно!) является центром положительного излучения, получил импульс этого излучения, а отрицательное, которое скопилось над ним в виде шара (!), аккурат над его хвостовым оперением, вступило в конфликт, или как там еще… И самолет прям затрясся. Ну, и т.п. белиберда.
О tempora, о more! Дикость наша.
И черные ящики есть, и записи расшифровали… а тишина… Шок. Зато вокруг да около – вплоть до экстрасенсов, биоэнергетиков, лозоходцев и всяческих трансцендентальных интерпретаторов…
Точно так же и об иркутской катастрофе. Ограничились информацией о причине пожара… но пилотам нужен подробный разбор… только пилотам.
14.06. Рейс в Сочи. Вечером приехал на вылет: Норильск против обыкновения давал хорошую погоду: нижний край 500, видимость более 10 и температура +7. Но подходил циклон, вернее, Норильск уже находился в его теплом секторе, ожидали холодный фронт. Я заторопил службы, а ребятам сказал: готовимся садиться по минимуму.
Но, как ни странно, сели в прекрасную погоду. Сверху, правда, было видно, что Енисей уже накрыла низкая облачность, но на полосе было почти ясно, мы хорошо просматривали ВПП с траверза в лучах низкого полярного солнца.
Зашли к синоптикам. Мне формально нужен был заход по минимуму, но погода же звенела… ну, набрался наглости, попросил поставить заход. Я потом этих минимумов нахватаю, как сучка блох, но… срок кончался, могли мне временно из-за отсутствия заходов поднять минимум, потом с проверяющим опять ловить, понижать…
Не успела девушка мне ответить, как наблюдатель со старта передала по громкой связи: «Нина, подходит, подходит, закрывает! Видимость 1500! 1000! 500 метров!
И пал туман.
Все это произошло за минуту. Ну, заход мне поставили, заверили печатью в АДП, и я, счастливый, пошел на самолет, поглядывая, когда же пронесет эту случайную низкую тучку, первую тучку подходящего к нам фронта, зацепившую бугорок Алыкеля.
Пока сажали пассажиров, мы констатировали, что, вылети мы из дому пятнадцатью минутами позже, – всё, приплыли бы в Хатангу, и праздничные наши рявкнулись бы. Однако туман сгущался и устойчиво уплотнился до ста метров. Надо было что-то делать.
Норильску тоже хотелось выпихнуть нас поскорее, да и лечь спать всем службам. Взаимный интерес выразился в разговоре через форточку с подъехавшим руководителем полетов, где начали было с намеков и экивоков, а потом я прямо сказал: давай запуск, я взлечу при видимости сто метров, слава богу, почти 30 лет сюда летаю. Он спросил: так вы красноярцы? Да, да, именно. Ну… ладно, я вас выведу на полосу… давайте.
И мы взлетели. На выходе из зоны я поблагодарил службу движения.
Фронт визуально кончался где-то у Надыма, так что нашим сочинским сменщикам корячилось дожидаться в Уфе открытия Норильска часов пять, если не больше. Но… надо ж еще пригнать им самолет в Сочи.
В Уфе под утро дремалось. Проводницы накачивали нас кофеем, да так в этом преуспели, что на подлете к Сочи мы уже и не помышляли о сне. Погода звенела, я зашел и мягчайше сел на короткую полосу, испытал свой пилотский оргазм, лихо и мерзостно-криво зарулил на стоянку… а самолет наш ждал там экипаж Солодуна, который, выстроившись, с пяти метров наблюдал всю картину. Я крякнул… но уже не перерулишь, позор свой перед Мастером не скрыть.
И ведь что интересно. Когда Солодун учил меня высшему пилотажу, он сам, пришедши на «Ту» с Ан-24, едва ли четвертый год летал на лайнере командиром. С тех пор я сам уже двенадцать лет как командир, учу людей. Но я что-то за Вячеславом Васильевичем не припомню ошибок в те времена. А сам, будучи уже мэтром и старым волком, обгаживаюсь на каждом шагу, и все как-то на глазах Учителя. Как же ему за меня неловко. Он же ревниво следит за моими успехами… и неудачами.
Ну ладно, Солодун улетел. А мы быстренько побежали окунуться.
Было море, и солнце, и роскошный шашлык на ребрышках, и дружеская беседа за бутылкой, перешедшая в пьяненький полет. In vino veritas… Ребята пели мне дифирамбы; я вяло отбрыкивался на остатках горящей совести и стыда за заруливание.
Однако в отряде обо мне мнение среди рядовых очень высокое, ко мне в экипаж мечтают попасть, и я это знаю. И нынче вот два новых члена экипажа попали… и видели мой позор… А они хвалят меня за взлет в тумане. Да кто ж в нем не взлетит, тут спасибо РП, что взял на себя.
Вечером следующего дня вылетели домой. От Ростова и до утра стоял фронт. В волгоградской зоне пришлось залезть на 11100 потом на 12100, еле пересекли его, извращаясь синусоидами вокруг наковален. Крутились вокруг них до тех пор, пока не уперлись в запретную зону. Саратов начал пинать нас Уральску, пришлось идти по другой трассе: вместо Саратов-Самара-Уфа мы поехали на Уральск-Уфу. Витя вертелся как белка в колесе, оттянул не вовремя зашедших с ужином проводниц, выгнал их… потом ходил, извинялся. Ну, было сложно.
Так, на 12100, мы дошли до Тобольска, и все по фронту. Потом фронт ушел на южную трассу, мы пошли параллельно ему, а в районе Ачинска снова встретились. На снижении лезли через размытые засветки, нас швыряло, дождь ударял в стекла; в дожде и заходили. Ну, Юре хоть и сложновато было, но справился, я только попросил старт убрать пару ступеней ОВИ, а садились в дожде, на газочке, мягко получилось, хоть и сбоку от оси, метров шесть, но приземлил машину он сам.
20.06.Слетали в Москву. Полет на 505-й уж совсем показал, на каком же дерьме нынче мы перевозим трепещущие души пассажиров. И НВУ отказало, и курсовая ушла за полет на 10 градусов, и из-за этого слегка уклонились от трассы, и еще что-то, не помню.
Наши самолеты устарели физически, долетываем ресурс. Ни одна ВСУ с первого раза не запускается, и я твердо уверен, что не запустится она и в воздухе, в аварийной ситуации, и буду это учитывать. Отказы за отказами, но все равно приходится работать на этом дерьме. Заходишь в автомате, он в любой момент отключается по любому каналу; выматеришься, отключишь САУ и крутишь вручную. Так и вчера было.
Как машина с Ирана, так куча дефектов: они там эксплуатируются на износ в условиях, выходящих за пределы РЛЭ. А мы потом летаем на них здесь, а дефекты прут и прут, изо всех дыр.
Но другой техники нам нет, и не будет.
21.06. Авторитет не заработаешь, если будешь перемещаться с места на место. Пусть на старом месте ты был самый уважаемый, а на новом ты пока никто, и когда еще себя покажешь, нужно время; а окружающим плевать на то, что тебя где-то там уважали. Ну, по словам старых коллег, конечно, что-то складывается, мнение какое-то, предварительное, но – покажи себя здесь.
Я пролетал двадцать лет на одном типе самолета. Пожалуй, меня здесь знают все.
Лишний раз тому подтверждение. В домодедовской столовой мои ребята, сидя спина к спине с проводницами, что-то пошутили через плечо насчет меня. Я плохо слышал, занятый беседой с Алексеичем. Но ревнивое ухо уцепило слова проводницы: «Да что вы, у нас Василий Васильевич – командир, единственный во всем управлении».
Конечно, времена жестокие, и люди ожесточились, а я как всегда ровен и дружелюбен с людьми. Может, это мое самое положительное качество, может, и мастерство; мне бы еще приятнее краем уха – да услышать комплимент именно моему мастерству. Слаб человек.
Но все-таки авторитет я заработал, и, надеюсь, не только среди бортпроводниц.
Какие-то молодые ребята, я их вроде в глаза не видел, здороваются в отряде. Звонишь в план, называешь себя, – в трубке: «А, Василь Василич, привет…» – кто такой, понятия не имею. А меня знает.
Я старик. Нас уже мало.
24.06. Мрут летчики. Только похоронили Лешу О., как скоропостижно скончался Саша К., бывший штурман Ту-154.
Ну, Леша, старый волк, пролетал лет 35, квасил по-черному, но раз в неделю выгонял похмелье жестокой баней. Стал запиваться года три назад; еще год тому слетали с ним в Волгоград, я писал: со сломанным ребром… Но уже летать с похмелья стало невмоготу… ну, ушел. Года на пенсии хватило: на 58-м году инфаркт.
А Саша и пролетал-то лет пятнадцать, сначала радистом, потом переучился на штурмана. Сердечко слабое, сам грузный, ну, списали пять лет назад, и вот, на 48-м году, уснул и не проснулся. Тоже инфаркт.
С командиром Т. плохо. Что-то в горле: то ли какие нарывы, то ли еще что. Жена врач, лечили, лечили…теперь вот будут облучать. Похудел за год на 10 кг… Не дай бог.
Сегодня на проходной увидел Лешу П. Он моего возраста, лет пять назад сам ушел на пенсию, устроился где-то в совхозе завгаром, вроде все хорошо было… теперь вот отирается на проходной, похудел, постарел; значит, не все хорошо.
Нет, наш путь очерчен четко: летай до могилы, до рака, до инфаркта. Уйдешь на пенсию – жди скорую смерть.
В Китае упал на взлете Ту-154М. После взлета началась раскачка по крену, ну, выключили САУ, раскачка не прекратилась, замотал носом и через несколько секунд разрушился от перегрузок. В обломках нашли блок с перепутанной полярностью штекерных разъемов. Машина с формы, были работы по системе управления, кто-то перепутал полярность. После этих работ вообще-то полагается облет; нет, полетели сразу с пассажирами в рейс.
РЛЭ рекомендует в таких случаях отключить САУ, немедленно выключить РА-56, предварительно установив кран кольцевания на «ручное». Они этого не сделали, и ложные сигналы от системы устойчивости-управляемости шли на рулевые агрегаты, те дергали рули в другую сторону, а бустера не пересилишь. Надо знать.
Сколько уже произошло у нас катастроф по управлению самолетом; я только помню: Шилак, Карши, Фальков, Иркутск, вот пятая, в Китае.
Да, на опасной машине мы летаем, но лучшей нам не видать. Вчера случайно в Российской газете читаю: Ту-154 будет летать до 2020 года! Молодцы конструкторы – заложили резерв ресурса!
Да дерьмо! На дерьме советском летаем, по необходимости, по нищете великой. Другого-то ничего нет, и не предвидится, и не будет, ибо – развал всего, а по чистой случайности еще сохранилось производство нашего жеребца. И никто никогда не поставит на нем дублирующую тросовую проводку.
Будь готов! Всегда готов!
А я свою ласточку все равно люблю. Этого не объяснишь.
8.07. Как везем на юг детей, так у меня открыта кабина. Экскурсанты сопят за спиной. Я – нарушаю.
Но кто же вырвет детишек из цепких объятий коммерции, приобретательства и халявы. Ведь они кругом видят одно: деньги кругом чуть не дармовые, и добываются любым, большей частью, нечестным путем, а правит везде кулак. И маленькие сердечки ожесточаются, и в них проникает лицемерие.
Так пусть же хоть на минуту прикоснутся к честной, благородной, тяжелой, интересной, мужской профессии. Интерес – вот главное, что может зацепить душу ребенка.
Но когда я гляжу на прилизанную рекламу, как биржа забирает у меня несмышленого пацана, как он идет, разинув рот, по ее величественным залам, как его похлопывает по плечу лощеный финансист, который ничего в этой жизни не производит, тем более, в советском союзе, а спекулирует ценными бумагами и ловит курс валют, – и это считается почетным делом настоящих мужчин! – я зверею. Я сажаю в свое капитанское кресло мальчишку, даю ему в руки облупленные рога настоящего штурвала – кто кого пересилит? Биржа или самолет?
Ну, давайте все станем финансистами. Кто же тогда будет таскать штурвалы? Кто вообще тогда заинтересуется реальной жизнью: строительством, транспортом, добычей, выращиванием хлеба?
Кто кого кормит в этой жизни?
Я – нарушаю. Дети вечно толпятся в кабине. Пусть же хоть один потом придет мне на смену!
Подходишь на стоянке к только что зарулившему самолету. Он стоит, опустив натруженные, потные крылья, капли дождем стекают из ледяных подмышек, хранящих еще холод стратосферы. Фары мертво, по-рыбьи, таращатся в стороны. Колеса, приняв на себя и затормозив многотонную массу машины, дымятся от натужного внутреннего жара. Трясутся шланги от жадно, судорожно заглатываемого топлива. Освободившиеся стойки шасси со вздохом облегчения разжимаются, чтобы через час со стоном и напряжением вновь взять на себя полный, стотонный вес, просесть в ожидании желанной, в вихрях приходящей подъемной силы крыльев. Молчат усталые агрегаты, отдыхает извертевшаяся шея радиолокатора, запрокинулись авиагоризонты в тяжелом забытьи, замерли компаса, заглушены датчики скорости и высоты. Короткий отдых.
Потом все оживет. Засвистят турбины, вспыхнут и устремят свои лучи вперед фары, завертятся колеса – и вперед, в небо.
И командовать всем этим буду я.
А может – ты?
Может, хоть один затаивший дыхание за моей спиной мальчишка заболеет мечтой летать?
Или все же – биржа?
20.07. В отряде тщательно изучается иркутская катастрофа. Наконец-то пришел официальный приказ.
Так как меня допекло, я пристаю к командирам воздушных судов с обсуждением. Но всем или плевать, или недосуг, все как-то пытаются замять…
Раз министр сказал, что экипаж действовал в полете безупречно, то и приказ составлен в том же духе: да, ошиблись при принятии решения на взлет с горящей лампочкой «Опасные обороты стартера», но в аварийной ситуации – безупречно. Экипаж сделал всё.
На траверзе полосы у них загорелось табло «Пожар», и командир сказал: «Илья, горим!», а бортинженер доложил о пожаре второго двигателя.
Дальше такие команды: «Действовать согласно РЛЭ!» и «Номинальный режим!»
Высота была 2100, скорость 550, курс обратный взлетному, где-то траверз дальнего привода, режим двигателей в наборе и так стоял номинальный… Дальше опытнейший летчик продолжил набор до 2800 и ушел от полосы на 24 км, ведя беседу с Ильей, который себе разряжал и разряжал все три очереди противопожарной системы в мотогондолу горящего двигателя. Да еще сработала сигнализация пожара в отсеке ВСУ. Поговорить, конечно, было о чем.
Безупречный экипаж тем временем все набирал высоту, уходя все дальше от спасительной полосы. Потом дошло, что уже тушить нечем и сейчас сгорим.
Тогда только старый командир доложил земле о пожаре и решении заходить правым доворотом на полосу.
За время спаренного разворота успели снизиться до 900 метров. Значит – могём? Где ж ты раньше был…
Потом решились выпустить на всякий случай шасси, и тут же рявкнулась первая гидросистема, шасси только успели сняться с замков. И стало падать давление в двух других гидросистемах, наверно оттого, что от высокой температуры потекли соединения трубопроводов высокого давления.
Включили насосные станции, которые не поддержали давление, а только скорее выгнали жидкость через дырки. Поздно. И тогда второй пилот доложил: «Ребята, ни х… не управляется».
Дальше самолет летел на режиме чуть ниже номинала, снижаясь в сторону города, с вертикальной 2-4 м/сек, на скорости 510, с убранными закрылками и предкрылками, со стабилизатором на нуле, с углом траектории к горизонту 1-2 градуса, – летел! И так они и прилетели в ферму, с тангажом 3-5 градусов и незначительным правым креном.
Никто не пытался тронуть тот стабилизатор, не пытался с его помощью как-то уменьшить скорость снижения, сбалансировать самолет хоть на скорости 400 км/час. Полный шок. Экипаж бездействовал.
А может, видя, что до полосы не дотянуть, а впереди город, экипаж решил, что лучше упасть до города?
Об этом в приказе не сказано.
От момента загорания табло «Пожар» до отказа всех гидросистем прошло ровно 4 минуты. Тот корреспондент не соврал, все точно расписал.
Ну, хотя бы, раз уж на то пошло, на разборе тщательно разобрать, изучить действия экипажа, который сделал все… чтобы погибнуть. Нет, изучается причина и ищется враг: проклятые заводчики, плохое КБ, плохой самолет.
Ну что ж. Самолет, верно, плохой. Ну а экипажи у нас молодцы.
Капитаны говорят мне, пилоту, летающему с 67 года, пролетавшему на «Тушке» пятнадцать лет: «Э…»И еще раз: «Э…» – и пожимают плечами.
Э… вот мы не привыкли доверять сигнализации. Э… сколько было ложных срабатываний… Вот и они, наверно, думали…
Ага. Когда загорелась лампочка, сигнализирующая, что стартер идет в разнос, а после взлета загорелось табло «Пожар» – какие тут ложные срабатывания? Горим, Илья! Стартер таки разнесло!
Думали… Когда тут прыгать надо. И я по дурацкой своей привычке подумал: а может, я не совсем прав, что лезу в дебри? Может, дядя лучше меня понимает?
Да нет, Вася, ты сам уже дядя. Ты-то как раз и прав. При чем тут сомнения. Ты зачем пролетал 27 лет – чтобы к пятидесяти годам перестать доверять матчасти? Тогда не верь и авиагоризонтам – может, и они врут? Может, нырять под облака и искать землю визуально?
Ты капитан, и твое капитанское дело в полете (раз уж принял решение взлетать) – не совать свой нос к бортинженеру в кнопки. Ты ведешь бой, и каждая секунда – на твоей ответственности. Твоя борьба – пилотирование. Пусть его выполняет второй пилот, но движением самолета управляешь ты. И если при пожаре, рядом с полосой, ты ведешь дебаты, да еще и набираешь высоту, – ой, я глубоко сомневаюсь в твоей профессиональной состоятельности. Пусть тебе под 60 и ты летчик от бога. Бог тебя и прибрал… с пассажирами.
За четыре минуты сесть можно. Ты сам на тренажере это отработал.
Ну, пусть даже отказало бы управление над торцом полосы – но уже самолет шел бы к земле: под тем же углом, 2 градуса, с вертикальной 3-4 м/сек, но – на скорости 300, а не 500; но на полосу, а не на ферму. Ну, ударились бы, ну, перегрузка 2, ну, 3, ну, развалились бы – кто осудит? Вот тогда бы сказали: экипаж сделал всё, попробуй-ка ты лучше сделать.
А поставить номинал и уходить от полосы с набором… вот это и естьвсё?
Спасибо хоть составителям этого приказа за то, что для думающих они между строк оставили достаточно информации, да плюс схема полета в плане, в масштабе, расписанная по времени, с накладкой переговоров. Вот по этой схеме, по удалениям, по времени и высоте, по докладам и командам, – по всему этому мыслящий, не кабинетный, а реальный линейный пилот, представит себе явственную картину, как действовал безупречный экипаж и его опытнейший, от бога, капитан.
А теперь о Як-42. Летели из Саратова в Сочи, через Минводы, ночью. И над Кавказом у них отказал, замкнул аккумулятор, обесточились цепи, все погасло. Ну, согласно рекомендациям РЛЭ, они там чегой-то еще перещелкивали… но получилось еще хуже. Ток кончился, связи нет, ничего нет.
Что ж капитан?
А капитан заложил вираж на 180, ориентируясь по краю видимого из-под кромки облаков закатного неба, по магнитному, неточному компасу, «бычьему глазу», взял примерный курс на Минводы, сумел в предгорьях аккуратно снизиться и по мигающим маячкам найти в ночи аэродром. Потом пристроился к заходящему на посадку «туполенку», установил давление аэродрома по данным из бланка погоды, где Минводы брал запасным, зашел за «туполенком» как за лидером и приземлился за ним следом – без связи, без фар, без приборов и без огней. Парой садились, как истребители. Понимая, что его никто не видел во тьме, не знает о нем ничего и на него сейчас усядется сверху следующий борт, высадил на обочину пассажиров и отправил бегом проводника на перрон – сообщить кому-нибудь, чтоб передали на старт, что на полосе стоит обесточенный самолет.
Я не знаю, от бога ли капитан, но я б ему с удовольствием пожал руку. Вот только не пойму – в информации не сказано, – почему он не зарулил на перрон? Может, что-то такое с управлением передней ногой или с тормозами, что обесточенный самолет не рулит?
Ну, молодец. Донсков его фамилия. Героев надо знать. Казак лихой.
23.07. Рейс на Белгород оказался для меня рейсом отдыха. Весьма часто примыкающий к нам последнее время Пиляев не мешал мне лететь, большей частью терзая радар и, между делом, Филаретыча, который, впрочем, не особо на него праздновал, а молча делал свое дело. Гроз хватало, но перед Уралом я настоял залезть на 11600, и дальше полет протекал спокойно. Посадки и в Волгограде, и в Белгороде не представили для меня особой сложности, скорее даже блеснул.
Переспали в гостинице; я утром, предполагая, что полетит Коля, купил в пустом вокзале какую-то фантастику Берроуза и весь полет обратно читал в салоне.
Шли вдвоем с Сергеем в волгоградский АДП, и он начал предъявлять претензии к работе Евдокимова: вот, медлителен, вот, никакой реакции, запаздывает с пилотированием в директорном режиме, любит автопилот, а надо на руках, на руках… ты его распустил…
Я согласен кое в чем; ну, насчет реакции Серега загнул: Коля мастер спорта по горным лыжам. Во всем остальном я тоже не вижу криминала. Да если бы у нас все вторые пилоты так летали, то нам смело можно уходить на пенсию. Посадки же Коле удаются мягчайшие, Сергей сам убедился.
Я согласен, что надо ему больше пилотировать вручную, но мой метод – от простого к сложному; на автопилоте научился, прочувствовал массу, – теперь начнем шлифовать ручное пилотирование; это тяжелее.
А насчет требовательности я прямо сказал: ты требуешь с людей строго, даже жестко, придираешься; люди обижаются, Сергей.
Он слегка смутился. Да… он, конечно, придирается… но если бы это был бесталанный, то и бог бы с ним, но Коля-то летчик хороший, с него и спрос больше.
Разговор перешел на методы воспитания, требовательность, психологию, – короче, наш профессиональный разговор. Хотелось бы, чтобы обиды проверяемых, резко и прямо высказанные мной, заставили Сергея задуматься о своих методах и педагогических нюансах. Все же он чуть смутился… Но, я думаю, вряд ли он уже изменится, уже, пожалуй, поздно.
Привыкнув воспитывать молодежь с крестьянской грубоватой прямотой, иной раз и с матерком, обтесывая нюансы, – он мои интеллигентские изыски считает ненужной мужикам слюнявостью.
Молодежи, конечно, нравится мое доброжелательное отношение, стремление облегчить процесс обучения хорошим психологическим климатом, собственно, само желание научить. Ибо у нас предостаточно еще капитанов, которые до сих пор считают, что курица не птица, стюардесса не девица, вертолет не самолет, а правый летчик – не пилот.
Поэтому ко мне стремятся в экипаж.
Ну, а среди равных… Я не скрываю своих ошибок, рассказываю о них открыто всем, пусть учатся, и меньше всего при этом забочусь о своем авторитете. А ведь многие не только, боже упаси, не распространяются о своих ошибках, а наоборот, напускают на себя вид, надувают щеки… хотя все прекрасно знают, кто чего стоит.
Но и чужие ошибки, ставшие достоянием гласности, я разбираю не щадя, и тоже вслух. Не знаю, этично ли беспокоить прах погибших товарищей, но если за их ошибками лежат горы трупов, то я переступлю через этику. Молчать нельзя. Если покойный командир в Иркутске совершил ряд непростительных ошибок, то о нем, о мертвом, я не стесняюсь говорить то, что он заслужил, о его несостоятельности.
Мы не имеем права молчать. Другое дело – что он за личность. Туда я не лезу, я его не знал; может, он был прекрасный человек. Но как профессионал он оказался беспомощен; а был путь к спасению, и он им не воспользовался, даже не пытался, а действовал, по моему разумению, на рефлексах, на инстинкте.
Так вот. Равные мне по мастерству, по возрасту, начальники, – пусть они считают меня чудаком, мне от этого ни холодно, ни жарко. Мы с ними все скоро уйдем, и по каждому из нас останется память. В конечном счете, это самое важное. А уж если не останется памяти, то не останется и общества.
28.08. Накануне пятидесятилетия.
Надо точно рассчитать запас своих резервов, знаний, а главное – осторожной стариковской осмотрительности (потише-потише), – чтобы хватило до конца. Уже я ничего нового в теории почерпнуть не смогу, новые знания просто не воспринимаются мозгом. Это и есть основной итог прожитых пятидесяти лет.
А мне дочь все задает вопросы: а почему ты не хочешь летать за границей? А почему бы тебе не переучиться на DC-10? Не выучить английский?
Вот, вот, потому. Поэтому. Я уже на новое не способен. А старое, добытое опытом, отлежавшееся и надежное, – можно еще использовать, надо только оптимально рассчитать возможности и работать по старым, отполированным стереотипам.
Теперь я понимаю «потише-потише» Кузьмы Григорьевича Рулькова.
Учеба становится для меня непосильной. Когда в УТО по метеорологии мы недавно стали учить новые коды, я это понял. Конечно, коды я выучил, в той степени, в которой они понадобятся мне для практической работы, это утряслось само… Но я убедился, и не только на этом примере, что началось снижение.
Вот и придется лавировать, как между грозами, используя и свой пока еще достаточно высокий потенциал, и накопленный опыт, чтобы протянуть подольше и как-то осилить неизбежные, так не желаемые мною новшества.
Я не хочу изменений в своей сложившейся работе именно из-за этого: сбиваются стереотипы, а способности адаптироваться у меня почти исчерпаны.
И о любви к профессии. Любит человек скорее не само дело, это приедается, а любит он спокойную уверенность в стабильности и собственной состоятельности, выработанную привычной профессией. Незыблемость и уверенность в завтрашнем дне к старости становятся главными аргументами.
Вот и я люблю эту самую свою незыблемость. Одно да потому. Стереотип.
Так зачем мне в пятьдесят лет английский и неизвестная, тяжелая работа в иранских горах. Это удел тех, кто помоложе и пожаднее к жизни. Да и жару выше +27 я не переношу. Я бешусь от нее.
20.09. Втягиваюсь в полеты после отпуска. С непривычки даже дневной Владивосток показался тяжеловатым. А ведь, по сути, – рейс отдыха: туда-обратно, днем, с пустыми руками. Но вечером едва дополз до кровати.
А вчерашний Краснодар получился таким, что против него Владик – просто легкая прогулка.
Туда добрались без приключений. Просто тягомотина: высидеть пять часов за штурвалом. Но вот непривычная, за 30, жара быстро загнала нас в относительно прохладную гостиницу. Легли было спать, но не тут-то было: кондиционер сломался.
А дальше – отсылаю к воспоминаниям десятилетней давности о том же Краснодаре или Владивостоке: духота, наматывание влажных простыней и полотенец на тело, шлепки, вздохи, – и так всю долгую ночь. Я лично не сомкнул глаз.
Утром купили мелочевки на рынке, загрузились в старенькую 124-ю; экипаж предупредил, что очень поющая машина. Я полез ремонтировать форточки, обрезал торчащую резину окантовок; в ход пошли и жеваная бумага, и найденная случайно жвачка, прилепленная детворой к железке у самолета, и кухонный нож, и лезвие от бритвы.
Кое-как выровнял я кромки множественных заплат (нищета наша), запер форточку и дал наказ не открывать ее в промежуточных портах, чтобы не выпали затычки.
В наборе она попела, а на эшелоне подавилась жвачкой, затекшей от перепада в мелкие щели, и утихла; запевала и снова глохла.
Усталость от бессонной ночи… обычное дело. Кажется, ну, опишу когда-то, ну, нарисую картину… А что напишешь. Это надо попробовать самому, оно иногда полезно.
В Уфе было прохладно, и мы чуть отошли от жары. Тщательно изучили прогнозы… но Норильск есть Норильск: он закрылся, и мы, сделав для порядку кружок, ушли на Хатангу.
В Хатанге ремонт, туалеты не работают; пассажиры привычно отправляли естественные надобности за углом… обычные условия советского Заполярья. Хорошо хоть комаров не было.
Рабочее время кончалось, надо было решать, ночевать ли здесь или попытаться перелететь в Норильск. После неоднократных телефонных переговоров я решился, и мы перелетели. Там нас не задержали, и мы, нарушая все что можно насчет рабочего времени, улетели домой. Сели под утро. Коля развез по домам. Шестнадцать часов работы.
Обычная, рутинная работа. Ну, то что в Норильске начинался гололед и предельный боковой ветер, что я посадил машину невесомо, – после бессонной ночи и затем четырнадцати часов борьбы с дремотой, с ревущими ногами, под периодическую песнь форточки, которая в последнем перелете раскаленным буравчиком сверлила нам мозги, – это само собой. Привычное дело. Все посадки удались, а в Хатанге я и вообще посадил на цыпочки. Тоже само собой.
Приехал домой и ждал у двери десять минут, чтобы раньше времени не разбудить Надю, которой рано вставать на работу. Возбуждение после полета снял хорошей стопкой водки, закусил – и вырубился до обеда.
Через пару дней снова в Норильск, там уже снежок пробрасывает, зима на носу, холод, гололед на перроне, заряды… Это хорошо, это – наше… Какой еще, к черту, Иран.
Привычно материли работу, боролись с усталостью, дремали по очереди, определяли вечные неисправности и залипухи матчасти: то курсовая, то РСБН, то автопилот, то связная радиостанция…
Спасибо бабулькам-проводницам: не задавая вопросов, усталые как ломовые лошади, они только кормили и кормили нас, изыскивая в небогатом рационе нашем и как-то облагораживая все съедобное и почти съедобное. Поджаренная булочка с маслом и повидлом, бульон с красным болгарским перцем, зажаренная в духовке казенная курица, посыпанная травками, и кофе, кофе, кофе, – из личных запасов…
Люблю летать со старушками, да и они любят летать со мной. Расшаркались на выходе из самолета, взаимно благодарили друг друга, желали всех благ. Раз мы все держимся за работу, то зачем бы нам портить друг другу настроение, запряженным в одно ярмо… сколько нам там его осталось. И у них ведь тоже ноги ревут и спины отстегиваются… а за стаканом вина, в общих воспоминаниях, вроде даже молодеем.
В прошлом полете читали опубликованную в газете запись кабинных переговоров злосчастного А-310. Как я говорил, так оно и было. И даже еще хуже: все три пилота (с проверяющим!) были тут же в кабине и щелкали клювами: ах, пролетаем прекрасный город Новокузнецк, ах, какое небо, ах, какие огни на земле…
Когда они прощелкали увеличение крена почти до 60 градусов и самолет опустил нос и пошел со снижением в глубокую спираль, и в кабину ворвался свист, и грохот сорвавшегося с крыльев потока, и сигнал критического угла атаки, – явно штопор, – вот когда они, трое опытных пилотов прозевали все это и встали перед фактом, что минуту назад ахи и охи, а сейчас самолет беспорядочно вращается, – тогда началась работа. Командовал правый пилот, проверяющий. «Крен туда! Нет, сюда! Нет, туда! Взлетный режим!» Трижды: «Ты установил полный газ?» И на всем этом фоне истерический крик капитана: «Вылезай! Вылезай! Вылезай!» И так – двенадцать раз…
Пацана он все же, видимо, вытащил и сам вскочил в кресло. Судя по тому, что упоминалась «ножка», – старались вывести из штопора, а газ, видимо, дали асимметрично, чтоб этой «ножке» помочь остановить вращение. Им вроде удалось вывести из штопора, и дальше уже переговоры только о выводе из глубокого пикирования: «плавнее, плавнее, не тяни, выходит, выходит, сейчас выйдем, сей…» И всё.
Резко тянуть нельзя, сломаешь самолет, а плавно – может не хватить высоты. Очень уж мал диапазон допустимых перегрузок у пассажирского лайнера.
То ли они, видя, что земля уже близко, все же рискнули потянуть, то ли, слишком медленно выбирая просадку, израсходовали всю высоту. Так или иначе, а из штопора вывели слишком поздно.
Я им не судья. Они не летали на пилотажных Як-18 в училище, а сразу на Як-40; где ж им уметь практически выводить из штопора. Да это и не главное. Главное – прозевали, что самолет вошел в крен, довели машину до сваливания. Мальчик еще спросил: «А чего это она сама поворачивает?» «Сама?» «Как это – сама?» И крик второго пилота: «Ребята!»… но уже поздно.
Чего тут разбираться. Бросили машину на произвол судьбы.
Ясно одно. На левом кресле пацан 16 лет, первый раз в жизни держится за штурвал. А на правом кресле – пилот-инструктор, первым в стране освоивший новейший зарубежный лайнер… и он прозевал…
А вообще, это надо тех читинских биоэнергетиков спросить: как там над Белухой излучение?
29.09. Обсуждаем случившуюся накануне катастрофу черемшанского Як-40. Закрылась Тура, и командир, Толя Д., вместо того чтобы уйти на запасной в Байкит, где вроде бы была отличная погода, пошел почему-то на Ванавару, которая в два раза дальше, но… следующая посадка должна была быть в Ванаваре, вот они и пошли туда. И топливо у них кончилось, за полсотни верст до Ванавары. Они пытались сесть с заглохшими двигателями на реку, но зацепились за дерево, и самолет развалился.
Командир опытнейший. Мы с ним вместе летали командирами еще на Ил-14. Как ни ломай голову, а объяснить такое его решение можно только какими-то экономическими, может, рваческими, шкурными интересами.
А может, топливомер соврал – был же подобный случай где-то под Сургутом, но там сели благополучно на лед.
Меня эта катастрофа как-то не волнует. Ну, сделали глупость, сами погибли, угробили людей, – с точки зрения летчика это примерно как если бы взлетел – и тут же отдал штурвал от себя. Нелогичный, глупый случай.
Народ как с ума сошел: шкурные, экономические интересы выше профессиональных. Это и есть развал страны. Сместились все ценности и приоритеты, и люди ошибаются в принятии верных решений.
3.10. Почему Толя Д. не пошел на запасной в Байкит? Потому что Байкит за обслуживание рейса требует оплату наличными, которых у экипажа нет. Нищий аэропорт Байкит, брошенный в море самоокупаемости, Байкит, созданный-то только для обслуживания нерентабельного Севера, – Байкит можно понять. Но, тем более, можно понять и решение командира Д. Чего лезть в этот Байкит, – будучи поднятым в рейс из резерва, без гроша в кармане, – сидеть и ждать там, пока чиновники договорятся об оплате, а самому на последние копейки глодать пресловутый консервированный колбасный фарш в буфете…
Главная ошибка командира – это три неудачных захода в Туре. Лез, лез и лез, пока не убедился, что бесполезно и что топлива едва хватит до Ванавары, – а больше и некуда идти, потому что Байкит требует наличные.
А надо было таки садиться в Байките, раз уже ошибся и выжег топливо. Но – понадеялся на русский авось, что дотянет на соплях до Ванавары. Может, топливомер завышал и обнадеживал…
Двигатели у них остановились на высоте 3000. С вертикальной, ну, 7 м/сек можно продержаться в воздухе минут семь. Рядом работали два вертолета, шел Ан-24, пытались как-то помочь, подсказывали, что где-то здесь болота…
Но они те болота уже проскочили. Речушка Чамба, скорее, ручей, давала еще какую-то надежду сесть. Командир отправил экипаж в салон, и последние слова его были «Ищите нас на речке». Там и нашли, через десять минут. Самолет упал на спину, видимо, зацепившись за дерево; салон с людьми снесло, а пилотская кабина упала в воду. Там валуны… кто ж их увидит с воздуха… да и возможностей для маневра без двигателей не имелось. Спасать было некого.
Я делаю повторный заход, только когда есть лишнее топливо, заначка, и есть надежда, что погода вот-вот улучшится, – и все это лишь при наличии курсо-глиссадной системы, которая, если уж припечет или удастся выдавить необходимые для захода цифры видимости и облачности, позволит сесть всегда, пусть даже вслепую.
Но по приводам хоть сто раз заходи – ничего не увидишь, пока не зацепишься взглядом за землю. Тут принципиальное различие способа посадки: или это пилотирование по приборам до касания, или это визуальная посадка, когда пилот ориентируется на глаз, как он идет относительно посадочной полосы.
Цепляться глазом за землю на тяжелом самолете – незрелость. Нет нужды. Мало того, я писал уже, как в Полярном Коля после ВПР погнался за землей и инстинктивно увеличил вертикальную скорость, что смертельно для тяжелого лайнера.
На тяжелом воздушном судне принцип такой: чем ближе к земле, тем стабильнее должны быть параметры, незыблемее траектория, уже клин отклонений. Но зато, если обладаешь уверенностью в себе, экипаже и машине, по такой методике землю искать не надо: она подойдет под колеса сама, и там где надо, где сходятся в условную точку плоскости курса, глиссады и ВПП. Чего дергаться.
Поэтому я делаю контрольный заход лишь там, где есть курс и глиссада.
А в Туре стоят только привода.
28.10. Какая-то общая усталость за октябрь чувствуется. Поэтому, когда вчера с утра приехали на Мирный, а наш аэропорт закрылся очисткой полосы, с удовольствием завалились на койки и хорошо выспались.
Был гололед. Коля было засомневался, доверю ли я ему рулить; я доверил все полеты и руления. Справился он вполне, позавидовал бы любой проверяющий высокого ранга.
В Мирном был хороший боковой ветер, сцепление 0,5, посадка на пупок, пробег под уклон. Заходили в автомате; на ВПР, отключив автопилот, Коля уклонился против ветра, думаю, непроизвольно, но правильно; я и сказал, чтобы он так и садился сбоку от оси, ибо, когда будет протягивать вдоль пупка, машину может ветром потащить вбок, вот и выйдет на ось.
Так оно и вышло. Тяжелая машина на хорошей скорости прошла торец, Коля выровнял, пупок подплыл под нос, он протянул вдоль, скомандовав «малый газ», и колеса мягко коснулись бетона.
Я сидел, руки на коленях; ноги же зажал на педалях, зная Колин грешок – чуть сучить ногами на выравнивании. Но он хорошо справился: развернул нос машины по оси, опустил ногу, попробовал по моему совету тормоза, сказал, что не очень, и стал интенсивно, до скорости 120 км/час, тормозить. И полполосы не пробежали. Ну что тут скажешь, похвалил человека.
Назад взлетал на полупустой машине, 37 пассажиров всего, мороз -20, она пошла в набор по 33 м/сек, и за 10 минут мы заняли 10600. Ласточка.
Дома сыпал снег. На кругу нам дали уменьшение коэффициента сцепления с 0,4 до 0,35; погода же была сносная, ветер слабый, и Коле для тренировки все способствовало, хотя условия такие для ординарного второго пилота по документам – запредельные. Он зашел, однако со ста метров умудрился уйти на точку ниже глиссады и так и шел под торец. Пришлось сделать замечание… нет, лезет; пришлось чуть подтянуть ему штурвал. Догнал глиссаду, пошел выше; я снова подсказал. А центровка-то задняя… Короче, пока он на 30 метрах ловил утерянную, вернее, безграмотно испорченную мной глиссаду и вертикальную скорость, стараясь в то же время не упустить ось полосы, – напряжение сковало его пространственное восприятие. Возник левый крен, и я трижды ему это подсказал. В результате Коля подвесил легкую машину на трех метрах; пришлось и это подсказать; он снизился, Витя четко доложил «два метра, два метра, два метра», ну, это уже, считай, сели. Легкая машина мягко спарашютировала, Коля успел чуть подхватить, и коснулись мягко.
Снег на полосе; вдоль оси успели промести, но засыпало на глазах. Коля осторожно срулил, привез нас на перрон. Я между делом, в двух словах, объяснился с ним. Надо отдать должное моей самокритичности: я признался, что таки испортил ему заход. Коля скромно промолчал.
Но это – трудности нашего обоюдного роста.
Мы в экипаже, старики, говорим между собой: это же волк! Готовый командир… только не нам бы его вводить, а то заберут дедов к нему на полгода, снова экипаж развалится, а там у каждого комиссии, годовые, полугодовые… когда-то вместе снова соберемся.
Я ребят успокоил: вводить Евдокимова явно не мне, мое самопальное инструкторство кончилось, теперь этим занимается летно-штурманский отдел. Но, не дай бог, попадет на ввод к тому же Ф. Правда, Коля стиснет зубы и вытерпит, и Ф. не сможет уже его испортить, но что это будет за ввод в строй – мука…
А так бы – ввести его мне, посадить на мое кресло, отдать мой экипаж, а самому – на пенсию. Вот это была бы логическая смена командира.
Но… я еще сам хочу немного полетать… дал бы бог, лет этак восемь-десять.
1.12. Собрали сегодня на разбор весь летный комплекс: и Ан-26, и Ил-86, короче, всех летчиков. Разговор ни о чем, в худших традициях бывших разборов ОАО, когда при пацанах с Ан-2 пороли убеленных ветеранов, капитанов Ту-154 и Ил-62.
Вот и сегодня перед лицом своих товарищей подняли КВС Сергея М.А расскажи-ка, Сергей Иванович, как ты докатился до жизни такой, что сел в Иране не на ту полосу…
Сидевший рядом Коля тут же шепотом выдал: «Как, как. Катился-катился, гляжу – такая жизнь…»
Ну а что говорить капитану. Стоял, мямлил. Ну… не просмотрел толком информацию, в которой таки было оговорено, что, как это у них в Иране принято, рабочая полоса – левая, а огни подхода и «бегущий олень» горят на неработающей правой. Ну, сложная погода, близкая к минимуму. Ну, после ВПР потерял контакт с землей, закрывающейся разорванной низкой облачностью. Ну, лез. Ну, говорили ему – и диспетчер, и штурман, – что рабочая левая, левая, левая… а он лезет на правую: там же и огни, и «бегущий олень»… что-то не так… И после посадки ему сказали, что сел на правую, и он по-английски ответил, что понял… Ну, зарулил. Ну, депортировали его в 24 часа. Ну, виноват.
Горбатенко сильно не рассусоливал. Погасить талон нарушений №1 и пересдать на первый класс в департаменте. Если не подтвердит класс, расстанется с летной работой.
Мы так понимаем: подтверждать класс придется не «Столичной», а «Абсолютом», и ставить не два ящика, а три. Увольнять же готового командира, еще молодого мужика, когда и так командиров не хватает, тем более, все обошлось… Пугают. Ну, вперед наука.
Тут еще вопросы: по какой системе заходили, какие частоты установил штурман, как он контролировал заход, куда смотрел второй пилот и почему не выполнил самостоятельно уход на второй круг ниже ВПР, не услышав от командира команду «Садимся».
Хорош командир, хорош и экипаж.
Ну а больше и говорить было не о чем.
Горбатенко плавно нажимает на то, что полюс работы смещается за границу и что, мол, будем направлять туда постепенно всех, а пока – самых достойных.
Ага, самых.
А как я есть недостойный и в гробу видал этот Иран, то – прям возрыдал. Молю бога, чтобы так и числиться в недостойных лет эдак пять-шесть. Кому-то же надо летать и по России, и не думаю, что работы станет намного меньше.
Ну, пугают, что с топливом будет напряженка. Да она на моей памяти – с 75 года. Меньше летаешь – дольше живешь. А я за этот год уже налетал 425 часов, а впереди еще декабрь. Хватит мне.
А молодым, у кого пенсии еще нет, налет нужнее… но их слишком много, налету на всех не хватает. У Коли всего 320 часов.
Конечно, все они мечтают рвать в загранке и налет, и валюту. Резонно: они молоды, здоровы, могут и еще пока хотят вкалывать, перетерпят жару; туда им и дорога.
Объемы работ сокращаются. Я мечтаю, чтобы так это годика два еще посокращалось, а потом стабилизировалось. По 30 часов в месяц. Нет, по 25. Мне для поддержания уровня хватит и одной посадки в месяц.
Думал, болезненнее переживу этот переход от активного пилотирования к простому наблюдению и подсказкам. Нет, вроде ничего. Сейчас даже нравится. Мне важнее теперь не то, что я лишний раз могу подтвердить свое мастерство, – в этом уверены все, даже я сам, – а то, что Коля с каждым днем наливается уверенностью в своей профессиональной состоятельности, уверенностью в том, что вот он-то как раз и рожден управлять этим лайнером. Потом, глядишь, перестанет бояться проверяющих и станет нормальным, уверенным пилотом. В этом я вижу теперь смысл своей работы. А не Коля – так кто-то другой, третий… и дай бог побольше и подольше.
Лед тронулся в отношении ввода в строй молодых командиров. После перетряски эскадрилий, в нашей – на 26 экипажей едва ли наберется 18 капитанов. Списали двоих, одного отстранили на полгода по здоровью; под большим вопросом еще двое пьяниц. Короче, решились вводить. У нас первые на очереди Володя С. и Петя Р., за ними – Коля Евдокимов. Я попросил Савинова отдать мне на ввод Володю С.; Петю отдадут Лукичу; Серега Пиляев уже кого-то возит, а больше инструкторов в эскадрилье нет.
За ввод я берусь охотно, несмотря на то, что человека практически не знаю.
29.12. Штатный пилот-инструктор П. провез меня на Сахалин. Полет выполнялся и с другой целью: не забыл ли я, как летается с правого сиденья. На взлете немного было непривычно, но, поднапрягшись, выдержал все параметры. На посадке сначала казалось, что у меня все время левый крен, но машина уверенно шла по оси на подобранном курсе, значит, иллюзия. Выровнял – все пришло в норму. Посадка удалась. Вот и всё.
Подобраться заставил недавний случай с Пашей Ш. Он летел из Москвы, после двухмесячного перерыва: пробивал на ЦВЛЭК свое право летать в 59 лет, может, последний год. Ну, пробил, его допустили летать. И в первом же рейсе из салона влез к нему в кабину Медведев, летевший пассажиром с какой-то делегацией. Злые языки утверждают, что нетрезвый, врать не буду, не знаю. Встал за спиной и наблюдал, как старый пилот гоняет тангаж на взлете. Ну, под горячую руку, Константиныч был выпорот Медведевым, с присущей тому беспардонностью, и отстранен от полетов, о чем на другой день было доложено нам на разборе.
Господи. Человек летал, когда ты еще под стол пешком ходил. Прошел медкомиссию в 59 лет; ты еще долетай до такого возраста. Его надо поздравить и дать долетать до конца. Тем более что пилот он классный, и сыновья у него тоже пилоты.
Через день Ш. был допущен к полетам. Мы все полагаем, что, проспавшись, директор опомнился.
Так вот, я не могу допустить, чтобы Медведев, стоя у меня за спиной, при моем слетанном экипаже, порол меня за параметры. Тем более – Медведев, тем более – меня. Извините. Ершов – это товар лицом. Хоть слева, хоть справа. Да и Медведеву, при всей его бестактности и невыдержанности в полете, было бы больно за меня, если бы я при нем обгадился. Он за мной ревниво следит. На ком же тогда держится Аэрофлот, он сам говорил.
Поэтому я и подобрался. И Коля, сидящий сзади, ревниво наблюдал.
Я расспрашивал у П., как летает Володя С.Говорит, хорошо летает. А кто ж его знает, давали ли ему рулить по гололеду или садиться на пупок в Норильске в метель.
Сам П., севши в кои-то веки на левое кресло «эмки», рулил, мягко говоря, «как всегда». Отвык-то, за долгое время полетов справа. И рулил не в моей манере. Терял угловую скорость в карманах, резал углы, так, что я боялся, не раздавить бы угловой фонарь, не держал строго ось на полосе, чтобы Витя смог точно выставить курсовую.
Потом, уже вылетая из Южно-Сахалинска, я пересел на левое кресло и показал, как ЭТО делается: быстро, плавно и точно. Витя даже ворчал, что, мол, как на такси…
Что делать: не могу волочиться по сухому бетону на газу, как иной раз глянешь, ползет у нас иностранец. Рулить так рулить, а боишься – вызывай буксир.
Ох, боюсь, Коля, приученный мною к быстрому, уверенному, даже лихому рулению, будет по молодости неоднократно порот проверяющими, но… слаб человек, не могу портить ближнему выработанный стереотип, когда у него получается.
Вот прочитает это самовосхваление некто ординарный и скажет: ну, хвастун, ужо тебе… Па-адумаешь – ас…
Не знаю, ас или не ас, но то, что мне таки дано от природы, я чувствую достаточно тонко, умею в полной мере использовать, и умею этому научить другого. А ты – умеешь? Если умеешь, то на нас-то, на тебе и на мне, – и держится авиация. И когда наши с тобой ученики смогут научить других, – сохранится преемственность и останется высокий уровень профессионализма.
Я ведь рассматриваю нашу полетань с точки зрения высшего пилотажа – того состояния, когда капитан может решать задачи, используя самолет и экипаж во всем диапазоне заложенных в них возможностей.
А тут – руление не получается, и штатный пилот-инструктор суетливо и неуклюже, в страхе сделать не так, не то (а авторитет же), – крадется на стоянку, всего-топокрытую укатанным снегом, и самолет у него ползет юзом. Так тоже нельзя.
Ну, ладно, с левого ты редко летаешь, но, летая справа, на старых-то машинах, порули немножко по гололеду сам, почувствуй машину, восстанови навыки.
О чем тогда говорить рядовым, если инструктор не может показать: смотри, как ЭТО делается, и учись, пока я жив.
23.01.95 г. Позавчера вечером у нас на взлете упала «элка». Отказ двигателя при сильном боковом ветре – самолет упал на лес сразу за торцом ВПП. Погиб экипаж и один ребенок в салоне. Ну, зайцы еще на борту были, как всегда. Все пассажиры так или иначе пострадали: часть лежит в реанимации, остальные в травматологии.
Комиссия разбирается. Экипаж абаканский.
Слетали со стажером в Москву. Володя справляется, я приглядываюсь. Он счастлив, что попал ко мне, а не к Лукичу; мне лестно, что ко мне все-таки люди стремятся.
Экипаж: штурману 45, бортинженер молоденький, а вторым у них планируется бывший мой второй пилот Саша М., умеющий жить в рыночных условиях. Ну, это будет оч-чень деловой экипаж.
Возвращались из Москвы, дома проходил фронт, ветер боковой 16 м/сек; я сказал: садиться будешь сам.
Володя заходил в автомате до ВПР: пока руку не набил – так ему будет легче. Видимость давали 1000 м, сумерки, утро, скорости гуляли от 250 до 300, – самая погода для проверки щенка на будущего капитана. А ну-ну.
Ничего. Худо-бедно, но попал точно на ось, и мягко, перегрузка 1,2. Я, конечно, зажал педали, но он особо и не сучил ногами; по тангажу же я только кое-что подсказывал голосом, хотя за штурвал мягко, очень мягко, таки держался.
Ну, похвалил человека. Ведь с этого в экипаже закладывается уверенность, что молодой капитан летать умеет, – вон и инструктор хвалит, да и так видно: и по видимости, и по ветру предельные условия.
А вот за то, что он режимами сучил, я немного попенял. Ну, впереди еще два месяца работы.
Шли на проходную с пассажирами, толпа их смешалась с толпой встречающих, и мы услышали среди них диалог: «Я уже думал, что вы не сядете, – вон самолет ушел же на Абакан». «Ну что ты, у нас летчики классные, сумели сесть в такую погоду». Я хлопнул Володю по спине: пойдем, классный летчик, в АДП, оформим заход по минимуму.
Очень уж хорошие условия были для встрепки, ну как на заказ, вот я и рискнул. Хотя какой там риск – семечки…
Что интересно. Большей частью самолеты бьются не при предельно минимальных значениях погоды. Надо бы проанализировать эту статистику. Бьются при хорошей погоде – из-за разгильдяйства; лезут в такую погоду, когда вообще без просвета, – это либо уж так прижмет, либо человек неспособен оценить степень опасности и свои возможности, – и бьются. А вот при минимуме бьются очень редко. Тут и есть резервы.
Если дают туман 200, ОВИ 320, я не полезу: это явный, плотный туман, ни зги не видно, явно и намного хуже минимума. Конечно, если припечет, сяду, работала бы система.
Если дают боковой ветер 18 метров, то какая мне разница, 16 или 20, – сяду все равно, была бы сухая полоса. При боковом 25 я не полезу, это превышает возможности машины, да и болтанка будет сильнейшая. При пожаре, конечно, буду пытаться сесть, тут куда денешься. И, скорее всего, сяду, посажу с креном, на одну ногу, хоть как; может, вылечу потом с полосы, но – сяду.
Если дают нижний край облаков 30 метров, нечего лезть, но если 50-55, то это абсолютно безопасно, ибо совершенно ровной кромки не бывает, есть разрывы, и граница эта, обязательные 60 м, условна; в директоре свободно сяду. Да и вообще, лишь бы работала система.
Так вот: нас нынче начинают подталкивать к визуальным заходам. Разработки НИИ, схемы, тренировки…
Оно, конечно, когда вокруг миллион на миллион и вдруг отказали радиомаячные системы и привода, – не уходить же на запасной. Конечно, визуальный заход надо узаконить.
Но когда мне приводят в пример киноролик, как на проклятом Западе «Боинг» выходит из четвертого, едва не касаясь законцовкой крыла деревьев перед торцом, а потом плюхается под углом и елозит по бетонке… я говорю: «Э…»
Не все летчики в мире одинаковые. Есть среди нашего брата лихачи, есть степенные мастера, есть и просто безбашенные люди. Разные темпераменты, разные экономические условия, разные психологические факторы, а то и откровенное давление на капитана. Вот экономь мне деньги и заходи на посадку только визуально.
Я знаю, как потом въедается это упрощенчество. На Ил-14 к концу лета отцы-командиры, бывало, собирали нас и начинали пороть за пренебрежение заходами по радиотехническим средствам и привычку к прыжкам через ближний привод на полосу. А дело-то к осени, к сложнякам, пора набивать руку…
Я мастер сложных инструментальных посадок. Я инструктор по обучению именно этим, сложным заходам. Мой смысл жизни сейчас – учить молодых этим тонким, сложным, дорогостоящим методам захода. И мне глубочайше плевать на экономику, когда я выполняю свою учебную задачу. А я ее выполняю всегда, в любом полете, с любым сидящим рядом пилотом. И потому ко мне в экипаж просятся люди.
Какие еще, к черту, визуальные заходы. Мы их наелись на «кукурузниках». Надо будет – зайду.
Вся квалификация пилота сводится к умению посадить самолет в любых, сколь угодно сложных условиях. Это достигается большим трудом, поддерживается всю жизнь, лелеется в душе и выковывается в характере.
А меня заставляют это ломать. Дудки!
Притом еще и херится самая культура захода: пассажиры же блюют… Ломается красота, изящество, незаметность полета. Нет уж, увольте, если у меня принцип – акселерометр всегда должен стоять на единице плюс-минус 0,1, – то я слишком стар для акробатики на Ту-154. А уже ходят разговорчики о том, как это делается в Иране: у-ух! Есть уже и мастера этого дела.
Это профанация мастерства. Мазня.
25.01. Причина падения абаканской «элки» проста. Предельный боковой ветер слева, отказ на взлете правого двигателя; дали левому чрезвычайный режим, асимметричная тяга плюс боковой ветер, – экипаж не смог справиться с возрастающим правым креном. И самолет соскользнул на вершины деревьев.
Что делать – стихия оказалась сильнее, и как тут винить экипаж: они боролись до конца.
Но при этом они предварительно допустили еще кучу нарушений, начиная с зайцев.
30.01.Пока наша стажировка идет через неудачи. В общем, Володя летает уверенно, но в левом кресле ему явно неловко. Есть явные, вызывающие мое неприятие несуразицы.
На взлете три раза подряд явно вялый, осторожно-перестраховочный подъем носа: боится, как бы не передрать. Это дурная привычка, явная недоработка командира Ц., с которым он последнее время летал.
Ну, о расчете снижения без газа нет не только речи, а и мысли. Без понятия.
Я-то замахиваюсь на смелый, раскованный почерк, я-то рассчитываю на его четырехлетний опыт полетов вторым на Ту-154… а вижу «потише-потише». За 50 км высота 3000 при заходе с обратным курсом. Выпуск шасси за 3 км до третьего разворота. Сучение газами.
Но главное, как всегда, ось, ось ВПП. Тут явная, типичная для всех ошибка. До ВПР, или там до 100 метров, все в куче; перед ВПР начинает нарастать напряжение, страх не выдержать какой-то не удающийся параметр; стрелки расползаются, синусоида курса, лихорадочные и напряженные действия по изловлению стрелок; а тут уже земля, все внимание на нее, – и самолет уползает вбок от оси.
Так, собственно, и произошло вчера, в идеальную, миллион на миллион, штилевую морозную погоду. Володя нелепо и бездарно сронил самолет на ВПП с высокого выравнивания, упал мерах в десяти слева от оси и с явной тенденцией к фонарям обочины. Пока я подсказывал ему, что хоть от фонарей-то отверни, да пока машина выровнялась параллельно оси, скорость быстро упала. И когда я, инструктор, опомнился, штурман уже отсчитывал: «180… 160…140…» А реверс я просто забыл включить, пока муздыкались с направлением пробега. Так тихо и срулили с полосы.
Да. Конечно, можно оправдаться. Пока, мол, направление на пробеге не установилось параллельно оси, реверс включать не надо, это согласно РЛЭ.
Что ж, как инструктор я еще зелен, еще не врос в правое кресло. А надо ж еще немножко работать и за второго пилота.
14.02.С родным ворчливым экипажем слетать в Норильск, да просто увидеться, было приятно. Коля блестяще пилотировал, и в каждом движении просматривались уверенная надежность, чутье и опыт тренированного профессионала. Я с легкой тоской и с досадой подумал о том, что через неделю снова буду мучиться с Володей, который, будучи уже командиром-стажером, Коле в подметки не годится – и по подготовке, и по способностям, и по характеру. Но… я сам выбрал. Еще неизвестно, что преподнес бы мне Петя Р.
Да, собственно, сто часов тренировки – это к середине марта. Пару полетов с ним выполнил штатный инструктор, а каждый полет – 12 часов.
Чему я научу его за те 10-12 посадок, что нам отпущены программой? Когда Колю я два года, отрывая от себя, шлифовал и шлифовал.
Это безвременье, когда каждый думает только о себе, – да до шлифовки ли вторых пилотов замордованным капитанам. Может, двум-трем, неравнодушным, и не все равно; остальные делают свои дела, предоставляя вторым пилотам вариться в собственном соку, а то и вообще для гарантии не давая им штурвала, как бы чего не вышло.
А я Колю выпестовал. Он стоит в графике ввода на второе полугодие; там еще 2-3 стажера впереди, из бывшей 3 АЭ. Может, из них кого-то мне подсунут вперед Коли, но он согласен ждать еще полгода – лишь бы со мной…
Да, по правде, какой там ему ввод. Ей-богу, любой, слетав с ним, скажет: да уж, школа…
А был тюлень.
Так что не надо сразу хоронить капитана в Володе С. Ему не повезло так, как Евдокимову, однако я уверен: рано или поздно, но самолет он прочувствует.
В Норильске не работала система, заход был сложный, мы корячились по приводам, диспетчер изредка подсказывал уклонение по локатору. Коля старался. Выпали из облаков после дальнего привода; я попросил убрать пару ступеней ОВИ, чтоб не слепили; Коля подбирал скорости на тяжелой, 80-тонной машине.
Полоса была расчищена на 1800 м до 0,45, дальше до конца 0,3. Алексеич болел душой за слабенькую переднюю ногу, предупреждал.
Эх, прелесть экипаж. Эти ворчуны, матерщинники, спекулянты и рвачи, эти совки, – в сложных условиях захода на скользкую норильскую полосу работали, как хорошо отлаженный и настроенный музыкальный инструмент. Все с полуслова, на едином дыхании, вдохновенно.
Я попросил убрать еще на ступень яркость ОВИ. Диспетчер подумал и выключил их вообще, оставив только прямоугольник полосы. И правильно: сразу стало легче.
Коля коснулся. Как пальцем пробуешь, горяча ли вода в ванне. И на цыпочках мы заскользили по пупку. Алексеич снова напомнил – да и мы все в голос сказали: бережем, бережем ножку… Плавненько, в четыре руки, опустили ее; Витя аж похвалил, что плавнее не бывает. Ну, молодцы, ребята.
Разворот на 180 нам предстоял далеко впереди, на сопряжении, но тут вышел на связь борт на четвертом развороте, удаление 15. Угонят ведь его, пока мы тут на гололеде развернемся, да доедем до 2-й РД, да освободим ВПП.
В тусклом свете фар замаячил конец расчищенной части полосы; дальше укатанный до блеска снег со льдом.
Я понял, что надо срочненько использовать свое мастерство. Извинившись, забрал тормоза, прижался к обочине и ввел машину в разворот, как я это уверенно умею делать. И еле-еле вписавшись, оставив фонари противоположной обочины глубоко под собой, развернул машину, мелкими тычками притормаживая левую ногу и подкидывая третьему двигателю аж до 85. Добавил первому и с разгоном скорости отдал тормоза Коле. Коля заметил, что разворот, пожалуй, и для него не представил бы проблемы…
Ага. Щас. Какой ты ни способный, простенькие задачки щелкаешь, но серьезную задачу, в условиях дефицита времени, с гарантией надежности, можешь и не решить, да еще в эйфории после удачной посадки. Тут риск беру на себя я, со всем моим опытом; а ты давай, давай, быстренько мчись ко 2-й РД, да гляди ж, не проскочи.
Борт висел на глиссаде. Удаление 7… ага, это высота 350. Удаление 5… подходит к дальнему.
Замаячили огни перрона, где-то здесь поворот… сугробы… Ага, вот, вот синий огонек… тормози, проскочим же!
Коля плавно обжал тормоза и на пределе возможного сочетания скорости, сцепления колес, радиуса разворота и сопряжения подчищенного бетона с голым льдом срулил-таки на РД. Ну, лихач, язви его…
Борт взревел реверсами у нас за спиной.
Да. Это, конечно, не мальчик. Будет лихой, хваткий капитан.Только бы господь хранил его от приключений, хотя бы первую пару лет, чтобы окреп, чтобы появилась уверенная осмотрительность.
Ну что ты слюнявишь. Ну, слетал, ну, сел, ну, развернулся. Сотни и тысячи пилотов решают эти задачи молча, без восторгов. Сел – да и хрен с ним…
Нет, не могу. Я – романтик, и останусь им до могилы. И Коля, при всей его житейской практичности, такой же романтик неба, и так же пьянеет от удавшегося полета, и мечтает о новом. И будет давать летать своему второму пилоту. Если меня спишут, то мои ворчуны с удовольствием пойдут к нему в экипаж. Мы же все по кирпичику лепим из него Капитана. Это идеальный вариант преемственности, как пишут в красивых книжках для умненьких деток; тут сама жизнь дала пример, как должно быть. К такому должны стремиться все.
Я с Солодуном летал – Солодун меня вводил. Евдокимов летает со мной – и введу его тоже я.
Да пош-шел ты. Идеал тоже. Разберемся в гаражах с преемственностью.
В баках упавшей «элки» нашли воду: 100 мл воды на пол-литра керосина. Вот и причина отказа. Тот, кто сливал и проверял перед вылетом отстой, сядет в тюрьму. И это справедливо.
Вчера перед вылетом Филаретыч проверял лампочки КЛСРК, укрепляемые на спинках пилотских кресел, – ни одна не держится в гнезде, и в полете ему не подсветить свой штурманский столик. Слепая кабина у нас, все знают.
Вызванный специалист явно торопился на служебный автобус – кончалась смена. Витя объяснил, что лампочка ему в полете необходима, а задержка рейса до новой смены нежелательна. Тот ответил, что надо менять все пилотское сиденье вместе с лампочкой. Пусть все-таки эти займется та смена. Витя, как это он умеет, поставил человека на место так, что человек быстренько попросил у экипажа (!) пассатижи и отвертку, в две минуты отвинтил штепсельный разъем и заменил лампочку с гнездом, взяв ее с другого, не так нужного в полете места кабины. И всё, расшаркались. И человек успел на автобус.
Вот отношение к своей работе. И тот, кто торопился на автобус и не проверил отстой на несчастной «элке», пойдет в тюрьму.
Оксана подцепила в больнице грипп, лежит дома, мы проведываем. Взахлеб рассказывает о своей работе, как трудно, как мрут больные от нехватки лекарств, от невыполнения врачебных назначений, от равнодушия персонала. Бьется за жизнь больных – она же врач; бьется с бардаком, требует, наводит порядок. Она на своем месте. Ну да и Игорь такой же. И у него деньки выпадают нелегкие: вот шесть операций за день выстоял, а еще же и ночных дежурств набрал. И все за ту копейку.
Дети вкалывают. Мне Филаретыч жалуется на ленивую невестку: бездельничает, бросила учебу… А я своими горжусь. Они не выгадывают, они порядочные люди и не хотят быть пришей-пристебаями.
Они не воруют. Что может украсть врач? Вытащит больного, тот со слезами благодарит: доктор, вы мне жизнь спасли… сует бутылку, коробку конфет…
Да, именно так: Оксана уже который раз спасала людей от верной смерти. Она свято бьется за спасение, она не брезгует раздышать рот в рот умирающего человека… Я восхищаюсь и горжусь своей дочерью.
Нет, мы с Надей совсем недаром прожили жизнь: один наш ребенок стоит иных десятка. Но в него и вложено, как в десяток.
Вчера по телевидению Олег Табаков давал интервью. Созвучная мне мысль: кайф от успеха ученика повыше кайфа от собственного успеха. И еще созвучнее: ради них, молодых, приходится отрывать от себя – кто ж их научит.
Так и хотелось добавить: им же больше хочется!
Ну, сделаю я еще один отличный полет. Ну, наслажусь. Но мое наслаждение уже потеряло огонь первой любви. А как же остро чувствует радость обладания молодой, талантливый мастер. Как сильно ему хочется еще и еще… Дело молодое, понятно…
Так надо отдавать.
Нет, иные старые козлы и в могилу все под себя гребут. Им отрывать от себя и отдавать – тяжело. И наступает застой.
Спрашивается, зачем нам эта порядочность, когда кругом все рушится.
Не все рушится. И старое рушится не само по себе. Рушится оно ради таких вот порядочных людей, как наши дети. Мы должны вдохнуть в них и поддержать дух порядочности, чтобы они, в свою очередь, передали его внукам. На развалинах гнилого дома надо возводить крепкое новое здание. Больше я ничего сказать не могу.
20.02. Провез Володю В Алма-Ату. Несмотря на то, что он туда на Як-40 летал раз пятьдесят, две провозки на Ту-154 я ему обязан дать.
Весь полет машина подкидывала ребусы. То отказывала контрольная МГВ и гасло табло «Исправность АБСУ», причем, дома еще, вызванный специалист зажег табло ударом кулака – надо этот прием запомнить. А то, уже в Алма-Ате, вызванные же специалисты погасили табло «МГВ контрольная» дополнительным арретированием плюс дополнительным обнулением БКК – табло погасло, а «Исправность АБСУ» горела ровно столько, чтобы мы смогли взлететь; после взлета все снова отказало.
Дома Володя рулил, вихляя машину так, что девчат на кухне наверно сбрасывало с контейнеров, – что поделаешь: «эмка» с заедающей «балдой»… Расчет снижения получился хороший, заход и посадка, с моими, довольно навязчивыми комментариями, удались. Особенно я его долбал за ось, ось, ось ВПП; ну, поймал он эту ось.
Сели; давай же разворот на 180. Кое-как, боком, боком, он ввел ее во вращение… и не вывел из него. Стали выписывать вираж на полосе. У чем дело? Я выхватил тормоза, убрал газ. Машина не управлялась от передней ноги. Ну, так выключай же ногу и рули как на Ан-2, на тормозах.
Ну, доползли до РД, срулили на нее, и висевший сзади борт успел сесть.
Так. Нога включена? Разворот 63 включен? Табло горит? Что еще… Концевик… обжать переднюю ногу… Насосная… Инженер, насосную станцию включил?
Забыл. Двигатель №2 согласно РЛЭ выключил, а подпитать вторую гидросистему от насосной станции № 2 забыл. Молодой специалист… Причем, делал же это сотню раз… а забыл.
Ну, ладно, простили ему по молодости. А командиру вперед наука: действия при отказе управления передней ногой.
Подождали машинку сопровождения, как раз на памятном мне месте, где я когда-то зацепил крылом бетоноукладчик. Сейчас-то здесь стоянки Ил-86.
Со скрежетом зубовным молодой капитан начал извращения через стоянки; ну, зарулил. Я унял дрожь в коленках. Такая моя работа.
Назад летели спокойно. Подошла ночь, я стал пытаться подсветить приборы, но не тут-то было: ни один прибор в кабине не подсвечивался. Кроссворд.
Инженер засуетился. Перещелкал АЗСы, сбегал в хвост, проверил РК, слазил в техотсек, посмотрел предохранители, полистал РЛЭ… Выходило, что нет питания 115 в на трансформаторах встроенного освещения.
Ну, у нас осталось заливное освещение на потолке и под козырьком приборной доски, да еще на спиральных шнурах лампы КЛСРК, да свободные руки штурмана и сидящего у нас за спиной второго пилота.
Кое-как мы приладили лампы; блики отражались в приборах и били в глаза, в кабине ночью на посадке светло, – самые условия для стажера.
Заход получился без газа: третий на 1100, четвертый на 700, скорости в норме, выпуск механизации на малом газе, и только на глиссаде уже пришлось подбирать на глазок режим.
Я долбил: директор! Директор в центр! Потом заметил по огням, что этот проклятый директор уводит на 10 м левее оси, дал команду перенести взгляд на ВПП и визуально выходить на ось.
Все хорошо… хорошо… до выравнивания, а там снова: левый крен! У тебя левый крен! Убери крен!
Да… На левом кресле у стажеров всегда… левое тяжелее.
Ну, ушла машина влево на пять метров. Но сел он мягко; дальше все хорошо.
В общем, все хорошо, уверенно, на четверку… но не орел. До орла еще далеко.
А про приборы мы вообще забыли. Худо-бедно освещены, и ладно. Нам хватило.
Итак, работаем над пресловутым левым креном.
Если еще учесть, что двигатель №1 дома запустили с четвертой, а в Алма-Ате – со второй попытки, то в остальном – прекрасный полет.
Дополз домой, перекусил, рассказал Наде о перипетиях полета… и полетел, полетел… Легли спать, а я все ворочался, все летал. И ночью снилась какая-то полетань.
6.03. Недавно в Сахалине купились с Колей на сильном встречном ветре. Я заранее объяснил, настроил, предупредил. Коля заходил хорошо, визуально; от БПРМ я стал дожимать его к земле. Ниже, еще ниже, под торец, под торец, на газочке… Скорость была, режим стоял; опытный летчик видел бы, что надо только не убирать газ, пока не подползут знаки, – подстраховаться от внезапного резкого падения ветра.
А давали сцепление 0,4, и перрон был весь в чистейшем, прозрачном льду. И Коле стало страшно, как бы не перелететь и не выкатиться. И как только торец подошел под нос, он на высоте 10 метров убрал газ.
Ну точно, как тогда у нас с Солодуном в Чите. Я и ахнуть не успел, как машина плюхнулась на торец, на три точки, вяло отскочила и без скорости упала на полосу. Перегрузка 1,6.
Ладно, зарулили; мне пришлось на обледеневшем пятачке развернуться на 270 градусов, на голимом льду; передняя нога заблокировалась, но деваться меж самолетов, столбов и стремянок было абсолютно некуда, и я просто крутанул самолет вокруг заторможенной правой ноги. Лед был припорошен снегом, отпустить педаль и увеличить радиус не было никакой возможности. Хорошо хоть встали так, чтобы не мешать проруливать другим бортам.
Объяснились с Колей. Урок, который необходим каждому. И мне как инструктору в первую очередь. Ну кто бы мог подумать, что опытный волк Коля поставит малый газ перед торцом, на высоте 10 метров, при встречном ветре 15 м/сек.
Говорит, лед кругом так сверкал… Страшно стало.
14.03. Снова свой экипаж, но без Коли, молодой второй пилот. Я старался показать товар лицом. В Москве был ветерок под 45, порывистый. Машина – бизнес-класс, пустая, центровка задняя.
Выровнял, все параметры строго в норме. На метре чуть добрал и замер, ожидая мягкого касания. Дождался, дал команду включить реверс, спокойно констатировал, что машина бежит на цыпочках… и вдруг увидел, что мы летим! Земля явно уходила вниз. А значит, сейчас упадем, ибо уже реверс включен. Хватанул штурвал до пупа, но подъемной силы уже не было. Аэроплан упал на полосу с ощутимой боковой нагрузкой на шасси.
Натуральный козел. Но не классический скоростной, когда момент добирания штурвала совпадает с моментом касания и увеличившийся угол атаки совместно с разжатием амортстоек дает импульс вверх. Нет, здесь все было сделано по науке, и в момент касания, мягкого, неслышного, штурвал был неподвижен, а вертикальная скорость снижения близка к нулю. Это был просто порыв ветра. Легкая машина, неслышное касание, подъемная сила еще равна весу, – и порыв. Много ли, мало ли, но машину подняло и грохнуло. Перегрузка 1,5.
Срамота. Но я тут, честное слово, ни при чем. Конечно, если бы я сохранил привычку фиксировать момент касания легким движением штурвала от себя, то козла бы не было. Но после Сочи я себя от этого отучил.
А ведь мастерство в том и заключается, чтобы владеть собой сознательно, а не на автоматизме привычек-отвычек.
Моя вина в том, что не предусмотрел возможности отделения легкой машины при порывистом ветре и не подстраховал себя сознательной отдачей штурвала в момент касания. А порывы были: я ведь уже на выдерживании дважды убирал возникающие крены, а значит, мог предвидеть.
24.04. Оказывается, моему стажеру надо выполнить всего 20 посадок, и они уже набраны. В мае закончим. Ну, летаем худо-бедно. На взлете дома с передней центровкой он создал тангаж градусов шесть и стал ожидать, когда машина сама оторвется. Я схватил штурвал и стал тянуть дальше, отклонив руль полностью вверх. Секунд через пять нос все-таки задрался, и мы полетели.
Проблемы у него с центровками. На Як-40 такого диапазона не было. Да еще у него все та же, вдолбленная еще с Як-18 теория: машина, мол, должна отрываться сама. Новый штурман удивился: первый раз, говорит, вижу такой вялый отрыв.
В два смычка мы стали петь Володе: отрывай самолет силой, энергично, так принято на всех больших машинах, это тебе не «Як».
В следующем полете он медленно, но неуклонно тянул и тянул на себя, пока все-таки не отодрал машину, но боже ж мой, как вяло. Но все ж-таки сам.
Все остальное вроде получается, даже расчет снижения. Садится точно на ось, тут железно. Так что этот заскок с отрывом – еще малая кровь. Будет летать, куда он денется.
Программу заканчиваем. Летает он уверенно, грубых ошибок нет, с мелкими боремся. К полосе только вот подкрадывается очень высоко и осторожно, перелеты… Расчет снижения делает так, как требуют документы: проверяющему высокого ранга и сказать будет нечего. Рулит… ну, как и все молодые. Я за штурвал не держусь. Еще рейса три в мае – и на проверку.
В правое кресло я врос, а так как летаю с двумя экипажами, то даже путаюсь иногда: в какое же кресло сегодня садиться? Никакой разницы не чувствую, мне абсолютно все равно. Правда, в левом кресле удобнее спать: оно дальше отъезжает, и спинка сильнее откидывается.
Иногда проскальзывает мысль: господи, да ведь скоро уже уходить с летной работы… и холодок в животе… Как же это: я – и уйду? Я – и не буду за штурвалом? Я, рожденный для полетов, – и перестану летать?
Это как подумать: я, такой живой, – и скоро умру…
Пока гоню эти мысли.
6.05. Володя летает ровно и уверенно, но свято соблюдает принцип: не рисковать, не торопиться, потише-потише, подальше-подальше. Однако ни единой грубой ошибки не было, а взлетать, долгим повторением, через задницу, он таки научился, как будто всю жизнь отрывал тяжелые самолеты. То есть, способности явно есть, но… ему не хватает именно тех предварительных ста-двухсот часов, которые, полетай он со мной вторым пилотом перед вводом, дали бы ему необходимую моральную подготовку: он бы научился раскованно показывать себя.
Нет, себя он показывать явно не спешит, все делает с запасцем. Ну что ж, таков человек. Но летает надежно, а значит, мой товар можно показывать лицом. В конечном счете, к концу сточасовой программы, растянутой на несколько месяцев, из него именно моим трудом прорезался уверенный пилот. Еще пара полетов, и отдам его на проверку.
Однако до проверки, оборачивается, ох как далеко. Медведев не дает топлива на аэродромную тренировку: ему эти новые командиры, вырванные инициативой Горбатенко, пока не нужны. Впору и так сокращать летный состав. Выгодные в прошлом рейсы на юг через Норильск вдруг стали невыгодны. Упор делается на иранский доллар; нас же, тех, кто не допущен к зарубежным полетам, ждет незавидная участь захирения.
Коле явно не светит в капитаны, а жаль. Но если на то пошло, в этом безвременье, я его никому не отдам. Пилот прекрасный, волк. Он и будет за меня летать во всех условиях. И с ним у меня хоть экипаж на старости лет останется прекрасный, стабильный, не шаляй-валяй.
10.05. Все мы, летающие убыточными российскими рейсами, объективно обречены. Идет разговор о сокращении любыми путями стариков, тех, кому за 40. И правильно. Толку с нас за границей не будет, там вкалывать надо и здоровье иметь железное. А что мне, с моими семью диагнозами, там делать?
Так что нас сократят, ну, выдавят на пенсию, а остальным снова каторга, продленка, как было всегда… только теперь – за рубежом.
В этом смысле у Коли перспектива есть. А пятидесятилетним – не струя…
Оборачивается так, что мне 30 календарных лет пролетать не светит. Но и не рваться же за границу. Я честно оттянул свою лямку; жизнь меня обгоняет, и я в этом не виноват. Может, если бы у меня было больше житейской жадности, то и я наверно хватал бы ртом и задницей, как некоторые мои ровесники, кто либо не успел детей выучить, либо на жилье им заработать, а теперь на остатках здоровья дорывает свое в том Иране. Им просто деваться некуда. Я же в этом плане все успел сделать вовремя. С меня хватит. Я спокойно и достойно принимаю свою судьбу.
17.05.Слетали с разворотом в Москву. Коля сел правее оси два метра, ворчал. Я видел, как его стащило, уже на выравнивании, как он это заметил и как до самого касания кренчиком все пытался подползти к оси, но смог лишь остановить уход от нее… да поищите мне сейчас второго пилота, который так мыслит и действует на выдерживании, – я его расцелую.
Я Колю похвалил. Но полет назад выпросил себе.
Снижение с прямой я рассчитал впритык. Однако надо же было еще бросить взгляд на термометр. За бортом жара, и надо было предполагать, что вертикальную скорость между 11100 и 9600 машина держать не будет. Так оно и вышло. Я давлю штурвал от себя, а число «М» растет, вертикальная получается не более 8-10 м/сек, а я же рассчитывал минимум по 17.
Короче, за 100 км я шел выше на полторы версты, но еще надеялся: я же умею выжимать из машины всё. Коля делал вид, что не замечает, а сам же следил…
От позора спас меня встречный борт: нас притормозили на 2100; и когда за 30 км высота была те же 2100 и скорость 600, стало ясно: это предел для захода с прямой – даже с интерцепторами. Я подготовил экипаж к уходу на второй круг, но хладнокровно держал площадку, гася скорость интерцепторами. Индекс глиссады ушел вниз. Быстренько шасси, закрылки на 28, – и стали догонять глиссаду. К точке входа в глиссаду все параметры вошли в норму.
Сел я под уклончик, с курсом 109, как учили: выровнял пониже, на режиме 75, чуть дожал от себя, еще дожал, малый газ, выждал и чуть подтянул на себя. Уплотнение воздуха, вибрация, вздох… и мягко загрузились амортстойки. Ну, хоть приземлением реабилитировался.
Зачем нужно было это выжимание последних резервов? Да дело в том, что в Москве нам тоже борты мешали снижаться с прямой: несколько вынужденных горизонтальных площадок привели нас на Люберцы на высоте 2000 вместо 1200, правда, скорость успели погасить до 400. И когда наконец отпустили на связь с кругом, Коля, понимая, что высоко идем, все же пытался управлять тангажом через автопилот: мол, бизнес-класс… перегрузки меньше…
А автопилот у нас запаздывал по тангажу. Я заставил Колю взять управление в руки и с выпущенными интерцепторами падать до высоты круга с вертикальной чуть не 40, пока не заорала сирена ССОС: опасное снижение вблизи земли! Зато, едва-едва, но успели догнать глиссаду вовремя.
Поэтому-то я и хотел показать, какие резервы можно выжать из этой машины, в пределах допустимого по безопасности диапазона. Пускай у человека вырабатывается важнейшая интуиция капитана: успеем-не успеем, за которой прячется важнейшее условие полета: риск мастера должен быть оправданным, разумным, просчитанным, обоснованным.
Можно было бы в Москве уйти, сделать кружок и сесть спокойно. И сжечь заначку, полторы тонны топлива, необходимые нам на обратный путь, – а мы поняли, что заначка понадобится, ибо ветер на обратном пути будет нам встречный.
Самое безопасное, но необходимое нарушение на пассажирских трассах – это заначка топлива. Конструктором в самолет заложено, что он взлетит безопасно с полетным весом, на полтора-два процента превышающим заявленный в РЛЭ. Конструкторы тут соображают. А мы тысячекратно подтверждаем: лишнее топливо в баках – не лишнее.
Можно было и дома обгадиться и уйти на второй круг. Но тут уже нюансы обучения: заход по пределам. И меня так учили, и я так учу. Колю Евдокимова этому учить можно, это не Володя С.
Может быть, заходя в горах Ирана, падая камнем визуально, мастер иранских полетов скептически скажет: это вам не у Ершова летать.
Пусть скажет. Его право. Он – там мастер, а я туда не лезу. Мое дело – рейсовые полеты по России. Я не новатор. Я доводчик. Тот, кто хоть какую-то железную вещь сделал своими руками, тот знает, как это – доводить.
6.06. Все катаю Володю. Проверки пока нет, ну, летаем вместе, шлифуем мастерство.
Вторым пилотом на сочинский рейс нам поставили Колю Евдокимова. Если брать по опыту и натасканности – то лучшего, толковейшего второго пилота молодому капитану и не сыскать. Я решил, в нарушение ППЛС и всех писаных кабинетных инструкций, дать слетать ребятам самим.
Прочитай эти строки Пиляев, никогда не снимающий тяжелых крестьянских рук со штурвала, – он бы меня не понял. Я же, убедившись в десятках полетов, что Володя за все время ни разу не допустил особых отклонений, работает очень организованно, но, как сам он признался, самолета этого откровенно побаивается (а кто из нас в свое время его не побаивался), – так вот, я решился на такой педагогический прием.
Коле я доверяю как самому себе, поэтому сел за спиной Володи. Пусть ощутит, что вот это он, сам, сейчас поднимет в небо лайнер, полный пассажиров.
И он его поднял, хорошо, надежно, и весь полет они с Колей и экипажем работали как часы.
Но на подлете к Сочи он завертелся и все же попросил меня подстраховать. И норовил еще выпросить длинную ВПП для посадки. Однако я настоял на короткой – зачем тогда и провозка в Адлер, ведь на длинную и дурак сядет. Сел на свое правое кресло и не мешал Володе потеть. Он справился хорошо: подвел пониже, скорость не разгонял, посадил на знаки и разумно использовал реверс и торможение. И зарулил на стоянку под 135 градусов уверенно, хоть и занес хвост на метр в сторону от линии. Не так это просто, а для стажера – вообще отлично.
Вылез он из-за штурвала мокрый. Что ж, мастерство требует усилий.
Обратно я посидел в кабине для порядку на взлете и ушел на весь полет в полупустой салон.
Дома садились они ночью, в болтанку, и я сдерживал себя, сидя за спиной командира, чтобы не подсказывать. Только штурману шепнул: ты на выравнивании почетче и почаще давай ему высоту по РВ-5. Ну, Виталий волк старый, он и высоту четко давал, и вертикальную подсказывал до самого касания.
Зарулили, выключились. Я поздравил молодого командира с самостоятельной посадкой. Мокрый капитан был счастлив, Коля – преисполнен достоинства; оба были мне благодарны за доверие.
Что ж… нарушаем. Но если человек побаивается машины, надо его все же почаще оставлять с нею один на один, и желательно сделать это до того, как судьба устроит ему экзамен в первом самостоятельном полете. Я беру на себя такую ответственность.
Меня учил в Ульяновске летать на «Ту» ныне покойный Вьюгов. У него был наметан глаз, и, определив, кому из слушателей можно доверять, он со второй посадки уходил себе в салон и курил, а мы самостоятельно летали по кругам. Так что пример доверия у меня был.
Конечно, чистого инструкторского опыта у меня маловато. А с другой стороны, я всю жизнь инструктор. Кто из вторых пилотов ни летал со мной, все знают эту мою особенность: каждый полет должен чему-то научить молодого специалиста, да и старого тоже, каждый полет – это учебный процесс. Педагогическая жилка у меня определенно есть.
Я никогда ничего не навязываю. Я предлагаю. Если человек заинтересовался и соглашается, предоставляю ему максимум свободы и всячески стараюсь показать: ты – умеешь, ты – мастер своего дела, но… вот тут я бы сделал вот так. И объясняю почему.
Я хвалю за малейший успех. И никогда не ругаю за неудачу. Тут школа Рауфа Нургатовича. Если уж ты ненавязчиво учишь, то должен быть интеллигентом. Какие еще, к черту, рабоче-крестьянские посадки.
Я Володе повторил слова Садыкова: ее не бояться, ее любить надо. Люби-ить!
Сначала страшно, потом трудно, а полюбишь – другой машины не захочешь.
13.06. Провез Володю в Комсомольск. Посадка с попутным ветерком и разворот в тесном кармане показали, что еще одна провозка Володе необходима. Да и выруливать там сложно: вплотную к зданию вокзала; надо умело работать газами и использовать инерцию, чтобы не выстеклить там окна.
Обратно заход с прямой, расчет почти удался, ну, с коррекцией на обледенение в облаках. А на глиссаде стал оказывать влияние подходивший нам навстречу заряд; мы как раз успевали сесть до дождя. Я предупредил о возможном сдвиге ветра, и точно: скорость загуляла и даже на миг упала до 250. Но потом все восстановилось, только ветер менялся к земле на более боковой.
Посадка удалась хорошая, я потянулся было к реверсам, и вдруг машина резко накренилась на правое крыло, отделила левую ногу от бетона и, как человек, потерявший равновесие на краю пропасти, закачалась на правых колесах, разве что только крылом, как рукой, не махала.
Володя, как мне показалось, стал слишком медленно выворачивать штурвал влево, и пока я вмешался, чтобы помочь ему, штурвал был уже выкручен до упора.
Крен удалось убрать, и самолет тяжело, с боковой нагрузкой на остальную ногу, грохнулся о полосу.
Старт спросил нас: что – в приземном слое болтанка? Ага, болтанка. Я предупредил о сдвиге ветра и порывах на полосе. А как раз выруливал на взлет Як-40, и ему моя информация пригодилась. Взлетев, он долго тянул и тянул над полосой, разгоняя скорость, и так, низом, и ушел под наползающий заряд.
Вот уже второй случай, когда ветер играет злую шутку над тяжелым самолетом в момент касания. Но мне все-таки кажется, что взбрыку машины в таких случаях способствует чуть неуверенное приземление: то ли на малой скорости, то ли совсем уж невесомая посадка, – но просчет пилота явно способствует стихии. Во всяком случае, опытный пилот должен предвидеть возможность подобных возмущений и не упускать инициативу, обращая особое внимание на уверенную посадку, на четкое соприкосновение с полосой и даже на фиксацию контакта незначительной отдачей штурвала от себя. Возможно, это и есть то, что Дэвис называет жесткой посадкой.
Акселерометр зафиксировал перегрузку 1,3, полного отделения самолета от полосы не было, – можно считать, отличная посадка согласно нормативам ППЛС.
Володя огорчился; ну, переживем. Плохо то, что он еще столь молодой командир, что винит самого себя в этом некрасивом взбрыке. А винить-то надо меня: я опытный волк и знаю причину. Беда в том, что сейчас пока не имеет смысла объяснять ему все тонкости и, боже упаси, советовать фиксировать посадку мелким движением от себя. Это средство опасное, и я, возомнив о себе в свое время, имел пресловутую грубую посадку в Сочи. Ему надо набираться опыта, а мне – молить бога, чтобы уберег его первое время от взбрыков.
Единственно, в чем здесь можно обвинить стажера, это то, что, зная и умея уже прижимать и пониже выравнивать машину при сильных ветрах, он нынче подвесил ее высоко и подкрадывался, норовя сесть по-вороньи. Уже пора бы пристреляться. Конечно, на больших углах атаки его и поддуло.
15.06. Полетели на Питер. Я думал, Володя летит – нет: экипаж его, а вторым пилотом – Коля Евдокимов. Ну, слетали. Коля в Питере блеснул заходом с прямой и мягчайшей посадкой на раскаленную полосу.
Жара там страшная, и мы рады были улететь обратно поскорее. Коля довез домой; дома циклон, дождь, и я с любопытством наблюдал, как он будет садиться в дожде, в утренних сумерках, на мокрый асфальтобетон.
Ничего, подкрался, но дворник не включил; дождик тем моментом усилился, и пришлось сажать на ощупь; да он и собирался садиться вслепую. Прибрал режим до 80, слушал отсчет высоты по РВ, на пяти метрах поставил малый газ и на скорости плавно подвел машину пониже к земле. Выждал, чуть добрал… и, коснувшись мягчайше, машина встала на цыпочки и все-таки на мгновение отделилась, на несколько сантиметров; он мягко досадил.
Ну что: надежная, уверенная посадка, обдуманные действия. Правда, сукин сын, на глиссаде, после довыпуска закрылков на 45, экспериментировал с подбором режима, выжидал, пока не допустил-таки падение скорости на 10 км/час, до 250. Но это не разгильдяйство, не невежество, а поиск. Человек осмысленно работает с машиной, наощупь испытывая нюансы. Чуть недодал режим; теперь понял, что надо давать больше.
Сколько у нас пилотов, которые и до сих пор сучат газами вдогонку ситуации, не упреждая тенденций. А Коля – думает.
19.06. А теперь – с Володей в Мирный. Туда летели пустыми, а оттуда везли детишек на юг.
Ну, посадка на пупок; я предупредил. Володя старался, но вместо того, чтобы подкрасться как обычно, да еще с задней центровкой, он почему-то стал выравнивать пониже и обычным темпом, – и впилился в пупок с перегрузкой 1,4. Ничего, наука; не он первый, не он последний, а через задницу таким лучше доходит.
Дома он, наоборот, допустил взмывание, перестраховался, значит. Я подсказал, он исправил; скорость неумолимо падала. Я бы хорошо потянул, еще перед тем, как машина начнет сыпаться, и углами атаки уменьшил бы вертикальную до нуля; он же дождался, пока не увидел, что земля начала приближаться, потом вяло стал реагировать, но… мы уже катились, спрыгнув с полуметровой высоты.
Законы поведения тяжелой машины на последних дюймах просты. Если тяга убрана, то скорость начнет падать быстро. Пилот только должен помнить, какая у него была скорость перед торцом, какова была ее тенденция, каков был темп уборки газа и какая была перед торцом вертикальная скорость. Внутренние часы должны отсчитать положенные секунды – и нечего тут думать: тяни, хорошо тяни на себя, и замри. Все мастерство посадки – в этих внутренних часах; но часы эти выверяются годами тренировки.
20.06. Разбор я пролетал, но с его материалами ознакомился. Где-то сел Ту-154 с перегрузкой больше нормы. Заходили в сложняке, 60/700, в автомате. Автопилот на ВПР повел ниже глиссады, но капитан не выключил его, как положено, а продолжал снижаться на автопилоте до 27 метров. Потом-таки отключил, видя, что идет ниже глиссады, и взял штурвал на себя, чтобы войти в глиссаду снизу. Вошел и, уже перед самым торцом, отдал чуть от себя, чтобы не вылезти выше. При этом вертикальная увеличилась, но он ее уже по прибору не видел, а стал выравнивать на высоте 7,5 м, на скорости 265… вроде и параметры в норме… но умудрился врезаться в бетон с перегрузкой 3,7 и козлом.
Нич-чего не понимаю. Ясно только одно: человек передоверился автомату, сам, видать, руками в сложняке боялся, а перед землей задергался. Нарушил главное правило: на ВПР, кроме визуального контакта с землей (да и черт с ним, с контактом), главное – стабилизировать вертикальную скорость, тангаж и курс. А таскать штурвал перед торцом уже поздно, только усугубит. Так и вышло. Надо было сразу уходить на второй круг, а потом заходить в директоре.
Какой там отсчет по радиовысотомеру. Какое там уменьшение вертикальной вдвое над торцом. Детский лепет. Невежество. Метод научного тыка. И разложил машину.
Разве ж можно верить автомату, если он еще до ВПР уводит ниже или выше. Отключи его и держи директора вручную. Второй пилот контролирует курс-глиссаду, крены до касания. А ты следи за стабильностью. Вдогонку не дохлопаешь, надо упреждать. А если не смог, не успел, не вписался, – уходи, отдышись наверху и решай, лезть ли снова или уйти на запасной.
Старые истины, и он наверняка их знал, но… слаб человек. В себя не верит, а верит в автоматическую бортовую систему управления, которая через раз подкидывает кроссворды. А потом пытается чего-то исправлять, как пацан на легковушке, которого занесло на гололеде… и все невпопад. И это – командир тяжелого лайнера…
29.09.В Москве к нам в экипаж подсел инструктор-инспектор летного комплекса Ф. У него как раз кончился срок проверки на Ту-154, и он не мог сам сесть за штурвал, ну, наблюдал из-за спины.
Володя, надо отдать ему должное, за полгода-то научился летать уверенно и чисто, прямо-таки хорошо; видать, еще в отпуске отстоялось… Уж старался: он ждет проверку со дня на день.
И расчет-то снижения ему удался, и стрелочки все в куче держал, а главное – хорошо, стабильно держал глиссаду, скорости; после ближнего чуть, на полточки, прижал, прикрылся на выравнивании кренчиком, поймал ось, поймал знаки и мягко сел. Я похвалил, да и было за что.
Зарулили. Я оглянулся на Ф.: ну, как заход? Как молодой капитан справился?
Ф. ухмыльнулся. И тактично и вежливо разъяснил нам, что вот, они там, в верхах, анализируют, понимаешь, и вот, у 80, нет, у 90 процентов пилотов одна ошибка. Вы сперва научитесь, как положено, по продолженной глиссаде, а потом уж… Ныряем, ныряем под глиссаду после ближнего… Ныряем! А в Норильске, да на пупок…
И он долго, подробно, с аэродинамической точки зрения, объяснял нам, что Волга впадает в Каспийское море. И мне как инструктору: учи ж молодых как положено…Учи!
Я стиснул зубы и молчал себе, изредка безразлично поддакивая, что, мол, учтем… вы наши отцы – мы ваши дети…
Изойдя словесным поносом, теоретик ушел. У нас у всех было что вспомнить о его летной практике – и у меня, и у моего закаленного и видавшего виды экипажа, да и у Володи тож.
Ладно. Анализируйте себе. Мы вам в следующий раз выдадим заход и посадку по продолженной глиссаде, столь надежно проносящей вас над опасными норильскими и прочими пупками. Мы покажем. Но случись садиться на тот же пупок и скользкую полосу в Мирном или еще где, без запаса, мы сумеем обойтись без лишней роскоши перелета и сядем на торец.
Он, видите ли, доверительно сообщил, что недавно вот уже третья грубая посадка в Норильске, даже на Ил-86… но…. не для широкой аудитории…
Не сам ли? Я-то его посадки знавал.
Кто хочет летать, тот учится всегда. Для нас этот инспектор-инструктор – образец, как не надо делать. Так что и из этого его монолога извлечем определенную пользу.
Я еще раз похвалил Володю за хороший заход. Хо-ро-ший, уверенный, профессиональный заход.
2.12. Вчера на землю натащило адвективный туман, и нам пришлось вылетать в тревоге, вернемся ли. В Питере была хорошая погода, новый второй пилот сел с прямой и крадучись зарулил на заснеженный перрон.
Прогноз Красноярска был нелетный, но я как-то по инерции принял решение, имея два хороших запасных: Абакан и Кемерово. Пришли на самолет – у Вити появилось сомнение. А у него нюх на такие нюансы. Быстренько сбегали снова в АДП, пока нам еще не посадили пассажиров, пересмотрели варианты принятия решения по НПП… нет-таки, моя интуиция не подвела, решение я принял правильное. Филаретыч успокоился, довез нас домой; ОВИ пробивались снизу размытым пятном света, и мы сели, пронзив слой приземного тумана, при вертикальной видимости 60 метров.
Туман, вернее, сплошная облачность, висела четко очерченным слоем, метров 6-10 от земли; верхушки килей скрывались в тумане, фонари на мачтах светились тусклыми пятнами.
Садился я, в директоре, строго по приборам до торца; сердце ни на удар не стукнуло чаще. Открылась полоса, как удар в лицо, я прибрал вертикальную, поставил малый газ, прижал машину и чуть добрал. Идеальная, образцово-показательная посадка для второго пилота. Учись, и другим расскажи, как ЭТО делается. Да еще снижение и заход с обратным курсом на малом газе.
И какой еще, к едрене-фене, визуальный заход, и зачем искать ту землю? Зачем же я тогда двадцать восемь лет набивал руку на собирании стрелок в кучу, а нервы – на удар в лицо. Вот смотри, учись. И это еще простейший заход, без ветра, без болтанки, без обледенения, на сухую полосу, ну, правда, открылась она с двадцати метров. А если б еще на пупок… да еще нашему апологету продолженной глиссады Ф. – вот бы крику и гвалту было в кабине.
4.12.Савинов тут в эскадрилье философствовал. Ну кто виноват в том, что молодые наши капитаны ввелись нынче именно зимой. Он пытался их сначала как-то ограждать от полетов в сложный Норильск, потом глядит – везде погодки сложные, капитаны отовсюду привозят заходы по минимуму…. Махнул рукой: а… пусть выживают как могут; – стал ставить их на все рейсы подряд.
Что ж, будем молить бога, чтоб хоть первый год их охранял.
8.12. Просидели в Москве два дня, померзли в прохладном профилактории, там узнали, что вчера потерялась хабаровская «тушка» над Татарским проливом. Ищут до сих пор, и никаких следов. Ну, мы строим всякие предположения: разгерметизация, взрыв… короче, доложить экипаж ничего не успел. Сесть на вынужденную ночью там негде: либо в ледяное море, либо в покрытые лесом горы.
В этот же день: упал Ту-134 под Нахичеванью; сел на вынужденную Ту-134 Аэрофлота в Норвегии – пожар двигателя на взлете; и упали два вертолета в Чечне: Ми-8 и Ми-24.Ну, денек 7 декабря…
Мы же летаем на таком старье – постоянные отказы чего попало. Пишем замечания, а техмоща отписывается, но ничего не делают, выталкивают в полет.
Вот запись в бортжурнале: при наземной проверке не работает звуковая сигнализация опасного сближения с землей. Не гудит сирена. Отписка: отрегулированы зазоры в звонке, сигнализация проверена, все в ТУ.
Но не работает-то сирена, а отписка о каком-то звонке. Я проверяю: реле щелкают, а сирена молчит. Какое ж это соответствие техническим условиям – отписались, от фонаря. И так везде.
Витя слетал в Москву и обратно на 124-й с неработающим основным каналом курсовой системы; так и летел на контрольном, а основной выдавал туфту, ходил по кругу и т.п. Ну, поставили машину, а замены нет, и пассажиры либо ждали в вокзале, либо… либо техники отписались и вытолкнули следующий экипаж в рейс на этой же, а она и у них – по кругу…
Чего же удивляться, что пропадают самолеты. То ли еще будет.
Я уж молчу о мелочах, вроде освещения приборных досок и пр. То приборы освещаются ступенчато, то вообще не освещаются, то не выключается заливное освещение… Попадет такая машина в сложняк с молодым капитаном – вполне можно ожидать грубой посадки.
Пусть выживают.
У нас в Москве вчера барахлила ВСУ: запустится, поработает 15 секунд и глохнет. Доложили службам вовремя, пришла толпа инженеров и техников… и давай выдавливать нас в полет до базы без ВСУ: мы вас запустим на земле от установки воздушного запуска – и летите, голуби.
Старый волк-бортинженер Толя Шлег послал их всех подальше: меняйте машину, мы без ВСУ не полетим. Так пьяненький сменный инженер все выспрашивал: где командир? Кто у вас на борту командир? Что у вас – нет командира?
Я глядел на него и молчал. Пошел ты… протрезвей хотя бы. Стану я еще тебе докладываться. Тебе говорит член экипажа, уполномоченный на то командиром: не полетим. Так давай, меняй.
Ну, поменяли… шило на мыло, на ту же 124-ю. Задержка полтора часа.
Машин свободных нет. «Эмки» все за границей, а мы добиваем старье; и как-то так получилось, что длинные беспосадочные, туда и обратно, рейсы из Москвы на Мирный и Полярный, организованные в свое время именно под «эмки», мы плавно стали выполнять на «бешках», а потом это вошло в норму. Заначка 2-3 тонны стала обязательной, и куда бы ни летел, топливомер аж зашкаливает, – а это значит, что взлетные веса далеко превышают разрешенные 100 тонн.
9.12. Наступили времена всеобщих нарушений. На всех уровнях стараются вытолкнуть экипаж в полет, нарушая все законы. Если делать все по инструкции, летать будет невозможно.
Ну и сиди себе в профилактории. Оклад идет, и немалый. Вози с собой чемодан барахла, продукты, обогреватель, книги, какое-нибудь мелкое заделье…
Тогда съедят. Ибо вообще не нарушить, хоть чего-нибудь, невозможно. А значит, всегда могут ухватить тебя за жабры.
Колеса вертятся, и раз уж тебя затащило в машину, вертись и ты.
В этих условиях выживет наиболее опытный и профессионально подготовленный экипаж: у него больше шансов. Держись за экипаж.
Но тоскливо. Порушилась святая летная романтика. Рынок, дикий рынок задавил все.
Ты этого хотел. Тебе было плохо при коммунистах; вот пришли желанные перемены.
Основной стимул, заставляющий летать, это, конечно, заработки. Да если бы мне сейчас дали твердую, индексированную пенсию, размером хотя бы 50 процентов от среднего, – ушел бы немедленно.
То была каторга физическая, переналет; теперь каторга – дамоклов меч. А надо жить.
Вчера из дневного резерва нас пытались вытолкнуть вместо Ил-62 напрямую на Камчатку: 4500 км на простой «бешке». Вы там, мол, посчитайте: должно пройти.
Ага, щас. Я позвонил и сказал: ищите «эмку», на простой я не полечу. По нашим расчетам, надо 42 тонны топлива при запасном Магадане. А в баки зимой едва влезает 39 тонн. Для загрузки вообще остается 4 тонны… наймите лучше автобус или грузовик.
Да и не в этом дело. Нечего летать на такие дальности на «бешках». Туда ветер попутный, а назад? Договаривайтесь тогда через Магадан.
Короче, отказался. Тогда нас подняли на Москву. Должен был лететь другой экипаж, а с ним инспектор из управления, но по ряду причин с этим инспектором выпало лететь нам.
Ну, Главный инспектор Красноярского управления ГА, к нему надо относиться с должным уважением. Я ожидал, что это представительный, солидный мужчина, когда в штурманскую влетел шустрый мальчик в демисезонной курточке, как на Ан-2, ну, паренек, петушок эдакий. Представился… ладно, полетели. Договорились, что туда пилотирует он, а назад я. А дома ветер, фронт подходит…
Ну, взлетай, а я погляжу.
Бойкий юноша. Шустёр. Кукарекает команды, вертит штурвал… скорость потерял при уборке закрылков.
Короче, видно, что летает не так давно, старается, но почерк мальчишеский; он безумно рад, что дорвался.
Видать, волосатая рука. В тридцать лет – уже капитан Ту-154 в Свердловске, а в 34 года перевелся к нам этим вот Главным инспектором.
Особо так не беседовали, но кое-что из его взглядов на летную работу узнали.
Он добился отстранения Лукича от инструкторской работы. Сделал пять рейсов подряд с Петей Р. и возмущен: Лукич парня замордовал теорией, таблицами, палетками, расчетами и задачами; Петя растерялся и почти утратил почерк. Инспектор возмущен: что ж это за школа…
Ладно. Пора снижаться. Гляжу – работает по принципу «газ-тормоз», сучит интерцепторами и режимами, умудрился в идеальных условиях сесть на три точки с маленьким козликом, это при задней-то центровке.
Вышли из самолета. Он… он спросил меня, какие у меня будут к нему замечания по заходу и посадке. У меня выпал глаз и долго катился по перрону.
Ну ладно. Я выдал ему корректно, начав с похвалы, а закончив своим любимым выражением: для проверяющего высокого ранга – отлично; для линейного рядового пилота – посредственно. Он не обиделся. Он летает как инспектор довольно часто, но… все время проверяющим; командирский налет – полторы тысячи на «Ту».
Что ж, похвально, что человек стремится летать сам. Очень похвально, что не кичится должностью и не прячется за нее со своими ошибками; достойно удивления и уважения, что попросил меня, рядового пилота, оценить его умение и поделиться своим опытом.
Теперь же надо слетать мне, делом подтвердить свое мастерство и показать превосходство опыта и красноярской школы.
Ну, слетал, показал. Дома как раз была хорошая болтанка, диспетчер предупредил о сдвиге ветра, и сдвиг, хороший, таки был. Я до торца держал скорость 290 с закрылками на 45, опасаясь, что ветер резко упадет и нас присадит. Замерла… поддуло, но управляемости хватило, я сумел посадить машину точно на ось и мягко… но не по-бабаевски, однако довольно прилично. Посетовал, что не было заряда с видимостью хоть 1000 метров, чтоб уже для полноты счастья.
Думаю, авторитет свой я подтвердил. Замечаний, естественно, не было. Ну, вот тебе красноярская школа. А за рейс – спасибо.
15.12.Вчера был разбор эскадрильи. Нам довели материалы по расследованию грубых посадок командиров Г. и А.
Ну, по посадке Г. В том бардаке, который создался в Стамбуле, оборачивается так, что самолет грузят две фирмы, и обе натаптывают по полной загрузке, – все это делается без экипажа, а липовые бумаги оформляются и суются в кабину перед закрытием дверей. Экипаж вынужден верить бумагам – и взлетает с перегрузкой 7-8 тонн.
То есть: для экипажа это, в общем, и не секрет. И можно даже предположить, что, понимая опасность, фирмы как-то намекают экипажу… конвертиком.
Но, допустим, экипаж не знал, ну, подставили. И он взлетает, рассчитав взлетные параметры под 92 тонны, а там все 100. Естественно, самолет не отрывается, а бежит себе дальше. Это первый звоночек: вес явно больше расчетного, и надо разгоняться и отрывать с последних плит.
Ну, оторвались. Не лезет. Не летит. Это второй звоночек о том же.
Вскарабкались на эшелон. Опытный экипаж уже в наборе по большому углу атаки определит, что вес таки большой; подтвердит это и повышенный расход для поддержания числа «М» в горизонте.
Ну, и так далее. Есть много признаков.
А у них еще загрузили в передний багажник маленький асфальтовый каток для работающей в Красноярске турецкой фирмы. Каток весит 400 кг, да из него натекла на пол масляная лужа, да не закреплен, да замаскирован багажом, да еще и перед ним пустое пространство. На взлете он пошел назад, особо не повлияв на центровку, уперся в багаж. А при заходе на посадку, во время выпуска и довыпуска закрылков, он от торможения уехал в нос и создал запредельную переднюю центровку, дезориентировав экипаж, со всеми истекающими последствиями.
Но помилуйте. На скорости 400, на кругу Астрахани, руль высоты уже был отклонен на 15 градусов вверх – это явный признак передней, очень передней центровки. Надо было уйти на второй круг и переместить пассажиров в хвост: их было 35 человек, считай, три тонны весом, сидели в первом салоне. Ну, пересади ты их в хвост, на их же тюки. Либо уж тогда заходи с закрылками на 28, оставив стабилизатор отклоненным на 5,5 градусов вверх.
Нет, они выпустили закрылки на 45, при этом руль высоты встал на -19. На глиссаде в экипаже шли дебаты; карту читали чуть не до ВПР. Увеличили скорость на глиссаде до 300 – предельной по закрылкам 45; руль ушел ближе к -10, это все равно за пределами зеленого сектора. Режим держали 86, к торцу стали гасить скорость, поставили 76. Руль, естественно, снова ушел на -19, и выравнивать было просто нечем. Так и грохнулись на три точки, козел, потом сучили штурвалами невпопад – прогрессирующий козел и перегрузка 3,05.
Но в материалах расследования, по которым будет предъявляться к фирмам-загрузчикам иск за ремонт, все эти грубейшие нарушения РЛЭ экипажем отражены смутно, завуалировано, и основной упор сделан на тот злополучный каток, который в забитом, разумеется, до упора, багажнике едва ли смог бы так заметно повлиять на центровку: она у них с момента загрузки уже была предельная, а в процессе выработки топлива стала еще более передней.
Мы-то, летчики, ясно понимаем: Сергей пустил явного пузыря. Он опытный пилот, но, как предполагают, летел с хорошего бодуна, и ему было все по фигу.
Вот только потому, что с тех фирм можно слупить много и сразу, да пожалели, что у мужика четверо детей, – поэтому он и отскочил: обошлось ему вырезанным талоном.
Заход абсолютно, кощунственно безграмотный. Даже не хочу распространяться Это не ошибка, это… Короче, так не летают.
Ну, а с командиром А. все проще. Садились на пустом самолете, с задней центровкой, держали скорость чуть повышенной, машина не садилась, тыкали ее, тыкали штурвалом к бетону, перелет… и тут капитан выпустил интерцепторы. Перегрузка 2,14. Больше он так делать не будет. Пилот, в общем, хороший, ему для науки достаточно одного раза.
Мне когда-то Витя так сделал, но я, к счастью, краем глаза (ох, хорошие у меня края глаз!) заметил, как он потянул рукоятку, и я успел хватануть штурвал на себя. Обошлось: 1,4. И Витя теперь раз и навсегда не торопится выпускать интерцепторы после касания. Тем более что эта операция мне лично не нужна вообще. Для меня интерцепторы на пробеге – лишний груз. Я еще в воздухе направляю машину вдоль полосы так, что нет нужды дополнительно ее прижимать к бетону. И в полете я ими пользуюсь крайне редко, по сугубой необходимости, стараясь рассчитывать снижение без них.
В положении Г. могу оказаться и я, и любой. Так что ж – разбиваться?
Если не отрывается на разбеге, надо ясно представлять себе почему. Первый взгляд: закрылки-стабилизатор. Если выпущены, значит, или не хватает руля высоты – это передняя центровка, – или скорости, хотя нос поднят, – это большой вес. В первом случае – откинуть планку и немедленно перевести стабилизатор полностью на себя; это потребует нескольких секунд и терпения до отрыва с последней плиты… а то и с КПБ. И во втором случае тоже надо выждать те бесконечные секунды, пока нарастет скорость и появится подъемная сила Тут нужны крепкие нервы. Ни в коем случае не прекращать взлет: обязательно выкатишься далеко за пределы КПБ, а там тебя перина не ждет Лучше с КПБ оторваться и таки взлететь. А после выработки топлива будет легче принять решение.
Надо контролировать загрузку. Вот сейчас придут молодые вторые пилоты – сразу их на это настраивать. Мне Савинов уже пообещал дать на ввод парочку. По идее – оно мне надо?
Но… кому же, как не мне.
19.12. Нашли-таки тот злополучный самолет: не раньше и не позже, а как раз в момент, когда были опубликованы предварительные итоги выборов. И лежал-то он прямо на трассе, и прямо на берегу: как сбили, так и упал. А вот погода прям десять дней не давала найти его именно в той точке, откуда и начали искать. Ну, снегопады у нас…
22.12. Еще день убили на разбор летного комплекса: все по той же грубой посадке Г. Все понимают, что его подставили, но понимают и то, что, будучи трезвым, капитан распознал бы опасность и свободно с нею справился.
Но все же он отскочил. А нас, капитанов, после разбора собрали Горбатенко с Левандовским и эдак доверительно, полушепотом, с оглядкой, толковали: нарушаете – так делайте ж профессионально, держите достоинство командира…
Я дождался, пока Левандовский ушел, и попытался поставить свои проблемы, проблемы нас, сирых, тех, кто летает по России. Но… им не до нас. Тут за границей, понимаешь, творится бардак…
Да уж. Бросились дикие совки в бизнес, и их обувают, кто как хочет.
Я не стал особо переживать. Главное, как нам доверительно намекнули, – не наглеть сильно… и не попадаться.
Едучи домой в машине, полной летчиков, обсуждали того же Г. Ну что: пьет он по-черному. В Стамбуле – по пять дней подряд… и жрать не ходит. Все удивляются, как он в последнее время стал запиваться. Ну, может, встряхнуло, опомнится.
27.12.Проведя вчерашнюю ночь в ледяном профилактории, утром полетели в Благовещенск. Слетали хорошо, спокойно. Валера Логутенков вошел в форму: хорошо сел, развернулся; но на перрон заруливал я, потому что там все было занято самолетами, а перрончик тесненький и с уклоном.
Поискал глазами техника: где он и куда собирается меня ставить. Одинокая фигура с повязкой на рукаве стояла ко мне боком: ага, значит… значит, повернуть направо, а потом развернуться на 180 влево, на техника. Тесновато… придется неизбежно дунуть на стоящих справа под самолетом пассажиров… ну, справлюсь.
Группа господ в дорогих шапках стояла у забора рядом с черными членовозами и любопытно глазела, как я разворачиваюсь в десятке метров от них. Ну, развернулся-таки, чуть дунув на самолеты, трапы и толпу пассажиров, полностью используя угловую скорость и уклончик; затем двинулся на техника, что балда-балдой стоял на том же месте… ну подними ж ты хоть руки-то, встречай же!
Балда понял, что самолет едет на него… еще задавит… и отошел к забору от греха. Оказывается, это ВОХРа…
Та-ак. «Заруливайте по командам встречающего». Я нажал на тормоза и спросил у руления, так ли я зарулил, а то ведь нас никто не встречал. Руление суетливо ответило, что так, так, выключайтесь, вас будут буксировать.
Ну, бардак. Подкатил трап, высадили пассажиров, подъехал буксир, нас затолкали в угол. Пока высаживали пассажиров, к форточке подошел коллега, капитан загружающегося рядом борта, которому я перекрыл кислород, с ехидцей спросил: «Ну? И как я буду выруливать?»
Как, как. Да вот так: как у вас встретили меня, так и тебя выпустят. Бардак.
Техники рядом обсуждали инцидент: как же прозевали самолет, кто где был и почему никто не слышал и не знал. Инженер их порол; я не стал ругаться, раз обошлось. Окажись же на моем месте капитан импортного «Боинга» – послал бы члена экипажа надавать им всем под зад. Ну, Алексеич с ними разобрался.
Обратно Валера довез еще лучше и превосходно посадил в болтанку с прямой.
А штурманом нынче летал с нами Стас Лавров: после 12-летнего перерыва мой родной штурман вновь попал ко мне. Приятно было работать со старым товарищем, ныне матерущим воздушным волком, одно удовольствие.
Так приятно завершились мои полеты в 1995 году. Рад за Валеру Логутенкова, что удалось после такого перерыва не только восстановить его летную форму, но и передать кое-что из моего опыта – и явно на пользу. А уж он мне благодарен. Из каждого рейса он возил меня на своей «чахотке» до самого дома.
23.12. Все причины падения самолета под Хабаровском – на земле. Уже все в открытую говорят: или сбили, или заложили бомбу. Шел снег, шел-шел… а воронка-то чистая… и десять дней ее найти не могли. Напрашивается вывод: сбили, доложили наверх, поступила команда: найти. Быстренько нашли – и взорвали то, что осталось, чтоб на мельчайшие клочки… а снег тут некстати и кончился, и не засыпало.
Теперь мурыжат пленку К3-63, а ведь он пишет только скорость, высоту и перегрузку, основное же – на проволочном носителе МСРП, там все параметры.
Да сто методик существует, как определить, отчего упал самолет: сбили, взрыв или столкновение в воздухе.
Но матчасть тут ни при чем: даже если крыло отвалится, экипаж хоть слово крикнуть успеет, что падаем.
Естественно, проволоку с записью переговоров экипажа «не нашли».
Основная же причина того, что самолеты падают, – крах Системы. Авиация дело такое, что может существовать лишь при строгом соблюдении суммы технологий, определяющих уровень цивилизации. Мы отброшены назад, и самолеты посыпались, как недозрелые яблоки с гниющего на корню дерева.
Обидно за авиацию. Авиация создана не для того, чтобы пыль в глаза пускать. Авиация – это сообщество профессионалов, использующее самолеты как инструмент для решения задач, сложных, на пределе технических и человеческих возможностей цивилизации. Когда профессионализм теряется или отбрасывается в жертву чьим-то узким интересам – имеем катастрофы. Когда возможности цивилизации не обеспечивают полет – имеем катастрофы. Когда сообщество профессионалов думает лишь о наживе, используя инерцию Системы, – авиация рушится.
Я только на Ту-154 летаю уже семнадцатый год. И двадцать девятый – в Аэрофлоте. И тридцать первый – как сделал первый полет на самолете. И тридцать четвертый – как полетел на планере. Я жизнь свою положил на алтарь авиации и готов умереть по-мужски, за штурвалом. Пепел погибших товарищей всегда стучит в мое сердце. Поминая сегодня экипаж Фалькова, я воздаю ему должное и благодарю за то, что он своей кровью промыл мне глаза на профессионализм.
И меня за доллары не купишь. Нас таких летает еще предостаточно. Нами держится еще авиация. И пьяницей Копыловым тоже. И штурманами второго класса Гришаниным и Лавровым. Теми, кто жизнь положил за нее. Теми, кто еще может показать, как ЭТО делается. Садись, и смотри, и учись.
28.12. По упавшему самолету. Двигатели работали до земли. Но не найдено ни одного фрагмента пассажирских кресел. И, естественно, останков людей. Предполагается, что их… это… завалило камнями. Будут, мол, рыть, искать там.
Короче, темное дело. Вот сойдет снег, поиски продолжатся… Это до июня. А там выборы…
10.01. 1996 г.По упавшему самолету. Ну, за праздники наверняка успели завезти и закопать в гору остатки кресел: стали их там находить. Расшифровки пока не говорят ни о чем. Ну, крен до 90 градусов за 8 секунд, рули стояли на вывод, значит, экипаж пытался бороться. Может, отстрелили им крыло…
Затрут. Замнут, спустят на тормозах. Пока тянется время, заметаются следы.
Вчера на Москву к нам подсел Медведев. Сам взял штурвал и слетал с правого сиденья.
Я ревниво наблюдал. И поразился: ну, Мастер. Пилотирование уверенное, твердое, смелое; на руках набор и снижение, решение задач, заход и посадка против солнца… это надо видеть, и это надо было увидеть именно мне: я никогда не видел, как пилотирует Медведев, хотя, по слухам, знал.
Я бы лучше – не слетал. А ведь он – администратор, директор авиакомпании, а я – линейный пилот.
Что ж, кому бог дает – это навсегда.
В полете поговорили. Нам есть о чем поговорить. Вспомнили свою молодость, как начинали на Ил-14, полеты в Заполярье; посетовали, как быстро пролетели годы… Вспоминали разные случаи из летной жизни, у кого что было.
Все же он был и остался пилотом, страстно любящим летать; до сих пор все рвется на новую и новую технику; в восторге от тренажеров в Америке, которые позволяют научиться летать еще на земле.
Ну, много рассказывал о перспективах, о планах на будущее, о закупке Ту-204, с двигателями «Роллс-Ройс», расход 3 тонны…
А в общем, перспектив нет. Даже если и не выдавят нас с мирового рынка, то через 5 лет остановится всё. Спишем все Ту-154Б, останется 10 «эмок», два ДС-10 и, если купим, Ту-204. Все остальные типы спишутся.
Спишусь и я. Но на «Ту» я еще полетаю.
Поговорили о профессионализме, о пресловутом достоинстве. Замкнутый круг: без денег нет достоинства, без достоинства пропадает профессионализм ради того доллара.
Мне не так важны вопросы сиюминутной зарплаты. Медведев пока справляется как руководитель – за это честь ему и хвала. Он как пилот понимает важность профессионализма летного состава и сам подает пример личного мастерства. Вот такие пилоты, я считаю, должны возглавлять каждую авиакомпанию. То, чему я отдал всю свою жизнь, он умеет делать между прочим – и делает отлично, позавидуешь, слюнки текут. Такой человек имеет право жестко требовать. При всей своей жесткости он меня устраивает как директор. А летчиков он худо-бедно сохранит и поддержит, ибо понимает, кто кого в авиации кормит.
Однако же, видать, передо мной Медведев таки старался. Как, впрочем, и я перед другими. Мы себя уважаем.
Не дает покоя, как красиво заходил он, как ворчал на солнце, бьющее на глиссаде ну прямо в глаз, как выровнял в полуметре справа от оси, как сумел на выдерживании подскользнуть на ось и сесть без сноса, мягко и точно, вызвав у меня прямо восторг…
Да что я – хуже, что ли? Неужели я бы хуже справился? Чтобы и у него, ревниво относящегося ко мне, – до такой степени, что помнит номер моего двадцатилетнего «Москвича», – чтобы и у него захолонуло в животе: ну! Ну!! Сделай ЭТО красиво!!!
Ей-богу, вырезанный талон тут ни при чем. Мы оба, каждый по-своему, делаем наше Дело от всей души.
Зато я зарулил красиво.
15.01.Логутенков уходит в отпуск, а мне скоро подсадят молодого, и скорее всего, сына нашего профсоюзного лидера: отец просил, чтобы именно ко мне.
А у него налет после училища – 300 часов на Л-410, вторым. Но, думаю, за 50 часов, что он просидит у меня на правом кресле, мягко держась за штурвал, без права взлета и посадки, – меня это не слишком обременит. Хоть сам налетаюсь. Надо только вспомнить самому, как оформлять задание, – я же буду контролировать, учить человека работать с бумагами как положено.
18.01. Накануне резерва звонит мне бортинженер Юра Т.: возьми к себе в экипаж сына, молодого второго пилота. Мол, не Пиляеву же его отдавать.
Во. Нарасхват. Правда, Серега научит не хуже меня. Но им важен климат…
В резерве, уже подняли на вылет, как ввалился уйденный за пьянку на пенсию, пьяный же в стельку бортинженер С., с бутылкой в руке: обмывает уход. Ну, in vino veritas, в словесном поносе, он мне высказал между прочим такие слова: ты – авторитет, как у преступников, к тебе прислушиваются, и т.п.
А я все думал, что меня в отряде за дурачка держат.
Он, в пьяных соплях, признался: «Когда я услышал, как ты – командир! – хвалишь свой экипаж, что, мол, сами работают, а тебе и делать нечего, – я заплакал…»
Ага. Плачьте, ребята. Мой экипаж – это экипаж Ершова, куда каким-то образом создалась очередь. К дурачку. Который научит и даже бутылки не возьмет. Авторите-ет…
29.01. Передают, что «нашли» и расшифровали магнитофон с упавшего Ту-154. Пока фабрикуется версия, журналистам данных не разглашают, но слух распускается: самолет кренило и уводило вправо, но автопилот, мол, удерживал, а потом, при проведении предпосадочной подготовки, уже не смог удержать, отключился, и самолет резко вошел в крен до 30 градусов. А экипаж почему-то исправить его не смог и только до самой земли кричал «падаем».
Я понимаю это так. Возможно, на взлете была разница в заправке левых и правых групп баков. Это допускается. В полете для исправления отключили насосы перекачки в баках, где топлива было меньше; пошла выработка из тех баков, где больше. Ну и что – забыли об этом? Ну, за 20 минут полета выработается две, ну, три тонны из тех баков, где было больше. При этом планочка на ИН-3 отклонится до упора, сигнализируя, что АБСУ, компенсирующая кренящий момент от разного веса крыльев, отклоняет элероны все больше и больше. По идее, когда отклонение дойдет до упора, автопилот уже не удержит машину и отключится по крену. Вот эта идея прямо-таки сквозит в версии оч-чень компетентных в этих делах журналистов.
Какую разницу надо создать, забыв, что выработка идет только из одного крыла, я не знаю, но за 20-30 минут, при расходе 1 тонна в 10 минут, заведомо, до упора не дойдет. Бортинженер переключает систему на «Ручное» и следит за расхождением стрелок топливомера, и вопит из-за спины, чуть разница превысит 300 кг. Пилоты поглядывают на планку ИН-3 и триммером элеронов подравнивают ее; при этом штурвал все больше и больше отклоняется, и это видно.
Если забыть про ИН-3 и оставить штурвал нейтрально, то штурман почувствует, что самолет не сбалансирован и его уводит с курса. Да и за 20 минут ничего до таких степеней не дойдет. Летели бы часа три, может, уснувши, – тогда накопилось бы.
Не верю. В отказ матчасти не верю. Не было такого случая в гражданской реактивной авиации, чтобы в нормальном полете из-за несимметричного расхода топлива возник мгновенный крен.
Не ве-рю. Причину надо искать вне самолета.
Даже по разгильдяйству экипажа (а случаи полной выработки топлива из одного крыла бывали, и не раз) невозможно за такой короткий полет довести машину до полной потери поперечной устойчивости и управляемости. Не верю.
А вот отстрелить элерон – это возможно. У нас, в Расее, – вполне.
Первый полет с Сашей Т., сыном бортинженера. Ну, он пока присматривается круглыми глазами. Дал я ему штурвал в наборе: только тангаж и скорость; курс – на автопилоте. Гонял он, гонял… ясное дело – первый-то раз… Ну, пока – бумаги, организация, технология, чтение карты, да просто вживание в кабину. Первая курица, поднос, салфеточки… Поздравили человека.
В Москву со мной летал сын пилота Д., а на Мирный опять сын бортинженера Т. Да еще Вите дали стажера-штурмана, сына бортинженера Е.; отец его как раз летел с нами в составе экипажа. Так что работали с двумя стажерами, вертелись.
Оно когда делишь посадки с Колей Евдокимовым, так вроде хочется полетать и самому; когда же все сам да сам, да еще из шкуры лезешь, чтобы молодому, да еще сыну коллеги, показать с первых полетов, как ЭТО у Ершова делается (потом дома ведь расскажет)… Короче, домой дополз, чуть живой, пара рюмок коньяку… до кровати… какой там секс… мертво.
Смотришь эти фильмы, как герои, претерпев сотни страхов, преодолев сотни препятствий, избитые, усталые, голодные, тут же, прям на бетонке, бросаются друг другу в жаркие, взасос, объятия… ну-ну, вешайте лапшу на уши. Для глупых мальчиков и девочек.
Последние новости на работе. Командир П. уронил машину в Иране, наверно же визуальный заход… ну, узнаем; пока же перевели его в нашу эскадрилью.
Командир Юра С. выруливал в Домодедово, по снегу, в метель, ночью, видимость 1000 м, кругом сугробы, машинки нет; короче, перепутал рулежки, перемычки, запутался в горящих и заметенных снегом синих огнях – и попер по газонам; ну, застрял в снегу, задержка… Надо было добиваться сразу, чтобы дали машинку сопровождения, но… понадеялся на свой опыт: все же ему 57 лет.
Ладно, прилетели домой, стали разбираться, Горбатенко выстроил старого пилотаи стал читать ему мораль. Юра вспылил, послал его на три буквы, накатал рапорт на увольнение… Горбатенко подписал. Всё. Вот так, в торжественной обстановке, уходят ветераны. И я, возможно, уйду вот так же.
27.02.Командир П. в Иране садился на «эмке», получался перелет, и опытный капитан поставил малый газ на высоте 75 метров. Перегрузка 3. Не зная подробностей, не буду комментировать. Но так не делается.
А на меня тут пришла расшифровка: на взлете в Самаре начал первый разворот на высоте 179 метров. Как же мне не стыдно.
Кстати, первый разворот я начинаю на высоте не менее 200 м по барометрическому высотомеру, с креном не более 12 градусов; а когда радиовысотомер покажет 250 м, увеличиваю крен до 30. Что ж, мог и зевнуть: скорее всего, это ошибка второго пилота, а я отвлекся на другой параметр..
Да в общем-то, я к расшифровкам охладел, мне на них плевать, если даже что и проскочит, как вот нынче. Все и так знают, как я летаю. А без ошибок не обходится ни у кого, кто работает. Расшифровки нужны для контроля молодых капитанов; старики же, себя уважающие, судят себя строго сами.
28.02. Под Омском, в 20 км от аэродрома, отказали все двигатели на якутском Ан-12. Уже который случай на этом типе на моей памяти. Экипаж сел в поле на брюхо, благополучно. Разговора о том, что не хватило топлива, нет; говорят о некондиционном, т.е. с водичкой, – таких случаев сколько угодно.
Капитану 56 лет. Сумел поднырнуть под высоковольтку, зацепил на дороге и перевернул легковушку, сломал в поле дождевальную установку и остановился, винты во флюгере. Пробег по снегу на брюхе – 900 м.
Вот реальная посадка вне аэродрома, на снег, днем: нужно поле или болото примерно 1500 м, с подходами. Пока выровняешь, пока доберешь и коснешься, да запас метров 300, чтобы в конце не въехать в препятствие. Главное, первые 500 м должны быть ровными, чтобы на посадочной скорости не сломать себе позвоночники; потом пусть и попрыгает, но первые сотни метров самые важные.
Ты что – собрался садиться в поле?
А кто ж его знает. Пока летаю – готов ко всему.
28.03. Полеты становятся редкой случайностью, а профессионализм пропадает оттого, что каждый рейс нынче обрастает какими-то перестроечными неувязками.
Слетал в Москву. Ветер восточный, на обратный путь надо дозаправить лишних две тонны. И началось. Да у нас теперь новые порядки. Да если вот после конца регистрации дадут фактическую загрузку, то посмотрим. Да позвони тете, она решает. И, главное, так это давят: давай-давай, лети… хватит тебе.
Щас. Вот это я, капитан, окончательно определяющий количество потребного топлива на борту, буду ждать и выклянчивать у тети.
Дал команду бортинженеру: заправляй столько, сколько мне надо. Плюс еще две тонны заначки. На 132-местной машине буржуины вместе с багажом не потянут больше чем на 12 тонн. А то, что Москве надо отправить на этом, люксовом рейсе свою тонну груза и почты – обойдутся: рейсов полупустых в нашу сторону навалом.
Я сразу предупредил перевозки: никаких почт и грузов, разве что если останется что-нибудь вам после моей заправки. Моя предельная загрузка – 12 тонн, приспосабливайтесь.
Здесь я хозяин, а не тетя. Упретесь, сделаете задержку виповским пассажирам, сами будете расхлебывать. Нам на разборах твердят и твердят: капитан, действуй согласно НПП, не иди на поводу, главное – безопасность полетов.
Через полчаса тетя уступила и нажала заправщикам: ладно, заправьте им одну тонну, так и быть, а после регистрации, если что останется, то еще одну.
Я ухмыльнулся. Куда вы денетесь. С вашими новыми порядками. Лететь-то мне, и порядок мой один: без топлива не полечу.
Но тенденция эта везде: лети без топлива, увези побольше загрузки. Деньги-то плочены.
Новый второй пилот, Саша Снытко, понравился. Летал вторым пилотом на Ан-26, налет 2500, но хватка есть, не чета предыдущим. Один полет я показал, как это делается, обратно дал ему и взлететь, и сесть, да еще пришлось садиться с закрылками на 28. Сел как Бабаев, правда, газами командовал я. Ну, видно птицу по полету: с этого будут люди. Похвалил.
Сам же перед молодым уж очень старался показать товар лицом. Даже после посадки чувствовал, как колотится пульс. Но школа моя, если уж на то пошло, как и медведевская, основана на личном примере. Притом, я руками делал, а языком все рассказывал. Буквально так:
– Вот смотри: параметры в норме, вот торец; инженер, не надо совать газ; вот выравниваю, малый газ; вот прижал, замерла, раз, два, три-и-и… чуть добрал, замер, ну, ну, есть! Реверс включай, ножку пла-авно опускаем; притормаживаю, торможу; реверс можно выключить; доложи посадку, второй готовим к выключению, закрылки убрать, фары выключить, убрать, триммеры нейтрально, – понял, как все просто?
Действительно, как все просто. Тридцать лет тренировки. Одно да потому. Но я еще не налетался.
© Copyright: Василий Ершов, 2010
Летные дневники. Часть 8
Василий Ершов
1996-1999 г.г. 5.04.96 г. Печальная весть. На Камчатке разбился наш Ил-76. 6.04. Уже больше суток ищут самолет. Мы не отходим от телевизора, но ничего утешительного нет. Слухи. То они везли 40 тонн мяса из Новосибирска, то 50. То 12 человек на борту, то 19. Предполагать что-либо трудно. Если взяли больше груза, а меньше топлива, то вполне возможно, что топлива не хватило. Сесть же на вынужденную на Камчатке невозможно. Даже в ясную погоду над нею лететь неприятно, а у них и погода-то была неважная. Гор там предостаточно. Ну, не буду фантазировать. Найдут. Правда, как искали хабаровский самолет… И до сих пор о нем тишина. 7.04. Самолет так пока и не нашли. Низкая облачность, а там горы. И потихоньку среди летчиков вырисовывается версия: груза взяли вроде бы на 10 тонн больше, а топлива немножко меньше, чем по расчету… а тут антициклон, со встречным, восточным ветром… Кто и когда считал топливо на ильюшинских машинах – это же не туполевские, где всегда на пределе. Видимо, капитан рискнул. Но на ВПР в Елизово надо иметь на борту топлива аж до Магадана, плюс еще на 30 минут полета – это тонн 12-15; я не знаю их расхода. И что – не хватило даже до аэродрома назначения? Если я всю жизнь мечтал построить детям двухкомнатную квартиру, а у меня нет даже на первоначальный взнос… а тут, допустим, предлагают взять лишний груз и суют в руки, ну, миллионов 50… Главная причина всех катастроф нынче – неуверенность летчиков в завтрашнем дне, низкая и нерегулярная зарплата… и возможность, рискуя жизнью, использовать самолет в личных целях. Вот к этой версии склоняются все больше и больше. Медведев в беседе со мной нажимал на то, что если увеличить зарплату летчикам, то скоро пойдем по миру. Теперь он имеет тяжелую катастрофу. А ведь как он старается завоевать место под солнцем, поднять авторитет компании. И если истинная причина вскроется в хапужничестве экипажа, то рявкнулся и наш авторитет, и выгодные заказы пропали, и никто с нами всерьез не захочет иметь дела. Эта катастрофа ударила по всем нам. 9.04. Зла не хватает. Смотришь этот телевизор, дожидаешься крупиц информации, а когда получаешь их – одно разочарование. Самолет нашли на склоне сопки, там, где и искали. Он накрыт сорвавшейся в момент удара лавиной, поэтому едва заметные части долго не могли найти. Надо раскапывать. Но в крупицах той информации упорно высвечиваются одни нарушения. Самолет, говорят, был перегружен. Превышена разрешенная коммерческая загрузка: по РЛЭ – на 10 тонн. По словам прокурора – вообще превышение взлетной массы на 17 тонн; это могло вызвать повышенный расход топлива в полете. Голимый криминал. По данным штурманских расчетов, необходимая заправка должна была быть не менее 73 тонн, а фактически, по бумагам, без неизбежной и скрытой заначки, было всего 65. Строятся предположения. Антициклон и встречный ветер до 200 км/час съели топливо еще до Магадана, и там, получается, нужно было подсесть на дозаправку. Но, по словам командира Ил-76 Ф., который саживался в том Магадане, его обобрали до нитки: за все – только наличными; еле вырвались. Приняв решение идти до Елизова, капитан сжег мосты: возврата нет. И уже когда тянул на последних каплях над вулканами, то попросил заход с прямой – видимо, из-за критического остатка топлива. Но ему не разрешили из-за плохой погоды: какой диспетчер возьмет на себя такое нарушение инструкции. Пришлось заходить с курсом 343, через Малку; где-то между вторым и третьим разворотом они и упали. Зайцы на борту, это само собой. Получается замкнутый круг. Все считают, что летчики – богатенькие, и все их грабят, начиная с квартирных воров и кончая водителем буксира в любом аэропорту. Летчики вынуждены компенсировать грабеж воровством. Отсюда и зайцы, и левый груз, и спекуляция, и рисковые полеты без топлива. Экипажи грузовых самолетов все поневоле – преступники, нарушители и хапуги. Недаром же у нас в отряде даже на маленьких грузовых Ан-26 у десяти экипажей вырезано 18 талонов. Недаром же продолжаются падения и катастрофы грузовых самолетов, не долетающих, не дотягивающих до посадочных огней всего несколько верст; это стало устойчивой системой. Причина одна. Развал Системы. Кроме того, летаем на металлоломе, и в каждом полете что-то отказывает. Так, у меня вчера в Комсомольске отказала система захода на посадку: КУРС-МП увел меня на две точки в сторону от линии курса, и только благодаря хорошей погоде я не уехал в горы; то же самое повторилось и дома, пришлось срочно переходить на ручное управление и садиться визуально. Вызванный к самолету рэсосник махнул рукой: а-а-а… это уже на ней было… И что же: опять снимут блок и заменят исправным блоком, перекинутым с другой машины; та полетит, дефект вылезет; если не убьются, запишут, вызовут к самолету рэсосника, он махнет рукой и перебросит блоки обратно. Нет запчастей. Естественно, мне надо на все эмоции плюнуть, а для себя сделать вывод. Не доверяй автоматическим заходам, которые ты очень любишь. Строго контролируй по приводам и настрой на это сверхбдительного Филаретыча. Строгий комплексный контроль – и это несмотря на непрерывный учебный процесс: два стажера всегда в кабине, и мы поем над ними в два смычка. В работе явно проступает риск. Мы рискуем жизнью постоянно, и это так потому, что разваливается Система. Наши полеты все больше идут по инерции, обеспечить их как положено уже нет возможностей. Надеюсь только на свой опыт и на экипаж. Надо наступать на горло собственной песне: при малейшем ухудшении обстановки прекращать учебный процесс и брать все в свои руки. Филаретыч и так, чуть сомнение, высаживает курсанта и колдует над приборами сам. Не надо только сгущать краски. Да, полеты стали опасны. Но если на этом зациклиться, то лучше вообще уйти. Поэтому любой случай, любое ЧП, меня – меня, который сам себя так любит, – эмоционально касаться не должны: это – не со мной, я подумаю об этом завтра. Великое мое достижение – чувство уюта, спокойствия и надежности в пилотской кабине – не должно разрушиться под эмоциональным прессом летных происшествий. Я – пилот первого класса, инструктор, мастер, к которому все просятся, – я не допущу нарушений. Скоро тридцать лет, как я набираю свой драгоценный опыт. И даже пусть я его весь и не передам молодым… да и кому из них он теперь так уж нужен… но уж свою-то шкуру я профессиональными обтекателями обставлю. Просто из самоуважения. Чтобы обо мне потом не говорили, как примерно нынче шепчутся о капитане упавшего «Ила»: «Ершов? А мы-то думали, что это серьезный капитан…» А он, по словам комиссии, скрывал от елизовского диспетчера свое удаление, а значит, по словам той же комиссии, он – преступник. Может, в последние минуты его сердце разрывалось от сознания: что же это я наделал! Я нынче забирал машину со служебной стоянки, примыкающей к территории предприятия. И по натоптанной снежной тропе шли себе какие-то личности к забору, там по тающему сугробу вверх, прыжок на ящики, на контейнеры, – и через забор на ту сторону. А триста с лишним работничков службы безопасности ошиваются под единственным рейсовым лайнером и вокруг него, да спят в накопителях и по закуткам. У нас в эскадрилье устанавливают этот… компьютер. И забиты ими все кабинеты нашей конторы, но армия бухгалтеров, учетчиков, контролеров и их руководителей едва разгребается в сложной системе зарплаты, учета рабочего времени, отчетов по этому разгребанию и отчетов по отчетам. Да плюс армия компьютерщиков и обслуживателей. Мы путаемся во все более усложняющихся показателях отчетности в наших полетных заданиях; вторые пилоты постоянно пишут, пишут, морщат лбы, и напрочь им некогда учиться просто летать. И капитаны вынуждены их бумаги контролировать и отвлекаться от собственно полета. И вязнет летное искусство в говне бумаг. Каждый сидящий на своем месте захребетник с тревогой ждет, что его-то уж точно должны сократить, – ничего же вообще не делает! Но – не сокращают, наоборот, увеличивают их количество. Разговоры о сокращении идут, а выдавливают-то с работы летный состав. А это значит, что скоро уйдут старики, носители опыта, – уйдут, так, толком, качественно и не научив зеленую молодежь. Тем же летчикам, кто вошел в силу, – им не до молодых: надо рвать своё. А это означает, что не за горами новые катастрофы. 12.04. Садился дома со сдвигом ветра, показывал, очередному молодому, как это делается. Перед торцом что-то подсказало мне прибрать режим на один процент. Замерла, раз-два-три, подхватил, коснулись, чуть придержал, – и боковой порыв; машина приподнялась на левой ноге, тряся правой, как человек, балансирующий на бревне, неслышно пробежала на левой цыпочке, но воспарить подъемной силы уже не хватило. Пришлось аккуратно опускать правую ногу и мягко ее приземлить. Потом так же аккуратно опустил переднюю. Таки сыграл свою роль этот сдернутый процент. Я в полете чегой-то сдуру открыл РЛЭ и вычитал там много интересного. Оказывается, за те пять лет, пока я его не открывал, тети Маши из горних высей министерства или как там его, понаписали туда уйму смешных вещей. К примеру: на глиссаде тягой двигателей надо управлять небольшими, плюс-минус 5 процентов, изменениями оборотов. Или: на крутой глиссаде перед выравниванием, чтобы торец проходить с вертикальной меньше 5 м/сек, надо делать предвыравнивание; при этом может понадобиться незначительное, до 5 процентов, увеличение режима. Вольно же им разбрасываться этими пятью процентами. Пять процентов в летном диапазоне режимов двигателя – это около двух тонн тяги на каждом двигателе. Ничего себе рекомендации. Тут один процент добавить или убрать – думаешь, ждешь, терпишь. Я вчера, в хорошем сдвиге ветра после дальнего привода, шел на 82, добавил 84, подумал, добавил 86, выждал, пока перетрясло, убедился, что скорость стала стабильно нарастать, и когда дошла до 280, поставил 84, потом 83, а когда стала падать до 270, поставил, как и было: 82. И дальше держал ее так до торца, и только убедившись, что 270 стоит стабильно, а меня хорошо поддувает, но не забывая, что над полосой может и присадить, я поставил 81, и так и выравнивал, и только когда понял, что темп выравнивания правильный, поставил малый газ. Плюс-минус пять процентов – роскошь, позволительная только кабинетным пилотам, которые на самолете ездиют по принципу: «надо ехать – дай газ; надо тормозить – жми тормоз». 17.04. По Ил-76 был разбор, но я на нем не был. Говорят, экипаж нарушил схему захода, шел в горах 20 км правее, так, правее, прошел Малку и стал снижаться с 1200 до 600 к 4-му, а там как раз две сопки, и с одной из них на высоте 900 он и столкнулся. Сошедшая лавина накрыла его 30-метровым слоем снега… какой там пожар. Куда смотрел экипаж и как заводил их диспетчер, непонятно. О топливе говорят по-разному, но вроде топливо в баках еще оставалось. И если бы меня, к примеру, поджимало, то я бы стремился резать круг, а не растягивать его, как они. Сколько уже самолетов лежит вокруг горных аэродромов: Алма-Ата, Магадан, – да разве все перечислишь… и всё – нарушение схемы. О Грише все в один голос твердят: этот командир не мог лететь без топлива, не арап, вообще не нарушал, зайцев не брал… Ага… две недели назад вы о нем совсем другое говорили… Ну, насчет зайцев. Не берет их у нас один Пиляев, из принципа. Ну, может, и Гриша такой был, не знаю. Но не поверю я в то, чтобы на Ил-86 не возили левый груз и зайцев. У них нынче полетов-то – раз, два и обчелся, а кушать надо. С чего бы их тогда поголовно грабили. 28.04. Похоронили ребят. Но не всех, а только тех, кого нашли и опознали. Разговоры всякие; как всегда, пытаются свалить все на мертвых, чтобы как-то оправдать нарушения живых. О недостатке топлива речи нет. Я был неправ, предположив эту версию. Но то, что экипаж шел 40 километров правее схемы захода, а опытнейший диспетчер дал снижение, увидев, что азимут соответствует пролету Малки, а удаление… удаление было на 40 км дальше, а он этого не видел. Работал ли РСБН? Их везде снимают с эксплуатации, а ведь основная коррекция места самолета идет по РСБН – и у нас, и на Як-42, и на Ил-76. Мы на похоронах не были, сидели трое суток в Москве. И вот наглядный пример. На обратном пути, дома, нам дали заход с прямой при низкой облачности. И я сразу забрал управление у второго пилота. Была необходимость проверить кое-какие подозрения. И нас таки подвели высоко. Сначала дали по локатору удаление большее, чем было на самом деле. Витя подумал и на всякий случай подкрутил НВУ. Потом дали удаление меньше фактического. Витя быстренько открутил назад и больше НВУ не трогал. На очередной запрос удаления нам снова дали больше. Мы поняли, что диспетчерский локатор нам не помощник. Я приготовился при необходимости рухнуть вниз, погасил скорость. И таки рухнуть пришлось, когда вместо расчетных 45 км, совсем уж закорректированных нами с подачи подхода, круг дал удаление всего 29, а высота 1800. Пришлось использовать интерцепторы, да я заранее учел, что низкое из-за циклона давление отнимет у нас метров 400 высоты на эшелоне перехода. Короче, все успели, строго по пределам, и я красиво показал второму пилоту, как это делается. Заодно и заходик по минимуму поставил. Но я, командир, к этому был готов. 30.04. Слетали на Сахалин. Мне удалось хорошо посадить полупустую машину с задней центровкой; обратно худо-бедно посадил Слава Снытко, но мягкое касание удалось скорее как исключение при весьма корявом заходе. Но для второго пилота, налетавшего 50 часов, вполне сойдет. Будет он хорошо летать: видно. Итак, отвозил я всех молодых, раздали по экипажам, добрый им путь. Зашел в контору и заикнулся об Евдокимове. Савинов засмеялся: нынче утром Евдокимов так же точно заикнулся, просился к тебе. Но… Так как Медведев дал указание вне очереди ввести Батурова, то, значится, буду вводить его я, в скором времени; под него дадут машину и топливо, и Савинов надеется протолкнуть на ввод вместе с Батуровым и Евдокимова, и Колю Петруша. Значит, мне летом снова дадут интенсивный налет… на хрен бы он мне сдался. Потерплю только из-за Коли. Сегодня видел Андрея Гайера. Все у него хорошо… но с вводом – тишина. И он уже жалеет, что ушел в 4-ю эскадрилью. Но я ему сказал: ты сам сделал выбор. Попал за границу, решил свои финансовые дела, а что касается ввода, то… завидуй блатным, которых ты, может, сам бы к самолету не подпустил. Вон, известный наш деятель: своему сыну… фактически еще курсанту, с 200 часами общего налета, – уже протолкнул 2-й класс. И глядишь, через годик тебя, Гайера, посадят к нему вторым пилотом-нянькой. А кого же, как не Гайера. Ведь убьется же! Случай за случаем идут грубые посадки. Вот Боря Л. присадил в Джидде машину с перегрузкой 2,7… ну, замяли и на тормозах аккуратно спустили цифру до 2,1… пыльная, мол, буря… Вот Коля Г. садился в Волгограде под уклон, с попутным ветром, на повышенной скорости, сел в центре полосы, дважды включал реверс, под конец дернул аварийные тормоза и снес три покрышки на одной ноге. Эх, не было рядом моего сочинского спасителя Бори, некому было подсказать: ящик водки технарям – расписали бы на две ноги, и нет инцидента. Явно и неумолимо среди всей этой суеты проступает одно: теряется профессионализм, напрочь задавливается криминальной добычей денег при помощи самолета. Чему мы учим молодежь… Горбатенко грозился: всерьез говорят о сокращении летного состава, и сокращать будут в первую очередь тех, кто бьет самолеты. Все меньше и меньше остается тех летчиков, кто самолет любит и кто умеет его сажать так, как положено по совести. Остальная масса просто считает эти нюансы на глиссаде интеллигентской мазней. Кому нужны эти… симфонии. Цумба, цумба, цумба! 5.05. Алексеича списывают по кардиосклерозу. Всё: отлетал 30 лет, день в день. Жалко? Да нет, все как раз вовремя. И он сам, и окружающие свыклись с мыслью, что время летной работы истекло, человек уходит на действительно заслуженный отдых. Скоро и нам… 11.05. На днях вез из Москвы зайцами курсантов из Бугурусланского летного училища. Три года отучились, не прикасаясь к штурвалу, одна теория; теперь их распустили на каникулы до июня, а там госэкзамены и… и в армию: может, в стройбат, может, в Чечню. Топлива нет. Стране не нужны пилоты. А солдаты нужны всегда. 15.05. А тут на днях полетел Главный Инспектор Управления проверять молодого пилота, сынка одной из особ приближенных, после налета им первых 50 часов на Ту-154. И был скандал. Ибо Главный Инспектор спросил: кого вы мне подсунули? Пришлось, мол, самому и пилотировать, сам и шасси-закрылки выпускал, сам и связь вел, и карту за мальчика читал. Какой же это летчик? Скандал был и в управлении. Сам начальник за голову схватился: бляха-муха, я же сам ему недавно подписывал на 2-й класс… Папа забегал, зазвонил… Савинов же доволен: а – пусть дойдет до департамента, пусть там решают, как такой вот пилот сможет обеспечивать хилую безопасность полетов, тем более, пилот не 4-го, а 2-го класса, – и один ли он такой. Левандовский предложил: а попробуйте отдать его такому инструктору, который сможет и научить летать, и потребовать знания руководящих документов. И этот инструктор, оборачивается так, что – я. Я уперся и предложил Савинову отдать парня самому Солодуну. Но Солодун нынче и.о. замкомэски в другой эскадрилье. Давай, Вася, ты, да не переживай: он долетывает вторую программу, ему часов 15 осталось; слетай с ним пару рейсов и отдай на проверку тому же Главному Инспектору, а он уж пусть решает его судьбу. На фиг бы мне это надо было. Ну, поглядим. Во всяком случае, я с ним постоянно летать не собираюсь, разве что взглянуть на этот полуфабрикат. А Филаретыч весь в счастье: удалось-таки перетащить сына из рушащейся Черемшанки к нам, в новую эскадрилью Як-40. Побегать ему пришлось, да и у Медведева не хватило совести отказать потомственным летчикам Гришаниным: сам же начинал полеты с дедом Филаретом на Ил-14. Ну и слава богу. Значит, Димка Гришанин, с налетом полторы тысячи часов на Як-40, на второй класс сдать не моги, не дозрел еще, а сыну приближенной особы, с налетом на «элке» 475 часов, из которых половина приписана, – пожалуйста, «в порядке исключения». И потом еще удивляемся, почему у нас не обеспечивается безопасность полетов. На Камчатке приостановили поисковые работы. Слишком много сил и средств затрачивается впустую. Сейчас там с самолета посыпают снег сажей; через пару месяцев снег сойдет, тогда и закончат собирать все обломки, мясо и оставшиеся тела. В Америке вон еще хуже: лайнер упал и затонул в глубоком болоте, кишащем крокодилами. Там и искать бесполезно: крокодилы уже всех нашли. Правда, там помогут родственникам за счет фирмы, да страховка… У нас же лежит на столе бумага: «прошу вычесть из моей зарплаты 100 000 на похороны экипажа…» Все подписываемся. 29.05. Вторым пилотом ко мне пока пришел один из братьев-близнецов, Петя Сизых. Девять месяцев не летал, учил английский. Надо сделать с ним шесть рейсов, чтобы восстановил навыки. Ну, ученого учить – только портить. Сразу видно почерк не мальчика, но мужа. За пять лет он летать вполне научился, ну, школа Хатнюка. Конечно, отвык, но это дело наживное. А ведь по первости братья летали слабовато. Но после нашего теперешнего молодого поколения, которое чуть было не отбило у нас, стариков, веру в то, что нынешние летчики вообще способны летать, старые вторые пилоты явно выделяются именно школой. Есть, есть школа, наша, красноярская! Мы и из этих, нынешних, молодых, из сынков, сделаем нормальных пилотов, куда они денутся, лишь бы хотели. Только надо бы как-то поставить заслон этому блату, когда волк Петр Сизых будет летать вечным вторым у слабого, но блатного командира. У Евдокимова – да, полетает; и то, недолго, пока тот введется, а там и своя очередь вводиться подойдет. 4.06. Петя летает уверенно, но… до выравнивания. Землю он прилично потерял, ну, ищем вместе. А тут еще, как назло, все факторы не благоприятствуют его восстановлению: пустые машины с задней центровкой, болтанки, полосы то с ямой, то с пупком, – короче, корячится. Но таки вроде бы начал прорезаться глаз. Сегодня с ним слетает Пиляев. А на очереди уже второй брат, Ваня, с теми же проблемами. Известный алкаш командир К. был в плане и не явился в резерв; ну, это все: с ним чванькаться не будут, тем более, идет сокращение. Пропал человек. Жаль: пилот он прекрасный. Был. 5.06. В полете одолжил у Вити его очки, единичку, и с наслаждением читал книгу. Вторым пилотом с нами поставили Андрея Кибиткина; я выпросил у него один полет, туда, и сделал образцово-показательные взлет и посадку. Обратно вез Андрей, садился в болтанку и при небольшом сдвиге ветра… ну, волк. Этот уж убить себя молодому командиру не даст; он нянчит нынче моего Володю, страхует его. Везли в Самару 80, назад вообще 7 пассажиров. Если билет от Нью-Йорка до Москвы у порядочных авиакомпаний стоит на наши деньги где-то 1 200 000 рублей, то у нас от Красноярска до Москвы – миллион. Кто ж будет летать. Компания живет исключительно за счет нещадной эксплуатации экипажей и матчасти в Иране. Но нас оттуда скоро выдавят. А экипажи, летающие внутри страны, скоро начнут сокращать. Настроение временщика. Поэтому я спокойно читаю книги в полете, и пусть еще скажут спасибо, что не отказываюсь от инструкторских обязанностей. Годик-то еще думаю продержаться. А что малая загрузка… бог с ней. Главное – чтобы ничего в жизни не изменилось, хотя бы годик-два еще… 6.06. Да, один фактор четко проявляется в моем отношении к работе. Я отвык много летать. Саннорму, свались она с неба, я не потяну. Конечно, если бы от этого зависела вся дальнейшая жизнь моей семьи, я бы в очередной раз стиснул зубы и, вспомнив молодость, тянул бы лямку еще годик… Но не от этого ли летчики и мрут, едва уйдя на пенсию? И не аппетиты ли пилотских жен загоняют мужиков в гроб – в нашей распросовецкой стране? Рейсы все больше ночные и с разворотом. Поэтому я откровенно стал спекулировать своим авторитетом, и без стеснения, увидев в пульке поганый рейс, ворчу и прошу полегче. Откровенно берегу здоровье: я налетался, и моя лепта едва ли не весомее иных, кто помоложе. Старше меня в эскадрилье только Лукич. А бояться того, что меня, за эти мои ворчанья, сократят в первую очередь… Да скоро нас всех сократят. И потом, завтра тот же Савинов, или Пиляев, или Менский, подойдут: Василич, тут вот какое дело… надо ввести в строй… надо обкатать после перерыва… Василич, слетай, посмотри, помоги, подскажи… Так что можно немного, самую малость, поворчать, покапризничать. Спасибо Володе Менскому: добрый человек, он иной раз остается за Савинова, так дает легкие рейсы. Моя роль в полетах, как я сейчас это себе представляю, большею частию психологическая. Ты попал в мой экипаж, куда люди просятся, – осмотрись же, поживи в хорошей, дружественной обстановке, реабилитируйся после стрессов, погляди, как в порядочном экипаже ЭТО по-настоящему делается, уверься в том, что такие экипажи еще есть, что на них хочется еще равняться. А хочешь вникнуть поглубже – пожалуйста, со всей душой, у нас секретов нет. И, между делом: дай-ка, пожалуйста, мне слетать, один полетик… И посмотри. Если очень захочешь, то и ты так сможешь… но надо очень, очень стараться. В основном же, я в экипаже лишь наблюдаю, поглядываю изредка, поверх очков. Работайте, ребята, вы же видите – сами можете; не тревожьте лишний раз старика, набивайте руку. Я вам доверяю. В сложных условиях мой подход таков: давай, давай, работай, так, так, хорошо. Хор-ро-шо! Вот тут… чуть-чуть… так, так… Хорошо! И вот здесь: вот, да, да, молодец. Хорошо! Хорошо и молодец. Вот главное. Ну, а то, что там чуть не так, тут чуть не туда, – это попозже, остывши, незаметно, между делом, я подскажу, и разберемся. В следующем полете ненавязчиво напомню: ну-ка давай, с учетом опыта в аналогичной ситуации… вот, вот, так, так. Хорошо! Молодец! Иногда, бывает, вмешаешься, исправишь, и тут же, по ходу: учти, вот это недопустимо! Ну, давай дальше, вот, вот, молодец. Получается! А на земле уже спокойно, по пунктам, как у Рауфа Нургатовича, разбор, беседа. Тут недавно командир Л. жаловался. Он же года два как рвался в тот Иран, за свой счет выучился английскому; ну, попал. Через три месяца он оттуда вернулся, со свежим гайморитом; клянет себя. Но заграницу эту таки увидел; больше не хочет, наелся. Заработал на машину. А вот на квартиру дочери не смог. Каторга. Рвачество. Что ж, в возрасте 50 лет там делать нечего. Кроме того, там царствует доллар, и в погоне за ним – не до искусства мягких посадок и строгих заходов. Там ремесло, ходки. Нет, это не авиация. Когда Медведев поет нам о том, что за бугром – настоящая работа, я горько усмехаюсь: со свиным рылом, да в калашный ряд… Он греется у костра, в котором догорают и здоровье, и профессионализм, и лучшие человеческие качества летчиков из бывшего СССР, вынужденных дешево продавать себя за валюту. Если я свои лесопатрульные, тяжелые, но интересные полеты вспоминаю как романтические, лучшие годы своей летной жизни, то повернется ли язык такое же сказать о своей работе у наших иранцев? Все ведь плюются. 10.06. Саша Песков довез и посадил в Москве под мою диктовку; ну, пока еще слабоват. Обратно я попросил полет, почти не мучаясь угрызениями совести: в конце концов, я тоже летать хочу. Ну, образцово-показательный полет, с мягчайшей посадкой, без отклонений, – сколько уже таких полетов я им показывал. Опустил ногу, снял руки со штурвала, сложил их на груди и сказал: видишь, как ЭТО можно сделать, – с попутным ветром на кругу, на пустой, с двумя десятками пассажиров, летучей машине с задней центровкой? Хоть что-то, хоть где-то выделилось на каком-либо этапе? Полет, и правда, был как ртуть: все перетекало из этапа в этап, все незаметно менялось так, что в результате самолет прекратил движение на перроне незаметно, как и следует кораблю. Парень сидел под впечатлением. Нужны были высокие слова, и я не постеснялся сказать их: – Вот это и есть высокое мастерство, которым я владею в полной мере. Учись же, парень, завидуй, завидуй какой хочешь завистью, и пусть у тебя перед глазами всегда стоит этот полет. И сделай лучше! А у Вити весь полет были проблемы: с курсовой системой, с локатором, с РСБН; пришлось залезть на 12100 и обходить грозы верхом; после посадки курсы ушли на 7 градусов, и т.д. Но он обеспечил мне полет, сделал, что мог. Я же вложил весь свой опыт в посадку, и один бог знает, сколько анализа, сколько решений переварилось в голове и претворилось в действия рулей, чтобы таки получился памятный для молодого человека полет. Но кому это в нынешней России надо. Только мне самому… да еще Филаретычу, который и не представляет себе, чтобы мы – мы! – и не сделали красиво. Ну, может, и Саша загорится. Филаретыч все мечтает перетащить своего Димку на «Ту», да в наш бы экипаж, чтобы он таки научился летать по большому счету. А разговоры одни кругом: все рушится, и пролетаем ли хоть год еще. 26.06. Уже обкатал я и Ваню Сизых, тоже после перерыва. Слетали на Мирный и Сочи. Кое-какие вещи, из практики, те, что у меня в экипаже сами собой разумеются, опытным вторым пилотам из других экипажей почему-то в новинку. Немного он сучил газами, дергал интерцепторы по принципу «газ-тормоз». Нет, не всегда и не всему учат капитаны вторых пилотов, хотя сами умеют. Полет на Сочи я выполнил сам, и Ване было на что посмотреть. Расчет снижения был безукоризнен: без газа – вплоть до довыпуска закрылков на 45. На глиссаде я установил режим и не трогал его до высоты 30 метров. Ну, дело чести и принципа: в Сочи я сажусь только на короткую полосу, 2200 м. Убрал пару процентов, предупреждая возможный из-за попутной тяги перелет, прижал пониже, и, не долетев до знаков 50 м, машина мягко, едва заметно плюхнулась. Попутного ветерка не было. Нормально, спокойно тормозил. Зарулил, выключился… чувство легкой досады: надо было не на два процента прибирать, а на один, и тогда уж точно была бы бабаевская посадка, строго на знаки. Однако, когда выходили из кабины, пассажиры проводили нас аплодисментами. Что ж, им приятно: довезли мы их очень спокойно, и посадка, по их понятиям, была классная. Незаметно покосился под трапом, как зарулил: машина стояла вдоль осевой строго. Ваня восхитился расчетом. Что ж, учись, чтоб и сам умел работать без лишних движений. Назад он садился дома с прямой; на «эмке» снижаться без интерцепторов с 11100 не получилось, пришлось все-таки их немного использовать. С задней центровкой, он пытался ее подвесить, несмотря на то, что я его заранее подготовил. Ну, пришлось, как обычно, командовать: жми, жми, жми ее, ниже, ниже, еще ниже! Еще дави… замри! Можно было, конечно, чуть добрать, еще сто метров перелетели бы; однако и так машина сама, на воздушной подушке, нащупала колесами бетон. И все он только от себя, от себя давил. Может, запомнит. 25.09. На занятиях к ОЗП прокрутили нам магнитофонную запись последних минут полета Ил-76. До самого конца они спокойно констатировали: вот, вечно все отказывает… Что там гудит? Да все у нас гудит. А вот надо бы выдавить с заказчика дивиденд: погода плохая, глядишь, еще придется уйти на запасной… с мясом… Сходи, поговори. Да нет, что я, пусть капитан, он солиднее, ему сподручнее. Да нет, пора снижаться. Как там давление? А эшелон перехода какой – три триста? А… три тысячи… Штурман, ты хоть к третьему-то выведешь? Вечно у тебя: как сложняк, так все отказывает. Мать-перемать. Уже на 900 метров, между гор, связь пропадает – и это в районе круга… Радист хоть бы что: это у нас такой приемопередатчик. Срабатывает сирена ССОС – 10 секунд непрерывное: пип-пип-пип-пип… Что это там гудит? Да тут все гудит. Дать бы взлетный режим и перевести чуть в набор – там всего-то превышение 200 метров над высотой полета. У них было в запасе еще 24 секунды. Потом резкий, высокий мальчишеский вскрик: «А-ша!» И всё. Очень полезно иногда прослушать такое. Хотя… лучше бы – никогда. Ну а что же работа? Полетань? Да провались она. Если бы только не призрак нищеты, то смело бросил бы. Ушел бы непобежденным, как в свое время ушли Сычев, Петухов, Александров. Как представишь опять это закручивание гаек, эти зачеты, эту проклятую медкомиссию, эти бессонные ночи за штурвалом, эти принятия решений… Тридцать лет – вполне приличный срок, чтобы наесться работой до отвала. А мой бесценный опыт ни-ко-му уже не понадобится. Даже если ввести Евдокимова и Гайера – надолго им тот Ту-154? Конечно, им-то опыт пригодится, даже на других типах, передастся школа и т.п. Да все это пустой звук. Рушится наша авиация. Между делом профанируется классический опыт и перерастает в криминальный – так кому я нужен со своей классикой. «Ты как-нибудь выведи хоть к третьему развороту, а уж я как-нибудь сяду…» главное – зашибить бабки. А раз теряется высокий смысл и работа становится только источником финансирования, то… пропадает и любовь к ней. А пропала любовь – жди беды. Но и нищенствовать на пенсии – тоже не мед. Это замкнутый круг. 3.12. Слетали в Благовещенск. Новый второй пилот Паша Коваленко, сын пилота, бойкий и разговорчивый, а летает весьма неплохо, я бы даже сказал, хорошо летает. Во всяком случае, глиссада, директора, – все в пределах кружка; пара посадок выше всяких похвал. Налет три тысячи часов: в основном, вторым на Як-40, и год на Ан-24. Снижение – считает. А на «Ту» налетал всего 100 часов. Будет толк. Правда, характерец… ну, потомственный летчик, горло драть умеет; да по нынешним временам оно даже полезно, лучше, чем в углу помалкивать. Дело свое знает, бумаги ведет, – этот не из тех сынков, что за ручку водить надо. В Благовещенске посадили пассажиров, закрыли было уже дверь, и тут одному нерусскому загорелось срочно покинуть самолет. Девчата заподозрили неладное, проверили по бумагам: у него записано 6 кг ручной клади, а в руках ничего нет, и бормочет что-то невразумительное: он, мол, уголовный авторитет… перепил… сердце… Ну, тут уж извините: задержал я рейс. Вызвал службу безопасности, высадили пассажиров, всех снова на досмотр, а сами, с представителями службы, с техниками и проводницами, обыскали весь самолет, осмотрели все закутки, – ничего нет. Служба перевозок выдала нам справку: оказывается, у него действительно было 6 кг, но он сдал их в багаж, а запись о ручной клади в кабине ошибочна. Ну, задержка на полтора часа. «Авторитет» этот оплатит все издержки. Составили акт, все чин чином. Взлетели – бригадир докладывает: пассажиры в салоне передрались из-за упавшей на взлете бутылки с водой, наставили друг другу синяков, разбили носы. Девчата их развели и рассадили по разным салонам. Короче, бригаде пришлось поработать. Я по прилету написал докладную записку Лукичу: он у нас с недавнего времени летный директор. Попросил его поощрить бригаду. Звонил Менскому, тот сказал, что приказ о поощрении уже готовится. 13.12. Сегодня слетали во Владик с разворотом, тяжелый ночной рейс. Попков проверял меня по указанию нового летного директора: они там придумали всех командиров по разу проверить, провезти на горные аэродромы. Ну, провез я себя, показал товар лицом. Кому и зачем это надо. Кому нужен мой образцовый полет, снижение без газа и бабаевская посадка. Даже мне самому скучно. Лукичу же, в старческом маразме, отнюдь не скучно; ему весело. Изощряется в затягивании гаек… а мы потерпим, недолго осталось. Должно же хватить у меня опыта и мастерства, чтобы спокойно долетать и достойно уйти. 4.02. Савинов проверил меня после отпуска. Слетали на Самару. Немного покрутил я в наборе руками, убедился, что нет нужды в тренировке, включил автопилот и стал дожидаться снижения. Ну, зашел и сел как всегда. Немного, совсем чуть-чуть, гуляла глиссада; после ВПР незаметно вылез из-за сдвига ветра на полточки выше; ну, дожал и сел. Назад садились ночью, ну, показал снижение и заход без газа, разворотом на 180. Всё молча. 16 пассажиров, задняя центровка, малый вес… одно да потому… Морозная инверсия у земли, прямо по ней сдвиг ветра; пришлось энергично ставить 78, 76, 72. Опять дожимал, сажал от себя, ну, ничего особенного. Испросил замечания по полетам. Савинов хмыкнул. 17.02. Недавно в Шушенском черемшанский Як-40 заходил в тумане по ОПРС, крутился-крутился, строил какую-то одному ему ведомую схему, стал по ней снижаться, АРК барахлит… вдруг колеса зацепились за землю; ну, убрал газы, пробежал немного, сломал переднюю ногу и встал… в чистом поле, в 27 км от полосы. Вот это профессионалы. Да я уже не только перестал удивляться выкрутасам современной авиации, а и просто всем этим вообще как-то не интересуюсь. Если на «Руслане» налет у командира составляет 15 часов в год, а потом он летит, и не куда-нибудь, а прямо в Италию, там заходит в тумане на посадку, потом уходит на второй круг и падает, – то всякая там мелочевка, вроде катастрофы военного Ил-76 на взлете в Абакане (подумаешь – загрузили лишних 30 тонн товару и не смогли перетянуть бугорок), воспринимается как обычная иллюстрация к общему состоянию в стране. Стабильное состояние. 21.02. Лукич провел очередной разбор; старики шутили: ну прям помолодели на 30 лет, спасибо Лукичу, – все как при Брежневе. Так же поставили проштрафившийся экипаж лайнера перед лицом своих и чужих товарищей, так же драли, стыдили и издевались, как будто этим можно кого-то воспитать, а главное, улучшить безопасность. Дело-то выеденного яйца не стоит. Заходили они в Домодедове. И опытный, старый штурман, готовясь не только к посадке, а и к возможному уходу на запасной во Внуково, нашел частоты Внукова и… выставил на селекторе внуковскую частоту КУРС-МП вместо домодедовской. Домодедовскую-то он наизусть знает, много лет туда пролетал, всегда ее установит, а вот внуковскую, чтоб не забыть… Ну, и забыл, оставил внуковскую. При заходе увидели, что что-то не так, перешли на ОСП+РСП, довернули; где-то над дальним приводом штурман опомнился, установил домодедовскую частоту, и сели с использованием директоров. Так, оказывается, при том довороте они крен превысили на полградуса; выскочила на секунду сигнализация, записалось на МСРП, и раскопали. Старый штурман взял всю вину на себя. Да я бы на месте Лукича, ну, объявил бы ему замечание, да попенял бы второму пилоту, что не проконтролировал (а обязан, но мы всегда доверяем штурманам), а на разборе обратил бы внимание: товарищи пилоты, вот видите – и на старуху бывает проруха, так следите же, тем более, летаем очень редко. Лукич же построил на этом целую оперетту, витийствовал, как и 30 лет назад, и все добивался, все добивался у второго пилота: почему, ну почему ты не проконтролировал? А? Ну почему? Ну вот почему? Ну что мне с тобой делать? Я бы на месте второго пилота сказал: а по кочану! Забыл, и всё. Вот просто за-был. Виноват, наказывайте, но – не издевайтесь. А старики с Ил-62 ворчали: у нас штурман-то за спиной, кто его проконтролирует, а летаем же. Из мухи слона раздули. Это только один пример затягивания гаек и нагнетания атмосферы страха. А я тут слетал в Норильск. Справа был Валера Логутенков; туда я, обратно он. За спиной у нас сидел Павел Константинович Шапошников, наш старейший капитан, попросившийся зайцем за рыбой, чтобы мне там по его заказу не бегать и не таскаться. Да пожалуйста, уважаемый человек. Ну, посадка у меня из-за мороза -37 вышла не совсем мягкая: как всегда резво убирал газы с 78, до 76, 74, 72… а вес был 84 тонны: заправились побольше дома, чтобы не забирать из Норильска дорогое топливо. 72 процента оказалось маловато, и хоть я и выровнял низко, но подвешенная машина плюхнулась с 10 сантиметров, побежала, и только я опустил ногу, как мы влетели в туман. Такая особенность Алыкеля с курсом 14 в мороз: с комбината тянет дым, и за бугорком он превращается в туман. Обратно летел Валера, ну, спец. Сзади Филаретыч висел над штурманенком-стажером и пел ему извечную песню опытных навигаторов, с припевом «комплексно, комплексно»; я еле успевал вести связь, а Валера себе пронзал эшелоны. Дома была болтанка, ветер стаскивал вправо; до ВПР шли в автомате, на ВПР Валера взял штурвал и стал являть искусство: вышел на ось, четко реагируя на внезапные крены, выровнял, замер, я громко прочитал свое любимое «раз-два-три!»… ну, добирай же! А он говорит: не надо. Ну, не надо, так не надо: ручки-то – вот они, я поднял их над штурвалом… и он, стервец, таки притер машину. Да уж. Превзошел. Зарулили, и я у Паши испросил замечания. Он засмеялся, но насчет Норильска попенял мне, что вот он сам, мол, с курсом 14 всегда притирает… ну а дома… ученик явно превзошел учителя. А что скажешь. Главное: я ему – «добирай», а он мне – «не надо». И таки не надо. Молодец. Волк. Валера расцвел. Сказал, что это лучшая ему похвала за все наши полеты. 26.02. Вчера слетали в Комсомольск. Новый второй пилот, Сергей Мещанинов. Я показывал товар лицом, и тут при заходе по ОСП с курсом 183 на четвертом развороте мигнуло табло «Крен прав. велик» И хрен бы с ним, но по указанию лучшего методиста ИКАО Лукича каждый такой случай теперь подлежит расследованию. И обгажен был хороший заход, и я был скован; руки делали свое дело, а мозг лихорадочно обрабатывал лишнюю информацию: почему? Крен был всего 20, скорость где-то чуть больше 290; настройка БКК на скорость 280… отпишемся болтанкой… Это не дело. Какое-то говенное желтое табло, при визуальном заходе, – и мешает работать. Обратно заходил Сергей, ну, взялся было руками крутить, но я оставил ему автопилот, а он в нем еще ни бэ, ни мэ; однако до ВПР освоился. Заход без газа получился, и сел он прилично, хоть и чуть-чуть по-вороньи. И говорит: конечно, с автопилотом-то гораздо легче. А у нас все делают наоборот: от сложного, рукопашного, к простому автомату. 3.03. Слетали в Благовещенск с Сашей Немченко. У Вити стажер – толковый парнишка; вот мы в два смычка и поем, то одному, то другому, а иной раз и обоим сразу. Да вот скомкали заход в Благовещенске: Витя, в педагогическом раже, запамятовал, что там же еще осталась единственная в стране система СП-70; не переключили пульт, разбираться было некогда, и пришлось заходить по ОСП. Я насучился газами до одури: ветер, болтанка, мороз, скорости гуляют. Но к торцу свел все в кучу и завершил изумительной бабаевской посадкой. Саша назад заходил в автомате с прямой, заход у него получился, а я все приглядывался, следил, как он опустит переднюю ногу: в предыдущих полетах он ее бросал грубовато. И таки заметил: да он же ее опускает, в натуре, движением от себя. А надо-то держать, держать, выбирая штурвал на себя таким темпом, чтобы ножка плавненько сама опускалась. Так вот почему он несколько раз приложил ногу о бетон. Ну, усекли; я объяснил, он понял. 5.03. Всё, полеты позади: отойду от них за три дня, посижу на диете и займусь годовой комиссией. В Питер слетали в составе родного экипажа: мне вернули Колю. Отдал я ему бразды и буквально почивал на лаврах, пожиная плоды упорного труда своего ученика. Коля стал зрелым мастером; многим, ой многим нашим капитанам – да поучиться бы у этого второго пилота. От бога летчик. Горжусь, что мне удалось передать ему свой опыт. Вот где я себя реализовал. Дай бог только ему стать капитаном. И ему ж хотелось показать товар лицом: видно было, как старался. Ну, все по нулям, все параметры как влитые, а посадки… аж сердце замирало. Нет, ребята, как хотите, а с радостью вкушения результатов отличной работы твоего ученика ничто не сравнится. И многим ли в этом так повезло, как мне. Да еще эти нюансы нюансов, отработанные, вросшие в плоть и в кровь, – вот зримое, хоть пощупай, воплощение истинной красноярской школы. Эх, сел бы с нами в кабину Солодун… вот бы порадовался. О каких еще грубых посадках речь… 21.03. Так, ну все: годовая позади. За 10 дней. Спирограмма пошла, ну, чуть недотягиваю; доктора отнеслись к старику лояльно: да вы что, да вы даже не переживайте, какие мелочи. Итак, с семью диагнозами – за 10 дней. Это еще здоровье есть. Молодые вон, 30-летние, трясутся: то экстрасистолы на велоэргометре выскакивают, угоняют на второй круг, то еще что. Я пока держусь. Пришел домой с квитком, хлебной карточкой, хлопнул добрую рюмаху водки, расслабился. Год жизни впереди! Но 4 кило сбросил. Это внучечка. А ну-ка, каждую ночь – раз, да проснись, а то и два-три. Да вместо отдыха – то ляльку на руки, то ремонт. Ладно, вытерпим. Приятные хлопоты. 2.04. И последний полет в Москву перед отпуском принес сюрприз. Заходил я в болтанку, предупреждали о сдвиге ветра – как раз проходил холодный фронт. На глиссаде трепало так, что пару раз чуть не вывихнул плечи. Но все параметры были в норме, ибо показывал товар лицом очередному молодому второму пилоту. Все было терпимо до ВПР: и сильный боковик слева, и порывы, и резкие крены. Но где-то на 70 м внезапно глиссада скакнула вниз и ушла за две точки. То самое вышибание выше глиссады, о котором я всех предупреждаю при сильном встречном ветре, произошло абсолютно незаметно в общей болтанке: на акселерометре приросты перегрузки всего плюс-минус 0,2; мне даже показалось, что барахлит КУРС-МП. Визуально же трудно определить, идем ли мы по глиссаде или выше нее на 15 м. Четырехкилометровая полоса позволяла спокойно сесть и из этого положения, однако я стал дожимать машину, плавно увеличивая вертикальную до 6 м/сек, с расчетом, что выравнивание начну повыше, а перелет все равно неизбежен… но не полтора же километра. И это все – при выворачивающей плечи болтанке. Сдвиг ветра был именно у земли. Резко уменьшился правый снос, появилась тенденция к смещению машины влево; тут подошел торец, где-то на 25 м, я чуть уменьшил вертикальную, да она и была-то не более 5 м/сек. Притом, пустая машина, 27 пассажиров, естественно, с задней центровкой. Тащило влево. Захотелось дать правой ноги. Кренчиком не прикрыться, ибо кренчики и так были по 15 градусов туда-сюда, только успевай исправлять. Пришлось зажать педали и, определив, что хоть и идем левее оси, но сядем без тенденции к выкатыванию, сосредоточиться полностью на выравнивании и выдерживании. Малый газ скомандовал на 10 м; скорости было предостаточно, оставалось только дожимать. Знаки уплывали под крыло один за другим. Господи, да когда же она замрет… Три метра, три метра, два метра, два метра, два, два, два… пора добирать… метр, метр… есть касание. Фу. Опустил ногу, покатились, как раз между светящейся осевой линией и левой обочиной. Видимо, над торцом у ветра появилась ощутимая попутная составляющая. Но полоса сухая, дли-и-инная… Хватило вполне, еще и осталось. Акселерометр же показал максимум 1,25. Вышли; трепал ветер. Экипаж поднимался по трапу нам навстречу. Я предупредил капитана, что на взлете будут сюрпризы. Ну, Вовк – старый волк; с ним Нина Васильевна… тоже опытнейшая волчица. Им не впервой. Молодой второй пилот Олег Ю., сын пилота, летал после училища на Ан-26, налет 2000 часов, да на «Ту» за год кое-как наскреб 200 часов; вот такой контингент. Конечно, трудно ему; ну, давай, снижайся в автомате до ВПР. Тут забарахлил корректор высоты, пришлось выдерживать ее колесиком, тут заход, глиссада; штурман-стажер путается с картой проверок, машина в развороте, я слежу за всем… Что-то не так с автоматическим заходом: горит табло «Заход», а «Глиссада» не горит, а по ПНП та глиссада где-то вверху, явное несоответствие. И машина идет как-то боком, а уже дело к ДПРМ, а снос вправо градусов десять. Ладно, отключил все, взял управление, вывел, установил, отдал: на, пилотируй в директоре. Ну, худо-бедно, под диктовку, он мягко сел. Мое дело было – проверить его и записать в летную книжку. По его опыту – соответствует своему третьему классу. Контингент. Записал в книжку, допустил летать. Он на глиссаде ничтоже сумняшеся подправил что-то колесиком, глиссада отключилась, только и всего. Ну, Витя ему натолкал, запомнит, что можно, а что нельзя. Дальний мы прошли ниже метров на 40; расшифруют – отдуюсь. Орлята учатся летать. Да, значит, может вышибить из глиссады и сильный боковой ветер, особенно со сдвигом, особенно перед холодным фронтом. Будь это в Комсомольске, пришлось бы уходить на второй круг. 17.04. Несмотря ни на что, я все равно летать люблю; я люблю свою форму, подтянут и элегантен, я всегда чувствую на себе взгляды пассажиров. Ну – и товар лицом. Вчера выполняли 150-й рейс. Нам, командирам, вменили в обязанность давать информацию пассажирам – лично командиру корабля. Ну, попробовал. И сразу почувствовал ответственность за строгое соблюдение времени, заявленного в информации. Сказал, что взлетим по местному в 20.00, – взлетел в 20.00. Долго считали, когда же приземлимся в Москве. Сказал, в 20.25 по Москве – сел точно в 20.25. Фирма. Правда, на посадке легкая машина выкинула привычный фокус. Давали ветер такой, что стало ясно: у земли будет сдвиг. Сдвинуло с ВПР; я немного добавил режим, немного посучил штурвалом и вышел к торцу строго по оси. Машина зависла на двух метрах; я ждал, когда погаснет лишняя скорость. Перед тем, как ей упасть, нас вдруг потащило вправо, с еще пока опущенным носом. Я подхватил очень энергично и замер в ожидании мягкого касания, компенсирующего посадку со сносом. И мягко коснулись. А через секунду нас накренило и покатило на правой ноге, а потом мы воспарили и зависли в пяти сантиметрах от бетона: я явственно чувствовал полет и еле успел убрать крен. Пришлось снова добирать и опять дожидаться мягкого касания. Ну, точно, как тогда с Володей. Заруливали; пошел дождик, откуда-то налетели низкие облака, поднялся ветер. Я зашел на метео, глянул на карту: явственно вырисован холодный фронт. А ведь дома я глядел – так и в помине его над Москвой не было. Такое вот метеообеспечение. Сказал синоптику, что у земли сдвиг ветра. А вы старту сообщили? Да нет, не успел, едва с полосы успел соскочить. Ну, тогда и не будем давать информацию. Да и черт с вами. 5.05. В Москву нас завезли пассажирами под 43-й рейс; ну, рейс отдыха. Полдня проиграли в карты и не спавши пошли на ночной вылет: всего-то 4 часа полета, мелочи. Я физически отдыхал, наломавшись накануне с досками на стройке; Коля работал. При заходе в автомате с прямой попали в сдвиг ветра, ожидаемый в связи с прохождением фронта. И точно: в районе между дальним и ближним машину вдруг стало уводить под глиссаду; мы с Колей, как дураки, тупо наблюдали, как вертикальная увеличилась до 7, потом до 9 м/сек… э-э, тут не только сдвиг, а какая-то помеха в зоне глиссады. Коля отключил автопилот и руками, одним движением, вытащил ее и утвердил на глиссаде, скорректировав одновременно и режим. Молодому капитану, введенному мною недавно, тут и сейчас было бы трудно, а Коля справился, как так и надо. К ВПР параметры были в норме, мы только ожидали утихновения попутной тяги, но вертикальная так и осталась 5 м/сек до самого торца. Коля выровнял и стал выжидать под горку, пока упадет скорость, а сам тем временем допустил маленький правый крен. Я сказал ему: «левый…» – он кивнул и добавил крена вправо. Я договорил: «левый, левый крен создай». Он понял, прикрылся левым, остановил начавшееся было смещение вправо, добрал чуть, еще, еще… а под горку же… Миллиметры снова ушли вниз, а скорость уже упала, и знаки уплыли назад. Под собственный смех Коля сронил ее с пяти сантиметров с перегрузкой 1,2. Это все нюансы нюансов, замечаемые и оцениваемые только самыми опытными. Для нас с Колей и Витей это – самая жизнь. Тут все контролируемо и управляемо, и надо видеть Колю Евдокимова, хитрого летчика, в деле. 7.05. Слетали в Благовещенск. Коля, переживающий за предыдущий полет, в котором, по его мнению, допустил много ошибок, горел желанием реабилитироваться. Ну, довез и посадил хорошо, срулил с полосы, и, как это не редкость в Благовещенске, нам организовали заруливание. В тот раз я, помнится, крутился на перроне, норовя заехать по сигналам болтающейся на перроне ВОХРы, а теперь нам на бесснежном перроне были предложены две затертые разметки, через полстоянки: на одной стоял смирно человек, а на другой, подальше, тоже стоял смирно такой же человек. Я понял так, что нам заруливать к тому человеку, который стоит подальше, и сосредоточил внимание на нем. Коля же заруливал, ориентируясь на того, который ближе. Ни один из них не удосужился поднять вверх руки, что означало бы признак руководства нашим движением. Как оказалось, прав был таки Коля, а я своими самоуверенными вводными сбивал его с толку, и таки сбил. Тот, на которого ориентировался я, был просто техник, спокойно ожидающий нашей остановки, чтобы подставить под колеса колодки; до меня это позже дошло, когда я увидел их у его ног. Делать было нечего: мы уже не вписывались в габариты стоянки, обозначенной полустертыми красными линиями, и главный техник, удосужившийся наконец обозначить свою роль поднятием рук, дал команду на повторный заход, который Коля благополучно и выполнил, крутанув вираж перед вокзалом. Ну, посмеялись… а виноват-то я. Молодой и шустрый Коля оценил ситуацию правильно, а я зациклился на том, что здесь же тесно, заруливать вокруг пятки, и тот человек, что стоит подальше от вокзала и ближе к ВПП, и есть встречающий. А Коля просто увидел габариты стоянки и по ним заруливал. Ладно, век живи, век учись. Обратно выпросил полет я, под обычное Колино: «Что ж мы – звери..?» Ну, слетал. Дома жарко, болтанка, заход с обратным курсом, на 108; ну, к третьему снизился без газа, а потом болтались на газу 5 минут и вышли на посадочный за 8 км до ТВГ – такая схема. На глиссаде трепало. И тут я, может, впервые, пожалел, что не отдал полет Коле. Пусть бы он корячился, старался, а я бы указывал. Так нет же: старайся теперь сам, кряхти, показывай товар лицом. Выровнял на режиме, помня, что над торцом скорость была всего 250, поставил малый газ и стал выжидать те самые секунды. Полоса горячая, машина легкая; знаки уплывали. Чуть добрал… и только-только было почувствовал то самое уплотнение под колесами, может, даже чуть и коснулись… но вряд ли: земля плавно ушла на 5 сантиметров вниз. Что ж, знал ведь, что сажусь в ямку. Выждал; знаки скрылись, щас упадем, плавно подхватил, замер, – и на после-е-едних знаках плавно покатились. А ведь от ВПР я прижал ее чуть ниже глиссады и к торцу шел на полторы точки ниже, торец прошел на 10 м, на минимальной скорости. Что же тогда было бы делать нашему Ф., апологету посадок по продолженной глиссаде? А странное ощущение: не захотелось борьбы со стихией. Пусть бы лучше Коля. Может, это и есть первый звоночек? 23.05. Москва с разворотом. Строго по расписанию, бизнес-классом, все хорошо, а вот посадка на легкой машине не удалась. Подвесил на малой скорости, а она пошла чуть вверх, и времени подхватить, когда скорость совсем упала, не осталось. Сронил с 10 см. Да и заход вышел неожиданный. Давали погоду приличную, но подходил фронт, и на глазах натянуло низкую облачность. Пока я гасил скорость над Люберцами, нижний край облаков опустился с 600 до 180 м; заходил в автомате, и облачность была глухая. Короче, увидел огни с 80 м. Но в задании заход не стал отмечать: только что в рейсе на Владик поставили два захода по минимуму, хватит. Назад вез Олег. Зашел и сел в автомате под мою диктовку, после ВПР умудрился уйти вправо от оси, потом, под мою же диктовку, вывел, по моей же команде кое-как уцепился за ось, подвесил на 6 м, по моим подсказкам дал ей таки снизиться и мягко, но грузно приземлил. Так он же два месяца сидел на земле, весь апрель и май, – ну как тут набьешь руку. Тут, едрена вошь, у самого рука сбивается, по две посадки в месяц… никак не могу навостриться сажать легкие машины с задней центровкой. Что уж говорить о вторых пилотах. Конечно, у меня-то получается… на 5, ну, на 6, а вот чтобы на 8… 17.06. Похоронил Русяева. Рак легких, два месяца – и всё. Он был старше меня всего на четыре года, а Мастером был еще тридцать лет назад. Вот – первое мое зримое впечатление от настоящего профессионализма, вот пример для подражания. Возможно, он первый подтолкнул мое самолюбие: он может, а я – что? Догнать и перегнать! И хотя летная судьба его сложилась не совсем удачно, но… Президент и на пенсии – Президент. Уходят люди. Смерть разъединяет навсегда, однако смерть и собирает над могилой вместе людей, которым при жизни нет даже нужды встречаться, но которых зовет свет души ушедшего. На кладбище пришли те, о ком я уже и позабыл, но кто, как и я, помнит смелого, хваткого, уверенного в себе профессионала, сильно и сложно пожившего, не без греха… люди пришли бросить свою горсть земли. Значит, память о нем важна для нас. Для меня лично Иван Петрович Русяев был и остался примером Мастерства от Бога. Слетали в Москву с Пиляевым. Я работал диктором; пилотировал Коля, дорвавшийся до штурвала после месячного перерыва. И хоть Серега, по своему обыкновению, ворчал и подсказывал куда впадает Волга, – это Евдокимову-то!– посадки были вполне приличные. Я было хотел обратно слетать сам, но Коля слезно вымолил обратный полет. Да что ж мы – звери..? Тебе больше хочется – лети. Летай, Коля, пока летается; я же – наелся. 9.08. Какие-то самолеты падают: то «Боинг», то «Дугласы». Неинтересно. Я даже подробностей не знаю. Господи, как быстро я утрачиваю интерес к работе, к авиации, к небу. Чтобы он был, надо подпитывать его положительными эмоциями. А главное: все рушится, и даже если станет возрождаться, то не у нас и не на моем летном веку. 11.08. Предварительные данные по катастрофе Боинга-747 на острове Гуам, южнокорейской компании. Командир опытнейший… девять тысяч часов. Ну, ладно. Система оповещения об опасном сближении с землей у них была отключена. Какой-то радар – тоже. В аэропорту плановое отключение глиссадного маяка. И упали в 10 км в стороне от полосы, врезались в гору. Может, это те самые издержки цивилизации, когда попавший в тайгу горожанин закатывает истерику по поводу отсутствия туалетной бумаги и адвоката… а отключение канала ИЛС приводит в растерянность опытнейшего капитана? У нас, правда, такой налет может быть, ну, у второго пилота; капитаны же тяжелых судов обычно имеют налет в полтора-два раза больше. Все-таки 747-й… Но как тут со стороны судить. Пусть разбираются с черными ящиками. А по хабаровской катастрофе вышел приказ. Причиной явилась неисправность то ли индикации топливной системы, то ли положения рулевых машинок по крену. Короче, штурвал при выравнивании топлива был загнан до предела в противоположный крен. Экипаж, мол, беспокоился, пытался что-то делать, перекачивали… Но когда пределы автопилота были выбраны, канал крена отключился, экипаж этого «не заметил», самолет вошел в крен до 70 градусов и в крутой спирали свалился. Я ничему этому не верю. Для себя я сделал вывод сразу: что бы ни показывали топливомеры, что бы мне ни говорил по этому поводу бортинженер, – а запас по элеронам в обе стороны должен быть одинаковым. За этим мы следим. И другие экипажи следят. Нет, не верится мне, что такая уж большая разница возникла, пусть даже экипаж по ошибке сам переключил не в ту сторону. Слишком короток полет, слишком мало вообще топлива, чтобы создать столь значительный кренящий момент. И что-то уж слишком беспечным нам выставляют экипаж, доверивший автопилоту удерживать самолет с отклоненным до предела штурвалом. Так не делается. Надо отключить автопилот, взять в руки, попробовать управляемость, на худой конец, сбегать в салон и посмотреть положение элеронов. Надо быть всегда готовым дать ногу в помощь элеронам и лететь со скольжением. Но не спать, пока крен дойдет до 70 градусов. Тем более, обязательно загорится табло «Крен велик», а при отключении бокового канала САУ сработает световая и звуковая сигнализация: «Управляй креном!». Это все сказки. 13.08. Внимательно вчитываясь в приказ по хабаровской катастрофе, все больше и больше удивляешься. У них тенденция к левому крену. Штурвал отклонен вправо, планка ИН-3 стоит нейтрально, т.е. сбалансированное положение. Капитан триммером загоняет штурвал до упора вправо, под 90, чтобы определить запас. Дает команду на перекачку из левой группы в правую, чтобы убрать тенденцию к левому крену. Автопилот включен. Перекачка, если верить приказу, идет столь интенсивно, что через несколько минут (!) уже появляется тенденция к другому, правому крену, а через 12 минут после начала перекачки рулевой агрегат уже встает на упор: даже не хватает элеронов, чтобы парировать теперь уже правый крен. Так не бывает. Но приказ утверждает, что было именно так. Потом автопилот отключается по боковому каналу. В приказе умалчивается, срабатывает ли звуковая и световая сигнализация «Управляй креном» – а ведь она есть, эта сигнализация, громкая, разбудит, если что. Самолет уходит в крен, валится в крутую спираль, и только при правом крене 70 экипаж хватается за управление. Дальше – наш дурацкий авиагоризонт, с его концепцией «вид с самолета на землю», запутывает мозги, и экипаж теряет пространственное положение. И хоть бы крикнули «Падаем!» в эфир. Нам объясняют, что экипаж загнал штурвал вправо до упора и «забыл» о нем. Нам объясняют, что беспечный экипаж в этой, совершенно нестандартной, особой ситуации не следил за планкой ИН-3 – единственным индикатором, по которому, собственно, и контролируется соответствие перекачки и сбалансированного положения элеронов. И вот, мол, поэтому так быстро встал на упор агрегат РА-56. Нам не объясняют, срабатывала ли вообще сигнализация отключения САУ по боковому каналу. Зато экипаж запутался в индексах авиагоризонтов – вот и причина. Что ж с него взять, с такого вот экипажа… «Учишь вас, учишь…» Все это шито белыми нитками. И никто из опытных летчиков в это не верит. 21.08. Вылетаем из Москвы на Мирный. Запасным берется обычно Полярный: до других запасных топлива не хватит. Но прогноза Полярного нет. А вот не дают, и всё. А как хотите. Хотите – задержите рейс до утра, дождитесь прогноза; хотите – вылетайте без прогноза запасного аэродрома. Значит, это мы, кое-как поспав перед вылетом, поднялись, собрались; в нумер уже заглядывает прибывший экипаж, ожидающий освобождения комнаты, ибо свободных мест нет. А теперь, значит, мы должны сдать под охрану самолет, с багажом и питанием, вернуться в профилакторий, сидеть в холле на чемоданах и ждать, пока нам освободится комната, ибо мест так и нет. И вот как только она освободится, так придет тот прогноз Полярного – и снова идти на вылет. А в воздухе предстоит провести более 10 часов. «С согласия экипажа». Попробуй, не дай согласие. Но никому до всего этого дела нет. Ну, взяли запасным Норильск, с рубежа возврата, от траверза Туры. Благо прогноз отличный. А пролетая мимо Норильска, возьмем по УКВ его погоду, а заодно запросим – может, у них уже будет – прогноз Полярного. Щас. Как попросили по всей трассе добыть нам тот полярнинский прогноз, так нам везде сказали: да пока он придет, вы уже в Мирном сядете. И точно: только в зоне Мирного мы по его метеоканалу услышали погоду Полярного и прогноз на час. Кому ты нужен в том воздухе. Это же не тридцатые годы, когда любой радиолюбитель за честь бы почел помочь летчику связью. Орали-орали по дальней связи – тишина… Хорошо, хоть в Мирном была сносная погода. Уголовные полеты. А я рассыпаюсь перед пассажирами… ах, какой сервис… 3.09. На собственный день рождения – ночная Москва. Перед самым вылетом у нас прошел фронт с сильнейшим ливнем, и к утру влажность обещала быть стопроцентной, с туманом. Коля прекрасно довез туда, с великолепной, спокойной евдокимовской посадкой. Погуляли по вокзалу, попили кофе и стали на метео анализировать прогнозы. Еще в наборе высоты от Красноярска и далее по маршруту я что-то не видел характерной для тыловой части циклона облачности барашками, переходящей в ясное небо, обещающее к утру выхолаживание и туман. Все тучки да тучки, слоистые. Это давало некоторый повод для оптимизма. Собрали все погодки за четыре часа, проанализировали динамику падения температуры и изменение дефицита точки росы (разницы между фактической температурой и температурой образования тумана). Разница эта держалась все время в пределах 6-7 градусов, и не видно было, чтобы температура резко падала, приближаясь к точке росы. Прогноз давал временами туман 500, в период, как обычно, от восхода солнца до 10 часов утра; нам же предстояло садиться как раз к моменту восхода, когда ОВИ бесполезны. Абакан предупредил, что у него нет топлива. Томск давал видимость 2000, это настораживало. Кемерово прогнозировало временами 500. Короче, я задержал рейс на полчаса, дождался нового прогноза и последней погоды. Динамика температур оставалась той же; новый прогноз Томска пришел хороший. Посоветовавшись с ребятами, я рискнул вылетать, взяв Томск запасным. Главное, что смущало меня в красноярском прогнозе – отсутствие данных об облачности: погода хорошая, и все; ну, временами туман 500. Определение «хорошая» означает лишь то, что основная видимость более 10, а облачность может быть любая, выше 1000 метров. Дали бы хоть раз в прогнозе данные об облачности – я сразу бы понял, что о тумане можно не переживать: земля укрыта одеялом облаков и быстро не выхолодится.
Весь полет мы брали фактическую погоду и считали дефицит точки росы. Температура воздуха дома не менялась и стояла все время +5. После холодного фронта так не бывает. Да и на карте этот циклон был показан окклюдированным, а главное, это был циклон не на границе арктического и полярного воздуха, а в теплой зоне, где разница температур не столь высока, чтобы за несколько часов выхолодить землю. Стал прослушиваться метеоканал родного порта: ветер… Ну, раз ветер, то какой еще туман. Все небо на снижении было укрыто многослойными облаками. Хорошее обледенение по верхней кромке. Визуально выскочили на 1800. Вот она – хорошая погода. Я выпросил у Коли заход, спокойно, на пределах, зашел без газа, выровнял над бетоном, замер… и тут Коля весьма энергично вмешался и внаглую потащил штурвал на себя. Что ему там показалось в утренних сумерках, я не знаю, но вместо того, чтобы мягко подхватить, мне, наоборот, пришлось придержать ретивый подхват Коли; мы боролись в пяти сантиметрах от бетона, и я вынужден был, в конце концов, просто зажать штурвал, едва удерживая его от медвежьей хватки второго пилота. Ну, сели более-менее, со смехом и переговариваясь; однако всю прелесть мягкого касания Коля мне испортил. Да ладно. Главное, мы приняли грамотное решение в Москве – и оправдалось. Зарулили, вышли. Ветерок холодный, бетон абсолютно сухой, ну, несколько старых луж, – никакой особой влажности не чувствовалось. Вот тебе и ливень на холодном фронте окклюзии вечером. А всеми статьями ведь шибалось на туман к утру. 15.09. Все четыре полета я отдал Коле; он слетал неплохо, в пределах 1,15. Но что интересно: ночью, когда настывший самолет перед приземлением попадает в слой теплого и влажного воздуха и на необогреваемых форточках и боковых стеклах фонаря выпадает роса, что резко сужает угол зрения, – Коля допускает крены перед самым касанием и уходит от оси. Днем-то горизонт виден и через запотевшие стекла, боковым зрением, а ночью от внутреннего слабого освещения кабины на этих стеклах создается явный экран; я как-то привык и не замечаю, а Коле еще трудно. Ну, и заход по ОСП: с нашими минимумами погоды это обычно – визуальный заход с высоты 150-100 м. Коле трудно визуально выдерживать ось и направлять машину строго под торец, удерживая под контролем скорость, вариометр, режим и порции тангажа. Водит носом. Я ворчу, подсказываю и удивляюсь: да видно же, невооруженным глазом видно! А он пока не видит, и траектория снижения у него, как у парашютиста, конусом, и в конусе – туда-сюда, туда-сюда… У торца только все сходится в точку, да и то, сил и внимания уже не хватает, а тут еще этот экран на стеклах. Конечно, это нюансы шестерки по пятибалльной системе. Ф., с его командирским налетом, так не сумеет, но линейный второй пилот… мой второй пилот… Порю. Пусть не обижается. Он ведь – может, но надо давить на самолюбие. И давать, давать ему летать. 3.10. Перед Комсомольском удалось поспать часа три, и в полете спать не хотелось; ну, читал. Машина попалась 181-я, и Коля уж нарулился по бетону вволю. И то: скоро остальные Б-1 спишут, и не останется машин с управлением передней ногой от педалей; вторые пилоты утратят навыки руления, но Коля Евдокимов мною рулить научен раз и навсегда. Заход в Комсомольске с прямой, да пустили не через Троицкое, а напрямую, по гипотенузе, и пришлось энергично снижаться. Как всегда, в Комсомольске при заходе с курсом 3 был попутный ветерок, а полоска там 2500, на болоте, без концевой полосы; короче, сильно не разгонишься, и вообще, Комсомольск по сложности не сильно отличается от Сочи, разве что здесь возможен уход на второй круг с любой высоты, да ВПП чуть длиннее; ветерки же у земли здесь коварные, как и там. Коля старался, а я его настраивал. Что с ВПР же держи на точку ниже, ибо попутник. Что скорость пересечения торца строго расчетная, не выше. Что режим на глиссаде должен соответствовать УНГ 3 градуса, т.е. на пару процентов ниже обычного, да еще с учетом ветра. Реверс включать сразу после касания, ногу долго не держать, сопли не сосать, тормоза на конец пробега не оставлять. И при всем этом сесть мягко. Все Коля сделал как надо, но… выравнивать начал повыше. И подвесил. И полетели над знаками, с попутничком. Ну, хорошо хоть, скорость не разогнал, так сели с перелетом метров 600, мягко. Тут же – реверс; я еще помог ему достаточно энергично опустить ногу, аж почувствовалось. И уже ушел под нас белый круг, обозначающий у красноармейцев центр ВПП; осталось 1200 м. Тормози сам. Коля жал. По темпу замедления видно было, что реверс надо таки подержать строго до 120 км/час, и если не отпускать тормоза, то вполне хватит. Я предупредил, чтоб подержал реверс. На 120 выключили… неуютно, но на сухой полосе тормозов хватит, только не отпускать! Коля не выдержал, по-автомобильному отпустил и снова зажал. Что – тычками? Ну, потерял только еще 50 метров полосы. Вот видишь? Ну, за 200 метров мы уже мягко катились, и я предупредил, что здесь же разворот на 180 задом-наперёдный: не сразу сначала в карман, а потом на ось из кармана, а наоборот, от второй зебрины справа выполняется разворот влево, в карман, по краям торчащих прямыми углами бетонных плит, – так указано в сборнике, и разметка стрелками на бетоне такая. Коля справился. Развернулся, доехал до перрона, зарулил на тесную стоянку, весьма изящно. Ну, дальше эпопея с икрой, самый же сезон: косяк прошел. Мне было не надо. Вот – посадка, точно такая же, как у Ф. в Сочи при проверке второго пилота на класс. Только там они выкатились, а нам нынче повезло, потому что сопли не сосали. Я спросил, почему он начал рано выравнивать, в то время как всегда выравнивает низко. Он что-то залепетал о крутоватой глиссаде, большей вертикальной скорости и предвыравнивании. Правильно, но действия неадекватны. Тогда уж подведи на две точки ниже, под торец, а предвыравнивание на газу уменьшит тебе вертикальную и подтащит тебя на точку ближе к глиссаде. Да еще попутник: она – хвост трубой, и если бы еще скорость над торцом была чуть побольше, то сел бы аккурат на тот белый круг на середине полосы, и, возможно, понадобился бы трактор. Но мы были ко всему этому готовы, а когда допустили ошибку, – точными и своевременными действиями использовали тот самый пресловутый коэффициент мастерства 1,67, заложенный в потребную посадочную дистанцию. На стоянке осмотрел переднюю ногу: по следам смазки на штоке видно было, что просадка была на всю его длину, почти до касания серьгой. Ну, я уже не мальчик: когда насильственно опускал Коле ногу, контролировал процесс; однако это предел. Назад долетели легко. Посадка удачная. На другой день Норильск. Коля вез, я читал. Заход на 14 с прямой. Все как учили. На кругу тихо, на 100 м попутник 5 м/сек, у земли тихо. Машина тяжелая, с заначкой, за 80 тонн. Центровка передняя, и на глиссаде я оставил закрылки на 28, стабилизатор перевел на 5,5, и руль сбалансировался на 5, в пределах зеленого сектора. Смотри же: держи скорость 290, не менее: закрылки же не на 45, а на 28 стоят. Коля строго держал. Заходили в автомате. Что меня отвлекло, не знаю, но я прозевал момент, когда Коля отключил САУ. Нас потихоньку затягивало под глиссаду: на полточки, на точку… ровненько так, но неуклонно. Думаю: надо отключать САУ. Нажал на кнопку – тишина. Еще раз. Сигнализация не срабатывает. Дотянулся до тумблеров на пульте… отключены, штурман уже продублировал. Тьфу ты, значит, это Коля уже давно пилотирует в директоре и жмет на точку ниже. Все это заняло 5 секунд, и все это было где-то на ВПР, на 70 метрах. Машина шла как влитая, и я утратил контроль над вертикальной. Где-то было 4-4,5 м/сек. Торец, пора выравнивать. Чуть выше Коля дал команду «Малый газ»; я тут же придержал газы: высоковато, закрылки 28, упадем. Через секунду мы трахнулись о бетон и, как влипли, покатились. Перегрузка 1,5. Опять довыравнивался низко. Потом уже, когда выясняли на стоянке, почему трахнулись, делая вроде все как обычно, штурман сказал: так вертикальная перед торцом увеличилась до 5,5, и гавкнуть не успел. Все ясно: не учли возможность попутника у самой земли, поверили информации АТИС, а он и дунул в хвост. Чуть бы раньше начать это самое предвыравнивание, чуть позже поставить малый газ, тем более, полоса 3700. Вот наглядный пример с закрылками на 28: чуть убрал газ – тут же падает, тут же, немедленно. Урок. Обратно Коля посадил мягчайше. Да уж, решение задач требует жертв. Я помню, какие неровности были и у меня, когда вгрызался вглубь мастерства. Ничего, тяжело в учении – легко в бою. Ушел на пенсию Владимир Александрович Попков, в возрасте 59 лет, сам. Один из последних романтиков старой школы. Всем жаль; да он и сам признается: я б еще чуток полетал, с удовольствием бы, да старость дает о себе знать. Реакция уже не та… совесть не позволяет летать. Совесть. 9.10. Самара для нас – бермудский треугольник. Вечно там что-нибудь случается. Так и на этот раз. Полетели в Сочи на 702-й. Туда вроде нормально. Правда, высокие сиденья, а я этого не люблю; в результате сел в Самаре на пупок 150 чуть жестковато. Но помог и встречный ветер на глиссаде: присадило до знаков, несмотря на то, что я готовился, держал режим и шел на точку ниже. Вроде выровнял высоковато, а тут плюх – и покатились. Коля в Сочи сел с перелетиком, долго опускал ногу и только потом включил реверс, – ну типичная посадка по методике незабвенного Ф. Правда, полоса длинная, 2700, хватило с избытком, но я поворчал. Сочи на одну ночь; вечером шашлык с девчатами. Лил дождь, неуютно; грелись водкой, без особого энтузиазма, поболтали, даже чего-то пытались спеть, потом ушли спать. Утром встали как стеклышки, прошли санчасть и воспарили. Летел я, старался, сел в дождь и с боковичком, мягчайше. Вот: осознание символического похмелья как мобилизует. Ну, подготовимся же, да и полетим дальше. Щас. В АДП лежит радиограмма: после взлета нашей 702-й в Сочи нашли на рулежной дорожке раздавленный фонарь. А там нечего давить: рулишь прямо по магистральной, потом вправо, по 8-й РД. Ну, как положено, инспекция осмотрела колеса, ничего не нашла, составили акт. Ладно, поехали домой. Очередь Коли, взлет на номинале. Дали номинал, стали набирать скорость: 160, 180… и тут четкий доклад Валеры Евневича: «Двигатель номер 3!» Мгновенная реакция: «Прекращаем взлет, взял тормоза!» Коля тут же отбарабанил на магнитофон: «Стоп, малый газ, реверс, интерцепторы!» Штурман Максим Кушнер четко отсчитывал скорость: «140, 120, сотня!» Тут до меня дошло, что нет смысла тормозить – мы же в начале полосы. Выключил реверс, сразу к Валере: что? Загорелось табло «Вибрация велика», потом загорелось и табло «Опасная вибрация» – экстренно выключил третий двигатель. Ну, молодец. Так: Коля, доложи старту. Коля доложил о прекращении взлета по неисправности двигателя. На старте шум, бессвязные команды; тут же угнали на второй круг висевший на глиссаде борт. Сами зарулите на стоянку или буксир? Сами, сами. Вот и весь инцидент. Зарулил, дал информацию пассажирам, что причина – неисправность двигателя, что идите в вокзал с вещами, там будет вам дополнительно информация; ну, расшаркался. Тут же подкатила инспекция; нас под белы рученьки – и в санчасть: на алкоголь. Так положено при инциденте. Пережили неприятные минуты, когда три тети в белых халатах, с инспектором над душой, мерили нам давление, пульс и совали в рот пресловутую трубочку. Но поезд уже ушел, трубочка ничего не показала, а что давление у меня 180/100 и пульс под 100, это объяснимо. У железного Коли и вообще: 120/80 и пульс 64. Составили акты. Подписи. Потом в инспекции написали объяснительные и дали анкетные данные для сообщения в Москву. Пошла писать губерния. Пассажиром случайно летел с нами из Сочей как раз наш начальник АТБ, он созвонился с кем надо, это помогло: техмоща забегала под самолетом. Взяли анализ масла на стружку. Осмотрели опоры. Сняли виброаппаратуру. Ну, лопатки осмотрели, само собой. Все в норме. Сам двигатель исправен. Отложили вылет до утра, утром установили новую виброаппаратуру, обгоняли двигатель, дождались прилета нашего официального представителя и заводчика, полдня оформляли бумаги. Мы же томились в неуютном профилактории, играли в карты и потихоньку пили пиво: снимали стресс. Уже к вечеру этого дня, когда произошло событие, местное самарское телевидение передало чудовищную информацию об отказе двух двигателей на взлете, а о жертвах, мол, будет дополнительно… И дома у нас какая-то сука из пассажиров раззвонила, и по телевидению же передали тоже что-то подобное: на Ту-134 в Самаре на рейсе Сочи-Красноярск отказ двух двигателей, командир Ершов. Почему сука? Десять человек, трусов, отказались лететь с нами домой на этом самолете: мол, ваш Медведев не хочет присылать новый двигатель или подсаживать для нас в Самаре попутный самолет… и так и не полетели. Ну, это их проблемы, а клеветону эта сволочь на нас напустила прилично. Ночью мы довезли остальных, смелых пассажиров домой; в полете они успокоились, пили водку, а после посадки бурно хлопали и желали увидеть командира. Щас. Мне не до вас. Принес еще раз извинения, попрощался и тихо вышмыгнул. В штурманской в плане уже записано: Ершову явиться с утра в эскадрилью… а уже утро. Ну, поспал три часа дома, приехал, наглаженный, предварительно проверив, легко ли снимаются штаны. Полно народу, все подходят: Вася, ну что там? Всем один ответ: прекратил взлет по вибрации. Тьфу ты… твою мать… а тут по телеку нагородили… правда, уже Медведев выступил по телевидению с опровержением, уже и телевидение извинилось… ага, опровержение мелким шрифтом… в пять утра. Тут же – к Лукичу в кабинет, объяснительную; ну, вроде молодцы… Потом еще объяснительную – оказывается, экипаж Ершова неправильной информацией пассажирам нанес убыток компании. Sic transit gloria mundi… Написал я в объяснительной, что же я конкретно сказал пассажирам после заруливания. Попутно сдал зачеты к ОЗП: брал билет и с ходу отвечал трем комэскам; ну, отстали. Ну, орденов за такие случаи сейчас не дают. Все, конец полетани, иду в УТО. Но прежде – в баньку, снять стресс. 31.10. Не УТО, а курорт. С утра пару часов отсидим и уходим домой: с преподавателями согласовано. У всех дачи, стоит тепло… какие там занятия. Летать не хочу. Налетался летом. 3.10. Все, курорт кончился; правда, еще два дня мы числимся в УТО, а 11-го у меня уже запланирована проверка на Питер; Савинов будет проверять. Колю Евдокимова как летающего без штурмана, и вообще, волка, поставили в экипаж к Виталию П., а мне дают какого-то нового, вернее, старого… но коммерсанта. Летать вроде умеет… но кайф кончился: буду давать ему летать по своему усмотрению. Это не Коля. Филаретыч завис на комиссии капитально, так что и штурмана у меня не будет постоянного. Хорошо, Валерий Альбертович Евневич за спиной, мы уже притерлись, свой человек, проверенный в деле, и спине тепло. Я спросил у Савинова, за что это у меня отобрали Евдокимова. А за то, что не хочешь летать без штурмана. Верно: я таки не хочу и таки не буду летать без штурмана. Да от меня вроде и отступились. Что ж, времена меняются. Коле я отдал все, что умел сам; пусть использует и совершенствуется. Мне же летать осталось, видимо, не так уж много, перетерплю. Сложатся обстоятельства неблагоприятно – уйду с чистой совестью и без сожаления. 17.11. Наконец-то Филаретыч полетел в рейс. После почти полугодового перерыва он волновался как мальчик… Да что говорить: нам, пролетавшим по три десятка лет, небо въелось в кость. Как бросишь. И тут еще, считай, последний шанс… поволнуешься. Ну, разговелся человек, а уж мы рады за него. И как же приятно, когда плечом к плечу в кабине сидит родной Геракл, курит, ворчит, бдит… эх, роднее и безопаснее не придумаешь места, чем в кабине со своим проверенным экипажем. Как в раю. Жаль только, Коля не с нами. Нынче он летает с Витей Мисаком. Ну, это ладно: план на месяц сверстан; но на декабрь, надо Колю вытащить обратно. А там ходят слухи, что и вообще похерят эту полетань без штурмана: в управлении флаг-штурман против этих экспериментов. И то: не на этом лайнере без штурмана летать; а тут еще американцы «Омегу» отключили, переходят на «джи-пи-эску», спутниковую. А у нас отключают везде РСБН. Летай без штурмана, да по приводам… и не заблудись. Вторым со мной летел Володя Черкасов, старый волк, из экипажа Бреславского: Саша сам в отпуске, так его второму дали со мной подлетнуть. Так он, сукин сын, приехал строго за час до вылета, заставил поволноваться… я за это без зазрения совести отобрал штурвал и слетал оба полета сам. Туда-то ладно. В Москве погода для ноября хорошая: снег с переохлажденным дождем, обледенение в слое с 1000 м до земли; но нижний край 300 м, – куда лучше. Заход с прямой; над Люберцами была высота 900 и скорость 400, да тут Валера включил ПОС полностью, 0,4 номинала, скорость не гасла, и мы на газу догоняли глиссаду по пределам. Ну да школа Репина и Солодуна, через 20-то лет… на высоте 400 м мы уже плотно сидели на глиссаде, самолет был сбалансирован, и оставалось только дождаться бетона. Вполне прилично сели; правда, когда я почувствовал уплотнение под колесами, то еще тоньше хотел сесть, добрал, а она, на скорости, видать, чуть-чуть, на 5 см, взмыла. Ну, посадка на 6, а не на 8. Обратно весь полет спокойно читал книжку, Витя, дорвавшись, вез по трассе, а проверяющий, Валера Подгорный, скучал, бродя по самолету: что того Гришанина проверять. Да и я еще перед полетом тихонько попросил его не висеть над Гераклом, он и так справится, и ему легче входить в колею, чувствуя локоть родного командира, который спокойно так, как и все 13 лет, читает себе книжку, поглядывая поверх очков на курсы. А уж как до дела дойдет, тут мы себя и покажем. Дома дул ветерок до 17 м/сек, под 45, сцепление 0,55, трепало до тошноты. На глиссаде я до 200 м еще дремал, лениво выворачивая плечи, бросал штурвал: сама летит? Володя еще с удивлением так спросил: что, на автопилоте идем? Да почему. Стриммировал – должна сама идти. Газ как поставил перед входом в глиссаду, так и не шевелю. Валера уже привыкши. Скорости гуляли от 250 до 300; я не вмешивался, терпел, ворчал и ворочал рога. Потом пришлось стиснуть зубы. Потом уже – железными руками. Замерла… метр, метр… подхватил… щас: меня самого подхватило, поставило колом. Прижал, еще выждал, еще подхватил, – чиркнули, встали на цыпочки, но уже без скорости; ногу на весу не удержать, ну, опустил, бросил штурвал, Володя прижал его одной рукой, другой включил реверсы; дело сделано. Учитесь, пока я еще жив. Филаретыч только хмыкнул. Акселерометр зафиксировал 1,6-0,7. Внутри, в животе, зуд, пульс в висках, сердце во рту… Что – давно так не саживал? Валера довез домой. Надя только что ушла на работу. Зуд, зуд внутри, и руки изнутри зудят, как трансформатор… Хорошая же посадочка, что уже полтора часа, а все выдыхается. Надо водки. Налил фужер разведенного спирта с бальзамом. Сегодня годовщина гибели Шилака, 16 лет. Стоя помянул ребят, царство им небесное. И упал спать. 3.12. Умер молодой штурман Валера О. 39 лет – инфаркт. Он в Иране тяжело переносил тамошнюю жару, а вернулся – сердечко-то и не выдержало. Что ж, каждый выбирает сам. Жалко, молодой еще. Как зарабатывать нынче на жизнь тридцатипятилетним. Валера Евневич возит на своей «Газели» случайные грузы. Коля Евдокимов подрабатывает таксистом-бомбилой. Витя Л. имел более солидный бизнес – автоколонку, а первоначальный капитал добывал, прихватывая дефицит в рейсах на севера. Штурман Ш. уже лет семь гоняет импортные автомобили из Владика: то поездом отправляет партию, то самолетом. И немножко ж еще и подлетывает на «Ту». Сергей Мещанинов, который нынче летает со мной, рассказывает, что у него дело в Полярном: он доставляет туда продукты. Кое-что прихватывает с собой в рейсы, которые приходится выпрашивать (на днях мы туда стоим в плане по его просьбе); а теперь собирается в отпуск и погонит по зимнику за 3000 км КАМАЗ с продуктами. Не знаю, откуда у них берется такая смелость: работая пилотом Ту-154, ехать в тайгу, в 50-градусный мороз, по наледям, иной раз по 500 км на первой передаче, с двумя бензиновыми печками, обогревающими фургон с фруктами. Случись поломка, все придется делать в снегу своими руками. Да на хрена бы я тогда учился на пилота. Но… нынешняя жизнь летная таки заставляет. Сергей с семьей ютится где-то в клетушке, он бьется, зарабатывая себе на квартиру. 4.12. Сергей летает пока слабо. Дал я ему полет до Норильска: погода звенела, с прямой, ветер встречный, 5 м/сек, -34. Все равно сел с козлом. Скомкал весь тщательно рассчитанный заход, стрелки разбежались, и я большую часть времени потратил на подсказки, потом и руками вмешался, ибо – ни в какие рамки. В результате мы едва успели до дальнего привода прочитать карту, и диспетчер нетерпеливо потребовал доложить готовность к посадке. Не стал я делать замечаний… это уже незачем. И так долетает. Назад я взмыл в звенящем воздухе, за 10 минут набрал эшелон, включил автопилот и уткнулся в книгу. Перед снижением Витя меня растолкал… ладно, щас покажу, как это делается. Болтало, скорости гуляли, проходил холодный фронт. Машина 67 тонн, пустая, я собрал в кучу стрелки, а ее треплет, как сухой лист. Но к торцу все было в норме; убрал режим, чтобы над торцом скорость упала до приемлемой для легкой машины, выровнял… и внезапно вся борьба кончилась: машина замерла, как в сгущенном молоке. Придержал и сам замер: только выжди пресловутые секунды… И точно, уже почувствовалось едва ощутимое уплотнение под колесами… вот-вот получится бабаевская посадка… ветерок 5 м/сек не помеха… ну… ну… ну же! Щас. Поддуло; мы, может, даже коснувшись, отделились – я не почувствовал касания – и воспарили, в пяти сантиметрах. Ну, делать нечего; скорость уже упала, хватай… подхватил, и плюхнулись. С пяти сантиметров – но посадка обгажена. И никто не виноват. 1,2 – а обидно. Ну, Сергею мой последний дюйм пока до лампочки: ему надо втиснуть 500 кг груза на Полярный, я обещал посодействовать, и он об этом мне заранее напомнил… с него, мол, бутылка… Вот о чем у человека болит голова. А я тут переживаю из-за миллиметров. 10.12. В Иркутске упал военный «Руслан»: на взлете после отрыва отказ двух двигателей. Упал на жилой дом; около 60 трупов. Что-то «Русланы» часто падают. За 7 лет произошло 4 катастрофы крупнейшего нашего самолета. Видать, такая матчасть. Если Ил-86 летает 15 лет без происшествий – со своими слабосильными, но, видать, надежными двигателями, – так это фирма. Вроде в топливе воды не нашли, а ведь отказ сразу двух, но одном крыле… Есть еще сомнение. Он вез два истребителя во Вьетнам. Загрузка, да заправка… полная взлетная масса. А полоса там заводская – 2600 метров. Может, подорвали. Двигатели же эти, запорожские, известны слабой газодинамической устойчивостью. Может, из-за резкого увеличения угла атаки срыв на входе, помпаж… Еще. Стоял мороз; аэродром расположен на высоте 500 м над уровнем моря; зимой на высоте 100 м инверсия, и они могли после подрыва попасть в нее, и пришлось драть, чтоб не просесть, – вот и срыв на двигателях. Опыта-то полетов на «Руслане» у красноармейцев оч-чень мало, во всяком случае, – для пилотов тяжеленного лайнера. Тут нужны тысячи часов. Я вчера взлетал в Полярном: -41 и взлетная масса 84 тонны. Рассчитывал, что от земли попрет по 30 м/сек. Хорошо потянул, на номинале… а там тоже аэродром на 500 м… а про инверсию и не подумал: там же от стратосферы до земли должен звенеть мороз. А она и подвисла на скорости 290. Ну, разогнался, убрал механизацию, тогда пошла. Глянул на термометр: за бортом -15 всего. И ведь перед этим на посадку заходили как в слоеном пироге, пришлось сучить режимами… я об этом забыл. Надо ж было вспомнить перед взлетом-то. А ведь у меня опыт не меньше, чем у всех членов экипажа «Руслана». И то обгадился. Конечно, если бы я взлетал с массой 100 тонн, то не драл бы, а плавно тянул, соизмеряя фактическое поведение машины с предполагаемым. А тут рванул. Пионерская зорька в заднице заиграла. И дома садился по-разгильдяйски. Решил подойти к аэродрому повыше… ну, и подошел: на третьем высота была 1400 и шасси еще убраны. Диспетчер занервничал, спросил, успеваем ли. За ним и Филаретыч… хотя уж ему-то не привыкать. Сергей наблюдал. Кончилось это тем, что вышли из четвертого за 20 км до полосы, за 15 заняли 500 и шли еще целую минуту на газу. Посадка бабаевская. Но все равно, весь расчет снижения был пох…стским: я лениво разглядывал огни поселков, а вертикальную держал интуитивно, то 10, то 20. Короче, спал на ходу. Как-то на все наплевать. Ну вот: передают, что у «Руслана» последовательный отказ всех двигателей, причем, на 3-й секунде после отрыва начал барахлить 4-й двигатель, потом вроде восстановил работу, а 3-й, 2-й и 1-й отказали следом, через пару секунд. Ну, и версии: отказ какой-то электроники, следящей за питанием двигателей, и пр. Ой, подрывом пахнет. Питание двигателей на самолетах советского производства устроено так, чтобы даже если самолет полностью обесточится, двигатели питались самотеком. Ребята наши побывали в кабине этого лайнера, и сделали неутешительный вывод: похоже, он устарел морально еще до рождения, и те же там палочки-веревочки, что и у нас, те же, еще с По-2, приборы, и, как всегда у Антонова, их уйма. Так что дело не в электронике, которой там, скорее всего, нет, и не в питании двигателей, тем более что воды не обнаружено ни в ТЗ, ни в пробах с места. Скорее всего, это подрыв, – и передрали. Версия, самая невероятная для масс и самая российская – для профессионалов. Обычно всегда все дело в невероятном, но привычном русскому человеку наплевательстве, разгильдяйстве и расчете на авось. Не может быть, чтобы самолету с взлетной массой за 300 тонн, со слабыми, едва обеспечивающими тяговооруженность 25 процентов двигателями, хватило для взлета полосы длиной 2500 м. Он разбегался целую минуту, и ускорение было невелико; скорее всего, отрывались с последней плиты. 17.12. Под Шарджой упал таджикский Ту-154, с высоты 500 м, на 4-м развороте. Говорят о взрыве в воздухе, есть версия об отказе двигателя, падал вроде как неуправляемо. Как ни странно, один человек, а именно штурман, остался жив и уже пришел в себя. Самолеты сами по себе не взрываются. Либо диверсия, либо пожар 2-го двигателя и известная история с неизбежным отказом трех гидросистем. Ну, скоро узнаем. Возможно, причина будет самой банальной, как это часто и ошеломляюще бывает. Вообще, последние дни богаты на катастрофы. В Нарьян-Маре Ан-12 сел на полосу, занятую вертолетом Ми-8, и разнес его вдребезги, да и сам разрушился. Тут вообще дело уголовное. Самолет числится красноармейским, но замаскирован под гражданский; экипаж какой-то партизанской авиакомпании, не имеющей лицензии на перевозку грузов. Диспетчер разрешил им вроде как пристрелочный заход с уходом; экипаж в процессе захода запросил посадку. А был туман, видимо, минимум, а то и хуже минимума. А вертолет прилетел по санзаданию и стал сруливать. Диспетчер посадки не дает разрешения на посадку до тех пор, пока диспетчер старта, визуально просматривающий полосу, не доложит, что полоса свободна. А он не доложит до тех пор, пока сруливающий борт не доложит об освобождении ВПП. Все это прослушивается всеми участниками на одной частоте, и все всё понимают. Тем не менее, Ан-12 молча сел и налетел на вертолет. Ну, виноват командир экипажа: принял решение – отвечай. Командир Ми-8 остался невредим, давал интервью, так видно было, как его трясло. И диспетчер посадки виноват, если только метеонаблюдатель дал погоду (именно видимость на ВПП) хуже минимума. Согласно НПП в этом случае даже снижение с эшелона перехода запрещается. А если ухудшилось, когда самолет находится в глиссаде, его угоняют на запасной. У меня такое случалось. Ну, разберутся с ними. А среди нас, я уверен, будет лишний разбор, с опереттой Лукича, ибо случай типичный и вполне ожидаемый в этом бардаке. Сижу дома. На дворе мороз, на печи тепло. Работы мало: завтра в ночь Владик, а на 26-е выдумали рейс на Камчатку через Магадан… горел бы он синим огнем, этот полет. Не люблю я эти рейсы на восток: это ж обязательно две бессонные ночи подряд, не считая вероятной непогоды. Ну да опытных, провезенных туда капитанов, да и штурманов тоже, почти не осталось; я же на Камчатку летаю больше двадцати лет. Как-то странно: абсолютное большинство наших нынешних капитанов пришли с Як-40, и мы, те, кто летал на Ил-18, нынче в почете, ибо летали по дальним трассам еще тогда, когда эти мальчики учились в средней школе, а им потом довелось порхать, в основном, в пределах края. Для них названия Мача, Сангыяхтах, Югоренок, – ничего не говорят. Они не знают, как хорошо держит курс автопилот при заходе в автомате от Балаганного – и до самой магаданской ВПП, что на 54-м километре. Так лети же на Камчатку ты, Василич. Со своим Филаретычем. 22.12. Слетали во Владик. Ну, как всегда, проблемы: не проходит загрузка, барахлит погода, даже пару часов провалялись в профилактории, ожидая, когда во Владивостоке рассветет и туман приподнимется. Лукич звонил (и когда он только спит?) и выпихивал нас, с запасным Воздвиженкой; я же на нее положил уже лет как 20: это не запасной, одно название. Ну, дождались корректива Кневичей, взяли запасным Хабаровск с рубежа возврата. На подлете к Хабаровску выяснилось, что у красноармейцев в Воздвиженке гололед (дома нам об этом не сообщили); ну, лишний раз выматерили Лукича, с его настырностью. Тут Хабаровск стал метелить: уже видимость 1000 м; ладно, идем на Владик, там устойчиво 1500, дымка. И сели спокойно. Как всегда, куча пакетиков, посылочек; все раздал, взял домой тоненькую пачечку долларов – попросили увезти и передать. Человек сунул мне презентом купюру, я не глядя взял, потом глянул – полмиллиона. Вот это крутизна. Короче, за рейс заработал 700 тысяч, это больше, чем Медведев заплатит мне за весь месячный налет, а главное – живые деньги, без задержки. Во Владике, принимая решение на вылет домой, я клял свою командирскую судьбу. Честное слово, хорошо было бы, если бы эту задачку решал за меня дядя… и отвечал за нее бы тоже он. Вылетая из Красноярска, я как всегда взглянул на метеокарту: ага, здесь у нас теплый сектор циклона, и тут висит еще такой фронтик окклюзии, на подходе. Пообещали к нашему возвращению боковой ветерок. А сцепление 0,45, и никто не мычит, не телится. И вот на метео в Кневичах я терзал тетю-синоптика. А ну, давайте, посмотрим ветерочки. В Новосибирске дует с юга до 18 м/сек; в Омске метет; в Кемерове тоже южный до 18; дома пока 230 градусов 6 м/сек. А ну, приземную карту. Ага, должен вот-вот подойти этот фронтик, а за ним – холодный, с еще большим ветром. Витя подсказал: а давайте запросим Ачинск. Тетя набрала код: хрен вам, это местные линии, в банке таких данных нет. Жаль; а хорошо бы было Ачинск-то: он от нас западнее 120 км, и если там сейчас задуло, то уже дома не успеем сесть. По прогнозу-то вылетать можно: предполагают 240 градусов 10, порывы 15. Вот без учета порывов, согласно НПП, я могу вылетать. Но если там, на кругу, эти порывы согласно прогнозу появятся, то придется уйти на запасной, и тогда Лукич спросит: а как ты принимал решение? Что – опыта не хватило предусмотреть? Может, хоть полосу почистят? Заказал телефонный разговор, связался с тетей из ПДСП Красноярска. Да, работы на полосе ведутся. Так там таки полосу чистят – или фонари проверяют? Не знаю, работы ведутся. Так я смею надеяться, что через пять часов полосу подсушат? Решайте сами, вы – командир… Чтоб ты обосралась. Ну, помощнички… Выждали еще срок: дома тот же ветер, 6 м/сек, сцепление 0,45. А рабочее время поджимает. Ладно, ждать больше нельзя, время против нас. Полетели. В конце концов, не вылетать – тоже вроде нет причин. Ну, сядем в Абакане, отдохнем 12 часов и перелетим. Ну, переморгаю у Лукича. А что делать? Поехали. Успели сесть до ветра. Заход в болтанку, боковик; я подсказывал Сереге, он выворачивал плечи. Выровнял, подвесил… и уснул. Я ему вслух просчитал до трех, потом еще до трех, сказал, что сейчас упадем, потом плюнул и максимальным ходом штурвала успел подхватить и мягко посадить машину, с уже приличным сносом. Ветер подул всерьез, уже когда мы подъехали к дому. Что-то стал я уставать от этих решений. Смехом-смехом, а может ведь внезапно и так обернуться, что возьмут да и слупят с экипажа несколько миллиончиков за неграмотное решение – с них станется. Сознание этого висит дамокловым мечом и мешает спокойно летать – так спокойно, как мы летали при Брежневе. Тогда было, попробуй кто упрекнуть командира, что он нанес какой-то там убыток, уйдя на запасной. Безопасность – любой ценой! А нынче цену безопасности норовят выдернуть из моего кармана. А тут Леха Потапов видел в Москве Диму Ширяева: тот вроде как второе лицо в нашем профсоюзе и вхож в Думу. Так вот, вроде бы уже в первом чтении принята поправка к закону о пенсиях, и там пенсии повышены летчикам и шахтерам; нам вроде бы до 2 миллионов, что ли. Утка, наверно, но если даже и повысят, то не бросать же работу… хотя устал я от нее. 15.01.1998 г. Исполнилось 40 дней, как упал «Руслан». Ну, обмолвились по ящику, что расследование идет. Из четырех версий (ошибка в технике пилотирования, отказ топливной автоматики, вода в топливе, еще какая-то ерунда) я склоняюсь к первой. И не ошибка это, а нарушение, арапничество, может, категорический приказ. На арапа взлетали: авось пронесет… Я разговаривал с Солодуном. Он слышал от иркутян, что вроде бы для этой полосы длиной 2600 м у «Руслана» взлетная масса не проходила, безопасный взлет обеспечивался при массе, чуть не на 80 тонн меньшей, чем та, с которой они упали. Слушателям радио, телезрителям и читателям газет вешают на уши лапшу, что, мол, максимальная взлетная масса у «Руслана» допускается еще аж на 100 тонн больше, чем эта, с которой свалились. Но такая масса допустима только для взлета с гораздо большей полосы. В данных же конкретных условиях экипаж превысил допустимую для данных конкретных условий взлетную массу на 80 тонн, т.е. более чем на 20 процентов. Ну, может, не на 80, а на 10… покрыто мраком. Военная тайна. А что: маршал приказал генералу, тот – полковнику, а тот – командиру корабля. Надо! А теперь красноармейцы прячут причину за словесным поносом о секретности и пр. А суть дела, видимо, в том, что им дали на халяву побольше топлива, чтоб за бугром не покупать; залились с хорошей заначкой… долго потом она горела. Иначе, готовясь согласно полетному заданию на Кневичи, зачем бы им аж 160 тонн топлива. От Иркутска до Владика, с запасным Воздвиженкой или даже Хабаровском, столько явно не требуется. Нет, тут явный перегруз. Да даже если и не перегруз, все равно в инверсию вскочили. Дали взлетный, побежали, машина медленно набирает скорость… рубеж… а вот и торец, и надо продолжать взлет, отрывать, тянуть! Вот и потянул. А она все бежит, а уже последняя плита полосы; потянул еще, до самого пупа… может, даже чиркнул хвостовой пятой по бетону, отделились – и на себя, на себя – не летит же в теплом воздухе! На третьей секунде затрясло: помпаж 4-го двигателя, сдернули чуть, а может, и до малого газа… надо драть, драть еще, – вот они, жилые дома под носом! А скорость-то падает! И углы атаки очень большие. Ну и… хлоп-хлоп-хлоп, отказали один за другим; только успели доложить земле, что один… нет, два… и свалились. Какой там, к хренам, отворот от жилого дома! Какой еще подвиг! Там рятуйте, кто в бога верует, не успели крикнуть… и полон рот земли. Вот это – версия. 6.02. Между делом тут меня как ветерана пригласили на отрядный междусобойчик по случаю 75-летия красноярской авиации; он будет проводиться в 70-й школе, где мы всегда и празднуем, и откуда хороним товарищей. Сказали, чтобы был обязательно: наверно как-то отметят. Филаретыч опять завис на велоэргометре: подошла годовая. Пока долетывает последние рейсы. Я пока не задумываюсь: у меня еще полтора месяца жизни впереди. Саша Бреславский в 59 лет прошел комиссию, счастлив, мечтал же долетать до 60 лет. Куда он денется. Серега Мещанинов сгонял-таки КАМАЗ в Полярный. Ехали 8 дней, ломались, ремонтировались на 56-градусном морозе… солярка не течет… Перегружали 20 тонн груза, переморозили фрукты… Короче, заработал 7 лимонов. Хозяин – барин. Говорит, хоть и тяжело, а где еще заработаешь. Погонит в марте еще. И тогда у него наскребется на квартиру. 11.02. Объявлены официальные результаты расследования катастрофы «Руслана». Причина – последовательный отказ трех двигателей из-за их конструктивной недоработки. То есть: запорожский завод запустил в серию двигатели, склонные к помпажу при полете на больших углах атаки. И «Русланы» поставили на прикол. Что же касается главного – почему возник помпаж, – тут все замято. Но я на эту тему уже распространялся. Да у летчиков и сомнений нету, ибо многие говорят, что вес был превышен. Был я на встрече ветеранов нашего авиаотряда. Нас собрали в актовом зале; были накрыты столы, скромная закуска, спиртное. Были зачитаны приказы, розданы премии и грамоты. Мне досталась грамота от министерства… или этого… как там его… короче, ФАС. Из ветеранов я был в группе самых молодых, действующих капитанов; большая же часть были свежие старики, как Рульков, ну, и самые седые, кто летал еще до войны, как, к примеру, Пасторов, которому уже 80. С грустью узнал, что нет уже Киселева, моего комэски и инструктора на Ил-14. С радостью встретился с Суховым, зам. комэски на ил-18; вместе с Рульковым и другими ветеранами мы с удовольствием выпили водки, и я смог поблагодарить учителей наших, чем едва не довел до слез растроганного Кузьму Григорьевича. Хорошая получилась встреча. Я немного стеснялся форменного костюма – большинство-то было в гражданском; ну, водка сняла комплекс. Потом незнакомые мужики подсаживались за столик, меня представляли; кто-то сказал: так вот он какой, Ершов… слышали, видно. Да мы в лицо-то все друг друга знаем. Боровиков ушел на пенсию. Камышев ушел. Скоро и наш черед, раз мы уже ветераны. 7.05. Вчера с утра был разбор. Толкли воду в ступе. Вот ФАС дало указание разобрать случай в Анадыре, произошедший полтора года назад. По-старому авария, по-новому АПБЧЖ называется – авиационное происшествие без человеческих жертв, с самолетом Ил-76 воронежского авиазавода. Ну… МАП есть МАП. Видите ли, летчик-испытатель решил доверить взлет второму пилоту и посадил его на левое кресло, не имея на то допуска. Второй пилот, естественно, тоже не был подготовлен, но ему же интересно, с левого… Готовились к взлету так. Пока штурман брал погоду Москвы, пилоты ошкуривали 16 зайцев; тут не до полета. Потом быстренько запустились – и хрять отсюда. Ни карты не читали, ни закрылки не выпускали; правда, стабилизатор переложили на кабрирование. Был еще сильный боковой ветер. Естественно, второй пилот не выдержал направление на разбеге, стали бороться с уводом самолета от оси, ну а с того испытателя какой инструктор… Тем временем стабилизатор делал свое дело: с нарастанием скорости возник кабрирующий момент, ничем не компенсированный: закрылки-то не выпущены… И возрос тангаж, но пилотам было не до тангажа, они боролись с кренами и курсами. И подорвало их на скорости 290 – гораздо меньшей, чем необходимая для отрыва с чистым крылом, но большей, чем расчетная с закрылками. Пилоты на это не обратили внимания – они все крены исправляли. Самолет подвис. Тангаж тем временем возрос и увеличился до 19 градусов. Сработал речевой сигнализатор, приятным женским голосом: что ж вы, суки делаете, сейчас упадем. Опомнились, толкнули штурвалы от себя… а машина лезет на мертвую петлю. Спасение еще было – выпуск закрылков… хотя вряд ли, уже поздно. Тангаж возрос до 31, и самолет свалился, пролетев крестом 600 метров. Все живы, самолет восстановлению не подлежит. Вот и всё АПБЧЖ. Случай, прямо скажем, нетипичный. Типичны только зайцы. Без закрылков на моем мустанге не взлетишь: как дашь газ – загудит сирена. И на левое кресло я второго пилота не посажу, хотя я и инструктор. Всему свое время; идти к этому моменту надо очень постепенно. И карту мы всегда читаем. Но в минис… тьфу, в ФАСе этом, посчитали нужным изучить. Ну, изучим. И у нас, у командира Д., случай. Собственно, ничего особенного. Типичнейшая ошибка: вышибло ветром из глиссады перед торцом в Краснодаре. То, о чем я твержу на каждом углу: бойся встречного ветра на посадке, бойся и бди, и будь готов. Он до 30 метров шел нормально. Может, второй пилот пилотировал. Потом их поставило буквой зю, и пришлось сунуть штурвалы от себя чуть ли не до упора. А газы сдернуть чуть не до малого газа. Скорость большая, машина легкая, центровка ближе к задней, вертикальная возросла, торец… Ясное дело, надо тянуть на себя. Но тянуть надо слегка, в меру; он же подхватил и… подвесил ее на пяти метрах. Ветер встречный, полоса 3500, кто тебя гонит: далеко не улетишь, хватит времени трижды досадить ее. Но добавь же газку, дай плавно снизиться, подведи пониже и досади – тут хватит и 2500 вполне. Он ткнул ее вниз на малом газе. Дождался, когда земля станет приближаться, подхватил… Не успеешь! Подхват совпал с касанием. Трах – 1,67, козел; еще трах – 1,43, козел, трах-трах-трах – покатились. Ну, думал, что прибор перегрузку занижает, и не дай бог, там при расшифровке выскочит больше 2,0; сделал добровольное сообщение. Его не наказали, но разобрали ошибку тщательно, по секундам. Нельзя перед торцом совать штурвал. Клин должен сужаться. Жди пинка и дожимай, дожимай, оценивая, хватит ли полосы при перелете и какую тормозящую роль сыграет встречный ветер. Малый газ ставится на метре, уже при полной уверенности, что идешь параллельно бетону. Ну, перелетишь ты тысячу метров – но впереди-то еще 2500. Чего нервничать. Другое дело Комсомольск. Там уж повнимательнее. Идти чуть ниже глиссады, на чуть повышенной скорости Если станет присаживать, этот запас позволит подтянуть штурвал на себя и сесть, по крайней мере, на торец; но газу надо успеть добавить обязательно. Норовить надо все равно на торец, а не по продолженной глиссаде. И ожидать, что как только поставишь малый газ, она тут же и шлепнется, особенно с закрылками на 28. Но шлепнется не с 5 метров, а с 50 сантиметров. 8.05. Садился в Питере на пустой машине с задней центровкой, при встречном ветре, и как раз через заряд. Ну, делал все точно так, как вчера писал. Притёр ее по-бабаевски, и доволен как дурак. Все удалось. 15.08. Из Москвы. Заходили дома на старушке 201-й, с прямой, визуально. Дальномера на ней нет, каждые две минуты запрашивали удаление, вышли к 4-му за 20 км, а вход в глиссаду за 12, выпустили шасси, вышли на связь с посадкой. Она дает удаление 14, а у нас еще скорость 390. Вечно так: вроде и с запасцем, а в последний момент едва успеваешь. К 400 метрам все было в норме, кроме положения руля высоты: на расчетной скорости 260 он стоял на 14 градусах, когда допускается максимум 10. Читалась карта, а я лихорадочно соображал, куда какой момент действует и как спасти положение. Уж перемудрили туполевцы с этим дурацким совмещенным управлением стабилизатором от рукоятки закрылков. Результатом этого мыслительного процесса был вывод: плюнь на все теории, центровка предельно передняя, а значит, ничего не изменишь. Надо было оставить закрылки на 28, а стабилизатор переложить на 5,5. РЛЭ в такой ситуации рекомендует уйти на второй круг и там проделать все эти манипуляции. Умники, блин. Времена не те, еще не так поймут, спросят: а куда ж ты раньше смотрел. Сергей пилотировал, полоса впереди 3700, штиль, масса 72 тонны… ладно, я добавил режим до 85, 87, 88… скорость поползла к 280, и руль встал на 10, что и требовалось. Дотянем до полосы по продолженной глиссаде, а с ВПР прижмем, руль уйдет где-то к 7, а то и к 5, режим приберем, ну, перелетим 200-300 метров, – но на МСРП запишется положение руля высоты на глиссаде в разрешенных пределах 3-10 градусов, а уж сесть-то с передней центровкой, на скорости, – сядем без проблем. Сели, давя штурвал от себя, мягко, я чуть придерживал, а Сергей замер, – и все получилось. Скорость пересечения торца была где-то 270, на 15 выше нормы, отклонение руля высоты на выравнивании потребовалось небольшое, до упора далеко, – нормальная, мягкая, скоростная посадка. Задача решилась без особого труда. Конечно, максимально разрешенное РЛЭ отклонение руля высоты на глиссаде 10 градусов – явная перестраховка, обтекатель на задницу тем, кто расследовал катастрофу Шилака. В хороших условиях и при 15 можно смело садиться, да и садились, до той катастрофы. А можно и при 7 градусах подвесить, выйти на упор и сронить на малой скорости. 22.09. Идут занятия к ОЗП. Савинов ведет активную пропаганду среди личного состава. Кто молод и имеет приработок – не лучше ли уйти, пока все не обвалилось. Кто стар, тому, возможно, предложат какую-то весомую компенсацию, может, из какого-то там фонда прибавку к пенсии… подумайте, может, все-таки уйти и освободить место молодым. Ожидается сокращение летного состава, 210 человек, уже с октября. Все крупные авиакомпании страны развалились. Еще держатся Внуково и шереметьевский «Аэрофлот», но, правда, глава «Аэрофлота» – зять Ельцина. Нету уже Ростова, Хабаровска, Магадана, Якутска, Иркутска, Новосибирска, Свердловска, Домодедово, Сыктывкара, Волгограда. Кое-как шевелятся Пулково, Казань, Уфа, Самара, да мы, сирые. В остальных городах – по несколько карликовых компаний с парой самолетов. Нет больше российской авиации, так, крохи. Надя психует. И неустанно твердит мне: боже упаси – летай! Летай до конца. Но в отряде уже идут разговоры о критериях. Класс, высшее образование, английский, допуск без штурмана, допуск за границу. Эти останутся. Пока. А кто не вписывается, тех все равно в течение года сократят. Я не дергаюсь. Конечно, сам не уйду. Да и страхи эти, нагнетаемые Савиновым, скорее всего – перелет. Надежды же на то, что аэрофлот выкрутится и переживет безвременье, что государство ему поможет, – это явный недолет. Истина, видимо, посередине: еще погниём. 30.09. Ночной Питер, куча посылок, куча денег и, в довершение всего, мягчайшая, невесомая, невероятная посадка – такая у меня была, может, раз в жизни. Ощущение честно выполненного долга и спокойная констатация высочайшего мастерства. Я-то могу. А вот ты – сможешь? И тут Серега блеснул. Садясь ночью дома, едва меня не переплюнул, правда, с левым кренчиком, – но мы долго не могли понять, еще летим или уже катимся. Дышало под низом, что-то там осуществлялось, но ощущение невероятности никак не переходило в реальность, и только по времени этого эфемерного висения можно было предположить, что мы уже не летим. И я дал команду «Реверс». Серега счастлив. Он стал гораздо лучше летать, и – ни одной грубой, даже грубоватой посадки не было. Будут из него люди, будут, – дали бы только ему возможность работать. Шестьсот рублей за рейс на посылочках, – и я смогу, вот сейчас, сразу, купить себе кофе в зернах, да сливочного масла, да сала, наконец, насолю, да Мишке в туалет наполнитель, а то рвем бумажки, вонь… Вот чем реально озабочен русский летчик, в отличие от французского. Мой жемчуг уж очень мелковат: 200 долларов в месяц против… Ну, говорят, там, у них, доходит и до 14 000. А летать человека я научу, запросто. Только не надо забугорному летчику открывать секреты моих заработков, а то как бы его кондратий не хватил. У него – адвокаты, психологи, компьютеры; его лелеют, прыщики холят. А я перед вылетом набиваю сумку посылочками и думаю не о полете – бог с ним, с полетом, уж слетаем, – а о том, сколько мне подадут на хлеб насущный, да как эти посылочки тайно пронести на самолет, да какие меры предосторожности предпринять, чтоб тихо и незаметно, не привлекая внимания спецслужб, передать из рук в руки стоящему ко мне в очереди, в темном углу, адресату: Петров, ко мне, остальные – на месте! Мною движет желание не жить, а выжить. Дефолт в стране. Я не интересуюсь, что там, в этих пакетиках: может, доллары, а может, наркотики; я не хочу этого знать. В том и заключается великий позор нашего государства: трубя об идеалах, оно толкает своих граждан на преступление. Эти ревнители – первые воры в государстве, а нас, толковых профессионалов, выталкивают в грязь, превращая в мелких хищников и грызунов. Каждый из нас, нынешних россиян, думает не о том, как лучше сделать Дело, которое на глазах хиреет и разваливается, а как украсть свой кусок и дожить до завтра. Вот и все реформы. 20.10. Наступает зимний сезон, полетов мало, надо нагибать себя к работе на земле, а то лень в старости моментально засосет. Умирают-то не от старости, а от лени к жизни. Уже к чертям бы эту работу: 20 часов в месяц – это не полеты. А всяких коммерческих, экономических и прочих, не относящихся к полету задач ставится перед экипажем все больше, и уже боюсь, не подзалететь бы где, с этими новациями. Хуже нет – летать в эпоху перемен. Господи, хотя бы списали меня, что ли. 3.11. Вторым пилотом на Комсомольск поставили мне сынка, тот самый полуфабрикат: пилота второго класса Сашу С. Он уже налетал за три года 700 часов, и мне было интересно посмотреть, как же эти блатные сынки летают. Кстати, остальные дети наших летчиков, те ребята, которых я вводил, летают хорошо. Туда слетал я: товар лицом, мягчайшая посадка с попутным, как всегда, ветерком на кругу, снижение на острие пределов. Ну, обратно дал Саше: яви искусство. И понравилось! Парень организованный, бумаги ведет четко, технология, взаимодействие, связь, – от зубов отскакивает. Взлетел хорошо, набор хорошо, снижение на автопилоте, заход в болтанку, выдерживание параметров по моей команде, – все хорошо. С ВПР отключил САУ, и нас стало стаскивать вправо. Я подсказал, чуть помог… мало; помог еще и вывел на ось к самому торцу; он держал вертикальную строго. Выровнял чуть выше, подвесил, подхватывал дважды: на метре и перед самым касанием, ибо потащило вправо. Но очень, очень прилично; я лишь чуть-чуть помог… и все хвалил. И душа к нему открылась. Парень под гнетом своей непопулярности, но видно, что над собой умеет работать. Летать дают мало; но если он так неплохо летает после длительного перерыва, то можно за него взяться, будет толк. Мне-то плевать, как он попал на «Тушку», мне важно, получится ли из него пилот. Должен получиться. 10.11. Годовщина революции прошла в стране незаметно. Что-то около трехсот тысяч большевиков вышли с красными флагами чегой-то демонстрировать, в основном, преклонного возраста люди… на всю Россию – триста тысяч. Бедные наши родители, поколение ровесников той революции. Что она им дала? Нищее детство, голод 33-го, колхозы, лагеря, война, послевоенная нищета… Зато – эйфория под треск пропаганды. Мне говорят: кощунствуешь. Кем бы ты был сейчас, если бы не революция. Уж конечно, не капитаном. От сохи… Извините. Мой дед, Андрей Иванович Ершов, от сохи, тринадцатый ребенок в семье, в возрасте 12 лет уже ту семью кормил. Отданный в подпаски, любознательный мальчишка больше крутился возле техники; умный помещик его приметил и отдал пацана в помощники к своему кузнецу. Через год помощник кузнеца получал жалованье: 12 рублей в год. Корова тогда стоила 3 рубля. И выучился, и стал кузнецом, и слесарем, и токарем, и электриком, и Мастером. Сам рассчитал, выковал, выточил, собрал и запустил керосиновый двигатель, а к нему сделал и молотилку, и веялку, и крупорушку… И тут коллективизация. Вступай, Андрей Иванович в наш колхоз… с двигателем! Мы с ним такие дела развернем! А не то… Короче… а то в командиры не введут. Умный мой дед бросил все, подарил тому колхозу двигатель с причиндалами, выправил паспорт и ушел в город на электростанцию. А был он еще и каменщик, заводские трубы клал. И до сих пор стоит у нас в городе пережившая войну, пробитая снарядом, заплатанная, его 50-метровая труба на кирпичном заводе. Он был Мастер на все руки, Мастер от Бога. Я своей внучке показывал трубу, сложенную ее прапрадедом: видишь – стоит! Что ж тот колхоз? Через год дед приехал в родное село в отпуск – в овраге валяется его запоротый двигатель… Плюнул… Хорошо, большевики дали мастеру бронь, а то еще неизвестно, миновал ли бы он Соловки как имущий. Уж образование сыну он дал, и мне бы дал, я не сомневаюсь. Он-то понимал, как нужны Мастеру знания, а уж деньги зарабатывать умел. Жаль, рано умер от туберкулеза, царство ему небесное и вечная память. Так что мог бы я, наверно, стать пилотом и без революции. Без всплесков и невиданных взлетов народного образования. Все это мне рассказали престарелые родители уже на моем 50-м году жизни. И про мерзость войны и про жизнь на оккупированной территории, и про ужасы плена, из которого отец бежал трижды – и пришел с войны с орденами! Рассказывал и плакал отец мой… и я слушал и плакал. А про голодовку 33-го – ничего не рассказывали. Про голодовку 46-го – только то, что сберегли козу; я выжил благодаря ее молоку. Хорошо жили, сынок… не хуже других. 16.11. В Минводы слетал с Пиляевым, нормально, но были шероховатости: сел чуть левее оси, а при посадке дома на ВПР попутник выдавил выше глиссады, пришлось давить от себя и сдергивать газы, сел с перелетиком. Сергею вроде как неудобно было делать мне замечания. Но в разговоре, потом, вскользь, шутейно, было упомянуто. Что ж: съел. Если б я еще и приборы видел в сумерках. А то все внимание на эту скорость… а она расплывается… Что делать, старость неумолима. Уходить бы надо, да… лучше я с шероховатостями еще полетаю. Перед самым вылетом услышал по радио: на взлете в Красноярске упал грузовой самолет, через 4 минуты после взлета. Оказалось, нюрбинский Ан-12, шел из Новосибирска на Мирный, подсаживался у нас на дозаправку. Упал он в лес, 13 человек погибло. Ломаем головы: либо обледенение и клевок (как раз проходили снежные заряды, а температура около ноля), либо отвалилось крыло, ибо машине уже 30 лет, а была болтанка. Подобные же Ан-10 сняли с эксплуатации именно по этой причине: крыло навешивается на нескольких мощных узлах, а металл, к сожалению, устает; была катастрофа. Экипаж ничего сообщить не успел. Ну, расшифруют. 20.11. Полет на Комсомольск в составе родного экипажа прошел с удовольствием. Бразды я отдал Коле, он прекрасно справился со сложным заходом, пронзил тонкий слой облачности, повисшей от 200 до 150 метров, и прилично сел… традиционно левее оси. Обратно летел он же, выполнил очень точное снижение с прямой и шел до ВПР безукоризненно. А у земли не учел выхолаживания, оставил повышенную скорость, пошел по строго продолженной глиссаде и засвистел над полосой на малом газе: 500, 700, 900 метров, километр, полтора… Он все по миллиметру добирал, а машина все висела, а полоса утекала под крыло. Экипаж ржал. Потом я сказал: ну что ж, роняй, а то и по второй РД не срулим. Коля со вздохом мягко сронил, потом на пределе тормозил; я держался руками за семенники и ждал: хватит ли тормозов до 2-й РД. Хватило, впритык. Ну что: типичная методика перелета пупка в Норильске, как рекомендует специалист Ф. При упоминании этой фамилии Колю скорчило. Ничего, это тебе не с кем попало летать. Поработаем. Записал я Коле проверку, у него срок кончился. Конечно, волк, но пороть его надо постоянно; потом, в капитанах, само придет чувство неудовлетворенности собой, которое всегда подстегивает самолюбие мастера. 26.11. Взлетали в Красноярске – после отрыва загудел АУАСП, загорелась перед глазами красная лампочка: закритический угол атаки, сейчас свалимся! Вцепился в штурвал, зажал: никаких резких движений! У чем дело? Скорость? В норме. Тангаж? В норме. Обороты? Взлетные. Закрылки? Выпущены на 28. Ага, понял: завалился красный сектор критических углов, аж за стрелку текущего угла атаки. Отказ прибора. Продолжили взлет. Пока убирались закрылки, сектор гулял, периодически гудела сигнализация, мигала лампочка; потом сектор заклинился на цифре 7 – и так до самого снижения. На снижении прибор заработал нормально. Ну, отписались. Так вдобавок же, отказал еще мой высотомер. По нему в предыдущем полете было замечание, регулировали, а у меня на эшелоне он показывал аккурат на 500 м выше – точно встречный эшелон. Пишется-то высота с правого, но земля по вторичной локации видит высоту именно с левого. Короче, весь полет предупреждали землю, чтобы за нами следили. Оборачивается, привезли мы сменному экипажу дефект. Рейс задержали, ну, наверно, сделали, раз экипаж не вернулся в профилакторий. Мелочь, а на нервы действует. В конторе вывесили бумажку: о сокращении летного состава. Критерии профессионализма, влияющие на наши судьбы, таковы: Высшее образование: МАИ, КИИГА, Рижский институт инженеров ГА, Академия. Класс. Ну, у нас практически все командиры - пилоты первого класса. Допуск за границу. Знание английского, обязательный допуск. Работа без штурмана, допуск. Инструкторский допуск. Кстати, дает меньше всего очков. Короче, летать будут импортные эскадрильи, а нашу, расейскую, готовят к сокращению. Часть стариков удалось уговорить уйти, за какую-то там компенсацию. Часть списали по диагнозам. И набралось столько, что пока больше никого сокращать и нет нужды. А до осени еще целый год. По эти критериям я, конечно, не профессионал. Но ни грамма не жалею о том, что не имею вузовского образования, не летаю за рубеж и не имею бумажки, удостоверяющей, что я могу при случае работать на английском; особенно же – что не летаю без штурмана. И я, и все вокруг меня, и вокруг таких же как я, – мы все понимаем, что другого пути сократить летный состав нет. Ну не скажешь же всем, что Солодун, мол, – авторитет, а значит, его сокращать не надо. Хотя он тоже не имеет высшего образования и не знает английского. А кое у кого и два высших образования, а делает мертвую петлю на ровном месте… но все бумажки он собрал вовремя, да что там – заранее собрал; попробуй его сократи. Естественно, тех, кто останется после сокращения, заставят работать втрое больше, а платить станут за счет сокращенных, и не в три, а дай бог, чтобы в полтора раза больше. И это тоже правильно, хотя голодному абсолютно все равно, одну, полторы или три крошки ему дадут на обед. Абрамович же таким образом подправит свои финансовые дела, хотя, по сути, это будет только видимость перемен. Работы за рубежом не станет, и те же обладатели заветных допусков будут летать по тем же Полярным, без английского, но – с высшим интегральным образованием. Работа будет потихоньку глохнуть, авиакомпания – влачить жалкое существование и потихоньку хиреть. Если бы правители захотели разом обвалить работу авиации, то достаточно было бы пообещать пенсию 2 тысячи, и разок ее выплатить, – дешевле бы обошлось. Потом, через пару лет, уже вряд ли какой дурак бы поверил, а сейчас еще верят. И разбежался бы весь аэрофлот. Поехали сегодня на тренажер – сунули мужикам бутылку и поехали домой. Ни нам, ни им этот тренаж на раздолбанном железе не нужен. И нам, и им, – по фигу. В каждом полете у нас и так ребусы. И, кстати, ситуации жизнь подсовывает совершенно не похожие на те, выдуманные в кабинетах, теоретические, что заложены в программу тренажера. Об Ан-12 ничего пока не слышно, кроме того, что отказали два левых двигателя. Во всяком случае, в момент удара они не работали. Может, и правда, оторвало крыло? Но больше грешат на другое: взлет самолета, покрытого мокрым снегом, – и прямо в снежный заряд. Раскручивают, обливали ли самолет гамырой перед запуском. Дело в том, что у них там свои техники были на борту, они и готовили самолет, чтобы не платить нашим службам. Могли и сэкономить на дорогостоящей «Арктике», обойтись горячей водой, или вовсе не облить, а так… Первый раз, что ли: на разбеге, мол, сорвет снег. А он мокрый: прилип и сразу замерз. А «Фантомас» обледенения боится. И вот уже у нас проводят занятия по предотвращению взлета на обледеневшем самолете. Все ясно. 2.12. Какой-то придурок в министерстве так пекся об нас, сирых, что и совсем одурел, пекясь. Анализируем тут, понимаешь… Короче, надо ежемесячно теперь подтверждать свой минимум ОСП, а кто не смог, тому его повышают до 1,5 ОСП, т.е. со 120/1800 поднимают аж до 180/2700. Где ж той погоды набраться, чтоб зайти зимой. Подлетаем к Полярному; миллион на миллион по прогнозу, а на снижении дают снег 2500. У меня как раз 1,5 ОСП, вроде не проходит (но в Полярном об этом не знают), и надо, как требует придурок, уходить на запасной в Мирный. Это в декабре, в антициклоне, наблюдателю что-то померещилось, и он дает 2500, буквально на пять минут. Ну, зашел я и сел. Конечно, выполнял заход строго через привод и по схеме, в поздних сумерках, и 3-й подальше на всякий случай, чтобы ж подкрасться издалека; на третьем развороте видимость была вообще 50 км. Ветер дул на кругу справа, а от ДПРМ резко подул слева. Но мы начеку; правда, пришлось взять угол выхода аж 30 градусов на 5 секунд, и то, только после того, как впереди засветилось пятно: справа, на перроне, мачта с прожекторами; левее, левее держи, Вася… ага, вот и тусклые огоньки полосы, вот и инверсия… режим 78, 75, 74, – и на газочке, крадучись, вполз на торец. Убедился, что чешу над бетоном, но до знаков чуть не дотяну… мягко упал в 150 метрах за торцом, что и требовалось, и только тогда убрал газ и покатился. При уборке реверса резко потащило влево – полная правая нога, до упора, с тормозом! – есть, выровнял и покатился, чуть не по обочине. Пока то да се, проехал мимо РД, чуть-чуть не хватило, чтобы сразу срулить; ну, развернулся в кармане. И не запишешь сложный заход: сложным-то считается 200/2000, а тут 2500, а мне лично, согласно этому указанию, разрешается вообще только 2700. Плюнул… пошли вы все, козлы министерские. Как же я подтвержу, если заход по минимуму 1,5 ОСП – не сложный. Надо искать погоду 200/2000, да с проверяющим, да именно по ОСП. А мы везде заходим по ИЛС; у меня по ИЛС минимум 60/800. Дурдом. Палки в колеса. Конечно, угол выхода 30 при заходе по ОСП – это, в общем, не очень грамотно. Но в данных конкретных условиях я видел слева в 150 м впереди домик дальнего привода и смело сделал практически S-образный маневр, в процессе которого увидел огни, оценил их происхождение, что это же освещенный перрон, а потом зацепился взглядом уже за огни полосы. Если бы действительно была плохая погода, прошел бы дальний правее и аккуратно вышел бы на ближний. Или уж ушел бы на второй круг. А про несимметричное выключение реверсов мы дома записали. 8.12. Вчера слетали в Норильск. Вторым был Игорь Покинсоха, потомственный летчик, очень организованный, от зубов все отскакивает, но летает на «Ту» всего два года, а уж как им у нас дают летать… Есть шероховатости, но видна и хватка, тем более что летал и на Ан-2, и на «элке», и на Ан-24, и на Ан-26. Туда я, товар лицом. Погода звенела, но пупок я таки перелетел, хоть и норовил протянуть.
Машина вроде тяжелая, скорость чуть больше, правда, инверсия тоже присутствовала. Я боялся просадки и дал команду: «78, 75, пла-авно малый газ». Валера и стащил газы пла-авно… уже за пупком. Но посадка мягкая, мечта специалиста Ф. Обратно вез Игорь. Чуть передрал тангаж на взлете… не ожидал инверсии… скорость замерла на 320. Высота 150, 200, 250… прёт, а не разгоняется! Пришлось чуть ткнуть; дальше все в норме, и набор по 33 м/сек он выполнил отлично. Заход дома получился чуть корявый. Машина шла все выше глиссады, я все тыкал: директор, директор! Оказалось, у него на приборе директор глиссады стоит ниже, чем у меня, и он все подтягивал на себя, а я тыкал его, пока он не сравнил показания наших приборов и не сказал мне. А мне, волку позорному, это и в голову не пришло. Но и ему, не мальчику, но мужу, не грех было бы обратить внимание на вариометр, который на глиссаде устойчиво показывал 2 м/сек при положенных 3,5. Потом, догоняя глиссаду, держали 5. Короче, на пустой машине с задней центровкой, по продолженной глиссаде, прошли торец на скорости 250 (и то, большая!), поставили малый газ, повисли, и я стал подсказывать обычное: жми-жми, прижимай ее, видишь – не хочет… Игорь добросовестно стал откровенно тыкать ее штурвалом, но осторожненько, и таки дотыкал, и мя-агко так приземлил. Молодец. Аж сам удивился, но и убедился, что и давя от себя, можно машину мягко, на 1,15, посадить. Ничего. Будут из него люди. Полетал бы со мной пару месяцев. Изменения в конторе. Ну, кое-кто ушел на пенсию. Саша Бреславский, что все не мог поверить в то, что ему уже 60, а капитаном летать в таком возрасте по закону нельзя; Валера Подгорный ушел по здоровью; Казанцев в 62 года ушел сам, чтоб нервы не трепать. Короче, набралась норма сокращаемых. Володя Ш., битый-правленый, поротый-перепоротый командир, на предложение уйти на пенсию в 58 лет, сделал непристойный жест: вот вам, а не на пенсию! Я свое дело худо-бедно делаю, пока есть здоровье, буду и дальше делать; я еще дождусь, когда и вас тут к едрене фене посокращают, дождусь, а потом уйду. И молодец. Самая главная новость. Лукича ушли, новое руководство компании долго подбирало кандидатуру летного директора, которая устраивала бы всех. Устроила всех кандидатура нашего специалиста Ф. Мне-то от этого что. У нас старейший пилот – Савинов, 60 лет; он скоро уйдет; за ним идет Солодун, 59 лет; за ним Володя Ш. За ними иду я. Нет, однако, Боря Якушев, он меня на год старше. Но мы уже древние старики, нас не трогают, и спасибо. Короче, я в отряде по возрасту пятый. И веселиться по этому поводу что-то не хочется. 22.12. Коля Евдокимов, сделав с нами один рейс, был отправлен в отпуск, а тут подвернулись курсы английского языка, он ушел учиться до весны. Звонил, извинялся. Ну да Игорь Покинсоха хорошо летает. Бывший капитан Ан-26, рука набита. Пускай теперь летает он. Я даю ему предостаточно. А Коле с нами уже делать нечего, только баловать меня отдыхом в полете. Пусть учит свой инглиш, и пусть ему это поможет в летной судьбе. Да еще повезло бы мне ввести его в строй… 22.02. 1999 г. Инфляция заставляет людей метаться, цены скачут. Сергей Мещанинов имеет какую-то хибарку, а на новую квартиру денег не хватает. Он боится продавать старую, чтобы не остаться совсем без жилья. Одалживает, у кого может, чтобы все-таки купить новую, потом продать старую и рассчитаться с долгами. Валера Евневич все-таки успел купить себе двухкомнатную, но нужен ремонт; хочет продать машину. Ну, хоть крыша над головой есть. Мы бы тоже хотели купить квартиру детям, но лишних денег нет. Я отлетал тренажер, где Булах дал нам тренировку по самую защелку, наконец-то слетал с Пиляевым в Москву и разговелся после отпуска, неплохо. В Москве узнали, что наконец-то Совет Федерации утвердил пенсию летному составу. Это, с учетом северного коэффициента, мне выйдет около двух тысяч. Где-то к осени, видимо, придут на места конкретные бумаги. Не верится. Обманут. Все равно нае… У нас без этого никак. Конечно, 2 тысячи пенсия – зачем летать. Мне вот за январь начислили 1800, ну, правда, болел. На лето обещают нам много работы в командировках, и придут к нам первые два Ту-204. Был разбор летного комплекса, где выступил Абрамович и рассказал нам о перспективах. Это лето – решающее: либо мы осилим объем работ, в 1,7 раза больший, чем в прошлом году, либо пролетим. Зарплату обещает увеличить с марта на 12 процентов. А тут эта пенсия. Народ ведь побежит. С кем тогда осваивать эти объемы? Либо надо хоть вдвое увеличить зарплату, тогда еще можно подумать. А 12 процентов – это капля в море. Но Абрамович сказал: больше не ждите, надо жить по средствам. Сел в свой «Мерседес-600» и укатил. На этом разборе мне вручили знак «Отличник воздушного транспорта». Надя рада, как ребенок. Ну, теперь можно оформить «Ветерана труда», с его нищенскими льготами. Если бы эта новая пенсия точно была с завтрашнего дня, то завтра же и написал бы заявление. Нет смысла убивать лето за 3,5 лимона в месяц, пропивая при этом полтора в командировках. Да еще как представлю, что мне предстоит вынести на очередной медкомиссии… Какой смысл? 23.02. В раздумьях. Вчера зашел в эскадрилью, как положено, поставил литр хорошей водки, да коньячок впридачу, обмыть награду; поблагодарил за честь. Всю летную жизнь я сомневался, как же ко мне относятся на работе, не держат ли за дурачка, блаженненького и пр. Да нет, выходит, что вот таких, как я, как раз и уважают. Ну да чего уж теперь сомневаться. Оглянувшись, я что-то не вижу, за какие проступки или черты характера меня не уважали бы в коллективе, да и начальство. Савинов говорит, что на пенсию не побегут. Из стариков, кому за 55, все ушли, остались единицы, они зубами будут держаться. И нет смысла повышать зарплату. А Витя Мисак и целая когорта его ровесников? Им, пятидесятилетним, какой резон рвать анус все лето за 4 лимона в месяц? Неужели им здоровья не жалко? К 50 годам многие начинают подгонять медицинские параметры, пожирая горстями таблетки… одно лечат другое калечат. Я сам такой. Потом уйдешь на пенсию и справедливо получишь кучу болячек. Уходить надо вовремя, до таблеток. А тут у меня комиссия. И надо снова пить проклятые таблетки. Проходить? Не проходить? Взять отпуск до мая? Или увязнуть в той комиссии с анализами, тянуть, тянуть и дотянуть до мая? Какие-то тормоза во мне отпустились, с этой пенсией. Летать не хочу. Здоровье явно не то. Желудок, кишечник, печень, поджелудочная, суставы, – все протестует. На хрена мне это надо. А зрение? А романтика? Да-да. В 55 лет – самая-то романтика и есть. Одно дело – думать, на какую проходную на старости устраиваться, другое – знать, что и так проживешь, что хватит, что кусок хлеба с маслом будет всегда… И – свобода! Свобода от полетов… Раздумья, сомнения… не решусь. 15.03. Слетали в Москву: второй пилот проверялся на 2-й класс. Мне пришлось сидеть на стульчике и наблюдать, как молодой, только что научившийся летать на «Тушке» проверяющий из управления корячился в сложных условиях, пытаясь все же проверить второго пилота. Пару раз из-за спины мне пришлось подсказать им, видя, что на четвертом развороте потеряли же высоту с 400 до 330 м; потом, уже где-то на 100 м, полезли выше глиссады, о чем я успел вовремя предупредить. Ну, где-то к ВПР все стрелки с трудом были собраны в кучу. Сели прилично, даже пассажиры хлопали. Обратно дома был заход с прямой; худо-бедно справились. Ну, записал человек проверку Олегу, с тем и расстались. Вводил проверяющего в строй, кстати, Солодун, по почерку видно. Ну, сразу с «элки» и на «Тушку» – это непросто, а тут еще и инструкторский допуск. Будет стараться – научится. Ну, а Олег летает чуть лучше пресловутого Ч. Того беднягу мучили-мучили и, наконец, сократили; этот со мной пока летает, даю в меру. Если я с Ч. еще старался, пытался набить ему руку, то с Олегом уже особо не стремлюсь. Это люди с замедленной реакцией, старательные, исполнительные… но обреченные быть вечными вторыми пилотами. Попадет к хорошему капитану – будет летать под диктовку, будет хороший помощник. С годами, только с годами, может, выработается стереотип и какое-то предвидение ситуации, позволяющее в спокойных условиях спокойно летать. Такие даже вводятся потом командирами… но боже упаси их от нестандартных моментов в первые 2-3 года. Там, где нужна реакция, этим ребятам нечего делать; тут нужен опытнейший второй пилот рядом. Процент такой. 18.03. Старательно лечусь от гастрита. Во рту от лекарств мерзко. А тут еще давит под ребром; Оксана подозревает панкреатит. А тут эта годовая комиссия Как только появится возможность реально получать эти 2176 рублей пенсии, немедленно уйду. Все, Вася, отъел ты шашлыки. Теперь чревоугодие отходит в прошлое. Пока не загнал желудок, придется сидеть на постной диете. Кончились пиво и газировка, не говоря уже о спиртном. И вкалывать так, как будто за тобой гонятся, не надо. По сути, весь полет мой проходит как бы мимо меня. Мое дело – организовать подготовку, озадачить экипаж, чтоб все забегали, а самому зайти поболтать с синоптиками, рассказать им, какая погода меня ждет по маршруту (всегда удивляются, что капитан разбирается сам в метеорологии), принять решение и идти на самолет. Ну, вырулить, взлететь, нажать кнопки на автопилоте, да диктором еще поработать. Потом либо читаю, либо думаю. Время до снижения проходит незаметно. Опять немножко кручу колесико на автопилоте, немножко считаю в уме вертикальную скорость, отключаю автопилот и двадцать секунд пилотирую. Вот и вся работа. И то: это все в один конец. А второй полет я лишь наблюдаю. Как в раю. Ну, там, подскажешь. Может, этот вот Норильск и был последним моим полетом. Ну и что. Прощания Олега с конем не будет. Романтика кончилась. В полете подают горячий завтрак. Шпроты, копчености, сало, колбаса, жаренная по заказу курица, соленые маслины, маринованные огурцы, кетчуп, горчица, кофе. С гастритом – самый раз. Да минералка, «Кока-Кола», «Фанта». Жрать-то за штурвалом хочется, вот и лопаешь все подряд… потом загибаешься. И это все предстоит мне летом, ночами, три месяца. Ну, пять тысяч буду получать. Да провались оно. 26.03. Слетали с молодым, только что вступившим в должность инспектором Костей Д. Задание на полет неофициально формулировалось так: обкатать старому волку Ершову молодого инструктора с правого сиденья. Он только что с инструкторских курсов; ну, пару первых самостоятельных полетов справа сделал, еще с креном садится, еще трудно ему, в чем он мне искренне и признался. Ну, летай на здоровье, а я погляжу. Посмотрел я со стороны. А что: профессионал. Все получается, свой почерк; и то: работал дважды в Иране. И на «эмке» он налетал, пожалуй, больше чем я; мне-то большею частью пришлось на «бешках», да мне и хорошо: удобнее учить молодежь рулить. С трепетом в голосе он испросил замечания, по горячим следам: ему, мол, очень важно знать именно мнение Ершова. Гляжу, аж лоб у него мокрый… Парень не зря старался показать товар лицом; это мне так знакомо… Похвалил. Ну, пара шероховатостей, крен там на посадке, это пройдет через пару полетов. А так – не стыдно никому глядеть в глаза: действительно, профессионал. Выходит, и правда, Ершов для сорокалетних – безусловный авторитет. И еще ж летает Солодун, это уж вообще Мастер от Бога. Школа. В Минводах на перроне зашли на экскурсию в Ту-204. Без малейшего интереса смотрел я на слепые экраны на приборной доске, на сотни кнопок, кнопок, кнопок, на этот несерьезный, самокатного вида штурвальчик… Все прошло. Летайте вы на этом… сами. Как по телевизору. Я – старик, с морщинистой шеей, с обвисшими щеками; у меня на это… не стоит. Я сейчас взгромозжусь на свою родимую «Тушку», упаду в кресло, возьмусь за рога, да и поеду себе… потише-потише. Кстати, у Ту-154 число «М» на эшелоне 0,85-0,88, а у Ту-204 всего 0,83. Да и все это… Может, вчера я сделал свой последний полет. Так хорошо, спокойно слетали. Мальчик крутил, я наблюдал: вот смена, хорошая, думающая, энергичная смена. Я в таких вот мальчиков вложил всю душу – и я ли один! А уже ходят разговоры, что Савинова за столом комэски сменит надежнейший Саша Чекин. Что мне еще надо? И Колю введут, и Андрюшу Гайера – тот уж на этом… «телевизоре» точно будет капитан. Сколько их прошло через мои руки, а еще больше – через руки Славы Солодуна, Сереги Пиляева, Валеры Ковалева, Игоря Гагальчи, Гены Ерохина, Вадима Мехова, – да мы, старые волки, все им отдали. А сколько штурманят молоденьких, еще стажерами, на последнем курсе, натаскивал Витя Гришанин, вися над ними как коршун весь полет. И какие теперь штурмана: Тарас Басанский уже сам инструктор, Максим Кушнер… да не упомнишь их. Мелькнет знакомое вроде лицо: здравствуйте, Виктор Филаретыч! Приветствую, Василь Василич! Кто такой – понятия не имею, уже забыл… где-то же вместе летали. Ой, да я вам так благодарен за тот случай – помните? Какое там… забыл… Много вас, ребятки; ну, где-то помог – и слава богу. А ты ж потом отдай долг – уже своему ученику… если будут они, ученики, если все не развалится, когда очередные ельцины, матвиенки, кириенки, чубайсы и прочие шахраи объявят следующий дефолт… себе в карман. Дело-то, ремесло-то, на каждом рабочем месте, – не чубайсы же делают, а Пиляевы, Гришанины, чернорабочие, ездовые псы. Они безропотно тянут лямку и молодых научают тянуть. Я-то еще ною; они молчат. Мы, терпеливые псы, тянем Дело; каюры, вроде той Матвиенко или Сысуева, сидят верхом и руками водят. А Дело рушится. И вся Россия разбредается кто куда, и каждый, кому не лень, трахает ее под забором за очередной транш соломы. Нет, обозлюсь и книгу напишу. Про ездовых псов небесных. Никто ж не знает, какова изнутри наша работа. 29.03. Иногда перечитываю свои записи, пытаюсь найти в них проявленную временем натужность или фальшь – и не нахожу. Всё правда. А такие удачные тетради как «Экипаж» – хоть сейчас бери и публикуй. Единственно над чем улыбнешься – это восторги, наивняк. Но ведь все это было. А теперь этого всего нет. И не до улыбок. 31.03. Биохимия прошла. Как это просто. Зашел в лабораторию, помялся: есть просьба… Понятно, идите и не беспокойтесь. Презент взят. И анализ в норме. Сдал с утра и остальные анализы, не такие важные. В обед поеду, узнаю и решу, что делать дальше. Всё: анализы прошли. С ходу сделал ортостатическую пробу и спирографию. Завтра РЭГ. Послезавтра велосипед. Останутся УЗИ, психолог, аллерголог, ну и что еще прицепят. Кардиограмма уже просрочена; ну, сделаю еще. Главное, комиссия пошла! 1.04. РЭГ с положительной динамикой, как, впрочем, и вчерашняя спирография. Отношение медиков самое что ни на есть благоприятное. Тут же заскочил к стоматологу, через сорок пять секунд выскочил, помчался на аудиограмму. По три процедуры в день – не слишком ли жирно? Нам ведь оплачивают по среднему целых 15 дней комиссии. Но я на этом наживаться не собираюсь; если б можно было, то за день всех бы обежал… как, впрочем, и делается в цивилизованном мире. Завтра с утра кручу велосипед, готовлюсь на УЗИ, может, поймаю психолога. Пошла, пошла комиссия! Встретил в санчасти Савинова: что – годовая? Он грустно махнул рукой: я… наверно… совсем… Так, зубы зашел полечить. Эх… жалко. Как бы кто ни обижался на характер Савинова, да те же Репин и Бабаев, но я в его эскадрилье проработал долгие годы – и ни разу в конфликте, да даже в трениях, не был. Это – Мастер, грамотный, умелый, спокойный, властный, и на своем он месте был. Жаль, жаль, что уходит, но… не век же летать. Он ко мне всегда относился с уважением, и большая доля моего авторитета, видимо, поддерживается его мнением… не знаю. Все мы стареем. И летать еще хочется, и жизнь уходит; а себе так и не принадлежишь. 2.04. С картинками, но велосипед открутил. Пульс колотил в покое 120, пришлось долго ждать; спасибо, доктора отнеслись по-человечески. Потом, с остановками, с сидением на корточках, как-то втиснули в норму. Чего боялся? Сам не знаю. Всего. С лету пошел к психологу, еще руки дрожали после нагрузки; тем не менее, выдал результат выше среднего. Зашел к невропатологу, минут сорок беседовали, вернее, я выслушивал ее монолог. Ну, отпустила с миром. Сложный, но интересный человек. Потом к хирургу – естественно, назначила снимок. Осталась справка от аллерголога, потом обойти снова врачей. И такая вдруг навалилась усталость. Выпить бы, так нельзя, терплю. Все-таки нервное напряжение велико. Кто-то скажет: вот это напряжение и держит тебя в форме, а спадет – умрешь. А я бы так бросил все и хоть годик пожил без тревог. 5.04. С утра отпросился с занятий к ВЛП и помчался к Рае на снимок. Привез его, еще тепленький, дождался хирурга. Прочитала она Раино описание и опечалилась: надо на консультацию к нейрохирургу. Формальность, понимаете, нужно веское слово узкого специалиста… Ага. Обтекатель тебе на жопу нужен. А я завтра убью день в краевой больнице, в очередях. Ну да заодно как-то попытаюсь пробиться к аллергологу. Хотя, по закону подлости, тот работает с утра, а та – с обеда. Народищу полно. Надо еще найти страховой полис, взять паспорт и – в очередь, в очередь, сукины дети… Поймала меня в коридоре Галина Степановна, рассыпалась в комплиментах и извинениях, что, мол, не обидела ли меня чем в той беседе-монологе. Рассмотрели мы с нею снимки, она тщательнейше меня проконсультировала, – это ведь была ее прерогатива много лет, и только недавно остеохондроз перешел в ведение хирурга… Никто эту бабу не любит: вечно ее нет на месте, часами ждут, а дождешься – обсыплет сюрпризами, как вот меня. Ну, Галина Степановна успокоила, что ничего страшного нет. С этими сюрпризами – как же не будет пульс 120 колотить. От всех ждешь пакости. Еще же и окулист может что-нибудь подкинуть: я стал явно хуже видеть левым глазом. Еще ж хирургу и непосредственно на осмотре может что-нибудь не понравиться. Ну да надо вытерпеть. И даже если бы пенсия уже лежала в кармане, трястись перед врачами все равно будешь. Хотя… чего бояться-то. Это все – только отклонения от нормы. А у Раи в онкологии вон поглядел на обреченных… 7.04. Получил хлебную карточку, продлил пилотское, смотался в Емельяново, поставил печать, сходил в баню, напарился, нанырялся в ледяной бассейн, выпил вредную при гастрите, но такую желанную бутылку пива, – и жизнь потекла по спокойному старому руслу. Впереди две Москвы, тренажер с Колей, предварительная подготовка – и в отпуск. А на улице тепло… 12.04. Окунев, молодой, способный капитан успевший и на ДС-10 полетать, и на мир поглядеть, рассказал мне, что на Западе большинство летчиков после 45 лет летают в очках – на шее, на шнурочке висят. Изящная авиагарнитура на голове не мешает их надевать и снимать при нужде. Не то что наши наушники сталинских времен. И летают до 65 лет, причем, до 60 – с правом активного пилотирования, а после – вроде как бортинженером. И пожелание: летай, Василич, до упора… и дифирамбы. Да я разве против. Только тот, западный летчик, дергает очки на ВПР за десять тысяч баксов, а я, значит, за двести. У него пенсия 7 500 зеленых, а у меня 90. Он медкомиссию проходит за час, а я за два месяца до того начинаю дергаться, колоть и пить всякую дрянь. Нет, это бесполезный спор. Я давно, заранее, планомерно, готовлю себя к уходу на землю, и если летом надумаю уйти, то это для меня трагедией не будет. 14.04. В Москву слетали хорошо. Везли туда начальника управления Осипова, поболтали в кабине; ну, товар лицом, строго по расписанию, красиво. Да он меня знает давным-давно: в одном же отряде у Медведева работали. Назад везли экипаж Жени Сысоева, тоже старались. Паше Коваленко досталась посадочка в хорошую болтанку, я настоял, чтоб заходил в автомате до ВПР; на 60 м он отключил САУ, я зажал управление, чтоб он не дернулся и не сбил подобранный курс. Хлопнулись, едва поставив малый газ, ну, где-то 1,15, – это при ветре под 45 до 17 м/сек. Он так ничего и не понял – и не надо. Станет капитаном – поймет. Филаретыч молодец: как дал расчетное время прибытия, что туда, что обратно, – точно, минута в минуту. Фирма. 5.05. Списали Солодуна. Тянули-тянули, но, видать, уж дальше некуда: он совсем глухой. Да и возраст: ему доходит 60. Грустно. Остались мы с Володей Ш., старики. Когда-то я завидовал старикам и даже не мечтал о том, что доживу в авиации до преклонных лет. Оглянуться не успел, как сам, того и гляди, попаду под списание. Но, как и в молодости, и в зрелости, и сейчас, – не чувствую себя я мэтром. Понимаю, что авторитет, что уважают меня все, но мэтр… нет, я так и остался рядовым вожаком упряжки. Какой след оставил в авиации Вячеслав Васильевич Солодун? Школу. Все лучшее, что отобрано и копилось годами из опыта красноярской авиации, это все освоено, интерпретировано и вдолблено в известное количество пилотских мозгов, чтобы говорить о школе. Обо всем этом я достаточно распространялся выше. Солодун пропахал в небе не одну борозду и оставил след в сердцах многих капитанов, хотя у нас об этом как-то не принято говорить. Но государству на школу Солодуна плевать. Солодун из тех людей, которые отлично могут работать на любом месте; ну его судьбой оказалась авиация. Такими людьми держится государство во все времена. Ну а нынче мы все вместе, кучей падаем: и государство, и с ним все солодуны, ершовы, гришанины… Филаретыч первым узнал и первым позвонил мне, зная, с какой благодарностью я отношусь к нашему скромнейшему Учителю. Сам же Филаретыч с тоской считает оставшиеся дни отпуска и готовится к лету как к броску на амбразуру, с этими грозами… с этими командировками… 17.05. Был в эскадрилье, поговорил с Володей Менским насчет Коли. Тот меня успокоил, что да, Коля полетает со мной; вводить потребуется несколько командиров, и, скорее всего, Колю буду вводить я. Саша Чекин в новой должности пока присматривается и следует советам опытного Менского. Встретил Андрюшу Гайера – только что из Ульяновска: переучился на Ту-204. С горящими глазами он два часа воспевал мне прелести новой машины, а я завидовал ему чуть не до слез: моя жизнь в авиации прошла, и мне уж не доведется попробовать летать «по телевизору». Но счастлив тем, что ученикам моим открылась дорога. 24.05. Позвонил Менский. Послезавтра назначен облет машины, а это редкая возможность аэродромной тренировки. Летать будет Мехов, он оттренирует с левого сиденья Колю Евдокимова, но сначала нам с Колей надо отлетать на тренажере. Завтра съездим. Ну, слава богу, дело сдвинулось. 25.05. Съездили на тренажер, договорились с Федоровичем, заехали в эскадрилью и оформили задания на тренировку. Зашел летный директор и объяснил мне, что Коля, так сказать, в горячем резерве, т.е. я его откатаю, и он останется на левом кресле, пока не откроется вакансия. А так как у нас в эскадрилье вакансий больше всего, то думаю, мы откатаем программу, и сразу появится место. Да мы согласны хоть год так летать. С 1 июня меня запланируют на тренажер, там мы уж без дураков отлетаем то, что уже записано у Федоровича вчерашним и сегодняшним днями. Облет машины не ждет, приходится формально, чуточку нарушать. Потом со мной слетает Саша Чекин, проверит, не забыл ли я навыки с правого сиденья и допустит возить Колю. За два месяца надо отлетать 100 часов. Кого выбрать вторым пилотом. Я хотел бы надежного Доминяка, но он уже занят, а из свободных Менский предложил Карнаушенко, тоже потомственного летчика, с чьим отцом, Владимиром Григорьевичем, прекрасным командиром, я летал вторым еще на Ил-18. И о сыне его отзывы хорошие. Кровь – великое дело. Полетань летом предстоит веселая. К примеру, такой рейс. Летишь в Ростов, там четверо суток отдыхаешь; потом через Новосибирск в Иркутск, там тоже отдых; потом в Сочи, там сидишь два дня; потом домой. Мне вот уже намечается рейс: Полярный-Новосибирск-Ростов, там отдых, и тем же колесом домой. Это еще по-божески. Короче, портфель в угол, а вместо него на плечо неподъемную сумку, а в ней – и плавки, и свитер, и кипятильник, и аптечка, и консервы… На все случаи жизни. 28.05. Вчера по телевидению выступил Абрамович. Он сказал, что Красноярск перестает быть базовым аэропортом. Вся работа будет вестись из пяти крупных городов: Иркутск, Омск, Самара, Новосибирск, Норильск. Короче, таков нынче авиабизнес. Для нас же это означает собачью жизнь, неустроенность и безрежимье на старости лет. Все старики с нетерпением ждут пенсии, чтобы плюнуть и уйти. По пенсии же пришло разъяснение, что утрясать будут до осени. Значит, до весны точно. Но Колю я таки введу. 7.06. В субботу летали в Полярный. Чекин должен был проверить меня и подтвердить допуск к правому сиденью. Но, мучаясь вопросами нравственно-этического порядка, он предложил мне посидеть у них за спиной (вы, мол, еще вот так налетаетесь вместе), а сам слетал с Колей. И то: должен же комэска увидеть воочию, каков в деле хваленый командир-стажер. Я же коршуном висел над обоими, и весь полет не покидало острое чувство: я вам отец, вы мне дети… ребятки, не пустите же пузыря, сделайте ЭТО красиво! Слушал реплики Саши – да это же всё мои слова, это же слова Солодуна… Но изнутри так и подпирало: еще чуть подсказать, вот здесь, и здесь тоже… В Полярном карман на полосе коварный – кто же лучше меня это знает… давай глубже, глубже, вот теперь пошел в разворот, с газком, с подтормаживанием внутренней ноги, так, так… и поймал себя на мысли: Вася, справа сидит твой начальник, командир эскадрильи, он что – хуже тебя? Каково ему? Заткнись же, за спинами сидя. Ты уже давно Чекину не указ. Но весь полет прошел явственно под давлением моего авторитета. Думаю, Саша еще долго будет стараться избегать таких вот проверок моего мастерства; проще отдать это Пиляеву. Ну, Коля, естественно, старался. И хотя в самом первом полете чуть и присадил в Полярном, 1,3, но дома уж притер. На перроне Полярного сложная схема заруливания, мимо мачты освещения, между колонками, разворотом под 225 градусов. Как мы ни тянули Колю, чтоб хвост доволок до разметки, он таки зарулил левее метр. Вышли, предложили Коле посмотреть на свой позор, и Саша, словами еще Солодуна, объяснил Коле то, что я ему растолковал шесть лет назад: не только передние колеса должны стоять на осевой, а как глянешь вдоль фюзеляжа, все антенны на брюхе должны быть как из пушки прострелены вдоль разметки. А то Коля не знает. Поработаем. А пока я между делом написал Коле шпаргалку, еще словами Солодуна, что и где ему, теперь уже командиру, по технологии говорить. Школа есть школа. Филаретыч с другой стороны долбит. Началась муштра: из щенка, пусть и волчьей породы, куем настоящего, матерого волка. Валера Евневич прикрывает спину, ухмыляется сзади. Они с Колей подружились. Хороший должен получиться экипаж. 27.06. Абрамович работы нахватал. Экипажи не вылезают из командировок, вкалывая за гроши: 32 рубля за час полета капитану. За налет саннормы, правда, без оклада, получается 2200, это на 40 кг мяса. Прошел годовую комиссию и тут же умер от инфаркта штурман Эдик Р., не дожив до 50 лет. Отвыкли мы от безрежимья. А тут через день-два смена часовых поясов до 7 часов. Едва выбьешься из одного режима, тут же вынужден приспосабливаться к другому. Да что говорить: после четырехдневной Анапы, едва привык, как тут же загремел во Владик и застрял там из-за нехватки топлива. Обещалось сидение до 1 числа, но наш представитель договорился с Хабаровском, и мы подсели там на дозаправку. Громадный аэропорт был пуст как барабан, на стоянках гнили заброшенные Ил-62, в вокзале вакуум, в АДП тишина, и такое ощущение было, что всё зарастает бурьяном. Коля отлетал половину программы без сучка и задоринки. Посадки одна в одну, придраться можно разве что к быстрому рулению; короче, полируем нюансы. Дай бог иным командирам так летать, как мой стажер. Но – порем для порядку за всё, чтоб не зазнавался. В июне налетали 60 часов, но еще не вечер, и завтра могут подкинуть еще рейсик. Особой усталости пока нет, но сон стал поверхностным, пульс в покое учащен до 76, вонючий пот по утрам, – верные признаки работы на износ. Однако для меня это не значит, что надо валяться и отдыхать. Нервный подъем заставляет двигаться и действовать. Ловлю себя на том, что и хожу-то с выправкой гусара: смотрите, любуйтесь, как подтянут старый инструктор, как он строен, подвижен и раскован. Короткая стрижка, благородная седина висков, загорелое лицо с морщинками у глаз, энергичная походка, улыбка на лице, – старый, бывалый воздушный волк вводит в строй, себе на смену, любимого ученика… Одно тревожит: сбрасываю вес. Уже где-то 78 кг; при росте 178 это предел в моем возрасте. Вчера, выписывая в ПДСП Владика путевку в профилакторий из-за отсутствия топлива, беседовали с диспетчерами, старыми летчиками: что вот, жизнь натравливает нас друг на друга, а что нам делить между собой, старым ездовым псам. Филаретыч сорвался, с пеной у рта, трясущимися губами материл этих сук в верхах… автомат бы… всех к стенке… лично… Я только улыбнулся: Витенька, мало у нас в жизни было перипетий? Пойдем, возляжем в профилактории, может, музыку какую найду, поиграю, отойдем душой. А представитель наш пусть бегает, вон у него мобильник аж дымится. Улетим. Полежали часок, и тут же подняли нас на Хабаровск. Но я этот часик таки подремал, и душевное равновесие восстановилось, и в полете я был тот самый старый капитан, который все видит, все оценивает и создает обстановку в экипаже. Шутили, смеялись, лезли между грозами, читали газеты и разгадывали кроссворды, – и даже штурман наш железный читал в журнальчике анекдоты, между своими курсами, кофеем и сигаретой. Потом за обе щеки уплетали горы провизии, принесенные симпатичной стюардессой, попутно оглаживали взглядами ее округлые формы… хороша жизнь! И Коля красиво зашел без газа с прямой и притер… умеет же, язви его! Школа. Всего делов-то: 18 часов в рейсе. С о-отдыхом… 23.07. Откатал Колю. Все, свободен, т.е., прилетев вечером из Сочей, отдал экипаж Коле, поблагодарил ребят за хорошую работу, пожелал успехов. Глянул в план: сегодня лечу в десятидневный Ростов с другим экипажем: Черкасов, Русанов, Шлег. Володя Черкасов пока полетает со мной справа, а как только первый облет (там как раз готовят 682-ю), так его оттренируют, и начинаем ввод в строй. Либо Валеру Логутенкова: у него есть английский допуск, а у Черкасова нет. Вопрос решается летным директором. В Сочи мы летали с Чекиным, причем, я – в пассажирском салоне, и не вылезал оттуда, чтоб не давить. Чекин проверил Колю и убедился, что он готов. Устроили в Сочи небольшой отходняк: очередное мое прощание с экипажем; комэска участвовал наравне. Пелись дифирамбы. Потом я втравил всех в танцы. Коля для меня как сын родной, и столько уже я испереживался за него раньше, что нынешний этап ввода в строй прошел совершенно буднично. Мечта сбылась… и всё. Абрамович создал нам сносные условия жизни в командировках, поднял зарплату (за июнь мне на руки 7300). Набрал работы на осень и зиму. Отпуска в сентябре мне не видать. Обещают с июля зарплату в среднем 10 000. Оплачивают теперь по среднему и сидение в командировках, и даже 50 процентов за налет, если летишь в командировку пассажиром. Есть за что анус рвать. Так бы годик поработать – можно было бы решить вопрос и с квартирой. А там подойдет и развал компании. Рейс мой – пятидневное сидение в Ростове, потом Норильск с ночевкой, затем на два дня в Самару, – и домой. За девять дней 20 часов налету. Итого, за июль будет где-то 57 часов. Хватит. За сидение заплатят по среднему, а налет мне не нужен. 30.07. Кое-как домучили мы последние, пятые сутки в Ростове и улетели под вечер, совершенно без сил, подавленные 37-градусной жарой с сильным, более 10 м/сек ветром, обдающим жаром, как из печки. Уже в Уфе было +25, прохладный вечер. Короткая ночь над Западной Сибирью, прекрасная заря на севере, серебристый шелк озер и рек внизу, в бархатной мгле; тысяча какой-то восход Ярила, встреченный в воздухе; дым лесных пожаров, сизая мгла, тусклый диск красного солнца, грозовые башни над Енисеем в районе Дудинки, – и все это при абсолютно мокрой заднице… Выпитая за пять дней вода сочилась изо всех пор тела, но это надо перетерпеть. Две девчонки-бортпроводницы, из нанятых на лето студенток, «мальки», как мы их прозвали, тихо сидели за спиной… интересно им. Я зашел и притер самолет на пупок Норильска, протянув под восторженно-испуганное Володино «что ты делаешь!» вдоль изгиба полосы движением от себя; мягчайшая посадка. Бросил штурвал и не спеша притормаживал, на ходу открывая форточку. И желанная прохлада ворвалась в кабину: 20 градусов тепла. Ночью норильское лето кончилось, пошел дождь, и в обед мы вылетали на Самару уже при нормальной температуре +7, с ветерком. Самара встретила легкими облачками и вполне терпимой летней жарой: +28. Володя мостил легкую машину на уклон короткой полосы, я заранее предупредил, что тут ожидает букет взаимоисключающих факторов и надо держать ухо востро. Видя, что с ВПР он явно не успеет погасить лишнюю скорость, к которой мы, старики, их сами в свое время и приучили, я трижды сдернул режим: с 86 до 82 и 80, и уже над торцом краем глаза заметил, что скорость падает до 250, что нам и надо было. Володя в страхе подхватил, ожидая удара… перелет составил метров 400, и то, если бы я еще не придержал ему штурвал… Короче, эти волки все равно еще не капитаны, а он, зная, что первый кандидат на ввод, на всякий случай перестраховывается и каждого куста боится; это надо будет в нем преодолеть. На пробеге, после очень, кстати, мягкой посадки я, соизмеряя остаток полосы, скорость, жару и энергоемкость тормозов, потихоньку притормаживал и попутно объяснял ему еще раз. Вес 67 тонн, задняя центровка (руль высоты на глиссаде стоял на +2), короткая полоса 2500 м, жара, на пупок, – и нельзя делать предвыравнивание – перелетишь; нельзя и выхватывать – взмоешь; надо только чуть жать от себя; ну, пройдя торец на 10 м, чуть отпустить, она сама выровняется, ляжет на подушку, но тангаж держать строго; протянуть вдоль пупка, замереть, высчитать – раз, два, три, – еще чуть добрать и всё; дай-то бог не перелететь больше 300 метров: горячая полоса очень держит, тем более, в штиль. Это надо задницей прочувствовать. А его Чехлов учил в свое время мягким скоростным посадкам. Чехлов сейчас сам инструктор, он, может, сам уже об этом методе давно забыл, как и я, потому что применим он больше к тяжелым, груженым машинам. Надо садиться экономно, но в рамках. Кто знает, как эти варианты пригодятся в жизни. И как бы мне пришлось тормозить сегодня, если бы произвели ту скоростную, да еще с перелетом, посадку. А вдруг на грех – да сломайся та машина, что обливает водой тормоза сразу после посадки. Так-то он волк, опытный, грамотный и осторожный… как бы даже не до трусоватости, – а то будет второй К. Надо немножко человека расковать, поэтому летаем строго по очереди: я показываю, как это делается, с разбором каждой посадки, потом летит он, с учетом этих разборов. И отдаю я себе отчет: так, пожалуй, у нас в летном комплексе уже больше никто не покажет, и, заведомо, никто так не объяснит. Солодун ушел, а его школа – теперь мой крест, сколько там ни осталось летной жизни. Шлег ворчит: с этими мягкими посадками… колес не жалеете… надо сажать жестко… Я отвечаю: Михалыч, я бы себя уважать перестал, и ты бы меня уважать перестал; а колеса… да зае… да пропади они пропадом; – и много ли я колес стер за свою карьеру? И сравнимо ли то несчастное колесо – кусок резины – с ощущением красоты посадки. В Норильске я снова садился на пупок и снова объяснял и показывал. Задняя центровка – почти не выравнивая, дождался пупка, сделал легкий тычок от себя – перегнул траекторию – мало; еще тычок… вот-вот… еще чуть – и бабаевская посадка. Это вот второй способ – тычками от себя. Учись, пока я жив. Но – при нормальной и особенно при передней центровке этот способ неприменим и опасен. Тут надо чуять. Дома жара под 30, и после норильского холодрана с дождем надо было перестраиваться на тепло. Снова легкая машина; я зашел в директоре и, прибрав режим до 79, подвел ее пониже, прижал, думая продавить подушку, но полоса держала. Я же над торцом видел, что скорость плавно перешла ниже 250, ожидал, что долго не продержится, но нет, летит себе и даже норовит подвзмыть. Но тыкать тут нельзя, надо только придерживать, выжидать… гномик внутри подскажет… а теперь хор-рошо, длинно подхватить… За это время меня стащило вправо метра на три, и я инстинктивно прикрывался креном в полградуса; подхватывая, я крен убрал, но кипящий над полосой воздух качал машину. Тем не менее, гномик подсказал правильно: подхват был вовремя и в меру. Где-то слева что-то дрогнуло Я ожидал, когда же дрогнет и справа, но нет, ничего не почувствовалось; дал команду включить реверс. И покатились на двух ногах, опуская переднюю. Обжившиеся в экипаже «мальки» потом спросили, кто сажал машину. Ну, я. Да уж… вроде как с похмелья, товарищ командир: какая-то посадка… неуверенная – то ли катимся, то ли нет. Да. Не видели вы р-р-рабочих посадок. Колю проверил Костя Д., есть замечания по технологии; к пилотированию претензий нет. Ну, допустил к следующей задаче: 25 часов с инструктором за спиной. Мне не совсем приятно было выслушивать замечания инспектора, но недоработка моя: на некоторые перестраховочные нюансы я поплевываю; Коля усвоил эту мою фраерскую манеру, а молодой инспектор на этом как раз зубы навастривает. Однако же, летая с проверяющим, я все это выполняю строго. Ты сначала научись делать все по букве, а уж потом, по здравому смыслу, нарушай, – но в рамках безопасности. А ты, инструктор зажравшийся, сначала научи стажера правильно делать при проверяющем, а потом не будешь краснеть, когда молодой инспектор пеняет тебе, эдак, вскользь… Коля сидел тут же, оформлял бумаги и все слышал. Я ему ничего не сказал. Спасибо Косте, что обошелся замечанием. А за меня Коле скажет Филаретыч, тот уж выдаст ему по самую защелку. Пиляев садится к ним сзади, Андрей Кибиткин справа; шесть посадок – и вот он, первый самостоятельный полет. Пока я вернусь из очередного колеса, как раз подгадают Коле ПСП; обмоем. 4.08. Пиляев свозил меня в Норильск, дал два нелюбимых мною визуальных захода; остался еще один. Тьфу. Профанация. Коля сегодня идет с экипажем на беседу в управление: пять минут позора – и ты командир. 5.08. Эпопея с полетными весами 102 тонны продолжается. Летный директор приказом назначил несколько внештатных инструкторов, в том числе и меня, которые будут обкатывать всех под 102 тонны. Норовят загнать меня в Москву, чтоб подсаживался к экипажам и дергал рейсы с полным весом 102 тонны; это дней на десять. Мне-то все равно, где летать. Поживу в Москве. Командир П. тут в Москве попал под винты с этими 102 тоннами: мол, я не допущен, снимайте лишнюю ЗАГРУЗКУ! Топливо-то не сольешь: не долетишь без топлива. Абрамович узнал, разгневался. Короче… попадешь в подобную ситуацию – молча лети; потом, задним числом, оформят, что, мол, был допущен. Но кто бы гарантировал опытнейшему капитану П., что, не дай бог, случись что – с него не снимут шкуру. Теперь-то, получив устную инструкцию на этот счет, он спокойно бы полетел, а тогда надо было принимать решение, и он его принял. Юридически он прав, пороть его не будут, но… теперь я буду сидеть в Москве и обкатывать капитанов, чтобы подобные мелочи на ЗАГРУЗКУ больше не влияли. Коля беседу прошел, без эксцессов, поставил командирский штамп в пилотское, завтра уже в плане, как командир корабля, с проверяющим Пиляевым, на Шереметьево. Потом у них Камчатка, с четырьмя посадками; набирается как раз шесть посадок – и ПСП. 16.08. Обстоятельства меняются непредсказуемо. Коля где-то застрял с топливом, весь график сдвинулся, и ПСП его будет тогда, когда я только залечу в Москву. Ну, мы свои люди и время обмыть найдем. Менский с Чекиным извинялись… да что там особенного. 18.08. Сегодня у Коли Евдокимова первый самостоятельный. Я позвонил Филаретычу: как там у вас, все получается? Да вроде нормально. Не подведем. Они летят вечером; я заскочу в санчасть и положу Коле в задание на полет записку с пожеланиями. Доброго пути! 22.08. Впечатления. Поневоле станешь суеверным. Уже перед вылетом, раздумывая, надеть ли пиджак или лететь в рубашке, увидел оторвавшуюся и прикрепленную в рейсе скрепкой форменную пуговицу… ну, пришил… но полетел все-таки в рубашке. Рейс сразу с задержкой на несколько часов, но это так, сбой с топливом. Взяли ужин сухим пайком в нумера, немного водки, устроили междусобойчик с танцами, хорошо посидели. Утром Володя Черкасов, заядлый грибник, вышел за профилакторий и через час приволок ведро молоденьких скрипучих груздей. До вечера он с ними муздыкался, и к вылету на Полярный у него был полный пакет вымытых, выдраенных как игрушечки грибов. Зачем – он и сам не знает, но поволок их в рейс. Ночь прошла незаметно, в полете я еще чуток подремал, несмотря на то, что выспался перед вылетом под журчание воды и шорох Володиного ножа в туалете. Непосредственно перед снижением бортинженер Гена Богданов доложил, что на втором двигателе загорелось табло «Клапаны перепуска», упал вдвое мгновенный расход топлива и разошлись обороты роторов высокого и низкого давления. Короче, двигатель потерял половину тяги. А заход оборачивался с курсом 170, с использованием приводов обратного старта, т.е. практически визуальный. Ну, на прямой пришлось совать внешним до 90; второй двигатель стоял на малом газе. Практически заход на двух двигателях. Ну, Володя зашел и сел, а я контролировал. Афишировать не стали, чтоб не вешать на себя инцидент. Просто после заруливания доложили, что двигатель неисправен. Долго я не мог связаться с Красноярском: в конце 20-го века из сидящего на алмазах Полярного позвонить по телефону так же сложно, как и в 30-е годы. Кое-как дозвонился, доложил обстановку, долго ждал решения, снова не мог дозвониться… обычное дело. Пришло указание: сидеть и ждать до завтра, придет рейс, привезут бригаду и запасной агрегат, заменят – и улетите в свою Москву. Рейс из Красноярска ожидается только через сутки – идем в холодную гостиницу и организуем сугрев. Холодно там так же, как и в Норильске: в нумерах градусов 10-12, за бортом в полдень +22. Девчонкам в двухместные комнатушки дали хоть нагреватели; у нас, в зале Чайковского, – большой стол, восемь кроватей, грейтесь как хотите. Ну, не первый раз… Быстренько организовали ужин. В Полярном после 6 вечера закрываются все пищевые точки, но у нас с собой было. Питание на этот рейс Москва дает шикарное, двойное, и с выбором: и шашлык, и лангет, и куриное филе, и рыба, и копчености, и… и все это сгребли в сумки, добавили казенную бутылку водки и казенное пиво; девчата быстро соорудили стол. Предприимчивый Володя мгновенно сориентировался и всучил дежурной пакет груздей, которых в Полярном нет; там одни маслята. Взамен приехавшая ночная сменщица привезла нам литр водки. На девять человек хватило: согрелись очень хорошо, наплясались вволю под мой магнитофончик, потом тихо и слаженно попели за столом. В маленькой гостинице кроме нас и экипажа вертолетчиков никого не было, мы абсолютно никому не мешали. Потом часть, кто помоложе, пошли к техникам играть в теннис, а кто постарше сидели, курили и балдели: где и взялись те Володины грибы… Здорово! Спали потом как убитые. Утром Володя сбегал в хилый северный лесок и быстренько набрал на жареху маслят: ядреные, сопливенькие и не червивые. Гнус не дал ему набрать больше, но мы и те быстренько гуртом почистили и нажарили на обед. Пока сел рейс и нам налаживали двигатель, экипаж собрал остатки мяса, колбасы, овощей, все это пережарили с грибами – и обед готов. На вылет пошли сытые, довольные, а в полете с удовольствием сожрали опять же двойное питание, сохранившееся в самолетном холодильнике: тушеный с овощами белужий бок, шпроты, икра лососевая… ну там масло, шоколад, пирожные… Да… уйдешь на пенсию, восплачешь… Гастрит мой куда и девался. 23.08. Слетали из Москвы на Мирный напрямую. Загрузка оказалась меньше прогнозируемой, я тут же чуть задержал рейс и дозаправил пару тонн, и недаром. Лишнее топливо в баках не лишнее, а лететь 4100 км над тайгой. Полет нормальный, разгадывал кроссворды всю дорогу. Кормили на убой. Был еще заяц, коллега, инструктор на Ту-154: они как раз начали эксплуатацию Ту-154 в Мирном. Ветер оказался встречный, и лишнее топливо ой как пригодилось. Заход по ОСП, рано утром, с курсом 64, прямо против солнца; еле увидели полосу от дальнего привода. Заходил Володя; мне, к счастью, стойка фонаря солнце чуть прикрыла, а он и вообще полосы не видел, заходил строго по приборам. Пришлось ему усиленно помогать. Ну, сели нормально, но заход сложный, хотя погода была миллион на миллион. Тут еще на входе в мирнинскую зону возмутился диспетчер контроля: вы почему это идете правее трассы 21 километр, а? Поч-чему? Почему-почему. Потому. Тысячу километров от Туруханска над безориентирной местностью, без каких-либо навигационных средств, кроме НВУ, которое не по чему скорректировать. АРК гуляют, утренний эффект, а на НВУ ошибка накопилась. Причем, Тура отпустила нас, дав азимут и дальность и констатируя, что идем на линии. А Мирный нас увидел за 300 км и заблажил. И, главное, подавай ему причину. Андрей было взвился, стал в эфире объясняться. Я запретил: не надо. Возьми поправку – и все, на земле разберемся. Если вызовет меня на вышку, я ему сам навтыкаю: ты тут сидишь для чего – подсиживать экипажи или помогать? Тебе выпендриться надо? А нам – долететь. На этих вот средствах, на палочках-веревочках, как на Ли-2. Ну, сели. Никто нам претензий не предъявил. Полетели назад. Обратно везли 20 человек. Володя посадил легкую машину как учили. От полетов я самоустранился полностью, т.е. понятия не имею, где летим; ну, так, приблизительно, в чьей зоне находимся. Взлет и посадка – да, святое дело, и то, все бразды у Володи. Садится он хорошо, строго на ось, но пока грешит повышенной скоростью на глиссаде и перелетами. Я же норовлю приучить его экономно расходовать полосу на посадке, и если простые условия, торец мы проходим на скорости 250, чтоб он убедился в том, что машина не падает. Ну а на эшелоне мне делать нечего. Он все успевает сделать, умело ведет бумаги, организует быт, делает свои дела, коммуникабелен, – короче, человек на своем месте. Андрей Емельянов прекрасный штурман, работает надежно, спокойно. Но, видать, внутри иногда переживает за перипетии. Этот довезет. Гена Богданов опытный бортинженер, но очень скромен, держится как-то в тени. Мы вместе летаем не часто, но как-то пригляделись. Работа очень спокойная. Может, кому-то уже и домой хочется, проводницам-то точно, но никто не ворчит, все понимают, что другого заработка не будет, а жить надо дружно. Лето я пролетал абсолютно безмятежно, такой синекуры я еще не видел, такого курортного оформления полетов тоже. Изредка так случалось и раньше; нынче это наши будни. Единственно, что мешало – жара; от нее уставал, я жару не выношу, – но не от полетов. Что такое эта сегодняшняя бессонная ночь – да это мелочи. Сейчас завалюсь и высплюсь до утра. Подумаешь – 10.45 налетали туда и обратно. Моя августовская песнь спокойна. Согласен так жить и дальше. Это и есть жизнь летчика; а дома… дома одна суета. Конечно, немного не хватает движения, физической нагрузки; сидим, сидим… И очень не хватает творчества. Зато сколько угодно созерцания и философии. Прекрасны эти летние светлые ночи над землей. Сидишь, молчишь и бога благодаришь. И знаешь, что тебя ждет по прилету. И идешь в свою гостиницу как домой. Там ты сам себе хозяин, там отдых, легкий хмель, спокойный разговор, песни и танцы, и никуда не надо бежать. Знаешь, что утром все будут готовы снова в полет, что перед рейсом все выспятся, а там, ну, немножко ж надо и поработать, – а потом сиди, читай, жди вкусную еду, броди по салонам, трави анекдоты с проводниками. Придет твой час, возьмешь штурвал, раз-раз-раз – и высшее наслаждение посадки… И снова в гостиницу. Ну, блаженство. И за это еще ж и платят. Да для обычного мужчины в России заработать 10 000 за месяц на земле нынче немыслимо. Ну, во всяком случае, надо так вкалывать – из шкуры лезть. А сколько истратишь нервов… Может, посторонний человек по зрелом размышлении скажет: а каково с отказывающим двигателем-то… и т. д. Спешу уведомить: мы на это учены. Нынче у меня и пульс-то не участился, и вообще, работал второй пилот. Событие тоже. Я почиваю на лаврах. Совесть моя чиста. Жизнь сделана. Дал бог к концу жизни блаженство удовлетворенности – значит, я заслужил; принимаю его с чувством справедливо заработанной награды. Удастся ли долетать до 60 лет? Если бы так шло, то пролетать еще пять лет вполне возможно. Но за это – заплачу. Полным отдалением от семьи, уходом в абсолютный эгоизм – и неизбежными потом, в старости, конфликтами. Ну да будет день – будет пища. Жизнь, которую я веду, это жизнь старого холостяка. Старого потому, что… потому что старый, да и все. Старость замечается во всем: и сморщенная кожа на шее (и не только), и боль в спине по утрам, и засыпание средь бела дня, и несварение желудка… Но все это не главное. Главное – то, что как бы мы на равных ни развлекались, а все равно прорывается в отношении людей ко мне скрытое: да – все отлично, да – все здорово у нас с Вами, но… но Вы – старый. А мы – молодые. И за спиной, знаю, тоже разговоры: да, конечно… дал бог здоровья, душевной молодости, телесной гибкости. Но… старый человек, что там говорить, старый. 55 лет. Что уж тогда говорить о работе. Седой волк. Что уж тогда говорить о семье. Дед. Ну ладно, никуда не денешься от физических лет, от паспорта, от очков. Но как себя вести, если душой никак эту старость не принимаешь? Куда девать внутреннюю энергию? Думается, надо жить себе, как живется, не ставя искусственных рамок, не комплексуя и контролируя себя лишь в очевидном, этическом. Надо садиться и писать книгу. Есть о чем писать. Есть желание, и появились условия. Стоит только начать – потом не оторвусь. Назову ее… Назову ее «Раздумья ездового пса».
© Copyright: Василий Ершов 2010
* * *
Летные дневники. Часть 9
2000. КОМАНДИРОВКИ. ВИСОКОСНЫЙ ГОД.
24.03.2000. Подошли сроки годовой медкомиссии. Сдал у Оксаны биохимию – никуда мой билирубин не делся: 35 вместо 20. И еще немножко выскочила трансаминаза.
Пока сижу дома, ежедневно капаюсь у Оксаны витаминами, да на ночь пью фенобарбитал.
Через два дня должны лететь с Батуровым в Шереметьево. Но рейс этот, владивостокский, могут отменить, и я молю бога об этом – тогда с понедельника можно будет рискнуть сдать кровь у своих.
У нас в лаборатории поставили компьютер, а он подарков не принимает. Так-то у меня кровь в норме, трансаминазу капельницами снизим, а вот билирубин… ну, надеемся.
Если же все-таки загонят в Шереметьево, то по возможности буду пить фенобарбитал и там, ну, после рейсов. Спиртного – боже упаси.
В безделье пишу свою книгу. Как за 16 лет я награфоманил 30 тетрадей, то, глядя на эту тощую тетрадку, в которую пытаюсь выжать что-либо толковое… грусть берет. Конечно, надо чтобы было словам тесно, а мыслям просторно, да где ж тех мыслей набраться.
Правда, листая иную толстую книгу, видишь одни диалоги… перевод бумаги. Если бы пушкинскую «Капитанскую дочку» расписать диалогами по нынешним грамматическим канонам, получился бы увесистый том.
Написал введение, большая часть которого уделена роли капитана. Глава о профессионализме; дальше главы по этапам полета: «Руление», «Взлет», «Набор высоты» и – «На эшелоне», которую еще не закончил. Материала много, воду можно лить и лить, но я пытаюсь выразить главное.
Главное в моей книге – быт полета, дух полета, как если бы читатель сидел у меня за спиной, – и рассуждения об ошибках, иллюстрируемые случаями из практики. Мемуарного – минимум, только примеры из моего опыта.
Книга пишется в стиле беседы, монолога старого ворчуна, без академизма, а главное – нормальным русским разговорным языком. Типа: «нам была поставлена задача: выполнить рейс в кратчайший срок… партком взял под неусыпный контроль…»
Тьфу. Как жили!
Сомневаюсь: приводить или нет примеры вроде той проклятой Алма-Аты с Карагандой. Ну, пару примеров-то надо. Но главное, как главное донести: тяжкий, ежедневный, однообразный, выматывающий, беспросветный труд, никому не видимый со стороны и облепленный сусальным золотом финтифлюшек. Это многочасовое бдение у штурвала, эти гудящие ноги, это рвущееся изнутри чувство протеста, потом – отчаяния, потом – безысходности, а в конце каторжного лета это беспросветное: ни-че-го НЕ ХО-ЧУ!!!
До каких степеней можно довести человека. Надо писать отдельную главу: «Эксплуатация».
Вот так и жили.
Сейчас-то благодать. Ну там, дома не живем – моряки вон тоже дома не живут, и дальнобойщики, и железнодорожники. Я понимаю романтику молодых стюардесс, но ведь они должны знать, на что идут. И, кстати, о них надо тоже писать отдельную главу. И еще хорошо обдумать, как написать.
А я пишу-то спонтанно. Все уже обдумано и выстрадано. Разгонишься – времени не замечаешь. И надо ловить момент. С моей увлекающейся натурой – потом ведь не нагнешь. Надо кончать враз, а потом уж дорабатывать.
Мне не к спеху, это – в стол; я даже не представляю, как издаются книги, но по слухам, это маета и затраты.
Итак, этапы полета – это вроде первой части. Для мальчишек. Основная же идейная нагрузка будет возложена на вторую часть: производственные отношения. Постараюсь вывернуть все нутро работы.
Книга немного запоздала. Уже видна другая жизнь. Кстати, можно построить все на сравнении. Но это требует тонкости: не скатиться бы до менторского тона, типа, мы вон как бились, мы выстрадали, а вы…
Еще не забыть главу о картошке. То, чего не поймет зарубежный пилот, но очень хорошо поймет наш совок, наш нар-рёд… население.
А третья часть – принятие решений. То, что отличает летчика от рабочего. То, что делает его отдельной личностью, индивидуумом, но не молекулой тормозной жидкости. Об уважении других через уважение себя. Об очищении Небом, о благородстве Мастерства, о сообществе Мастеров, о Народе Мастеров, отличников, Личностей.
Это очень сложно. Ну да глаза боятся – руки делают. Попробую. Без театральных изысков и экивоков.
Только бы не скатиться в занудное морализаторство, с одной стороны, и в экзальтацию – с другой. Только спокойная уверенность. Я это выносил в себе.
Не идет «Горизонтальный полет». Не о чем там рассусоливать. Но ведь именно в нем, в этом спокойном полете на эшелоне, я провел большую часть летной жизни.
Ну, господь миловал: в общем-то, случаев таких особых не было. Пишу об экипаже.
26.03. Вечером летим с Батуровым в Шереметьево. Экипаж ему собрали из стариков: Охотников и Шлег. Ну, для начала 25 часов налетаем, а там, пока я не пройду медкомиссию, полетает с Пиляевым, а то и посидит.
Только-только подогнали билирубин к норме. Ну, пару раз еще там между рейсами пропью фенобарбитал. А уж эти АСТ и АЛТ прыгают около нормы, периодически ее превышая. Мы у Оксаны в больнице постоянно берем кровь на анализ. Так-то все остальное в норме.
Господи, сколько мороки с этой годовой комиссией – а это ж только начало. Надоело все.
27.03. Блин, с этого фенобарбиталу дурак дураком. Среди дня тянет подремать; поспишь, а вечером снова засыпаешь как ребенок, без проблем. Но это ж не в рейсе.
До Шереметьева долетели спокойно. Я приглядываюсь к стажеру: Юра летать умеет. Но… он никогда не летал командиром. Поэтому главная задача: развитие командирских качеств. Ну и полировка нюансов.
Здесь сидят Шубников и Левченко. Собираемся в столовой, разговоры разговариваем.
Слухи о катастрофе Як-40. Кто говорит, обливали их горячей водой; кто говорит –сильно разбавленной «Арктикой» – мол, не нашлось тех долларов у Вологды на обработку. Стояли потом час. Снег шел сильный. Что неясного.
Ну, и еще слух. Что, мол, за штурвалом сидел Артем Боровик. Он человек бывалый, все норовил попробовать сам; не исключено, что уговорил капитана. В пользу этой версии вроде бы говорят неадекватные движения штурвала по тангажу.
Но это все слухи. Нам этого не расскажут.
Но, кстати, перекликается со слухами о катастрофе Л-410 в Кодинске. Там перелетали из Богучан в Кодинск, капитан посадил второго на левое кресло, а сам сел справа. И упали. Так их тела вроде и нашли… ну, быстренько перевалили останки на свои места…
А материалы патологоанатомической экспертизы отправили в Москву, там, говорят, заложили данные в компьютер, а он и выдал: по характеру повреждений получается, что пилоты поменялись местами.
Катастрофу эту, что называется, замяли, и до сих пор тишина…
Сколько тайн сокрыто под обломками авиакатастроф – а мы норовим все загнать в логическую схему.
Фактор чужого кресла – очень важный и редко берущийся во внимание кабинетными летчиками аргумент. Я вчера сел на правое кресло после почти годичного перерыва – чувствуется. И дело не в том, что мне неудобно в чужом кресле. Пересаживают человека для того, чтобы научить его работать в твоем кресле, а ты работаешь с его кресла. Вот оно вместе и сливается, два новых, непривычных стереотипа: ощущение чужого кресла накладывается на полное, на 180, изменение привычной технологии работы. И еще ж надо выполнять программу обучения. И еще ж надо и немножко туда лететь, везти пассажиров. А в результате непрофессионализма инструктора ошибки плюсуются, самолет летит не туда, не так… и падает.
Еще о синдроме Падукова. Недавно у нас в Красноярске упала на взлете абаканская «Элка». Мало того, что там воду в топливе нашли, так у них на разбеге и двигатель вел себя неадекватно. Но взлет не прекратили, давай на ходу сучить газами, потом еще раз взлетный, он опять забарахлил, что-то там разрегулировалось, – нет, таки взлетели, и он обрезал, да еще в самых неблагоприятных условиях бокового ветра.
Так же вот и Падуков взлетал в Иркутске с неотключившимся стартером.
То есть: знали, видели, понимали, что что-то не так, – но очень надо было лететь. Интерес какой-то был.
Не должно быть у капитана, поднимающего в воздух летательный аппарат, иного интереса, кроме одного: безопасности. Малейшее сомнение – не лети. Жив останешься.
Я всю свою жизнь пролетал правильно, истово, не допуская не только нарушений, но и болезненно реагируя на нежелательные отклонения.
Но не все такие. Далеко не все. Что людям надо, в беспечности своей, в разгильдяйстве, а то и в откровенном пренебрежении, в равнодушии к главному делу своей жизни…
Еще и еще раз осмелюсь утверждать. Летная работа жестока. Она требует полной самоотдачи. Это значит, что вокруг Ствола могут, конечно, существовать суррогатные проявления вроде бы обычной, человеческой жизни… но это все иллюзии. Платишь лучшим, плотским, кроме разве что обжорства. Да и то: обжоры тоже долго не летают.
Пьяницы вынуждены удерживаться.
Секса не будет. Так, суррогат, на бегу. И рано кончится.
Дружба ограничится застольем.
Дети отойдут. Уклада вообще не будет.
Любовь… оставим ее юношам, обдумывающим житье.
Замкнешься в себе.
Неизбежно в старости охлаждение – до раздражения супружеством. Часты среди летчиков повторные браки с неизбежной дырой алиментов.
Сожмутся навсегда губы.
И пенсия – не выход. Все так и останется, до могилы. Это как срок отмотать.
Невозможны совмещение и гармония плотской жизни и летной Службы. Служба и есть: вроде монашества. Это совершенно отличная от представлений обывателя жизнь, где нет места неконкретным рассуждениям вокруг да около, о нечтом эдаком; нет слова «хочу», а есть «нельзя», «надо», «должен».
Но все это с лихвой покрывается ощущением своей значимости. Я – Капитан, и нечего этого стесняться. Да, я угрюмый, со сжатыми губами, нелюдимый бука… я неинтересен обывателю. И пусть. Но дело свое, серьезное дело, я сделаю. И как я погляжу с высоты своего возраста и опыта, большая часть населения, электората нашего, в общем, троечники. Говорить-то не о чем. И именно поэтому страна пришла. Страна оказалась.
Ну не мастера мы. Так, подмастерья.
29.03. Закончил вчера главу «На эшелоне». Вроде писать было не о чем, а оказалось, самая длинная глава. Теперь вот думаю над «Снижением».
Тон меняется по ходу работы. Вначале он был сухим, как в научной работе. Потом я раскатился, так уже и диалоги, и философия, и маленькие картинки. И вот думаю: оставить все как есть или переделать две первые главы.
Не в лени дело – для меня писать нетрудно. Но кажется мне, надо писать по зову сердца – оно лучше знает, и уж точно – без фальши.
Тогда нужен был такой тон, а сейчас – другой. И впереди еще две части, там хватит сухого тона.
Раздумья… Мысли, образы переполняют голову – а я боялся. Столько нужно высказать.
А кое-что надо таки убрать: пустословие, болтовню. Тон книги должен быть высоким.
Бродя по коридорам Олимпийца, услышал через открытую дверь амфитеатра знакомую авиационную терминологию. Академик читал лекцию обществу расследователей авиационных происшествий; я как раз застал момент о вредных факторах, о летном долголетии, о качестве жизни. Заслушался, стоя под дверью; прям слеза катилась.
Для меня-то все это – родное и близкое. Ничего нового я не услышал, но спасибо академику Пономаренко за короткую, но глубокую оду летной профессии: он в конце воспарил в такие идеологически-эстетически-философские выси, что я, рядовой вожак ездовой упряжки, только ухмыльнулся, в лохматости своей. Спасибо, что есть хоть понимание. А уж до выработки каких-либо концепций мне и не дожить.
Мы уж качество своей жизни попытаемся сделать своими руками. Картошка-то родится… И пока летаю, уж постараюсь слушателям этой лекции работки не подкидывать.
О смене нашей, о курсантах, академик сказал так. Конкурс в училища – два человека на место. От поступления до прихода молодого пилота в производственное подразделение проходит, в среднем, семь лет. Без часа налета: нет топлива. Изредка какая-нибудь авиакомпания дает 80 тонн топлива под конкретного курсанта.
Так что по уровню знаний, да еще через семь лет, – это ж двоечники. Их надо учить заново.
Господи, надо убегать на пенсию и – подальше, подальше от этих самолетов, с такой вот сменой.
Вот эту смену сейчас у нас возят за миску баланды Шевченко с Остановым.
А я – о красноярской школе…
Старушки-бортпроводницы, которые все знают лучше командира, долбят меня: почему не летим ближайшим рейсом в ночь, почему его отдали другому экипажу, сколько можно сидеть…
Послать бы их всех к черту. Устал я от этих решений. Ну, отдал рейс Чанчикову, он просил. Да и не хочу я лететь в шесть вечера, чтобы вернуться в пять утра, а в следующую ночь снова лететь. Лучше днем слетаю. У меня висит годовая, я пью снотворное, чтобы привести кровь в норму, попутно ввожу в строй молодого командира; мне надо продержаться. А две ночи подряд напрочь вышибут организм из нормы, которую мы с дочерью с таким трудом на грани поддерживаем.
Этого никому не объяснишь, еще и в морду бросят: а ты чего хотел? Терпи. А кому легко?
Так вот – вы и потерпите. Скучно вам. Надо покориться судьбе и, как говаривал Сенека, с достоинством перенести то, чего не в силах предотвратить.
30.03. Ну, вроде успокоились. Чанчиков улетел; правда, за завтраком проводницы опять: вы не звонили – Чанчиков вернулся?
Да он еще летит. С рачьими глазами. Я позвоню вечером. И зачем это любопытство. Многознание умножает скорбь. Будет день – будет пища.
– А кто нас разбудит?
Да я, я разбужу. Ваше дело телячье, спите себе. Я оценю обстановку и приму решение – тогда и вас подниму.
В эту ночь хоть выспался.
31.03. В Норильск слетали по расписанию; погода звенела. Но на снижении ветер задул сильнее и видимость ухудшилась до 860: снежная мгла. Ну, диспетчеры сделали пару контрольных замеров, да спросили, между прочим, кто командир, не Чанчиков ли… Нет, Ершов. Так… тогда еще разик замерим…
Дали тысячу метров. Может, для Ершова персонально. Ну, спасибо. Зашли и без труда сели. Записали Батурову заход по минимуму.
И обратно: прекрасная посадка в Шереметьево – что расчет, что приземление. Будет толк.
Тяну до обеда, а там выпью снотворного – и до утра. Усталость.
Нет. Поспал после обеда пару часов и заставил себя встать. Теперь дотяну до вечера. Может, схожу в бассейн для большей нагрузки.
Нет. Поужинал, засасывает. Проглотил таблетку… проваливаюсь.
1.04. Незаметно пролетели эти дни в уютном Олимпийце. Уже сегодня домой. Начнутся медицинские страдания.
Но недаром здесь сидел. Закончил главу «Снижение». И кончается тетрадь.
Столько можно сказать. А я как та собака: все чувствую, все понимаю, распирает… а выразить внятно не могу… все гав да гав.
Нет, оно, конечно, чегой-то выражается. Но как-то мало. И боюсь скатиться в болтовню.
Вольно было тому Бальзаку купаться в словесах… но я далеко, ой далеко не Бальзак. Мне бы понятно выразить мысль, отойти и взглянуть со стороны, как на ту печку: не завалил ли угол, выдержал ли горизонталь…
Сходил в бассейн, нанырялся до усталости. Доволен, что запросто могу перенырнуть 25-метровый бассейн вдоль, и не раз. С удовольствием продышался, нагрузился; легкая усталость, но до вылета еще посплю, отдохну.
Хоть я и стар, но еще не до такой степени, чтобы двадцать раз не прыгнуть в воду с трамплина.
Ребята считают 50 рублей за бассейн дорогой роскошью. А выпить водки, а потом вечер сидеть в баре и пить пиво по 20 рэ бутылка – это нормальный отдых. Каждому свое.
3.04. Долетели домой, а там фронт, заряды, болтанка. Видимость каждые 20 минут менялась от 2300 до 700. К четвертому развороту как раз дали 800 – ниже минимума, но топлива хватало, и я решил сделать не спеша кружок на малой скорости, не убирая шасси и закрылки. Юра крутил руками, но болтанка подбрасывала самолет плюс-минус 50 метров; я порекомендовал включить автопилот.
Так и зашли в автомате: дали 1300; я в зарядах поманипулировал фарами, не дают ли экрана. Старики в один голос советовали садиться в рулежном режиме фар. Но к дальнему стало ясно, что крупный ливневой снег экрана не дает.
Стали просматриваться ОВИ, и я заранее попросил старт уменьшить яркость на две ступени.
К торцу таскало нас туда-сюда, но Юра железно держал вертикальную, успевая реагировать и на курс. До самой земли не утихала болтанка… малый газ… зацепились еле слышно… отошла? Нет, вроде не летим… но вроде и не катимся. Короче, на цыпочках замерла. Юра нервно крикнул: «Интерцепторы!» Я поправил: «Реверс, реверс включаю».
Ну, волк. Пожалуй, мне с ним делать будет нечего. Только руку набить.
Немного он сучил газами, но я и сам бы сучил из-за болтанки. Ну, сел левее метра три, это с боковичком под 45 – норма. Но – красиво, язви его!
Оказывается, он первый раз в жизни заходил в автомате, и понравилось. А то – все руками.
С такой подготовкой – и второй пилот… несправедлива жизнь.
Заскочил ко мне Валера Логутенков. Собирает подписи в задание на тренировку, с кем когда из капитанов летал. Забегали наши невесты на выданье, засуетились… Ну, дай-то бог. Наговорил он комплиментов; мечтает попасть ко мне на ввод. Да оно так и оборачивается: я ввожу Батурова, Пиляев – Черкасова, я – Логутенкова, Пиляев – своего протеже Колю Петруша. Хотя расклад может быть и другой: не сегодня-завтра вступят в строй молодые инструкторы Конопелько и Бурнусов.
Конопельку Валера хвалил: летает хорошо. Ну, лишь бы человек еще был хороший, тогда и инструктор получится.
Я их совсем не знаю – ни Бурнусова, ни Конопелько. А это ж наша смена.
Но вот опыт… Конопелько вообще до «Тушки» командиром не летал. А ведь весь опыт капитана, ну, 90 процентов, приобретается именно в должности командира воздушного судна; налет вторым пилотом – это не налет, а навоз. Не всем же так везет, как моим вторым пилотам, которым я даю все.
Видимо, и в этом опыте – на разных типах – кроются корни моего авторитета. Для тридцатилетних я – монстр, летавший еще на поршнях. Мало того, я, пожалуй, один и остался, кто захватил и Ан-2, и Ил-14, и Ил-18, и «Тушку». Пиляев – с Ан-2 попал сразу на Ил-18, Шешегов – с Ил-14 сразу на Ту-154; так же и Толстиков. Миша Иванов, кажется, с Ан-2 на Ил-18.
Да, я один такой, монстр замшелый. Для молодых, актюбинцев, выпускавшихся сразу на Як-40 (а это, кстати, и Останов, и начальник управления Осипов), я – старик. И надо принимать это как должное. Со мной, по идее, должны считаться.
А зачем мне это? Работаю себе – и работаю.
4.04. Апрель себе идет, а я сижу. Результат анализа: 25, при норме 20. Снова пью проклятый фенобарбитал. Два-три дня попить еще, говорит Оксана. Сижу, голодаю, сбрасываю вес. Хватит обжираться.
Примеряюсь к новой главе: «Заход». Тут уже немереное поле. Заход и посадка потребуют целой тетради. Надо как-то выстраивать композицию главы.
Или другой вариант: главу – галопом, а материал по теме, относящейся к заходу и посадке, давать фрагментами в других, последующих главах.
Но как можно: заход – и галопом. Это ж ЗАХОД!
5.04. Ну, начал, благословясь, комиссию. Побеседовал с доктором, она меня знает давно, уделила внимание, спасибо. Куча назначений, ну, все то же. Завтра, не загадывая, сдам кровь. Спешить мне некуда: придут результаты – приму решение. А пока буду обивать пороги, глядишь – снег растает и появится дорога на дачу. Да я больше чем уверен, что с этой комиссией дотяну до мая. Не так все просто.
Не пишется. Нет той безмятежности, что, к примеру, в Олимпийце. Там забота одна: есть погода в Норильске – нет погоды в Норильске. Встаешь в полшестого и с утра легко пишешь. Здесь же с утра уже заботы: то анализы, то занять очередь, то жрать приготовить, то за рулем… нет, для умственной работы нужна внутренняя свобода.
Бедный Пушкин. Как он тяготился бытом, как рвался в ту деревню… Если бы не быт – сколько бы он еще сотворил. А так – все на коленке. А вырвется – Болдинская осень…
Я далеко не Пушкин, настолько далеко, что… да как у нас говорят – там и конь не валялся. А все равно: на коленке не могу. Встало дело. На самой интересной, самой моей любимой теме. Не могу скороговоркой.
Перечитываю старое – как я писал! Вот тогда и надо было начинать. А сейчас я окостенел.
Если бы мои дневники не были засорены процентов на 80 личным, мелким, ничтожным, пустым, – можно было бы их просто, без правки, опубликовать. А там еще эта… политика…
7.04. Сдал анализы, сегодня узнаю, а там видно будет. Пока особо не тревожусь: я знаю, что кровь у меня в норме, а это главное.
Начал подробно работать над дневниками, выписывая в тетрадку краткую мысль каждого абзаца. Получается по страничке, но как ясно видно, где зерна, а где плевелы. С этим материалом гораздо легче работать.
Предстоит длительный труд по компоновке произведения: буквально по кирпичику, по слову.
…Так. Ну, на Благовещение – благая весть и мне: прошли мои анализы. Билирубин вообще 12, а ведь у меня всегда 36. Допустили меня к велосипеду, РЭГ и прочим процедурам. С понедельника, благословясь, начну. Сегодня с лету прошел психолога: способности выше нормы, вернее, выше среднего уровня, но в моем возрасте – явно выше нормы. И это радует, товарищи! Особенно супругу.
Конечно, можно потянуть время и закончить комиссию к 22-му, чтобы 15 дней оплатили по среднему. Но душа не лежит к этой статике: шлагбаум открыт – и вперед на всех парах! Тем более, Батуров сидит, Филаретыч сидит, а ему обещали давать летать со мной.
Да и чего гнить-то. Правда, опыт подсказывает, что еще наставят рогаток: дай бог и на всех парах дотянуть числу к 25-му. Не так это все просто.
13.04. Списанный на полгода по язве Виталик Полудин загорел, из деревни не вылезает, говорит нам: вот когда я почувствовал себя человеком… но… ребята, когда идете на Павловщину, левее не берите, а то свистите прямо над головой… шея болит голову задирать… сердце болит…
Это наркотик.
14.04. Пошел по кабинетам. Да что-то уж очень шустро: невропатолог, уролог, хирург, стояние и РЭГ – на одном дыхании. Да записался на понедельник на УЗИ общее и УЗИ сердца, да на четверг на велосипед. Хотя и простой ЭКГ еще не делал. А нынче ночью меня разбудили экстрасистолы. Но это переход от зимней спячки к весенней подвижности. Надо попить калий.
Рая обещала написать мне ФГС. Не хочется лишний раз лазить в желудок; я и так знаю, что гастрит и эзофагит. Но пока не беспокоит, а маалокс для профилактики пропью.
Отношение медиков самое благоприятное: на РЭГ меня чуть не силой затащили, а стояние и вообще написали. Подолгу беседуем в кабинетах за жизнь: докторши же все жены летчиков… Нет, пропасть мне просто так не дадут, будут тащить.
Надо идти за справкой к аллергологу.
Надо ехать в тубдиспансер на консультацию к фтизиатру, это теперь всем бронхитчикам.
Надо искать, где пройти спирограмму, у нас нет.
Сдать кал, сделать ЭКГ, открутить велосипед.
Да, еще ж стоматолог, ну, это две минуты.
Ну и если еще не зацепят на УЗИ.
И если еще не загонят трубу в задницу. А впрочем, пусть загоняют хоть куда. Главное – анализы в норме!
А пока впереди два выходных, а за бортом +18, так что на стройке есть где разгуляться.
17.04. ЭКГ и УЗИ проскочил. К фтизиатру надо ехать со спирограммой и свежей флюорографией; значит, договариваться у Игоря. Рая все никак не поймает Колю насчет ФГС, ну, обещает. Сегодня еще эхо сердца.
На даче навкалывался, и почему-то распух локоть, болит. Не хватало еще, чтобы хирург зацепила. Игорь мажет мне мазью Вишневского на ночь, бинтует; рука не сгибается, мешает спать. День вынужденного физического отдыха.
В эскадрилье аккуратно интересуются моей комиссией, моим отпуском: им край надо ввести Батурова к июню. Что ж, надо так надо; давайте налет.
Отцы-командиры подумали, посовещались и отдали Черкасова Пиляеву, Логутенкова – Бурнусову, а вот молодому Конопельке посадили старого ворчуна Колю Петруша. Ну, это проблемы не мои. Я только сочувствую молодым инструкторам: как им непривычно в этой роли, на правом кресле, как поначалу путаются стереотипы… Одна надежда, что стажеры у них – волки. Тут уж повезло. Вызрели…
…УЗИ сердца без замечаний.
Девочка-стоматолог на мои слова, что не более 40 секунд у нее отниму, усадила в кресло, придирчиво осмотрела зубы и заявила радостно: а вот, мол, дырочка! Ма-аленькая, но есть! Надо лечить.
Срезала. Но мы это уже проходили года два назад. Такая же девочка, так же говорила, что, мол, пятнышко, ма-аленькое… И где оно? Тот зуб здоров до сих пор.
Дома я долго с зеркальцем разглядывал свои здоровые зубы. Перелистал толстенную мою медицинскую книжищу, отыскал свежую запись: написала норму. Выматерился, и все. Пришел бы я к ней с номерком, выстояв очередь, а она бы заявила: извините, ошиблась…
Мало мне забот.
Теперь надо этапные эпикризы, и остались еще ЛОР и кардиолог. К ЛОРу надо идти со справкой от аллерголога; к кардиологу завтра на прием, с талончиком; талончики с 8 утра, прием с 11, народу много. Ну, между 8 и 11 попытаюсь сбегать в краевую больницу к аллергологу, предварительно сдав у своих кало и сделав флюорографию. А на флюорографии медицинскую книжку забирают до завтра, больше ни к кому не проскочишь.
Но это все мелкая суета, разрешимая. Главное – анализы прошли!
А вот спирограмма может и не пойти: что-то у меня нет-нет, да и обструкция, давит… пока откашляешься…
И все же дело к концу: серьезного-то осталось – один велоэргометр, и, в общем, нет причины для тревоги; откручу.
А уж потом – годовой эпикриз отрядного врача. А потом – по кабинетам ВЛЭК; это день.
Главное этой весной – не простыть и не дать забраться внутрь, в бронхи, инфекции, как в прошлом году. Тогда, может, аллергия обойдется легко. Ну, на этот период пыльцы у меня есть фронт работ в подвале. Хотя… в мае-июне я того подвала и не увижу. Попрошусь в командировку в Норильск от пыльцы.
18.04. Рая принесла ФГС… филькина грамота, но показал ее своим эскулапам на ВЛЭК: патологии нет? Пройдет!
С утра сдал наконец дерьмо на анализ и поехал к Игорю. Там по блату мне сделали спирограмму на шикарном импортном аппарате; ну, дышал изо всех сил, для себя; замерили все параметры: выдал норму, справка на английском – уж куда авторитетнее.
Теперь к кардиологу. Уже сидя в очереди, опомнился: без велоэргометра она мне эпикриз не напишет. Побежал на велосипед: есть окно, в 13.00. Поехал домой, нажарил котлет, отдохну полчаса – и в бой. Если проскочу, то попытаюсь тут же к кардиологу. Ну и в краевую надо, к аллергологу. Потом с утра забрать флюорографию, а с 11 к ЛОРу на эпикриз. А уж послезавтра – в тубик к фтизиатру.
Никак не успеваю до субботы.
…Открутил как молодой. Тут же бросился к кардиологу: ушла на эхо… Я в краевую: с лету – морду лопатой, ворвался, в погонах, без очереди, к аллергологу и за минуту получил справку. Помчался к ЛОРу; написала эпикриз.
Завтра с утра: кардиолог, флюорография, попытаюсь смотаться в тубдиспансер и по старой флюшке получить вожделенную справку от фтизиатра. Если получится – тут же к отрядному врачу на годовой эпикриз, а послезавтра на ВЛЭК. А там лишь бы эксперты не зацепили.
Навертелся… пью заслуженное пиво.
Собственно, всё. Эти справки – мелочи. Прошел годовую честно (кроме ФГС; но я той кишки в свое время наглотался впрок, до самой могилы – и зачем?); обошлось малой кровью. Правда, велосипед дался тяжело, крутил – и уже давило нетерпение: да когда же оно кончится? Но все адекватно возрасту. Просто не втянулся еще в нагрузки. Немного вспотел.
Нет, ну опомнятся же… трубу-то в зад… Володе вон каждый год суют. Ну, это еще день.
Однако день таки получился продуктивным. А еще ехать забрать Надю с работы. Вот когда машина явно нужна и выручает. Туда-сюда, туда-сюда.
19.04. Приняли мою флюшку в тубике, дали справку. Все эпикризы собрал, годовой тоже. Завтра не спеша по экспертам. А сегодня – в баню.
Позвонил Филаретыч. Похоронил отца, как раз в воскресенье, нас на выходных дома не было. Дед Филарет умер от рака легкого, тихо, во сне, не мучился, как мой отец. На похороны пришло с десяток стариков, кто летал в свое время с Филаретом Степановичем на поршневых… и все. Старики никому нынче не нужны. Да и когда они кому нужны. Их и осталось то – единицы, долгожителей. Мы мрем рано.
Витя сник, устал, хочет на пенсию. Чувствую, летом, в грозах, хвачу я с ним тревоги. Но… это мой штурман, мой летный брат, другого мне не надо. Пускай поворчит.
А экипаж наш так и записан: Ершов, Батуров, Гришанин, Шлег. Все старые ворчуны – и молодой стажер. Все правильно.
20.04. Ну, кажись, все. Квиток получил; завтра в управление на зачеты: продлю пилотское. С Галиной Степановной на прощание расцеловались.
Одна проблема встает: у меня стало расти давление. А значит, надо ограничить соль и все остальное, что с солью едят. Дело плавно идет к гипертонии. Надо шевелиться.
В общем-то, и не было причины для волнений. Я уложился в срок, даже с запасом, за 11 дней. Все дело в анализах. Бывало и по два месяца из-за них волокитили.
Говорят, в Америке пилот проходит годовую за полчаса. Врут наверно.
Информация по катастрофе Як-40 в Шереметьево. Стоял он двое суток, гамырой не обрабатывался, полетел так. Закрылки, судя по анализу винтовых пар, были выпущены всего на 10 градусов. На девятой секунде после отрыва возник крен, отклонением элеронов парировать его не удалось, ногой не пытались. Сваливание. Температура была минус 4. После падения возник пожар. Видать, весь лед от огня и растаял.
Тут же приведены случаи падения Як-40 в подобных условиях, и первый из них – наш Нелипа в 72-м году: вывод на закритические углы после отрыва в снегопаде, сваливание.
Все понятно. Только у Нелипы самолет был новенький – и все равно посыпался, а здесь – старенький, шероховатый, да во льду, ему сам бог велел. Запаса-то по сваливанию не было.
21.04. Готов к полетам. Пока недельку свободен, а числа 27-го залетаем пассажирами в Норильск под питерский рейс.
После медкомиссии – как после болезни: упадок сил, все тело как избитое, спина болит… Это реакция. Но весна в разгаре, еще немножко – и втянусь… в полеты.
Люди обычно после комиссии втягиваются, пия водку всласть.
Читал-читал свои записи о тяжком 94-м годе, там через раз: «хлопнул рюмку, снял стресс…» И захотелось вдруг выпить. Взял и налил, благо месяц стоит початая бутылка. И выпил рюмку коньячку, под копченую колбаску.
Всяких тревог хватало за эту длинную перестройку, и все они большею частью не оправдались. Будем же надеяться на лучшее и не тревожиться о будущем. И особенно боже упаси: не поддаваться усталости, апатии, депрессии.
Жизнь, пока нам бог ее дает, – хороша. Физическая усталость – только показатель того, что живешь, двигаешься, действуешь.
Разве я мог мечтать, что долетаю аж до двухтысячного года? Да это подарок судьбы.
Разве я мог предположить в 50 лет, что еще смогу построить себе дом? А смог же. Конечно, на 50 процентов стройка обязана Наде. Тянули ярмо дружно и в ногу. Но все равно: мечта всей жизни сбылась.
Больше я уже ни о чем мечтать не могу и не хочу. Хватит забот до конца жизни.
Надя же еще мечтает разменять с детьми квартиры. Это ее заветная, остатняя мечта.
24.04. Понедельник, день отдыха. Не отдохнув от возни с машиной, поехал вчера на дом: проверить, есть ли дорога, и завезти прицепом доски.
Был холодный день, пробрасывало снежок, и я занялся тамбуром. Но натаскавшись с утра тяжеленных листвяжных досок, устал, затопил буржуйку и одетый прилег на уголок холодной кровати. И два часа как одну минуту проспал. Потом не спеша обшивал тамбур; сделал и, совершенно без сил, поехал домой.
Ночь спал как убитый, а утром еле размялся. Ну, руки, само собой. Но меня весь последний год донимает поясница: все позволяет делать, а болит. И в воду прыгаю, и тяжести таскаю, и гнусь в любую сторону… а болит. Видать, это наш семейный крест; мама лечится лопатой, ну и мне придется. Только не сидеть сиднем.
Старость проявляется. Уже вечером из гаража не иду, а ползу. Утречком-то еще бодро бегу, а вечером… Ну никаких сил.
Понадобилось вчера снять с чердака лист ДВП: снять-то снял, сбросил, а он сбил мне стремянку и накрыл собой стоящую под нею табуретку. И не спрыгнешь: можно запросто ногу сломать, скользнув по ДВП.
Пришлось положить поперек люка два бруска и, с кряхтеньем подвесившись на них, носком ноги дотянуться до батареи, а оттуда уж спрыгнуть на уголок табуретки. Со всем этим я в свои 56 лет справился, но, нагуляв 84 кг весу, задал больным кистям задачку.
А ведь двумя годами раньше, помнится, случайно сронил вниз обледеневший верхний венец сруба, шестиметровый брус. Так в азарте спрыгнул вниз, взвалил его на плечо… один конец забросил, взлетел наверх, закрепил веревкой, снова вниз, снова вверх – и через пять минут пятипудовый брус лежал на месте!
Того подъема, того духовного и телесного возрождения – уже не будет. Бабье лето мое прошло.
Надо согнать вес. Жру много. Чувство тяжелой жопы ужасно. Неужели же я, умеющий подавлять в себе растительные чувства, – и не справлюсь?
Кисти уже не вернешь. Силы в старости не прибавится; надо брать малым весом и оставшейся еще гибкостью.
Как только покатишься по пути брюха – умрешь.
27.05. Начал писать главу «Заход». Пишу бездумно, что в голову придет, потом буду править. Пишется тяжело. Надо дать понятие о терминологии и не лезть в дебри. Ну, примеры ошибок, катастрофы на схеме. Занудство.
Можно подбить итоги моей работы с Юрой. Летает он ровно, уверенно, задачи решает грамотно. Не давал повода усомниться. Готов.
После ПСП, когда поймет, что он сам уже взрослый дядя и старший на борту, все встанет на свои места. Сейчас же я его немножко подавляю авторитетом.
Отдаю себе отчет в том, что мой авторитет – весомый фактор и что надо использовать его в самых сложных, жизненно важных ситуациях. В обычных же – стараюсь быть в тени.
Последние полеты я практически статист. Но разборы провожу и все вдалбливаю идеи красноярской школы.
Тайно надеюсь: а может, Батуров продолжит Школу? Правда, ему явно не хватает капитанского опыта, но по прошествии пары лет, когда вызреет и возмужает мастерство, плюс хорошие человеческие качества… а вдруг? Вдруг – да загорится внутри огонь, заболит душа за наше Дело…
Тем временем я сам врос в стереотип правого кресла. Незаметно ушли скованность и неловкость – как век там сидел; и эта же пересадка далеко не первый раз… Но все же как ощутимо сказывается смена кресла – надо всегда об этом помнить и учитывать, что для молодого это потрясение.
Все время ловлю себя на том, что хочу, хочу, хочу вмешаться в процесс пилотирования и все время сдерживаюсь. Иной раз на рулении ноги непроизвольно нажимают на тормозные гашетки – и тут же спохватываюсь: не перехватить бы тормоза у стажера. Спасает то, что это «эмка», а на ней очень тугие и с большим свободным ходом тормоза – челночный клапан так просто не перебросишь.
И в полете сам себя бью по рукам: чуть-чуть, а таки иной раз навешиваю тяжелые руки на штурвал – зачем? Не напортить бы человеку.
Все это вместе взятое есть нервное напряжение человека, ощущающего, что его дело делает другой, чужой, не так… не так же!
Но в этом и заключается работа инструктора, хоть где: преодолевая себя, дать сформироваться почерку стажера, не растоптать ростки. И при этом еще правильно и безопасно делать дело.
Это требует опять же работы над собой: держись за семенники и терпи. Анализируй. И всегда будь на взводе, как курок.
Стажер у меня грамотный, это не ординар. К нему применимы критерии иного, высшего порядка; идут нюансы нюансов, полировка. Мы оба понимаем задачу и оба в меру сил и способностей стараемся ее решить.
Ему нет нужды показывать: делай вот так и так. Тут все понято давно, работается целенаправленно, решаются тонкие задачи. Последние полеты я вообще только наблюдаю. Но планка поставлена высоко… и все хочется, хочется вмешаться.
На пять он давно летает. А может летать лучше. И надо настроить его работать и работать над собой и не останавливаться в требовательности к себе. Именно этим определяется класс и капитана, и пилота, и человека.
Душа болит: все ли я ему дал? Предупредил ли обо всем? А вдруг случится то? А вдруг – это? Учтет ли? Упредит ли?
Да брось ты копаться. Дело сделано. Готовься принять в экипаж очередного молодого второго пилота-желторотика и кормить его тысячу раз пережеванной кашкой очевидных истин. Совсем другой стереотип. Другой интерес: что за человек? Что за пилот? И за месяц дать навыки. Чтоб потом, через годы, он вспоминал Школу.
28.05. Прилетел домой. Пусто, тихо, кот пал в ноги… Надя на даче; в холодильнике кусок колбасы. В туалете капает из бачка, надо наладить. Да постираться. Размораживаю холодильник – намерзла шуба. Нет картошки, а ключи от гаража в машине у Нади. Мелкие заботы.
Скорее бы в длинный рейс.
Что я делал нынче в длинном рейсе? Лежал. Один. Сам себе. Музыку слушал, изредка телевизор. Читал. Писал. Ходил в столовую. В бассейн. Из общения: ну, в бассейне плавал с бригадиршей проводников, а так экипаж видел только в столовой. Вот и все общение. Да, еще в самолете официальное: «Товарищ командир».
Это теперь моя жизнь.
Мальчик-проводник задавал вопросы. Он учился было на пилота в Актюбинске, вместе с Димкой Гришаниным, чуть полетал на Яке, но – без блата… сократили; спасибо, взяли хоть проводником. И вот мы беседуем: о летной работе, о самолете, об инструкторских проблемах. Парню хочется летать. Ему интересно, он любознателен и наивен. Он не знает еще, что летная жизнь – это не жизнь. Он думает, что можно и летать, и жить как люди. Я так не думаю.
29.05. Когда аллергия есть, то она таки есть. А тут – нету. Может, помог этот зиртек, хотя я его за две недели выпил 4 штуки, и то для порядку. Короче, живу нормальной человеческой жизнью, то есть не задыхаюсь.
Завтра разбор эскадрильи, а я ж хотел посадить картошку.
Ну, послезавтра с утра, даст бог, посажу картошку, а в ночь лететь простым рейсом в Норильск с молодым вторым пилотом. Значит, эпопея с Батуровым завершена.
И Филаретыч со мной. И Шлег почему-то; будут привычно воевать друг с другом из-за курения в полете. Ну и повиснем над молодым пилотом. Смена…
1.06. После картошки я таки повертелся на профилакторской койке, но кое-как, на пару часов, все-таки уснул, так что стук в дверь «мальчики, на вылет» ворвался прямо в сон.
Слетали хорошо, погода разгулялась, хотя по прогнозу в Норильске ожидалась обычная для начала лета низкая облачность. Дул сильный ветер, прямо по алыкельской полосе, низкое солнце стояло над горизонтом ну точно по оси ВПП и било ну прямо в глаза. Как раз условия, чтобы разговеться после трехмесячного перерыва, да еще и с другого, левого сиденья. Ну, сел, ориентируясь по отсчету высоты Филаретычем и ни хрена вообще не видя на приборной доске. Прилично.
Дал взлететь Сергею; почти не помогал, и он справился. Ну, на руках набрал эшелон. А автопилот не включается: выпала кнопка быстрого отключения автопилота на моем штурвале. Я ее перед взлетом нажал, как положено, и отпустил, а она вывалилась, а контакт остался замкнутым. Ну, это как раз тот момент, когда пилоту в работе надо применить интеграл. Из скрепки соорудил именно такой формы крючочек, зацепил им контакт через отверстие и сумел разблокировать автопилот таким вот математически- механическим способом. Ну не крутить же два часа на руках.
Дома дал ему снижение и заход на автопилоте, а после ВПР он отключил САУ и руками пытался сажать. Мешал легкий попутник на глиссаде, да скорость на 10 больше, да съехал с оси, да предвыравнивание, да взмывание, да… короче, я не вмешивался до момента, когда надо последний раз подхватить. Сели с перелетом 1200 м, правее 10 м и на последних углах атаки… но мягко. Разобрались.
Пока никаких выводов. Экскурсионный полет.
16.06. За два дня сложил новую печь. Много уборки – все-таки печное дело грязное. Но теперь печь стоит, и в доме чисто.
Работал в охотку, не спеша, с лежачими перекурами, в тишине, в прохладном доме.
А за бортом +30 в тени, тополиный пух перемешивается с пухом одуванчиков, массовый вылет бабочки-капустницы совпал с вылетом молодых воронят – как раз старые вороны дают провозку молодым. Комары лютуют по вечерам; утром мошка; днем донимает паут. Ну, лето как лето. Картошка взошла, ее забивает осот; ну, через четыре дня вернусь – попробую окучить мотоблоком. А пока впереди Норильск и море. Имею право отдохнуть.
18.06. Как обычно, в нашем профилактории не уснешь; ну хоть полежал на койке, норовящей сбросить балансирующее тело с панцирной сетки. В час ночи пошли на вылет, и начался трудовой день. Через час после взлета уже было светло.
В Норильске дал Сергею посадку на пупок, отключив САУ где-то со 100 метров, чтобы дожать машину чуть ниже глиссады к торцу. Загорелось табло «Предел глиссады»… а, как всегда… придется отписываться. Но мне нужно показать человеку оптимальный подход к ВПП.
Прошли торец на 10 метрах, я добавил режим до 85, Сергей стал выравнивать, и тут как раз подкатил пупок. Ветер давали встречный, порывы до 10, и я чуть позже убрал режим до малого газа. А дальше взял штурвал и с объяснениями стал перегибать траекторию вдоль пупка; машина тут же мягко коснулась. По-моему, он понял.
И дома жара, и в Норильске жара: как раз в этот день там было лето. Так интересно было наблюдать нерастаявшие снежные поля на склонах холмов, и тут же зеленеющие карликовые ивы и лиственницы, и белые рубашки с короткими рукавами, и солнце на ярко-синем небе; дышать горячим, упругим воздухом и всем нутром ощущать холод ледяных ручьев и речек, мимо которых проносилась наша Газель.
В Кайеркане прохлада гостиницы, еще не успевшей прогреться после отключения тепла, ватные одеяла, тишина, бледный свет из-под черных штор… упал в своей комнатке и провалился в благодатный, желанный, мертвый сон. Проснулся – пора на вылет.
Кайерканцы в растерянности: ходят кто в пальто и шляпах, кто в шортах и футболках; за бортом +25, и теплый ветер, и море солнца. И где только чуть присутствует почва, лезут из нее тонкие травинки; но там один камень кругом, да еще угольная крошка.
Пока нам сажали пассажиров, внезапно, стеной, налетел грозовой фронт. Шли в АДП подписывать задание, купаясь в теплом ветре, по накаленному перрону; обратно бежали, подгоняемые ледяным ветром, и жалели, что не в куртках. Стена туч накрыла небо, отгородила горизонт; вскочили в самолет – ударил заряд ливня, с молниями и громом; шквал трепал крылья. Пассажиров сажали под моросящим хвостом дождя; все были в теплых куртках – северян не обманешь теплом. К моменту запуска все протащило на восток, и настала осень.
И так мы до самой Перми и болтались на задворках этого фронта, а на заходе снова в него вошли и садились в дожде. Сергей сел мягко, строго на знаки, но реверс без команды выключил почему-то на скорости 150; машина прыгнула, а там перегиб полосы под уклон, а полоска-то 2500. Пришлось зажать тормоза полностью; я норовил срулить по 3-й РД – какое там, проскочил 50 м, пришлось разворачиваться вокруг пятки на узкой полосе. Надо проследить, почему он раньше реверс-то выключает; потом побеседуем.
Полет этот без Филаретыча: мне доверено дать провозку по этой трассе и на горный аэродром Адлер молодому штурману Руслану Лукашину. А что его провозить – он сам взрослый дядя. Ну, формальность. Однако снижение в сочинской зоне было сложным из-за большого количества сошедшихся в кучу бортов; нас отвернули на Агой, и пришлось решать задачи по расчету вертикальных скоростей снижения. В суете не успели прочитать карту перед снижением, но на 3300 я улучил момент, и прочитали как положено. Сзади строго следил старый Шлег, напоминал. На своем месте человек.
Садился я, на длинную полосу, с предельным попутником. Как всегда, на 150 м сдвиг, пришлось добавлять до 85, потом энергично сдергивать до 82, 80, 78, 76, – как я ни дожимал, а глиссада все догоняла нас под хвост. Но все-таки удалось уйти чуть под глиссаду и подвесить машину на скорости 250, почти на малом газе. Мгновенная оценка ситуации: скорость стабильна, торец, чуть еще подождать, малый газ – и хлопнулись точно на знаки; она же не летит на таком режиме, хоть и «бешка».
Сзади висел Ил-86, и диспетчер еще на глиссаде предупредил нас, чтобы поскорее освобождали полосу. Срулили, развернулись, порулили по магистральной; Ил-86 ракообразно висел над торцом, нос вниз, боковик стаскивал его, но капитан справился, уменьшил вертикальную, а тут уже знаки; не стал добирать и хлопнулся на четыре точки поодиночке, с легким даже отскоком… как и я, впрочем. Но у меня-то перегрузка 1,2.
Зарулил я лихо, одним махом, под 135 вправо, и тихо остановился, шкурой чувствуя, как за мной внимательно наблюдает выстроившийся у колонки сменный экипаж. Вышел, стрельнул вдоль оси: идеально. Ну, знай наших.
Пошли с Русланом в АДП. Ил-86 подрулил туда же; вышел экипаж, гляжу – капитан в возрасте, смуглый, невысокий, лицо знакомое, улыбается… Куба! Боря Борисов! Однокашник! С радостью обнялись, поговорили минут десять – ему тут же улетать. Ну, жив-здоров, все в порядке. Вспомнили своих – оказывается, у них же, в Шереметьеве, летает командиром Ил-86 Коля Челомбиев. И в Сыктывкаре – Коля Недогибченко, инструктором на Ту-134. Вот – все, кто еще остался из нашего выпуска 1967 года. Нас четверо! Живем, ребята!
Весь день пасмурно, с дождичком. Провалялся на кровати. Соорудил себе стол из подручных средств и стал писать главу о глиссаде, назвав ее «Анализ». Тут уместен пример ивановской катастрофы Ту-134, но никак не решусь: нет под рукой записей за тот год, а там я много раз упоминал о ней, с подробностями. Типичный пример подавления неопытного экипажа волей самоуверенного капитана, совершенно безграмотно действовавшего.
Нет-таки дописал главу, нормально пошла.
Дождь льет. Вечер. Хорошо в одиночке.
20.06. Смех. Впервые за всю свою жизнь я нынче обходил грозу по локатору сам. Штурман ел курицу, все руки в масле, ну, попросил меня. Ну, я попробовал. У локатора почему-то не подсвечивались масштабные кольца, потребовалось определенное терпение. Ну, обошел.
Не царево дело. Да еще опустился до использования GPS по боковому удалению – щурясь, в очках, да против солнца… Нет уж, ребята, занимайтесь этим делом сами, это ваш хлеб, да и глаза у вас поострее. А я… мне лень. Я доживаю свой летный век и немножко барствую. Как в раю. Мое дело – секунды, которые решают судьбу полета, и где без моего опыта не обойтись.
Сергей снижался на режиме максимальной дальности; считали вместе, вышли на ТВГ по пределам и только успевали выпускать по рубежам шасси и механизацию; газ добавил до 82 на высоте 400.
Вот тут мне работы вполне хватало: сразу объяснял человеку нюансы, ибо парень грамоте знает.
21.06. Пока я прохлаждался в Сочи, пришли сразу три беды. У Юльки гнойный отит, проткнули ухо, лечат уколами. Надя срочно легла на операцию. И тут у Оксаны открылось кровотечение, тоже срочно увезли. Игорь один с больной дочкой, я подстраховываю; на работе отпросился на неделю, спасибо, в эскадрилье вошли в положение.
Съездил сегодня на картошку. Встал в 4 утра и как дурак пораньше поехал, чтоб же не по жаре окучивать. А с утра там мошка: несмотря на мазь, залезла под одежду, сожрала напрочь, весь чешусь.
Сперва тяпкой прополол в рядках. Потом, разными вариантами, немного окучил мотоблоком. Потом снова тяпкой – исправлял огрехи.
Ну, механизм меня помотал: комья суглинка ссохлись и дергали в разные стороны. Не то умылся – выкупался в поту. И сейчас, перед сном, тахикардия. Но с картошкой все пока, и гора с плеч.
23.06. Пока Наде решают с операцией, она сбежала на денек из больницы; съездили к Оксане. Бледная, еле ходит… Обещают дней десять ее продержать.
Мне не до аллергии: на фоне наших домашних болезней это баловство. Это не диагноз, как не диагнозы и бронхит, гастрит, остеохондроз, церебральный склероз и атеросклероз аорты. Я нормальный, сохранивший к 56 годам здоровье человек. Несмотря на 33 года полетов. Практически здоров, говорят неавиационные доктора.
Но никто не гарантирует, что за эти десятилетия организм внутренне уже не ослабел так, что готов к раку. Надо шевелиться, несмотря на усталость, – и мой дом в деревне служит именно этой цели.
Полетать бы еще лет пять. Это максимум, что может дать мне судьба, великое счастье. Видать не брошу я сам.
А так летать, как сейчас… зашел в контору, попросил выходные – да пожалуйста, да на здоровье… и отпуск в июле…
Что говорить – старик я, а значит, уже автоматически, меня уважают и не будут задалбливать каторжной работой. Только надо потерпеть, пока лето кончится. Больше +25 меня уже бесит; отсиживаюсь в тени.
27.06. Сегодня Наде делают операцию. Я, чтобы не зацикливаться, съездил на дачу, подвязал помидоры, полил все.
Ждем приезда сватьи, а то зашились с хворой Юлькой без женщин. То есть, справляемся – я с утра, а Игорь после работы, – но связаны; а мне скоро в длинный рейс.
Рейс такой: Сочи-Иркутск-Благовещенск-Иркутск-Екатеринбург-Иркутск-Сочи-Красноярск. Почти 40 часов за 5 дней… вернее, ночей… Да провались оно.
Гоню от себя мысли о Наде. Отвлечься. Работать, работать.
29.06. Улетел из дому, оставив там кучу тревог и проблем. Оксана как раз накануне снова закровила, пришлось еще раз зашивать под наркозом; мы-то думали, что через пару дней на выписку, а оборачивается так, что еще месяц лежать.
А Надя, наоборот, на второй день уже попросила мяса с жареной картошкой, побольше газет и кольцо с любимым камнем… Совсем другое настроение. Профессор так прямо спросил: «Что – выиграла свой миллион?»
Выиграла. И слава богу. А Игоря ночью подняли по телефону: Оксане срочно понадобилось кровеостанавливающее лекарство, ну, смотался на такси, отвез; я в это время уже ехал на работу.
Оксана очень плоха, лежит пластом, ее надо хорошо кормить. Раиса, спасибо, помогает, говорит, мы справимся, не переживай, лети себе, ни о чем не думай…
Жена летчика, Рая знает, как это важно, не переживать в полете.
Ага, не переживай. Может, и кровь понадобится, а у меня ж как раз первая группа.
Сватья хорошо выручила: печет, варит, жарит, с Юлькой гуляет, спят вместе.
Все дружно помогают в самый трудный час. Надя рвется домой, с еще незажившими швами…
А я в Сочи окунулся в грязноватое после шторма море… нет, на фиг надо.
На снижении подвели близковато, понадобилось определенное мастерство, чтобы сбросить высоту и скорость, догнать глиссаду и стабилизировать параметры к высоте 450.
Снова попутный ветер; я с 50 метров жался под глиссаду, сдергивая режим, а перед выравниванием добавил, торец прошли на 10 метров. Над бетоном «эмка» висела на скорости 250, но теплая полоса не шибко-то держала, и я поставил малый газ прямо перед знаками, на которые неуклюже и хлопнулся с перегрузкой 1,3.
Стоянку дали 10-ю, но я ее прозевал и зарулил на 9-ю; на полуразвороте остановился, убедившись, что встречающий техник стоит не на моей дуге разметки. Тот сообразил, метнулся на мою стоянку. Я доложил рулению, что зевнул, он разрешил на 9-ю, я извинился, зарулил раком… все не так… Плюнул, выключился… дрожь в коленках. Да что ты, брат, это же ерунда! Но до АДП не мог успокоиться.
30.06. Кончился июнь. Работа – не бей лежачего, от нее не устал. Устал от нервотрепки дома. Но от судьбы не уйдешь. Хотя вроде и нет повода для особых волнений. Надя лежит у Игоря в отделении, профессор курирует, Рая приглядывает и за Надей, и за Оксаной. Верная подруга, в беде не бросит.
Оксану жалко: она одна в чужой больнице, отравленная частыми наркозами, растерянная, в досаде и почти в отчаянии от беспомощности врачей, которым никак не удается помочь коллеге.
Но при всем этом – боже упаси поддаться тревогам и чтобы это еще отразилось на полетах. Надо жить, как жил. Зажать в себе переживания и служить Безопасности полетов.
Читаю снова «Магеллана», с удовольствием.
Для того, чтобы человек чего-то добился, нужен характер. И если я кой-чего достиг в своей профессии, то какой же характер должен был быть у Магеллана, совершившего исторический подвиг. Я против него – щенок, сопляк; мои задачи, мои нюансы – блошиного масштаба. Но, правда, у него была мечта, идея, страсть, мания.
А у меня одна усталость, угасающий костер и явная деградация. Стал замечать в себе снисходительность к своим ошибкам. А это – конец.
Между делом пишу главу «Высота принятия решения». Тут мне есть что сказать.
3.07. Слетали из Сочей в Иркутск и вернулись обратно. 704-я барахлила с запуском 2-го двигателя; пришлось задержать рейс на два часа, пока определили причину.
На ней и ранее наблюдалось в жару. Инженерная мысль проанализировала и разобралась: жиклер стоит зимний вместо летнего. Была заткнута пальцем дырка, и с первой попытки запуск пошел. Ну а в Свердловске попрохладнее, чем в Сочи, и там запуск прошел без проблем.
Сергей мягчайше посадил в Свердловске, а я себе взял полет до Иркутска, причем, в полете бессовестно спал. Это я так провозил молодого штурмана по трассе. Как знал, что предстоит сложный заход.
Давали нижний край 90 метров. Заходил в автомате, по глиссаде 3.20, ну, все режимы подобрал. Облачность глухая. С тех 90 метров ничего я не увидел, распустил взгляд; потом краем глаза усек разрывчики; решение: садимся, ребята, – все стоит железно, крест в центре, вертикальная пять, куда она денется.
Метров с 60 заметил огни: чуть-чуть левее оси идем… и тут ударом в лицо открылась полоса. Ну, дело техники. Перед касанием энергично подхватил, коснулись, и я тут же чуть штурвалом от себя зафиксировал, чтоб не откозлила. И тут же снова чуть на себя – чтоб не ударилась ногой. Все строго в параметрах. Да, перед торцом еще предупредил: предвыравнивание!
Перелет составил метров 300-400. Ну, поставил заход по минимуму: 70 м. Спина абсолютно сухая.
Назад вез Сергей. Мягчайшая посадка в Свердловске. Ну а я сел в Сочи ночью, кстати, впервые в жизни. Заруливал осторожно: ничего не видно. Поставил машину снова в метре от оси стоянки. Ну никак в темноте не сориентируешься на этих дальних стоянках.
Но сама посадка была образцово-показательная.
Представитель наш получил из Красноярска указание: нам здесь сидеть до 6-го, рейсы сокращаются. Ну, три лишних дня в Сочи – кто же откажется. Можно маленько и позагорать.
Позвонил домой с тревогой у грудях. Ожидал всего, но что обеих уже выписали, что Надя даже уже съездила на дачу и ходит на работу… Ну, слава богу. Теперь отлегло.
Оксана, правда, слабенькая, но, главное, – дома; откормим. И Юлька вроде ничего.
Есть время писать свою книгу. Зарубки на память: бортинженер – хозяин самолета; штурман – хозяин полета; второй пилот – будущий капитан, чувство офицера; капитан – руководитель Дела.
12.07. Тут недавно отличился старый волк, капитан Ил-86. Выруливали со стоянки, увидели стоящий не там, не по разметке, трап. С левой стороны. Переговоры в кабине: «Видишь?» «Вижу, надо чуть объехать». А трап стоял так, что объезжать надо было правее аж восемь метров. Короче, впилились в него крылом, повалили. И порулили себе дальше. Пассажир в иллюминатор увидел, подсказал проводнице: мы же о трап крыло повредили, передайте экипажу!
Убытков где-то под 200 тысяч. Ну, для начала содрали с виновников по среднему заработку.
Что тут говорить. Видел? Видел. Зачем лез? А он и объяснить не может.
5.08. Надя говорит: кем бы ты был нынче, если бы не нашел себя в авиации?
И то. Был бы инженером, как все. Мечтал бы о повышении и о чуть большей зарплате. Подсиживал бы начальника и научился бы лебезить перед вышестоящими. Погряз бы в интригах и прозябал в духовной нищете. И тихо ненавидел бы свою работу.
Все-таки, ответил я, моя летная работа изначально благороднее. Да, это мое счастье. Хотя оплачено оно более дорогой и глубокой ценой, большими, чем у иных, жертвами, – но на этой работе выкристаллизовываются личности, сделавшие сами себя там, в недоступном для большинства небе.
И хотя я слыхал, что и среди летчиков полно интриг, но проработав в этой среде десятки лет, научился отстраиваться даже от признаков тех интриг, быть выше их. Выиграл я в том, что мое представление о летной работе осталось благородно-романтическим, как в молодости.
Я никогда не видел и почти не верил, что летчики дают взятки летному начальству… и не хочу я в это верить. Но взятки даются, я знаю.
Сам же я обошелся не то что без взяток, а и бутылку-то начальству поставил всего пару раз, в благодарность за добрые дела.
Я видел в детстве, как отец, учитель, приглашал иногда домой зав. районо, поил его и лебезил перед ним; мне было тяжело, стыдно… Но времена были такие: кошмар недавней войны, воспоминания о плене и нахождении на оккупированной территории – толкали, видимо, на это унижение. Еще в 60-м году, через 15 лет после войны, из райкома партии ездил гонец в то далекое западноукраинское село, собирал подписи помнивших молодого учителя односельчан… отец мне рассказывал, плакал… а он ведь трижды из плена бежал! Только тогда, когда секлетарь привез бумажку, от отца отстали с клеветой братья-интеллигенты…
Мне хватило этого примера на всю жизнь. И спасибо авиации, что в ней мне не довелось продвигаться через упоение начальства. И не пришлось воевать с ненавистниками, братьями по профессии. У меня их нет, ненавистников.
А Надя приходит с работы как выжатый лимон и переваривает перипетии очередного скандала с властной начальницей.
Так же и моя мама: всю жизнь воевала с директрисой.
За что? За достоинство?
Да для меня самым страшным, внутри себя, унижением, была бы борьба за то достоинство. Я до этого не опустился бы. Достоинство у меня и так есть, я его нажил не борьбой с людьми, а борьбой с собой. Я работал, летал над всем этим.
Самое главное в моей работе то, что ее не видят мои коллеги. Слухи о моем мастерстве идут от моих подчиненных – тех, кто на иной работе подсиживал бы и интриговал против меня, начальничка. Почему же они не интригуют?
Может, и правда, наша работа изначально благородна?
А может, потому, что я щедро отдаю. Хотя… что я дал тому же Филаретычу? Разве что пример человечности.
6.08. Питер. Вчера после обеда начал новый раздел «Производственные отношения», главу «Требования», где попытался сформулировать теорию пресловутого Ствола службы; но вижу, скатываюсь до жалоб. И пока в растерянности: глава получилась совершенно бессвязная, клочковатая, и не о том. Галопом по европам. Из одних моих жалоб на жизнь состоят тридцать тетрадей, а в книге получается две страницы. Стоило огород городить.
Жалобы жалобами, а нужно претворять в жизнь идею, вдалбливать главную мысль: мы – жрецы, изнуряем тело, отдаем здоровье, но Дело наше прекрасно, и мы его умеем делать, и верны ему до конца.
7.08. Одному мне не скучно. Мне становится скучно в толпе; я быстро от нее устаю. Бедные люди. А один я вполне счастлив. Я нахожу счастье в таких мелочах… А делиться этим с кем-то – бесполезно, как в черную дыру. Не поймут.
Встал сегодня в 6 утра, поздновато. Принял горячий душ, постирал мелочевку. Стали рваться сандалеты – с удовольствием взялся за починку. Клей, инструменты у меня в рейсе всегда с собой. Где проклеил, где прошил; один, потом и второй. И вещь обрела новую жизнь.
Дописал главу «Требования». Так как-то получилось, что название приобрело философский смысл: требования авиации ко мне – но и мои требования как авиатора к этой жизни. И глава причесалась. Доволен.
Прочитал интересную книгу – и улыбаюсь. Хорошо. Сейчас засяду за проект бани.
Завтра уже домой. Как летят дни.
8.08. В конечном счете, какие бы вихри перестройки ни проносились надо мной, я все равно востребован и летаю. Потом, в старости, окидывая взором свою жизнь, улыбнусь: и чего было переживать?
Поэтому лозунг дня таков: не переживай, а то не переживешь…
А я и не переживаю. Уже не о чем переживать: летная жизнь моя состоялась, а то, что еще держусь, – так это там, на небе, кто-то недоглядел. Подарок судьбы мне, эгоисту. Отправят на пенсию – вздохну облегченно и наконец-то уйду в свою деревню.
Многим это представляется так: похоронить себя заживо, в нужнике с дыркой. А я считаю, что теплый унитаз еще не определяет место человека на земле.
Для иных жизнь – шевеление червей в выгребной яме. А для меня инструменты творца – лопата и лом. Ну, перо.
Берешь кирпич. Макаешь его в ведро: шипят пузырьки. Разостлал раствор мастерком, кирпич придвинул вприсык, чуть стукнул молотком – на месте. Берешь второй, третий…
В этом – радость жизни. Но не в телевизоре. И не на митинге. Ибо после телевизора и митинга на земле и в душе остается один смрад.
Взял нынче на емельяновском рынке недорогой кусок мяса. Отделил кость, срезал сало, снял шкурку. Из мясной кости сварил бульон, со шкурками… вкусные, кто понимает, когда наработаешься до хорошего голода. Потом туда добавил своей молодой картошки – такая вышла крутая похлебка… Суп-рататуй.
Мясо сырое нарезал, посолил, пересыпал луком, поставил в холодильник до вечера. День поработал, а вечером сел у камина, под шорох дождичка приготовил в маленьком мангале шашлык, мясо с салом вперемешку; налил в старинную стеклянную кружку пива… один, в тишине и покое, у камелька…
Зеленый лук, пучок петрушки, молодая картошка, черный хлеб и… банка кабачковой икры, любимой с детства. Мне больше ничего и не надо.
И упал спать. Как в раю. Утром встал – дождик моросит. Значит, сегодня работаю внизу, в котельной.
Берешь кирпич, макаешь его в ведро…
Распогодится – буду работать во дворе, на огороде. Сам себе хозяин. Напеваю.
Вот это – жизнь. Устану, надоест, – сяду писать. А то – гулять по лесу, птичек слушать; хотя… лес от моих окон в трех метрах, а птички – вон они, на веранду залетают.
А то – в мастерской железо пилить, варить, клепать, хоть до полуночи.
Нет, ребяты, я тосковать не собираюсь. А станет скучно – сяду на машину и съезжу в концерт.
Дописал свою главу. Так раскочегарил, что и не остановить. Тридцать страниц. Ну, недаром сидел в Питере.
9.08. Питер проводил нас сырой прохладой; Владик встретил влажной духотой. И сидеть здесь еще почти двое суток. Такой расклад.
Но еще по пути был Новосибирск.
В Питере дал я взлететь Диме. Ну, направление на разбеге – без малейшего понятия; да и откуда, после Ан-2-то. Пришлось вмешаться. Отрыв, естественно, вялый. Ну а дальше, под диктовку, худо-бедно, дело пошло.
Дима признался: два первых полета с Пиляевым ничему не научили.
Так это ж первые полеты. Он к тебе присматривался. А научил – да хоть пристегиваться, да сиденье правильно регулировать. А со мной – уже третий полет; давай, давай, учись.
Тут сложились вместе несколько неблагоприятных факторов. Как назло, заложило ему правое ухо, а как раз на этой машине СПУ такое, что второй пилот плохо слышит штурмана. Да непривычный темп работы. Да отсутствие стереотипа. Да непривычная фразеология. Да низкая облачность в Толмачево; да уход перед нами на второй круг шереметьевского Ил-62, не успевшего вписаться в схему при изменении посадочного курса; да гвалт в эфире… Ну и достаточный перерыв в работе у меня, инструктора сраного.
Я и подвесил машину заранее на малой скорости. Я и связь вел. Я и экипаж подготовил к уходу на второй круг, чуя, что может закрыться.
Короче, мы шли с прямой, на высоте 400 метров, на скорости 395, готовые выпустить шасси, закрылки и войти в глиссаду… и заслушались гвалтом в эфире: круг едва успевал перестроиться соответственно обратному курсу посадки и расставить по местам в воздухе заходящие и улетающие борты.
Тут он и дал нам удаление 12 км и отпустил на связь с посадкой. А вход в глиссаду там за 8300, а шасси должны быть выпущены за 6 км до входа в глиссаду, т.е. на удалении 15. И тут же новый замер погоды: нижний край 70, видимость… вроде 900.
Быстро шасси… скорость не падает, режим убрать до 70; стала чуть уменьшаться, а уже подошла глиссада. Я одновременно с вводом в глиссаду выпустил закрылки на 28. Руслан барабанил карту, Дима оторопело молчал, а я успевал контролировать и отвечать и за себя, и за второго пилота, попутно в уме рассчитывая потребный режим для этой конфигурации и понимая, что на 45 выпускать нельзя, т.к. мы уже ниже 400 м, будет нарушение РЛЭ. Предупредил экипаж, что садимся с закрылками на 28… тут диспетчер посадки напомнил: «Дальний привод!»
Не успев дочитать карту, я быстро доложил диспетчеру готовность к посадке, получил последний ветер на 100 м и у земли, получил разрешение; уже 150 м, фары… не выпущены; ударил по тумблерам на малый, рулежный свет – экран, но терпимый… а, ладно, и так сяду… установил режим 80, бросил взгляд на скорость: 280; услышал «Оценка!», сказал «садимся, садимся, ребята» – и наконец увидел огни, где-то на 60 м.
Открылась черная полоса. Столбы тумана вспыхивали и гасли, проносясь в лучах фар… торец, 15, ни черта не видно… предвыравнивание, замер… и тут чуть проявились знаки. Над ними выровнял и в процессе стащил РУДы на малый газ. Всё. Покатился метрах в четырех слева от оси, реверс, торможение… вот рулежка; не спеша освободил полосу. Никаких эмоций от собственно посадки: руки сами сделали.
Но… куча нарушений.
Да. Сам, будь ты хоть семи пядей во лбу, все сделать не успеешь. А Дима так ничего и не понял, только в восторге: как здорово… как на тренажере…
Оправдываюсь. Но я же сам просил Диму к себе в экипаж. Он и старается, бегает, делает дело… но он пока совершенный новичок, без навыков, без стереотипов, без знания фразеологии, а главное – без ожидания, что за вот этим обязательно должно последовать вот это. Курсант, одним словом. Но вертится. После посадки был весь в мыле.
А я – нет.
Ладно. Взлетел в этих сложных условиях я сам, а уж во Владике давай садись ты. В автомате, под диктовку, под объяснения, – мне так легче, потому что я связь веду автоматически и успеваю ему показывать и объяснять.
Сел под мою диктовку, с правым креном, но вроде как сам. Ну, нянчиться с ним не буду, а буду давать и давать летать. Там и присмотрюсь всерьез. Он сам сын пилота, а кровь великое дело.
Будут придираться ко мне за расшифровки – а нарушения пойдут табуном – буду огрызаться. Все один не успеешь, хотя и стараешься, а если я вас как инструктор не устраиваю, попробуйте-ка сами.
В Питер нам машину пригнал Витя Толстиков, старый, 58-летний инструктор. Отдал авиации 38 лет. Поговаривает о грядущем сокращении летного состава.
Наверно же подойдут к старикам, предложат уйти по собственному, ну, выплатят какое-то пособие…
Конечно, если бы ко мне подошли и вручили пакет со ста тысячами, годовой зарплатой, – я бы ушел с радостью, купил бы детям квартиру и со спокойным сердцем осел бы в деревне.
Но обдурят же. А КЗОТ нас, стариков защищает и не позволяет нас сократить, и его не обойти иначе как обманом, выманив добровольное заявление.
Но нет причины для тоски. Рано или поздно, а подойдут и скажут: старый мерин, давай-ка в стойло. Я к этому готов. Готовы и Володя Шубников, и Миша Иванов, и Витя Толстиков.
Будем же летать до предопределенного свыше срока, благодаря судьбу, что на старости лет хоть дала нам спокойную, не каторжную работу. Мы уже перешли черту, за которой остались личные, шкурные интересы. Наши личные интересы – монашество во имя Авиации, молитвы по контрольной карте и песнопения плохо прилегающей форточки в полете.
А уж борозды не испортим.
10.08. Надо как-то приспосабливаться к неприспособленности Димы. Стараться все делать с рульковским запасом. Об острие и пределах пока придется забыть.
А может, подошел и мой предел? Мне 56 лет, моя реакция уже не та, и не разумнее ли было бы чуть притормозить темп, умерить амбиции… И похоронить себя как мастера.
Или пересмотреть свои взгляды на мастерство. Может, в моем возрасте лишний блеск уже можно заменить просто работой на конечный результат?
Но тщеславие мое требует: добейся, чтобы ученик позавидовал. Чтоб проникся благоговейным восторгом.
Да какой же еще нужен восторг: я вчера зашел и сел ночью, по минимуму, без фар, просто, как так и надо. Так и надо, конечно, а как же еще.
О том, что куча формальных ошибок, я на послеполетном разборе сказал. Но никто ничего почти не понял. Какие там еще ошибки, когда никому не пришлось дергаться, нервничать, бояться. Ну, Руслану с контрольной картой – да. А так – все было спокойно, и машина вышла точно на торец без всяких доворотов.
26.08. Краснодар. Отвели мне норку в гостинице, ну, гадюшничек, но есть письменный стол, и даже дали настольную лампу. Что еще надо. Есть горячая вода: душ льет прямо на унитаз; стоит допотопный ламповый телевизор с туманным изображением… бог с ним, задвинул его в угол. Всё.
После ужина взял я пива и пригласил к себе Нину Васильевну. Побеседовали до полуночи. Читал ей главы из книги – она потрясена: никто и никогда так об авиации еще не писал. И так говорят все, кого я познакомил со своим трудом.
Да уж, действительно. И это только потому, что я не ангажирован; здесь ни слова лжи, одна голимая нелицеприятная правда, причем, правда большинства. Любой летчик подтвердит.
Нина Васильевна Литюшкина первый свой полет на планере выполнила в 1960-м году; я – в 62-м. Она занесена в книгу рекордов Гиннеса как наиболее долго летающая пилотесса… и она – свой парень. Мне было важно знать ее отношение к моему писательскому труду. Отношение таково: надо искать спонсоров и издавать.
Так я ж еще и трети не написал.
Надо торопиться. Оборачивается так, что я получаю социальный заказ от своих собратьев.
Первый полет я отдал Нине. Конечно, приятно летать с опытным вторым пилотом – а опытнее ее у нас никого нет. Она мастер своего дела.
Поговаривают, что стареет, что может что-то упустить, зевнуть… Ну так ты, молодой капитан, контролируй – все равно это легче, чем летать с новичком, либо с разгильдяем, либо с бесталанным, либо с равнодушным.
Нина – истовая жрица. И для своих 58 лет она летает очень, очень прилично.
Садилась на пупок 231 в Самаре. Я настраивал, настраивал ее – и настроил. Все параметры в норме, но напряжение первого полета с Ершовым – я в этом спокойно отдаю себе отчет – видать, чуть сковало: приземление получилось грузным и чуть со сносом, ну, 1,2. Но расчет отличный.
Я взялся долететь до Краснодара. Тоже старался. Задачка мне попалась такая. Машина легкая, 64 тонны, центровка задняя, полоса горячая, +28, ветерок слабый.
Заходил с курсом 47, подобрал параметры, все стабильно; крутил в директоре. Ну, расчетная скорость пересечения торца 240, это ни в какие рамки здравого смысла не лезет; я решил держать 250. По глиссаде шел 260-255, от ВПР стал прижимать, прибрав до 80, скорость была стабильна: 255. Прошел торец на 10 метров, чуть выровнял, поставил 78 и за 100 метров до знаков скомандовал пла-авно малый газ. Тут же и упала, метров за 70 до знаков. Перегрузка 1,3.
А если ж бы я держал расчетную для этого веса скорость 240?
Нет, «эмка» на расчетной скорости для малого веса – не летит. Она висит на газу, и добиться мягкой посадки можно, разве что поставив вместо малого газа 75. А лучше держать 260, прижимать на две точки ниже глиссады и выдерживать, выдерживать… но попробуйте вы выдержать легкий самолет над горячей полосой.
Не сумел показать.
В Краснодаре не жарко: +28, тучки, нынче даже с утра, и ночью я озяб с открытым балконом.
Сижу себе один, обложился тетрадками, пишу главу «Стихия» – о погоде, о метеорологии, о решении задач, об ошибках, просто о небе.
28.08. Полетели назад. Обгадившись на посадке в Краснодаре, я собрался реабилитироваться на обратном пути в Самаре.
Но надо ж было еще вылететь из Краснодара. Надвигалась ночь, а с нею – грозовой фронт с запада. Грузили как всегда медленно, и выходило нам взлетать как раз в грозу. Надежда была лишь на то, что фронт смещается медленно и мы успеем до него.
Как водится, чуть задержали с грузом; пошел дождик, потом ливень; грохотало и сверкало уже рядом, и взлетный курс был один: 47 градусов, на северо-восток. С юго-запада стояла стена.
Но по закону подлости к моменту выруливания несколько бортов столпилось на предпосадочной прямой с курсом 227 – иначе как с востока им не зайти. Из-за одного красноярского борта не имело смысла менять посадочный курс, и нам дали курс взлета тоже 227, прямо на грозу.
Или не вылетай.
Мы прощупали локатором пространство: взлетать-то можно, но – сразу вокруг пятки влево, а там размытые засветки, радиус должен быть минимальным; ну, я-то извернусь.
Взлетел, заломил крен, ожидая, что вот-вот войдем в облака и затрясет. Нет, земля внизу просвечивала огнями. Прошли в наборе высоты рядом со строчкой полосы; по локатору на севере чисто. Курс на Ладожскую… и звезды впереди; мы прошли впритык, рядом с фронтом, и не тряхнуло ни разу.
Быстро пролетели полтора часа; пора снижаться в Самаре. От рубежа за 50 до Волчанки нам мешал пересекающий борт, пришлось потом рухнуть с максимальной вертикальной, с полностью выпущенными интерцепторами; только-только успели потерять высоту до 1200 на привод; заход по коробочке, классический ОСП+РСП, как учили. Тут было не до интеллигентских рефлексий, работал как всегда. Явил искусство: учитесь, пока я жив.
Штурман Юра Колесников, переученный после Ил-62, выполнял всего пятый свой полет на Ту-154 и еще не вполне вошел в стереотип, особенно с чтением контрольной карты. Да еще отказ ДИСС. Но с такой волчицей как Нина, да с таким матерущим волком-бортинженером как Василий Абрамович Ковалев, у которого хватало забот еще и со своим стажером, – мы вполне справились, причем, учебный процесс был налицо, по всем статьям – красноярская отточенная школа во всем блеске… красиво…
Из Самары везла Нина; ну, приятно все-таки видеть пожилую, но еще крепкую и привлекательную женщину, уверенно управляющую тяжелым лайнером… Я и до сих пор восхищаюсь, как это непросто, и как она делает это уверенно… уже сорок лет подряд.
И тут мы в наборе проскочили заданную высоту. Вместо 1500 я опомнился на 2100… ну, сдернул до 80, Нина остановилась… быстро кругу – конец, тот не глядя отпустил на подход; дали нам набор 6000… мы одни в эфире… отлегло. Но досадно: так было все красиво…
Ну почему у нас не установят простенький приборчик, подсказывающий заданную высоту? Сколько таких случаев было – любой, повторяю, любой летчик подтвердит. С нашими вертикальными скоростями – по 15-20 м/сек в наборе и под 30 на снижении – это ж не на Ил-18, в конце концов. А насколько бы было легче!
А – не зевай!
Дома лезли через фронтик, я по своему подмышечному локатору обходил засветки… дурацкая компоновка кабины, мать бы их, конструкторов… Юра через плечо и под локоть пытался подсказывать, да ему почти ничего не видно; ну, пролезли.
Посадить бы этого мудака-конструктора самого за штурвал и заставить вертеться в грозах. Эргономы, блин, кабинетные.
Нина зашла и посадила хорошо. Старалась. Нам всем, старикам, друг перед другом хочется сделать красиво, мы все понимаем суть школы.
Василь Абрамыч сзади пел стажеру: Коля, вот это – некрасиво; давай левой рукой… видишь? Вот так, вот, вот – красиво, понял?
Мы в Краснодаре, собравшись у меня в камере, долго беседовали о полетах, о школе, о красоте; Нина подталкивала: давай еще, еще почитай, давай еще… Так всю тетрадку и прочитал им. И последнюю… нет, крайнюю, недописанную главу – тоже.
Нине не укладывается: как можно – вот так, сразу, набело… и хорошо ведь… и ведь вот вчера еще не было, а сегодня – вот она, новая глава.
Ага. Вот так оно и пишется. На коленке.
Ночь от Самары, засасывало. Тихо светился восток. Взошел тоненький серпик месяца, на самом ущербе. И мы, старики, пролетавшие по несколько десятков лет каждый, залюбовались неторопливым и торжественным действом рождения нового дня. Красота была волшебная.
Господи, спасибо тебе хоть за эту радость бытия, за то великолепие, за единение с природой, за восторг, за романтику, на чем держится авиация. Такое удается видеть только нам, летчикам… и, ей-богу, ради этого стоит жить.
30.08. Внимания в полетах стало не хватать, да и летаю я как в раю. Надо снова работать над собой: уж 20 минут в наборе и на снижении могу же я посидеть в напряженном внимании и проследить за высотой. Замастерился, педагог.
1.09. На разборе разбирались с якутами. Батагайский Ту-154М набирал эшелон 11100 после 10100, на автопилоте, в режиме «Стаб.М». Одновременно все принимали пищу. И, как водится, прозевали эшелон, выскочили на 11450; диспетчер увидел, заблажил. Капитан, отъехавший с сиденьем назад, с подносом на коленях, дотянулся до газов, сдернул аж на малый газ и сунул штурвал от себя так, что вертикальная скорость из набора перешла в 11 м/сек снижения. Потом, видать, чтобы подъехать, инстинктивно взялся не за угол пульта, а за рог штурвала (мне это знакомо) и… подъехал; при этом самолет перешел в набор по 11 м/сек. Какие при этом были перегрузки, не упоминается.
На малом газе скорость в наборе у них быстро упала до 450, трижды срабатывала сигнализация критического угла атаки, началась тряска.
Ну, подъехавши на рабочее место, капитан уж кое-как справился, погасил синусоиду и таки занял 11100. Ну, скрыли, отписались, что, мол, отказ режима «Стаб.М», а телега, видать, от диспетчеров пришла; разобрались. Ведь чуть не Карши.
Естественно, приказ: провести разборы, с привлечением утовских преподавателей. Нас собрали, пригласили Червякова. Он рисовал графики, писал формулы… а в конце закончил: не надо никакой теории, а просто соблюдай РЛЭ.
Вот это – золотые слова.
Видать, пилот тот не очень опытный, если так сумел разболтать машину, да еще сдуру малый газ на практическом потолке поставил… вариант самоубийства. А дел там – двадцать секунд; но надо чувствовать машину. И зачем было отключать САУ и вразнобой сучить штурвалом и триммером… видать, второй пилот еще помогал. Там колесиком «Спуск-подъем» все очень просто делается. Одним пальцем.
Вот уровень нынешней квалификации пилотов. Школа.
Я тоже принимаю пищу вместе со всем экипажем. Но я отъезжаю на щелчок-два, а также на щелчок приподнимаю кресло. Штурвал и педали рядом, свободно дотянусь; тут же автопилот. Эшелон во время еды при необходимости меняю я сам и при этом строго слежу: ситуация неординарная… однако не такая уж сложная, чтобы снимать поднос с колен. Если что, я и с подносом на коленях свободно справлюсь. Отъезжать же от штурвала по кривым рельсам до упора назад и вбок – беспечность.
28.11. Так прекрасно начинался полет в Норильск. Хоть и с задержкой на час, но мы полетели, отдохнув в профилактории в Лобне, где я всласть потерзал старое звонкое пианино в кругу немногочисленных слушателей.
Норильск давал -40 с ветерком; ну, кто бывал, тот знает. Весь полет я не спеша, с наслаждением гурмана, обсасывал по отдельной главе только что купленный роман «Война и мир». Мой же старый, затрепанный, у меня заныкали еще лет десять назад. Соскучился по любимому автору, по его тяжеловесному мудрому слогу, по трепетному ощущению познания через слово смысла жизни.
Вышел в салон на пять минут – уже зовут обратно: командир, пора снижаться.
Полет этот выполнял я, потому что и в Шереметьеве пришлось взлетать в тумане, и в Норильске оборачивалось садиться в условиях морозной инверсии и сдвига ветра по ней, да еще с посадочной массой тонн эдак 82-83 из-за заначки.
С интерцепторами снизился заранее, в глиссаду вошел не поспешно, а по этапам, успев примерно подобрать режим. Но в мороз эти прикидки требуют хороших поправок, и на глиссаде потребный режим был едва ли не 78 процентов.
Давали снежную мглу, ветер 10 градусов 5 м/сек; с курсом 14 работала система, которую установили за время моего отпуска. Перед самым входом в глиссаду старт предупредил о возможном сдвиге ветра в районе дальнего. Мы были готовы. В бледных утренних сумерках едва просматривалась земля.
Я снижался в автомате. Ветер на кругу стаскивал нас вправо; глиссада все норовила уйти вниз, и я периодически уменьшал режим, доведя его до 75. До дальнего на «эмке» еще допускается уборка газа ниже 75; после пролета же привода, если из-за сдвига ветра потребуется либо убрать ниже 75, либо добавить более номинала, необходимо уйти на второй круг. Так требует РЛЭ Ту-154М.
Скорость стала падать где-то с 300 м – и настолько быстро, что я сразу поставил 80, а через пару секунд – уже 88, и хотелось скомандовать «номинал», да нельзя. Скорость сразу упала до 260, 255… секунда, другая… и тут нас поддуло. Скорость прыгнула до 280, 290 – я только успел сдернуть до 80, 78, 75, как стрелка выскочила за 300 и остановилась на 315 – это на 15 км/час больше разрешенной с закрылками 45. Самолет дрожал, опустив нос; автопилот держал глиссаду. Эх… интерцепторы бы… но низзя.
Я отключил САУ и чуть отпустил машину выше глиссады, чтобы дать возможность уменьшиться скорости. Медленно тянулись секунды. Машину стащило влево, и я, зацепившись за пятно ОВИ, энергично выворачивал на посадочный курс, краем глаза в отчаянии видя, как глиссадная планка ушла и зашкалилась внизу. Нас банально вышибло сдвигом ветра выше глиссады. Заход не получался – и это на полосу длиной 3500!
– Выше сто, – меланхолически констатировал диспетчер посадки.
А что делать. Скорость потихоньку упала до 300; над дальним приводом я вывел машину на курс и терпеливо жал и жал ее штурвалом, догоняя глиссаду. Мелькнула мысль об уходе на второй круг… зачем? Полоса длиной 3500 м еще далеко впереди; ну, перелечу метров 800, но сяду же.
Вертикальная дошла до 7. Рявкнула сирена ССОС, но я все дожимал и дожимал. И вот отшкалилась снизу глиссада и пошла к центру. Догнали. Скорость была 300, я чуть подтянул на себя, и на ВПР машина сидела строго на глиссаде, постепенно теряя скорость. Немножечко вроде как перелет… терпи, терпи…
– Десять метров!
Я хотел поставить режим меньше 75 – ведь уже торец прошли… но язык, вместо «семьдесят два», вдруг ляпнул:
– Семьдесят восемь!
И правильно. Вес-то за 80 тонн, режим почти малый газ, и тенденция к падению скорости. Машина замерла на пару секунд… малый газ, чуть добрал – и покатились. И перелет-то всего метров двести, это расчет не на пятерку, а даже на шесть.
Ну, бог там, или кто, заставил мой язык произнести не ту команду, что рвалась с языка, а ту что надо, – и ведь как точно; эта тяга компенсировала лишний вес и предотвратила просадку.
Зарулили, давай отписываться. Записали заход по ОСП, погоду, соответствующую минимуму ОСП, сдвиг ветра «до сильного», болтанку…
Короче, старый волк, будучи во всеоружии опыта, тщательно проанализировав условия и заранее с экипажем подготовившись, – не справился и допустил нарушение РЛЭ. Потом-то исправился, но факт налицо: превышение скорости.
Стихия не разбирается, мастер ты или троечник; она ставит самолет раком и лишний раз доказывает тебе: вот, покоритель сраный, что такое для стихии твой лайнер… пушинка. Бди!
Стыдно было перед Ниной. Ну, переморгал, предложил слетать ей; она отказалась: будут все полеты расшифровывать, слетай лучше сам, чтоб заведомо было чисто. Ладно, полетел я.
Все удалось. Посадка в автомате, в штиль, в дымке, в солнечный морозный день, – удалась бабаевская, изумительная. Я задохнулся от наслаждения. Ну… реабилитировался.
14.12. На днях тут заседало правительство наше по вопросу о развале гражданской авиации. Опомнились. Ну, их-то, в основном, интересует состояние парка самолетов. О летном составе ни слова. Они думают, что здесь все в порядке. Потом, когда хорошие, новые самолеты начнут падать, – спохватятся.
Никому в голову не придет мысль, что вот летчик-истребитель не летает же до 50 лет. Всем понятно – истребитель же. А гражданский летчик и до 60 тянет лямку. Он уже закостенел, стал негибок, невосприимчив, он только и держится в системе потому, что сама система негибка и закостенела в старых стереотипах.
Но когда бизнес вынужден будет организовать систему гражданской авиации в соответствии с требованиями новой жизни, он столкнется с низким качеством подготовки летного состава, восплачет и позовет немца – за хорошие доллары. А немцу в наших условиях не летать: обгадится.
Но Касьянов с умной миной рассуждает о лизинге и о том, что наше дерьмо – продукт МАПа – никто не берет. Для них это – самое важное. Может быть, они и правы.
Но для меня, старого пилота, важнее преемственность и мастерство, а «эмок» и на наш век, и на век наших преемников – хватит, по крайней мере, лет на 10-15.
И, главное, как начнут падать – станут гайки затягивать и разгонят и остальных. А что немец: ему порядок подавай, иначе он решения на вылет не примет. Для него надо будет норильскую полосу не на две трети, а на всю длину и ширину вылизывать, а где ж тех денег набраться.
Мы, старики, держимся сейчас только потому, что работы почти нет. «Туполенок» выполняет рейсы на Сочи и Минводы – по 16 человек возит. А у нас на большой «Тушке» один рентабельный рейс: Шереметьево-Норильск. Так что с такой работой и старики управятся; но добавь налету до саннормы – мы уйдем. Ну нет уже того здоровья, той выносливости, того желания летать… за копейки. Правда, держит еще уважение к себе, сознание того, что на нас держится школа… хотя кому она уже нынче нужна.
Среди стариков одно расхожее мнение: всё ж не на пенсии. Пусть коряво, пусть порют… переморгаем.
15.12. Не забыть главу о моей концепции высшего летного образования и о направленности его на выработку в капитане дворянского чувства равенства со всеми в мире. Мы только выходим на мировой рынок и робеем… язык… Короче, мы, пролетарии, воспитанные на большевистской идее нашего мессианства и ткнутые мордой в дерьмо, должны уяснить себе: Капитан во все времена был и будет Капитан.
Мне, с моим техникумовским образованием и совковым менталитетом хорька, все это едва брезжит, но я все-таки понимаю: интегралы ну никак не сделают совкового летчика Капитаном, способным и за границей решать летные проблемы экипажа. Страх «выпорют-не выпорют» можно изжить, только поднявшись на уровень выше голимых формул, – а это дело гуманитарное.
Еще глава: об инструкторской работе, о счастье повторения себя в учениках и о сознании того, что ты движешь прогресс.
Об удачах и неудачах, как я их понимаю.
О балансировании между интересами Дела и финансовыми проблемами компании. Это уже философия: что считать Делом.
Производственные отношения: затягивание гаек и унижение Личности. Что важнее.
О судьбах гражданской авиации в нашем государстве. Великий Плач.
И все это надо увязывать с реалиями всей нашей жизни, обобщать так, чтобы читатель понимал, сравнивал и подтверждал: да это же и у меня так, и у тебя, и у всех.
Никаких панегириков – ни властям предержащим, ни начальству, ни идеям. Об этом пето-перепето. Но и не обгаживать. Констатировать.
Ну как у меня язык повернется обгаживать тот самолет, на котором я зарабатывал свой кусок хлеба и который формировал меня как личность, как мастера. Нет совершенных машин; люди вынуждены приспосабливаться к инструменту. Тот самолет, на котором ты изворачиваешься и годами летаешь, не может быть плохим, как не повернется язык назвать плохой жену, мать твоих детей, только за то, что она тебе чем-то неудобна в быту. Живешь же. Есть какие-то высшие интересы.
Несколько раз женатому Трофимову этого не понять. Идеала не найдешь. Да и любовь, уважение и понимание всегда надо выстрадать. Я понял свой самолет через двадцатилетнюю каторгу. И теперь руки сами делают, как нынче в Новосибирске. А ведь сколько человек этот самолет убил – куда тому Ан-12, который так охаял Трофимов.
Он тут, слыша звон, умудрился дать интервью нашей «Красноярской газетенке», где снова шевелит пепел экипажа Фалькова. У него, видите ли, своя версия катастрофы… и ни о чем. Гонору… или гонорару захотелось, что ли.
И тут же репортер этого листка уже жует иркутскую катастрофу «Руслана»: мол, пилоты, «спасая город от лишних жертв», направили машину в землю под крутым углом, чтоб, значится, обломки не катились по кварталам.
Господи, да у тех несчастных летчиков и в мыслях этого не было. И мыслей не было. Самолет вышел на закритические углы атаки, а значит, был неуправляем. И они уже рефлекторно тянули до пупа штурвалы… а что делать?
Какой там героизм. Какое там решение, когда весь полет длился секунды, наполненные ужасом осознания ошибки.
А борзописцам – вольно же интерпретировать… в кабинете. Лишь бы поболтать. И все – из лучших побуждений: мол, вы все здесь считаете, что виноват экипаж Фалькова – так, мол, вам растолковала комиссия, – а мы вот защищаем светлую память.
Защитнички. Никто экипаж Фалькова и не обвиняет. Я хорошо помню тот разбор: муха бы не пролетела. Там все точки над i расставлены, и было это более десяти лет назад.
18.12. У нас в конторе распространили анкету с целью прозондировать общественное мнение, как мы понимаем цели, задачи и возможности нашей авиакомпании, нашу, мою в ней роль. Упор делается на то, что, мол, это моя родная единая команда. Мало того, все вопросы и строятся именно с такой вот точки зрения.
Вот я был совок. И мой враг был – государство. И я зарабатывал свой кусок хлеба в государственной структуре, и мне было мало, и я приворовывал у государства, как все.
А теперь, вдруг, ни с того ни с сего, мне, со стороны, на какой-то омерзительно- английский, не наш манер, констатируется, что я – уже член единой команды, плоть от плоти, и уже вопросы мне задаются: как я себя в ней чувствую, и как я, с точки зрения этого члена, этой плоти, оцениваю возможности и перспективы.
Да провалитесь вы все. В открытую идут разговоры, что Абрамович уже собрал чемоданы, а мне предлагается откровенно (и анонимно) оценить мою компанию. Причем, этот английский пошиб, этот язык, эта постановка вопросов, столь претят русскому, совковому нашему менталитету, что хочется плюнуть. Я и плюнул: по пятибалльной системе на все вопросы ответил одинаково. Единица. То есть: я, ездовой пес, ка-те-го-ри-чески против. Я не член этой команды. Она на мне едет.
Я понимаю, что это меня издалека прощупывают новые, московские, пока еще закулисные хозяева, чьи шустрые мальчики в галстуках пока еще заносят яйца на поворотах Абрамовичу, спрятав до поры когти в мягких лапках.
Никакой команды нет. Есть конгломерат советских обломков, волею судьбы оставшийся единым в нашей глухомани, пока еще на плаву. Но психология пассажиров «Титаника» не меняется. Тревога за наше будущее не уходит.
Стабильности нет. Передел собственности продолжается. Монополия на топливо остается. Нас душат ценами. И нас же опрашивают по анкетам аналитики: вам легко дышится? Вы – плоть от плоти?
Мы, может, и плоть, но – крайняя. И в любой момент нас могут просто обрезать.
Я спрятал голову в песок моей чисто специфической профессии: я себе там летаю, а вы себе здесь клюйте, клюйте меня в задницу – до мозгов-то далеко… Пока доклюете – как раз выйдут мои сроки.
Обещал тут Абрамович поднять зарплату. Где-то к маю. Значит, к октябрю. Ну, за полмесяца я нынче на руки получу 6600. Все ж не на пенсии.
19.12. Обсуждая с ребятами в автобусе эту анкету, мы пришли к выводу, что она изобретена не для того, чтобы помочь нашей компании встать на ноги, а для того, чтобы их компании выкачать из нашей компании немалые деньги, которые Абрамович расшвыривает направо и налево, сидя на своих чемоданах. В рекламе постоянно мелькает: где бы какая акция ни проводилась, учредителем или спонсором обязательно упоминается Крас Эйр… дела которой близки у банкротству. И как бы наша компания ни выпячивала грудь, какое бы паблисити себе ни делала, а просперити все равно нет.
И летчики всего мира брезгливо повторяют: только русские так дешево продают свой труд.
Но это уже из другой оперы: о достоинстве мастера.
Сидим в Кайеркане. Спокойно долетели, и я наконец-то решился и совершил посадку ночью в очках. Ну, немного трудно после ВПР: полоса просматривается размыто, как в поземке; посадка же ну точно как в тумане. Однако сел мягко, а пробег вообще без проблем. Зато как видно стрелки! Ну, еще пара заходов – и, может, привыкну.
20.12. Полетели на Питер. Справа Володя Карнаушенко, сын Владимира Григорьевича, у которого в свое время мне повезло летать вторым на Ил-18.
Ну, парень работает шустро, без напоминаний… даже слишком шустро: убрал шасси и быстренько, сам, без команды, через 20 секунд поставил кран нейтрально… а красная лампочка правой ноги и загорелась. Нога не убралась!
Я быстро сдернул режим, перевел в горизонт, доложил земле и стал строить коробочку. Высота была уже 900, а там высота круга 700; скорость никак не хотела падать до 400. В мозгу лихорадочно крутились варианты действий; выпустить и снова убрать; а может, тумблер «Разблокировка уборки?» Нет, дело не в концевике… да что она не падает, эта скорость… Малый газ стоит? Снизиться до 700…
Потом определилось решение: кран снова на уборку, дожать шасси и посмотреть, что из этого выйдет. На скорости 420 поставили кран на уборку… легкий толчок – лампочка погасла. Всё.
Ну, все ясно. Володя слишком рано снял давление, створки не встали на замок, а может, и сама нога. Ладно, пошли в набор.
На земле РП осмотрел за нами полосу и вдогонку передал, что полоса чистая, ошметков нет; значит, разрушения колеса не было. Да нам уже и так все стало ясно: пустили пузыря.
Ну, бляха-муха, как ни полет, так что-то приключается. Ладно, бортинженер порылся в своих шпаргалках и в РЛЭ и сказал, что пишется на МСРП только сигнал с концевиков выпущенного положения ног, это зеленые лампочки, а красные, промежуточного положения, вообще не пишутся.
Ну, тогда и отписываться не будем. А если что – отбрешемся морозом: в РЛЭ есть оговорка, что в мороз все механизмы могут отрабатывать дольше нормы, и т.п.
Слетали хорошо. Володя зашел в автомате и прилично сел. Я на пакетике заработал на выпивку. Обратно садился я, в очках на кончике носа, получилось прекрасно.
Тут же дернули по рюмке, прямо в Газели, а дома добавили и упали спать.
И вот вечер. Я выспался и пишу себе, посасывая пиво, а ребята потихоньку квасят водочку у себя. Завтра целый день отдыхаем, и никому мы не нужны.
Я вчера прогулялся по 30-градусному морозцу вокруг Кайеркана – спал потом перед вылетом как убитый; завтра повторю. Воздух здесь прекрасный, днем стоят сумерки, но все видно; ощущение как сразу после захода солнца, да так оно и есть, хотя солнца ползимы нет.
Самолет над головой оставил розовый след – там солнце светит, низко над горизонтом. Красиво. Курорт. Спина вроде чуть отпустила, позволяет спать спокойно, а уж ходить – сколько угодно. Ну, теперь спину буду беречь уже до смерти. Отпрыгался.
Дописываю главу «Обтекатели», стараюсь не очень брюзжать, но прорывается. Но главу додавил.
Заходит пьяненький Филаретыч. Беседуем за жизнь. Мы полгода вместе не летали; теперь вот снова в одном экипаже. Душа на месте.
Заплетающимся языком, косноязычным штилем, Витя клянется мне в любви.
Да что уж там. Я гляжу на своего верного штурмана: сивый, сморщенный, светлые глазки побелели… принял на грудь прилично… да много ли ему, при таком-то весе, и надо. Он говорит мне о своей обиде на жизнь, на летную судьбу сына, и Володи Карнаушенко, и всех пацанов, сыновей летчиков… Была б наша воля – мы бы их всех взяли к себе в экипаж и вырастили бы из них настоящих пилотов. Мы вспоминаем Колю Евдокимова, сокрушаемся, что иногда арапничает, что летает так же, как носится на своей «девятке»… такой характер. А таки получился Капитан! Он нам как сын; Витя мне как брат.
Не клянись мне в любви. Я сам тебя люблю, такого вот, как ты есть. Вот на нас и держится авиация.
22.12. Окончив очередную главу своего опуса, задумываюсь над темой «Каторга». Как передать весь дух этой бесконечной, тяжелой полетани, с ее физическими и моральными перегрузками, с ощущением беспомощности и неотвратимости, со все возрастающим чувством протеста, ненависти, бессилия и полной апатии к концу сезона. Из года в год, десятилетиями.
Тут задумаешься. Надо как-то убедить читателя, пассажира моего. Свой брат-летчик не удивится, дело привычное, а вот посторонний просто не поймет. Тут нужен художник: доходит-то через эмоции… а я только информирую.
28.12. Летаю в очках, как так и надо. В Шереметьеве сотворил великолепнейшую бабаевскую посадку, и даже не помню, глядел ли на полосу через очки или сверху них. Какие мелочи. Перелом произошел.
12.01.2001. Рейс сложился неудачно. По всей Сибири стоит антициклон, а Новокузнецк подпал под мелкий циклончик и закрылся очисткой полосы. Ну, поехали в Аэротель.
Утром давай принимать решение. Порт открылся, а погода на пределе. Мы с Витей долго изучали и прогнозы, и карты, и тенденции. Ну, решился я. Филаретыч ворчал, что, мол, летим… на запасной.
Но к прилету погода в Новокузнецке наладилась: прошел холодный фронт, после которого ветер повернул против всякой логики и задул по полосе (местная особенность), небо прояснилось, подморозило. Толя заходил, а я все приглядывался к особенностям, потому что садился здесь в первый раз.
Перед торцами там глубокие ложбины, и полоса коромыслом лежит на бугре. Пупок, чуть положе норильского, ну, примерно, как в Кемерове. Пришлось чуть подхватить при посадке. Сели до знаков, но так и было задумано, ибо вес большой, полоса скользкая, а пробег под горку. Ну так вроде неплохо получается у Толи.
В штурманской нам подсказали, что при сильном встречном ветре самолет на глиссаде подсасывает в яму, часты грубые посадки. Надо будет на разборе предупредить молодых.
Посадили пассажиров… не запускается ВСУ, зависает. Давай греть печкой отсек ВСУ. Кое-как, с седьмой попытки, с подсказками опытного техника, бортинженер таки запустил ее.
Ну, помчались на Благовещенск. Здесь звенит антициклон, видимость прекрасная. От Средне-Белой Витя взял курс к третьему, а я, первый раз в жизни увидев огни ночного города, куда всегда летал только днем, засомневался, что идем слишком близко, и предложил взять чуть левее, помня, что железнодорожный мост, ориентир наш, лежит где-то на левом краю города… Короче, город-то длинный, и я целился растянуть круг. Диспетчер вмешался, подвернул нас к 4-му; пришлось действовать быстро, теряя высоту и выпуская шасси и механизацию, да не выскочить бы за ограничительный пеленг вдоль госграницы… и второпях я забыл выпустить фары.
На посадке Толя дал команду включить фары, Витя включил… невыпущенные. Перед полосой Толя скомандовал «Большой свет», я взглянул, все понял, уже некогда выпускать; успокоил его, сказав «садись без фар, у тебя все в норме». Он и сел прекрасно, включил реверс и стал тормозить, а я тем временем выпустил фары, они выбросили вперед из-под брюха клубы ослепительного огня и осветили полосу далеко вперед.
И тут машина стала уклоняться влево. Толя дал ногу, удерживая включенным реверс; машину тащило к левой обочине. Я уже не мог ждать, скомандовал ему выключить реверс… как назло, левый выключился позже – еще сильнее потянуло влево… уже педаль дана полностью… Я громко сказал: «Взял тормоза!» И только тормозом с трудом удержал у самой обочины непослушную машину.
В чем дело? Проверил и перещелкнул тумблеры – нет, не управляется. Обжал тормоза – может, концевик на передней ноге; машина клюнула носом… нет, не подключается управление, и табло у бортинженера не горит. Полный отказ управления передней ногой.
Ну, зарулил на перрон как на Ил-14, на газах и тормозах. На перроне бортинженер вдруг вспомнил, что есть такой переключатель разблокировки концевика, нашел его и включил – все заработало.
Ясно: чуть задняя центровка и залипуха в концевике. После заруливания тумблер разблокировки выключили – все продолжает работать.
Давай запускать ВСУ – зависает. Ну, это уже проблемы того экипажа, вернее, его бортинженера Паши Рыгина. Паша сказал, что прошлый раз на этой машине с третьей попытки ВСУ еле запустил. Попробовал еще, ничего не получилось, надо снова греть.
Не машина, а тамагочи: сплошные ребусы. Ну, предупредил я молодого капитана Челяева, посоветовал, чтобы для гарантии он садился с включенным переключателем и строго выдерживал направление.
При заходе в Новокузнецке пришлось на глиссаде ставить режим менее 75. Ну уж тут без дураков: рисковать и выжидать некогда, скорость разгоняется – поставил и 72, и 70. И чего бояться. Потом уже, над ложбиной, Толя поставил 75. Зато вся полоса после касания – впереди.
Толя Моисеев – умный, грамотный летчик и человек. После Сасова он кончал Академию ГА, и учеба пошла ему впрок. И вот в беседе при упоминании катастрофы Шилака Толя выразил мысль, которая, видать, укоренилась в умах его поколения. Шилак, мол, на заходе строго выдерживал рекомендуемые скорости на глиссаде потому, что боялся, что расшифруют… и мы, мол, тоже боимся.
Да не боялся Шилак, не тот это человек. Но – для красоты захода он держал строго рекомендуемую скорость и изучал, что из этого будет, с тем автоматом тяги. Для чистоты эксперимента – да; но не из страха.
А уж в том, что молодое поколение воспитано в страхе перед расшифровкой и никогда не рискнет выбиться за грань тройки – сомнений нет.
13.01. Что-то полеты стали валиться у меня из рук. В каждом рейсе накладки: что-то упускаю, на что-то машу рукой… Той напряженной внутренней работы, которая поддерживала уровень и тонус, давно уже нет; запас инерции иссякает.
Надо продержаться на ее остатках. Все отчетливее осознаю: я отлетался. Костер гаснет. И Филаретыч говорит то же самое. И хотя само пилотирование мне нравится до сих пор, но… через автопилот. Крутить штурвал руками лень. Зачем.
От старости не уйдешь. Больше 35 лет летать нельзя, это уже почти преступление. Хотя это и почти подвиг: зная, что уже явно не тянешь, упираться и таки тянуть. И еще: держит желание научить молодых.
Ну, мне не до подвигов. На ближайшее время задача – пройти годовую и дотянуть последний, 35-й год полетани. К тому лету явно определится, желаю ли я дальше тянуть лямку, или меня уже пора пристрелить; полеты своим качеством это покажут.
И Надя уйдет на пенсию. Мы договаривались, что по крайней мере до этого срока мне надо дотянуть, а там уже обвал.
Я пишу это каждый год уже лет этак десять. А лямку тяну. Казалось бы, какая лямка: по 30 часов в месяц. Но… объективно, качество полетов все хуже и хуже; пример Скотникова перед глазами. Уходить надо таки вовремя.
Работа над книгой стопорится тем, что приходится лавировать между информацией для профессиональной аудитории и увлечением аудитории непрофессиональной. Смесь академизма и популяризации… сложно.
А назрела мысль написать, так сказать, академический конспект для молодых летчиков: помесь РЛЭ и теории полета – в практическом исполнении руками, все возможные варианты. И оставить это на память в летном комплексе. Вот это будет, действительно, память. Молодые, я уверен, будут отсылать друг друга к конспекту Ершова. И это не для славы, а для пользы.
Одно другому мешать не будет. Придет вдохновение – буду писать книгу. А нет вдохновения – опыт-то со мной – буду писать конспект, он у меня в мозгу готов. Пока тот мозг еще работает.
17.01. Надя, страшась подступающей пенсии, всеми силами убеждает меня летать, летать и летать. Надо отдать ей должное; своим летным долголетием я обязан ей – и не только тем, что оберегала мое здоровье и покой между рейсами, а еще в немалой степени и тем, что долбила и долбила: летай, летай, летай.
Редкая жена, отдавая себе отчет в опасности работы мужа, так настырно толкала бы и толкала продолжать и дальше. Ну, такой Надя человек. Прикрываясь любой идеологией: что, мол, опустишься без дела, или там еще чего благородного; – главное ее стремление очень прозрачно: стабильный доход, основной источник существования… как будем жить на пенсии?
И я, отдавая отчет в том, что, действительно, главное – мои заработки, что Надя стремится не отвратить меня от работы и умело гасит все мои сомнения и разочарования, – понимая все это, я все равно благодарен ей за то, что она поддерживает во мне капитанский дух.
Вот она доказывает, что да, ты хоть и стареешь – но стареют же все люди и все потихоньку опускают планку… а ты не можешь… а надо тянуть и тянуть, уже не из любви к работе, а из суровой необходимости… всем тяжело… плюнь на мелкие шероховатости… пусть хоть и шепчутся за спиной, а – такие деньги… ты не представляешь, как бьются за них на земле.
Я со всем этим согласен. Кроме шепота за спиной. Этого я не вынесу. До этого я не допущу. Себя надо уважать – я тридцать лет добивался, чтобы пьяный человек выложил мне: «ты у нас как в уголовном мире – авторитет…» Единичный прокол-два мне еще простят автоматически – с кем не бывает. Но чтоб зашептались… Никогда!
Уже в который раз я должен бога благодарить за то, что работа еще есть и что ее немного, по силам. Только здоровье беречь.
24.01. Пришел подробный приказ по посадке в прошлом году Ту-154 в Новосибирске с отказом трех двигателей. Причина залипания золотников – самопальное эпоксидное покрытие изнутри цистерны автозаправщика в Радужном. Керосин растворил смолу, она налипла на золотниках, и при установке малого газа двигатели начали останавливаться.
Обстоятельства захода показывают капитана в лучшем виде. Ну, то, что пришлось на кругу сдергивать режим до малого газа – бог с ним, с кем не бывает.
Но у них еще был отказ КУРС-МП на 4-м развороте: увело влево так, что определились лишь за 5500 до торца: боковое 450, высота 270.
Капитан решил уходить на второй круг на двух двигателях, когда увидел, что идет под 25 градусов к посадочному курсу. И тут у них отказал второй двигатель.
Ситуация, приближающаяся к катастрофической: непосадочное положение, и уже не уйти на второй круг.
Вот тут надо отдать должное мастерству капитана. Увидев, что тут без дураков, смерть в глаза, он по команде штурмана «курс на ближний!» энергично выполнил S-образный доворот в сторону полосы, попал в створ, добавил до взлетного оставшемуся двигателю и с закрылками на 28 дотянул до полосы с запасом высоты. Торец прошел на 100 м, перед приземлением поставил малый газ… и третий двигатель на высоте 9 метров сдох. Приземление с перелетом 1200 метров, но впереди еще 2500 сухой полосы; тормозил аварийно… уж потянул рычаги – снес все 12 колес, но остался на полосе. Орёл. Ну, в рубашках родились ребята.
25.01. Пишу облегченный вариант для молодых, как летать на этом самолете. Написал «Руление» и «Взлет». Идет гладко. Только все оглядываюсь, не упустил ли чего важного. Да писать дома как-то неудобно: отвлекает быт.
26.01. Со скрипом написал главки «Набор» и «Полет по маршруту» Что я нового могу сказать братьям-летчикам? Одно дело – рассказывать о летной работе обывателю, и совсем другое – нюансы профессионала. На что обратить внимание, на что нацелить молодых?
Ну, тонкости работы с автопилотом. Нюансы набора, варианты оптимальных способов набора вручную. Установка режимов. Балансировка. Экономия топлива. Писать-то не о чем. Главное будет – на снижении.
Маюсь. Мало написал. Хожу, думаю, весь мокрый.
Погладил белье. Ем, ем, жую, пью кофе, думаю. Убиваю время, но не могу приступить к снижению. Теперь лезут мысли, приемлемые для обращения к обывателю. Может, сесть и написать главу большой книги?
29.01. Слетали в Комсомольск. Рейс удался. Филаретыча не было, он только вернулся с Полудиным из Питера; летал вместо него Руслан, а вторым пилотом – Карнаушенко.
Я отдал Володе оба полета, и он вполне справился, и я его похвалил. Долг платежом красен: в свое время его отец давал мне летать на Ил-18 вволю; нынче я отдаю долги сыну.
31.01. Потихоньку пишу свой академический конспект. Завершил главу «Снижение». Так, глядишь, получится полная общая тетрадь. И оказывается, если отбросить эмоции, разъяснения и морализаторство, то собственно сути не так там и много. Просто у молодежи нет цельной картины и не расставлены приоритеты. Вот я и пытаюсь это сделать.
А в той рукописи в главу «Высшее образование» добавил список дисциплин, предлагаемых для образования пилота в Америке.
3.02. Тут мама прислала письмо, что она очень заинтересована изданием моей, еще не написанной книги. Где-то в Одессе живет наш дальний родственник, так у него своя типография. Мол, спишитесь, познакомьтесь, глядишь – заинтересуется…
Ну, во-первых, об окончании книги нет и речи, дело это долгое. Во-вторых, навязываться к практически незнакомому человеку, рассчитывая, что он из одного уважения ко мне, себе в убыток, да еще в Одессе, издаст то, не знаю что…
В-третьих, хлопоты с изданием в другом государстве, за тридевять земель, со всеми этими правками, корректурами, согласованиями, почтовыми отправлениями, – потребуют таких затрат времени, средств и нервов, что не дешевле ли будет найти спонсора дома.
В-четвертых… я вроде как патриот Сибири и хочу, чтобы мой опус увидел свет именно здесь.
В-пятых, я вообще не уверен, будет ли востребована моя книга в этом безвременье.
9.02. Хорошо идут дела. С удовольствием дописал главы «Заход на посадку», «В глиссаде», «ВПР» и «Посадка». Практически общая тетрадь. Остались особенности аэродромов, а также, собрав остатки, – отдельные моменты, вроде «Затесей». Может, об аспектах эстетических, из того реферата, что показывал Солодуну; может, что из инструкторских нюансов.
Надя ворчит: стараешься, пишешь, а потом кто-нибудь из начальства снимет копию и издаст под своим авторством.
Ну, вряд ли летный начальник издаст. Никто не поверит, что те способы, которые я описал, – тот же пупок в Норильске – придумал летный начальник. Наоборот, летное начальство рекомендует тот пупок перелетать.
Все знают, что я что-то пишу, все ждут именно от меня.
12.02. Доделал свою профессиональную рукопись – строго тетрадь, 55 листов. Завтра отвезу в контору, отдам, пусть компетентные люди прочитают и отзовутся. Может, подключить профсоюз: у него есть деньги; отпечатать и распространить среди летчиков. Но это мечта…
Отозваться должны положительно. Но ожидаю и законной критики: на всех не угодишь. Впрочем, мне не слава нужна, а польза. В авторитете своем я убежден и так, но теперь его надо использовать, чтобы чему-то молодежь научить.
Если выразить суть всего этого моего словоблудия в двух словах, то, пожалуй, это будет звучать так: слепая посадка. Все, что там наворочено, бьет в одну точку: с начала выруливания действуй так, чтобы ты был способен к высшему проявлению летного мастерства: посадке вслепую. Речь здесь о высшем пилотаже, доступном талантливым пилотам.
Сам-то я все это превзошел. Абсолютно спокойно и уверенно говорю: я это выстрадал, ради этого жил, я это понимаю до тонкостей, – и попробуйте меня упрекнуть в поверхностном, легкомысленном подходе, или, наоборот, в уводе в дебри, когда все это делается проще. У меня куча свидетелей и учеников, которые видели, как я это могу сделать руками. И чего же мне стесняться.
А я все переживаю. Я все перечитываю свои записи десяти- и пятнадцатилетней давности. Нет, уже тогда это все было отработано, сформулировано и записано. И проверено более чем десятилетней практикой. И ни разу… тьфу-тьфу-тьфу – не подвело. Теперь уже руки сами делают, я не раз убеждался. Так чего бы мне переживать. На том мой авторитет и держится.
Ведь каждый раз в сложной ситуации со мной рядом сидел человек, он наблюдал, учился. Умному человеку раз показать – и не надо много говорить. И потом он будет по гроб жизни считать меня своим учителем. А их таких у меня – вся эскадрилья, и из других чуток прихватил. И многие уже сами летают капитанами.
13.02. Вчера по ящику показывали одного мастера-самородка. Чуть моложе меня, цену себе знает. Шестой разряд токаря, слесаря, фрезеровщика получил в 26 лет. Проработав два года, получил личное клеймо. Гордится этим.
С женой нелады, развелся и с Красмаша уехал в Ачинск, где работал чуть ли не главным инженером на заводе, а оттуда махнул аж в самый Байкит. Работает в какой-то мастерской, на шести различных станках. И хобби у него: из обрезков легированных буровых труб он выфрезеровывает топоры. Рубит таким топором на железной плите электроды – ни зазубринки на жале. Топоры, конечно, великолепные, лучшие в мире топоры. Из 5-килограммовой бросовой болванки получается 300-граммовый топор и 4700 грамм стружки. Фрезой и руками. И – в коллекционных бархатных футлярах. Говорит, таким вот топором за 15 минут валит 50-сантиметровую лиственницу.
Непьющий человек – себя уважает.
А у меня слюнки бегут. И правда – таких клонировать надо. Вот – Мастер.
Эх…. Мечты о государстве Мастеров…
Съездил в контору, отдал Чекину тетрадь.
Настроения в конторе упаднические. Налета нет. Летный состав стремительно теряет квалификацию, особенно вторые пилоты, которым не достается полетов. Тут хоть капитанам бы форму поддержать.
А я со своими нюансами. Кому это надо нынче.
Но если я сейчас не напишу, то потом меня уже не заставишь.
А Ривьеры порют и требуют. Въедливый инспектор не допустил к сдаче на первый класс целый ряд вторых пилотов: не тянут. Папы-пилоты просят перевести сынков в импортную эскадрилью – Чекин отдал без сожаления, говорит, лентяи.
Да и чего бы им не быть лентяями: перспектив никаких, летать не дают, квалификация теряется… и каждый поневоле высматривает лазейку в жизни, куда бы ушмыгнуть, а пока держится за штурвал, где худо-бедно, за навоз, тысяч пять-то платят, – а за эти пять тысяч на земле еще как вкалывать надо.
Летчики деморализованы. А я – о достоинстве мастера…
Один ли я такой. Вон тот мастер, что в Байките, он ведь ушел с Красмаша. Он сидит и точит что закажут. Это ремесло. Он кусок хлеба-то имеет. Но Дела нет. Топоры продает.
А я книгу о летном мастерстве пишу. Опыт коплю и пытаюсь сохранить для потомков.
Пока та авиация возродится, искусство плетения лаптей уступит дорогу умению управлять станком по выделке кроссовок. Кнопки нажимать. Летчик станет обычным оператором. Умная машина будет садиться в тумане, ноль на ноль, а он будет следить. Чего ему бояться. Он той полосы и не увидит, а увидит только трап на стоянке.
И будет это не российский, а импортный пилот. Мы для него – зверьки.
Хотя дай ему мой штурвал – он вряд ли управится с машиной на визуальной посадке.
15.02. Неуютный номер питерского профилактория не подвиг меня писать книгу на подоконнике, где ноги упирались в горячий радиатор, а в грудь ощутимо тянуло холодом от стекол.
Вдохновения не было, зато давила дремота, в которой я благостно провел целый день Вечером, прикинувшись, что «я только на пять минут», в свитере, прикрывшись уголком одеяла, четыре часа спал как убитый, и крик тети маши «Автобус в девять пятнадцать!» внезапно ворвался в яркий сон.
Полет спокойнейший. Читал книгу, потом еще часок подремал.
Снижались с эшелона под мои настырные советы занять к 3-му развороту 1000 метров. Худо-бедно Серега справился. От 3-го к 4-му ветер дул в лоб. С 600 м Сергей было добавил режим до 70; я не дал… и зря. На остатках скорости выпустили шасси, и скорость упала до 350 раньше, чем загорелись зеленые. Я сунул рукоятку закрылков – тут же рявкнула сирена; я автоматически сунул вперед газы. Глянул: шасси выпущены. Оказалось, в начале выпуска закрылков на скорости 340 порыв от болтанки совпал с легким взятием штурвала – сработал АУАСП: критический угол атаки!
Это же «эмка!» Купился я на малой посадочной массе, думая, что с чистым крылом на 350-340 есть запас по сваливанию – хрен!
Короче, Сергей был прав, упреждающе поставив режим – и еще мало поставил, – а я ему помешал. Потом признал свою ошибку: виноват.
Зашел он в директоре, превышая на глиссаде скорость и держа для этого режим, больший расчетного: 82, 81,80… Я сказал: держи 79, как договаривались. Скорость упала до 260, а с ВПР я ему еще пару процентов последовательно сдернул. Предвыравнивание… малый газ… раз-два-три… хороший подхват – и побежали.
Нормально летает Серега. С августа за штурвал не брался… нормально. Грамоте знает. Но есть и разгильдяйство: директор, директор! Долблю.
Но вот инспектор… взял и после проверки на класс написал Сереге в летную книжку, что тот первому классу не соответствует (кто его дергал за руку?), – вот же принципиальный какой.
Чего ты добиваешься? Будь человеком, не расшатывай этой записью летную карьеру неплохому летчику.
И таких вот на него жалоб от пилотов предостаточно. Что – желание показать власть?
Садыков, Солодун – так бы не сделали.
Мещанинов прекрасно водит автомобиль – четко, уверенно, с шиком, грамотно и в меру нагло. Из такого можно сделать хорошего пилота, а если увлечь и дать перспективу, то вполне может получиться хороший капитан. Недостаток его – разгильдяйство. Но по себе знаю, что если есть стимул, проявляются все лучшие качества, а в нем они есть.
Хороший рейс, так бы и всегда. Но… как уже теперь всегда, обязательная ложка дегтя – этот АУАСП. Начинаю привыкать к тому, что планка опускается. Чем бы я ни оправдывался, но налицо в каждом полете нарушение.
Оправданий два: малый налет и учебный процесс. И малый налет, в общем, для такого старого ездового пса как я, не оправдание. Что касается учебного процесса, то здесь уже наоборот: я стараюсь учить ребят летать по пределам, чтобы они наглядно видели диапазон, не приближались к опасной границе и вообще к чему-то стремились от серости. В увлечении я допускаю ошибки. Не планку опускаю, нет: не тяну. Не успеваю, не справляюсь с объемом информации, – а хочется же дать человеку побольше.
Сиди. Инородное тело. Сиди и моли бога, чтоб дал полетать подольше. Какие ученики. Какая учеба – все рушится. Сосредоточь все свое внимание на том, чтобы ты не допустил отклонений. Сомневаешься – не давай человеку штурвал. Тренируйся сам. Думай о себе. Ну, судьба.
А я не могу.
Вот сейчас порют того инспектора за то, что, летая по кругам на тренировке, забыл о горячих тормозах, загорелось колесо; ну, тут же и погасло само, в гондоле после уборки. Но сам-то ты о чем думал? Мог же пару раз не убрать шасси после очередного взлета, охладить в потоке…
Молодые пилоты ворчат: нас порет… а сам…
Я, конечно, не могу себе позволить, чтобы обо мне, обо МНЕ! – такое говорили. Уж если по пределам, так по пределам. Если нюансы, значит, нюансы. Досадно было сегодня, но я сразу честно сказал: ребята, в том, что сработала сигнализация предельного угла атаки, виноват я. Не рассчитал, не учел то-то и то-то. А Сергей, с тем упреждающим режимом, был прав, а я помешал. Я думал, что легкая машина, значит, потребует меньших углов атаки. Но я не учел, что легкая – менее инертная, а значит, потеряет скорость быстрее. Она и потеряла, а я зевнул. А вы ж запомните и так не делайте: опасно!
Кому нужны мои нюансы? Для кого я пишу о тонкостях? Кто рискнет летать по моей методике? Все рушится.
16.02. Заскочил в контору за расчеткой. В эскадрилье тишина: читали, не читали мою писанину… молчат.
На выходе поймал меня Костя Дударев: Василич, зайди в ЛШО, разговор есть. Хороший разговор.
Ну, зашли. Что пить будешь: чай, кофе, хочешь, с коньячком…
У чем дело?
Дело в моей тетрадке. Пошла по рукам. Отзывы, мягко говоря, положительные; Дударев в восторге. Фуртак прочитал, сказал, издадим.
Короче, моя, вернее, солодуновская концепция принята как руководство к действию. Никакой крамолы: все по жизни. Мне благодарны.
Конечно, я рад. Рад за то, что хоть и рушится авиация, но опыт ее пока востребован.
Тут же Дударев попросил меня добавить о предполетной подготовке – именно о моей, ершовской методике, о моей, ершовской работе с экипажем в полете, о которой, мягко говоря, ходят слухи. О нюансах инструкторской работы. О человеческом факторе.
Они верят, что я смогу дельно написать.
Ну, Вася, ты должен быть счастлив. То, о чем ты мечтал лет 15 назад, – в твоих руках. То, что тебе вдолбили твои учителя, что стало твоим кредо, – сейчас находит отклик, востребовано… и ты, пожалуй, один, кто может об этом внятно сказать. И ты – авторитет.
Звездный час?
На безрыбье.
А тут же сидит на проходной Летчик от Бога Игорь Гагальчи. У него другой опыт – полеты в Иране. И стали мы с Костей его соблазнять: напиши о своем опыте. Ты же – фирма. Ты же – Капитан, и нечего убивать время здесь, в безделье. Напиши!
Короче, Костя пообещал дать ему мою тетрадку и затравить душу.
Надо было видеть лицо Игоря в эту минуту. Оно окаменело. И меня это резануло по сердцу.
Я всегда жалел и теперь жалею, что он рано завершил полеты. Вот уж кто – от Бога. Ни единого замечания. И сидит на калитке… пропадает. Нет, надо его озадачить и увлечь… отвлечь. Мы же элита авиации, нам есть что сказать молодым.
Вечером Надя на мои восторги окатила меня холодным душем. Вот, ничего по-человечески не можешь сделать… зачем дал читать всем подряд… там отксерят и выдадут за свое… ничего ты не умеешь делать тихо… ладно, делай что хочешь.
А мне Дударев пообещал: издадим; авторство, конечно же, твое.
Да мне неважно. Даже лучше было бы, если бы несколько старых капитанов собрали разные методики и поделились опытом нашей школы.
Хотя, собственно, чем делиться. Все это знают, многие умеют. Конечно, методика слепой посадки – качественный скачок. Ею троечник не овладеет. Но и контингент нынче не тот: ребята летают по приборам со школьной скамьи, верят приборам, верят земле. Мы-то все это добывали многими тысячами часов налета. И если молодых сразу приучать к этой методике, то по крайней мере вреда не будет, а только польза.
18.02. Воскресенье, дневной резерв. Вчера день провел в кругу семьи, а мысли все вертелись вокруг заданной мне Костей темы.
Человеческий фактор – слишком широкая тема, и начинать я ее буду с понятия человека-функции. Здесь корень зла. Расписав и разгромив этот взгляд, я противопоставлю личностный подход и на этом построю концепцию работы экипажа.
Львиная доля придется именно на философию, а уж на кухню – чего там особого, писать не о чем.
Очень важно не скатиться до канцелярита.
Я пишу просто, объясняю на пальцах, не умствую – в этом мой козырь. Ребята скажут: свой брат, рядовой пилот, лямку тянет как все, академиев не кончал, а летает не хуже других. И еще и пишет.
Но язык должен быть отточен.
19.02. Обрадовал Коля Евдокимов. Первое: добился он, что Чекин стал вывозить его на международные линии. Сейчас у нас в эскадрилье допуск на МВЛ только у Чекина; из вторых пилотов – у Покинсохи. А деления на внутренние и импортные эскадрильи теперь нет.
Второе: пригнал Коля из Тольятти новую «девятку». Наконец-то у человека новая, с завода, машина.
Ну и третье: поставил себе, наконец, телефон.
Филаретыч почти прошел годовую, осталось обежать экспертов. Послезавтра у нас с ним тренажер. Был он в эскадрилье: работы нет. Ну, нет и нет. И не надо.
20.02. Поговорил с Игорем Гагальчи. Он прочитал, понравилось. А о своем – что, говорит, писать: и позабыл уже, и у тебя, мол, так все подробно описано, что и не добавишь особо. Летал в Иране на грани фола; эти визуальные заходы в горах, если б расшифровывали… но чутье и хватка спасали, бог миловал.
Короче, пока никакой критики я ни от кого не слышал. Или боятся меня критиковать… авторитетом давлю. Однако сегодня на методической части разбора изучали как раз заход в СМУ и слепую посадку. Есть написанные на основе руководящих документов методички, и читал-то хороший пилот и молодой инструктор Леша Конопелько. Но… эти методички – детский лепет. И сам-то он, обращая внимание на ответственные моменты, говорил очень невнятно.
Они никак не могут расставить акценты и разобраться в приоритетах. Нет цельной картины, а отрывочные куски жуются на таком задубелом канцелярите, что меня прошибает синдром из «Шахматной новеллы»: господи, да неужели же это может быть непонятным и неясным? Да что ж вы тянете с клопа резину?
Но я не буду скакать на трибуну и бить себя в грудь, как встрепанный Пфуль. Да и не Пфуль я кабинетный, потому что это все на собственной потной заднице испытано. Мне удалось собрать в кучу опыт двух поколений моих учителей, и я предложил его как цельную систему молодому, третьему поколению. И ведь там ничего нового, принципиально нового, нет; все то, что все и делают, единственно, акцент главных действий переносится подальше от полосы – на глиссаду. Главное – стабилизировать все на глиссаде, а уж над торцом действия самые простые. При условии, что глиссада собрана в кучу.
А у нас на глиссаде эквилибристика, а над торцом – вектора. И все рассчитано на соколиный глаз.
И утверждают эту методу в высоких кабинетах трусы, которым невмоготу было испытывать это на своей мокрой спине в рейсовых полетах, – оттого и ушли на командную должность. И представить не могут, как это: летать иначе, чем они.
Я не добиваюсь, чтобы весь аэрофлот взял и перешел на солодуновскую методику. Но пусть хоть думающие капитаны перестанут сомневаться. Если б это написал один из тех, кто пошел по командной линии, они б еще сомневались. Но если Василь Василич…
Мне мой авторитет нынче нужен как оружие. Солодун верит в меня.
20.03. Залетели в Норильск. Экипаж сборный, поэтому предварительно сделали пару кругов на тренажере. Второй пилот Толя Моисеев.
Заходил он в мороз, с курсом 14, и как я его ни предупреждал о том, что после ДПРМ из-за возрастания уплотнения воздуха придется сдергивать газ, он все равно к ближнему вышел чуть выше глиссады – ну, может, побоялся прижимать из-за возможного срабатывания ССОС, – и мне пришлось ставить 72 процента. И так на 72 мы и торец прошли, на 20 м, с вертикальной 5; я напомнил о предвыравнивании, и Толя подвесил ее на метре. Все прекрасно, ну, чуть перелет. Секунды утекали. Ты же опытный пилот, Толя, – пора хорошо подхватить! Нет, не подхватил и дал упасть с перегрузкой 1,3. Ну, для проверяющего высокого ранга это на пятерку…
Я внутренне крякнул… Но руки на посадке таки держал демонстративно поднятыми на уровень лица: я не вмешиваюсь!
Объяснил потом еще и еще раз, как коварна и чем опасна морозная инверсия.
Она коварна-то в пределах оценки «четыре» и для ординарных пилотов проходит, большей частью, незамеченной: они всегда так летают и так «содют» об бетон.
Но из Моисеева будут люди… эх, дали бы на полгода мне его в экипаж…
Это «дали бы на полгода»… ребята, сколько вас таких, а я один, и мне, может, всего-то полгода осталось летать. Жизнь моя летная промчалась, а скольким молодым я бы еще сгодился.
Хорошая мысль посетила вчера, о мудрости пилота, но записать не успел, а теперь мучительно вспоминаю.
Один, уходя на пенсию, подведет итог тому, как всю жизнь сам крутил штурвал, сам решал все задачи, и когда начнет понимать, что ему уже трудно и век его кончается, – спокойно и с достоинством уйдет, говоря себе: я сделал все для поддержания своей формы и делал свое дело честно, сам, своим горбом, и вот спокойно ухожу. И в этом его мудрость.
Другой, чувствуя, что он в авиации тоже не посторонний, но полеты отбирают у него слишком много сил и старания и отнимают жизнь быстрее, чем предполагалось, – ищет обходных путей и идет по командной линии, где он и на своем месте, и вроде ж летает, и, летая, хорошо видит ошибки других и подсказывает им… а здоровье сберегает, выбирая расписание полетов, близкое к режиму жизни. А кроме того, он видит наше дело шире и глубже со своих командных высот. И в этом его мудрость.
Третий, отрывая от себя, дает летать молодым, позволяет им набить руку, и сам вместе с ними набирается опыта. А когда сил остается все меньше, а опыта накапливается больше, перекладывает потихоньку все тяготы полета на окрепшие плечи молодых, понимая важность своей роли в бесконечной цепи профессионализма. И в этом его мудрость.
Четвертый, видя, что не тянет на капитана, приспосабливается ко вторым ролям и спокойно помогает капитану, без претензий сознавая себя вполне на своем месте. Тоже мудрость. Мудрость добротной посредственности.
Есть мудрецы, которые, ни гроша не стоя в этой жизни, как-то вьются около штурвала, а паче вокруг командирского стола, умело создавая видимость своей необходимости: они что-то добывают для начальства, что-то рисуют, носятся с какими-то бумагами… Глядишь – уже и на пенсии, и при должности… а был же совершенное ничтожество… А седой капитан, Пилот от Бога, сидит на проходной…
Перечитывая свои опусы, иной раз ловлю себя на примитивности, бесталанности изложения; иной может обвинить меня и в откровенном моветоне.
Да, не тяну я на художественного писателя. Но времена нынче такие, что востребованы даже примитивные рифмы Гарика Кричевского или Михаила Круга, миллионами тиражируются. А на другом полюсе – Толстой с Достоевским.
Главное все-таки искренность. Я хочу донести до людей боль сердца, суть, а уж в какой форме у меня это получается – второе дело. И над этим вторым делом надо все время работать. Правда, пусть скажут спасибо, что я хоть выражаюсь грамотно. Нынче это большая редкость, и я в этом вполне отдаю себе отчет.
21.03. Выспавшись перед рейсом, поехали на Питер. Погода звенела. Закатное солнце тусклой ковригой висело над горизонтом, скрываясь в легкой дымке. Почему-то вспомнилась «Машина времени» Уэллса: «Холодное, негреющее солнце склонялось к закату…»
Да, таков будет конец Земли: ледяной холод, белизна снега и остывающая, приплюснутая красная болванка светила. И все это на фоне заброшенного, разрушающегося поселка «Третья мировая», мимо которого по пути в аэропорт везет нас Газель.
Весь полет до Питера я читал РЛЭ, читал как новую захватывающую книгу. Смеялся над несуразностями и ляпами. Ну да я могу позволить себе смеяться: уже мало осталось пилотов, кто так долго работал на нашей «Тушке» и изучил все ее особенности до тонкостей.
Так и полет промелькнул. На снижении нам изменили посадочный курс, но я заранее подготовил экипаж, и мы спокойно, без спешки, зашли. Толя старался, старался… взмыл, подхватив чуть раньше, чем машина окончательно потеряла скорость, ну, еще раз подхватил и упал, с перегрузкой, правда, уже 1,2 и справа от оси метрах в пяти. Напряжен.
Обратно взлетели, против обыкновения, точно по расписанию. Тяжелый самолет. И уже в наборе меня стала засасывать тяжелая дрема. Ну, ребята довезли. Перед снижением дал немного подремать и Толе.
Снова заход с прямой, снова мороз, снова глиссада, глиссада… чуть ниже держи, на полточки; Толя держал стабильно, я сдергивал режим. Диспетчер долбил и долбил: ниже пять, ниже десять, ниже тринадцать… прекратите снижение!
Щас. У вас тут, блин, новая система, и в ней заложено, что перелетишь метров пятьсот минимум, а у меня учебный процесс. И то – перелетели метров триста. И все равно ощутимо упали, ну, где-то 1,2.
Орлята учатся летать. Но все же на пользу: я отрываю от себя и даю, даю, даю штурвал. Человек после Ан-2 должен нутром почувствовать инертность тяжелого лайнера, его массу, степень его управляемости. Это никакими цифрами, рамками не измеришь. И тренажер этого никогда не даст; только мокрая задница.
Моя мудрость, видать, в этом. Как лосось, мечущий икру, знает, что той жизни осталось чуть-чуть, но – жизнь должна продолжаться! Отдай всего себя.
Моя заветная мечта: долетать с этими ребятами, пока все они не станут капитанами. А потом… как та горбуша, избитая по камням…
Вот сидел бы, писал дальше свою книгу – так нет же, отдал обе тетрадки ребятам: читайте, может, что-то уже сейчас вам пригодится.
Да и не лезет в голову. Написал вот заголовок «Снятие напряжения», а мысли за месяц растерял.
Вообще-то назрела необходимость всегда иметь в кармане записную книжку и записывать мысли, которые сваливаются внезапно, озаряют… и так же внезапно ускользают. Теряешь нить, а потом мучительно пытаешься вспомнить, зацепиться… напрасно… Нет, надо иметь блокнот.
Склероз.
Кончается тридцатая тетрадь. Пятнадцать лет я пишу и пишу, это превратилось уже в настоятельную потребность, стало частью образа жизни. Глаза посадил с этой писаниной. Но это мне необходимо – и для самопознания, и для познания мира. Cogito, ergo sum. Пилот со средним образованием, я в этих записях по кирпичику складываю Храм своего развития как личности. И если в молодости на этих страницах я с любопытством вглядывался в себя и в окружающий мир, то нынче я мучительно подвожу итоги и бьюсь в сомнениях: так ли прожил жизнь. Я тороплюсь: скоро силы иссякнут, и течение жизни понесет меня вниз по камням… в пищу новым поколениям. Пригожусь ли я им?
Всю эту зиму я жил напряженной внутренней духовной жизнью. Сложное чувство: с одной стороны, ощущение начала собственной деградации в профессиональном плане, а с другой – есть еще порох в пороховницах. Перипетии на работе, подтверждение собственной состоятельности, признание моего опуса, работа над ним. Кроме того, я хорошо читал всю зиму: Губерман, Гаррисон, Гроссман, Гудериан (как специально, все на «Г»), да снова Толстой, да Прус, да опусы Трофимова, да Вересаев, да Овчинников… и затесавшийся между ними Суворов-Резун. Вот диапазон. Да мощнейший эмоциональный заряд на курорте. И тут же куча болячек.
И все это – самая что ни на есть смачная жизнь. Я ж еще при этом всем еще немножко и подлетывал, принося в дом худо-бедно 250-300 долларов в месяц.
Ей-богу, у того, кто читает эти строки, вряд ли повернется язык сказать, что летчики – тупые и храбрые мужики, думающие только о том, как нажраться, да подгрести под себя бортпроводницу. Это не так.
Хотя отдаю себе отчет: я – летчик не такой как все. Мне многое дано, значит, я должен приумножить и отдать больше.
22.03. Краем глаза поглядывая на кухне в телевизор, краем уха услышал подлую фразу кабинетного начальника: «Надо было думать, прежде чем действовать».
Такое сказать легче всего. Особенно сидя в уютном кабинете и пеняя человеку, от тебя зависящему. У тебя время подумать всегда есть, а мне его иной раз не хватает. Твоя мудрость была: от принятия оперативных решений, в обстановке, где можно ошибиться, уйти в тишь штабного кабинета, где безопасно заднице и есть хоть какое-то время подумать, прежде чем что-то подписать. Ты по людям туда пролез. А теперь этим людям пеняешь.
23.03. Черт возьми, не пишется. Я уже напланировал себе с десяток глав, даже названия им дал… а что под этими названиями тогда подразумевал – нынче и не вспомню.
Вот: «Удачи и неудачи, как я их понимаю». А как я их понимаю? Видать, тогда блеснула мысль, вокруг которой, зацепись я за нее, можно было бы развернуть главу. А теперь попробуй вспомни.
И это главы из той, большой книги. А малая, заданная Дударевым, тоже не идет. Там все застопорилось главой «Снятие напряжения» Тоже была главная мысль… потерял. Вчера весь вечер выдумывал, выдумывал… Нет, нужно вдохновение.
Весенние заботы властно забирают внимание и отвлекают от творчества. Лучше всего пишется осенью и зимой. Правда, помню, и летом в Питере писалось. Короче, это приходит и уходит. Да спешить мне некуда.
29.03. Тренажер мне нынче не был нужен, но Володя Менский попросил меня полетать для бортинженера-стажера. А там еще толкался и пилот-стажер, переучившийся с Як-40 и летающий школьную программу с Сашей Шевченко; он сидел и скучал в ожидании, что а вдруг придет экипаж без второго пилота и ему удастся подлетнуть, мало ли.
Ну, посадил я его, и полетал он у меня. Предварительно я с ним побеседовал о сути работы системы траекторного управления и о приоритетах при ее использовании. Никто меня за язык не тянул, но знаю: ведь в текучке не объяснят человеку путем, и он будет топтаться на месте. Шура ему не смог объяснить, а уже ж они разок вместе слетали. Парень пока ничего не поймет и ориентируется на ложные приоритеты, на треугольнички…
Растолковал я ему. И когда он понял суть и со второго полета стал держать директора в центре – и все стало получаться, я подумал нескромно: Вася, ты недаром ешь свой хлеб.
Потом этот парень будет вспоминать, как подошел к нему дед и без всякой просьбы сам растолковал, посадил за штурвал и добился того, что само стало получаться руками.
И прибавился у меня если не ученик, то сторонник. Кстати, он в нашей эскадрилье, и если я пройду годовую, то летать-то уж нам точно вместе придется – а кому же его катать: парень после пятилетнего перерыва. Кстати, люди с него будут. На первый взгляд мне почему-то так показалось. Способен к самообучению.
4.04. Два дня убивал время на каком-то семинаре по сервису. Знания, полученные на нем, можно было получить за час, прочитав книжонку, которую мне там выдали.
Нечему мне как капитану там учиться. Пусть они еще попытаются достичь моего уровня. Я всегда работал и работаю – с экипажем и с пассажирами – на высшем уровне. Я об этом именно и пишу свою книгу. А семинар… болтовня.
Что-то гаснут мои желания. Абсолютно равнодушен я к дальнейшей своей летной судьбе. Даже если удастся пройти годовую, то больше года я даже не планирую летать. Охота пропала.
Вот такие вспышки. То – держаться за штурвал до могилы, то – хоть завтра бы списали.
Это обычная усталость от жизни пожилого человека. Добавляется нервная нагрузка – хочется послать все к черту. Отпускает – хочется привычного стереотипа. Давят болячки – отодвигается работа. Но денег-то все равно хочется, и все равно их мало. И все равно их не будет, больших. Годом раньше, годом позже…
Единственно: все эти перипетии вокруг полетов – все эти комиссии, занятия, зачеты – отбирают здоровье.
А если бы установился однообразный круг привычных нагрузок, то хотя бы здоровье стабилизировалось.
6.04. Сходил на предварительную подготовку Летчики трясутся, напуганные зачетами: прошлый раз Татарова отправили на второй круг; нынче он всех нас пугает и дает советы.
Верный себе, я с Бугаевым сдавал первым. Ну, за столом Чекин с Дударевым… разговор вскользь о моей тетрадке: извини, мол, Василич, всерьез ею займемся летом…
Ну и какие после этого еще вопросы. Заодно отскочил и Олег. Остальных потихоньку пытают, а мы уехали.
Если б Дударев задал мне те вопросы, что тогда Татарову, – я бы не ответил ни на один. Но мне не задают. У меня есть то, чего Татарову, хорошему капитану, пока не хватает: опыт, позволяющий, не зная тех цифр, летать в пределах норм. Мне доверяют.
Так это ж я их в свое время учил летать.
Не обгадиться бы завтра в рейсе. Синдром Рулькова.
8.04. Выступил я на совете командиров. В эскадрилье не все гладко, надо было умерить страсти и поддержать молодого комэску. В результате обе стороны признали, что перегнули палку: разгильдяи-командиры с одной стороны, ретивый руководитель – с другой. И результатом было коллективное признание того, что таки драть нас надо: заслуживаем. И работать над собой.
Я много говорил о профессионализме, об обстановке в экипаже, о том, как лично мне учебный процесс позволяет сохранять и параметры полета, и добрый семейный дух. Да о многом я им сказал, не пощадив и родного комэску за его жесткость.
Хорошо, в общем, поговорили, и вроде на пользу. Я убедился, что мне есть что сказать людям… но не заболтаться бы по-стариковски. Душа-то за дело болит, это все поняли.
Ну… меня уважают, говорить нечего об этом. Но проскакивало.
Ну, к примеру, Бурнусов, отчаявшись за 70 часов дать хоть одну посадку молодому второму пилоту, предложил: пусть вот его Василь Василич посмотрит…
Короче… последняя инстанция.
А я сидел и думал. Вот уж подходят мои сроки. Завтрашний рейс на Благовещенск может стать и последним моим рейсом. А на меня еще надеются.
* * *
2001. ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО.
8.04. 2001. Мудрость старого капитана… Или это обычное арапничество?
Придя на вылет на Благовещенск, я просмотрел по компьютеру погоду: заход будет с курсом 180, а там и глиссада круче, и вход в глиссаду на 300 м, и чистый ОСП. А я помню как когда-то там уходили на второй круг с Селивановым из-за сильного бокового ветра – не успели подобрать курс после 4-го разворота.
В процессе подготовки к полету озаботились заначкой топлива: мало ли, а вдруг придется кружок-другой сделать. Ну, плеснули пару лишних тонн.
Прогноз предусматривал: видимость 3000, снег с дождем, центр циклона; нижний край 150. Минимум там по ОСП 120х2500. Фактически давали: 3600, нижний край 360, сцепление 0,6.
Потом стало ухудшаться: 2200 на 210; температура +4.
Долго мы с синоптиком колдовали над тем циклоном, примчавшимся из глубин пустыни Гоби: какой такой снег с дождем? Долго высчитывали, попадаем ли пока еще в зону теплого фронта или уже в теплый сектор?
Циклон, в общем, тропический: какой там еще снег, временами до 800; ну, еще какая-то мгла.
Какая может быть в апреле, в сибирском Благовещенске, в снегу, мгла? И какой снег, когда там сцепление 0,6?
А погода ухудшалась. Видимость 2200… Конечно, заряд.
И не вылетать нельзя: прогноз летный. И ветер 130, 7-9 м/сек. А на запасном, в Хабаровске, погода звенит.
Нет, ничего мы тут не предугадаем. Есть вариант принятия решения в НПП: хороший прогноз и один запасной, независимо от фактической погоды. Вот по нему я и решился.
На выруливании старт передал: в Благовещенске видимость ухудшилась до 1700, мгла, вертикальная 140.
Что за мгла? Ладно, поехали.
В полете не дергались, погоду каждые полчаса не ловили.
В наборе отказал гироагрегат курсовой системы; это озаботило: а как я буду выполнять 4-й разворот? Давай-ка переключим контрольный на мой ПНП.
Отвлеклись на несколько секунд… проскочили заданный эшелон 5400. Пока доложили, пока перешли на контроль, я продолжал набор: мы одни в этой ночи, набор нам дали бесступенчатый… обошлось.
Вот так у одного, у другого; вот так и у Ершова. Мало, мало мы летаем.
Рассвело. Доняла болтанка по верхней кромке – полезли на 11100… а там тропопауза, еще хуже тряска. Зато издалека услышали по УКВ погоду Благовещенска: 1400 на 140, мгла.
Ну что. Ветер на кругу дают 200 градусов, 18 м/сек, у земли – 130, 4-7 м/сек.
На Хабаровск без снижения?
Куда лезли?
И тут мне стукнуло: ветер на кругу они дают прогностический… У земли же получается попутная составляющая… посчитай-ка, Руслан… ага, 4,7 м/сек, проходит. А что если попросить зайти с курсом 360? Мы вам и ветерок фактический на кругу замерим…
Давай, ребята, готовиться на 360 правым доворотом. Либо нам разрешат, либо уйдем на Хабаровск.
Что нам предстоит? Тяжелый самолет, посадочная масса более 80 тонн, 2 тонны заначки. Скорость на глиссаде не менее 270. Надо с попутным ветром вписаться в глиссаду, угол наклона которой круче нормального, и попытаться не превысить вертикальную скорость более 7 м/сек. Посадка с явным перелетом, и чуть под горку пробег.
Короче, делаем все заранее, с упреждением. Третий по возможности подальше, 4-й пораньше; да повнимательнее: не упороть бы в Китай. Закрылки на 45 пораньше, как только отшкалится глиссада. Режим на глиссаде ожидается и 78, и даже 75. Только бы не вышибло выше глиссады. Значит, и режим сдергивать пораньше.
Настроил всех. Объяснил всем суть захода, что там нас ждет и как с этим упреждающе бороться. Ну да Сергей Мещанинов уже не пацан, помощник хороший, вертится. Руслан Лукашин старается, да и джипиэска есть, таки существенно помогает, особенно с определением точки 3-го и 4-го разворотов. Володя Дзюба со мной первый раз, но механик опытный, шустрый, от зубов отскакивает. Я и его предупредил, что хоть и постараюсь не сучить газами, но, возможно, таки придется. Но – все плавно, машина тяжелая.
И зашли. На высоте 2000 один раз вякнула ССОС при вертикальной 15. На глиссаде вертикальная стояла 5-5,5 м/сек. Со ста метров я уже видел огни… и правда, желтая мгла, как в жидком чае. Какой там еще снег.
Попутный ветер протаскивал нас; я дожимал. На 100 метров еще раз вякнула ССОС; отпишемся. Поставил режим 75 – скорость 270, руль высоты подрагивает где-то в пределах 10 градусов. На пределе.
Торец прошли на 10 метров, плавно малый газ, замерла… покатились. Учитесь же, ребята, пока я еще жив. Ну, все молодцы.
Старт помогал на заходе. Дал ветер у земли 170 градусов, 5 м/сек. Тактично не спрашивал ветер на кругу; спросил после посадки, сказали: 200 градусов, 15 метров… но к земле уменьшается, сдвига нет. Поблагодарили за помощь.
Циклон этот, оказывается, принес пыльную бурю. Все вокруг покрыто желтой пылью, и в воздухе пыль, дышать тяжело. Сухо, тепло, ветер южный, метров до 10. Снега нет, дождя нет, одна пыльная взвесь. Уж покашлял я. Называется, убежал от домашней пыли.
Так арапничество это или грамотное решение? Мы сделали все для того, чтобы рейс был выполнен по расписанию, вложили весь свой опыт – и ничего не нарушили. Все делалось красиво.
Красота эта после заруливания отозвалась тупой, ноющей болью под ложечкой. И все сильнее и сильнее. Я быстро полез в гардеробчик за сумкой, где пакет лекарств… нет сил вытащить… Меня о чем-то спрашивали – нет, не до вас всех… ой, болит… Дрожащими руками нащупал пакетик маалокса, выдавил в пересохший рот, зажался в кресле… Помогло. Но таки минут десять было мне неважно.
Вот так Виталик Полудин за одну грубую ошибку при посадке в Иране заработал себе язву. Но ведь там была ошибка, а здесь – победа. А цена одна получается.
9.04. С трудом, со скрипом, но продолжаю главу «Снятие напряжения». Вчера пара страниц, сегодня пара – и получилась глава. Вечером думал, не усну, но таки уснул и проснулся с рассветом. Сел и снова пишу, с трудом, со скрипом. И вот, наконец, кончил.
10.04. Раскачался и написал главу «По следам авиакатастроф». Большую ее часть уделил иркутской катастрофе Падукова и моей теории посадки на лед Байкала. Пишу я это для того, чтобы показать внутреннюю работу капитана по проигрыванию ситуаций и вариантов.
Из Благовещенска улетали под дождик. Пыль улеглась, задышалось легче; но к моменту запуска пал туман, прямо на глазах: видимость 600, а на исполнительном дали 400. Ну, взлетели. Полет спокойный; Сергей зашел с прямой и прилично сел. Я уж и не требую нюансов: летает он уверенно – и ладно. Довез меня на машине домой, спасибо.
Филаретыч позвонил. ЦВЛЭК дала ему полгода – и до свидания. Он уже и рад. Ну а я пока вишу.
12.04. На лето Абрамович планирует веерные полеты. Это значит, что с востока летят 6-8 рейсов, их ждут в Красноярске 2-3 самолета, пассажиров пересаживают по основным направлениям и везут на запад. Одна задержка единственного борта – все сидят, ждут.
В том году эта авантюра сорвалась; дай бог, чтобы сорвалась и в этом.
Мне лично теперь и судьба компании, и зарплата, и освоение новой техники, – все до лампочки. Я свое отлетал. Еще чуть болит душа за само летное дело… но оно, как посмотрю, самим летчикам нынче не так важно, как просто выжить в этом безвременье. А я для них книгу пишу…
26.04. Размышляя о наших с Женей путях в авиации, сравнивая их, прихожу к выводу, что если он шел вширь, то я вглубь.
Он освоил 10 типов самолетов, а я 4. Он налетал 15 тысяч часов, а я 19. Получается, что на каждый тип ему в среднем выпало 1500 часов налета; я же только на «Тушке» налетал более 10 тысяч часов.
Я держался за свою «Тушку» и полюбил ее, как жену. Он менял тип самолета в зависимости от выгоды, обивал пороги министерства, не знаю, давал ли взятки, – но он четко ставил себе цель и добивался ее. Менял авиакомпании, скакал из Аэрофлота в Трансаэро, списывался на землю и диспетчерил, вновь устраивался летать…
Я плотно уселся в одном авиаотряде и вгрызся вглубь секретов одного самолета, чтоб познать его до последней косточки. «Тушка» же самый сложный самолет, пожалуй, во всей мировой авиации; это признают все.
Я не искал лазеек в своей летной судьбе, принимая ее как есть.
Констатацией этого факта можно было бы и ограничиться. Но в доверительной беседе он признался, что подход к самолету у него чисто потребительский. Выгоден тот самолет, на котором легче летать и больше платят. Да, на А-310 вообще нет звуковой и световой сигнализации ограничений, но зато на нем он вообще разучился пилотировать вручную. Это как «Москвич» и «Тойота». Ну, конечно, приходится поглядывать. Но у них в компании нет такого жесткого объективного контроля, как в Крас Эйр. И у них в РЛЭ нет такого огромного количества ограничений, а значит, и придираться вроде не к чему. Они летают спокойно.
Кроме того, полетав на Севере, Женя раз и навсегда понял, что он – любитель тепла, а значит, путь его – в Индию и по ее окрестностям, вплоть до Южной Америки.
Я же, хоть в свое время и сказал, что ноги моей за Полярным кругом не будет, со временем понял, что Север – как раз для меня. Сравнивать же условия полетов и варианты принятия решений там и здесь – нет смысла. Одно дело – наличие информации и связи, другое – почти полное их отсутствие.
Он понимает выгоды компьютера и интернета; я предпочитаю чтение книг и пишу ручкой. Поэтому он живет в Москве, а я в Сибири. И дело не только в интернете, а в том, что в нынешнее время столичная жизнь дает больше выгод. Давал бы больше выгод Магадан – он остался бы в Магадане.
Он гораздо гибче меня; я же закостенел. Менять себя уже поздно, да и я вполне удовлетворен своим путем, о котором могу написать глубокую книгу. Не знаю, напишет ли свою Женя. Да, по-моему, ему глубоко плевать на столь любимые мною нюансы нюансов.
У меня есть ученики; он к этому равнодушен, они не дают ему ничего кроме головной боли.
Короче, я – представитель старого, уходящего поколения, старых, уходящих взглядов, старой, уходящей техники; он – новое поколение. И летать он будет столько, сколько позволит здоровье. Как он сказал: умру – но головой к самолету.
А я, пожалуй, уже готов сложить оружие.
Главное, чувствую, организм сдал. Под вдохновением я еще могу там отплясывать, понимая, что это уж предпоследний раз. Но болячки задавили. Чуть пыль – задыхаюсь. Боюсь спирографии. Спина, шея, ноги – постоянно болят. А моральная обстановка этой битвы среди белых халатов за полетань – угробит хоть кого. Придерутся – скажу, списывайте. Готов.
Сами полеты отталкивают тем, что я явственно вижу: мне не хватает внимания в обычной обстановке, а на напряжение всех сил в экстремальной ситуации организм реагирует болью в желудке. И зачем мне язва в старости? И еще начинает давить синдром Рулькова: уйти непобежденным.
Организм сдал и тем, что если чуть передозирую нагрузку – выскакивает новая болячка: то в колене растянется сухожилие, до этого выдерживавшее и большую нагрузку; то чуть вспотеешь – бойся прострела или бронхита, хотя совсем недавно плясал, по три футболки за вечер менял…
Короче, мне теперь надо с большой опаской, осторожно, а главное, не спеша, подходить к любой работе. Обдумать, приспособиться, обставиться обтекателями и преодолеть вечное мое нервное нетерпение. По-стариковски.
Грядут у нас в жизни большие перемены. И самое страшное из них всех то, что Надя воспринимает мой уход с летной работы как конец жизни, а я – как начало новой. Наконец-то отвяжусь от вечно висящей ответственности: телефон, медкомиссия, принятие решений. Свалится жилищный вопрос. И хоть не станет денег, но жалкую пенсию я буду тратить на себя, и от меня будет зависеть, какие желания я смогу себе позволить. Начнется, наконец-то, свободная жизнь. Начнется тот долгий, благословенный период, когда не привязан.
Было бы здоровье.
9.06. Хожу и думаю. Хожу и думаю. И думаю, и думаю. Всё, желание мое летать погасло. Дом в деревне властно забрал все желания, и стремления, и силы. Это не дача и не временное пристанище Я здесь живу. Уже сейчас. Я примеряюсь к будущему одиночеству, я вслушиваюсь в себя: не тянет ли обратно в тот, прежний, уже становящийся прошлым, небесный мир. И думаю, и думаю.
Ну, пройду я ту медкомиссию. Ну, пролетаю еще год. Без интереса, на нервах, боясь, что допущу промах… Я этого стал бояться. Склероз таки есть, это видно и в быту, и за рулем. А тут самолет. Самое время уходить непобежденным.
И что-то мне все равно, проводят ли меня торжественно или тихо напишу заявление и больше в конторе не появлюсь. И судьба мой книги как-то не волнует. Все это как бы позади, как бы в дымке… ушло.
И мало того, что нет желания летать – так для того, чтобы летать, требуется пройти через эти медицинские малоприятные перипетии. Господи, хоть бы меня списали.
А то, что денег не будет… это еще впереди. Ну, год… что он даст – тряпок еще купим, или ту мебель. А здоровья заберет прилично.
Больше года, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах, летать не буду.
15.06. Последний день отпуска. Накануне Менский уже стал меня теребить: давай-давай, скорее проходи комиссию…
По рассказам коллег, нынче летом работа совсем другая: сидения мало, полетов много, даже очень, и все больше по ночам. Оно мне надо?
Ладно, пойду сдаваться докторам.
Не так много и назначений. Сделал кардиограмму, флюорографию; в понедельник сдам анализы. Самое главное: договорился с лабораторией. Бутылка шампанского и коробка конфет пришлись как раз кстати к завтрашнему Дню медика. Ну, поглядим.
19.06. Анализы прошли. Я зашел поблагодарить. В действительности, повышен билирубин, где-то под 30. Ну, дело сделано; главное, обошлось без переживаний. И без малейшего угрызения совести.
С утра взял книжку и, несмотря на заклинившую шею, внаглую прошел РЭГ.
Висят три назначения, которых у нас не делают: спирография, рентген желудка и ректороманоскопия. Делай где хочешь, была бы бумажка с печатью. Ну, Игорь пообещал.
Уролог еще грозилась отправить на УЗИ простаты.
Пока речи нет ни о каких мониторах на сутки, и я совершенно не боюсь велоэргометра: уж сердце-то на стройке хорошо натренировал. Беспокоит неуклонно растущее давление. Это возраст, и надо, надо, надо начинать думать о том, что таки, самую малость, придется всерьез урезать жратву и соль. А двигаться, двигаться, двигаться надо постоянно.
Нет, ну уж раз комиссия пошла, то у меня душа заболела за полеты. Не то что уж так хочется летать, нет… Хочется заработать. Чтоб уж совесть была чиста: и ровно 35 лет отлетать, и Юльке детскую, и нам диван, и детям спальню, и, может, нам еще микроволновку… новый холодильник… магнитолку… новые шины на «Ниву»… шторы в зал… да чуть приодеться… да постельное… Его же царствию не будет конца.
Но раз уж пошло дело, надо этот год отлетать.
20.06. С утра съездили с Игорем к нему на работу, и за два часа я получил три бумажки: рентген желудка, спирограмму и трубу в зад. Причем, две первые бумажки – честно. Спирограмму дул дважды, компьютер барахлил. В желудке гастритик, но куда ж без него. Без трубы как-то обойдусь.
Понаставив, где можно, красивых печатей для солидности, поехали домой с чувством полного удовлетворения.
Завтра кручу велосипед, послезавтра прохожу психолога и предварительно прохожу врачей, а с понедельника, благословясь, пишем эпикриз. Спешить совершенно не требуется, а я рванул.
21.06. Открутил педали как молодой. Съездил на часок в контору, расписался за приказы. Менский смеется: да ты здоров как бык; вот еще Шлег такой же, да Ефименко. Все жалуетесь, а комиссию махом проходите. Деды, называются.
Хваля меня после велосипеда, докторша заикнулась, к слову, о Филаретыче: мол, отлетался… Им-то сразу понятно, что у него ишемия. А Витя все надеется.
22.06. У психолога я кончил, как всегда, первым из всей группы. Но, прямо скажу, работал на пределе сил, буквально спина мокрая была.
Спирометр выдул 5200 против 4800 и 4500 в прошлые годы. Ну, полезно нырять или вредно, покажет вскрытие.
Сходил в баню, торопился: из магазина должны были привезти мебель. Как раз успел. Сразу после бани минут сорок на взлетном режиме, бегом, таскали с Игорем тяжелые пакеты на 5-й этаж. Ибо лифт по закону подлости не работал. И ничего. Руки только слегка дрожат.
25.06. Все, квиток в кармане. Скоростная комиссия получилась, без сучка и задоринки. Получилось, и правда, что я здоров как бык. И семь диагнозов.
Вышел с квитком, душа поет… как курсант.
Нет, ну просто я доволен, что, по обычным меркам, здоров, что прошел медкомиссию совершенно без нервов… в первый и в последний раз. И жизнь хороша.
3.07. На работе эпопея: начинаем полеты с весом 104 тонны. А это значит: будешь, Вася, сидеть в командировках и провозить, провозить, провозить молодых командиров. Ничего, средний надо повышать, и можно делать это, спокойно сидя в салоне и болтая с проводницами. А то пацаны наши не знают, что такое 104 тонны…
А пока поехал я в управление сдавать зачеты на продление пилотского. Раньше бы переживал, наглаживал бы шнурки и т.п. Нынче мне нечего бояться. Я старейший капитан; они все – мальчишки против меня. Подпишут. Я никуда не спешу. Сижу дома, гоняю чаи – пусть члены этой ВКК, или как там она называется, собираются; я подъеду.
4.07. Под Иркутском вновь авиакатастрофа: упал Ту-154М, все погибли. Из сообщений по разным каналам телевидения пока ясно только одно: самолет компании «Владивостокавиа», куплен в Китае два месяца назад; рейс из Свердловска во Владик с посадкой в Иркутске.
Дело было ночью, погода, как утверждает телевидение, была сложная, самолет делал два захода, упал на третьем, в 34 км от города.
Вот это уже настораживает.
По скупым кадрам видно, что упали где-то в поле, корреспондент утверждает, что чуть ли не плашмя. Ну, командир, Валентин Гончарук, пилот опытный, первого класса…
Все мы опытные, только по-разному.
Сваливание? Почему не смог зайти с первого раза? Со второго? На опытного не похоже. Почему не ушел на запасной?
Сижу, жду дальнейшей информации. Известно, что оба МСРП нашли. Клебанов с Шойгу разберутся.
А я стою послезавтра в Читу. Давненько там не бывал; ну, с нами Пиляев, дает вторую провозку штурману. Он там недавно был, говорит, полоса стала ровная, рулежки широкие, перрон хороший, вокзал новый… только пассажиров нет. Глиссада та же, только вход в нее стал выше на 200 метров. Ну, слетаем.
Зачеты в управлении принимали у меня милейший Николай Иванович Устинов, да Вася Капелус, ну, еще пара человек. Больше в очереди стоял на регистрацию, а сам процесс зачетов занял 5 минут, аккурат пока обошел кабинеты.
Вот снова по ящику утверждают, что пилот пытался совершить аварийную посадку вне аэродрома.
Пожар? Нет, раз делал два захода и не смог сесть, то, скорее, очко… А это для опытного пилота первого класса никак не подходит.
Но я не имею морального права осуждать брата своего по небу на основании предположений тети из ящика. Была, видимо, веская причина.
Хотя… у покойного Толи Данилова, царство небесное, тоже была причина.
Когда отправляешь «опытного пилота первого класса» в первый самостоятельный полет на тяжелом лайнере, то одна мысль: господи, пронеси! Не дай ему ни сложных условий, ни отказов. Пусть хоть полет-другой пройдет спокойно, чтоб человек освоился…
Может, и здесь так? Может, опытность капитана заключалась всего лишь в нескольких самостоятельных полетах? Я же ничего о нем не знаю. Но я знаю, какой нынче контингент.
Как военный летчик не любит покидать машину с парашютом и до последнего тянет ее к аэродрому, так и гражданский пилот никогда не будет стремиться сесть вне аэродрома… если только он не из вертолетчиков. А у нас есть и такие.
Самое надежное – система посадки. Если наземная система работает, а тебе край надо сесть, горишь, – то настройся, подготовь экипаж и в любом сложняке лезь, пока полоса не ударит по колесам. Но для этого потребуется известное мужество. Надо всегда быть внутренне готовым к абсолютно слепой посадке.
Мне, старому капитану, волку, легко это говорить.
Но, извините, я себя сделал сам.
После падения был пожар: на кадрах видно дымящиеся обломки. Значит, топливо в баках было.
Были ли закрыты по погоде Братск, Улан-Удэ, Белая?
Вася, это не с тобой. Охолонь. Займись чем-нибудь. Сколько их билось на твоей памяти…
Сижу в безделье. Общая усталость после трудового отпуска в деревне плавно навалилась, и хочется уже в рейс, отдохнуть.
Под впечатлением катастрофы полез в свои тетрадки и зачитался. Даже удивляюсь, как складно написано – неужели это я писал? Особенно вторая тетрадка для профессионалов, по заказу Фуртака и Дударева. По прошествии трех месяцев не ощущается ни фальши, ни натуги. Надо дописать и отдать Фуртаку. Философии накрутил, теперь надо расписать предполетную подготовку, чтобы логически подойти к тому, что уже описано в первой тетради.
Смотрю ящик дальше. Упоминается высота 2500 м; самолет набирал высоту, затем связь прервалась. Значит, таки уходил на запасной? Связь прервалась на удалении 22, а нашли останки на удалении 34 км. С этой высоты, на скорости 550, самолет падал чуть больше минуты, ну, полторы; значит, вертикальная была, в среднем, около 30 м/сек, а это значит, либо отказ управления, либо экстренное снижение. Причина, значит, была.
Шойгу говорит, самолет упал на 3-м развороте, с высоты 850 м, с курсом, обратным посадочному, плашмя. Ищут причину.
Штопор, что ли?
Об экипаже зам. ген. директора компании сказал, что опытный капитан, много лет летал на этом типе.
Чего ж тогда он лез и лез, а не ушел сразу на запасной. За 4 минуты до падения он доложил, что на борту порядок.
5.07. Практика показывает, что тяжелые самолеты бьются большею частью не столько по матчасти, сколько по вине экипажа. Чаще всего нарушение или ошибка заводят экипаж в такую ситуацию, когда малейший сбой матчасти приводит к катастрофе.
Экипаж после двух или трех(?) заходов снова выполняет полет по кругу и докладывает, что видит полосу. Значит, до этого не видел. Может, уговорил диспетчера разрешить ему снизиться и сделать кружок-другой… контрольный замер…
Короче, смену диспетчеров отстранили и терзают. Возможно, как всегда, каждый – и экипаж, и диспетчер – взял на себя свою долю ответственности… и тут какой-то сбой. Причина, возможно, по матчасти была.
Трудно предположить, что экипаж на третьем круге допустил сваливание, потеряв скорость.
Хотя я знаю случаи. Иные катастрофы не укладываются в мозгу: как мог капитан допустить такое! – а допустил.
Удар был на небольшой скорости – видно почти целые тела, как всегда, обнаженные: клочки дюраля срывают одежду.
Если Фальков упал на скорости 460, под углом, то разброс обломков – полосой, деревья на их пути расщеплены, раздроблены до волокон. А здесь лежит куча дюраля. Правда, обломки очень мелкие.
Да что я тут строю предположения. Истина окажется проще. Причина будет глупая. Сколько уже раз я так предполагал, выдумывал, а потом разводил руками – какая нелепость!
Вася, потерпи еще годик. А потом спокойно иди себе на пенсию. И моли бога, чтоб на старости лет не подсунул ситуацию. Чтоб дал долетать.
…Самолет, и правда, упал плашмя: площадь разброса 100х60 метров. Мне кажется даже, что такой разброс свидетельствует о падении на малой скорости, с очень небольшой, явно не 850 м, высоты. Может, и правда, они пытались сесть на вынужденную, но ночью не рассчитаешь, наобум… и в последний момент полностью взяли штурвалы на себя, чтоб хоть спарашютировать на лес.
Командир пролетал 30 лет, общий налет на «Ту» 3600 часов, капитаном 1500 часов. Прямо скажем, не густо. Года четыре он капитаном, ну, может, пять.
Смущают меня эти три захода. Почему не сел с первого раза, зачем так настырно лез и лез?
Тут может быть причастен любой фактор, о котором и не подумаешь. Уговорили, допустим, срочно доставить пакет с деньгами: а там встретят и хорошо заплатят. Только сядь в срок.
И таких примеров можно привести сколько угодно. Во всяком случае, если вскроется какая-то совершенно не относящаяся к полету причина, я не удивлюсь. Летчик нынче за доллар готов рисковать.
Правильно сказал в интервью директор Рыбинского моторного завода: вот, строятся всякие предположения, подозрения и т.п., а когда выясняется истина, диву даешься, какое только бывает стечение самых непредсказуемых обстоятельств, – ну не может такого быть!.. а есть.
Клебанов дал первое интервью. Погода и работа матчасти, по его словам, были без замечаний… до момента падения.
Где надо сказать витиевато и непонятно, туда посылают Клебанова. Мы уже год так до сих пор и не знаем причину гибели «Курска» – расследовал Клебанов.
Теперь он говорит, что расшифровали записи, но окончательные выводы будут не раньше 9-го числа.
И тут же: «запись некачественная, трудно разобрать…» Я видел тот лентопротяжный механизм – только в земле испачкался, и уже: «некачественная запись, плохо сохранилась…»
Исключены две версии: теракт и пожар на борту. И – самолет падал вертикально, чуть с левым креном.
Я вообще представить не могу, как это: летящий на кругу самолет вдруг теряет скорость с 400 почти до нуля и падает вертикально. Странно все это.
Даже если бы он свалился в штопор, то упал бы носом вниз.
6.07. По катастрофе: отметаются все версии по отказам, пожарам и пр. И плавно подходишь к мысли: человеческий фактор.
Все расшифровано. Двигатели не отказали. Топливо было. Погода на 3-м развороте роли не играла. Никаких трех заходов не было – журналюги как всегда перепутали третий заход с третьим разворотом на кругу. Но, видать, причина настолько ошарашивающая, что тянут время до понедельника, чтобы выдумать что-либо правдоподобное… вроде тех хитромудростей с топливной системой южно-сахалинского Ту-154, который сбили под Хабаровском.
Ну, правильно: Клебанов официально заявил, что осталась единственная версия… но чтобы заявить о причинах, надо уточнить…
Вот-вот: надо уточнить, как врать.
Продумывая варианты развития событий при полете по кругу, я могу предположить только одно: что самый опасный этап, касающийся запаса продольной устойчивости, это как раз район 3-го разворота. «Эмка» очень чувствительна к потере скорости на кругу с чистым крылом. Момент после выпуска шасси перед началом выпуска закрылков, да еще летом, да с большой посадочной массой (а у них официально было около 77 тонн), опасен исключительно малым, мизерным запасом по углу атаки, где-то всего около одного градуса до срабатывания АУАСП.
Я, пролетав на «Ту» 20 лет, стал опасаться этого момента лишь в последние годы, когда к нам поступили «эмки». Пример тому – полет с Колей в Мирный. На «бешках» запас гораздо больший.
Что говорить тогда о капитане, всю жизнь пролетавшем на Як-40, которому всего лишь три года назад доверили «Ту».
Погода была исключительно хорошей. Двигатели работали до самого столкновения с землей.
Может, выпускали интерцепторы да забыли их убрать?
Если произошло сваливание на малой скорости, надо отдать штурвал от себя. Но если это произошло на малой высоте… просто не хватит высоты вывести. Не хватит ни высоты, ни нервов – и будут драть на себя рефлекторно.
Скорее всего, таки произошло сваливание.
Уже и по ящику прозвучало: скорее всего, ошибка экипажа.
Опять из-за одного… слабого пилота нас всех задолбают разборами и занятиями.
8.07. Рейс на Читу получился не совсем удачным. Пиляев все ворчал, все ему было не так: и рулю-то я быстро, и в Чите подныриваю под глиссаду, и крен предельный загорелся, надо отписываться, и… в конце концов дома с курсом 108 он испортил мне посадку.
Но я все стерплю. Еще годик. Обстановка все хуже и хуже, и, я вижу, меня хотят загнать в тесные рамки обтекателей на их задницу.
Щас. Я как летал, так и долетаю, как делал, так и буду делать. Самое главное – не дать им повода, возможности испугать меня поркой. Мы ужо пужаные.
Либо я летаю свободно и раскованно, без страха и в полной уверенности, что вот я-то как раз и владею инструментом в абсолютно полном объеме и справлюсь без их указаний, как справляюсь уже 30 лет с гаком, – либо я вынужден буду просто уйти, послав их всех известно куда, со всем знанием предмета. Учить меня уже поздно; я сам кого хочешь научу и покажу руками.
Слова Сергея «если б я не включил реверс, получилась бы у тебя посадочка…» – лишние. Если б его не было с нами вообще, посадочка бы получилась, как сегодня в Минводах. И – никаких проблем.
Серега сам уже старый и всего боится перед концом летной карьеры.
Все мое мастерство держится на уверенности в себе. Может – в самоуверенности, пусть кому-то покажется и так. Но я на «Тушке» двадцать лет командиром летаю, и получше иных, и многих. Руками летаю, не языком. Так пусть лучше самоуверенность, чем неверие в себя.
Тут, блин, глаза уже ни хрена не видят, левый так вообще… Ну да на годик хватит.
Прилетели; Серега поворчал и побежал в расшифровку – уговаривать за то мигнувшее табло предельного крена 30 градусов. Ну, мне этого не надо – я не видел никакого криминала в загорании этого табло. Заходили мы как по ниточке.
Короче, сел я тогда в машину и помчался к себе в деревню, огурцы поливать.
9.07. Всю ночь в Минводах лил дождь. Всю ночь не давал спать единственный комар, а раптор я забыл захватить. В 7 утра по красноярскому я встал, умылся и сел писать главу «Предполетная подготовка». Ну, высосал из пальца кое-что, немного поворчал. И хватит на этом; надо отдать тетрадь Косте, пусть делает с нею что захочет.
10.07. Ни хрена левый глаз у меня вдаль не видит. Чуть устал – никакой резкости, как пятно темное в центре поля зрения. Но годик-то… даже меньше…
В Минводах заходили через заряд дождя, ну, к полосе, правда, выскочили. Посадка удалась. Но что-то я замечаю: в очках, в единичке, я вижу вдаль уже лучше, чем без очков. Катастрофически растет дальнозоркость. На машине в сумерках стало трудно ездить.
Через полтора часа у меня тренажер, под 104 тонны; там нас четыре экипажа собралось. А завтра в ночь лечу в Якутск.
После тренажера зашел в контору. Там гул: Фуртак добыл сведения о катастрофе, собрал разборчик командного состава, зачитал.
Ну, свалились. После выпуска шасси скорость на 3-м развороте у них упала до 355, срабатывал АУАСП… и тут почему-то руль высоты ушел до упора вверх, самолет задрал нос с перегрузкой 1,7.
Дальше суета в кабине и маты, до самой земли.
Но интерцепторы были убраны. А вот закрылки – самое главное – не были выпущены.
Приехал домой, там по ящику Клебанов дает интервью. Матчасть была исправна, сваливание и штопор – результат управляющих действий экипажа. Всё.
Солодун, со слов Фуртака, записал и цифры: они таки пытались разогнать скорость, им это даже удалось – до 404 км/час… и тут бы выпустить закрылки на 15 – нет, хватанули на себя и вновь, видимо, свалились.
РЛЭ прямо указывает: при выводе из сваливания перегрузка не должна превышать 1,3, чтобы избежать повторного сваливания.
И – маты, маты, маты… Такой вот экипаж.
Неопытность налицо: на тяжелой, 79 тонн по бумагам, машине выпустили шасси до третьего разворота, а на третьем допустили потерю скорости. Пусть там, может, и что-то с матчастью – хрен с ним, давай немедленно закрылки! Нет.
А ведь мы, красноярцы, выпуская шасси, заранее держим руку у рукоятки закрылков и строго следим за темпом падения скорости и за загоранием зеленых лампочек: только загорелась последняя – тут же закрылки на 28! Сразу, иной раз и не дожидаясь загорания той запаздывающей лампочки, – ну, рявкнет сирена, да и хрен с ней, главное – отодвинуть критический угол атаки и вовремя добавить режим.
Ну, теперь нас затрахают занятиями, а пассажир будет коситься: и этот летун тоже «первого класса»… знаем мы ваши классы…
11.07. Пилотировал второй пилот, под неусыпным контролем опытного командира, профессионала. Мы такие случаи знаем. Не так-то просто контролировать действия второго пилота, а паче предвидеть развитие ситуации. Вот в чем суть опыта и профессионализма, капитанского опыта.
У той скороспелой, собранной с бору по сосенке авиакомпании нет ни опыта, ни школы; у нас, красноярцев все это есть… правда, рушится. Вся эта катастрофа – следствие и иллюстрация к развалу системы.
Я бьюсь за сохранение нашей школы, пишу в назидание молодым, как и в чем я вижу красоту нашей работы. Может, кого и зацепит за душу.
Красота работы… А Клебанов говорит: до момента срабатывания АУАСП все было адекватно, а как запищало над ухом, сразу стресс, шары на лоб, а через 11 секунд – паника, захлестнуло эмоциями, и неадекватные действия, приведшие к штопору.
За 11 секунд как раз можно было спокойно выпустить закрылки – единственное, что требовалось по технологии работы.
У кого из нас на «эмке» не срабатывал АУАСП.
12.07. Этот… Гончарук, в неопытности своей, вместо того, чтобы выпустить закрылки, дал взлетный режим, на котором и врезался в землю.
Коллеги его без зазрения совести говорят, что это «человек неба». Такие вот пилоты, такие вот суждения. А налетал он тысяч десять часов, да только командиром на «Тушке», по слухам, всего-то часов триста. Да это не так и важно. Школы, школы нет.
Ну что, Вася. Ты втайне так и предполагал, только, уважая все-таки коллегу, брата своего по профессии, все выискивал смягчающие обстоятельства. А он просто слабак. Взял и свалил машину с людьми. Истина оказалась до глупого простой.
Разгонять надо такие вот кумпаньи. Если б они еще не людей возили – то и пусть себе захлебываются в пучине рынка.
Но мы возим людей.
В Якутске на заходе я показал мужикам, какой остается запас по углу атаки после выпуска шасси и как убегает от красного сектора вниз стрелка при немедленном выпуске закрылков. Что тут неясного.
14.07. Полет в Читу без эксцессов. Посадка с попутным ветром мне удалась, но с перелетом: черт возьми, отвлекался, все следил за этим дурацким табло «Предел глиссады» и шел по продолженной глиссаде, как первоклассник. В процессе дли-и-ительного выдерживания стащило с оси метров на пять. Перелет до последних знаков.
Либо надо было ее тупо ронять с метра.
Олег дома зашел с прямой хорошо, но у него низкое выравнивание; я весь сжался, однако посадка получилась мягкая, скоростная, притер без выдерживания, с тенденцией к отскоку, но аккуратно и сознательно придержал штурвалом. Точно на знаки и точно на ось. Ну что тут скажешь: молодец. Павда, он ни на какое табло не отвлекался.
16.07. Сочи. Хватило одной ночи, чтобы пожелать поскорее отсюда убраться: духота, неудобная кровать… извертелся. Правда, перед этим чуть нагрузил себя ходьбой и морем, противно-теплым, как моча. Очень аккуратно позагорал, еще аккуратнее попрыгал с пирса. Ну и хватит. Вечером улетаем в Норильск через Нижний.
Посадка в Сочи мне не удалась. Весь полет снимали параметры; на снижении надо было делать площадки с закрылками, нас увели далеко в море и сбили весь стереотип.
Сама же посадка вышла скомканной: из-за сдвига ветра у самого торца пришлось сдергивать режим, а поставив малый газ, я едва успел подхватить, как упала. Касание исключительно мягкое, но – в процессе парашютирования, а это чревато малоскоростным козлом; я тут же штурвалом от себя предупредил отскок, но переднюю ногу удержать не удалось, и она грузно опустилась; перегрузка 1,3. Но нога оказалась крепкая, выдержала.
Тормозил не спеша: полоса длинная, но все же из-за жары на всякий случай вызвал воду, облить колеса. Техники что-то стали упираться: мол, колесные вентиляторы эффективнее обдуют, а мы пока одну ногу обольем, на другой перегреются диски.
Я пожал плечами: так обливай шустрее, шланг длинный, встань сзади и бей струей поочередно вправо-влево, только не муздыкайся и не спорь, время уходит. Мое капитанское дело вызвать воду. А выплавятся термосвидетели – это уже ваши проблемы.
Удивительное дело: в образцово-показательном аэропорту Сочи – и вдруг валандаются, выспориваются. Нет, поистине, авиация рушится.
Перед вылетом в штурманской читал опубликованные в газете (!) радиообмен и переговоры экипажа в кабине. Вся ситуация от срабатывания АУАСП до удара об землю заняла 29,5 секунд.
Что интересно: экипаж делал все правильно, и командир контролировал как положено. На скорости 400 он проверил центровку по положению руля высоты. Скорость все не гасла, и он все подсказывал «гаси, гаси». Может, и правда, забыли убрать интерцепторы?
Характерный момент: по достижении высоты круга второй пилот стабилизировал высоту автопилотом, т.е. нажал кнопку «Стаб Н», о чем и доложил вслух. Здесь есть одна особенность. Если тумблер «В болтанку» включен, то стабилизация высоты будет загрублена и самолет будет раскачиваться по тангажу, ловя высоту, по затихающей синусоиде. Если в это время энергично ввести в разворот с креном более 15, то самолет начнет раскачиваться еще сильнее, по вариометру иной раз до 2-3 м/сек. При этом скорость, естественно, тоже гуляет. Угол атаки при малом запасе мог сгулять аж до срабатывания АУАСП.
Режимы они ставили по команде: «70, 80, 82». Потом крик капитана: «Б…дь! Что вы делаете!» – и 4 секунды пищит АУАСП. А дальше гвалт: «Выводи! Так, так! Тише, тише!» Маты, маты… потом: «Всем нам пиз…ц!» Да еще несколько раз: «Взлетный!»
Ну а о закрылках и речи нет. Они не ожидали, не были готовы к такому развитию событий, не восприняли хладнокровно сигнал АУАСП. Капитан был явно не готов хладнокровно отреагировать на сигнал установкой рукоятки закрылков в положение 28 и дачей режима, ну, 84. Хотя, собственно, уже стояло 82. Только закрылки и надо было.
А раз не был готов, то – салага… при всем его налете в 11 тысяч часов.
Нам тут в Чите об этой расшифровке рассказывал наш коллега – бывший пилот Ту-154, а ныне, видать, комэска на Ан-24. Он налетал в свое время на Тушке 1500 часов вторым. Так вот, пока мы вместе шли из АДП, он оживленно комментировал. Но на мое замечание, что надо было только сунуть закрылки, он возразил, что лучше дать вовремя взлетный…
Человек не понимает – комэска! И тот, Гончарук, тоже не понимал… и так и не понял.
Гнетущее впечатление оставляет эта публикация, лежащая в штурманской под стеклом; молодым перед вылетом ее лучше бы не читать.
Картина события вырисовывается такая. Они снижались от Раздольного к 3-му, видать, шли по пределам: капитан был озабочен, успеют ли потерять высоту, и прикидывал вслух, что таки потеряют – за счет низкого давления аэродрома, 710 мм. Он несколько раз говорил, что, дома, мол, на Дагес занимаем такую же высоту – и успеваем с прямой.
Но скорость, разогнанную на снижении, надо было гасить. Ну и гасили. Даже если и убрали на эшелоне перехода интерцепторы, то занять к третьему высоту круга им очень уж хотелось, поэтому режим поставили 70, почти малый газ.
Я, заходя под 90, а паче под 180 градусов, никогда не стремлюсь занять высоту круга к 3-му, даже наоборот, учу ребят: при высоте 3-го разворота по схеме 600 м – лучше начать выполнять его на 1000. В процессе разворота на 90, а тем более на 135 градусов, эти 400 метров потеряются на том же малом газе, без лишнего сучения режимами и без перерасхода топлива. А уж потом, по мере падения скорости – падения предвиденного и контролируемого экипажем, падения, на темп которого завязана вся цепь последующих операций, – где-то за 50 метров до высоты 4-го разворота и на скорости 330-320 я даю расчетный, заранее обдуманный мною и озвученный экипажу, адекватный темпу падения скорости режим. И к началу 4-го у меня самолет сбалансирован по тангажу и по скорости, идет в режиме горизонтального полета, на скорости 290, и я занят корректировкой плюс-минус процент, чтобы поймать уж точно и потом не трогать подобранный режим до самой земли. В это время как раз читается карта, и первое в ней: «Интерцепторы!»
Итак, тут налицо спешка. «Держи козу!» Неустойчивое, почти неконтролируемое снижение на самом пределе; лихорадочные расчеты: успеем? не успеем?
Что не успеем? Горит? Видать, им горело.
«Вываливай полностью»… Что вываливай – шасси? интерцепторы? Шасси вываливаются всегда полностью, а вот интерцепторы можно выпустить и на 15, и на 30 градусов, и полностью.
Вот зацепка. Вполне, вполне могли – по РЛЭ это разрешается – для гашения скорости выпустить интерцепторы в промежутке от эшелона перехода до высоты круга. Могли. И могли в спешке забыть их убрать. А включив режим автопилота «Стаб. Н» удивились быстрому падению скорости и стали добавлять режим, а тут уже подошел третий разворот; завалили крен, а включенный тумблер «В болтанку» раскачал им нос, и забытые интерцепторы сорвали поток. Так вполне могло быть.
Спешка. Сколько раз я покупался на ней и как много работал потом над собой, чтобы научиться предвидеть и не спешить. Десять тысяч часов. Двадцать лет. На одном типе самолета.
Опять упал самолет, на этот раз Ил-76, на взлете, под Москвой. Компания «Русь», созданная нашим прохиндеем Рыбьяковым… тихушники… Наверняка перегруз.
Надо бы написать главу «Спешка» И еще о работе с АУАСП и тумблером «Включить в болтанку». Но какая-то лень. Как люди эту жару любят. Я вот лежу, весь мокрый, периодически бегая в душ; и моря того не надо. Работать не хочется, мысли вареные. Может, в Норильске… там хоть стол есть, а здесь пишу на тумбочке… локоть висит…
Тем не менее, вместо того, чтобы поспать перед полетом, видя, что по жаре не уснешь, да еще эти вертолеты носятся над головой, аж волосы шевелятся, – я на едином дыхании написал главу «Выводы практического летчика по катастрофе Гончарука». Там я вполне подробно все по полочкам разложил: и про АУАСП, и про тот тумблер, и про темп падения скорости.
А главу «Спешка» надо обдумать. Это философия.
17.07. В штурманской Нижнего Новгорода появилась, наконец-то, информация о катастрофе в Иркутске. Документ пространный. Из расшифровки явствует, что они выпускали интерцепторы, но таки убрали их, а свалились ну уж совсем по разгильдяйству. Перечислять все их абсурдные действия можно долго. Угол атаки 40 градусов, перегрузка 2,0, крен 48 градусов… Мы это все скоро выучим наизусть.
20.07. Солодун не может себе представить, чтобы экипаж так вот бездарно, на ровном месте, свалился. Он все предполагает, что оторвался закрылок или еще что. Ну не могут пилоты так вот действовать.
Но я ему рассказал то, что слышал в интервью Клебанова: все разрушения самолета, всех его деталей, произошли только в результате столкновения с землей. И Вячеслав Васильевич сник: как же так!
Выходит, вот так умеют люди летать.
Отдал я Вячеславу Васильевичу вторую тетрадку, он ее прочитает и отдаст Чекину – и далее по инстанции. Гора с плеч.
Что касается Ил-76, то, по слухам, они взяли топлива до Норильска и обратно, чтобы не платить лишнего за дорогущий северный керосин. А это 30 дополнительных тонн. А жара в Москве стоит +32. И пятикилометровой полосы им не хватило: пропилили полуторакилометровую просеку в лесу…
23.07. У нас в эскадрилье два ЧП. У кого-то отказал двигатель, пришлось вырабатывать топливо и садиться. И еще у кого-то в Краснодаре после взлета отказ двух гидросистем, садились на вынужденную и выкатились на боковую полосу безопасности. Поеду в контору, узнаю подробности.
Наши ребята разговаривали с южно-сахалинцами насчет того, упавшего под Хабаровском, Ту-154. Ну, говорят, правды не скроешь: там упало два самолета: Ту-154 и Ту-95. А нам вешают лапшу насчет топливной системы.
Но уж насчет иркутской катастрофы – не те времена. На разборе, пока мы летали в Читу, огласили посекундный хронометраж действий экипажа… но так ничего и не ясно. Взять, что ли, у Фуртака, материалы, да проанализировать. А с другой стороны: что там неясного? Я все написал.
Двигатель на 704-й погнал стружку у абаканцев, которые летают в нашей эскадрилье. Точно: разрушение подшипника ротора. Заменили двигатель, и я полетел на ней в Читу. Ну, двигатель вяло реагирует на дачу режима, а уж при включенном реверсе и вообще отстает. Машину бросает в сторону. По прилету записали.
Сам полет удался. Мягкая посадка в Чите, но снес 7 кордов со среднего колеса на левой тележке; заменили. Видать, барахлил датчик юза.
Дома идеальный, с подробными комментариями, заход с прямой и идеальная посадка Олега Бугаева.
Что касается отказа двух гидросистем, то это у Олега Пономарева из 3-й АЭ. Молодой капитан, но молодец. Вторая гидросистема отказала чуть позже; им удалось выпустить аварийно шасси от третьей гидросистемы, а закрылки вышли только на 26 градусов. Там лопнул дюрит на шасси, ушла жидкость. Но все равно, капитан молодец: сел с весом 98 тонн, по жаре, без тормозов, без управления передней ногой, и хоть и выкатился вбок на 25 м, но это, видимо, из-за того, что к концу пробега уже стравилось все давление в гидроаккумуляторе. Ни фонаря не сбил, и машина цела. Абрамович обещал наградить экипаж.
Ну а я отлетал свои 34 года. Завтра пойдет 35-й; надо бы отметить, а заодно – и день ПСП на Як-18А: 26 июля 1965 года.
Коля Евдокимов потихоньку летает за рубеж, скоро вылетает программу и получит самостоятельный допуск. Единственный, кстати, в эскадрилье. Надеюсь, он уже прошел этап детских болезней молодого капитана.
Моя школа. А душа за него все болит.
27.07. Утром я поехал на разбор. Нас посетил Фуртак и быстро, толково, со схемой на доске, рассказал всю ситуацию с отказом гидравлики у Пономарева.
При уборке шасси у них лопнул шланг системы подтормаживания колес после уборки. Стравилась 1-я гидросистема, шасси не убрались. Пока они остановились на 900 метрах, и стали выяснять ситуацию, упало давление во 2-й гидросистеме.
Олег Борисович Пономарев принял решение об экстренной посадке с обратным взлету курсом. Выполнив левый разворот на 180, они выпустили шасси аварийно от 3-й гидросистемы на скорости 400, согласно РЛЭ. Как только скорость после выпуска упала до 290, угол атаки дошел до 16 градусов, и сработала сигнализация АУАСП.
Самолет с весом 98 тонн (по бумагам), в 33-градусную жару, на высоте 900 м, с выпущенными шасси, на скорости 290 не летит, требует разогнаться выше 400. А как на такой скорости садиться?
Вот готовый иркутский случай, и условия еще хуже, чем у Гончарука.
Капитан поставил номинал и – вот она, красноярская школа! – ничтоже сумняшеся поставил рукоятку закрылков на 28. Есть там давление – нет давления – а… на всякий случай. Не помешает. Авось…
И авось сработал! От эволюций самолета часть жидкости переплеснулась из одной половины бака в другую, насос ее захватил, и в три приема, давясь пеной, по градусу, по два, таки вытолкал закрылки на 26 градусов! Это их и спасло. Стрелка отошла от критического сектора, и самолет полетел. Со снижением, на номинале, – но полетел, и на скорости, приемлемой для приземления!
С обратным курсом у них не получилось, высота была слишком велика: 900 м за 10 км, и они вынуждены были пройти рядом с полосой, выполнили блинчиком спаренный разворот и, держа скорость побольше, зашли по глиссаде и приземлились на скорости 310, на газу. Включили реверсы, и потихоньку, полегоньку, капитан стал подтормаживать аварийно, помня о том, чтобы не снести колеса резким торможением. Ветерок был чуть боковой справа; ну, пока руль направления был эффективен, удерживали ось, а уже на скорости 120 самолет стало тянуть вправо. Капитан потянул левую рукоятку до упора, но уже стравилось аварийное давление в гидроаккумуляторе. Выкатились на 20 м вправо, не доехав 140 м до того торца.
Абрамович наградил экипаж денежными премиями: капитану 5 тысяч, экипажу по 3, проводникам по тысяче. И на капитана представление к государственной награде. Олег Пономарев молодчина.
Делаю выводы для себя. В подобной ситуации, зная, что закрылки не работают, я бы разгонял скорость со снижением и садился бы с чистым крылом, выпустив предкрылки. Но скорость касания была бы где-то под 400, и вряд бы мне удалось не выкатиться… аж до ближнего привода. А Олег боролся до конца – и победил.
Может, конечно, там остатки давления еще были. Может, бортинженер подсказал, что уровень еще есть. Что-то же толкнуло его попробовать закрылки. Да и приучены мы.
Что же думают об этом случае в управлении?
А там катят на экипаж телегу. Мол, видя, что падает давление, они включили насосную станцию 2-й гидросистемы и подключили ее на 1-ю, чего делать по РЛЭ категорически нельзя и что привело к выбиванию через дырку в шланге еще и жидкости из 2-й системы.
Но этого не докажешь: не пишется.
Наша компания стоит на своем: высвистеть жидкость помог наддув бака, да еще отсос через порванный шланг. Сосуды-то, мол, сообщающиеся.
После посадки в первой половине бака осталось 7 литров, а во второй – 16.
Перечитывая свои записи, я еще раз проанализировал и срабатывание АУАСП в Мирном летом на тяжелой машине, и зимой нынче на легкой, когда у нас с Сергеем совпал порыв с взятием штурвала при достижении высоты круга; потерю скорости мы, правда, допустили до 340, и я как раз сунул закрылки, но сирена таки рявкнула.
То есть: и зимой, и на легкой машине, при совпадении нескольких факторов запросто можно выйти на угол сваливания. Запросто. Что ж тогда говорить об аварийной посадке с максимальной массой, в жару, да еще с чистым крылом, как у Пономарева.
И я еще сомневаюсь – я, старейший капитан, пролетавший на этом типе 22 года и имеющий возможность сравнивать поведение «бешки» и «эмки». Что ж тогда говорить о владивостокских ребятах, которым эти нюансы были вообще неизвестны, либо они на них не обращали такого внимания.
Короче, Вася, помни: не дай бог придется заходить с чистым крылом – она не летит. Все на газу, вплоть до взлетного режима, и – до самого касания.
Пономарев, может, интуитивно понимал это, видимо, учитывая жару. Жарко – не должна лететь, давай номинал! Но прежде все-таки отодвинуть угол атаки от критического. Рука сама сработала.
Нет, молодец парень, с хорошей интуицией и хваткой. Видно птицу по полету.
31.07. Кончается этот бесконечный июль. Хотя, казалось бы, что в нем бесконечного: месяц явно холодный. А вот такое ощущение.
И налетал-то всего 45 часов. И в рейсах не сидел. И в деревне наработался в удовольствие.
Но весь месяц прошел под впечатлением этой катастрофы и в размышлениях. Очень уж неординарная, нелогичная, непонятная катастрофа. И это добывание крупиц информации из ящика, где пронырливые борзописцы путают третий круг с третьим разворотом, а министр Шойгу предполагает, что при отказе трех двигателей самолет должен непременно упасть на хвост.
Но и ознакомившись с результатами расшифровки, поражаешься. Почему был завален крен до 48 градусов? Зачем? Какой разумный летчик при элементарном срабатывании АУАСП, находясь в развороте, будет еще больше заваливать крен? Ведь мы луплены нещадно за малейшее мигание табло предельного крена. 45 градусов – это уже глубокий вираж, перемена рулей. А эти пацаны и в училище-то его не делали, не нюхали. Так почему?
Ну ладно, второй пилот завалил, пересилив автопилот. Но что руками в это время делал капитан? Руками! Ведь все-таки у человека 10 тысяч налета-то было.
Не поворачивается у меня язык, по зрелом размышлении, так вот, в лоб, обвинять экипаж в непрофессионализме. Что-то там было. Как был тот Ту-95 под Хабаровском. Врать у нас умеют. Ну не хочется мне верить Клебанову, что все элементы конструкции разрушились только в результате удара о землю.
Но и какая логика в предположении, что оторвался закрылок или там элерон, уже в крене, и что это помогло самолету увеличить крен? Логики в этом нет, потому что тогда летчик автоматически вывернет штурвал против крена. А они кратковременно пытались убрать – и тут же увеличили до 48, а потом хватанули до пупа.
Если, конечно, верить расшифровке в интерпретации Клебанова, а затем и наших московских начальников.
Я не подвергаю сомнению одно. Это то, что экипаж допустил принципиальную ошибку именно по своей неопытности в полетах на Ту-154М: не выпустил закрылки сразу после выпуска шасси. Дальше уже наложилось. И даже если что-то отвлекло, заняло, вырубило экипаж из контура полета, то рука… рука должна сама сработать, как сработала она у Олега Пономарева.
Есть еще одна версия: при полете во втором режиме для исправления эволюции требуются обратные действия рулями. Может, и правда, они осознанно отклонили штурвал в другую сторону?
Но у них, во-первых, до сваливания еще не дошло. А во-вторых, это же как на дельтаплане: действия там обратные. А у нас руки приучены намертво к прямым действиям: левый крен исправляется штурвалом вправо! Нет, тут что-то другое.
Во всяком случае, центр внимания расследования теперь переключен на неадекватные действия второго пилота. Хотя надо бы еще и еще раз спросить: где в это время были руки капитана? И где была его голова?
В Норильске, когда на заходе упал Ан-12, пилотировал его тоже второй пилот. Это как раз тот случай, когда опытный, волевой, самоуверенный правый летчик подавляет безвольного, слабого, неуверенного в себе капитана. И волею судьбы второй пилот остался жив, хоть и калека, – теперь пожинает плоды своей самоуверенности.
2.08. Вчера перед вылетом на Самару коротал время в штурманской, травя баланду с коллегами.
Зашел разговор об иркутской катастрофе. Все в сомнениях; версии, домыслы…
Незаметно в разговор вмешался человек в черном костюме, скромно сидевший в уголке; видать, летчик не из нашей компании.
По скупым, весомым репликам, по высококультурному техническому языку стало понятно, что летчик не из рядовых; потом он проговорился, что работает летчиком-испытателем ГосНИИ ГА. Рассказал, между прочим, как они падали в Омске на Ан-70, когда у них не зафлюгировался винт 3-го двигателя, а от тряски сработал ложный сигнал отказа 1-го двигателя, и они на двух моторах, с авторотацией, кое-как упали в поле, разложили машину, но сами остались живы.
Я подсел к нему, и мы разговорились, да так, что уже и принимать решение на вылет пора, а мы все не расцепимся.
Все-таки та аудитория, в которой мне приходится контактировать с коллегами, мягко говоря, не тянет на интеллектуальное общение. А тут получил истинное наслаждение.
По иркутской катастрофе он согласен: закрылки бы спасли положение. Мало того: собираются менять РЛЭ: теперь закрылки будут выпускаться перед выпуском шасси. И все проблемы отпадут.
Вопрос: почему действия экипажа неадекватны? Судя по положению органов управления самолетом, они экипажем как раз были отклонены на ввод в плоский штопор: штурвал до пупа на себя, отклонен вправо до упора, левая нога полностью вперед. Комиссия копается в нюансах.
Заговорили о школе. Да, у владивостокских опыта нет, и те три тысячи налета на «Ту» у капитана не дали весомой отдачи. Да еще этот наш дурацкий авиагоризонт, не позволяющий правильно определить пространственное положение самолета при крене более 45 градусов.
Испытания с разными экипажами показали, что при потере пространственного положения летчик инстинктивно, и в первую очередь, тянет штурвал на себя, а уж потом глядит на крен.
Но кто завалил их в крен?
Я рассказал ему о случае с Пономаревым. О второй гидросистеме, которую высвистело…
Э, нет – там стоит обратный клапан!
Значит, все-таки подключал бортинженер вторую систему на первую…
И тут в штурманскую пришел человек, знающий ситуацию, и сказал: Абрамович бортмеханика застращал, и тот признался, что таки подключал. Вот в чем причина отказа второй гидросистемы!
Что касается падения Ил-76 в Москве, то там однозначно перегруз. Ну, еще и туман. Бежали-бежали, бежали-бежали, конца полосе не видать, но и неизвестно, сколько еще той полосы осталось. Капитан опытный, 57 лет, проверяющему 60. И все равно очко сыграло… подорвали… А она ж так не летит. Полон кузов стеклопакетов; другой груз бы не влез, а компактное стекло вошло; его прикрыли там всякой парфюмерией… Заказчик там всегда подписывает загрузку 60 тонн, хотя по РЛЭ можно брать только 40; да еще топлива туда и обратно…
С работой этих мелких авиакомпаний все ясно: они выживают только за счет работы на грани риска и смерти.
Вообще в разговоре мы пришли к выводу: у правительства нет цельной концепции развития нашей авиации… да и всего государства. Нахапать и ухрять.
Заикнулся я о своей тетрадке, что у Фуртака. Он заинтересовался. Видимо, заинтересовал его я, ну, как личность; ну и захотелось ему прочитать, что ж эта личность там накорябала. Вот бы прочесть… хотя бы один экземплярчик… это ведь недорого стоит – отпечатать сотню-другую брошюрок…
Да зайди сам и попроси у Фуртака. Сам себе думаю: подтолкни его…
Тепло расстались; он полетел с Остановым на Сочи, а мы пошли на свою Самару.
Полет спокойнейший; посадки нам с Олегом удались. В Самаре садились при +29, взлетали при +32, аккуратно.
На обратном пути запустил в кабину детишек… по внучке, что ли, соскучился. Папы и мамы с фотоаппаратами рвались в кабину – да пожалуйста, только повнимательнее, сфотографируйте детей, будет им память… Люди довольны.
Штурман Максим Кушнер, наш с Филаретычем крестник, еще в училище стажировался у нас. Ну, волчара. Благодарил нас за школу.
Бортинженер Игорь Шорохов, из 1-й АЭ. Проверял его инструктор из Ульяновска, на допуск к инструкторской работе; да что там проверять, формальность. Довезли человека до Самары, проведя время в дружеской беседе. На прощанье Игорь преподнес ему позвякивающий и булькающий пакет. Расшаркались.
Ну, это бортинженер, не чета иным. Все делает мгновенно. Решения быстрые, правильные; на себя кое-что берет не задумываясь.
Ночью он развез нас по домам. Я набил себе синяки на боках – так он мотает машину. Водит очень резко и агрессивно, но точно. Ну он и по жизни такой. Пожалуй, пилот бы из него получился… но только истребитель. Однако кто на что учился.
А вот как бортинженер в экипаж он бы мне подошел.
Ну, губу раскатал…
3.08. Когда я задал испытателю вопрос: можно ли было Падукову сесть на лед Байкала, – человек, подумав, сказал: можно… теоретически. Но экипаж, придавленный чувством вины, был в шоке и рефлекторно стремился к одному: сесть любой ценой. Синдром «держи козу» сузил мышление и загнал его как бы в туннель.
Ну а если к этому психологически себя подготовить заранее?
Он привел пример, когда у его коллеги на Ан-24 полностью отсоединилась тяга управления улем высоты. Так там же есть триммер! Вот именно. Будь у нас простейший триммер на руле высоты… А так придется – как на авиамодели.
В полете я все продумывал варианты действии при отказе гидросистемы с уходом жидкости. Обычно отказ происходит вследствие каких-то манипуляций: уборка-выпуск шасси, закрылков, когда в системе резко скачет давление. При этом рвется там, где тонко. На эшелоне вероятность отказа меньше.
Значит, если откажет после взлета, то первое – обеспечить возможность посадки. Сбросить скорость, выпустить механизацию. Шасси – дело второе, их можно выпустить тремя способами от трех разных гидросистем, и нет нужды беспокоиться. А вот закрылки надо успеть выпустить – от них зависит жизнь в таких случаях, как у Пономарева.
Наибольший расход жидкости получается при уборке шасси – 8 литров уходит из бака. Система же выпуска закрылков закольцована. Даже при утечке из системы есть вероятность, что они, хоть по одному подканалу, но выпустятся, и из того, подтекающего подканала вся жидкость не успеет выскочить.
Ра-56 – мощные потребители, но не количества жидкости, а давления. Если остается одна гидросистема, их надо выключать обязательно, ибо они, снижая давление, сами себе усугубят критическое положение. Это оговорено в РЛЭ. Мне как капитану не надо лезть в дебри кишок, а требуется просто понимать взаимосвязи.
Ну а при отказе всех трех гидросистем?
Ничто сразу и резко не отказывает. Практика показала, что такой случай всегда связан с пожаром 2-го двигателя. Помимо экстренного снижения на полосу надо успеть погасить скорость и выпустить закрылки на 28, чтобы стабилизатор успел отклониться от нуля. В нем, в стабилизаторе, заключается спасение. Будет гудеть сирена – к этому надо быть готовым… и хорошо, что загудит: не забудешь выпустить шасси.
Но в первую очередь – закрылки. Пример Пономарева должен настораживать: на тяжелой машине он преждевременным выпуском шасси усугубил положение, ухудшив качество самолета. Здесь лучше выпускать шасси уже в глиссаде.
И немедленно после выпуска закрылков стриммировать, сбалансировать машину до состояния «сама летит». В этом тоже спасение. Стриммированная машина, даже когда застынут рули, только становится подобной авиамодели – но таки летит сама. А стабилизатор, отклоненный хотя бы на полтора градуса, дает возможность подправить балансировочный момент в совсем уж критической ситуации. Дальше, возможно, пойдет работа с перемещением пассажиров по салону. Хотя… сдвинешь ты того пассажира с места, особенно когда надо быстро. Так что на перемещение вряд ли можно рассчитывать. Уж лучше пусть пристегнутся и замрут.
Что касается пожара, то главное: железо – не горит. Главное – перекрыть именно тот пожарный кран. Двигатель погаснет сам, когда выгорит пролившееся топливо.
Капитану в такой ситуации не стоит отвлекаться на такие мелочи как то, что твоя задница горит. Пусть за это переживает бортинженер. Вот этот психологический момент очень важен. Все внимание капитана – на сохранение продольной устойчивости. А все остальное – потом.
У Фалькова горело потому, что в суете и массе противоречивой информации с приборов и светосигнальных табло бортинженер не перекрыл пожарный кран. А у Падукова закрыл – и погасло.
Значит, главное внимание при отказе гидросистем надо обратить на темп ухода жидкости. Немедленно гасить скорость и выпустить механизацию, сбалансировав триммером по продольному каналу. Даже при утечке в системе уборки-выпуска закрылков надо понимать, что течет-то один подканал, а второй работает, хоть и медленнее. А если течет немного, то и текущий подканал будет прихватывать жидкость и работать.
Важно понимать роль насосных станций и не усугубить положение, включив ту, которая связана с подтекающей гидросистемой.
Тормоза и управление передней ногой – дело десятое. Только помнить о том, что рычаги аварийных тормозов надо тянуть и тянуть, не отпуская, чтобы не стравить раньше времени давление азота, а только регулируя их натяжение адекватно тормозному усилию. Опыт тренажера здесь не поможет. А реального опыта аварийного торможения у меня нет. Но надо хоть в уме заранее проиграть эту ситуацию перед приземлением, с учетом ветра.
Кого я поучаю? Все это я знаю, и раньше знал. Правда, приоритеты нынче я расставляю чуть иначе.
Просто я стараюсь утрясти в себе и уложить в систему знания на случай аварийной ситуации, с учетом свежего опыта своих коллег. От ситуаций, правда, бог меня милует. Но самолеты-то стареют…
Для молодых важно не запутаться в той массе знаний, которая давит на мозг. Они не знают, за что хвататься. А я пытаюсь осмыслить и, может, как-то потом выразить, передать опыт. Душа-то болит.
10.08. Был в конторе. Пришла куча бумаг, приказов и т.п., ознакомился, расписался.
В главной радиограмме, о четырех листах, касающейся положения дел в мелких авиакомпаниях, на примере проверки «Владивостокавиа», сделан вывод: нельзя винить погибший экипаж, потому что это не вина его, а беда. Не научились летать начальнички – не научили летать и экипаж.
Десять пунктов, по которым определяется уровень работы любой компании, в этой – нарушены на все сто процентов. Не выполняется ни один.
Прямо говорится: запись о том, что данный экипаж прошел занятия по действиям при сваливании, выглядит кощунственно. Комэска не имеет инструкторского допуска на Ту-154. Ну и т.д.
А я что говорил. Это и есть результат целенаправленного разрушения авиации в стране.
16.08. Домодедовский рейс удался без сучка и задоринки. Молодого штурмана Игоря Арбузова проверял старый волк Валера Статовский. Я ни с тем, ни с другим ни разу не летал, поэтому старался, и посадка удалась бабаевская. Назад из Москвы довез Олег, ну, чувство оси у него еще не выработалось, а так все в норме, будем работать. Главное, садится-то на ось, но перед этим, на глиссаде, отвлекается и теряет тенденции курса, а это чревато.
После полета провели обстоятельный разбор. Валерий Павлович весь полет молчал и не вмешивался, а после полета спокойно, доброжелательно, прямо-таки по-садыковски, разобрал ошибки молодого штурмана, который, кстати, неплохо овладел искусством навигации, но еще не определился в приоритетах. В общем, все мы понравились друг другу.
Назад мы везли из Москвы два экипажа: Потапова и Левченко. Боря просидел весь полет у нас в кабине; говорили об общих для нас с ним строительных делах. Когда я разбирал, в общем-то, пятерочную посадку Олега, Боря не удержался и вставил свое коронное «посадка должна быть рабочей», на что я решительно ответил, что посадка должна быть интеллигентной и оптимальной, а значит, красивой. Нынче же вышла просто добротная: для проверяющего высокого ранга – отлично, но для линейного второго пилота… есть еще поле деятельности над собой.
Потом шли с Олегом и Игорем по ночному перрону и беседовали о нюансах и интуиции.
Вот ради них-то я, в общем, нынче и летаю. Может, они подхватят, а нам с Борей, старикам, пора уходить.
В штурманской массовое столпотворение слетевшихся с веера экипажей… рука устала здороваться. Тут же почему-то старик Селиванов. С радостью поздоровались, поговорили, вспомнили покойного Шилака… Мы-то для него мальчики: я и Гена Ерохин; – а ведь нам уже под 60.
Не хотелось уходить. Что-то я прикипаю к нашей атмосфере… как бы не затосковал на пенсии.
Вчера понадобилось нам занять 11600, потому что на 10600 уж очень болтало по верхней кромке, да не так, как обычно, когда кабина подпрыгивает в вертикальной плоскости, – а как собака треплет попавшую в зубы тряпку: из стороны в сторону. Вес и температура за бортом позволяли, но машина после 11100 зависла и еле лезла по два метра в секунду. На таком вот добре мы летаем, что два двигателя из трех не выдают номинал. Но таки вылезли – и встала крестом: М=0,78, приборная скорость 450; все замерло и не растет. Ждал я, ждал, а тут Володя и говорит: а давай я установлю не по УПРТ, а по оборотам, чтоб был номинал, 92,5. Установил – пошел разгон, машина переломилась, углы атаки уменьшились, и М быстро выросло до 0,85.
Все летчики на это жалуются, пишут, а техмоща отписывается, устав регулировать зарегулированные, затраханные наши моторы.
А то, что я на потолке вынужден ставить практически взлетный режим – кому это надо.
Нет, надо уходить. Этот годик проваландаюсь, без особой нагрузки, до лета, а там… залью тлеющие угли.
Старые боевые подруги, с которыми так плясалось год-два назад, стали смурные и неинтересные. Да, было времечко, два лета, но все это приелось, ушло, осталось лишь в уголках памяти. Иных уж нет, а те далече… И все больше и больше летает с нами молоденьких девчоночек – да это ж их дети! И они меня не знают: ну дед и дед.
Не ищи своих ровесниц в толпе привлекательных женщин. Твои ровесницы – бабушки в платочках.
18.08. Вечером приехал на вылет в Сочи. Благовещенский рейс задерживал весь веер на три часа; толкались в штурманской, но я таки решил отдохнуть пару часов в переполненном профилактории. Нашлась комнатка, где я, впервые в жизни, на перекошенной пропеллером койке, сладко проспал, и не зря.
До Сочи долетели спокойно. Я взлетел с весом 104 тонны, чувствуя на штурвале чугунные руки Сергея Пиляева. Ну, показал ему полет без сучка и задоринки. Так же и сел, заранее напрягшись в усилии перебороть проверяющего. Переборол. Манеры пилотирования, а паче, приземления, у нас явно разные. Серега все ворчал, все ему чуть не так, попарывал старого разгильдяя-штурмана, у которого полет получился шероховатым. Погода звенела.
Пошли в АДП, подписывать на Домодедово. Такой этот рейс: долетаем до Москвы, там ночуем, а завтра назад в Сочи, здесь сутки сидим, потом домой.
Но оказалось, нам посадка в Шереметьеве – указание Абрамовича, производственная необходимость.
В Сочи жара, мы все в мыле; пассажиры возмущены: их-то встречают в Домодедове… Пришлось оправдываться перед ними и просить, чтобы не спускали полкана хоть на ни в чем не виноватых проводниц. Ну, уговорил.
В Московской зоне нас помурыжили-повекторили, как в старые времена. Не воткнуться в эфир, этажерка самолетов… отвык уже я. Но таки вывели нас к третьему на 247. Заходил я в директоре и все сучил газами: то ли воздух слоеный, то ли еще что, но скорость не держалась. Даже раз затащило на точку под глиссаду, уже перед ВПР. К торцу все было в норме, я, упершись в штурвал изо всех сил, преодолел стремление Сереги добрать на метре, прижал, выждал, хорошо потянул, замерла… скомандовал «Реверс включить!» Сергей заворчал: какой реверс… она же еще… Я ответил: включай, включай, она уже… Бабаевская посадка. Ну, знай наших.
Утром задержка с питанием. Пока ждали, когда представитель разберется, делать было нечего, и мы с Сергеем перемыли косточки всем пилотам нашей эскадрильи: кто чего стоит. Пиляев изучил нас всех, он же не вылезает из кабины. И хоть и ворчун он старый, и перестраховщик, но он на своем месте, надежнейший пилот, нужный человек, и я прислушиваюсь к его мнению.
То, что у нас с ним разные манеры пилотирования, не мешает нам уважать друг друга и понимать, что мастерство многолико, а важен конечный результат многолетней работы над собой.
27.08. Проснулся затемно. Тихо играет музыка, а я уютно устроился под лампой и пишу себе.
Работа над рукописью остановилась. Это для меня характерно: начну и брошу. Но что-то подтолкнет – снова продолжу, с еще большим рвением. Пишу-то для души, а не для публики.
И начинают глодать сомнения, похожие на те, что испытывает стареющий мужчина, домогающийся молодой привлекательной женщины: а вдруг… даст? Что делать с нею?
Вот-вот. Важен сам процесс домогания. А что делать, если дойдет до издания? Господи, сколько будет волокиты, нервов, расходов – и зачем? Чтоб потом тебя на всех углах склоняли. И зачем мне эта сомнительная популярность. Трофимов вон издал своё. А теперь наверно сам не рад.
У меня три варианта: писать главу «Власть», либо «Спешка», либо «Каторга». Все три – тяжелые.
Идея главы «Власть». О единоначалии. О затирании человека и ломке судьбы. О самовластье. О коррупции. И обо всем этом в комплексе – с этической точки зрения. А по существу: кто они, властные люди в авиации? На что они употребляют свою власть, свой авторитет, свой профессионализм?
Потребителю важна безопасность. Но и кухня некоторых интересует. А некоторых даже этика.
Мне же хочется в этой книге показать, как сложно мастерство и сколько на пути рогаток. Но главная-то идея нравственная. Ривьер не дает мне спать спокойно.
Глава «Спешка» – чистая кухня. Но писать ее с налету не могу, надо покопаться в материале. Там получится много картинок. Идея же проста: мы постоянно работаем вы условиях острого дефицита времени и все время лезем в ущелье, из которого возврата нет – только вперед.
За «Каторгу» боюсь и браться. Тема бесконечная. Хотя я в своих дневниках отвел ей предостаточно страниц. Что ли – привести записи тех времен как есть? Нагляднее не покажешь, кто вас везет в начале сентября.
Но ведь все это в прошлом. Хотя в СиАТе и сейчас вылетывают по 100 часов в месяц.
Нужно хорошо показать, что летчики тянут каторгу и за ту копейку, и потому, что не вырваться из системы. Показать безысходность.
Тем временем лето-то кончилось. Прямо скажу: от слишком сильного зноя я не страдал, хотя, конечно, были моменты. Сами полеты меня не утомляют, но и особого удовольствия не приносят. Все рушится – хотя у нас в Красноярске вроде бы возрождается… но какой ценой! Дома-то не живем. Ну, меня, старика, жалеют, поэтому я все больше дергаю смычки за бугорок. А люди не вылезают из длинных рейсов. И на зиму Абрамович предупреждает: не расслабляйтесь! Рейсы все обещаются с долгим сидением.
Ну, зиму-то я пересижу в Олимпийце. Это моя любимая работа – дергать Норильски. Хотя… и это приелось. А там уже весна, проблема с уходом Нади на пенсию. Дотянуть до июня, и если не хватит сил, уйти в отпуск раньше, чтоб в жару уже не летать. И все.
Каждый полет – в новом составе экипажа. Это отбивает охоту работать. Буквально: вот у тебя то и это не получается… да провались оно – завтра полечу уже с другим. И планка требовательности к ребятам понижается.
Да и вообще стало у меня заметно равнодушие к полетам. Сам-то я слетаю. А как работают другие… стерплю.
Красивая работа слаженного экипажа кончилась.
Тлеют угли. Еще иной раз пробежит по седеющей поверхности малиновый блик, и снова пепельная седина густо покрывает потрескивающие кусочки. Вдруг вспыхнет где-нибудь с краю пламя… язычки бессильно помечутся в неуверенном танце и пропадут. И вновь малиново светятся угли, и вновь затягивает их сивым пеплом.
Костер угас.
2.09. День рождения встречаю в Олимпийце. Сидим вдвоем с Лешей Конопелько. Пиляев в отпуске, и Леша теперь вместо него. Цель полета – официально проверить, как летает второй пилот Бугаев, а то ведь крен недавно завалил аж на два градуса больше разрешенного. Ну, Олег слетал отлично; посмеялись. Я сидел за спиной, читал газеты, Везли туристов «Миттельтургау», которых мы с Колей в свое время катали-перекатали на Байкал.
Назад лететь снова в ночь, но мы поспали, и уже не уснуть перед вылетом. Леша читает мой опус, а я – «Маленького Принца». Глава «Власть» что-то пока не пишется.
Вот Леша сейчас – и есть эта самая власть.
3.09. В день своего 57-летия я дал молодому пилоту-инструктору Леше мастер-класс. Он сидел за спиной и наблюдал. Запоем прочитав мою первую тетрадь, он получил наглядную иллюстрацию: как ЭТО делает Ершов, который хвастается своим мастерством.
Ну что ж: я приобрел еще одного верного сторонника красноярской школы. Он в восторге.
Ну так подхвати же знамя.
Отдал ему вторую тетрадь. Пусть не спеша прочитает, а я подожду. Пока надо обдумать, как все-таки построить главу «Власть».
Леша говорит, что если бы удалось это издать, он первый купил бы книгу, и жене бы дал почитать.
Все, кто читал, выражают одну мысль: так о летной работе никто не писал – а все здесь чистая правда. Надо искать спонсора.
5.09. Хожу как вареная муха. Три ночи без сна сказываются. Но эту ночь я спал по расписанию, и вроде выспался. А вареный.
Полет на Читу удался прекрасно. Все по расписанию, погода звенела, я дал созревшему Олегу заход в Чите, и он вполне справился.
После выравнивания мы со штурманом Володей Зуйковым увидели птицу, неторопливо летящую над бетоном. Я сказал: щас ворону поймаем…
Володя зорким охотничьим глазом опознал орла. Сели, зарулили – точно: попал в правый закрылок, помял носок, маленькая трещинка, пух, кровь…
Так, ребята. Если раздуть это дело, то задержка минимум на сутки: пока снимут да отремонтируют закрылок… заплатка в две заклепки… да пока отпишутся… оно нам надо?
Договорились с техниками. Опасности никакой, закрылок практически цел.
И тут подъехала машина РП. Ребята, мы нашли на ВПП мертвого орла. Вы сшибли? Мы. Будем раскручивать или нет? Конечно, нет. Повреждений практически нет; долетим до дома, там отпишемся. Договорились.
Здесь молодой, но уже опытный бортинженер предварительно подошел к капитану, посоветовался с ним, собрал консилиум старых технарей. Да, он читал в РПП, что это инцидент, что надо оформлять все по правилам… инспекция, бумаги… Но польза от этого будет только наземным Ривьерам. А нам надо закончить рейс. И разногласий по этому поводу у нас нет.
Систематизируй ты, не систематизируй, а случаи столкновения с птицами были и будут. Случайный орел залетел – и столкнулись на посадке. А могли столкнуться, допустим, на взлете. И какая разница. А дома при послеполетном осмотре – и обнаружили. И записали. Все чин чином.
И прекрасно долетели домой. Идеальный заход с прямой. Все прекрасно.
10.09. В Норильск слетали спокойно. Я дал Олегу посадку на пупок, особо оговорив протяжку. Ну, вроде он понял. И потом долго валялись в самолете, ожидая вылета по расписанию: летим домой пассажирами. Весь полет просидел над кроссвордами и не заметил, как пролетело время.
Вчера Олег тоже удачно сел в Красноярске, притер на скорости, и я был счастлив.
В штурманской устал пожимать руки: все знакомые, все старики, давно не виделись…
Кстати, собрал дедов-капитанов и таки выяснил перипетии истории с Пономаревым.
Они же расплевались с бортинженером после этого случая. Тот взял на себя вину, чтобы вроде как выручить самолет от расследования и избежать убытков: наговорил на себя, что по глупости сам высвистел вторую гидросистему…
Но командиру-то за инцидент, за слабую воспитательную работу, за непрофессионализм члена экипажа – досталось рикошетом… а уже ж было дырочку под орден провертел… Этическая проблема.
Однако старики в голос, хором сказали: хоть тот бортмеханик и самый старый, но и самый глупый. Он и в самом деле, по глупости своей, высвистел жидкость, да вовремя опомнился и успел сохранить несколько литров. И никакой этической проблемы здесь нет. Создал проблему, а командир ее героически преодолел.
Олега, хорошего капитана, жалко.
Однако капитан в ответе за свой экипаж.
Приказа не будет, спустили на тормозах. И, как обычно: скажите спасибо, что хоть не выпороли.
Завершилось последнее лето моих полетов. На тот год я, видимо, только чуть прихвачу июньской полетани – и кончится срок.
* * *
Летные дневники. Часть 10
2001. Главное решение.
24.09.2001. Игорь тут купил пару книг знаменитого этноисторика Льва Гумилева. Предложил мне; я взял и зачитался. Какие умные бывают люди. А меня история привлекает все больше и больше. Хочется осмыслить путь человечества: куда мы идем. И, кажется, какие-то наметки ответов для меня в этих книгах есть.
Взлетел вчера на Сочи, включил автопилот и весь набор высоты нетерпеливо ждал, когда же на эшелоне смогу заняться чтением книги. Пять часов читал, почти отключившись от реалий полета; ребята везли. Потом с сожалением отложил книгу: в районе Адлера скопились грозы, и пришло мое время явить искусство.
Вот так Гульман: на операции он присутствует, но черную работу уже давно отдал ученикам; им «страшно интересно». Но где-то наступит тот момент, когда надо глянуть вглубь, принять решение и, может, сделать пару движений инструментом. Вот эти движения и определят исход.
Скучно стало летать. Наелся. И начинает давить обязаловка: от меня ждут проявления мастерства. От сознания этого я после посадки весь мокрый. Напряжение не от того, что предстоит трудное дело… бог с ним, с трудным… а как бы не обгадиться в глазах людей. Это и есть рульковский синдром: я должен сделать не хорошо, а отлично. И снова холодок в животе.
А оно мне надо на старости? Я же чувствую, что начинаю деградировать: не хватает внимания. Вчера на снижении зевнул скорость: сработала звуковая и световая сигнализация. Потом, подавив в себе чувство досады, опомнился: ведь высота уже меньше 7000, а здесь предел скорости уже не 575, а 600; срабатывание сигнализации на скорости 580 было явно ложным. Отписались; но горечь осталась: я таки отвлекся на расчет снижения и скорость просто прозевал.
Многие проверяющие, я думаю, пережив это чувство – как бы не обгадиться в глазах проверяемого, – просто перестают брать управление… и нравственную ответственность. Проверяемый работает, старается, а проверяющий, со своим опытом, все успевает увидеть, подсказывает… и вроде бы совсем необязательно самому брать штурвал, и даже совсем не надо, а нравственная ответственность за шероховатости пусть лежит на том, а не на тебе: он же пилотирует, а не ты.
Я так не могу. Я и им всем, и себе, должен все время руками подтверждать свою профессиональную состоятельность.
Ворчать, конечно, легче, чем крутить штурвал. Мне кажется – да, собственно, я уверен, – что тот же Пиляев, вечный проверяющий, коснись до дела, уже не выдержит отшлифованные параметры. Откуда бы ему набить руку-то: он с училища инструктор. Я никогда не видел, чтобы он брал штурвал. А сколько таких убежало в управление бумаги перебирать. Ну, Серега, правда, и летает очень много, и очень хорошо видит ситуацию, и улавливает тенденции, и на своем он месте, огромная от него польза. Но я все-таки думаю, раз человек так себя ведет, раз не рискует руками показать, как ЭТО надо красиво делать, значит, не совсем уверен в себе. А может, он просто, по-крестьянски, отметает эти ненужные интеллигентские нюансы, и все.
А Медведев вон, командир объединенного отряда, не стеснялся, брал штурвал и всегда мог показать руками. И я, грешный, тянусь за ним, завидую до сих пор… и спина мокрая, и холодок в животе. Но, чувствую… подходит предел, и таки придется опустить планку. А я не могу. Я видел восторг Леши Конопелько. Таким и хочу остаться в памяти ребят.
Все дело в том, что в пристяжке оно как-то виднее, где ошибается коренник. Со стороны, человеку, не обремененному банальным выдерживанием параметров и борьбой с болтанкой или ветром, конечно, кажется, что вот я бы среагировал раньше, я бы не допустил – ну элементарная же ошибка…
А ты сам сядь и сам повыдерживай эти параметры – и сразу снизится реакция, навалятся как снежный ком задачи по элементарному удержанию курса, скорости, вертикальной, режима, директоров, стрелок АРК… и посыпались элементарные ошибки. И становится ясно: деградация.
А сядь сбоку и следи просто за решением задачи, попарывая за шероховатости, – и будешь на своем месте.
Видимо, моя планка слишком высока. Но – фирма Ершова…
Без малейшей скромности. Или я мастер, или я пенсионер. И на тридцать пятом году полетани я так же порю себя за ошибки, как и в ранней молодости. Мой авторитет на том стоит. А самодовольство я позволю себе на пенсии. Если доживу.
Уж раз ты пишешь книжонки для коллег, будь любезен показать руками.
Любишь ты себя, ох, любишь.
Что делать: я себя люблю именно такого, самодельного. Я люблю в себе мастера… я слишком долго и трудно к этому шел, ломая в себе естество. Тот я, который пришел летать сорок лет назад, превратился в вот этого монстра – но я таки мастер, и я себя уважаю.
Главный итог прожитой жизни не в том, что я научился хорошо летать, а в том, что я – аморфный, инфантильный, трусливый, ленивый в молодости, – сделал из себя классного пилота, способного научить другого, третьего и иже с ними.
Только вот молодость прошла. И жизнь прошла. Но тут что-то одно. Я – выбрал.
Хорошо пишется ранним утром в адлерском профилактории, в одиночестве. Вытаращился в 4 утра, по-нашему 8; вот пишу себе.
Дом, стройка, огород властно подчинили мысли и стремления. Нет бы пописывать свое эссе… а мысли все в деревне.
Внешне все это трудно понять, особенно человеку цельному, практичному… москвичу, к примеру. Ну как можно в расцвете мастерства отказываться от любимой работы, дающей хороший кусок хлеба.
А нецельному, увлекающемуся, импульсивному – каково? Да и не пытайтесь понять – все равно не поймете. Ну не однолюб я. Двулюб… и поэтому мечусь. А совмещать становится все труднее. И то, и другое требуют все большей отдачи сил, и надо что-то бросать, пока те силы еще остаются. А тут еще затеплилось и это литературное увлечение.
Спишут по здоровью, а значит, здоровья не станет, – зачем тот дом? Кто мне будет там землю копать, дрова колоть?
При всей своей импульсивности, я все-таки приучен думать наперед. Не вечны мои полеты. А старость, свежая, еще при силе, уже наступила. Новая пора жизни.
И ведь каждому человеку придется решать эти непростые, болезненные вопросы. Каждому! Придет время.
И еще я не хочу участвовать в развале авиации. Не хочу заражаться классовой ненавистью из-за неудовлетворенных материальных амбиций. И не хочу, чтобы судьба – пусть даже в виде ЦВЛЭК – управляла мною. Уйду сам, уйду как свободный человек. Раньше уйду – раньше приспособлюсь.
Интересную версию возможной причины иркутской катастрофы рассказали мне пилоты-свердловчане. Их пилот-инструктор присутствовал в тот день в штурманской при предполетной подготовке экипажа Гончарука. Второй пилот у него, оказывается, из бывших военных летчиков, и они о чем-то очень спорили и разругались перед полетом, и капитан вроде бы всердцах бросил: «ну, делай что хочешь, я вмешиваться не буду».
То есть: в экипаже не было единого взгляда на выполнение чисто технических способов пилотирования, а были серьезные разногласия. И капитан Гончарук допустил перед самым вылетом возможность спора на эту тему, не пресекая и не настраивая экипаж делать как положено. И, получается, в полете принципиально не вмешивался и дал себя убить. А тот, красноармеец, без опыта полетов на нашем строгом самолете, выходит, экспериментировал. Аргумент в споре – на одной чаше весов, а на другой – жизни пассажиров.
Тогда понятно, как они дошли до сваливания.
25.09. Стали выруливать, и у нас не закрылась створка ВСУ. Табло не гаснет; пришлось вызывать техника. Мы остановились на 11 РД, он подъехал: вроде как не совсем закрыта верхняя створка, но видно плохо… надо заруливать назад, осматривать.
Стали заруливать – гляжу, поехали вниз обороты второго двигателя. Ты что – выключил? Нет, просто провал до 55 процентов, отключился генератор; ну, бортинженер поддержал РУДом… зарулили, выключились. Два дефекта.
Я объяснил ситуацию пассажирам, они поворчали, но вышли. Один молодой человек все рвался в кабину и все читал и читал мне мораль насчет ответственности за пассажиров, что, мол, я их бросаю на произвол.
Не стал я с ним спорить. Он еще в детский садик ходил, когда я уже ту ответственность нес.
Бортинженер Леша Майоров переучивался с Ил-62 на Ту-154 вместе с Толомеевым. Но это не Толомеев. Быстро и толково он организовал осмотр той створки: она, видать, ни при чем, а от жары залип концевик, но надо грамотно отписаться. Главный же дефект – провал оборотов. Инженеры Сочинского аэропорта не имеют допуска к обслуживанию двигателей Д-30КУ, но жиклеры смотреть и менять могут. Побежали искать летний жиклер. Тем временем наш представитель созвонился с Красноярском; я объяснил ситуацию начальнику нашей ИАС, потом Леша проконсультировался подробнее – они люди компетентные. Ну, давай менять жиклер.
Ни резервных самолетов, ни экипажей наших в округе не было, на базе тож. Светило нам сидеть и ждать рейса с базы, с бригадой настройщиков. Но бог смилостивился: с третьей попытки, с новым жиклером, двигатель схватил; а то ведь все зависал на оборотах 42.
Быстро подвезли пассажиров, я по новой принял решение на вылет; Леша, поспорив с техмощой, уговорил всех, причем, аргументировано, подняв прежние записи в бортжурнале, нашел старую аналогичную… ну, молодец. Может брать на себя и не боится, думает о полете, а не об инструкции и собственной заднице. Человека сразу видно.
Запустились, порулили… снова табло створки не гаснет. Потом, с третьей попытки, таки погасло; мы вытерли пот и улетели.
Задержка 4 часа. Пассажиры наши беспокоились: а нас в Красноярске самолет будет ждать, чтобы лететь дальше?
Самолеты ждали. Шесть рейсов на восток сидели и ждали наш рейс. Толомееву бы по фигу, а Леша Майоров сделал все что мог, чтобы сотни людей таки улетели. Вот с таким инженером я согласен работать спина к спине.
Сели мы в четвертом часу утра. Решили поспать, а на запланированную предварительную подготовку подъехать к часу дня.
26.09. Вчера Чекин не стал нас задерживать на предварительной: мол, хороший экипаж все и так делает на самодисциплине. А по сути: извини, Василич, за беспокойство после ночи… требуют с нас…
Тут пробегает Дударев: Василич, зайди, пожалуйста, в ЛШО. Зашел, предложили кофе с коньячком, не отказался. Побеседовали.
Заканчивают набирать мою брошюрку на дискету. Через недельку отпечатают и отдадут мне на правку. Деньги нашли и перечислили в типографию. Тираж – 400 экземпляров, вроде как в твердом переплете. Заикнулись о фотографии: мол, чтоб все знали автора… Я скромно отказался. Меня и так все знают. А за то, что решили сделать по книжке для каждого летчика нашего комплекса, – спасибо. Я мечтал, чтобы хватило хотя бы по одной на каждого капитана Ту-154. Но в ЛШО считают, что вопросы, освещенные мною, вполне актуальны и на других типах. Важен сам подход к проблеме, важны тенденции и нравственный дух.
Ну и вопрос напоследок: может, есть еще что-нибудь у меня в заначке? Я сказал, что это еще не дописанная рукопись для непосвященных.
Поговорили о власти, именно у нас в авиации.
Рассказали мне, какая существует в Ист Лайн программа работы с расшифровками полетов, «Зеркало» называется. Там снятые с МСРП параметры закладываются в компьютер, и полет репродуцируется на дисплее в виде приборной доски, как если бы ее снимали из-за спины пилота прямо на камеру. Зримо и наглядно, по знакомым приборам, летчик видит, как он пилотировал, какие допускал отклонения и ошибки.
Для меня это уже темный лес, баловство, вроде той спутниковой навигации. Мы, ездовые псы, не приучены к благам цивилизации. И, как сказал Дударев, пока еще никто тебя строже не судит, чем ты сам. Вот на этом мы и стоим.
Но цивилизация требует прогресса. Уходя, я остаюсь в старых стереотипах мышления; молодые же пойдут вперед, как это было всегда. А я оставлю им свой опыт, ту основу, на которой и базируется прогресс.
Мне все еще не совсем привычно, в каком я сегодня авторитете. Казалось бы, я такой же, как и все, так же летаю и делю со всеми те же неудобства, усталость и разочарования летной жизни. Рядовой.
Но я выделяюсь. И тем, что живу по совести, и тем, что душой болею за Дело. Я самым истовым образом считаю себя в долгу перед старшим поколением; делом чести считаю и стараюсь возродить и донести до молодых дух и нюансы красноярской школы. Я не стесняюсь сказать об этом вслух. И так, как делаю это я, у нас, действительно, никто никогда не делал. Получается, я чуть ли не посягнул на прерогативу летчиков-испытателей и даю свои рекомендации, и все согласны. Все понимают, что опыт десятилетий добавляет много существенного, вынося его за скупые рамки РЛЭ. И все это утекает вместе с уходящими на пенсию капитанами.
Ну, хвали себя, хвали.
2.10. Книгу надо продолжать. Не сегодня, конечно, но лучше, чем в Олимпийце, мне нигде не писалось. Надо использовать возможность.
Название «Раздумья ездового пса», может, кому-то покажется оскорбительным этой аналогией, но лучшего образа я придумать не могу. Мы – ездовые псы аэрофлота. Нас запрягают и не спрашивают. Мы сами налегаем на постромки. Мы видим впереди на длинной палке манящий кусок мяса и мчимся… даже не столько за тем куском, сколько за удовольствием страсти действия. А в старости, так и не наевшись досыта, волочим ноги уже за тем призраком мяса, которым манит нас хитрый погонщик. А сколько молодых псов, вместо того, чтобы надеть сбрую, встать в строй ездовых и упиться бешеным бегом над облаками, – скурвливаются и предпочитают вести жизнь постельных шавок. Мы же предпочитаем умереть в сбруе, на ходу. А тех, кто, влача поклажу, еще не издох, садят потом на цепь у проходной, за миску пустой баланды.
3.10. Вечером кое-как угрелся в холодной постели и поспал часа три. Перед вылетом позвонил на метео и получил погоду Алыкеля: ветер под 45 градусов, 6-11 м/сек, температура +1, сцепление 0,3.
Вот и думай. Переходит через ноль, идет снег, видимость 2500.
Через полчаса пришла новая погода: на градус похолодало, видимость 3000, сцепление то же, 0,3. Снег идет.
Вылетать или чего-то ждать? Чего?
Честно говоря, надоело мне это принятие решений, этот риск.
Игарка не обеспечивает топливом; да там и сцепление 0,27. Вылетать с перспективой уйти в Хатангу, а днем, когда чуть прогреется, перепрыгнуть в Норильск? Зачем?
Позвонил представитель: грузить? не грузить? объявлять регистрацию?
Что там, в том Норильске? Позвонил еще раз на метео: там передняя часть циклона. Ага, значит, фронт установится вдоль Енисея – и на три дня задует.
Или теплый фронт даст таяние? Или к утру прогреется? Или к восходу чуть похолодает?
Ей-богу, сыт я этим всем. Как хорошо быть просто обывателем, держать под кроватью ночной горшок и весь день ходить в пижаме.
Люди ждут. Экипаж ждет. Девчонки звонят: мы уже встали – летим или нет? Пассажиры томятся в вокзале.
В конце концов, вызрело решение. Сейчас еще не зима. Еще оттает. Я знаю Норильск: не то время сейчас, чтобы замело, чтобы прихватило морозом. Снег с дождем – да, слякоть на полосе – да. Почистят. Если им будет надо – дадут мне нужное сцепление. И полоса, пока стоят плюсы, еще не настыла, чтобы к ней примерзла слякоть. И ветер может развернуться ближе к посадочному курсу. Лишь бы не дали менее 0,3.
Короче, решился. Спросонок вялые мысли плавно разгонялись до взлетного режима.
Поднял экипаж. Дал команду объявлять регистрацию. Привел себя в порядок. Поехали.
Бегом на метео, глянул карту. Циклон идет не с Карского моря, а с юго-запада, и цепляет Норильск как раз центром. Ну, это не классическая схема, а так, облегченный вариант. Потоки юго-западные, а значит, теплые. Видимость дают уже 5 км. Все улучшается, кроме ветра и коэффициента сцепления.
Пришли на самолет – еще дважды запрашивал: все то же. А тут аэропорт срочно закрывается какими-то работами на ВПП. А у нас неувязки с загрузкой: чуть-чуть не успеваем. Стал просить РП, чтобы тот на 10 минут оттянул закрытие, чтобы мы успели взлететь. Договорились. А в голове искусительная мысль: сейчас Норильск даст сцепление 0,28, и спокойно пойдем досыпать…
Дотянули до очередного срока, запустились, на рулении запросили еще раз погоду. И пришла: сцепление 0,35, потеплело до +1. Ну, отлегло. Теперь уж прорвемся: чистят.
Камень с души; засмеялись, зашутили, все пошло легко.
Слетали хорошо. На снижении попросился в кабину приличный пассажир из первого класса: никогда не был, не видел… пожалуйста…
Да садись, смотри.
Зашел я и сел классически; все расчеты строго по схеме, режимы стабильны, пупок обошел с протягом… красиво.
Человек тот оказался директором школы в Диксоне. В восторге пообещал, что расскажет своим ученикам о красотах. Давай-давай. Чтоб не шашлыки их привлекали, а штурвал.
Назад довез Олег, и снова все расчеты удались и завершились притиранием к полосе.
Девчонки угостили нас сэкономленными водкой и вином; вино мы тут же выпили, а водку приберегли в нумера и злоупотребили перед обедом, в самый раз: полторы аж бутылки на экипаж. Но хорошо сняли стресс.
Вот как это оценить. Задержи я рейс еще на пару сроков, пока сопли бы размазывал с решением, Шереметьево бы закрылось, и мы либо толкались бы в самолете, либо вернулись бы в Олимпиец, а вылетели бы через 4 часа, не спавши, не евши, усталые.
А так – плодом моих размышлений, моего решения, рейс получился почти по расписанию. Только кто замерил бы обороты моего взлетного режима.
Так вот мы и сгораем. Весь полет я болтался в кресле, как использованный презерватив. Дремал, проваливался, поглядывал и снова проваливался… спасибо хоть тому диксонскому учителю, он меня встряхнул.
Тяни, Вася, тяни время: легкий хмель давно улетучился, а до сна по красноярскому времени еще два часа. Тяни.
Завтра в ночь летим на Кемерово. Успеет или нет прилететь к нашему рейсу Конопелько, которому до этого еще надо успеть сделать Питер, – но я и сам провезу штурмана и запишу ему в книжку. То разрешали это делать нам, внештатникам, а теперь только штатным пилотам-инструкторам; а Конопелько сейчас официально за ушедшего в отпуск Пиляева. Да кто там станет проверять, кто, когда и куда провез того штурмана. Но мне самому нужна проверка под шторкой, а сделать ее может только штатный инструктор, вот я Лешу и жду.
Как я уже устал от этой полетани. Так же, как и Миша Иванов, и Витя Толстиков, и Володя Шубников, и Олег Русанов, и Толя Шлег, и Витя Гусаков, и Володя Ефименко… Мы все гонимся за этим мясом… уже мозоли на лапах и на нервах.
Тут после рейсов из ночи в ночь брюхо бунтует. Режим я себе позволить не могу и амортизирую ночные рывки своим кишечником.
Но девять-то месяцев я таки потерплю.
5.10. Прилетел пассажиром Леша – из-за этого захода под шторкой и этой провозки штурмана по трассе на Кемерово. Ну, слетали на то Кемерово – образцовый полет.
Возвращались утром, заход в идеальных условиях, но на глиссаде, где-то с высоты ста метров, стало затягивать вниз. Пока я соображал и отключал автопилот, ушли на полточки ниже. Леша сказал: «сейчас загорится предел», и диспетчер подсказал: «идете ниже» – и тут же, на одну секунду, загорелось табло. Я вытащил машину на глиссаду и одним движением утвердил. Посадка безукоризненна, но… обгажена.
В чем причина: то ли кто по мобильнику позвонил, то ли на предварительном старте два борта, стоящих друг за другом, дали помеху, – но это у меня уже третий раз. Ну, отписались. И поглядев друг на друга, сказали: что делают с нами эти суки…
Посетовал я, что вот – наглядный пример деградации: не успел среагировать. Нет, надо собираться на пенсию.
Весь полет обсуждали катастрофу: в море недалеко от Сочи упала новосибирская «Тушка»; летела из Израиля, взорвалась в воздухе, два борта это видели. Ну, по телевидению выдвигается версия: в Крыму как раз шли учения ПВО; может, сбили случайной ракетой. Ну, и версия теракта.
Выловили 14 трупов, подняли куски фюзеляжа… в них вроде как пулевые отверстия, много… Ну, самописцев не найдут: там 2 км глубины. Вряд ли установят причину.
Тягостное чувство. Это может случиться с кем угодно. Но… это не со мной. Я воспринимаю это чисто умозрительно. Судьба.
Теперь надо сделать завтра еще Норильск. Уже выбились из режима.
Гена Ерохин тоже вылетел на Норильск по сцеплению 0,3… и сел в Игарке: Алыкель закрылся очисткой полосы. Ну, 7 часов просидели в самолете. Не повезло.
А мне завтра лететь под циклон. Ну, будет день – будет пища.
6.10. Как ни крути, а из семи суток пять – коту под хвост. Я имею в виду – ночей. Первая ночь – рейс; вторая – вроде спали. Третья – снова рейс. После него мертво спали днем, и четвертая ночь уже ни то, ни се, провертелись. Пятая – рейс, а следующая – пассажирами домой. И всего 25 часов налета за неделю. Гораздо проще было бы сделать две Москвы с разворотом из дому, плюс Норильск.
Нынче, выбившись из режима, провертелся всю ночь, но в 5 утра (9 по красноярскому) таки встал: собираюсь писать главу «Каторга».
…И написал, на одном дыхании. Обстановка способствовала, что ли. И теперь как иллюстрацию надо дописать сюда историю нашего полета в Алма-Ату, с той Карагандой, когда я чуть не задавил на полосе пассажиров.
Разыщу дома тетрадку, допишу – и глава готова. А пока пошел я в бассейн.
9.10. В Милане на взлете столкнулись два самолета: МD-89 компании SAS и чья-то «Цессна». Там полосы лежат как во Внуково; и двум самолетам старты одновременно разрешили взлет. После рубежа, когда MD-89 уже поднял было ногу, они сошлись на перекрестке. Попытались резко, под 90, отвернуть, ну и развалились, причем, «Дуглас» въехал в склад; 126 жертв.
Удивляюсь борзописцам: бойкий народ. Они разнюхали, что в этот день в аэропорту не работал радар. «Это заставляет взглянуть на катастрофу под другим углом…»
Радар не работал – это все равно что не работала столовая. На взлете радар не используется: на близком расстоянии он вообще ничем не мог бы помочь пилоту. Он не для этого создан.
Объяснишь это «папаратцам» – они скажут: «Э-э-э…» И снова начнут ковырять пальцем в …
А тут коню понятно: виноват диспетчер одного из стартов. Человеческий фактор. Кто-то с кем-то не согласовал.
10.10. Взялся дома за рукопись и закончил главу «Каторга», вставив иллюстрацию о той шестипосадочной Алма-Ате. Получилось вполне выразительно.
Теперь намечается глава о бортпроводницах, об их незавидной судьбе, о наших с ними взаимоотношениях.
И еще одну главу запланировал: о человеческом факторе. Тут и спешка, и бизнес, и глупость, и ложное самолюбие, и самоуверенность, и недоученность.
17.10. Вчера на даче убил руки, сколачивая опорный венец бани. Ночью ворочался, и сейчас болят кисти. Поэтому сделал рукам выходной и весь вечер читал.
Последние в моей жизни занятия в УТО. На аэродинамике разбирали с Червяковым иркутскую катастрофу. Я увлекся и активно участвовал в обсуждении.
Он считает, что крен более 40 градусов мог быть вызван поломкой направляющего рельса внутреннего закрылка. Такие случаи бывали в начале эксплуатации. В частности, мало освещенный случай с грузинским экипажем в Тбилиси, лет 15 назад.
Тогда у них это произошло при уборке закрылков после взлета. Высота была 120 м, и когда установили рукоятку на ноль, возник крен. Экипаж, не проверив по указателю синхронность или несинхронность уборки, ничтоже сумняшеся включил тумблер «Синхронизация» чтобы автоматика подогнала исправный закрылок к неисправному. Но концевики этой системы установлены на крайних закрылках, а отказал внутренний, и включение синхронизации только обесточило систему управления закрылками от рукоятки. Межу тем крен достиг уже величины почти 60 градусов, нос стал опускаться, и грузины заорали в эфир. Заорешь тут, когда до смерти остались секунды.
Услышал умный человек с другого борта и крикнул им: «Ставь на 28!» Они поставили, а система-то обесточена. Они снова в крик: «Нэ выпускаюцца!» Человек сообразил, дай бог ему долгих лет жизни, и крикнул: «Синхронизацию – на автомат!»
Это их и спасло. Выпустился убранный закрылок, встал вровень с отказавшим, крен уменьшился; вытащили самолет и остались живы.
Здравый смысл должен присутствовать. Сделал что-то, видишь, что машина ведет себя неадекватно, – переиграй назад! А все эти запутанные синхронизации – от лукавого: конструкторы думали, как лучше, а получилось хуже, чем всегда. Синхронизируются только внешние, а на крен большее влияние оказывает несинхронность внутренних: они и по площади больше, и отклоняются на больший угол, и это важнее, хотя плечо рычага вроде и меньше.
Говорили много, к общему выводу так и не пришли. Версия Червякова хоть и красива, но несостоятельна. Он считает, что комиссия, расследующая эту иркутскую катастрофу, скрыла факт поломки рельса, чтобы летом не ставить весь парк Ту-154М на осмотр, как ставили когда-то по аналогичной причине все Ил-76.
Ну а после того, как Украина официально признала, что ее ПВО сбила наш Ту-154 над морем, можно смело говорить и о катастрофе под Хабаровском, где самолет упал так же отвесно, как и на Черном море. Возможно, и его сбили. Первый раз, что ли, – сказал этот ихний… президент… Кучма.
Ну так вот: тбилисский случай должен стать хрестоматийным. Именно – «в смысле здравого смысла»: убрал закрылки – кренит – переиграй назад!
Этого пункта у нас в РЛЭ вообще нет, а жаль. Об этом давно твердят летчики-испытатели, свято исповедуя принцип «переиграй назад» в своей работе.
Ну а нам надо мотать на ус и не теряться.
Уйду на пенсию – никогда наверно не полечу пассажиром. Я слишком много знаю.
А впрочем, я фаталист.
18.10. Сдал аэродинамику… последний раз. Билет попался №1, и я на него ответил не глядя, левой ногой, первым. Это, правда, не значит, что я на старости лет выучил аэродинамику, тем более, скоростную, в которой чем старше, тем больше путаешься. Просто там, как водится в билетах №1, общие вопросы, а язык у меня подвешен. Да и бог с ней теперь. Всё.
26.10. УТО идет своим чередом. Две недели мы переводим время в дугу: делаем вид, что учимся, а преподаватели делают вид, что учат. Для меня лично там нет ничего нового или того, что могло бы пригодиться в полете. Ощущается явный английский акцент во всем… на хрен бы это было мне надо. Дух лизания задницы Западу, рационализм, бюрократия, приведение всего к непонятной нам системе, – все это отталкивает от полетов.
Пропал у меня интерес. На занятиях я либо читаю, либо рисую свою баню… а вы там переживайте за то, кто и как за вас будет сдавать экзамены, собирайте деньги на коньяк и суетитесь. Однако на экзамене все обращаются ко мне за мелкой помощью: где надо, я слушаю преподавателей очень внимательно и кое-что таки помню. Да и умею найти нужную информацию в учебнике.
Но мне это все уже не надо. Не пригодилось за 34 года, не пригодится и на тридцать пятом. И я спокойно бью баклуши.
Нам что-то диктуют, народ старательно записывает… а я сижу на первой парте, смотрю поверх очков в рот преподавателю, изредка вставляю реплики; но ни конспекта, ни ручки у меня на столе нет, как и не было никогда, а лежат чертежи дома, бани, да книжка фантастики. Меня никто не трогает, а в коридоре преподаватели здороваются за руку. Я монстр, ископаемое, дед.
Тут у нас выкатился пулковский Ту-154, не хватило ему 3000 м полосы, а заходил же по ОСП. Не хватило и мужества дождаться, когда повторно включенный реверс затормозит машину; сыграло очко, рванул аварийные тормоза, снес колеса… и не хватило-то 40 метров. Слабак. Смена, блин.
2.11. Держу в руках отпечатанные странички своего труда. Не верится, что это я написал: так сложно, и так складно… и куча ошибок. Ну, исправляю, особенно чью-то самодеятельность в пунктуации.
Тут еще Костя не врубился и набрал на компьютере вторую часть, собственно полет; а ту тетрадку, что они с Фуртаком мне заказали, о предварительной подготовке, где-то заныкали, скорее всего, она у Фуртака. Ну, пусть работают дальше. К Новому году обещают сделать книжку. А я пока дал ее почитать ребятам, и настырный Паша Коваленко ткнул меня носом в несколько ошибок, за что получил благодарность.
Паша мне нравится. Это романтик авиации, умный, настырный, деловой, и надо вводить его в капитаны, несмотря на некоторую его несобранность и легкое разгильдяйство. На таких вот ребятах будет держаться авиация дальше. Он не ленив, энергичен и современен, потомственный пилот. Ищет фильмы, литературу, интересуется всем, все знает… авиация для него – мать родная.
Пришел приказ по иркутской катастрофе, подробный, с объяснениями, лирическими отступлениями и оргвыводами. Виноват во всем экипаж: рвали друг у друга штурвалы, потеряли пространственное положение и т.п.
Все это так. Все это правда. Но правда явно не вся. Они дают посекундную циклограмму, но как только доходит до конкретного: на сколько градусов и в какую сторону были отклонены элероны, – так идут лирические отступления. А потом вдруг получается, что экипаж, на скорости 400, при угле атаки 7 градусов и крене 45, за три секунды, рывком, доводит угол атаки до 40, перегрузку до 2,0 и сваливается в плоский (!) штопор с вертикальной сразу аж 100 м/сек. И это нам, практическим летчикам, ну никак непонятно. Непонятно, и все.
Ну, теперь рекомендуют сначала выпускать закрылки на 15, а потом – шасси, и далее – как обычно.
Правильно. У самолета уж очень мал запас по углу на чистом крыле при скорости менее 400. Да и с закрылками 15 на скорости 340 АУАСП явно запищит.
И нигде в приказе не сказано, что сунь закрылки на любом этапе, даже и с креном 45 и вертикальной 10 м/сек, – и спаслись бы.
Последнюю неделю нам читают всякую фигню: набившие оскомину аварийно-спасательные; какую-то авиационную безопасность – травим с тетей анекдоты или болтаем ни о чем, вернее, болтает она, а у нас уже уши болят. Короче, людям платят за часы, а нам – по среднему; вот и переводим время в дугу. Вторые пилоты откровенно прогуливают; мы, старики, и примкнувший к нам молодой командир Батуров, ходим минута в минуту и высиживаем полностью. И бога благодарим: мы таки видали виды в УТО в свое время, а сейчас… сейчас синекура.
8.11. День 7 ноября поехали праздновать к Гульманам. С удовольствием пообщались; я привез армянского коньячку, а Марк Израилевич угостил молдавским; ну, нашли, что мой лучше, мягче. Да и выпили за профессионализм.
Подержал я в трепетных руках его Золотой скальпель с выгравированной надписью: «Лучшему хирургу». Да. Это заслуга. Это тебе не медаль какого-то безликого ордена «За заслуги перед Отечеством» 6-й степени класса «Ю». Это – сами хирурги признали Хирурга Божьей милостью Гульмана лучшим среди профессионалов.
Мне 57 лет, и я в своем деле тоже не из последних, но профессор Марк Израилевич Гульман оперирует и после 70 лет, сам перенеся недавно тяжелейшую операцию. Вот – Человек.
14.11. Надя не хочет уходить на пенсию. Вопрос упирается и в деньги, и в страх перемены образа жизни.
А для меня с пенсией вопросов нет. Я дал себе срок: пролетать после училища 35 лет. Это почтенный летный стаж. И это – граница, за которой склероз и маразм начнут «привуалировать».
Если честно, надо было уходить нынче летом. В этом году я всерьез убедился в том, что летать не хочу. Я отстал от жизни, устал от новаций; я хочу режима, покоя; я не хочу принимать решений. Хватит.
Если б это еще была работа не в небе, а на земле, можно было бы подумать. Но возить пассажиров пилоту, которому это осточертело… это преступление. Уже в принятии решений превалируют усталость и болячки. И если в Норильске при погоде чуть хуже минимума, не дай бог, мне придется решать: лезть в сложняке или уйти в Игарку, где я в свое время поймал пневмонию, – то я полезу, нарушая минимум, надеясь на свое мастерство… и на то, что мне простят. И решение это – за секунды – будет чисто рефлекторным: «В Игарку? Да ни за что».
Мне надоело летать под страхом расшифровок. Я всю жизнь летал свободно, летал так, как хочу, т.е. строго по РЛЭ, и расшифровок на меня не было, потому что секундное загорание любого табло воспринималось тогда начальниками просто как неизбежная шероховатость полета. Я летал так, как мне было удобно, выработав эту свободу в рамках раз и навсегда вдолбленных правил. А теперь я в растерянности: незыблемые правила оказались почему-то пограничными состояниями, где дежурит с расшифровкой мудак. Зачем мне такая работа? Она сожрет все нервы и доведет до ишемии одними объяснительными.
В моем возрасте любой инцидент в полете, а паче – при разборе досадной мелочи после полета, вполне может довести до списания. Слишком велико стало мелочное нервное напряжение.
Но… денег надо.
19.11. В Нью-Йорке упал на взлете А-300, 255 человек. Причиной называют попадание лайнера в спутный след другого тяжелого самолета, пересекшего его курс менее чем за две минуты до катастрофы. Экипаж пытался выровнять машину, но так рванул, что от перегрузки отвалился стабилизатор.
Я сам попадал в спутную струю; это серьезное дело. Нас недаром на аэродинамике лет десять назад стали стращать этим спутным следом: катастроф по этой причине предостаточно. И не предскажешь: на малых высотах спутного следа не видно. Это судьба.
20.11. В воскресенье утром на даче наблюдали с Надей, как взлетел и развернулся над нами на север красавец-лайнер Ил-18. Полюбовались, проводили взглядом дымный след; я, между прочим, сказал: «Жив еще…»
И как сглазил. Вчера сообщение: под Москвой разбился Ил-18, выполнявший рейс из Хатанги, 27 человек…
А он ведь точно взял курс от нас не на Норильск через Суриково, а правее, прямо по трассе на Хатангу.
И правда, говорят, что я глазливый. Но ведь вид старого боевого друга вызвал у меня самые лучшие чувства… а оно вон как обернулось.
На днях исполнилось 20 лет со дня гибели экипажа Шилака. С тех пор я сумел перебороть страх перед нашей машиной и полюбил ее. И уже собираюсь с нее уходить, наевшись от пуза романтикой. Завтра в рейс… а меня не тянет.
22.11. Слетали с Пиляевым на Питер, легко, спокойно. Серега как всегда старательно мешал своими подсказками и ворчанием, но меня этим уже не проберешь, справился. В Питере посадка отличная, причем, в процессе выравнивания, уловив, что перемещаюсь вбок от оси, прикрылся левым кренчиком, вернулся на ось – все это в пределах метра – и посадил как учили.
Назад нам загрузили 5 тонн груза на сиденья в первом салоне, но бизнес-класс был пуст, не считая какого-то одинокого богача, а в хвосте сидело человек 60 негров-малайцев, и среди них, у самого туалета, маячило улыбающееся лицо уважаемого старого капитана Александра Кирилловича Кутломаметова, летевшего из гостей от сына.
Центровка была задняя, руль высоты на эшелоне стоял на +7; Пиляев ворчал и требовал от бортинженера выработать топливо из третьих баков. Я ухмыльнулся: и так справлюсь…
Пригласили старого пилота в кабину, со всем уважением. Тот погромыхал своим голосом, веселый… ну, посидел у нас на посадке. Центровка таки давала себя знать, пришлось – и из-за нее, и из-за Сереги, – взять штурвал железными руками. Перед торцом, ожидая легкой инверсии, сдернул до 75… напрасно: только выровнял, только сказал «замерла», как тут же, мягко, с пяти сантиметров, и плюхнулись; ну, выручило то, что унюхал высоту выравнивания. И директорный заход потребовал очень больших усилий, может, из-за центровки: руль на глиссаде стоял на +2.
Весь полет ловил себя на мысли: мне этот рейс, этот полет, это перемещение в пространстве, эти посадки, – по фигу. Володя Зуйков вез, Сергей контролировал, шебутился, Володя Ефименко стоял у своего пульта, разминался, Олег на стульчике писал бумаги. Довезли; я снизился, сел. Взлетел обратно – и по фигу. Снизился, сел – и по фигу. Все мысли о деревне, о доме, о бане…
Но так же нельзя. Ну, месяц, ну, два, ну, три. Надо уходить к лету.
Завтра в ночь летим на Владик. И хватит, хватит на этот месяц. Выбиваться из режима… Да больше и рейсов нет. 20 часов – обожраться.
И поехал я в деревню.
Волшебная погода. Низкое солнце чуть греет щеки, в тишине с ясного неба падает снег, легкий как пух. Свежий, слегка морозный воздух хочется хлебать ложкой. Чуть мерзнут ноги, но рядом теплый, уютный дом, с горячими батареями, с чаем… Благодать. Стучу себе, пилю молча, в тишине. Что еще надо человеку.
24.11. Весь восток был закрыт туманами, но прогнозы обещали улучшение. Главное, у нас были самые лучшие условия, и я-то уж точно готовился вылететь на Владик по расписанию; остальные экипажи ушли в профилакторий, заняв все места.
Как вдруг пришел корректив прогноза, согласно которому вылетать можно было только через три часа, и то, только дождавшись нового прогноза.
Деваться некуда, остались в штурманской. Медленно тянулось время. Мы прели в теплой комнате, одетые под мороз: за бортом прижимало под -20. Владик туманил, там раннее утро, надо ждать.
Наконец пришел летный прогноз, и фактически туман приподнялся и завис на 60 м, а минимум там 70. Но я решился лететь и дал команду службам.
Потом долго сидели с пассажирами в самолете: час ждали МА-7, чтоб обработала нам туалеты.
Уже 12 часов я на ногах… ну, на чугунной заднице, какая разница; задремывалось. Вспомнились приснопамятные задержки прошлых лет… тоска.
Но все кончается; взлетели. В полете после завтрака засосало: седьмой час утра.
Тягомотный, долгий полет, солнце в глаз, ветер во втулку, двойное питание…
В течение полета Владик давал последовательно нижний край: 70, 90, 100, 120 метров. Олег зашел и сел строго на знаки, без особого выдерживания, уложившись в перегрузку 1,2. Поздновато включил и рано выключил реверс; машина прыгнула, и я забрал тормоза.
Прямо скажем, они на этой 683-й дерьмовые. Я стоял на педалях, обжав всем весом тормозные гашетки; подкатывала уже 7-я РД, а машина неслась. Ну, надо иметь терпение и выждать, понимая, что с уменьшением скорости эффективность тормозов улучшится. Успел срулить на скорости, матерясь. А ну-ка: от посадочных знаков – и не хватило полосы аж до 7-й РД, еле вписался в сопряжение.
Приползли в профилакторий, упали – и мертво уснули. А теперь вот проснулись: 5 вечера по красноярскому. И до подъема осталось 10 часов; теперь хрен уснешь. Это будет не ночь, а мучение.
Возвращаемся к обеду в воскресенье, а рано утром во вторник пассажирами залетаем в Домодедово под три рейса: Норильск, Кемерово, Мирный. Возвращаемся 4-го, пассажирами. В понедельник вечером надо уже заезжать в профилакторий, чтобы утром успеть пассажирами на 147 рейс. Он теперь вылетает на час раньше, и на служебном мы не успеваем на регистрацию, да просто мест уже не будет. А в ночь уже гнать рейс из Москвы на Норильск.
Оно мне надо на старости лет? Там, в Москве, все рейсы – в ночь с разворотом. А на Мирный теперь летят сразу два экипажа: один болтается пассажирами в салоне туда, другой назад, а платят за рейс, естественно, меньше. И снова пять ночей гробить здоровье. Молодым-то романтика… ночь над бескрайними просторами Сибири…
Нет, ребята. Я, конечно, дотерплю, но – до весны. А там летайте сами такими вот рейсами. А жены ваши будут грызть подоконники.
Кишечник снова возмущается сбоем режима. То ли еще будет.
Господи, хоть бы сорвалась эта Москва, да заехать бы на пару дней в деревню. Руки отошли… но начало побаливать в одиннадцати местах сразу. Нет, надо работать и работать, молотком и лопатой.
Во Владике я подкорректировал первую часть брошюры, добавил кое-что, теперь она готова к набору. Завтра завезу в ЛШО: отдать и забыть.
Съездил и отдал. Мужики смущены: денег больше нет, и вряд ли до Нового года грамотеи из типографии наберут первую часть; ну, решили, раз проплачено за вторую – печатать вторую, отдельной брошюрой: «Выполнение полета»; а первую, «Подготовка к полету», – уж как получится… Я так понял – дай бог к лету, и то, если деньги появятся.
Нищета наша. У авиакомпании нет денег на то, чтобы брошюркой обобщить опыт лучших летчиков. Да и опыт этот… кому он нынче нужен. И летчики эти на хер не нужны никому.
Положил я им ее на стол: разбирайтесь с нею как хотите, теперь уж сами. Я свой долг отдал. Больше писать не буду.
27.11. Аэротель. Прекрасные нумера в тихом углу первого этажа. Пиво. Письменный стол, он же, правда, холодильник, он же – подставка для телевизора. Ну, телевизор – на окно, тем более что пульта к нему нет; пиво – в холодильник; теперь стол как стол.
Продолжаю свой роман. Есть мысль начать главу «Стюардессы». О том, как идут в небо с мечтой, а в конце таскают мешками картошку на севера, а оттуда ведрами икру… Ибо в одиночку надо поднимать детей.
В моей книге слишком велик крен в сторону прозы полетов, кухни, закулисья. Но что делать: я, старый пес, нажил на этом деле болячки, испортил характер, и вот ворчу. И вы будете ворчать, молодые романтики.
Но есть что-то главное, чему мы служим. Есть тот кнут, что гонит и гонит нас до могилы; правда, и кусок мяса на палке перед носом есть.
Тут Нина высказала тайную надежду, что, мол, обещают же с нового года что-то там с пенсиями… А иначе… куда деваться.
Да уж, верь, Нина Васильевна. А я что-то уже и не верю. И никто не верит… и летает пожилая женщина за штурвалом: со стороны – верность романтике, книга рекордов Гиннеса… а внутри – страх нищеты.
Посомневавшись, поддаваться ли сну после сытного обеда, я прилег с книжкой, прислушиваясь к хлопанью дверей соседнего номера. По оживленному разговору, хихиканью девиц и быстрой, энергичной ходьбе, понял, что там затевается пьянка, а значит, через 2-3 часа поспать уже не дадут. И вырубился. И точно: разбудила музыка за картонной стенкой и хохот пьяных людей. Поворочавшись было, я под этот шум снова задремал. И так, урывками, перемешав в мозгу реалии и сновидения, проспал аж до звонка представителя.
Погода в Норильске была приемлемая; надо лететь. Решился, поднял экипаж, поехали на вылет… тут же пришел новый прогноз… нелетный. Нельзя лететь. Улучшение только через 4 часа, а значит, надо задерживать вылет.
Плюнул, дал задержку, поехали в свои еще теплые нумера, благо рядом. Это еще хорошо, что не взлетели.
И ругаю себя: мудак старый: кто тебе не давал звякнуть еще раз на метео перед выходом из отеля – ведь соображать надо, что уже должен быть новый прогноз. Правда, сбивает с толку это время: по Гринвичу, по Красноярску, по Москве… путаемся.
Сижу вот, убиваю время. Пьяный разговор за стеной затихает…
В какой бы из совковых гостиниц мне ни приходилось бывать (а уж приходилось!), ни в одной из них нет самого главного, что нужно для отдыха: тишины. Унитаз там, душ, жалюзи и прочие аксессуары есть почти везде, – но нигде нет герметичных, с тихими замками, подогнанных дверей, и везде экономят на тамбурах. Что толку от евроокон, когда перегородки из картонки. Что толку от ковровых дорожек в коридорах, когда дверь со щелями и замок с зазором, отчего его язык клацает при малейшем сквозняке.
28.11. Новый прогноз пришел летный. Весь полет я спокойно читал Федосеева. Никаких запросов о погоде не делали до самого Каменного; над Каменным получили погоду Норильска: нижний край 50.
Ну и что. Единственно, досадно, что если бы вылетели вовремя, то уже сели бы, а так попадаем ну в самый фронт.
Снизили нас до 1800, и стали мы нарезать круги. Топлива хватало. Диспетчер каждые пять минут передавал нам данные контрольного замера: видимость 550, на полосе 1300, вертикальная 50, переохлажденный туман… видимость 700, на полосе 1500, вертикальная 50… видимость 820, на полосе 1600, вертикальная 50…
Лучше замеряйте.
Видимость плавно, но неуклонно возрастала, и это вселяло надежду. Но уже пошел третий круг, а лучше никак не замеряется.
Мы упрямо кружили, несмотря на то, что прогноз на два часа давал те же 50 метров.
Потом диспетчер дал 60. Ага, дело улучшается. Ну, ну! И через минуту он дал нам вожделенные 70 метров и снижение до 600. Остальное было делом техники.
Полосу я увидел с полутора километров. Она достаточно выделялась в сумерках на белом снегу. Посадка не представила трудности.
А ведь недавно Володя Щербицкий присадил на пупок машину с перегрузкой 2,05: сильный, порывистый встречный ветер, метель и черный колодец после ярких ОВИ. И вроде ж на режиме сажал – присадило-таки.
Я же обезопасил себя еще на глиссаде: центровка передняя, переложил стабилизатор на 5,5 и над торцом предупредил экипаж: делаю предвыравнивание!
Ну, в пределах мокрых подмышек. Ожидал худшего.
Обратно довез Олег, с нюансами, но сел хорошо, молодец.
Довольны, что таки управились с Норильском и вдобавок поймали заход по минимуму.
29.11. Умер Астафьев. Лучший и честнейший наш писатель, народный. Он бередил в нас самые тайные чувства, он за уши вытаскивал нас из грязи и мерзости, из этого городского верчения червей в выгребной яме, заставляя обращать наши взоры к вечному. Я стал намного лучше, порядочнее, честнее, благодаря ему.
Спасибо Вам, Виктор Петрович! И вечная память наша.
Вот – Человек.
Читаю снова Федосеева. И снова и снова восторгаюсь его Улукитканом. Вот – тоже Человек.
В принципе, что надо-то, чтобы быть человеком. Надо желать людям добра. Как это нелегко сейчас; как слепит глаза обида на людей – какие они злые, на общество – какое оно жестокое.
А все же, коснись отдельно взятого человека, – у него внутри остались тонкие, нежные ростки добра, только некому вытянуть их наружу. Всем некогда. И мне тоже иной раз некогда. Я забиваюсь в свою щель, я устал от людей… Да и невозможно от них не устать.
Взять эту Москву – да это же клоака. Друг по дружке ходят, везде доллар… Каждый извивается. Это не жизнь. А их же – миллионы.
И думаю поневоле: какое счастье, что я живу в Сибири. Как много здесь места и как мало людей. И как долго их здесь еще будет немного, и будет нормальная жизнь.
1.12. Вот и зима пришла. И как-то осень пролетела в делах. Так и жизнь пролетит.
Сидим тут… Кемерово обошлось, слава богу.
Старый волк, а купился на погоде. Хотя… с этими маасковскими синоптиками… У них на карте – антициклон с центром в районе Новосибирска. И в Кемерове давление под 760. Значит… значит, мороз и солнце, день чудесный!
Ан нет. Уже было запросили буксировку, как руление передало: пришла РД из Кемерова, закрылись туманом, видимость 300.
И пришел корректив прогноза: то давали 5000, временами 400, а тут сразу – 400, временами 1000, и на весь срок.
Откуда туман? Может, полынья на Томи, может, заводской дым спровоцировал, – я не знаю кемеровских местных особенностей; но я знаю, что обычно там погода хорошая. А вот система там не работает, один чистый ОСП, минимум 120х1800. Куда лезть-то. Перенес вылет на утро, да и пошли спать в Аэротель.
Разбудил меня под утро представитель: дают видимость 5 км. Я позвонил на метео: прогнозируют 5000, временами 1500. Другое на фиг дело. Поднялись, подготовились, полетели. Полет днем, благодать, спать не хочется, жрать можно без меры…
Интересно: от Урала, несмотря на антициклон, вся земля закрыта низкой облачностью. На подлете Новосибирск передал нам кемеровскую погоду: видимость две тысячи.
Ну, две так две. Но в чем дело?
На снижении пробили облачность: внизу – мгла; земля просматривается, но только под собой. Снегопад. Какие там две тысячи. Ну, готовимся зайти по приводам. А привода те гуляют – плюс-минус десять градусов.
Диспетчер нам в помощь включил курсоглиссадную систему новой, еще не введенной в строй полосы. Торцы у них рядом, а дальше полосы чуть расходятся. Но наш торец, на старой, правой полосе, перенесен вперед – это раз; мы не знаем, как точно показывает необлетанная система – это два; если уж принял решение заходить по ОСП, значит, заходи по ОСП – это три. И четвертое: не дергаться.
Снижался на автопилоте, четвертый разворот подальше и пораньше, ожидая прогнозируемого ветра слева… хрен – ветер в лоб; вышли левее по МПРам, стали подкрадываться, помня, что углы выхода не должны быть большими. Дальней нет – горизонт, добавить режим, плавный доворот в сторону ближней…
И тут диспетчер собщил: «Вы левее две тысячи».
Не зная, сколько осталось до ДПРМ, я энергично взял вправо, следя за стрелкой ближнего; ага, вот стрелка дальнего плавно поехала вправо, пролет ДПРМ, снижение по 4 метра… пора бы уже влево…
И тут Олег разглядел во мгле полосу: полоса слева! Чуть не проскочили створ; диспетчер дал обратный пеленг 227 – и тут же я увидел в форточке две темные полоски. Энергичный отворот влево, S-образным маневром вышел на ось правой полосы, стабилизировал вертикальную, адекватно поставил режим 74, 76, все стабильно… рев ССОС, секунд двести… нет, десять… нет, секунд шесть подряд таки рявкала… хрен с ней, полоса перед нами.
Остальное руки сами сделали.
А привода показывали черт знает куда.
Зашли к синоптику. Что это у вас тут за антициклон? Что за мгла?
Какой там антициклон – два теплых фронта. Инверсия под фронтом, от нее и мгла. Снежок чуть сыплет. Вот и верь Москве.
Ну, поставили хоть сложный заход.
Ну что. Заходил я спокойно, на инерции опыта, зная, что уж сяду-то точно. Даже не вспотел. Но от посадки этой осталось ощущение разочарования: так не заходят на тяжелом лайнере. Ну, мастерства хватило, конечно, но это не заход, а что-то приблизительное. Спасибо Олегу, что вовремя заметил полосу, – у меня она как раз перекрывалась левой стойкой фонаря, и если бы я промедлил еще секунды три, посадка вряд ли удалась бы, либо крутил бы на пределах, доворачивая на малой высоте, чего не люблю.
В Домодедове Олег притер машину на цыпочках, но левее метра три.
Слава богу, с Кемеровым обошлось.
3.12. Заканчивается командировка. Вчера мы на пару с Виталиком Полудиным слетали на Мирный. Кому лететь туда, а кому оттуда, решил жребий: туда выпало мне.
Перед полетом на меня нашло вдохновение, и я вместо предполетного отдыха написал главу «Человеческий фактор». Володя Ефименко выхватывал свежие страницы прямо из-под пера и глотал, точно как я шипящие котлеты со сковородки. Правда, осталось сделать еще выводы по главе, но тетрадка кончалась; оборачивалось так, что полтора листа мне не хватит, и я отложил пока.
В полете моим опусом зачитался Виталик, да так, что все пять часов и не спал. Хвалил. Дык… все хвалят. Сейчас новую главу выпросил Олег, тоже зачитался. Да и к чему там придраться: это наша жизнь…
Мирный давал хорошую погоду, но мороз, -40. Я классически подвел машину к земле и завершил полет бабаевской посадкой, не придерешься. Не вылезая из самолета, устроился с экипажем во втором салоне.
Назад нас повез полудинский экипаж, и в Домодедове Виталий Николаевич порадовал классной, не хуже моей, посадкой на газочке. Ну, мастерство – оно и в Африке мастерство. Нам есть-таки что показать молодым.
Сдержанно похвалили друг друга, но пальму первенства я справедливо отдал Виталику: все-таки он больше моего устал.
Признался он мне, что единственную свою грубую посадку в Иране совершил благодаря водке: запились они там. С тех пор не пьет абсолютно, уже шесть лет. Вот – мужик.
6.12. Краснодар. На едином дыхании написал главу «Стюардессы». Писал – слеза катилась. Казалось бы, чего особенного, а всколыхнулось все внутри. Эх, если бы оно всколыхнулось у читателей. Но, чувствую, нет у меня того таланта.
Однако дал почитать нашим девчонкам, так Лена Толстихина даже всплакнула. Однако же и несколько дельных поправок внесла. Ну, побеседовали. Кое-что придется переделывать. Кое-что выписано грубовато, придется смягчить.
Но те из наших девчат, кто таскает кули с картошкой на горбу, меня поймут.
Ну и о чем дальше писать? О спешке я упоминал в разных главах, и, по зрелом размышлении, нет смысла посвящать ей отдельную главу.
Разве что об инструкторской работе подробнее, поглубже. Это – самый мой хлеб, тут я как рыба в воде. Надо подумать.
Итак, закончена очередная часть моего опуса, озаглавленная «Производственные отношения». Что дальше? Что бы я хотел еще сказать людям о своей работе?
Я показал свой труд, его кухню, ремесло, до мелочей. Я восславил романтику, определил требования, предупредил, что это далеко не мед. Показал отношения между людьми.
Хотелось написать главу «Великий плач». Плач по нашей авиации. Ибо все рушится. Как нам ни поют сладко, но я-то вижу факты: гражданская авиация, морской флот, армия – развалены. Спроса на авиационные перевозки нет. Ну, флот и армия – не моя забота… за авиацию болит душа. Теряется преемственность. Ну и так далее. И я не могу ничего предложить.
Пока Чубайсы, Вяхиревы и иже с ними взвинчивают цены, вся страна не может развиваться, ибо ни у кого денег нет. Тупиковый путь. Нас связали и выкачивают ресурсы за рубеж, обогащая олигархов. А значит, нет перспектив и в авиации. Она будет гнить, гнить, усыхать и отставать от жизни. Какой смысл над этим плакать. Лучше вообще не лезть в эти дебри. Я пишу о Мастерстве как о движущей силе человечества; этого достаточно.
Есть мысль – прокомментировать многочисленные фильмы об авиации, типа «Экипажа» или «Размаха крыльев», не говоря уж о массе американских боевичков. Низвергнуть этот наивняк. Раскрыть эту брехню.
И еще: привести положительные примеры. Надо это обдумать.
…Полчаса интенсивных воспоминаний дали жалкую горстку случаев, достойных внимания. И то, существенная оговорка: в большинстве из них экипаж успешно выкручивался из трудного положения, которое сам же и создал. Пожалуйста: Гурецкий в Ташкенте; грузины в Тбилиси; Донсков на обесточенном Як-42… Ну, и старые: Ту-124 на Неву; шаровая молния и отказ двух двигателей на Ан-12 в Донецке; Ан-12 в поле под Омском без топлива; крайний новосибирский случай с последовательным отказом двигателей.
Очень мало положительных примеров. Ах, да, еще древнейшая посадка Ил-14 с одной невыпущенной ногой на маслозаправщик. Хотя… этот самолет спокойнейше садится на брюхо (Толя Корнейко с Филаретычем в Богучанах).
И еще: Як-40 на излучину Оби зимой; Ил-86 – пожар на взлете.
7.12. С утра написал небольшую главку «Мифы» – о всяких книжно-киношных небылицах.
Размышляя о том, почему в авиации мало примеров героического выкручивания из ситуаций, прихожу к выводу, что специфика летной работы, скоротечность событий, дефицит времени на принятие решений – оставляют слишком узкую лазейку при особых случаях. Поэтому у нас так много катастроф и так мало примеров героизма.
Наш героизм – в рутине полетов. Основа нашей безопасности базируется на земле: надежность техники, ее тщательная подготовка, строгость эксплуатации в воздухе. А то, что случаются катастрофы, только лишний раз подтверждает, что авиация еще молода, и человек, если не обставится надежными рамками, бессилен перед стихией. Редкие случаи удачного выхода из, казалось бы, безвыходного положения – это чаще всего счастливое стечение обстоятельств, плюс хладнокровие и мастерство экипажа.
Взять случай с Гурецким. Нарушение РЛЭ бортинженером, запуск двигателей без включения насосов подкачки – это выход за рамки. Хладнокровие штурмана Сорокина, сумевшего вывести самолет на Чимкент, и мастерство командира, сумевшего сесть на одном двигателе, спасли ситуацию.
Грузины в Тбилиси при отказе закрылков, неправильно определили характер дефекта, растерялись – и оказались на грани. Спас другой экипаж – дельным советом. Счастливая случайность.
Донсков на Як-42. Они сами что-то нахимичили с энергетикой и обесточили самолет – я где-то читал, что есть в этом самолете нюансы, за которыми надо тщательно следить. Но надо отдать должное сообразительности командира. И повезло с погодой.
Ту-124 сел на Неву – выработка топлива произошла не без ошибок экипажа. Деваться было некуда, но Нева оказалась под боком. Случайность и мастерство пилотирования.
В Донецке «Фантомас» сам влез в грозу; еле выкрутились, запуская периодически отказывающие от ударов молний двигатели, сели на двух. Блин, профессионализм.
Ан-12 сел на брюхо без топлива – кто виноват? Подвернулось поле, был день. Случайность.
Про Ил-14 с одной невыпущенной ногой я уже сказал: они сами раскрутили рискованную операцию, как в боевичке: легли крылом на подъехавший маслозаправщик. Акробатика. Не дай бог что-то не срослось – сгорели бы на полосе. Проще сесть на грунт на брюхо, как Корнейко. И даже на две ноги, основную и переднюю, – у нас так сел Ан-24, и если бы не глупость экипажа при эвакуации, два пассажира бы не погибли в огне.
Вот Як-40 сел зимой на лед обской старицы – тут да. Случай слепой – отказ топливомера. И слепая случайность – при низкой облачности подвернулась эта река. Ну и мастерство: самолет невредим.
Ил-86 показал себя надежнейшим лайнером. Пожар двигателя – и отработанный, четкий заход на посадку стандартным разворотом. Тут, конечно мастерство. Но и ситуация простейшая, школьная, оговоренная во всех документах, отработанная на тренажере, Повезло с ветром, что позволил им.
Новосибирский случай, если честно, усугублен этими уборками до малого газа капитаном: мы так на кругу не делаем, это некрасиво. Но это, конечно, проявилось бы у другого, в иных обстоятельствах. И штурман хорош: не усек отказ КУРС-МП, некомплексно строил заход, чуть не увел самолет от полосы, да вовремя опомнился. А капитан молодец, справился. Извернулся.
Так же извернулся Пономарев. И очень жаль, что из-за материальных соображений Абрамович, фигурально выражаясь, вытер экипажем задницу.
Тенденция ясна: если отказывает матчасть, то нужно еще стечение благоприятных обстоятельств, плюс мастерство. Если одного из этих факторов нет, то тут и катастрофа.
Спасает нас изумительная надежность техники. Мелочи, дефекты, всегда есть и будут, но основные агрегаты надежны. И если сам не пустишь пузыря и не создашь себе трудности, то и выкручиваться не придется.
Зато обратных примеров – пруд пруди. Человеческий фактор превалирует везде.
10.12. В штурманской осторожные разговоры о пенсии. Читают эту галиматью о доплате к пенсии за выслугу лет – никто ничего не поймет, кроме того, что нас в очередной раз обманули; матерят эту суку, которая полтора года сочиняла эту формулу и теперь таким непонятным языком объясняет… и в результате доплата в среднем – всего 600 рублей.
Матерят. А что толку. Ну, ждем, когда прояснится. Все ждем и ждем, и ждем, и ждем, и суку материм.
Но что бы там ни добавили, а я твердо решил уходить. Уже сомнений нет. И чем скорее определится пенсия, тем скорее уйду – хоть завтра. Этот год – год главного решения.
11.12. Наконец-то дома. Полмесяца болтался где попало, жил без режима, в обжорстве, неподвижности и недосыпании. Ну, дня четыре-то отдохну.
Долетели домой хорошо. Олег посадил машину в 33-градусный мороз мягко, чуть отошла на цыпочках; пассажиры хвалили.
Паша Ушкарев, штурман, мне понравился: здоровенный, румяный, спокойный, уверенный. Все в полете напевает, ну а я ему подпеваю. Так спокойно, надежно.
И летать бы в таком составе всегда. Олег вечно что-то рассказывает о женщинах, Григорьич стоит сзади, вставляет реплики… ну волки. И не надо мне уже ни вводов в строй, ни той рыбы-икры. Летаю с чемоданчиком, где лежат чистая рубашка, тапочки, да пара тетрадок. Хватательный рефлекс исчез. Меня возят, как запорожцы того Касьяна Бовдюга… при обозе. Иногда, на 15 секунд, беру штурвал, как вот вчера в Минводах, – но только чтобы показать, как ЭТО делается красиво. Академически.
В штурманской ребята пристают: Василич, когда книгу напечатают – как насчет дарственной надписи?
Да подпишу, подпишу всем.
Осталось полгода сроку. Ну, летать-то месяца три-четыре. Максимум до мая. До аллергии, до посадки картошки, до жары, до гроз, до рубашки с короткими рукавами. Потом беру отпуск – и всё.
И что – холодок в животе? Да вроде нет. Все то, что привлекало меня в полетах, в рейсах, в сидении вне дома, – все прошло. Ничего нового, ничего приятного я там уже не получу. А сам полет… Нет. Всё.
Конечно, грустно. Но где-то нынче был тот перелом, когда я отчетливо ощутил себя стариком, который не нужен уже женщинам. Что-то внутри расплылось. Это был последний год, когда я еще чего-то ждал от жизни. Чего – сам не знаю. А потом как-то незаметно пришло ощущение, что мне… ничего не надо, кроме режима, покоя и посильной физической нагрузки.
Наконец-то я ощутил себя солидным, пожилым, авторитетным мужчиной, на которого именно так и смотрят все.
Вспоминаю, как я глядел на тех капитанов, кому далеко за 50. Я вспомнил Шевеля, Шилака, Фалькова, братьев Заниных, Доминяка, Рулькова, Аникеенко, – да все они были моложе, чем я сейчас… а какими стариками казались мне. Шевель умер на 45-м году, а для меня он был взрослый дядя.
Каким же должен казаться я Коле Евдокимову, Валере Евневичу, Олегу Бугаеву, Максиму Кушнеру? Да дедом. Де-дом. Ну, моложавым, подтянутым… но дедом. Другое поколение.
А теперь еще эта писательская деятельность – она отдаляет меня от молодежи.
Да все, все позади. Отплясался. Это примерно то же ощущение, что пришло ко мне, когда я понял, что предложи мне переучивание на Боинг-747 – я спокойно откажусь. Что там нового. Какая тайна. Как у бабы под юбкой. Это для молодых там тайна.
Так вот и сейчас. Нет для меня тайн. Там одна суета. Нет уже и удовольствий – простая констатация. Нет подпитки положительными эмоциями, нет того бешеного восторга, что я – могу! Нет ощущения удивительности и праздника.
Да. Я могу. Будни. Я твердо знаю, что будет так, а не иначе, а если иначе – то это досадная случайность и необходимость со стоном шевелиться. Зачем?
Не греет меня работа. Покой.
Еще четыре месяца – и все кончится: ответственность, тягомотина, вечная дорога, готовый в дорогу портфель, звонки в план, разборы, тренажер, приказы, подписи, форменная одежда, фуражка с «дубами», бессонные ночи, профилактории и гостиницы, принятие решений, заказы, задержки, расшифровки… И никогда больше не прикоснусь к штурвалу. Никогда не лягу грудью на упругий поток. Никогда не поцелую бетон двенадцатью колесами. И больше не покажу сорокалетнему мальчишке, как ЭТО делается.
Я уже всем все показал. Я спокоен: моя летная жизнь прожита достойно. Надеюсь, судьба будет хранить меня в эти оставшиеся месяцы.
13.12. Я тут изредка интересуюсь в газетенках, что читают нынче наши люди, – есть такая рубрика. Скажем прямо, редко кто обращается к классике. В моде Маринина… Сорокин… который Астафьева не любит… мерзость. Ну, такое безвременье.
А какого-то В.Ершова – будут читать?
Да мне оно как-то… мне выговориться надо.
Полистал тетрадки. Намечались главы об удачах и неудачах, о бессилии; думаю, надо написать и о перспективах, как я их вижу. Великий Плач у меня и так переполняет каждую главу – но ведь авиация не кончается. И инструкторскую работу не забыть. Что – она была напрасна?
Закрадывается мысль: а теперь бы все написанное да облечь в какой-нибудь нехитрый сюжет и чуть украсить художественными завитушками. А я же не художник, я сухарь. Словам тесно – мыслям просторно.
В записях последних лет заметно пробивается мотив: эх, если бы всех вас – ко мне на полгодика… У меня за молодых душа болит.
Чем больше молодежи пройдет через мое правое кресло, тем больше увидит, как ЭТО можно сделать красиво. А значит, загорится божья искра.
Вот Костя Горяев, сидел, весь полет читал мое произведение, вопросы задавал. Он сам летал в аэроклубе на Як-52, но судьба сделала его штурманом, и хорошим: он на своем месте. Он мне – вопрос, а я говорю: а давай покажу. И показываю. И как раз условия позволили показать идеально: подбор режима в площадке; довыпуск закрылков; кнопка «Глиссада»; скорость постоянна, и на том, подобранном режиме – до торца. Красиво же. И так – два раза. Убедился?
Вот еще один сторонник. Он – видел.
Если бы я просто болтал. А я все еще могу показать, с комментариями по ходу; лучше и в учебном фильме не покажешь.
Вот видишь? Я так об этом писал? Убедился?
Вот так мне когда-то все показывал мой Учитель, Вячеслав Васильевич Солодун. Чья Школа теперь – на мне.
Потом будут легенды, не легенды, – но никто не посмеет сказать, что Ершов был ординарный пилот. Разве что супруга. Она и до сих пор считает, что меня в авиации хранит судьба, и все подспудно с тревогой ждет, когда же судьба покажет меня миру во всей наготе неспособности и несостоятельности.
Не дождетесь. Я, эгоист до мозга костей, слишком уважаю себя, чтобы не быть Мастером.
Теперь третья часть моего повествования. Принятие решений. То главное, за что капитану деньги платят. Все рассматривается через призму безопасности. И полет, и вокруг полета.
Кстати, в связи с этим терроризмом, готовится инструкция по покиданию в полете пилотской кабины членом экипажа. В туалет.
Оборачивается так, что я, в своем самолете, на своем рабочем месте, буду повязан этой обязаловкой: я – не хозяин, не могу выйти и зайти, когда считаю нужным. Я должен бояться. Бояться своих пассажиров. Я буду вынужден принимать решения, сообразуясь с вероятностью того, что каждый раз везу за спиной террористов.
Летайте вы сами так. Это уже не полет, извините. Это пресмыкание. И какое счастье, что мой летный век кончается.
Со скрежетом зубовным я подчинился унизительному досмотру. Правда, нынче эта процедура для экипажей немного смягчилась, а кое-где откровенно профанируется. Но на своем самолете я должен быть гостеприимным хозяином и свободно ходить туда и тогда, куда и когда мне вздумается.
На Ту-154 спасает то, что пилотировать его, даже для пилота, даже для переучившегося, достаточно трудно. Террорист – не справится. Об этом я уж точно напишу, и подробно. Это не Боинг и не Эрбас. Это советское чудо в перьях. Тут надо много цифр знать и руками уметь, а главное – чувствовать задницей.
16.12. Я, видать, больше всего все-таки ценю независимость. Я никому ничего не должен, на мне не висит ничего. Радости мои – иного порядка. Радости свежей старости. Долги розданы – это же счастье!
Я ни от кого не завишу ни в чем. Нет у меня и всепоглощающих страстей. Увлечения мои временны, управляемы, и если их что-то прерывает, я не страдаю, а переключаюсь.
Вот написал книжонку для коллег – и трава не расти. Самое тягостное, касаемо этой брошюрки, – это обещание дарственных надписей. Ну, перетерплю, подпишу.
Так – слава же!
Насрать мне на славу. Я и так знаю себе цену, пусть там обо мне кто что хочет, то и говорит. Книжка моему авторитету весу не прибавит – меня и так все знают.
Я далек от внутренней, ожиревшей солидности. Если тот Касьянов, с выправкой Фантомаса, с детского садика перед зеркалом ту выправку вырабатывал, то я и до сих пор прошмыгиваю мимо пассажиров, стесняюсь глянуть им в глаза.
Я лучше руками сделаю.
17.12. На техучебу народу пришло немного. Все начальство занято, командовал Валера Ульянов. Ну, попросил меня, в отсутствие штатных инструкторов, кое-что разобрать по летной части: уход на второй круг, расчет снижения, характерные ошибки… Я согласился, ну, без бумажки, на пальцах. Слушали люди.
Подошел Васильев: вы утвердили кандидатуры на ввод в строй на лето?
Пришлось собрать вроде как совет командиров эскадрильи. Ну, кандидатуры известные: Покинсоха и Новиков; за ними пойдут на ввод Квиткевич, Кибиткин и Моисеев.
Дай бог, чтобы удалось ввести за лето хоть двоих.
Чекин сказал, что летное командование отправляет на инструкторские курсы несколько капитанов. Ну, от тех эскадрилий волки: Шатилович, Урбанович, Олег Пономарев. От нашей была предложена кандидатура Батурова, но по молодости он пока не прошел. А вот Евдокимова бы уже и в инструктора можно. Толк бы был. Школа.
Тут Коля Петруш подсел ко мне и взволнованно стал делиться впечатлениями от сложного захода в Комсомольске. Я молчал и про себя ухмылялся, вспоминая первый год своего капитанства: как тогда хотелось со всеми поделиться восторгами медового месяца… Давай, давай, парень, чеши репу, решай задачки, упивайся растущим мастерством.
Я для них – эксперт, высшая инстанция; мне плачутся, у меня испрашивают совета. Принимаю как должное, но с известной грустью: выходят мои сроки.
На этот Новый год семь экипажей загоняют в длинные рейсы. Абрамович распорядился, чтобы представители фирмы на местах организовали встречу экипажами Нового года. Ну, хоть так.
Я было спросил у Менского, не планируют ли меня. Володя посмотрел на меня как на дурака и пробормотал, что «если уж тебя планировать – то это вообще…» Ну ладно, встречу праздник дома. Мне, в принципе, все равно. Лишь бы скорее, скорее кончался срок.
24.12. Из резерва нас подняли на рейс: Красноярск-Новосибирск-Норильск и обратно. Рейс компании СиАТ, но братья Абрамовичи практикуют выполнение рейсов друг за друга.
Туда порожняком, а из Толмачева уже выполнять этот 142-й рейс. К этому времени Норильск был закрыт черной пургой уже вторую неделю, с 13-го; а тут вроде улучшилось. И в Красноярске, и в Новосибирске, и в Домодедове, и в Питере скопилось на Норильск народу на 4-5 рейсов – вавилонское столпотворение.
СиАТовская машина – наша старушка 201-я, убитая напрочь непосильной работой на маленькую, бьющуюся за жизнь авиакомпанию. Она и с рождения-то была дуб дубом, АБСУ-1, а тут ее раздолбали вконец. И я, давно уже позабыв, как это – летать без «балды» управления передней ногой, то и дело хватался на рулении левой рукой за пустое место.
Думал было дать порулить педалями справа Олегу, да в Толмачеве как раз проходили фронты, заряды, и едва мы приняли решение, как они закрылись очисткой полосы; пришлось дожидаться открытия, потом перепрыгнули пустые. Куда уж там рулить Олегу на пустой машине. Я ему и лететь на ней не дал, сам упирался.
Ну, поймали очередной заход по минимуму. Господи, сколько их у меня, этих заходов…
Норильск, как водится, снова закрылся; я проанализировал обстановку и дал отбой до восьми утра, полагая, что в Норильске к утру расчистят полосу.
Гостиница – совковый гадюшник, пятиэтажка, правда, с лифтами, но с единственным туалетом в коридоре. Однако с фортепьянами в холлах и даже с душевыми комнатами… но с единственным телевизором и плохой телефонной связью. Но зато с раздолбанными щелястыми окнами с наветренной стороны в 4-местных нумерах, правда, с раковиной и раскаленной батареей, но с щелью под дверью вместо порога, через которую всю ночь в глаза бил яркий свет из коридора.
Но, надо сказать, очень тихая гостиница, переполненная нашими, живущими за счет авиакомпании пассажирами, прислушивающимися к моим дебатам с АДП и задающими робкие вопросы: «ну как там?»
Мы хорошо выспались, позавтракали; я позвонил на метео: в Норильске прекрасная погода, ветер по полосе, но… сцепление пока 0,29. Мы тут же улеглись и снова впрок уснули.
Дождавшись срока, стал связываться с АДП… связи нет. Но диспетчеры сидят в одной комнате с синоптиками и свободно разговаривают друг с другом. Дозвонился до синоптиков. Из АДП Норильска прислали телеграмму: сцепление 0,4; норильские же синоптики в фактической погоде дают пока 0,32.
Ну, пришлось идти в АДП пешком и все утрясать. Поразительное равнодушие этой смены: хоть всё гори синим огнем – они палец о палец не ударят помочь экипажу. У них аэропорт отдельно, а авиакомпания «Сибирь» отдельно. Мы же вообще варяги… ну, как в старые добрые времена.
Пошел в ПДСП, дозвонился оттуда до Алыкеля: когда дадите персональное разрешение Новосибирску на выпуск 142-го рейса?
– Да пожалуйста, вылетайте. Почему раньше-то не запросили? У нас все летают.
АДП клянется, что посылали аж три телеграммы. Норильск обещает сию минуту прислать официальное открытие. Я нажимаю на сменного начальника ПДСП; ему все по фигу… но все-таки он еще раз звонит, ему еще раз обещают прислать разрешение. Я беру на себя и принимаю решение вылетать. Давайте раскручивайте рейс без этой несчастной телеграммы. Давайте чистить и обливать машину. Готовьте пассажиров. Грейте двигатели: их, в этих зарядах, несмотря на заглушки, за ночь прихватило льдом.
Раскрутил. Зевая, зашевелились. Поднял экипаж, пошли на самолет. Ну, дай бог часа через четыре взлететь.
А там опять подходит циклон. Ветер, правда, по полосе, до 17 м/сек, прогноз – 90х1000; фактическая 350, по ОВИ 900, вертикальная 110. Надо хрять скорее.
Летчику надо быть терпеливым. Я поднял все погоды за предыдущие сроки. Надо было видеть постную рожу тети-синоптика. Говно, а не специалист. Я ей все сам рассказал и показал: и градиент, и смещение, и потоки, и тенденцию. Ей по фигу. Никакой помощи, кроме как собрала погоду и вывела на дисплей, да показала приземную карту. Ну ладно, мы и без вас обойдемся.
Посидели в теплой штурманской, пока нагреется машина. Посидели в нагретом самолете. Дождались пассажиров, дождались питания, отогнали трап, облились.
Пассажиры, неделю отсидевшие в гостинице, впились в кресла.
Перед запуском я, как водится, запросил у руления еще раз погодку и прогноз Норильска. И он выдал: ветер 130, порывами до 17. Почти под 90.
Внутри все опустилось. Неужели тот, далекий волнистый фронт подошел, неужели зарождается новый циклон? Ну не может же быть. Давай, еще раз переспроси.
Да, 140 градусов, 14, порывы 17. И вот, еще хуже стало: видимость 250, по ОВИ 700. И прогноз: 140, 13-18 метров.
Как же мне их теперь высадить из самолета?
Нет, схожу-ка я сам и гляну. Ну не может быть. Ну нюх-то есть же у меня – что-то там не так…
Оделся. Вызвали снова трап. Подлетел автобус с дежурной: высаживать? не высаживать?
– Да погоди ты десять минут…
Дохромал по гололеду до АДП. Уже новая смена сидит.
– Что – новые прогнозы? карты новые пришли?
– Да нет.
– А в чем дело? Откуда взялся ветер под 90?
– Минутку… вот прогноз: ветер 230 градусов… Вот погода: 240 градусов… Ну, ухудшение видимости – там же сумерки сейчас, ОВИ хуже стало видно. А так – прогноз 1000, вертикальная 90, ветер устойчиво 230 до 17 метров, потоки… градиент… сейчас, сейчас… вам новый прогноз напечатать? сейчас сделаем…
Ну, мудак диспетчер руления. Мы ж его трижды переспрашивали… ослышался он, видите ли. Перепутал 230 и 130.
Отлегло. Побежал на самолет: полетели, ребята! Хрять надо, время идет, а нам еще обратно в Красноярск лететь, три посадки…
Все. Забыть о погоде. Решение принято, а дальше видно будет над Норильском.
Побеседовал по микрофону с пассажирами: извинился, попросил не разряжать накопившееся раздражение на девчат, пообещал довезти как положено. У проводниц выпали глаза: в СиАТе капитан вообще молчит. Ну так учитесь, пока я еще жив.
Олег взлетел, помучился с пилотированием древнего дубка. Быстро долетели до Норильска, погода 90х900, ветер по полосе, борты заходят, садятся, взлетают. Настроил ребят на слепой заход. Проблемы с переводом курсовой системы, сомнения… Я практически решил: заходим подальше, определяемся с курсами в створе ВПП по СТУ и ДИСС, а там, если что, подправим.
Нас так и завели, далеко: третий по команде – впереди нас борт сел, сруливает по 1-й РД… Что-то долго сруливает… помнить уроки Алма-Аты… набрать высоту выше 800 метров, следить за радиовысотомером и ССОС…
Юра Котельников заблажил в эфир:
– 201-й, дальше 35 км, за пределы схемы, – я не полечу! Разрешите третий!
Диспетчер, видать, зашился, и все долбил:
– Минутку… минутку…
Я молча заломил крен и стал выполнять третий. Нечего лезть в горы, какие они там ни низкие. Лучше уж сделаем виражик над озером Пясино.
– Ладно, 201-й, снижайтесь 500 к четвертому.
Юра завопил:
– Капитан, не снижайся! До удаления 20 держи высоту!
Вот реальный штурман, помощник. Курсы – хрен с ними, плюс-минус; они, кстати, после посадки были строго по полосе. А где идет дело о безопасной высоте – бдит человек, соображает и, главное, орет.
Андрей Бурыкин, толковый, бойкий бортинженер, под руку давал дельные советы по матчасти на случай ухода на второй круг: помните, это «бешка», первой серии, без задатчика стабилизатора, там при перекладке стабилизатор будет запаздывать, имейте в виду, будьте готовы…
Молодцы, в общем, ребята. Ну а теперь смотрите, как делается абсолютно слепая посадка. И я ее сотворил, перетянув пупок на режиме 75 и чуть отдав от себя. Фары стояли на рулежный свет; я попросил старт уменьшить яркость ОВИ, но все равно над бетоном клубился поземок, и посадка была в тот самый колодец. Без страха и сомнения, спокойно и точно выполнив предвыравнивание, я распустил взгляд по боковым огням и, не ощутив ни малейшего трепета, посадил машину, с сухой спиной. Скучно. Это рутина.
Рулить невозможно: поземок жгутами несется по полосе… выключил фары совсем… другое дело: черно, но по огням хоть видно скорость руления. Левой рукой хвать… пусто. Нету, нету балды… рули ножками. Так и зарулил.
Ветер трепал машину. Попрощался я с пассажирами: мы сделали для вас все. Ну, норильчан непогодой не удивишь.
Трактор елозил по насыпи снега высотой с двухэтажный дом. Полтора десятка самолетов обслуживалось на перроне; изредка в районе торца медленно проявлялось тусклое зарево фар и очередной самолет садился в круговерть. Нормальная работа.
Заход по минимуму; записывать не стал. На хрена они мне теперь, у меня их уже пачка, хватит до конца.
Снова замело. Засели в штурманской: питерцы, Мисак, Толстиков и я с экипажем. Мисак веселил публику своими байками. Толстиков, уставший до предела, хмуро молчал. Питерцы чуть свысока вели беседу о пенсиях и заработках: у них заработки вдвое выше наших.
Самарский «туполенок» наехал на фонари; командир с РП поехали составлять кроки.
Мой штурман упал на диванчик спать.
Просидели мы пять часов, и таки улетели. В полете я провалился в сон на две минуты, проснулся, когда меняли эшелон. Машина не держала курс, приходилось триммировать по крену, отключая САУ. Дворник отказал; Андрей методом тыка нашел, как его включать на полминуты, чтобы не успевало выбить АЗС. АНО не горело с Новосибирска, рэсосники возились-возились: там рассыпался левый фонарь, замыкало, выбивало АЗС… Я отпустил их:
– Ладно, спаси Христос, так слетаем.
– Спаси Христос? Не так немного понимаете… невоцерковленный вы.
– Невоцер… чего?
Да уж. Я воспитан атеистом и надеюсь только на себя. Проживу как-нибудь и невоцерковленным.
Привезли с собой трех зайцев. А на Норильск увезли десять сумок. На руки – 9 тысяч, ну, каждому по косой. С паршивой овцы хоть шерсти клок. А то за два дня 8 часов налету и какие-то там копейки заработка – и еще когда тот СиАТ заплатит. А еще же только-только сереет восток, раннее утро, а в ночь мне снова лететь: на Комсомольск. Совесть моя чиста.
Олег на посадке едва справился с дубоватой машиной; мне пришлось активно, железными руками, вмешаться.
Вот на такой технике мы начинали.
Ну, домой перелетели снова пустырем. Я тянул, тянул 64-тонную легкую машину, норовя посадить помягче, – нет, не садится. Хлопнулся 1,15… хрен с ним. Скучно.
25.12. Комсомольская гостиница «Восход» встретила радушно. Каждому по полулюксовому номеру. В прихожей холодильник, в зале стол, столик с креслом, телефон, телевизор. В спальне две кровати и шкафчик в стене. В санузел двери и из прихожей, и из спальни, удобно. Ванна, унитаз, биде. Но нет шторки и нет мыла. Обедневший аристократ. Тепло, тихо. Маленькая уютная столовая на 8-м этаже, буфет, пиво, официантка, вкусный обед.
Веер застрял с вечера в Красноярске из-за задержки московского рейса; пришлось нам ночь проспать в профилактории – подарок судьбы.
Полет днем, спокойно, Олег довез, зашел по большо-ому кругу – летали наши военные братья – и сел точно на знаки, но под диктовку: все-таки ОСП – тяжелый заход.
Все мысли о предстоящем уходе на пенсию. Конечно, буду скучать, может, жалеть, но надо принять это спокойно: умерла так умерла. Все в прошлом, не вернуть… все умчалося в невозвратную даль.
Пошлые вроде бы слова… пошлые – потому что это переживают все. Но именно поэтому смысл их неповторим для каждого, и для каждого свой. У меня позади останутся и растают в дымке прошлого Сочи и Анапа, Домодедово и Норильск… было прекрасно… и позади.
Всё. Потеряла и свежесть и прелесть белизна ненадетых рубах… Предощущение чего-то так и осталось предощущением, но… в нем-то и весь кайф. Это были неповторимые два года.
Как раз это ощущение полноты жизни, эта седина в бороду, эта аберрация поведения, – вот это и запомнилось, и это и было самое ценное в эти годы; остальное – рутина.
Тогда я шел в рейс как на праздник жизни; сейчас иду как на каторгу… зачем это мне? За деньги для семьи? Но долги розданы. Почтальон Печкин начинает новую жизнь.
Может, прямо с Нового года выбрать отпуска и, не дожидаясь тех 35 календарных лет – что я, рекорды ставлю? – написать заявление. Ну не хочу я такой работы.
Садясь на голую задницу в норильской метели, я бездумно чуть подтянул, чуть протянул – покатились. А потом уже в груди холодок: Вася, а если бы жопой – и об бетон? Что ж ты перестал бояться?
Вот что и страшно. Я перестал бояться. И я теперь страшусь того, что совсем перестал бояться тех сложных условий. Боюсь, что зажрался и потерял чувство реальности. Но и боюсь потерять это чувство: чувство беспечной, бездумной, рефлекторной уверенности в том, что раз-раз-раз – и само получится.
Кому-то покажется, что я сам себе все усложняю. Но я же вижу, как люди, пролетавшие десятки лет, необъяснимо спотыкаются и падают на ровном месте. Может и у них пропало это чувство опаски?
Нас сегодня снизили до 1500 за 50 км до аэродрома. И мы пилили, пилили, пилили до схемы, и по схеме… тоска.
Вот так летают те, у кого на старости появляется сильная опаска потерять страх. Это уже лишнее.
Если б я летал не на нервах, а как Смольков – просто и без эмоций: «за задние лапы – и об угол, и о чем там переживать»…
Но я летаю на нервах, даже на нервных окончаниях. Очень долго я этими нервами учился управлять, постигая ремесло от дубовых кнопок гармошки до утонченных клавиш рояля… теперь ремесло отточено, а нервы я просто притаптываю ногой.
Летать должны молодые. Они должны любить полет, как молодую женщину – всей страстью; они должны получать оргазм красивой посадки… я тут свое отжил – и как-то сразу, вдруг. Отбили мне охоту летать… медицина… расшифровки… чуждая, заморская философия… Ну, и эти веерные полеты. Гнием в гостиницах.
26.12. Стали готовить машину – не запускается ВСУ. Валера Евневич бился-бился, бесполезно: зависает на 55, и все. Около часа они возились с техниками: и грели, и стучали… семь попыток – все то же.
Потом, вспомнив, что, по словам коллег, и другие наши экипажи с трудом, с пятой попытки, запускали ВСУ в этом Комсомольске, Валера догадался отключить АПА и попытался запустить от своих аккумуляторов. И запустилась!
Значит, все дело в АПА… хотя ее параметры по приборам – в норме. А бортинженер молодец. Да уж я-то Валерия Альбертовича знаю, мы с ним Самарой проверены.
Я взлетел и сел отлично. Заехали в контору – там нас уже ждет новогодняя дыня: на 201-й положение стабилизатора у нас не соответствовало центровке 36,5. Пришла расшифровка, и ЛШО ломает голову, как отписаться, а Чекин – как отбрыкаться:
– Ты-то, Василич, правильно установил стабилизатор, а вот Бугаев должен был в бумагах исправить цифру центровки…
Да тот Бугаев на Б-1 и не летал никогда. А я уже забыл, кто там на ком стоит. Да пошли они все на фиг – я летаю так, как мне удобно. Короче, я взорвался. Компьютер выдал цифру 36 процентов – я ж без балласта, где его взять, испокон веку пустырем без него летаем, справляемся… Как хочешь, так и выкручивайся… между молотом и наковальней… Нет, ребята, я так летать не хочу и не буду; выберу отпуска – и адью.
Ну, зашел к Солодуну. Он меня успокаивает: решили отписаться, что среди Ершова проведена беседа…
На хрен мне это унижение? И в чем я-то виноват? И зачем врать-то?
Нет, не могу я, устал, не хочу. Обида.
Надя все утешает меня, что всем, мол, тяжело нынче работать, и не только в авиации.
Но я работаю в небе, а оно мне надоело. Я вижу, как та авиация деградирует, пытаюсь с этим бороться, рву анус за народ… А о судьбе авиации думают единицы.
Всучили мне недавно новую технологию работы экипажа Ту-154М, созданную в Крас Эйр на основе всех прежних технологий, плюс новые указания. Бросил ее на полку. Я летаю по одной, раз и навсегда вбитой в мозг технологии, а бумажки эти… жаль, что на грубой, лощеной бумаге.
27.12. Вот передо мной на столе лежит стопка отпечатанных книжечек – мой труд. Назвали этот опус «Красноярская школа летного мастерства». Написал рядовой красноярский пилот В.Ершов; сверху эмблема авиакомпании Крас Эйр – «три пера».
Я удовлетворен. Это – итог моей летной деятельности, спрессованный в 63 страницы профессионализм. Я уйду, а опыт останется. Надписал и вручил с благодарностью по книжечке Горбатенко и Солодуну. Горбатенко растроган; Солодун как всегда сдержанно поблагодарил.
Заикались о какой-то там презентации. Да что вы, ребята. Двести брошюрок не есть повод для шоу. Я счастлив уже тем, что хоть капитанам достанется по книжечке. Просили, кстати, и ребята с Ил-86.
Теперь надо найти и вручить Репину и Бабаеву. Обязан.
С утра прошел полугодовую. Практически попрощался с врачами: больше мы вряд ли увидимся, ну, может, мельком.
Поймала Литюшкина: просится ко мне в экипаж, хочет хоть полгода спокойно полетать. Просит: не уходи, хоть немного еще поработай.
Да поработаю. До июня.
И Димов тоже: да ты что, да какая пенсия? Да Василич, да какие обиды, да мы за тебя…
Я им еще нужен.
Вася, да что ты переживаешь. У тебя есть хороший коньяк – налей-ка себе рюмочку. Все это мелочи жизни. А год, тяжелый, в общем-то, год, кончается. В том году давили болячки, в этом – ремонт и стройка. Но все позади. И ГЛАВНОЕ РЕШЕНИЕ принято безвозвратно. За это и выпей. А вторую рюмку – за эту книжечку.
29.12. Ловлю себя на мысли. Это ж после Нового года не надо тревожиться о подготовке к годовой комиссии. НЕ НАДО! Не надо никаких диет, лекарств, капельниц и уколов. Ну, жизнь прекрасна. Налей же себе еще рюмочку – третью за два дня. Кайф. Да пойди купи еще бутылку. Еще не вечер: зарплату вчера получил, 13 тысяч, можно себе позволить коньяк.
Если подвести итоги этого года, то главными событиями, явно главенствующими над всеми остальными, будут два. Издание моей брошюры и принятие решения об уходе с летной работы.
Они оба взаимосвязаны. Я отлетал свое и решил уйти. После себя я оставил книжку, итог моей летной деятельности, советы бывалого. Лучше я уже летать не смогу; нового о летной работе для своей смены не напишу. Это итог не только года, а и моего летного века.
Единственно, о чем молю бога, – уйти достойно, без эксцессов. Если это удастся, то я прожил счастливый летный век. Дальнейшее уже не важно.
Раньше или позже этих шести месяцев уйти – зависит от размера пенсии. Если она пока не позволит жить прилично, то придется тянуть до лета, а там еще уйти в отпуск до упора. Надо экономить силы, а главное – сохранить спокойную уверенность в себе. Без нервов, без стискивания зубов, без обид, с расслаблениями по возможности.
И уже можно что-то планировать на лето.
Размышляя о будущем своей летной смены, я прихожу к выводу, что тот подход, тот метод воспитания будущих капитанов, который практикуется у нас десятилетиями, а именно, варение в собственном соку, – в нынешних условиях изжил себя. Считаю, что каждый капитан на своем рабочем месте обязан учить молодого. И хоть это и не оговорено в обязанностях капитана или оговорено косвенно (обязан поддерживать уровень и пр.), но так должно быть по-людски, в этом я решительно убежден. Смена очень слабая. И как нынче не выпустишь своих детей в жизнь, не дав им хорошего финансового стартового толчка и не обеспечив тылы, так и в авиации: холод безвременья, поразивший нежные всходы смены нашей, обязывает нас, стариков, взлелеять бледные ростки, вырастить из этих мальчишек новое племя капитанов. Иначе прервется нить.
Высокие слова… Но я видел растерянное, чуть жалкое лицо, глаза Владимира Терентьевича Горбатенко, когда вручал ему свою книжонку – итог его и моей летной жизни. Я – его ученик, рядовой, от начала до конца, ездовой пес, – сделал свою летную карьеру не по кабинетам, а за штурвалом. Я сумел вывести в свет концепцию своих учителей и печатным словом, на самом официальном уровне, предложить всем научиться слепой посадке… ну, хотя бы так, как это умею делать и показывать я. Учитесь же, пока я еще жив… а умру – учитесь у моих учеников.
Не один я, конечно, умею это делать… но написать об этом сумел я один. Не годится, конечно, хвалить себя, но и стесняться тут нечего.
Я еще и еще раз перечитал книжонку – нет в ней фальши, все по жизни… даже удивляюсь, как умно… но это с точки зрения мой нынешней деградации за год. Кажется, уже б нынче так и не написал, мозгов бы не хватило. Но это только подстегивает: не давай мозгу стареть! Заставляй его работать, подкидывай задачи. Знай его особенность: мгновенное озарение, а потом спад ниже среднего уровня.
Вспоминаю каторжную, шизофреническую работу над собой – взять хотя бы тетрадку, посвященную той злосчастной посадке в Сочи. Сколько я себя казнил, какие выводы сделал, – знаю только я. Так же и о разбитом АНО в Алма-Ате.
Груз этой работы над собой окупился сейчас. Те сомнения и метания выкристаллизовались теперь в твердую уверенность… а что губы навсегда сжаты – дело десятое.
31.12. Тут вычитал интересные слова. Кто-то сказал:
– работай, как будто тебе не надо денег;
– люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль;
– танцуй, как будто никто не смотрит;
– пой, как будто никто не слышит;
– живи, как будто на земле рай.
Да я так практически и живу. Ну, если, конечно, пункт о любви трактовать расширительно. А так – как в раю. Блаженненький. Но, видать, есть люди, для которых такой образ жизни – несбыточная голубая мечта.
Что-то я заметил за собой в последние месяцы нехорошую тенденцию: садиться с недолетом 20-50 метров до знаков. Понятно, что я стремлюсь доказать свое мастерство всем, но… лучше бы перелетать те 50 метров. Ей-богу, страх потерял. А надо как-то продержаться полгода.
Эх, дали бы пенсию, тысячи хоть четыре… Ну, сделал бы еще тот Благовещенск, на который стою в плане 3 января, а потом – в отпуск до конца, и все. Уже никаких сожалений.
Может, Надя еще не совсем верит в то, что я летом уйду. Никаких разговоров на эту тему мы не ведем. Будет день – будет пища. Мне кажется, курорт немного разгрузил ее, по крайней мере, она задышала свободнее. Но тут же с головой бросилась в работу. Как я ей сочувствую: вне работы она как рыба, выброшенная на берег. А я и так, и эдак заглядываю во все углы моей работы… нет, все. Безболезненно.
Вот так, видимо, приходит в срок к умиротворенному человеку смерть. Именно в срок.
11.01.2002. Вечером приехал на ночной Комсомольск, а весь веер стоит: задерживается краснодарский рейс. Ну, распихали нас по углам; мне достался диван в холле, где я и проворочался до подъема. Взлетели уже утром.
На будущее оборачивается так, что на каждый ночной рейс надо заезжать на служебном пораньше и сразу забивать койку в профилактории. Практически все рейсы задерживаются.
До Хабаровска полет спокойный,; я читал газету, Пиляев дремал, Виталик Проскурин вез. Над Хабаровском нам сообщили, что в Комсомольске летают военные. И началось. Как у нас в России принято, что зима – это катастрофа из-за морозов, весна – катастрофа из-за наводнений, лето – из-за жары, осень – из-за дождей, – ну а полеты военной авиации стали великим ЧП для гражданских самолетов.
Нас измордовали курсами, расчетным временем пролета точек, занятием эшелона 1500 за 50 км – и это при эшелоне перехода 2400… Да еще заполошный Сергей… Ну, в конце концов, Виталий таки нажал кнопку «Заход»… под вопль Сереги «Что ты делаешь!» Но стрелка КУРС-МП отшкалилась точно вовремя и вывела нас на посадочный курс.
Я снижался строго по глиссаде, при небольшом традиционном попутничке. Перед торцом что есть силы зажал штурвал и под крик «Сейчас сработает предел глиссады!» додавил на полточки ниже, сдернув режим до 72. Машина замерла на сантиметре; Сергей дергал штурвал и кричал… но я таки ее притер, правда, с перелетом 600 метров, и тоже чуть не с криком, что – не мешай же!
Скучно. Суета. Сергей что-то доказывал вдогонку: «Вот так с метра и падают на задницу… отписывайся потом…»
Да не учи ты меня летать, Сережа. И давай вместе в этом году уйдем. Мы изжили себя как летчики. Хватит.
Сидим сейчас в трехкомнатном номере гостиницы, каждый в своей спальне. Сергей дремлет, я пишу, магнитофончик стучит. Телефон звякнул, я снял трубку: девица предлагает эротические услуги. Я вежливо и грустно отказался: какой там уже секс… Спасибо хоть, дремоту отогнала. До подъема еще 11 часов, надо протянуть время.
14.01. К важнейшим итогам прошедшего года следует отнести и пенсионную реформу Она логично вписалась в мое решение об уходе, несмотря на то, что я принял его независимо от величины будущей пенсии. Сюда же хорошо плюсуется и добавление детям-врачам зарплаты, значительно превышающее рост тарифов на коммунальные услуги.
Родина-мама начинает потихоньку отдавать долги. Это – большой плюс Путину; до него все только болтали.
Так что у меня в душе складывается ощущение: справедливый итог жизни. Все вовремя.
Я ухожу без висящей необходимости: помогать детям, добывать жилье и другие материальные блага, строиться, искать подработку где-то по проходным; без тоски и тревоги о надвигающемся конце. Даже если пенсия будет не такая большая, как обещалось, я не буду потрясен, а буду спокойно жить. Мы всё успели.
16.01. Читал взятую у детей Детскую энциклопедию. Сильно умная книга, но интересная. Одна мысль явилась для меня откровением. Ученые не могут объяснить феномен: есть люди, изначально, от бога грамотные. Так вот я – такой. И дети такие. Правда, Оксана считает, что грамотность наша все-таки благоприобретенная, уклад, мол. Но я что-то не припомню, чтобы меня в детстве уклад учил грамотно писать. Читать научили рано, и все. Но сколько людей начинают рано читать, а все равно зубрят и зубрят правила… и пишут с ошибками. Я же никогда правил не учил; я их знал – и все.
Ну, иногда где-то проскакивает ошибка, зацепка, сбой в памяти, но это – миллионная доля процента, и я, перечитав свежим взглядом, сразу спотыкаюсь об нее глазом и восстанавливаю… и удивляюсь: как я мог!
В компенсацию, по принципу справедливости, природа отобрала у меня мелочную память. Я не помню фамилий и имен людей, с которыми десять лет назад тесно общался; не запоминаю номера телефонов; не помню мелких событий и разговоров типа «а он мне говорит – а я ему говорю…» Я вынужден записывать.
Но зато я незлопамятен. Мне легко жить, не будучи обремененным грузом мелочных воспоминаний; зато все записанное предстает значительным, и сам себе удивляюсь: неужели это было со мной?
Я все иной раз перечитываю свои дневники и все больше поражаюсь: их бы опубликовать надо. Ну, с купюрами, касающимися интимного. А так – хорошая иллюстрация к нашему безвременью. Кто там вел дневники в период перестройки – все вертелись. А мне бог дал возможность: я себе пахал и пахал – и все записывал. Им цены нет.
Ну вот и дело к концу. Решение об уходе на пенсию принято. Теперь осталось долетать. А раз я это умею, то и не буду зацикливаться. Работать себе и работать, а как только прояснится с пенсией – уходить. Всё, эмоции позади. Мой летный век завершается.
* * *
2002. Считаю дни…
17.01. 2002. Благовещенск. В гостинице зябко. Прогулялся по двадцатиградусному морозцу на рынок, купил икры.
Рейс, как и все рейсы этой зимой, с задержкой, но нынче почти по расписанию. Я взял штурвал на этот полет, чтобы маленько встряхнуться.
На эшелоне отъехал с креслом назад, чуть приподняв его для приема пищи. А оно обратно не возвращается. Расстопорил фиксатор, давай раскачивать туда-сюда. Назад едет, а вперед – клинит, и не опускается, вдобавок. Короче, уехал уж совсем далеко от штурвала.
Что делать? Ну, на худой конец, сяду на правое кресло, а Олега посажу на левое… но надо же выяснить причину.
Залез кое-как между штурвальной колонкой и креслом, строго наказав Олегу следить, чтоб случайным движением не пересилил автопилот во время манипуляций. Подсветил фонариком: тросик цел, защелка фиксатора работает…
Ага! Нашел! Шторная контрольная карта, кусок добротного железа, как-то попала между трубками и заклинилась между креслом и полом так, что работает как собачка: назад пускает, а вперед – упирается ребром в пол и не дает.
Отъехал по возможности дальше назад, поднял кресло до упора вверх и кое-как, с помощью бортинженера, освободил карту, вырвал ее из-под кресла. Крепкая вещь, ничего с нею не сделалось. И кресло стало подчиняться.
Какие мелочи. Но, не дай бог, случись в этот момент какой-либо эксцесс, – и я не смог бы вмешаться в управление самолетом.
Шторная карта эта нынче – вещь ненужная, мы для контроля пользуемся бумажной,– но кто-то же сунул ее в темноте мимо кармана, и неизвестно, сколько она болталась там, под креслом, пока не заклинила его в самый неподходящий момент.
Ну, встряхнулся, называется… весь в мыле.
Посадка удалась, правда, хоть и прошел торец на 10 м, и на режиме 76, но ставить меньше не решился, а перед знаками поставил малый газ и два раза длинно подтянул штурвал. Перелет составил метров 150. Зато зарулил идеально.
После прогулки по морозу засасывает. Любуюсь в окно на задымленный китайский Хэйхэ, на замерзший Амур, на снежный городок на площади под окном, с фанерными Дедом Морозом и Снегурочкой – куда им до красноярских мастеров ледяной скульптуры… слабаки.
На столе пиво; стучит магнитофончик. Закат. Хорошо.
Чем развращает летная работа – так это возможностью поваляться в абсолютном безделье, день, два, три. Семейному человеку такое невозможно представить – он в суете. А я вот не в суете, я это ценю, понимаю в этом толк, нахожу наслаждение в безделье. Я вспоминаю бешеную гонку на даче этой осенью… зачем? И понимаю, что без гонки, без рывка, я бы не сделал дело, а только бездарно растратил бы время, оправдывая безделье усталостью. А так – баню вот поставил. А теперь отдыхаю.
Нет чтоб сесть сейчас и написать новую главу рукописи. Лень. Не в тонусе. Может, вздремну… Нет вдохновения.
21.01. Разбудил меня среди ночи страшный женский крик, прямо над ухом. Я в ужасе вскочил с колотящимся сердцем: темно… какой-то стук… и снова мучительный вопль…
Крик был… специфический, стук – тоже: за картонной стенкой происходило соитие.
Тьфу ты. Напугала крикливая баба… хорошо же ей, ох как хорошо… И боец мощный: вон как стучит раздолбанная кровать; да что там стук – шорох простыней, тяжелое сопение слышно.
Короче… до утра. Раз десять они сгуляли, сначала с воплями, потом она, бедная, только охала. Ну, мужик, ну, сила… Молодец.
Так я и не спал ночь. В шесть утра включил телевизор, стал собираться. И за стенкой заговорили, захихикали, застучали вешалками во встроенном звукоусилительном шкафу. Видать, наши же пассажиры.
У лифта, дожидаясь своих, я, наконец, увидел молодца: гренадерского роста усатый красавец-грузин с грацией племенного льва прошел мимо, в буфет, подкрепиться после трудов праведных. Осчастливленная мадам его уже сидела там; так мне ее и не довелось увидеть.
Да уж. На старости лет только смог я убедиться, какая бывает мужская сила… мне там нечего делать. Но молодцы. По-хорошему позавидовал.
Олег довез домой и прекрасно посадил машину, пассажиры хвалили.
А сейчас сижу в Краснодаре. Полет прошел незаметно, за беседами, двойным обедом и чтением. Я зашел с прямой и по-бабаевски притер машину.
В Краснодаре стихийное бедствие: снег выпал такой, что парализовал всю жизнь. Сугробы, наледь на дорогах, ветки ломает, на Кубани наводнение. И правда, бедствие. Особенно поразили дороги: ледяные желоба с колеями и колдобинами, прямо как какой-нибудь Южно-Сахалинск; масса аварий – не день, а месяц жестянщика. И морозы были до 30 градусов.
А первое что бросилось в глаза на перроне – беспомощно раскоряченный, сидящий на хвосте, заброшенный Ил-14. Снегу навалило на стабилизатор, а без штанги… много ли ему надо. Он вообще бесхозный, но вроде еще пригоден для полетов. Только где ж для него того Б-95/130 добыть. Не на автобензине же летать. Я тут читал: на химии какие-то партизаны летали на Ан-2, заправленном автобензином Аи-93; ну, упали. Малая авиация дошла.
Москва прислала телеграмму по случаям недавних выкатываний в Норильске. Мол, стали туда летать всякие компании, а серьезный опыт есть только у красноярцев и внуковцев – они и не допускают ошибок. А другие не учитывают местных особенностей, как-то: крутой рельеф начала полосы, отсутствие заметенной снегом осевой линии, невозможность визуального контакта с поверхностью бетона из-за поземка, сильные ветра, малый коэффициент сцепления, неполная расчистка ВПП… Волга впадает в Каспийское море.
Так вот: теперь разрешено летать туда только особо подготовленным экипажам; при перерыве в полетах более 15 дней обязательна провозка, причем, ночью.
Мне, с перерывом от Нового года аж три недели, Норильск, согласно этому указанию, уже не светит. Малый перерыв у Мисака и Полудина – им туда и летать. Мужики взвыли.
Нет, ну если надо, пусть дадут и мне провозку… научат в Норильск летать… испрошу замечания…
А если серьезно, то к концу месяца, видимо, добавят мне еще пару рейсов, вместо ангажированных на эти Норильски Мисака и Полудина. Летать некому, все в отпусках и в УТО.
23.01. Домой долетели по расписанию, Олег притер машину, но не совсем красиво опускал ногу и держал направление. Однако сидевшему за спиной Коле Петрушу, летевшему из отпуска, показалось, что сели идеально; хвалил.
В штурманской я поставил автограф на книжку одному из вторых пилотов, да и поехали по домам.
С утра решил сходить в баню: надоел кашель по ночам, да щиколотку попарить надо. Зная, что могу встретить там Репина, посещающего баню строго, как церковь, прихватил с собой книжку. И точно: он пришел аккурат вслед за мной. С удовольствием подписал и вручил Учителю экземпляр. Зрелище было комичное: два голых мужика, в присутствии нескольких голых завсегдатаев бани, жали друг другу руки и рассыпались в комплиментах. Но мы все восприняли это как нормальное явление. Даже банная обнаженность подчеркнула: вот – самая голая суть человека; одежды тут лишние.
Владимир Андреевич доволен, в восторге; говорит, это будет его настольная книга.
27.01. Фуртак собрал эскадрилью, представил нам нового и.о. комэски, Казакова из 1АЭ. Нашего комэску Чекина таки заставили сделать операцию. Напоследок он хотел сказать нам что-то сердечное, но говорить не смог… пауза… справился с собой, выдавил: ребята, берегите здоровье… смахнул слезу и убежал.
Жалко, конечно, но, надеюсь, он выздоровеет и вернется.
Ну, Казаков Паша – летчик хороший, инструктор, интеллигент, грамотный, говорить умеет. Выступая по выкатываниям в Норильске, ссылался на мою книжку. Несколько неожиданно подчеркнул: это, мол, не руководство к действию – ни в коем случае, – но вдуматься надо в то, что человек осмыслил, пропустил через себя и нашел нужным донести до вас; в каждом конкретном случае каждый пусть решает сам: использовать эту методику или нет.
Что ж, разумный комментарий.
Разобрали и случай с новосибирским Ту-204, очень поучительный.
Они шли из Франкфурта в Толмачево; погода плохая, Толмачево закрылось боковым ветром; ну, сделаем кружок… остаток 5 тонн, вроде позволяет уйти на Омск, но… синдром родного аэродрома, на борту проверяющий… «получше замерьте…»
Ветер боковой все же оказался больше нормы, надо уходить. Топлива осталось 4 тонны, а до Омска 600 км, да ветер будет в лоб 120-140 км/час… но решились идти. На полпути уже загорелись красные лампочки, стало ясно, что ведь могут и двигатели остановиться; стали всерьез готовиться к посадке без двигателей. Подошли на всякий случай повыше… и за 17 км двигатели остановились, высота 1600. Ну, с прямой, с перелетом, выпустив аварийный ветряк, обеспечивающий самолет электричеством, и аварийно шасси… таки сели, выкатились на 450 м, побили 15 фонарей, но самолет цел.
Нет бы с попутным ветром – в Кемерово или в Красноярск… Ну ладно, слава богу, живы. Летучий самолет, оказывается.
Теперь пойдут занятия, зачеты…
Что касается Норильска, то начальник управления Осипов разрешил красноярцам туда летать, за исключением молодых, по первому году, капитанов. Вот меня и заслали в Москву под три Норильска.
После того разбора стал раздавать автографы. Книжкой, естественно, больше интересуется молодежь, чего и следовало ожидать.
Приехал домой, только пообедал – звонит Менский: пришла на вас расшифровка. В наборе высоты из Красноярска горело 2 минуты РИО, а противообледенительную систему вы не включали.
Примчался я в эскадрилью вновь; там уже Ефименко. Припомнили с ним погоду: да не было там условий для обледенения, а было почти ясное небо. Ничего и не включали, даже обогрев ВНА. А в Краснодаре на снижении – да, было, и РИО горело, и ПОС включали полностью, и все записалось.
Ну, написали объяснительные: знать, мол, ничего не знаем, ведать не ведаем. Потом я взял на метео прогноз и фактическую погоду на момент взлета: никакого обледенения у нас вообще не прогнозировалось.
Где-то кулоны не туда побежали, а экипаж дергают.
Ноги болят. То одна щиколотка, то другая, а теперь обе: щелкнешь по суставу пальцем – боль пронзает нестерпимая. Это наследственный артрит. И беречься надо, и нагружать же себя тоже надо. Я знаю, чем это кончается, если запустить.
Оттанцевался я.
Перечитал «Титаника» еще раз. И думаю себе: о чем же думал в последние минуты жизни несчастный капитан Смит? Какое горькое разочарование постигло его, с его самоуверенностью, с его удачной карьерой, когда уже подбил итоги жизни и собирался на заслуженную пенсию, – лучший капитан компании…
Страх потерял. Надеялся, что, как всегда, пронесет.
Вот и мне надо делать выводы и не торопиться подбивать итоги. Опасаться надо.
Здесь, в Аэротеле, полно наших экипажей. Встретил Гайера, побеседовали. Он жалеет, что не удалось побыть инструктором, а есть и желание, и какой-никакой опыт.
Да уж: опыт второго пилота, который фактически работает в экипаже командиром, и не один год. Я все не дождусь, когда же его введут на Ту-204, и поскорее бы сделали инструктором.
28.01. Слетали в Норильск. Удалось опередить циклон, но полеты грязноватые.
Я взлетал в Домодедове и как-то не собрался. Одно то, что не выспался, валяясь у телевизора, и как на заказ – три фильма подряд, и все о китах; а я китов люблю. Потом все же задремал, но телефон перебил сон напрочь: звонил представитель, доложил(!) погоду Норильска… сервис, блин… но на полчаса раньше, чем надо бы.
Ну, пошел на вылет сонный, едва врубившись в погоду, и так, сонный, и взлетал. Плохо было видно землю через очки, ну, перетерпел, перевел взгляд на приборы… А дальше началась болтанка, и после уборки закрылков я допустил снижение самолета с вертикальной скоростью аж 5 м/сек; рявкнула ССОС, встряхнулся, опомнился, задрал… Но эшелоны, задаваемые диспетчером, все равно занимал как-то бесконтрольно, как во сне. И ведь без всякого фенобарбитала – а дурак дураком.
Машина 489-я; вчера Логутенков предупредил, что у нее не работает канал курса СТУ, а техники просили пока не записывать; ну и не записал. Ну, мы проверили.
Канал так и не работал, и я корячился с попутником и сдвигом ветра на посадочном курсе 14. Дворник, закрывающий полосу, мешал держать створ при хорошем левом сносе; между дальним и ближним резко стащило вправо, пришлось прикрываться левым креном до 15; ну, выровнял и притер машину… но землю видел очень расплывчато, а погода звенела, видимость 12.
Уж лучше в сложняке: там все равно, в очках ты или без них, – земли все равно не видать путем, на слух садишься.
Обратно вез Олег, я дремал. Москва перед снижением заштормила. Внуково закрылось боковым ветром, самолеты разбежались по запасным; Домодедово держалось: слякоть 0,37, ветер 290 до 16 метров, +1, видимость 1800, нижний край 180. Внуково дало уже -2; Нижний давал +2, но сцепление 0,32, слякоть. Короче, Европа.
На снижении хорошо обледенели; нас долго мурыжили, заводили за Як-42, но таки снизили. Снова СТУ не работала, заход по ПСП с использованием САУ, шум и гвалт в эфире, шум в кабине – старался Саша Полянин. На ВПР вышибло на две точки выше глиссады, ну, дожали; загорелось табло «Предел глиссады» – хрен с ним, полоса перед нами, отпишемся. Сели с перелетом. А куда деваться: на повторный заход если и есть топливо, то до Нижнего все равно не хватит: встречный ветер много съел.
Ну, отписались, с подробностями. Теперь можно и поспать.
…Поспал, проснулся – солнце уже заходит. Ну, выспался. Оно бы вдохновиться и написать главу… нет, не идет. И знаю же, что стоит только начать – а там пойдет, и уж до конца… нет, не раскачаюсь.
Что-то с полетами у меня не ладится. Качество резко упало, а главное – мне все по фигу. Набрал эшелон – снимаю наушники и отключаюсь до снижения. Довезут.
Какой гвалт был на домодедовском кругу в эфире – и какой напряженный тон переговоров: все на пределе, кого-то угоняют, кто-то решает, садиться или уходить, интонация у всех лающая…
Я, ведя связь на заходе, постарался придать голосу самые спокойные, прям задушевные интонации. Мол, все в норме, обычный, спокойный, нормальный заход… чего вы все так кричите в эфире?
А у меня в кабине решались не менее сложные задачи. Олег ловил скорости и управлял колесиком «Спуск-подъем», Саша рукояткой «Разворот» удерживал планку КУРС-МП в центре, подбирал снос углами выхода в один-два градуса, Володя едва успевал менять режимы; я следил за всем. Когда выскочили из облаков правее полосы и выше глиссады, я отключил автопилот и стал помогать Олегу дожимать глиссаду. На ВПР все было в пределах.
И все же я вижу, как сдал в мастерстве. Пожалуй, я уже не смогу показать, как ЭТО делается. Опускаюсь до уровня проверяющего. Это естественная летная старость. Ну, на пару месяцев меня еще хватит.
Но как объяснишь это Наде… да и всем. Для них всех это такие мелочи, а главным в моей работе им видится: ТАКИЕ ДЕНЬГИ! А мне и тех денег не надо.
А случись что, не дай бог, – все в голос скажут: ну что ж, брат, ты сам видел и чувствовал все, тебе и решать… что ж ты раньше-то не ушел? И я же буду виноват, и обо мне же скажут: в погоне за деньгами дошел до полной летной деградации…
Вот я и решился. Тяну чисто срок, до круглой цифры.
Вершина мастерства была у меня лет десять назад; ну, несколько лет я уровень еще поддерживал, а потом пошел спуск. Но, как и в любом серьезном деле, определить начало упадка не так просто: сначала отдельные мелкие неудачи на общем благостном фоне, потом вроде снова ничего, потом опять: расшифровки, расшифровочки, вроде мелкие, незначительные отклонения, – а суть-то в потере уровня.
А сейчас мне уже откровенно видно: сдал, и возврата нет. Не хватает внимания. Не хватает выносливости. Не хватает терпения, выдержки. Не хватает желания. Падает зрение. Полеты тяготят. Устал. И зачем все это продолжать. Надо быть честным перед собой.
Я не верю, что этого не замечают в себе Владимир Григорьевич Карнаушенко, или Виктор Александрович Толстиков, или другие старики. Но они как-то смиряются. Может, так уж самозабвенно любят свою романтическую работу. Может, боятся нищеты и безделья. А может, просто не хотят ломать установившийся десятилетиями уклад жизни.
Тогда им еще труднее, чем мне: они, подобно Наде, отсчитывают последние дни оставшейся жизни, а там…
Мне тоже страшновато покидать Систему. Это примерно как пассажирам «Титаника» страшно было перелезать через перила, садиться в хрупкие шлюпки и спускаться в жуткую темень, холод и неизвестность с такого вроде надежного, высокого борта. Но я-то знаю: мой «Титаник» долго на плаву не продержится, и надо вовремя отчалить, чтоб не попасть в водоворот. И мне есть куда плыть.
30.01. Тщательно, чуть не до заучивания наизусть, пересчитываю вновь и вновь «Титаника», зачем – сам не знаю. Меня волнует проблема риска и ответственности за него.
Получается именно такой, фаталистический подход к встрече с неблагоприятными факторами: повезет-не повезет; но думать об этом все время – нервов не хватит. Будет день – будет пища. Увернемся. Это не со мной.
И мне ведь тоже, по прошествии лет, стал свойствен подобный подход к риску. Опыт подсказывает, что угрозы непосредственного столкновения с чем-то в воздухе нет: диспетчеры следят внимательно, и вовремя подскажут, если что; за грозами следит штурман. А я к старости, наплевав на облучение, норовлю ради спокойствия летать вообще выше гроз.
Мои нынешние тревоги – в принятии решения на вылет с учетом условий на аэродроме посадки. Я должен так рассчитать, чтобы не влипнуть в неприемлемую погоду и не уйти на запасной. Разговора о том, что я физически не справлюсь и разложу машину, нет.
Моя задача осложняется тем, что после десятилетий цивилизованных полетов в условиях прогресса авиации, мы нынче вынуждены летать в условиях деградации инфраструктуры и под гнетом возросшего бюрократического пресса. Бюрократ, отсиживаясь в кабинете, требует буквального исполнения инструкций, созданных на волне того прогресса, которого сейчас нет. Объективные условия агонии авиации не позволяют те инструкции выполнять, но бюрократ, уцепившись за словосочетание «человеческий фактор», затягивает гайки по мере роста количества инцидентов, повышая напряжение именно человеческого фактора: мы всего боимся. Тот же Витя Мисак, в легкой истеричности своей, плюнул на все и принимает решения наобум (мол, как тот Норильск угадаешь), уповая на то, что благодаря своему мастерству как-то извернется. А тут подсовывают машину с неработающей СТУ: слетайте, ребята, понаблюдайте, позаписывайте. Вот на ней-то и ушел в Игарку Кабанов, хотя мы записали про СТУ; ну, может подшаманили техники… а может, отписались.
1.02. Интересно, как оценивают меня как капитана коллеги: как осмотрительного? трусоватого? думающего о собственной заднице? зануду? педанта?
Да пусть хоть как. Но пусть каждый сравнит конечный результат.
Качество полетов у меня поехало вниз. Нет чистых, доставляющих эстетическое удовольствие заходов. Посадки, конечно, удаются, но там руки сами делают: все в пределах 1,15-1,2. А пилотирование по приборам утомительно: с трудом собираю стрелки в кучу, и то, ценой сильного напряжения.
Те рассуждения, которые я в молодости читал, о том, что, мол, в летной профессии мастерство с годами только растет, – они ведь касались какого возраста? В 45 летчик уже казался старым. До 50 редко кто долетывал, даже в Аэрофлоте, а в военной авиации, в спорте, – заведомо. И выводы-то эти, о росте мастерства с возрастом, делали такие же, ну, максимум пятидесятилетние летчики, срубленные медициной на пике мастерства. А мне уже под 60.
Бабий век летчика короток: лет 20. А я за штурвалом с 67-го года, а ПСП в училище сделал в 65-м. Да, пик мастерства был у меня от 40 до 48 лет, а с 50 начался устойчивый спад. Притом, я ничего и не делал, чтобы это мастерство поддерживать, просто летал, и все, катился тихонько по инерции. «Жутко интересно» мне было до 40. Мастером я осознал себя к 45, к концу 80-х годов. А все 90-е я уже вводил людей в строй, считая именно это своей главной работой, и был уже авторитетом. Я уже тогда считался дедом.
Да что тут рассуждать. В меру отпущенных мне природой сил и способностей я достиг пика, продержался на перевале, а теперь подходит неизбежная старость и деградация. Смешно было бы мне сейчас работать над собой в оттачивании мастерства: что там уже точить, когда ничего от лезвия не осталось, один хребет.
И я теперь совершенно уверенно утверждаю: с годами у старого летчика надежность падает. Спасают, конечно, опыт, осторожность и предусмотрительность. Но в пиковые, экстремальные моменты – реакции уже может и не хватить. Руки, может, сами и сделают, но вполне возможен и инфаркт от перенапряжения.
Ничего не пойму и с глазами. То я вроде уже приспособился видеть землю в очках, а нынче вот они явственно мешают: все нерезко, расплывчато, не так… Каждый раз приходится приспосабливаться, а в общем… а в общем я ни хрена землю не вижу, только нюхаю. Тяжело это. Отгоняю страх слепоты на посадке, но разумом сознаю: так долго продолжаться не может. Пока мне везет, но не бесконечно же.
И еще одно. Какой интерес может быть к работе, пусть даже к настоящей, мужской, пусть даже на ней все в идеальном порядке, – когда уже и к простым радостям жизни интерес угасает. Ну, старость. Уже ни той женской ласки почти не надо, ни гулянок, ни той водки, ни азартных игр; уже ограничиваешь себя в обжорстве, уже хочется тишины, покоя, хочется безответственности, созерцательности… и чтоб отстали. А мне предлагается: поддерживать мастерство на уровне молодых лет, да выдавать медицинские параметры, как у юноши, да при этом выносить перипетии разрухи авиации, да приспосабливаться к новациям из-за рубежа и с восторгом пацана перестраивать свой менталитет под сраную Америку.
И все это – ради денег, которые деваются неизвестно куда, а я должен томиться в дальних, долгих рейсах.
Я согласен пролетать нынче без отпуска до 25 июня, когда кончится срок пилотского свидетельства; думаю, мне пойдут навстречу. Правда, никаких вводов в строй. Я стар, немощен и маразматик. На меня градом сыплются расшифровки. Дайте умереть спокойно. Я соберусь, сожмусь и дотяну.
7.02. Щиколотки мои увеличились в размере и все так же болят. Показал Оксане, он говорит, артрит, причем, в стадии обострения; пока никаких бань. И стонет: «Это наследственное… и бабушка, и ты… это ж и мне то же самое предстоит на старости лет…»
Ну, буду пить таблетки.
Сегодня с утра съездил на разбор. Ну, одно да потому. Вспомнили наше невключение ПОС. Там и раньше были замечания, что РИО срабатывало в ясном небе; поменяли датчик. Всем все понятно. Но, в назидание всем: РИО загоралось? Загоралось. Инженер не видел? Не видел. Не записал? Ясное дело, не записал, раз не видел. Так вот, чтоб видел, – получай замечание за нарушение пунктов РЛЭ и НТЭРАТ.
Ну, нас порют, а мы крепнем. Теперь будем противообледенительную систему включать всегда, даже летом. Всег-да. И все.
Ефименко переживает. Я его успокаиваю: да брось ты, Григорьич, авторитет у тебя высокий, всем все понятно, но механизм принятия мер должен отработать свой цикл, а тебя – под винты. Мелочи.
Приглядываюсь к Паше Казакову. Знает грамоте, язви его. Уверен в себе. И как-то так это после разговоров с ним внутри меня начинает складываться впечатление, что – а может, иной раз ты и не прав, Вася? Есть такие нюансы.
Однако, зная свою прогибчивую перед авторитетами натуру, говорю себе так. А почему это у меня, старейшего, грамотного волка, вдруг возникают сомнения? А почему бы им не возникнуть у молодого против меня, менее опытного, но амбициозного летчика Казакова? Почему бы это ему не спросить себя: а может, я чего еще недопонимаю? А не спросить ли у Василь Василича, который капитаном и инструктором пролетал вдесятеро дольше меня?
Даже если ты где-то, в чем-то, самую малость, неправ, или сомневаешься (а наши документы иной раз допускают двоякую трактовку), – держи хвост пистолетом и накатывай сам, дави авторитетом! Пусть это они под тебя прогибаются, пусть это у них закрадется сомнение: «а может, я еще по молодости, по неопытности, – где-то чего-то недопонимаю?» И пусть подходят и спрашивают.
Вася, держи марку. Ты заработал авторитет, не позволяй его размазывать. Чикалов знал на четыре, а ты, на тридцать пятом году полетов, знаешь на шесть. Задницей. Пусть поучатся.
Уж если кто знает и умеет – так это я. И всё.
В свое время я уважал стариков просто за возраст. За то, что, годясь мне в отцы, они повидали такого, чего мне, в детском садике, и не снилось. А ведь они в старости, т.е. в моих нынешних годах, сидели тихо как мышки, тряслись перед медкомиссией, не могли пройти психолога и с великим трудом сдавали экзамены в УТО. А я для ребят летные книжки пишу. И все-таки робею перед должностями.
Кстати, спросил тут у Черникова: у тебя есть моя книжка? Да нету… я о ней только слыхал… не досталось… никто вовремя не подсказал…
Бляха-муха. Зла не хватает. Да я ее для тебя персонально и писал. Для таких вот как ты, молодых, азартных щенков. И – не досталось…
Ну, хорошо, что у меня еще лежат несколько штук. Одну обещал Гульману, другую Бабаеву, остальные раздам пацанам, с надписью: стань же Мастером! Не болела бы душа за вас – да в жизни бы не взялся за это дело.
5.02. Игорь Окунев просил завезти ему старую Технологию Ту-154Б-1. Он сидит в ЛШО вместо уехавшего на переучивание на Ил-86 Дударева. Вот мы с ним рылись в РЛЭ Б-1, в котором он не шибко разбирается, т.к. летал только на «М». Но это ладно, ерунда, а вот, Василич, учитывая ваш большой опыт, в том числе и на «Б», не возьметесь ли вы пересмотреть новую технологию и добавить кое-что по «Б». Эту новую технологию для «эмок» переделали по удобоваримому образцу старой, созданной еще для «бешек», а теперь хотят объединить все в одну, добавив туда особенности Б-1.
Ну, куда денешься, взялся. Посидел пару часов, кое-что добавил по памяти. Да и засиделись с Игорем. Он парень умный, и в голове хорошие идеи.
Однако меня поразило, как несовершенны наши РЛЭ и технологии. Полистали РЛЭ Ту-154Б, а там просто упущены элементарные вещи, как, к примеру, перекладка планки стабилизатора перед довыпуском закрылков на 45 – жизненно важный элемент полета! Пришли изменения, новое добавили, причем, несущественное, а старое забыли вставить. Это не дело. И получается так, что мы, старики, храним в памяти вбитое через зад, а в технологии – нету. Надо садиться самим и самим сочинять, компилировать, лепить из двух одно, приемлемое на все случаи жизни, проверяя своим опытом и здравым смыслом. А молодым все это и невдомек.
Я все больше убеждаюсь, что моя книжонка вышла очень кстати. Опыт не просто утекает, а засоряется, затирается накладками, имеющими малое отношение к делу. А молодые путаются в расстановке приоритетов, не знают, за что хвататься.
Латаем дырявое, прогнившее днище нашей тонущей авиации…
Зашел к Менскому, оформил небольшой отпуск: будем праздновать Надин юбилей. Заодно Володя предупредил, что 8-го в управлении будут отмечать 25-летие начала эксплуатации Ту-154 в крае, так приглашают меня и Ефименко как стариков; ну, интервью там для телевидения… короче, на всякий случай подмойтесь.
8.02. Давал интервью… потом болел желудок. Все же волновался.
Собственно, пространные монологи были у Осипова, Евреимова и меня; ну и ребятам дали сказать пару фраз. Это – телевидению. Потом остался корреспондент радио, и мы все снова с ним полчаса беседовали. Снова я вынужден был читать монолог, хотя желудок уже сдавило. Ну нельзя мне поддаваться вообще никаким эмоциям. Но дело касалось моей книжки…
Сам себе рекламы не сделаешь – кто ж тебя заметит. Собираясь в управление, я на всякий случай захватил свою книжонку. Сразу ее не показывал, но когда понял, что к этому мероприятию никто вообще не готов и Осипов всех спрашивает «ну вы хоть знаете, о чем будете говорить?» – стало ясно, что книжка моя пригодится. Сбегал к своему портфелю, положил на стол перед начальником управления брошюру: вот, мол… из 25-летней практики… У Осипова выпал глаз, но он тут же сориентировался: «Вот какие книги у нас рядовые летчики пишут!» И пока мы красовались перед телекамерами, я краем глаза видел, как внимательно листал ее корреспондент радио. И на ней он потом построил нашу беседу.
Со мной был экипаж: Зуйков, Ефименко – старики, и второй пилот, молодой Саша Шапошников, сын Павла Константиновича. Ну, молодец: и ступить, и молвить умеет. И между прочим, когда я заикнулся, что брошюрок моих всего 200 штук, Саша поправил: двести шестнадцать… мы отксерили в УТО… Ну, обрадовал: значит, востребована книжечка-то.
Корреспонденту особенно понравился мой язык, а строчки, где я писал про «заколачивать гвозди компьютером», он даже процитировал.
Ну, говорю же, сам себя не преподнесешь – кто ж о тебе вспомнит. А так я себе теперь рекламу сделал и в управлении. Когда дойдет до «Раздумий ездового пса», всяко лыко в строку пригодится. Думаю, и Абрамович, ревниво относящийся к рекламе фирмы, не пропустит мимо ушей, если Осипов о книге заикнется, или по телевидению проскочит, или по радио.
Ну, надо еще дописать книгу-то. Нынче, летя из Москвы, прямо в Ил-86 дописал главу «Принятие решения». Перечитал – годится. Тут надо учитывать еще и специфику профессии, ореол романтики и тайны пилотской кабины. Мелкие погрешности стилистики простят – лишь бы было интересно. Язык – я и сам знаю, что не канцелярит, не угрюмое «нам была поставлена задача…» Нормальный, человеческий язык.
И интервью я давал без бумажки, нормальным языком, без мычания. Все уже передумано на сто рядов; словесный понос шел ровно.
После интервью поехал к Наде на работу, она давно хотела показать своим коллегам меня в регалиях… Ну, показала… двоим. Да давай побыстрее но-шпу… желудок болит. Ну, попили чайку, таблетка сняла спазм, пошли на рынок, купили пару семг на засолку, да и поехал я домой. Усё. Выжатый лимон. Глоточек коньячку… уф. Больше нельзя, ведь в ночь нам лететь.
9.02. День Аэрофлота. Хабаровск. Гадюшник. Коридоры, оклеенные ценными сортами ДВП. Тесные, микроскопические, подержанные номера, с тесными же, микроскопическими удобствами. Как везде. И вроде все есть: и дешевенький телевизор без пульта, и холодильник «Океан», и телефон. И даже дверь в тамбурок закрывается. Единственная ценность этого двухместного гнездышка – тишина. Мы обретаемся здесь с бортинженером.
В полете достал Технологию и стал сравнивать ее с РЛЭ «бешки». И зачитался: столько изменений, а я, замшелый дед, летаю все по-старому, 75-го года, Руководству. Но скажу прямо: все эти министерские новации ни на йоту не помогают, а только запутывают. Все эти многочисленные, невнятные рекомендации по манипуляциям закрылками и стабилизатором в зависимости от центровки, все эти поздние выпуски шасси и закрылков, этот выпуск шасси в глиссаде, – все это продиктовано отнюдь не стремлением внести весомую лепту в безопасность полетов. Скорее, это все политика, министерские интриги и обтекатели на задницу, желание чиновника показать себя на острие прогресса, в европейской струе, и т.п. Но все это только расшатывает и так не установившийся стереотип действий у молодежи; я же, старик, спокойно ложу с прибором на эти новации и летаю так, как мне удобно. А удобно мне – издалека, постепенно, из этапа в этап, успевая все сделать и проконтролировать. Мне, в отличие от скороспелых новых авиационных менеджеров, спешить некуда; так же стараюсь приучать и молодых. Пусть сначала научатся делать все безопасно и логично, а уж набив руку, пусть выполняют указания этих… петушков в галстучках.
Рульковский синдром. Я стар. Мне – не надо шустро, быстро и на копейку экономичнее: я презираю такую экономию. Я считаю, что моя методика – оптимальна. Мой подбор режимов, моя красноярская школа, – для тех, кто писал эти дополнения к РЛЭ, – просто непостижима, ненужные мелочи. А ведь в понимании логики этих мелочей кроется основа безопасности полета для думающего пилота.
Но оборачивается так, что думающий пилот в нынешней гонке жизни не нужен. Нужен оператор.
Ты давай-давай: довыпусти в глиссаде закрылки, потом выпусти шасси, перебалансируй машину, дождись, пока человек установит кран нейтрально, подбери режим методом тыка – и успей до пролета дальнего запросить посадку. Карту-то читать некогда… ну, в погоне за директорами и режимами… вполуха, бегом-бегом…
Вот это – реагирование на люки. Вот это – в темпе времени. Вот это – оперативность.
А я что: я дед, и мои методы устарели. Они отсталые. Правда, надежные. Но в путанице современных полутенденций-полурекомендаций моя методика для пацанов – как ясный, устойчивый ориентир.
А что же делать с нашей нынешней Технологией работы и инструкцией по взаимодействию экипажа? Она явный упор делает на то, что, по моему разумению, расшатывает устойчивый режим захода на посадку. Именно туда она направлена.
Надо не забывать: Технология – производная от РЛЭ. У военных летчиков ее вообще нет, и взаимодействие в экипаже определяет его командир. Но мы возим людей, и взаимодействие может и должно быть стандартизировано для всех экипажей пассажирских лайнеров.
Я, честно, новое РЛЭ «эмки», написанное на американский манер, и не открывал. Не лежит душа. Все не так, не тем языком, не та логика… а главное – мне есть с чем сравнивать.
Читая в полете старое, древним, бледным, но таким знакомым шрифтом отпечатанное «бешечное» РЛЭ, написанное в 70-е годы русским человеком для русского человека, цеплялся за старые, застрявшие в памяти ключевые фразы и обороты: ага, вот-вот, так оно и есть… Стоп! А вот это совершенно новое, и вот, и вот… зачем? Что это мне дает? Кто и зачем нам это всучивает?
Я давно уже вышел из возраста, когда смотрят в рот летчику-испытателю, который в свое время торопливо выдал нам рекомендации по Ту-154, выработанные всего в нескольких полетах. Я эти его рекомендации испробовал так и этак, в течение десяти тысяч часов, и имею о них свое, практическое мнение. Я понимаю, что нынешние новации в РЛЭ вписывал уже не испытатель. К испытателю я всегда испытывал сугубое уважение как к личности и профессионалу, но понимаю, что человек тоже имеет право на ошибку, тем более, в душной обстановке министерских, кабэшных и красноармейских интриг. Новации же вписывал эффективный менеджер около авиации, сам вряд ли летающий… ну, так, возможно, подлетывающий, проверяющим высокого ранга. Нет у нас в министерстве настоящих летчиков. Давно нет.
Такова философия старости: она цепляется за надежные, хорошо проверенные, выстраданные годами методы; она побаивается нового и тщательно, критически, с ворчанием, обсасывает его. И не было бы этого ворчания – ой много, много бы молодых угробилось бы.
Понимаю: когда-то, в необозримом отсюда будущем, в красноярском небе понадобится вертеться: и шасси выпускать в глиссаде, и этот взлет без остановки применять, и прочие операции делать второпях. Но наша, российская авиация, вынужденная летать партизанскими методами в зарубежье, с кучей нарушений, и выдавливаемая оттуда, – здесь, в российских условиях застоя, с нашей-то интенсивностью полетов, так летать не должна. Торопиться, выжимать копеечную экономию из выпуска шасси перед дальним приводом, не будет необходимости еще лет десять. К тому времени «Тушки» как раз уйдут в небытие – и зачем нам такие новации?
Я понимаю, придется летать за рубеж на иноземной технике, приспособленной к таким скоростным технологическим операциям при двух операторах-членах экипажа. Там будет своя технология работы. А новая технология Ту-154М есть только имитация бурной деятельности чиновников, имеющих какое-то там отношение к нашему РЛЭ.
А я к нему отношения уже вроде как не имею. Я застрял в старых стереотипах. И безопасно перевожу сотни тысяч пассажиров.
Так и не понадобился мне немедленный взлет. Так и не понадобились мне эти сраные визуальные заходы. Так, надеюсь, за эти оставшиеся месяцы не понадобится ни выпуск закрылков вперед шасси, ни выпуск шасси на глиссаде. Я уж подежурю с рукой у рукоятки закрылков в момент выпуска колес. Так до конца и буду учить молодых пилотов. И уверен: уж они-то не убьют своих пассажиров на третьем развороте.
19.02. Надо помнить, что нас, пенсионеров, нынче в стране очень, очень много, мы всем надоели, мы никому не нужны… а едим.
На старости надо не высовываться на людях и не поучать. Нынче такие времена, что наш опыт не востребован, он никому не поможет; он только раздражает. Молодым приходится искать совершенно новые пути, им не до нас, а мы норовим схватить их за ноги. Могут и лягнуть.
Вчера Надя показала мне видеофильм о работе московской фирмы «Русские газоны». Это вроде то же озеленение, но по сравнению с тем, чем приходится заниматься Наде, это как «Боинг» против кукурузника. Индустрия; сумасшедшие затраты, сумасшедшая отдача. Качественный скачок за пределы старого мышления. Люди нашли свой путь и зовут за собой тех, кто силен, кто способен напрячься и, пока молод, рвануть.
Мы уже не рванем. Я рванул новейший Ту-154 в начале его эксплуатации. А теперь мы с моим лайнером старики. Теперь Надя со своим озеленением, которому отдала 35 лет, остается на перроне, глядя вслед уходящему поезду «Русских газонов». Мы прожили жизнь. И хочется передать опыт… и на фиг он кому нужен. Больно, а куда денешься.
Те из пенсионеров, кто вовремя нашел себе высокооплачиваемую работу и имеет еще силы, жалуются на одно: надо пластаться с утра до вечера.
И ради этого стоило всю жизнь летать? Всю жизнь в шестернях – и чтобы потом, будучи выплюнутым, снова совать руку в шестерни – пусть другие, но еще более безжалостные?
Поистине, жизнь жестока. Или гони, до конца дней, или тихо подыхай.
Ну, мне-то ближе уже пустые щи. Я попытаюсь выжить на этом уровне. Гонка меня угробит быстро.
У друзей, наблюдая, как Юлька увлеченно сидит за компьютером, я обронил фразу, которая засела у меня в мозгу еще со школьных лет. Не умеешь работать головой – будешь руками. Или острее: умный – мозгами, дурак – руками. На меня напали: и друзья, и Надя: чему, мол, учишь ребенка!
Все потому, что нас учили жить по лжи, что в нас вдалбливали высокие идеалы – за тем же кухонным столом, за которым обсуждалось, кто какие взятки берет, кто умный, а кто дурак. И страна наша пришла. Мы вроде хватаемся за те идеалы: ах, ах, какие мы были хорошие при социализме – и коллективисты-то, и милосердные, и помогали слабым…
И допомогались.
Мама мне и тогда говорила: сынок, люди не равны. Есть умные, а есть дураки. И с этим ничего не поделаешь, генетически, – я их целыми фамилиями, династиями учила, от деда до правнуков… Условия для всех равны, законы, и прочее, но люди, личности – не равны! Каждый борется за себя сам. Учись, учись сынок, будь умным. И если найдешь в себе силы как-то изменить жизнь – борись. А если сил не хватит – сиди и не рыпайся.
Так вот, и в Юльку надо вложить это понимание: жизнь движут не народные массы, не рабочий класс. Жизнью управляет предприниматель – человек, который умен настолько, что, оценив обстановку, затевает предприятие, используя при этом тех, кто умом не способен это предприятие охватить. И получается, что руками добывает себе хлеб насущный тот человек, которого в народе зовут дураком. Я не говорю о мастере, творце. Я все о молекулах гидросмеси. О мускулистом классе.
Мастер – руками творит Храм, а рабочий класс копает, копает и копает проклятую канаву, кладет и кладет проклятые кирпичи, крутит и крутит проклятые гайки на конвейере. Потому что ему, во-первых, не открылось понимание. А во-вторых, понимание не открывается тому, кому не повезло вовремя выучиться, либо кто ленив, либо развращен, либо просто дурак, – и это при том, что бесплатное обучение было открыто любому! И так было и будет всегда, и в этом – справедливый закон жестокой, страшной, биологичной жизни, от которой бумажными знаменами большевики пытались временно оградить наш народ; теперь имеем это безвременье, разброд и шатания.
Можно, конечно, заниматься ремонтом обуви в ларечке. Это нижайший уровень – но все-таки мастерства. И все же это хоть какое-то – но творчество, решение задач.
А можно организовать обувное производство, вовлечь в его орбиту миллионы работающих денег и тысячи работящих людей – и создать фирму «Адидас».
Совок тут же спросит: а откуда он деньги взял?
Вот потому ты и совок. Тебе никогда не охватить мозгом и уголка той огромной пирамиды, которую своим умом, своим горбом и нервами, и всей жизнью, в страшной гонке по ущелью, из которого один выход – только вперед, – создал этот человек. Тебе об этом страшно и подумать – а он вступил на этот путь один, положил жизнь на алтарь и таки воздвиг свой Храм. Да, под его фундаментом валяются кости десятков и сотен неудачников-конкурентов. Такова жизнь. И скажи спасибо, если он примет тебя на работу и поставит к станку, клепающему кеды. Если у тебя мозгов на тот станок хватит. Так учись, учись, учись, думай, стань умным! И борись!
А мы видим только коттеджи. Они нам как бревно в глазу, а сами в своих хрущобах клопов не можем – и не хотим – извести. Мы – лодыри.
Так жесток ли волк, пожирающий слабых?
20.02. К вопросу, кем бы могла быть востребована моя книга. Молодежью? Старшим поколением? Только не летчиками – им это все и так ясно. Ну, может, их женами… только не моей.
Надо ухватить за гриву романтику и популярность летной работы. И массовый страх перед полетами среди пассажиров.
Очень важен такой аспект: сравнение с другими профессиями через призму Мастерства. Каждый мечтает быть уважаемым на своем рабочем месте. Это больная струнка даже среди троечников; а среди ученых и артистов, к примеру, – безусловно.
То есть, в принципе, аудитория довольно обширная.
Господи, какой у меня язык. Я бесталанен, а лезу. И, по зрелом размышлении, – не допускать никакого оживляжа, никаких сюжетов, никакого многословия, никаких завитушек. Только концентрированная мысль. Только этим надо брать – а сказать мне есть что.
27.02. Предложили мне тут должность помощника командира эскадрильи по штабной работе. Помощников этих набирают не с улицы, а из числа толковых капитанов-пенсионеров. У нас и сейчас работают в штабе с бумагами толковые, не в пример мне, учителя мои: Горбатенко, Савинов, Солодун, Бреславский. Ясное дело, и мне предлагают кость, за заслуги, как толковому. Но… надо освоить компьютер, всего-то делов. И с 9 до 5 на работе – пять дней в неделю. А главное, летом, когда комэска в отпуске, а его летающий зам в рейсе, надо, чтобы в эскадрилье сидел человек не с улицы и корректировал пульку, следил за выполнением плана, за сроками минимумов и тренажера, за сроками проверок, за рабочим временем и саннормой, за росписями в журналах и ведением летных книжек, а кроме того, еще печатал на компьютере задания на полет, объявления, размножал бумаги, работал с ксероксом, чертил графики, и т.д., и т.п. – его же царствию не будет конца, а главное – я все это ну просто обожаю. И зарплата чисто символическая, тысячи две-три. Но вроде ж на людях и при деле.
Но решится все ближе к маю, а пока я буду спокойно тянуть лямку и мотать отмеренный срок.
Мечусь я. Да и замечешься тут. Должность мне никто и никогда не предложит, даже на ворота надо проситься и уговаривать, да и то – до 60 лет. Надеюсь только на то, что к весне прояснится с пенсией. Если летная доплата к ней будет мизерная, то деваться некуда, надо будет с благодарностью хватать что дают. Но если пенсия будет поприличнее, то на хрен бы мне работать на людях. Мне общения хватит, когда раз в месяц заскочу в штурманскую.
Но вот отгулять накопленные полгода отпусков не дадут. Заставят взять компенсацию и садиться за тот компьютер.
Если бы не проклятые деньги. Что ж, придется отпуском пожертвовать. А отпускные уйдут в прорву: компьютер внучке, спальню детям… А там возникнут новые и новые проблемы, без конца.
Это я все чирикаю, пока здоровье худо-бедно держится. А станешь работать на лекарства – проклянешь судьбу.
Старость хороша, когда здоровье есть.
Когда Казаков предлагал мне эту должность, в разговоре заикнулись о Евдокимове. Я сказал Паше, что в Евдокимове мне наиболее полно удалось реализовать свою концепцию красноярской школы – все то, о чем я написал в своей книжонке. Это мой лучший ученик, надежный, хитрый капитан.
«Ну, значит, его можно рекомендовать на «Боинг?» – спросил Казаков.
Так что «Боингами» занялись всерьез. И я рад, что Коля – кандидат. Пороть его только надо. Он знает за что.
28.02. Вчера по телевизору промелькнуло сообщение, что Дума заседала по вопросу пенсионного обеспечения летчиков гражданской авиации. Все-таки, видать, законодателям обидно, что абрамовичи на их законы хрен положили, и решила Дума кулачком стукнуть. Ну, дай-то бог.
С моим склерозом – сидеть в эскадрилье и заниматься мелкой, множественной, суетной, срочной бумажной работой, допускать ляпы, слышать за спиной шепоток… за эти проклятые деньги…
Надя этого понять не сможет никогда: для нее мелкая оперативная работа, мелкие рабочие конфликты, мелкий лай, – все это как дышать. Она просто представить не может, что для кого-то это может представлять трудность; те же, для кого это трудно, – просто ненормальные, как, к примеру, я.
Я и до сих пор удивляюсь, как мне, с моей тонкокожестью, с моей впечатлительностью, со способностью легко поддаваться манипулированию, с мнительностью, с нерешительностью, с трусостью, наконец, – как мне 35 лет удавалось принимать решения и возить за спиной сотни тысяч и даже миллионы живых людей!
Да такого рохлю, по зрелом размышлении, за версту к самолету нельзя было подпускать. Как же меня только хранил Господь!
Теперь-то есть опыт, и наработки, и какой-то же все-таки талант есть. Но ни на что другое, кроме летной работы, я уже почти не способен. И на летную работу я уже почти не способен. Почти.
И эти оставшиеся месяцы я буду к каждому полету готовиться, как к подвигу. Почти.
Если к маю почувствую, что предел, – возьму полный отпуск, до осени, а потом уволюсь.
Встретил Витю Толстикова. У него комиссия 6-го июня; хочет списываться, чтобы хоть компенсацию какую дали. И все разговоры – о пенсии, о заседании Думы, о доплате; об этом у всех стариков душа болит.
Вчера позвонил Менский: ты не против побыть недельки три и.о. штатного пилота-инструктора? А то Шевченко в отпуске, а проверок и провозок навалом.
Да мне-то что. Я – всегда пожалуйста.
Ну так в понедельник надо проверить после длительного перерыва Игоря Окунева, да заодно провези его на Сахалин.
Сахалин так Сахалин. Я сам там лет шесть не был. Но, чувствую, март пахнет для меня саннормой. Еще и в Улан-Удэ заставят кого-нибудь провезти… и самого себя: я ведь там и вообще сроду не был. Короче – снова правое кресло.
Ну да я знаю, что на тех, кто собрался на пенсию, всегда работу наваливали: средний, мол, поднимать. Надо все принимать спокойно, а средний, и правда, перед длительным отпуском надо поднять повыше.
6.03. Звонит тут мне пресс-секретарь Осипова: у меня хочет взять интервью газета «Красноярский комсомолец». Газетка так себе, но все ж молодежная. Договорились завтра после разбора, встретиться с корреспондентом.
Тут к разбору надо что-то подготовить на методическую часть. Паша вьется: Василь Василич, выберите, что вам удобнее, то или это… Да мне все удобно. Про автопилот? Ну, давай про автопилот. Надо обдумать, да завтра приду пораньше, покопаюсь в РЛЭ. Найду что сказать.
Паша разузнал, что с доплатой за компьютерную работу помощнику по штабной работе должно выходить до 6 тысяч. Ну, это деньги.
А душа не лежит. А Надя душу выматывает. Говорит, что у меня звездная болезнь, что я зазнался и из меня прет дерьмо.
Не дерьмо прет из меня, а боль. И никто не может и не хочет понять ее.
7.03. Интервью получилось. Где-то с час мы беседовали с девушками из газеты, да еще Останов с ними маленько поговорил, пока профсоюз вручал мне почетную грамоту от мэра Пимашкова. Ну, фотограф меня снял со всех ракурсов, а девушка-репортер, напирая во-от такущими грудями, все беседовала и засыпала вопросами, оставшись в совершенном восхищении. Ну, толкнул ей рекламу про записки пса; да, собственно, вся беседа свелась к книге и моему видению жизни. Ну и для оживляжа рассказал пару историй. Останов дал ей «с возвратом» экземпляр моей брошюрки. Обещала в понедельник завезти мне текст статьи для правки.
Походя прошелся я и по начальнику нашей инспекции: зла не хватает, как этот Ривьер зажал летчиков. Ну, думаю, натравлю ж на тебя прессу. Так и сказал: мы, летчики его, мягко выражаясь, недолюбливаем за то, что губит школу. Кто-то же должен одернуть зажравшегося контролера.
13.03. Норильск. За бортом ясный, солнечный, ветреный, морозный день. Уши режет хорошо. Да что уши – глаза мерзнут…
Ребята зябнут в своих двухместных номерах; я отдал им свой компактный дорожный электронагреватель, а сам давно уже заткнул в окне своей комнатки все щели туалетной бумагой, и мне тепла хватает.
Затащил стол из кухни, разложил тетрадки. О чем писать? Что еще можно сказать?
Рожаю главу «Машина» – может быть, самую романтическую. О любви. Сравниваю любовь к машине с любовью к женщине. Любовь-самоотдача, любовь-требовательность, любовь-возвышение, любовь-созидание. Не власть, нет. Не из-под палки.
Тема сложная, тонкая. Это не по-Трофимову, ненавидящему самолет Ан-12. Это – ему отповедь.
Вылетали на Питер по расписанию. Ветер на взлете дул боковой, предельный. Тетя-синоптик обещала нам не более 8 м/сек; через 20 минут задуло 11 метров, под 60 градусов. Уговорили старт на контрольный замер: ветер чуть подвернул. И боковая составляющая прошла. Олег прекрасно взлетел; Саша довез; Олег посадил; я зарулил.
Вроде ж низззя давать второму пилоту взлет с предельным боковиком. Я даю. И будет с него со временем нормальный капитан.
Обратно вылет через полтора часа, но судя по загрузке – 11 тонн продуктов, – оборачивалось не раньше, чем через три. Пошли в АДП: Норильск закрылся ветром.
Посидели, подождали, подумали, проанализировали, потолковали, посоветовались с представителем, и я дал задержку до утра; отпустили пассажиров на всю ночь.
И вот живем в гадюшном профилактории. Норильск закрыт ветром. Вечером я еще звонил туда, руководителю полетов: может, полосу подсушат, ведь ясная погода. -14… Нет, уже -13, теплеет, больше 0,4 не получится. Настывшая полоса будет индеветь.
Ну, тогда все понятно. Нам какая разница, где сидеть.
Только вот девчонки, понадеявшись на разворот, оставили все свое барахло в Норильске. Я их отругал: первый раз летаете по северам, что ли. Сидите теперь со своими пакетиками – даже пасты зубной не взяли; ну, отдал им свой «Орбит». Скукожились, спят без задних ног.
Я же выспался, продлил задержку, сдвинул две тумбочки, положил между ними полку – получился стол. А все мое я вожу с собой. Что мне еще надо? Ну, включил радиолку.
Норильск все закрыт: ветер под 90, видимость 1000, сцепление 0,4. Продлил задержку до вечера, но, судя по всему. Придется до утра. Зябнем в неуютных, ободранных нумерах.
Глава «Машина» получилась короткой. Можно, конечно, написать, как я нежно поглаживаю рукоятки и рычаги. Но книга не об этом, а о видении мира.
И вообще, надо кончать. Можно написать о лесопатруле. Можно еще о многом. Но стоит ли.
Я твердо сознаю: того, что я написал, хватит вполне, чтобы у нелетающего человека челюсть отпала. Этого никто не знал, и не слыхал об этом, и не представляет себе.
Дело ведь не в объеме книги и не в массе слов. Мыслям должно быть просторно. И не надо красивостей: суть от этого не изменится.
Сейчас вон сняли на Западе фильм по Толкиену: обо всех этих хоббитах, гоблинах, орках и прочей цивилизованной фигне. Нет, не спорю – красиво, увлекательно, захватывающе. И у нас тоже: чуть не культовый фильм – «Азазель» какое-то, по какому-то Акунину, про сексота. Монологи, монологи, достоевщина, насыщенность интеллекта… болтовня.
Вот пусть они своим словоблудием пудрят мозги читающим городским бездельникам. Такого – не бывает в жизни. А я пишу о том, от чего еще задница не просохла, а это, мне кажется, почище гоблинов.
Хотя… толпа есть толпа. Сытый голодного не разумеет, ему подавай гоблина… с сытой скуки. Если он и пробежится между делом по моим запискам, то спасибо, если обронит: «любопытно… занятно…» Что ему моя небесная жизнь. Ее для него просто не существует.
14.03. Утром зашевелился представитель, поднял меня: погода вроде есть. Что ж: ветер, и правда, чуть утих, но дует так же, под 70 к полосе; зато потеплело аж до -3, и сцепление стало 0,37. То на то и выходит. Но москвичи, говорят, взлетели. Ну, может, они на «эмке», там чуть больше допустимая боковая составляющая, на 0,7 м/сек. Но я бы и на «эмке» не рискнул пока, не дергался: запросто загремишь в Игарку. И ради этого стоило двое суток зябнуть в Питере?
А там ведь идет новый циклон. Но и эстафета-то идет, нам за это сидение все равно платят.
Снова звонит представитель: а вот красноярцы тоже вылетели… ради бога… я не напрягаю…
Не знаю, как они там вылетели. По цифрам фактической погоды, без учета порывов, при полете из Красноярска менее двух часов, – может, решиться и можно. Но анализируя погоду, я ни за один срок не видел ветра без порывов. Вот пусть они, принимая решение без учета порывов, в тех порывах сядут. А мне лететь более двух часов, я принимаю решение по прогнозу. Сядут они – я учту, что их в тех порывах принимают, тогда и я, может, решусь. Да еще посмотрю тенденцию изменения коэффициента сцепления от температуры; а она там уже подходит к нолю.
Как мне уже все это надоело. Была б моя воля, – давно бы уже сел в Норильске. Бьешься об эти цифры, а они практически выеденного яйца не стоят. Мы сюда взлетали при 0,4 – абсолютно сухая полоса. Уверен, и при 0,35 – тоже сухая. Я при таком сцеплении там сто раз саживался. Все дело в краях, у обочин, – там иногда снежок недочищен, вот и осредняют коэффициент.
Ничего, Вася, потерпи. Три месяца и десять дней. Настройся на терпение. Спокойное, без стиснутых зубов, без оглядки на то, вылетели ли красноярцы по этому ветру, или нет.
А там – сядешь в эскадрилье перекладывать бумажки и навсегда отойдешь от этих цифр, от этих кроссвордов и решений. Пусть у тебя в эти последние месяцы выработается даже какое-то отвращение к полетам – так будет лучше, легче уходить.
Дождался нового прогноза: наконец-то ожидается поворот ветра по полосе. Представитель созвонился с норильским РП: тот обещает продержать коэффициент сцепления в пределах 0,37.
Тогда полетели. Питерская «эмка» уже возвращается из Норильска. Но я лучше перебдю.
15.03. Вылетели, в общем, без проволочек, спокойно добрались до Норильска. Погодка была приемлемая: ветер 150 градусов 6 метров, видимость 4000, сцепление 0,4, похолодало до -5. Заход в поздних сумерках, правым на 194; на третьем развороте слева прекрасно виден был освещенный город. Вошли в глиссаду; старт дал ветер по полосе до 13 м/сек; круг еще предупреждал о возможном сдвиге ветра.
После дальнего впереди зарозовело зарево огней подхода. И тут старт дал видимость 370, по ОВИ 1100, сильный ливневой снег. Я задергался: менее 1000 в сильных ливневых садиться нельзя. На всякий случай сказал, что наблюдаю огни. Старт тут же ответил: погода хуже минимума, ваше решение?
Ну, тут думать нечего. Ушли на второй круг и стали накручивать круги, благо заначки было тонны три, а уж потом, с девятью тоннами, можно будет уходить на Хатангу. Игарка была закрыта непригодностью ВПП, а чистить там и не собирались.
Тоскливо. Обидно: двое суток выжидали – одной минуты не хватило.
Сделали четыре круга. Видимость стала вообще 100 метров, и мы ушли в Хатангу. Норильск открывался, вновь закрывался; мы подремали пару часов на креслах, а наши пассажиры пьянствовали водку в зальчике ожидания.
Перелетели в Норильск уже под утро; погода звенела: миллион на миллион.
Ложимся спать. После обеда вылет домой.
99 дней до пенсии.
18.03. Впервые в жизни получил какое-то удовольствие от тренажера. Нынче он у нас стал компьютерным, цветным, адекватным. Не все, конечно, еще отлажено, но против старого – небо и земля. На нем можно решать задачи. С пожаром на взлете мы приземлились за 2.45, визуально, ну, с чуть взмокшей спиной. Так это ж я, старик; молодые-то быстрее зайдут.
Приехала газетчица Маша; дождался, посмотрел материал. От всего разговора, в статью вошли, конечно, крохи, и не самые лучшие; пришлось править, кое-что даже принципиально. Для газетенки сойдет. Сказала, читайте послезавтра в газете… Кофейком ее напоил… но все как-то на скоростях. Оно и понятно: репортеры – они как хариусы: хвать на лету – и дальше…
Чем мне, собственно, не понравился материал? Тем, что в этом интервью о моей большой книге – ни слова. Вообще, на мой взгляд, интервью – жанр, требующий от журналиста большого таланта, нюха, знания жизни. А так – получились обрывочные картинки, из которых можно сделать вывод: у нас одни недостатки. Ну, немножко, между прочим, упомянуто и о профессионализме.
Ну да что ж теперь. Интервью это у меня первое в жизни… и наверно последнее. Я говорю то, что знаю, что чувствую. Проблемы-то есть, хотя, может, Абрамовичу они и не по нутру.
Легче всего давать интервью по принципу «вопрос – конкретный ответ». Меня же купили на журналистскую хитрость: беседа, свободная, пространная… а потом из контекста надергали и слепили нечто, по их пониманию.
Ну, кое-как попытался исправить, сгладить углы… все-таки не то… а уже макет слепили, границы очерчены, не вставишь ничего. Да брось ты, Вася. Это все ерунда. Книгу надо дописывать.
20.03. За интервью Фуртак устроил мне разнос. Стращал, что Абрамович, прочитав газету, меня тут же уволит. Да пожалуйста, я хоть сейчас напишу заявление, уйду… лишь бы воля не моя. Двумя-тремя месяцами раньше – мне все равно.
Нет, ты уйдешь – а нам здесь за твою болтовню расхлебываться! Отпугнем пассажира! Пассажир не должен знать о наших недостатках! И т.п.
Оказывается, там такая политика, такие подковерные игры, о которых ездовой пес не имел понятия. Газетенка эта – оппозиционная по отношению к нашей компании, но… держатся друг за друга, вернее, они за нас. Бульварная пресса.
Мне ставится в вину, что я согласился дать интервью без санкции нашего пресс-центра. Оказывается, у нас есть какой-то пресс-центр! И вот газетчица Маша, непосредственно перед выходом номера отослала материал факсом в пресс-центр и в летный комплекс, откуда все и завертелось.
Тут уж я сел читать подробно. Уже той моей правки нет, все в другом свете… И правда, такого наворочено…
Ладно, надо что-то делать. Взял я эту бумагу и поехал в редакцию: может, еще не поздно… Нашел эту Машу, она мне сообщила, что только что из авиакомпании позвонили главному редактору и отозвали материал из номера. Ну, веди же меня к главному.
Ничего, побеседовали с главным. Когда я сказал, что за мою откровенность меня собираются увольнять, мужик просто опешил. Ну, договорились, что, боже упаси, печатать не будут… а уже макет был готов, он мне показал – на разворот… Ну, давайте доработаем, только чтоб оживляж остался: это столкновение на Ан-2 с орлом, этот слепой заход в Сахалине, эта Великая Гроза…
Кстати, за слепую посадку Фуртак грозился мне вообще вырезать талон. Ну уж, хрен, погоду давали официально выше минимума, а слова к делу не пришьешь.
Короче, расстались с редактором друзьями. Мне-то на отношения моей компании с газетой наплевать. Я не собираюсь петь под их дудку. И почему-то меня ну никто не удосужился предупредить, что интервью без санкции пресс-центра – криминал. И уж если на то пошло – проинструктируйте пса, о чем можно лаять, а о чем желательно умолчать. А то: как на телевидение – так всем экипажем в план ставят, а как интервью газете – так я виноват. Да идете вы пляшете.
Вася, за базар надо отвечать. Урок на будущее.
Ну, поехал в тот пресс-центр, побеседовал с тетей. Ее при упоминании названия этой газетенки аж скорчило. Но раз уж интервью прошло, давайте его дорабатывайте. Договорились, что я его причешу, отлакирую и дополню. Так я и Фуртаку сказал: сначала я его положу на стол ему, потом этой тете, а уж потом поставлю свою подпись. А то, что меня управление практически подставило – так я по старой привычке отношусь к высшему руководству с должным уважением; думал же, что все согласовано.
Настроение, конечно, было омерзительное. Фуртак собрал командиров эскадрилий, обосрал меня с ног до головы, настращал всех, чтобы держали впредь язык за зубами. Строжайшая цензура!
Ты мечтал о капитализме с человеческим лицом. Ну, вот он каков, твой капитализм. Он такой, как скажет Хозяин.
И с этими людьми мне предлагали в этом серпентарии работать. В единой команде. Плотью от плоти. Вот оно как раз: я нынче – крайний. Могут и обрезать. Они там все за теплые места держатся. А я, в шерсти, в постромках, сунулся к ним в парадное.
Да провалитесь вы все.
Но вывод теперь я сделал. Если писать книгу, то придется убрать все эмоции и политику, прилизать, пригладить, скрыть причины катастроф и обязательно добавить, что если родной Крас-Эйр велит – мы с беззаветной преданностью, не щадя крови и пота, выполним… а Абрамович – великий деятель бизнеса всех времен и народов. Тогда, может, он даст мне деньги на книгу. И книгой этой можно будет подтереться.
Зачем мне это все. Пока пишется, буду писать в стол.
Вечером Оксана, со своим свежим, ни к чему не причастным взглядом, помогала мне редактировать, вылизывать и лакировать интервью. По ее мнению, новая редакция вполне даже приемлема. И сразу: «А гонорар заплатят?»
Я сам бы заплатил, только чтоб отстали.
Очень, очень велика ответственность пишущего. Базар надо фильтровать. А то могут обидеться и те, и другие, и третьи, и свой брат-летчик.
Но Трофимову-то деньги Абрамович таки дал. Так тот же и пишет о дерьме.
21.03. Вчера сидел на занятиях с 3-й эскадрильей. Порадовал Андрей Фефелов: выступление его об особенностях полетов в Норильск практически все опиралось на мою книжонку, прямо цитаты; в конце он отослал всех желающих подробно ознакомиться с данной темой по первоисточнику.
Приятно, черт возьми. Что ж, я это признание заслужил честным трудом.
На этом фоне выступление Фуртака по инциденту с моим интервью побледнело и потеряло остроту. Отношения народа ко мне оно не изменило: ну, попал под винты… Пресса прессой а полеты полетами.
Подошел Ульянов: Василич, прочти, пожалуйста по грубым посадкам… Ну, прочитал, вернее, выступил без бумажки.
А так – сидел там весь день, шлифовал окончательный вариант интервью; сегодня отдам Фуртаку, потом отвезу в пресс-центр.
Надя удосужилась прочесть и осталась удовлетворена. Ну, вроде бы не за что Абрамовичу зацепиться: одна хвала… мы, красноярские авиаторы, есть герои… Правда, скучновато, занудно, кастрировано, но есть и легкий оживляж.
Настораживает то легкое отношение к этому инциденту, какое имеет место быть у меня. Мне – плевать на них на всех. Раньше бы я еще сомневался и казнился. Нынче, переморгав выговор Фуртака, я спокойно отдаю себе отчет: ну подставили меня, ну выкрутился… может, даже удастся из дерьма конфетку слепить. Главное – что я каким был, таким и остался. Но кое-чему научился. Сунул морду к ним в теплый, уютный, казалось бы, спокойный мирок… а там дерьмо, серпентарий, верчение червей.
Нет уж, я создан для нелегкой дороги по чистому небесному снегу, где нет лжи и кругом – одна правда.
26.03. В последние дни у меня сформировался мотив, то есть, я могу словами выразить, почему хочу уйти с летной работы.
Летная работа из источника наслаждения стала воплощением тревоги. Я и дома, и идя на работу, ощущаю от нее неприятный холод.
За это мне, правда, платятся деньги. Я должен терпеть тревогу, хотя, по идее, это удел моей супруги, жены капитана, – ждать, тревожиться, молиться…
Ну уж, на фиг. Не было этого – и не будет.
Полет должен доставлять радость и являться главным жизненным стимулом к творчеству, давать чувство собственной состоятельности. А мне предлагается заголить задницу, ждать розог и получать за это деньги. Это унизительно. Я за 35 лет Службы этого никак не заслужил.
Но Службе до меня дела нет. Она живет как бы сама по себе, забывая, что в небе работает все-таки летчик. Ей плевать на мой стаж, да и на стаж всех. У нее стажа нет. У нее – времена. Такие нынче вот времена.
Как хорошо, что я только дожил в небе до этих времен, ну, чуть вкусил… плююсь… и могу успеть уйти непобежденным. А вы – как хотите.
Нет горечи. Есть чувство исполненного долга. Я славно пожил. Я видел Небо.
27.03. Сходил на предварительную; там нас собралось пять экипажей. Казаков дал мне кучу документов, я собрал всех в штурманской и на свой страх и риск кое-что им прочитал, кое-что пропустил, всей шкурой чувствуя, какая это профанация, какой бумажный вал ждет меня в будущем и что можно нагородить в тех бумагах, чтоб доказать необходимость существования бумажных крыс.
Я вспомнил покойного отца своего, как он на заре перестройки показывал мне убористый список мероприятий, суть которых была про ту же Волгу, впадающую в то же море. Ничего с тех пор не изменилось, а стало еще хуже. Новое поколение, уже дети мне, успешно справляется с этим бумагомаранием и думает, что так и было всегда. Я, к счастью, ухожу.
Как меня бог миловал – пролетать 35 лет, обходя стороной эти инструкции и параграфы. В одном этом – счастье. Ну, я вполне способен из каждого увесистого документа извлечь три строки квинтэссенции, действительно помогающей в полете, а остальное выбросить. Главное, что хранило меня в небе, – здравый смысл.
А для кого-то в этих бумажках – весь великий смысл существования. Но выше бумаг им не подняться. Учебника для ребят – не написать. Зато найти, высосать из пальца кучу причин какого-нибудь события и сочинить кучу мер, чтобы подобное не повторилось, – тут они мастера. А оно – повторяется, и тогда идет куча дополнений и принятие мер по дальнейшему усилению.
И вот, если мы, ездовые псы, наизусть выучим те причины и те меры по усилению – вот тогда воцарится абсолютная безопасность полетов.
Сидя в кабинете и анализируя из кабинета, – очень хорошо видится – потом, после события, – отчего оно произошло, как надо было поступать, а как не надо было, и что надо предпринять в будущем. И видится это не пилотам, а менеджерам наземной деятельности. Все у них правильно, все безупречно – и ничего ж не надо делать самому, за штурвалом, а только требовать; да не забыть сказать, что «надо было думать, прежде чем действовать».
28.03. На днях Петю Рехенберга в Норильске поставило раком между дальним и ближним и вышибло выше глиссады. Погода была хорошая, он глиссаду почти догнал; ну, перелетик, но полоса длинная и сухая. Короче, прошел ближний привод на 18 м выше, при норме отклонений плюс-минус 16. Два лишних метра. Табло «Предел глиссады» загорелось, да и диспетчер подсказал: «Ближний, выше 18».
Ну и что – уходить на второй круг? Нет, конечно; он и сел. Теперь его дерут.
На хрена бы мне такая работа.
В Норильске с курсом 194 вообще садиться на Ту-154 нельзя: уклон полосы там больше допустимого по РЛЭ, а мы всю жизнь садимся, и ничего.
При загорании табло «Предел глиссады» теперь буду уходить на второй круг. Или как?
1.04. Кажись, на работе у меня кончились все эти занятия и тренировки к полетам в весенне-летний период. Ну, еще какая-то там конференция, болтовня ни о чем. Так что останется просто работа, полетань. Моя задача – не обгадиться за эти два с половиной месяца.
Вроде и писать-то не о чем. Но это как у больного грудного ребенка: он и сам не знает, что его беспокоит, и хватает материнскую грудь, и с плачем выплевывает, и снова хватает… Вот так и я с дневником.
Все думают, что летчик – человек без нервов.
Размышляя о том, как сделать свою книгу политически нейтральной, прихожу к выводу, что замысел мой – показать летчика не только со штурвалом в руках, а и со всеми его мыслями и переживаниями, – этот замысел неосуществим. Мысли летчика в период перестройки – низменны, неблагородны, преступны. И будучи озвученными в период перестройки же – никому не интересны, напротив, раздражают.
Если я все-таки хочу представить читателю книгу летчика о современной авиации – надо выбросить примерно половину, а заменить это словоблудие и нытье – словоблудием об облачках, о потоках, о скоростях и о высоких, вечных материях. Тогда не обидится ни работодатель, ни партия и правительство, ни свой брат-летчик, ни летное начальство, ни обыватель-пассажир.
Я сейчас отдал это чтиво друзьям на рецензию – как людям, далеким от авиации, – и жду от них реакции. Но, независимо от реакции друзей, я выброшу то, что задевает за острые углы. Зато добавлю побольше случаев. И лесопатруль, и полеты на Ан-2, и как я поглаживаю рукоятки и тумблеры. Это – нейтрально. Опыт неудачного интервью должен стучать мне по темечку.
Пример перед глазами. Вот один из наших летных начальников в нашей рекламно-лакировочной внутренней газетенке «Kras-Air», с обязательными фотографиями любимого Абрамовича, разместил романтическое описание цветного полярного сияния. Каков молодец. Главное – не победа, главное – участие. Ни о чем. Но я-то знаю его хватательный рефлекс и как он уживается у него с летной романтикой.
Я на Севере клял эту романтику, когда из-за помех от того сияния нельзя было над Баренцевым морем взять пеленги для ориентировки.
Переделать полностью все главы о собственно пилотировании, упростить до предела, в меру обвешать завитушками – вот и романтика.
Пересмотреть катастрофы, сгладить углы, убрать личные эмоции и оценки. Понейтральнее; подняться над ситуацией. Описать сам факт, его причины; обязательная оговорка, что это – только мои предположения, с высоты моего опыта; сухо – о том, что я лично из этого факта почерпнул.
В конце концов, я пролетал 35 лет, можно считать, чисто. Ну не писать же о разбитом АНО. А впрочем, почему бы и нет.
Можно из эмоций включить рассказ, как ломали Ил-18. Можно в раздумьях летчика в полете выделить благородный тон, на фоне которого сворачиваются и гаснут мысли неблагородные, о которых вполне можно упомянуть между строк. То есть: острые углы спрятать, но оставить для думающего читателя, если он вздумает покопаться.
Я очень сухо пишу. Это скорее публицистика. Надо утеплить книгу проявлением своих простейших эмоций. Придется еще добавить диалогов. Главный герой – все равно я. Все рассуждения представить в виде внутреннего монолога, художественно, а не рационально.
Читателю не столь важно, сколь точно я доведу до него суть работы систем и агрегатов, – как понятие того, что все это – часть самого меня, подкрашенная терминологией, суть которой никому не нужна. Эмоции допускаются, но самые элементарные.
Пока я летаю, эти мысли еще тревожат меня. Но как только сяду на землю и засосет рутина – считай, книга не состоится. Надо успевать, пока меня подпитывает атмосфера полетов.
Собственно, все уже написано. Но это только сухие тезисы и всплески эмоций.
3.04. Перечитывая дневники, в неге и лени, я сейчас удивляюсь: как же мы вкалывали! А ну-ка: я летал двумя экипажами, задыхаясь от аллергии, вводил в строй ординарного летчика слева и параллельно шлифовал Колю Евдокимова справа, тянул саннорму за саннормой – и еще в том году сумели с Надей поставить дом.
Сейчас, с брюшком, с болячками, с ощущением конца активной жизни, я только могу удивляться… и восхищаться.
Это со стороны только кажется, что внутри меня интеллигентская галиматья, рефлексия. Оглядываясь, я вижу, что по жизни я, в общем-то, был достаточно, а иной раз и сверх меры, целеустремлен. Пожалуй, среди нашего брата, летчиков, – еще поискать таких, что в полетах, что по жизни.
Может, это в значительной степени потому, что основополагающие факторы вынесла на себе Надя. Но с другой стороны… это все было четверть века назад. Жилье, гараж, дача – да, это не моя заслуга. Иные на добывание этого чуть не всю жизнь кладут; Надя добыла это все своим горбом в молодости. Я в то время, в основном, зарабатывал деньги. Да что считаться; оба мы вкалывали: и на работе, и с лопатой, и с молотком, и с мастерком, дружно тянули общее ярмо.
Конечно, я повзрослел поздно. Но, может, благодаря этому и не разменял свою энергию на выяснение семейных отношений, на баб, на пьянки, на вторую семью и алименты, разводы, размены, интриги, метания. Мы несли свой крест, не сильно вдаваясь в рефлексы.
Вот иду мимо пивного ларька. Два мужика стоя пьют разливное пиво. Через полчаса возвращаюсь назад – два мужика продолжают пить то же пиво. Ну, любят они пить то пиво. Лю-бят.
А я за всю жизнь так и не позволил себе что-то лю-бить. Аппетиты я гасил и гашу. И пиво я не умею пить залпом, с утробным урканьем в горле при каждом глотке. И коньяк тож. Удовольствия в своей жизни я получал всегда по глоточку, и умею тот глоточек ценить.
И только, может, в строительстве, в увлечении, в творчестве, – здесь да, здесь я глотал, давился без меры.
А потом его жизнь бросает на пенсию, как вот, к примеру, моего Филаретыча. А он – лю-бит! Ну любит он черный кофе, дорогой табак, черный кафель в ванной, модные дорогие тряпки… он не может оторваться. И ему не хватает на хлеб, и он мне жалуется.
Видимо, в удовольствиях я себя обкрадываю, и это не жизнь. Может быть. Но тот, кто хочет еще пожить на пенсии с теми же аппетитами, – рано умирает от неудовлетворенных желаний. И это уже совсем не жизнь, а самая реальная смерть от тоски.
На дом у меня энергии хватит. Сбросить только вериги этой околоавиационной обязаловки, которая вяжет по рукам и ногам. Если бы хотя бы чуть-чуть добавили пенсию…
4.04. Пойду в лес, заблужусь – может, выведут. Пойду в штаб, покажусь – может, выдерут.
Сегодня разбор эскадрильи. Иду и копаюсь в перипетиях крайнего рейса: на какую зацепку может прийти расшифровка.
Вот до чего довели. В принципе, что мне та расшифровка… но я ревниво пытаюсь сохранить летный авторитет до самого ухода. И хоть мы нынче слетали хорошо, всегда бы так… но вот заставляет сука Ривьер оглядываться и трястись.
Ничего. Сегодня день пенсии; заодно получу зарплату. Восемьдесят дней осталось.
Лучше бы я не ходил на тот разбор. Вот создается впечатление, что я все 35 лет ну совершенно случайно пролетал без предпосылок, а так – я вообще летать не умею. Из простого полета создается образ страшилища.
Эти «элошные» мальчики, умненькие, с образованием, дети перестройки, – они летают как-то отвлеченно: по схемочкам, по книжечкам, по приказикам, по параграфам… Но – не жопой. Они как будто фишечки в какой-то игре переставляют. Они стращают сами себя, и нас стариков, – вариантами, совокупностями вариантов, вероятностью совокупностей вариантов; они пытаются уложить полет в бумажные рамки, в прокрустово ложе умозрительных истин. А мы ж их учили чувствовать полет задницей. А теперь я все чаще и чаще думаю: а не дурак ли я? А не забыл ли я бумажечку? фишечку?
Из того Норильска, что был, есть и будет таким, как и 30 лет назад, – из того Норильска, куда мы всю жизнь летали как к себе домой, – теперь лепится образ геенны огненной… ну, ледяной, где все полеты – одни сплошные нарушения. И я, который написал для них учебник по посадкам в том Норильске, теперь думаю: а если я сяду на пупок, на уклон, на который, оказывается, садиться нельзя… Выходит, прав был Фуртак, утверждая, что «пупок – его надо перелетать, и все».
И я, который задницей набил уверенность, что уж кто-кто, а я-то в Норильске всегда сяду, да еще и любому покажу, как ЭТО делается, разложив по полочкам… я должен теперь сомневаться?
Нет уж, ребятки. Я на все ваши бумажные сомнения – положил. Вы летайте как хотите. И учите других летать по вашим фишечкам. Я долетаю и уйду.
Но все яснее и яснее для меня простая и горькая истина. Та красноярская школа, о которой я твердил, уйдет вместе с моим поколением стариков. Кончилась старая авиация. Может, начинается какая-то новая, для меня непонятная. Но та авиация, где полет чувствовался седалищем, где правил здравый смысл, – ушла, уступив дорогу той, где правит бумага, а за штурвалом сидят адвокаты.
Мне же на старости лет, за заслуги, так сказать, предлагается кусок пищевой кости: заниматься вот теми самыми бумагами.
Для интересу, взяться, что ли.
Хотя есть большое сомнение, что вряд ли мне и предложат. Сколько раз уже, высунув язык, я только облизывался. На это место претендует достаточно людей, любящих бумагу.
Что им мой опыт. Мой опыт весь основан на здравом смысле, без оглядки на неприкрытую задницу. Бог миловал меня благодаря отличной – не по циферкам, а по очкам, в сумме, – технике пилотирования. И в награду дал мне бескрайнее чувство Полета. У этих же ребят оно явно обрезано, вставлено в рамки и пригружено сверху гнетом несвободы и страха. Я же познал счастье свободного неба. И горечь нынешнего состояния не задавит в памяти это прекрасное ощущение свободы и творчества.
Я понимаю, что жизнь меняется, причем, стремительно, и нам, старикам, за нею не успеть. Мы выросли в беспечности развитого социализма, когда копейку никто не считал. Мы видели, чуяли, что строй загнивает; мы восприняли переход к капитализму как свежую струю. Ну вот она, эта свежая струя. Нам в ней душно; мы возрыдали о кормушке с сеном, о твердой руке, о просвещенной монархии…
А эти ребята приспособились. Так и должно быть. Капитализм – это учет копейки, это бумаги, это ответственность, своей шкурой… Но это и поколение жлобов.
Может, они, отстроившись от вала бумаг, либо приняв его как должное, дисциплинируются, станут еще строже работать над собой – и познают радость и свободу своего Полета. И дай бог.
Но в это слабо верится. А вот в то, что грядут катастрофы, – верится реально. Авиация таки рушится.
Ну, год-два еще продержимся; но нет перед глазами такого примера, чтобы какая-то серьезная отрасль, кроме нефти и газа, резко пошла в гору. Хоть атом, хоть космос, хоть оборонка, хоть тот же транспорт. Все топчется на месте, все задавлено кольцом неплатежей, все рушится, и свежие заплатки – это тришкин кафтан.
Два действующих Ту-214 и девятнадцать Ил-96 и Ту-204 на всю Россию явно авиацию не вытянут. Да и те – дерьмо. И летать некому: пассажира нет, ему не по карману.
В этих условиях каждый летчик думает лишь об одном: выжить. Тут не до школы, не до мастерства; тут голимое ремесло, рабочая посадка, и как бы не выпороли. Кормушка. Все уцепились за обломки «Титаника», и каждый сам борется за элементарное спасение, хоть как, хоть чем, лишь бы продержаться.
А я пою о радости Неба.
Но я таки ее имел.
Спросят: ну и шо это тебе дало?
Шо, шо. Это дало мне одну хорошую вещь: сознание того, что я недаром прожил жизнь. Мне не было мучительно больно. Я был как раз там, где надо: в самой точке. Оборачиваясь, вижу достойный путь. Я – мастер. Этого мне хватит.
Мне просто обидно, что выросло новое поколение летчиков, которые никогда не возьмут на себя.
И закрадывается сомнение: а может, я один и был такой дурак? Ну зачем мне было рисковать и сажать к тому Смолькову Колю на правое кресло? И запомнил ли это Смольков? Он-то уж думает, что всегда умел летать на «Тушке», он забыл учебу… оно ему надо?
Зачем я даю Олегу летать в самых сложных условиях? Зачем рискую и беру, и беру на себя?
Но есть же Коля Евдокимов. Интересно: а он на себя возьмет? Ради пацана?
Да зачем тебе вообще переживать об этом. Живи, дыши, думай только о себе.
Но получается, что быть просто «самим для себя», будучи мастером и образцом, – этого недостаточно. Надо, чтобы твое Дело продолжилось.
Да продолжится, продолжится оно и без тебя. Без твоего мастерства. Греби под себя.
Теперь-то что. Теперь долетать 80 дней. Да еще обещают в эскадрилью троих стажеров… но этих уж – на фиг мне надо. Будут предлагать – отбрыкаюсь: дайте умереть спокойно. Пусть уж их учат Пиляев, Бурнусов и Конопелько. А то навялят мне еще учить их вести бумаги, а я только и знаю в них, где подпись ставить.
Да и учить их летать… устал я. Зачем мне это напряжение. И опять же: я ж буду давать ему взлет-посадку с первых полетов. Иначе я не могу, это был бы обман. И все это будет сплошное нарушение тех бумаг. А человеку потом менять весь летный менталитет.
Я его буду учить быть смелым, а нынешняя действительность заставит стать разумным трусом.
9.04. Вчера мне позвонили из управления и попросили взять под опеку молодого второго пилота. Ну, я так и знал, что не откручусь. Господи, скорее бы дождаться того июня.
10.04. Почему меня так интересует реакция непосвященного человека на мою книгу?
Вот женщина бьется за жизнь и делает в ней свой главный рывок – то, что мы пережили с Надей лет 5-7 назад. Она пластается, добывает деньги, меняет квартиры, устраивает детей. Ее взгляд на жизнь прост: деньги, деньги, любым путем. И она права: сейчас для нее это главнее всего. Она говорит мне: Вася, тебе платят зарплату 10 тысяч, плюс пенсия… да если бы мне такое предложили – я согласна на ЛЮБУЮ работу!
А я на любую не согласен. Я пилот и капитан. Это работа штучная. Кончится она – сяду на пенсию. Ну, еще, может, год, бумажки попытаюсь перекладывать, это все же близко к летной работе. Хотя я и знаю, что это за гадюшник и как это повлияет на меня как на личность. И… лучше бы обошлись без меня.
Как людям объяснить. Деньги за полеты на одной чаше весов – это да. Но на другой-то – клубок сомнений. Огромная, к старости – страшная ответственность за жизни людей. Авторитет, висящий над пропастью. Усталость от каторжной работы. Нездоровье. Остатки желанной свободы.
Это все эгоизм. Раньше думай о Родине, а потом о себе. И на свободе ты затоскуешь по деньгам и по общению.
Я вот, чувствуя, что резко старею телом, думаю себе: неужели это – всё? Неужели я не смогу уже вернуть себе гибкость суставов, легкость мышц, подвижность тела? Мне кажется, этот год – последний мой шанс. Потом это желание пропадет уже навсегда.
И не только гибкость членов. Гибкость ума, желание думать, мыслить вообще, – тоже ведь может уйти, вместе с житейскими желаниями.
Останется одна тоска. И деньги – далеко не главное для старости.
11.04. Менский мне вчера предложил провести занятия с молодыми вторыми пилотами по Технологии и РЛЭ. Снова приказом проводят меня штатным пилотом-инструктором. Ну, понятно, что кто же им доходчивее расскажет, как не я. Вот собираюсь на занятия с утра.
Налета особого не обещается, ну, часов 25, Володя обещал изыскать. И к концу мая я должен обкатать второго пилота Сергея Околова, дать ему 50 часов и право взлета и посадки.
Ну, сходил, побеседовал с ребятами. Казаков предложил беседовать в эскадрилье, сам краем уха прислушивался: он-то молод, сам в капитанской должности всего третий год… авось и почерпнет кой-чего. Да Леша Конопелько подошел, тоже сел помогать.
Основные моменты я им преподнес, обратив особое внимание на то, что этого самолета бояться нечего, это ж ласточка, как когда-то сказал Валера Ковалев.
Тут Паша Казаков недавно Евдокимова проверял, – и не поделили штурвал. Пришла на них расшифровка. Они ровесники, вместе на «элках» летали, вместе и на «Ту» переучивались. Ну, волею судьбы Паша теперь и.о. комэски.
Ну что я скажу. Евдокимов прекрасный пилот. И на старуху бывает проруха, тем более, два месяца перерыв. Разбирайтесь вы сами.
Паша более сторонник «человека-функции. Да и время такое. А Коля – ярый апологет старой школы. А Паша – не спустит. Вот и грызутся.
Но на Анталью выпустить Колю самостоятельно я Паше таки посоветовал. Коля справится.
Паша жалуется: бумаги задавили, летать некогда. Ага. И ты же рекомендуешь, чтоб меня посадили на те бумаги. Ой, воротит.
15.04. Гаврилюки читают мой опус. Им интересно, они считают, что если я выкину прочь эмоции, книга многое потеряет. Но я таки ее переделаю коренным образом. Ну, дочитают, тогда уж всерьез буду работать над замечаниями.
Толя отметил литературный прием с этим «ударом в лицо». И «Чикалова» тоже. А сюжета-то нету. Но если я займусь чуждым мне сюжетом, то это уже буду не я, а сплошная фальшь. Надо быть самим собой и жить не по лжи.
17.04. Шестьдесят семь дней… я буквально их считаю.
Вчера была конференция, то есть, два с половиной часа ни о чем. Ну, довели информацию, что ресурсы матчасти умышленно завышаются, – знайте на чем летаете. Энтузиазма это не добавляет.
Фуртак витиевато разъяснил порядок предстоящих летних полетов. Продляется саннорма. Из-за больших расходов на завоз-вывоз экипажей решили их загонять на неделю в командировку и там летать так плотно, что за неделю получится почти половина саннормы, а за две – заведомо. Я представляю: полеты-то ночами… Из нашего брата собираются выжимать остатние соки. Это будет сплошное нарушение рабочего времени.
Абрамович, видимо, собирается уходить в Москву. Ходят слухи о продаже авиакомпании. Краю на летчиков наплевать: летчики найдутся и на стороне, будут прилетать-улетать, аэропорт будет собирать мзду за взлет-посадку, стоянку, обслуживание, и тем жить.
Наше выгодное географическое положение теперь играет против нас. К нам будут летать дальние, экономичные «Боинги» других компаний; такие рейсы рентабельнее, чем на «Ту». Краевым же властям все равно, кто их будет в Москву возить. Благовещенцы вон продали свои самолеты, теперь их возим в Москву мы, и какая им разница. Так что лебеди за нас анус рвать не собираются.
В Пусане заходил в тумане китайский Боинг-767 и при уходе на второй круг въехал в гору. Как ни странно, из 166 человек уцелело около тридцати, в том числе капитан. Людей выбросило из кресел – кто упал на ветки деревьев, кто – в густую грязь от льющих там дождей. Ясное дело: ошибка капитана, нарушение схемы – упали-то аж после второго разворота, зацепились за холм.
Что ж: вот судьба пилота. Да еще китайского.
18.04. В Норильск слетали хорошо, всегда бы так. Погода звенела, посадки нам с Володей Карнаушенко удались. Парень летает неплохо, но… школа наша уходит. Массе летчиков моя книжечка уже не поможет; так, единицам, дурачкам, вроде меня молодого, кто над собой еще работает… зачем?
Той стройной системы, от простого к сложному, до нюансов, до миллиметров, – уже нет. Общий уровень гораздо ниже. Как и общий уровень образованности людей. Как уровень суммы технологий государства. Общая деградация определяет нынешнее время. Для меня, старика, оно – безвременье; для Оксаны оно – время, в котором ей выпало жить. А мне – доживать.
Я определяю деградацию по той бесстыдной искренности жизни, которая проявляется в громадном количестве бичей, роющихся в помойках; в массе бездомных детей, шныряющих под ногами; в голодовках нищенствующих учителей; в развратных ток-шоу, с беспардонностью их ведущих и тупостью аудитории; по общей разрухе в стране. Жизнь искренне, с наивным бесстыдством выставляет напоказ всю свою грязь и немощь. И в речах политиков отражается, в основном, рост или снижение темпов нашего сползания.
А Абрамович раздает интервью направо и налево, видать, в преддверии летних массовых полетов. И везде восславляет нашу компанию Вот, мол, в стране четыре главных компании: Аэрофлот, Крас Эйр, Сибирь, Пулково…
Так-то оно так, да только разве сравнить зарплату у них и у нас.
И мне тут на днях звонит Маша: так публикуем интервью – или где? Да публикуйте, только согласуйте же с нашим пресс-центром. Да, мол, уже согласовали. Ну, печатайте, только чтоб ни запятой не менять.
Знать, Абрамовичу перед летом нужна реклама. И мое лакированное лыко пойдет в строку. А мне оно как-то все равно. Чуть противно.
Сейчас читаю новую книгу Джеймса Хэрриота, удивляюсь и восхищаюсь. Вот как надо писать о своей профессии. Трудности трудностями, каторга каторгой, но все это подается через призму оптимизма и окрашено прекрасным юмором. А у меня одна тоска.
Правда, и страна другая, и времена, и менталитет…
Но писать надо не на злобу дня, а на любые времена, в которых всегда присутствует что-то постоянное, как вот, к примеру, профессионализм.
23.04. Слетали в Москву, рейс отдыха, сутки провалялись. Оно и неплохо было отдохнуть после таскания земли на даче: носилок пятьдесят мы вытаскали с Надей на газоны, убухались так, что вечером выпили водки и упали спать. Причем, работу прекратила Надя, прям посреди дороги: поняла, что так можно и навредить себе. Ну, размялись.
Рейс отдыха, но не совсем удачный. Я заходил в Домодедово в термическую болтанку, и вдобавок что-то глиссада гуляла, пришлось сучить газами. Тяжелая машина не летела, несмотря на то, что я держал 270, и как только поставил малый газ, тут же шлепнулась с левым креном точно на знаки; ну, 1,25.
Действительно, трудно сразу перейти с зимней на летнюю манеру пилотирования… когда тут одни Норильски.
Обратно нам досталась 759-я машина, ее пригнал Логутенков и рассказал, что были проблемы с УКВ связью, задержка, меняли блоки: где-то лапка подогнулась.
И точно: с запуска стали отказывать поочередно оба передатчика УКВ. Мы засуетились: не хватало еще в Москве взлететь и оказаться без связи. Методом научного тыка я определил, что дело не в лапке, а виноват пульт СГУ: когда я через него делал информацию пассажирам и щелкал галетником, там замыкало.
Весь полет УКВ связь барахлила; я щелкал переключателем, мы переходили то на 1-ю, то на 2-ю; ну, кое-как перебились. После заруливания записали.
На снижении с прямой догнали питерский рейс; пришлось нам отвернуть и сделать змейку. Олег отключил САУ, и его все стаскивало влево; я мягко взялся за штурвал и предупредил, что – под горку же, добирать не надо. Машина замерла на режиме 78 и неслась над бетоном на метре. Я на секунду потерял землю… в этих очках… Но вроде вот-вот покатимся – дал команду «малый газ»… летим, летим, летим! Андрей тоже забеспокоился: малый газ-то поставили?
Короче, Олег забыл, Григорьич мою команду не расслышал… Перелет составил версту. Но сели мягко.
Досадные мелочи. Но… 61 день остался, и пошло оно все.
Молодым вторым пилотам никак не пробьют аэродромную тренировку, и они не могут пока летать. Если учесть, что к концу мая им надо дать по 50 часов, то меня запрягут. А я летать уже совсем не хочу, тем более, по 50 часов, тем более, под пыльцу. В Москве уже зеленый туман. А вся Сибирь под снегом.
24.04. Вышла газета с моим интервью. Ну, сойдет. Главное, что если она попадет на глаза моим коллегам, они спросят: из-за чего был-то весь сыр-бор? Что там не понравилось нашим начальникам? И авторитет мой только возрастет.
Осипов, кстати, звонил в авиакомпанию, оттянул нашу пресс-секретаршу, что она, ни бельмеса не смысля в полетах, затыкает рот старейшему пилоту. И вроде она там что-то поняла. Да что она поняла – ей за что платит хозяин, за то она и воюет.
26.04. Все знающий Мартынов доложил, что максимальная доплата к пенсии нынче составляет 800 р.; значит, в общем, 2400. Это уже кое-что. Поговорили с Надей о ближайших планах на этот год. Она уже спокойнее воспринимает мой неизбежный уход. Конечно, лучше было бы летать, но раз решил… то куда ж денешься. Что касается предложенной мне бумажной работы в штабе, в этом гадюшнике, то она очень хорошо меня понимает и считает, что лучше по три рейса в месяц, чем гнить в конторе.
Да вся беда в том, что три рейса – только на Ил-86, а у нас ожидается каторга. Так что мы, в общем, достигли согласия, что я долетываю июнь и ухожу в отпуск с 26-го.
Надя взяла газетенку – похвастаться на работе моим интервью. Оксана рвет из рук – хочет то же у себя. И еще ее зав. отделением интересовалась: у нее знакомый в аэрокосмической академии, что-то там по авиационной безопасности… нельзя ли дать ему почитать мою книжечку? Он очень интересуется.
Нельзя. У меня осталась одна штука. По опыту знаю: заныкают. Еще одну отдам Вите Колтыгину: тот в обиде, что для него не нашлось. Вот ему отдам – последняя останется мне.
Библиографическая редкость, блин. Ну прям как Трофимов о своей книжке говорил.
Если так уж надо тому хмырю из академии, преподавателю ВОХРа, книжечку – пусть обратится к другу своему, Осипову: найдут уж способ отксерить, что ли; а то – и к Абрамовичу. Я лично бессилен, да и пошли они все.
Вторую книжонку вон не могут или не хотят печатать. Там есть кое-что нелицеприятное, не вписывающееся в схему человека-функции. Но ведь Фуртак сам просил написать о том, как я, Ершов, работаю с экипажем, как готовлюсь к полету. Я и написал, и это в схему не укладывается, и нынче не востребовано. Я-то вижу, что волею судьбы летал в идеальных условиях слетанного экипажа много лет. Для большинства это – сказки.
Уйду на пенсию – и гори оно синим огнем.
29.04. Только подошел к родному крыльцу, как местный пьяница попросил червонец: помянуть погибшего вчера в авиакатастрофе генерала Лебедя.
Новость, конечно, шокирующая. И дело не в авиакатастрофе: вертолеты всю жизнь цепляются то за деревья, то за высоковольтки, и падают. Шокирует сам факт смерти такой яркой и такой неординарной личности.
Судят по результатам: что сделал за свою жизнь человек на земле. Каков он был – дело десятое; главное – что оставил после себя.
Ну, в крае главное осталось то, что он его распродал Москве, на корню, полностью. Это факт неоспоримый. Кому он служил, сотворяя это зло, я не знаю, но это – зло.
Ну а добро? Безусловно – кадетские корпуса.
Вот и клади на чашу весов дела человека, которому, слышь, за державу обидно.
Прилетел он к нам со стороны. Разогнал всю местную олигархию, это факт; посадил за решетку Быкова, о ком, кстати, сожалеет весь край; перевернул вверх дном все руководство, все развалил, раздербанил… и всё. Ну там, наделал политического тррреску.
И везде, куда бы я ни прилетал, задавали один вопрос: ну как там у вас Лебедь?
Да никак. Ощутимого улучшения жизни края не наступило. Поистине, шуму много было, а шерсти мало… и та ушла в ненасытную Москву.
Но личность безусловно яркая и вызывающая уважение хотя бы своей самоуверенной основательностью. Гора.
Однако… вовремя его бог прибрал – от позора, от провала на будущих выборах. Хотя… таким людям стыд неведом. По сути – популист.
Мне лично жаль экипаж. Затаскают ребят. Хуже нет – остаться в живых, погубив своих пассажиров.
30.04. В крае двухдневный траур. Страшнее смерти ничего нет; все политические баталии отложены.
Экипаж жив. Ясное дело: его ошибка. Условия были очень сложные. Оставшийся в живых оператор телевидения рассказывает, что ему говорил бортмеханик: карты старые, отметок о новой ЛЭП там не было, а через те высоковольтки, которые были отмечены, они перескакивали на предельно малой высоте. А эту увидели внезапно – и не успели.
Короче, лезли-лезли – и поймали. Явное нарушение и минимума, и безопасной высоты в горах.
Часть людей выбросило в снег, глубина его полтора метра, это смягчило удар. А падали с высоты 37 метров.
Боже упаси связываться с обслуживанием сильных мира сего. Психологическое давление очень велико. Кто сейчас защитит экипаж? Закон есть закон, придется отвечать. И никому не будет дела до того, как давил на экипаж авторитет Лебедя.
Ну вот, если верить телевидению, капитан отказывался лететь из-за плохой погоды, но Лебедь вроде бы сказал, что всю ответственность берет на себя. Теперь Лебедь отвечает перед Богом, а капитан будет отвечать перед судом за нарушение НПП.
7.05. Слетали в Сочи. Тягомотный рейс. Одно то, что новый второй пилот: беспокойство, как бы чего не упустить; да и интерес к этому делу у меня явно пропал. Другое – бригада попалась… такие сучки старые, совершенно мне незнакомые, да такие, блин, крутые, сами по себе: за одним столом ужинаем, им водку наливаем, а они между собой разговор ведут, как будто нас и рядом нет, как будто мы – воздух. Ну, завтракали мы уже молча.
То на приставное кресло не хотели взять женщину, сопровождающую гроб. Не хотели из Минвод брать нашего представителя с товарищами, пришлось записать их в задание с обратной стороны… вам-то какое дело, они в вестибюле просидели. То сцепились со службой безопасности в Минводах, когда те потребовали провести какую-то внеплановую проверку или досмотр, чуть до задержки не дошло. Нет, редкостные сучонки.
Ну, не стал я ругаться, нервы трепать. Никогда у меня конфликтов с девчатами не было – и не будет. Я дотерплю. «Спасибо за работу, девочки». Да вряд ли я их больше увижу.
11.05. Загнали тут в Москву под три Норильска. Вот лежу, руки-ноги-спина отходят после вчерашней пахоты. В гостинице проблемы с жильем, все забито, пришлось вчера стоять 4 часа в очереди, чтобы заселиться… какие мелочи. Все это я стерплю. Осталось полтора месяца, пролетят – и не замечу.
На полеты я откровенно положил. Летает второй пилот, ему «жутко интересно»… пусть себе пашет. Я, так сказать, похлопываю по плечу: «ладно, ништо… молодца… молодца…» Не вдаваясь в дебри тонкостей, которых ему пока не понять, держу руки на семенниках и предоставляю ему возможность трахать машиной об полосу. Пусть привыкает сам. Возникнут вопросы – читай в моей книжонке, ну, и так спрашивай, я объясню. Только это ж еще когда они возникнут.
У него проблемы и с контрольной картой, и с Московской зоной, и с бумагами, да еще заражен этой шпаргалкой, GPS, – у него собственная. Ты сперва штурвал крутить научись…
А так парень вроде ничего. Но мне все это как-то по фигу.
Тут Паша Казаков, летели пассажирами в Ил-86, подсел: а вот как вы думаете… тангаж на взлете… просадки…
Я думаю, что эта тягомотина для меня скоро кончится, а вы, умненькие мальчики, думайте себе сами, как вам с тангажами и просадками вертеться; я свое выстрадал сам, а вам книжечку оставил, там об этом подробно рассказано. Уже даже представить трудно, чтобы я этим летом летал. Нет. Всё.
12.05. Дома зацвела береза. Чуть чихаю, редко, нос пока не закладывает, глаза не чешутся. Но берегусь. И щиколотка потихоньку проходит.
Читаю, читаю; перечитал «Волкодава», вот купил по томику Клиффорда Саймака и любимого Цвейга. Размышляю о жизни, мечтаю о том, как буду месить бетон, выкладывать отмостки и тротуары, обшивать баню и копать погреб, достраивать верхний этаж и проводить трехфазку… А полеты надо дотерпеть. Сколько там… ага, 44 дня.
В баньке бы попариться.
Писать о полетах, об успехах и неудачах моего подопечного, об отказах и неисправностях матчасти… да провались оно. Мне это стало просто неинтересно. Да и что там может быть интересного, на работе-то, в возрасте 58 лет.
14.05. Прекрасным тихим вечером стоял в одиночестве под самолетом. Любовался крупными яркими звездами на еще светлом на западе закатном небе, наслаждался редкостной в Домодедове тишиной, представлял себе, как это будет: мое прощание с самолетом…
Нет, не будет никакой скупой мужской слезы… какая фигня. Все уже пережито; остались спокойное, без надрыва, ощущение законченности. И если бы вот сейчас – так в самый раз.
Но так не бывает. Еще не раз буду отписываться за табло «Предел глиссады», Еще посижу пару раз на разборе; еще раза три схожу в резерв. Вчерашний заход по минимуму – зачем он мне. И на тренажер больше не пошлют.
Купил здесь обложки на паспорта и пенсионные свидетельства – себе и Наде. Это теперь до конца дней будут наши главные документы.
Радиолка в очередной раз сломалась… зачем она мне теперь. Все позади. Осталось дотерпеть эти сорок дней. Ну, сорок два.
Утром делаю зарядку для хвоста. Шведский стол… красноярский стул… мелкими порциями. Телевизор – еще более мелкими. Там в Каспийске теракт… Это не со мной.
Читаю Цвейга – как экскурсия в детство.
Сегодня в ночь снова Норильск. По ящику там вроде как циклон, но то – по ящику. Узнаю на метео перед вылетом, приму решение. Если слетаем по расписанию – вечером улетим домой. Полмесяца – 35 часов; куда больше. А там еще рейсик-два – и официально даю допуск Сергею. Вернее… пусть бы летал уж со мной до конца.
15.05. Как ни странно, третий Норильск выполнили по расписанию. Циклон так там и стоял, как раз центр; но только раз, на восходе, видимость была 800, потом стала 1000. 1100 – и так и осталась. И нижний край давали 100, да северный ветер по полосе: по прогнозу до 18, а фактически 10-12 м/сек. Да, как обычно, обещали сдвиг ветра.
Я с этим сдвигом при посадке с курсом 14 – ученый, поэтому взял управление. Когда выскочили на 100 м из облаков, стало видно, что система заводит по правой обочине; пришлось пораньше отключить САУ. Ветер резво менялся, и меня таскало вправо-влево… хороший, полезный урок старого мастера, как надо держать ось. Позорными зигзагами я таки на нее вышел. Но от ближнего машину поставило буквой зю: нос вниз, скорость под 300, предел по закрылкам; все хором закричали, и я трижды быстро сдернул с 80 до 78, 76, 75… дальше нельзя. Ну, полоса длинная, ветер в лоб, – сел мягко, с небольшим перелетом, поставив малый газ метрах на десяти.
Сдвиг был такой: у земли 150 градусов 5 м/сек, а на кругу 30 градусов 12 метров. Но взлетать я дал Сергею. Он тут слишком резво уловил энергичную манеру подъема ноги, да так, что в Москве перед отрывом аж пискнул АУАСП. Ну, в Норильске уже тянул чуть медленнее. Очень аккуратно работая тангажом, он миновал зону сдвига, убрал механизацию… получается, язви его! И в Домодедове хоть и выравнивал сухим листом, но на ось попал и неслышно сел на левую ногу.
Короче, толк будет.
20.05. На даче взялся за мотоблок, до вечера все вспахал; посадили картошку во влажную, в самый раз, землю. Никакой аллергии пока нет. Уработались хорошо, так, что вечером, без рук, без ног, сели и выпили самопального краснодарского коньячку под абрикосовый сок; очень даже неплохо с устатку. И захрапели.
Теперь вот собираюсь в Норильск, на 4 дня. Погода вроде есть.
А как не хочется. Господи, как уже надоели эти рейсы. Тут после Домодедова кишечник еще не наладился – и снова…
Мне осталось-то всего рейсов пять-шесть до конца летной работы. Казалось бы, я должен со смаком обсасывать, облизывать каждый полет… Да пошли бы они все. Сыт.
Опять собирать эту сумку. В Норильске -10, снег, метель; в Питере +25. Как экипироваться? Придется все с собой брать: и на зиму, и на лето. Да еще вполне могут отключить отопление – с них станется. Я знаю, как мерзнут норильчане летом; да и у нас в квартире сейчас +19, неуютно.
Ничего, осталось 35 дней.
23.05. Норильск-Питер слетали по расписанию. Погода звенела; Сергей старался, я читал. Все бы ничего, но рейс этот теперь с ночевкой в Питере, 12 часов в гадюшнике… бр-р-р. Правда, и в родной кайерканской гостинице тараканов за зиму расплодилось – как желуди, прыскают из-под рук, за что ни возьмись.
В Норильске резко потеплело, снега тают, слякоть, +12; кожаная куртка оказалась лишней. Ну, в Питере пригодилась: там пронизывающий сырой ветер.
В регистратуре питерского профилактория давно пылится в окошке книга Петра Кириченко. У меня уже есть одна его книжечка, рассказы: что-то около авиации, но больше – «за жизнь». А тут повесть о летчиках, об экипаже Ту-134. Ну, дай же полистаю.
Полистал. Купил: надо же поддержать автора, своего брата-штурмана.
Сказать по правде – сильно отдает духом болтовни Леши Бабаева. Бабского типа разборки, интриги, бабские же сомнения мужиков, метания души, рефлексия… «А он говорит… а я думаю… а что бы это могло означать… а что он имел в виду…» и т.п.
Любовь-нелюбовь штурмана к проводнице, ненависть к капитану, который хоть и безупречный профессионал, но сволочь, и сделал девке ребенка, и строит интриги, и использует всех в своих далеко идущих планах… и об этом – вся книга. Ну, между прочим, конечно, немного и работают, но это явно не главное. Главное – разборки.
Автор летал штурманом в Самаре, в Казани, а большую часть – в Питере, где, видимо, и почерпнул опыт отношений в экипаже. И не дай бог таких, с позволения сказать, отношений. Там он, кстати, и нажил инфаркт.
Рассказы же «за жизнь», прилепленные к повести для весу книги, уже знакомы мне по его малой книжонке. А здесь получилась солидная книга, в твердом картонном переплете. Предваряет же ее «Вынужденное предисловие», где помещено открытое письмо автора Путину. Искренняя боль за то, что нашего брата дурят, а страну губят, – за это автору спасибо. Хоть и наивняк… но человек он порядочный – не смог смолчать, сделал то, чего требовал от него долг перед авиацией. Конечно, пенсии наши от этого больше не стали, автор получил три отписки… мол, много вас таких… но уважение как гражданин он вызывает. Жаль, что он едва пережил синдром перестройки; ну да уж очень раним.
Рассказы его мне даже понравились, во всяком случае, больше, чем эта повесть. Они не так натужны и сложны, не так плотно набиты философией, нарубленной вперемешку с ковырянием в интрижках и борьбе мелких интересов. Авиационного в них немного: главный герой, обычно, летчик, но вполне мог бы быть и бухгалтером, и шофером, – там всякие герои есть. Кстати, «Дядя» – один из лучших, берущих за душу рассказов.
Ну, многословие. Таков уж человек.
Зачитавшись, я так и не спал ночь, так и полетел обратно.
Перед выруливанием у нас стал было медленно заваливаться резервный авиагоризонт. Я молил бога об одном: чтобы до отрыва он не завалился совсем и не сработал бы БКК. Обошлось; взлетели, вздохнули – теперь пусть себе заваливается. А он и заработал, выправил крен и тангаж, – прогрелся, что ли.
Однако, отвлекшись на взлете на работу авиагоризонтов, мы зевнули высоту перехода, и диспетчер аж на 2400 подсказал, что не видит у нас установку давления 760. На аэродроме же давление было 759, ну, почти 760. Я передернул кремальеру, диспетчер убедился в установке 760, инцидент был исчерпан.
Дома жара. Вчера было +30, сегодня 28, тучки. Заехали в контору, я доложил, что закончил программу ввода Околова, и поинтересовался выходными. Ага: в воскресенье стоим на Минводы. И будет у нас 60 часов. А потом еще дневной резерв.
Заикнулся об инциденте с установкой давления на высотомере. Чекин, Менский, Казаков, Димов засуетились, забегали: отписался? Написал поэму о 760 миллиметрах ртутного столба? Прикатит же телега.
Ну, договорились, что Димов из ЛШО позвонит в расшифровку и объяснит суть дела, чтоб не раздували криминал с неустановкой давления на высоте перехода… из 760 в 760 же.
Чтоб вы обосрались.
А тут же Димов порет Олега Русанова. Они с Абрамовым заходили в Благовещенске с курсом 180, левым. Там круг-то с этим курсом тесненький, заход, обычно, скомканный… и у них не сработал маркер дальнего. Пока разбирались и щелкали клювом, прошли шесть секунд без снижения и оказались на 20 метров выше траектории ОСП. Над ближним Абрамов понял, что идет таки выше, и благоразумно ушел на второй круг… вот только зачем… Ну ладно, побоялся капитан выкатиться, правильно, что ушел.
Так какая-то сука, из пассажиров, позвонила Абрамовичу и наклепала, что «дважды уходили», и «что это у вас за летчики?», и «вы там разберитесь». И наземный человек, генеральный директор, дал команду: разобраться, прав или виноват… и наказать. Пиши, теперь, дед, штурман Олег Русанов, на старости лет индивидуальное задание, как заходить по ОСП.
А Олег, со смехом: да напишу, хоть десять.
И я тоже: давайте, я напишу и добровольное сообщение, и объяснительную, хоть десять… вы наши отцы – мы ваши дети… покаюсь в грехах.
Ну, посмеялись. Но я сказал: вот из-за этих разборок по пассажирской инициативе – я и ухожу через месяц. Не хочу и не буду возить таких пассажиров. Демократия, блин. Возите вы их сами. А я не собираюсь никому объяснять, почему я использовал свое законное право ухода на второй круг. Может, понос прохватил над ближним.
Сергей послушал-послушал, да и говорит: у нас в СиАТе Левандовский гораздо проще относился к расшифровкам, а тут прямо криминал…
Что ж, знай, куда попал.
26.05. Минводы. Тесный номерок гостиницы «Кавказ». Долетели прекрасно, заход по ОСП на укороченную полосу; Олег Бугаев корячился, но на ось попал; видать, это его коронка. Посадка чуть на левую ногу, но по жаре +27 это прилично.
На даче перед этим напахались. Прицепом натаскали песку и земли, накидались лопатами, нагреблись граблями, сделали еще газон, вспахали еще грядку, засыпали палисадник, посадили штук 15 роз, – все дружно, мирно, с удовольствием… к концу дня как всегда, убухались вусмерть. Наотдыхались… И с утра я разбит, еле ворочаюсь; ну, вот мне и отдых в Минводах.
Не было ни гроша, да вдруг алтын. Пошли на ужин в кафе. Рядом парк, играет духовой оркестр, такая благодать кругом. И тут Володя берет бутылку: у него 39-я годовщина свадьбы. Так хорошо посидели под музыку. Я вспомнил детство, школьный духовой оркестр, свой кларнет… давно это было… сорок лет назад.
27.05. Читаю ранние рассказы Кириченко. Ну, талант, конечно, есть. Однако авиатор мог бы написать об авиации и побольше. Нет: он озабочен душой, судьбами, «нечтым эдаким», чего не выскажешь, – а пытается. И красной нитью у него – разводы и несложившиеся отношения между мужчинами и женщинами. Явно с этим ему в жизни не повезло, это его боль, и она у его героев забивает все, даже в полетах. Может даже, он напрасно пошел в авиацию. О ней он, конечно, тоже кой-чего пишет, но большей частью – о неустроенности быта летчиков, о бабьих, мелких конфликтах в экипаже, да о звездах, навевающих нечто эдакое.
Может, и правда, людям интересно читать о таком?
Но… судя по тому, что книга эта пылится на витрине уже давно, ее не особо-то берут.
Людей в авиации интересует действие. Авиация вызывает в людях чувство зависти тем, что авиаторы причастны к недоступному. Но что это такое – авиация? Неужели это только зрелище звезд или облаков из окна пилотской кабины? Или это одни подковырки и конфликты в экипаже? Или это одна каторга бессонных ночей и задержек? И неужели, когда горит двигатель, капитан вспоминает глаза любимой?
Ага, Вася, читай, читай мораль. И скатись до сентенции Горлова: «Сразу видно, что ты не имеешь высшего образования…» Ну, и ты скажи этому штурману: «Сразу видно, что ты не капитан». Так, что ли?
Не в этом дело. И штурман, и другой летчик, если наделен писательским талантом, если видит смысл жизни в своей штурманской, навигационной, к примеру, работе, мог бы об этой своей работе хорошо, интересно и внятно рассказать.
Но нет: ну, взял два градуса влево, ну, обошел грозу, ну, бумаги заполнил… это само собой разумеется; но мысли его, мысли-то при этом заняты звездами, судьбами, и тем, что что-то в этой жизни не так.
В этой жизни, в моей жизни авиатора, все – так. Трудно, тяжко, нелепо, нескладно, в шестернях, вокруг Ствола Службы, мимо политики, мимо женщин, мимо «нечта эдакого» и звезд, мимо судеб, разводов и конфликтов, – моя летная жизнь строго и четко определена: я, человек, личность; плюс экипаж, человеки, личности; плюс машина – мы вместе делаем Дело авиации. Мы везем вас по воздуху – годами, десятилетиями, и в течение этих десятилетий познаем и приспосабливаемся – и к машине, и к небу, и к стихии, и к звездам, и друг к другу. И в этом познании своем мы растем, мужаем, совершенствуемся как личности, как профессионалы, как живые люди. Но – первым делом самолеты; ну а девушки, интриги, разводы, судьбы – потом.
Мне плевать, кто на кого нож точит в экипаже; я таких и не знал. Мне важнее всего, как мы слетались, как делаем наш Полет. Мне важен конечный результат: глаза встречающих. Я на это жизнь положил; а через все перипетии, нюансы, настроения, через всю эту достоевщину – я прохожу, как разогретый нож сквозь масло.
У того, к примеру, бухгалтера на работе хватает своих интриг, заковырок и заморочек. Он на досуге открывает книгу о летчиках… да еще писателя-летчика… он ждет…Чего? Он хочет погрузиться в мир стихий, машин, приборов, штурвалов, пеленгов, борьбы, железных рук, принятия решений… на которые ни он, ни миллионы ему подобных читателей просто не способны. А мы – способны. И я могу об этом рассказать.
Читая Кириченко, я учусь, как не надо писать. И первое: не надо писать многословно. Попытайся выразить мысль наиболее рационально, емко, подыщи слово, может, одно-единственное. Рассказ должен быть коротким.
Второе: не надо длинных предложений. Учись кратким абзацам у Гюго. Ну, это, конечно, крайность, но на другом полюсе – Бальзак: многословие уместно только у великого писателя. А сколько их утонуло в пене слов, пытаясь – и не могя… Если, конечно, осознавали, что хотят сказать.
Третье. Не надо показывать авиатора романтиком сопливого пошиба, мечтателем не от мира сего, как вот его Игореха-шизофреник. В авиации держатся люди ясного и конкретного образа мышления, которым чужды мечты о «нечтом эдаком»; а вот выпить, да пожрать бы от пуза, да бабу трахнуть, если подвернется, – это типичный склад мышления. И нет в этом ни криминала, ни примитивизма. Так же конкретно он проведет машину сквозь стихию и так же четко и ясно, как бабу в постели, приземлит ее уверенными руками, нежно и с полным пониманием красоты дела. И научит пацана.
Кстати, не знаю, мог ли и научил ли своего преемника автор, способен ли он, в своих мыслях и вопросах типа «что есть полет и что есть жизнь», – просто, без философии, научить человека своему делу. Или ему это слишком пресно, заземлено? А может – слабо?
Летчик – профессия не массовая, и, казалось бы, требует качеств редкостных, недоступных массе. Но ведь летчик выезжает именно на простых качествах, присущих большинству: на здравом смысле, дисциплине, сознании необходимости, терпении, предусмотрительности, хватке, умении преодолеть себя.
Ему не надо утонченной глубины мышления, абстрактных категорий, книг Пруста и Кафки; ему не нужна, даже вредна боксерская реакция, как вредно и бездумное бесстрашие. Нервы у летчика должны быть крепкие, темперамент спокойный, жизнерадостный. Именно для такого склада людей пишутся детективы, создаются оперетты, играют духовые вальсы, устраиваются шоу, печатаются газеты… типа «Спид-инфо». Самое массовое мышление.
В своей работе летчик опирается не на заумные ассоциации, не на философию слов, образно говоря – не на утонченные романсы Чайковского, а на простые житейские истины, доступные большинству. Все искусство летной работы и заключается в том, чтобы реализовать высокое понимание Полета Человека в его практическом применении, доведя его до простых стереотипов понятной, рутинной работы, где не должно быть места неожиданностям и мгновенным реакциям и где неприемлемы парение духа, мечтательность, и созерцание. Все это, конечно, присутствует, но – как нежелательные сложности, от которых надо поскорее избавиться, пока, не дай бог, чего не вышло. А когда зарулишь на стоянку, тогда, пожалуйста, философствуй. Только не в полете.
Конечно, Кириченко душой – свободный художник. Он пишет типа о том, что кому-то как-то показалось, что возникает ассоциация с тем, что когда-то грезилось, а когда и что – и сам не помнит, а когда вспомнит, то придет уверенность в том, что люди когда-то все-таки что-то поймут, потому что – а как же иначе…
Вот такой человек летал штурманом, а потом его расшиб инфаркт.
А я – ездовой пес, и мысли мои конкретны. Зато я могу научить молодого и не бегу от учеников. А герой рассказа «Подсолнухи», художник, «научить никого не мог, потому что сам двигался от картины к картине как слепой, наощупь… и опыт помог ему отбиться и от учеников». И этот герой у него еще трижды женат.
А я еще вопросами задаюсь, слабо ему или не слабо. Он сам ответил.
Таких рассказов, «за жизнь», я, конечно, не напишу. Мне непонятно, как можно двигаться наощупь, как слепому. А этому штурману – понятно.
Но эти его рассказы, мне кажется, люди не так уж охотно и читают. Зачем? О чем? О том, что «ему показалось?» Да ладно, если и показалось, – то что за этим последовало? А ничего. Болтовня, интересная автору как средство самовыражения: что я ж вроде писатель.
Мне было бы скучно провести вечер за бутылкой с этим писателем. Как, к примеру, с Лешей Бабаевым. Я восторгался Лешиными посадками, но… я восемь лет выслушивал его разборки, комментарии и сентенции – и удивлялся: как можно мужику этими бабскими вещами так упиваться.
Мне простительно ворчать. Я прожил в авиации долгую жизнь, очень много ей отдал, очень многое в ней потерял, но еще больше приобрел. Мне трудно представить себе авиатора с таким вот менталитетом, с такими вот жизненными интересами, – да еще так преподносимыми широкой публике. Если честно – в экипаж бы к себе его не взял.
Закрадывается сомнение: а добровольно ли он оставил полеты? Вот Трофимова, я точно знаю, съели за исключительно говнистый характер, ушли из авиации до срока. Но Трофимов, ладно, был боец, боксер, истребитель, замкнутый, конфликтный, неуживчивый с людьми, злопамятный, трижды женатый; но он был все-таки смелый капитан… и сожрали. Так, может, задумчивого штурмана Кириченко тоже выжили, чтобы не наломал дров? Вот складывается такое впечатление.
И еще. Во многих его рассказах фигурирует герой – тридцатилетний холостяк, и объясняются причины этого его статуса: слишком разборчив в людях и заранее предполагает возможные неблагоприятные факторы, улавливая их в мельчайших нюансах. А так как рассказы начинающего автора обычно автобиографичны, то вполне можно предположить, что сюжеты он черпал из опыта собственных житейских неувязок. На мой взгляд, ездового пса, такой человек в экипаже был бы нежелателен.
Ну да бог с ним. Мне важно всмотреться в творения моего коллеги-авиатора и не повторить его ошибок и неудач.
29.05. Усталости никакой не чувствую. Думается, этот месяц, эти четыре недели я доработаю спокойно. Никакого нервного напряжения, все как всегда, душевное равновесие сохраняется. Я занят чтением, экипаж работает, бог милует. Даже если что и проскочит, то это уже меня не должно волновать.
Но все-таки не покидает меня подспудное, едва заметное чувство вины. Я виноват перед всеми: и перед Надей, что она пластается на работе, а я тут отдыхаю и сплю сутками; и перед мамой, которой никак не решусь написать о предстоящем уходе; и перед коллегами по работе, на которую я уже откровенно плюнул, а все думают, что я должен загнуться с тоски на пенсии, без этой полетани.
А я считаю дни, когда, наконец, свалятся вериги – и начнется новая жизнь, где ни перед кем я уже виноват вроде бы не должен быть: я пенсионер, и этим все сказано. Вроде бы…
Через 27 дней откроется для меня страшная и притягательная тайна старости, откуда уже возврата нет, зато есть свобода.
3.06. Отцвели яблони, полыхают жарки. Болит шея, и спина, и руки, и ноги; болит все. Отсадились.
Добыл и завез шиферу, выгрузил, сложил. И пахал, и пахал мотоблоком, все углы и неудобицы, воевал с пыреем. Смотался домой, забрал Надю, и снова мы воевали с травой под забором и на цветниках, рассадили все, что было у нас; воткнули, наконец, и помидоры.
Пошли дождички, чуть похолодало, но капуста дружно поднялась. Лук с чесноком прут, взошла морковка и даже кое-где картошка. Огород идеален, как всегда.
Шея среагировала на работу под дождем абсолютно предсказуемо: спасаюсь финалгоном; работать и спать позволяет, и ладно.
Осталось мне три недели, и я не дождусь, когда же вырвусь из этой полетани.
Тут такой фронт работ открывается – только паши. Мы с Надей дорвались. Утром в 7 часов мы уже на грядках; в десять вечера, храпя, падаем… Самая нравственная жизнь.
Какие еще, к черту, полеты. Ну, пять рейсов еще придется сделать. Пять штук. Потерплю.
Ну а другим чем-нибудь в этой жизни, кроме дачи, можно заниматься?
Не знаю. Я полностью отдался увлечению, я рад, что оно у меня еще есть, что оно помогает преодолеть узы летной жизни, которая благодаря этому уже почти и не хватает за ноги.
Заехал в контору узнать свою судьбу на ближайшие дни. Завтра Краснодар. Заодно закрыл задание Околову, записал в книжку. Дальше пока в пульке чисто; 25-го против моей фамилии стоит красный крест – срок годовой комиссии. Говорю: это крест на мою летную работу. Бугаев сдал на первый класс, забежал доложить, – так он не верит, что я ухожу. А чего тут не верить: он со мной в экипаже два года пролетал, слышал разговоры. Уж кому-кому, а ему давно все известно. И глазами он все видел.
Пока моя рукопись дочитывается Гаврилюками, у меня наклевывается рассказ о лесопатруле. Не сидеть же без дела в рейсах – можно попытать себя в малых формах. Никакой морали, никакой идеи – просто показать работу.
4.06. Скрупулезно готовлюсь в рейс. По несколько раз проверяю: пилотское, пропуск, очки для чтения, очки для полета, очки солнечные, деньги, тетрадки, раптор… ну, стандартная укладка портфеля. По очередной болячке: финалгон, смекта. Полиэтиленовый дождевичок на всякий случай, вроде оберега, – чтоб дождя не было, примета такая. Все, захлопнул портфель, начистил до блеска обувь; готов. Штурман заберет меня на машине.
6.06. В Краснодаре не вылезал из номера, за вечер и утро написал рассказ «Лесной патруль». Но начал я его как рассказ, а потом сбился на свой старый стиль, и получилась просто очередная глава книги. Но – продуктивно.
В полетах я стал острее приглядываться к тому, что видел вокруг себя в воздухе последние 25 лет. Хочется запомнить все эти красоты – мне их больше не видать.
Читаю Астафьева, поражаюсь – какой Мастер! Это гениальное чутье природы и божественный писательский дар берут за сердце. И глядя на себя, думаю: куда я лезу…
А с другой стороны: после Пушкина и Гоголя писателей в России не поубавилось, и еще каких. Надо только не комплексовать.
Сергей стал летать лучше. И прорезался талант: чутье оси на посадке. Ни разу он не сел сбоку. А вчера так зашел и так приземлил – куда тем проверяющим. Будут, будут с него люди.
Разговариваю в штурманской с экипажами о работе. Начались летние полеты: колеса, колеса, сидение то в Москве, то в Благовещенске, то в Комсомольске. За 10 дней налет 30 часов – и полностью раздерганный режим. Зарплата та же.
Я летаю спокойно. Иногда только дойдет, что осталось меньше трех недель, – и холодок в животе. Но эмоционального напряжения нет.
В Краснодаре на перроне подошел я к стоящему в углу старому Ил-14, которого зимой снегом посадило на хвост. Картина грустная: ткань на рулях сгнила и облезла лохмотьями, все железо старое, стекла выбиты, резина растрескалась… Картина удручающей старости, разрухи, бесхозности.
А я ж только что написал об этом замечательном самолете рассказ.
Что ж, мне ничего не изменить, разве только оставить в памяти людей свои воспоминания и впечатления об этом трудяге.
Дал почитать Григорьичу, он похвалил и отметил, что только теперь представил себе картину лесопатруля. Да там, и правда, описана одна технология.
В те времена – да GPS бы иметь. Как бы легко делалась лесопатрульная работа. Вот сейчас я гляжу: у штурмана своя машинка, у второго пилота своя. Сравнивают, настраивают, советуются, тщательно сверяя цифры, выдерживают линию пути… Это уже новый этап развития авиации. По сути, искусство навигации уходит в прошлое, как ушло в историю сложение в столбик или извлечение квадратного корня. Есть машинка, компьютер, – и видно, как движется прогресс.
13.06. Оказывается, последний мой рейс будет не на Норильск – в Норильске последний раз я был сегодня. Ну, лирику в сторону. Последний рейс мой будет из Комсомольска домой. А залетаем мы через два дня пассажирами в Домодедово и оттуда дергаем то Кемерово, то Благовещенск, а потом и этот Комсомольск. То самое проклятое комсомольское колесо и будет моей лебединой песней. Возвращаемся 25-го, после трехдневного сидения в Комсомольске.
Околову я дал все, что только мог. И взлет с закрылками на 15, и взлет на номинале, и посадку с закрылками на 28, и «эмку», и Б-2, и сегодня досталась 201-я, без задатчика; ну, дал ему порулить и педалями на земле. Думаю, для такого организованного пилота это хорошая школа. Теперь пусть сам работает над собой.
Ну, а на колесо мне дают Сашу Максимова. Говорят, он чуть послабее, и в полетах с Шевченко были у него косячки. Чекин доверительно так сказал, чтобы я слетал все полеты сам, от греха. На что я ответил, что и молодому второму пилоту это будет западло, да и я бы себя уважать перестал. Ну, буду поглядывать, а летать он будет сам. У меня всегда все с первого дня летали сами. И будут летать до последнего. Уж он наверняка мечтает слетать с Ершовым и на практике кое в чем убедиться и поучиться. А я был и буду инструктором до конца.
Кончается тетрадь. Кончаются полеты. Кончаются мои записки. Время тянулось, тянулось – и вот он завтра, последний рейс. Уходить из дому в полет, отчетливо понимая, что делаешь это в последний раз, что в последний раз собираешь сумку и читаешь контрольную карту, – это требует известной собранности и твердости духа. Но я уйду безмятежно. И хотя, казалось бы, я должен впитывать в память каждую минуту этих десяти дней, знаю, что будет тягомотина. Ну, попробую-таки писать и в этом рейсе, тем более что и в благовещенской, и в комсомольской гостиницах условия есть.
Надо бы съездить да прополоть картошку, пока не заросла мелкой омерзительной травкой, которую потом не выдрать.
Уже и тополиный пух пошел.
25.06.2002. Ну вот и всё. На 35 лет полетов мне выпал счастливый билет. Я прощаюсь с Авиацией в расцвете мастерства, ухожу так, как, наверное, мечтает уйти любой: непобежденным. Никто не посмеет теперь сказать, что Ершов слабак. Не было поводов.
За все годы я раз выкатился, раз разбил АНО, раз погнул серьгу. Но этого никто не помнит, кроме меня. Все знают Ершова как опытнейшего, классного пилота, мастера, капитана. Все сожалеют, что я ухожу. Все всё понимают. Кое-кто надеется, что, может, к осени еще одумаюсь и вернусь.
Не вернусь. Капитан Ершов спел свою лебединую песню.
Notes
1
Триммер руля – устройство, позволяющее снимать нагрузку с отклоненного органа управления (чтоб все время не давить или тянуть).
(обратно)2
Глиссада - (фр. glissade – скольжение) - прямолинейная траектория движения воздушного судна под углом к горизонтальной плоскости или прямолинейная траектория, по которой должно осуществляться снижение самолета в процессе захода на посадку.
(обратно)3
Бортинженер - должностное лицо инженерно-авиационной службы, входящее в летный состав экипажа самолета. Бортинженер подчиняется командиру корабля, а по вопросам эксплуатации, технического обслуживания и ремонта авиационной техники выполняет указания инженера подразделения. Бортинженер является прямым начальником технического состава экипажа и отвечает: за постоянную готовность и эксплуатацию закрепленного за ним самолета; за подготовку самолета к полету; за своевременное и точное выполнение техническим составом экипажа правил технического обслуживания и ремонта самолета.
(обратно)4
Болтанка - возмущенное движение летательного аппарата с достаточно большой частотой под действием атмосферной турбулентности. Вызывает перемещение центра масс летательного аппарата в пространстве и угловые колебания вокруг центра масс.
(обратно)5
Демфирующий (двухстепенный) гироскоп , внешняя рамка которого связана с регулируемым объектом (например, с самолетом, снарядом, ракетой). Ротор гироскопа двухстепенного может поворачиваться только вокруг двух взаимно перпендикулярных осей (имеет две степени свободы). Гироскоп двухстепенный реагирует на угловую скорость регулируемого объекта и служит в качестве датчика угловой скорости объекта.
(обратно)6
Гироскоп - (от греч. hyreuo - кружусь, вращаю и skopeo - смотрю, наблюдаю) устройство для измерения параметров углового движения: быстровращающийся ротор, закрепленный в одном или двух подвижных кольцах (кардановых подвесах). Оси вращения ротора и кардановых подвесов взаимно перпендикулярны. Гироскоп обладает свойством сохранять неизменным положение оси ротора в пространстве. Широко используется в инерциальных системах навигации, автопилота, гирокомпаса, гировертикалях и др. приборах и системах ЛА, а также в снарядах, баллистических и крылатых ракетах в качестве датчиков углов рассогласования, датчиков скоростей рассогласования и интеграторов. Существуют классические, лазерные и вибрационные. Различают гироскопы трехстепенные, двухстепенные (демпфирующие) и несимметричные (интегрирующие). Гироскоп называется также жироскопом.
(обратно)7
АБСУ - автоматизированная бортовая система управления
(обратно)8
Тангаж (угол тангажа) – угол между продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью.
(обратно)9
Авиагоризонт - гироскопический прибор для измерения и индикации углов крена и тангажа, соответствующих пространственному положению летательного аппарата относительно горизонтальной плоскости. Бывают автономные и дистанционные.
(обратно)10
Нога шасси - одна из опор самолета, составляющих шасси. Нога шасси состоит из колеса (или колеса и поплавка), стойки, амортизатора и подкосов. Ноги шасси, расположенные вблизи центра тяжести самолетов и воспринимающие большую часть его веса, называются главными.
(обратно)11
Эшелон полета (в метрах) – регламентированная руководящими документами высота для полета в определенном направлении, установленная с целью выдерживания определенных интервалов между самолетами. Полеты тяжелых самолетов выполняются строго на эшелонах.
(обратно)12
Торец ВПП (порог) – начало взлетно-посадочной полосы, обозначается зелеными входными огнями.
(обратно)13
Закрылки – отклоняемая вниз задняя часть крыла, служащая для уменьшения скорости отрыва самолета и посадочной скорости.
(обратно)14
Режим работы двигателей – скорость вращения турбокомпрессора двигателя, измеряемая в процентах от максимальной. Устанавливается при помощи РУД (аналогично даче «газа» на автомобиле).
(обратно)15
Приводная радиостанция – установленный на аэродроме всенаправленный радиомаяк, на который настраивается радиокомпас.
(обратно)16
Коридор - воздушное пространство над полосой местности, обозначенной хорошо видимыми с высоты полета (контрастными в радиолокационном отношении) ориентирами, предназначенное для пролетов по нему самолетов (вертолетов) в районы с особым режимом полетов.
(обратно)17
Имеется ввиду ПОД - позиция/пункт обязательного донесения (?) - точка на воздушной трассе, в которой экипаж обязан связаться с авиадиспетчером.
(обратно)18
РСБН - радиосистема ближней навигации.
(обратно)19
Директорные стрелки – стрелки на командно-пилотажном приборе, помогающие пилоту правильно выдерживать посадочный курс и глиссаду на предпосадочной прямой.
(обратно)20
ВПП - взлетно-посадочная полоса
(обратно)21
АТБ - авиационно-техническая база. В оссии структурное подразделение эксплуатационного авиационного предприятия гражданской авиации (объединенного авиаотряда, аэропорта, производственного объединения). Обеспечивает техническое обслуживание и подготовку к полетам самолетов и вертолетов, находящихся в ее ведении в аэропорту базирования, а также в приписных аэропортах и на временных аэропортах, выполняет обслуживание летательных аппаратов других предприятий гражданской авиации, совершающих посадку в базовом и приписном аэропортах, техническое обслуживание и подготовку к полетам летательных аппаратов других ведомств, а также иностранных авиакомпаний.
В состав А.-т.б. входят цеха оперативного и периодического обслуживания авиационной техники; проверки и текущего ремонта авиационного радиоэлектронного оборудования; текущего ремонта летательных аппаратов и др.
(обратно)22
Разбег самолета - основной этап взлета, представляющий собой ускоренное движение самолета по земле, во время которого достигается скорость отрыва. Разбег самолета характеризуется длиной и временем разбега. Длина разбега зависит от нагрузки на 1 кв.м. крыла, тяги двигателя, состояния поверхности аэродрома, а также от скорости ветра и наклона взлетной полосы.
(обратно)23
РЛЭ - Руководство по летной эксплуатации воздушного судна (главный документ, цифровые параметры которого обязательны к строгому исполнению в полете).
(обратно)24
Акселерометр —прибор, показывающий величину вертикальной перегрузки.
(обратно)25
МЭТ - механизм электротриммерного эффекта
(обратно)26
САУ (в данном случае) - система автоматического управления, автопилот
(обратно)27
АРК (автоматический радиокомпас) – радиоприемник, вращающаяся антенна которого автоматически поворачивается, а связанная с ней стрелка на приборе показывает направление на приводную радиостанцию, на частоту которой он настроен.
(обратно)28
Киренск - город в Иркутской области
(обратно)29
Магдагачи - город в Амурской области
(обратно)30
АДП – аэродромный диспетчерский пункт.
(обратно)31
Видимость на ВПП - расстояние (метры), в пределах которого пилот воздушного судна, находящийся на осевой линии ВПП, может видеть маркировочные знаки на поверхности ВПП или огни, ограничивающие ВПП или обозначающие ее осевую линию. Измеряется каждые 30 мин (при уменьшении до значения, определяемого погодным минимумом для данного аэродрома - каждые 15 мин).
(обратно)32
Выкатывание - инциндент, во время которого воздушное судно частично или полностью оказывается за пределами ВПП при посадке.
(обратно)33
Угол сноса – угол между продольной осью самолета и вектором путевой скорости, показывающим, куда действительно движется самолет под воздействием ветра.
(обратно)34
ОВИ – огни высокой интенсивности, предназначенные для установления визуального контакта пилота с землей в сложных метеорологических условиях.
(обратно)35
Радиовысотомер – точный высотомер, работающий по принципу радиолокации и обеспечивающий отсчет высоты над поверхностью на малых высотах с точностью до одного метра.
(обратно)36
Выравнивание при посадке - криволинейное движение воздушного судна при выводе его из режима планирования в режим выдерживания над землей. Выравнивание при посадке начинается на определенной высоте (6-10 м), зависящей в основном от вертикальной скорости снижения, и заканчивается на высоте 0,5-1 м.
(обратно)37
Длина ВПП в метрах
(обратно)38
В то время самым крупным пассажирским самолетом был Boeing 747, который в 2007 году уступил «пальму первенства» аэробусу Airbus A380.
(обратно)39
Это относится к пассажирским самолетам. В 1988 году в воздух поднялся самый крупный и грузоподъемный самолет Ан-225 «Мрия», спроектированный в качестве транспорта для космических кораблей «Буран». В 1984 году как раз начинались разработки Ан-225.
(обратно)40
ИКАО - Международная организация гражданской авиации (IKAO). Специализированное учреждение ООН. Создана в 1944 году на основе Чикагской конвенции.
(обратно)41
Руление - передвижение воздушного судна по земной поверхности под действием тяги, развиваемой основными силовыми установками, на установленных скоростях.
(обратно)42
Буксировка - передвижение воздушного судна по земле к месту старта или стоянки посторонней тягой (автомобилем или трактором) с целью экономии горючего (перед взлетом), экономии ресурса двигателя, при посадке без горючего или с неисправным двигателем.
(обратно)43
ПДСП – производственно-диспетчерская служба порта.
(обратно)44
Нижний край облаков в метрах от поверхности.
(обратно)45
Предкрылки – кромка крыла, отклоняемая вперед таким образом, чтобы воздух, затекая в образовавшуюся щель, препятствовал срыву потока с верхней поверхности крыла.
(обратно)46
Картино - деревня в Московской области.
(обратно)47
КУР - курсовой угол радиостанции - угол между направлением продольной оси самолета и направлением на наземную радиостанцию. Он отсчитывается от 0 до 360° по ходу часовой стрелки по указателю курсовых углов на радиокомпасе. Измеренный курсовой угол радиостанции отличается от истинного на величину радиодевиации.
(обратно)48
КТУ - коэффициент трудового участия.
(обратно)49
Пеленг - направление на какой-либо предмет от наблюдателя, измеряемое углом, заключенным между вертикальными плоскостями истинного (истинный пеленг), магнитного (магнитный пеленг) или компасного (компасный пеленг) меридиана и вертикальной плоскостью, проходящей через место наблюдателя (центр компаса) и наблюдаемый объект. Счет пеленга ведется от 0° по ходу часовой стрелки до 360°. или строй, в котором ведомые самолеты (группы) располагаются относительно ведущего (впереди летящего) самолета уступом вправо назад (правый пеленг) или уступом влево назад (левый пеленг) на установленных интервалах, дистанциях и превышениях (принижениях).
(обратно)50
Коэффициент сцепления – величина, показывающая «скользкость» взлетно-посадочной полосы. Минимально допустимый Ксц = 0,3.
(обратно)51
Продольный канал управления самолетом – управление тангажом (вокруг поперечной оси).
(обратно)52
Вариометр - (от лат. vario - изменяю и греч. metrio - измеряю) пилотажный прибор для измерения скорости подъема и спуска воздушного судна, а также указания горизонтальной скорости полета. Измеряет разность давлений воздуха в атмосфере и внутри корпуса прибора, сообщающегося с атмосферой капилляром. Эта разность давлений возникает при изменении высоты полета и исчезает, когда воздушное судно летит на постоянной высоте.
(обратно)53
Приборная скорость – скорость, которую показывает прибор, по которому пилотируют самолет. На больших высотах значительно отличается от истинной скорости. Так, для Ту-154 при полете на эшелоне10600 м истинная скорость – 900 км/час, а приборная - примерно 550.
(обратно)54
Вертикальная скорость – скорость подъема или спуска в метрах в секунду (в отличие от поступательной направлена вверх или вниз).
(обратно)55
УТО - учебно-тренировочный отряд.
(обратно)56
Струйное течение - узкая зона очень сильного ветра, расположенная обычно в верхней тропосфере и простирающаяся на тыс. км в длину, сотни км в ширину и несколько км в высоту. Минимальная скорость вдоль оси струйного течения принимается равной 30 м/сек, вертикальный сдвиг скорости ветра (градиент) 5-10 м/сек на 1 км, а горизонтальный - 10 м/сек на 100 км. Различают два типа струйных течений: фронтальное, связанное с атмосферными фронтами, и безфронтальное. Течение струйное представляет большой практический интерес для авиации, т.к. наблюдающиеся в нем сильные ветры оказывают значительное влияние на самолетовождение и бомбометание с больших высот. Для струйного течения характерно повышение турбулентности атмосферы, усиливающее болтанку самолета.
(обратно)57
Емельяново - аэропорт г.Красноярск.
(обратно)58
ВСУ - вспомогательная силовая установка.
(обратно)59
Интерцепторы – воздушные тормоза на верхней поверхности крыла.
(обратно)60
ГА - Гражданская авиация.
(обратно)61
Механизация крыла – закрылки, предкрылки и интерцепторы.
(обратно)62
Реверс тяги – создание двигателем тяги, направленной против движения самолета, для быстрого торможения на пробеге.
(обратно)63
Руль направления - подвижная часть вертикального оперения, предназначенная для управления самолетом относительно нормальной оси (перпендикулярно к продольной и поперечной осям самолета).
(обратно)64
Северный - аэропорт г.Омск (хотя возможно, что и аэропорт г.Новосибирск - не Толмачево!).
(обратно)65
Курсо-глиссадная система – система, дающая экипажу при заходе на посадку информацию о положении самолета относительно линии посадочного курса и глиссады.
(обратно)66
Траверз - направление, перпендикулярное к курсу летательного аппарата (корабля). Быть на траверзе какого-нибудь предмета означает, что предмет виден в направлении, перпендикулярном к линии курса летательного аппарата.
(обратно)67
Разворот - поворот самолета (группы самолетов) на определенный угол от своего первоначального курса. Разворот на 360° называется виражом. Элементами разворота являются скорость, угол крена, радиус и перегрузки.
(обратно)68
Кран пожарный - топливный кран, предназначенный для быстрого прекращения подачи топлива и отключения топливной системы от двигателя.
(обратно)69
Лопатки компрессора - лопатки, являющиеся частью колеса компрессора и вращающиеся вместе с ним. При обтекании лопаток воздух, проходящий через компрессор, получает энергию, необходимую для его сжатия (рабочие лопатки) или подвижные направляющие или спрямляющие лопатки компрессора, которые можно поворачивать и этим самым изменять угол их установки при работе двигателя на земле и в полете. Они предназначены для регулирования компрессора на нерасчетных режимах его работы главным образом с целью повышения КПД компрессора и обеспечения устойчивости его работы. Поворотные лопатки направляющих (спрямляющих) аппаратов широко применяются в одновальных осевых компрессорах авиационных газотурбинных двигателей для облегчения запуска и разгона ротора двигателя, а также для обеспечения устойчивости его работы на равновесных, но нерасчетных режимах. В многоступенчатом осевом компрессоре нет необходимости поворачивать лопатки направляющих (спрямляющих) аппаратов всех ступеней. Поскольку режимы работы средних ступеней мало отклоняются от расчетного, во многих случаях достаточно ограничиться поворотом лопаток направляющих аппаратов лишь первых и последних ступеней компрессора. В некоторых случаях известного эффекта в регулировании осевого компрессора можно добиться применением лопаток компрессора поворотных только одного направляющего аппарата, расположенного на входе в компрессор. Это объясняется тем, что именно в первой ступени чаще всего возникает помпаж. Лопатки компрессора поворотные спрямляющих и направляющих аппаратов осевого компрессора снабжаются устройствами для одновременного их поворота на заданный угол. Поворот лопаток в соответствии с режимом работы двигателя может осуществляться автоматическим регулятором, связанным с рычагом, управляющим одновременным поворотом лопаток. Лопатки компрессора поворотные нашли также применение в центробежных компрессорах авиационных газотурбинных и поршневых двигателей (лопатки поворотные).
(обратно)70
ИАС - инженерно-авиационная служба.
(обратно)71
Дроссель - (гидравлический) - местное гидравлическое сопротивление, вводимое в трубопровод какой-либо системы для изменения параметров потока газа (жидкости) или для регулирования потока. При изменении параметров потока источником сопротивления служат специальные вставки-дроссели, вводимые в трубопровод и создающие сужение потока с последующим его расширением (диафрагмы с калиброванными отверстиями, сопло, трубка Вентури), при этом измеряется перепад давления, по которому можно определить скорость, расход и другие параметры течения газа (жидкости). В авиации дроссели с постоянным сечением применяются в виде различных гидродинамических насадок при гидродинамических и гидравлических испытаниях. Дроссели с регулируемым сечением в виде дроссельных кранов, дроссельных заслонок употребляются для регулирования расхода топлива и расхода воздуха в силовых авиационных установках и других системах.
(обратно)72
БПРМ - ближний приводной радиомаяк.
(обратно)73
Гидросистема - замкнутая, заполненная специальной жидкостью система, состоящая из силовых цилиндров, трубопроводов с арматурой, бака для жидкости и источника давления - насоса или сжатого воздуха в баллоне, служащая для приведения в действие агрегатов и устройств. Гидросистема в самолете применяется для разнообразных целей: подъема и выпуска шасси, торможения, управления створками люков и др.
(обратно)74
Каждый канал радиосвязи в авиации работает на жестско заданной частоте, поэтому одновременно в эфир может выходить либо диспетчер, либо один из экипажей (симплексная связь).
(обратно)75
Гидроаккумулятор - металлический резервуар, разделенный надвое упругой диафрагмой или же свободно плавающим поршнем (по одну сторону находится жидкость, а по другую - сжатый газ) и являющийся источником энергии. Гидроаккумулятор служит для выравнивания работы гидросистемы при значительных колебаниях нагрузки, а также в аварийных случаях.
(обратно)76
Навигационная линейка - счетный инструмент летчика и штурмана, построенный по типу логарифмической линейки. Шкалы линейки навигационной имеют специальную оцифровку и индексы для расчетов основных навигационных элементов на земле и в полете. С помощью линейки навигационной можно также производить ряд математических расчетов. Первая линейка навигационная была сконструирована в 1927 г. штурманом ВВС Черноморского флота Л.С. Поповым.
(обратно)77
Обледенение самолета - отложение льда на поверхности самолета при полете в капельножидких или смешанных облаках при отрицательных температурах или в переохлажденном дожде, мокром снеге и мороси. Обледенение самолета может наблюдаться и на земле. Наиболее значительные отложения льда отмечаются на передней кромке крыла, горизонтального оперения, на отдельных частях фюзеляжа, остеклении кабины летчика, на антеннах, приемных трубках аэронавигационных приборов. На поршневых самолетах, кроме того, обледеневают винты, карбюраторы, а на реактивных самолетах с турбореактивными двигателями - входные кромки диффузоров, защитные сетки воздухозаборников, лопатки направляющего аппарата и первой ступени осевого компрессора. Обледенению подвергается и вооружение самолета (стволы пушек и пулеметов). При сильном обледенении самолета происходит значительное ухудшение летных характеристик самолета. При горизонтальной скорости полета 700-800 км/ч обледенение самолета наблюдается редко, т. к. вследствие кинетического нагрева температура поверхности самолета обычно выше 0° С.
(обратно)78
Имеется ввиду кресло командира экипажа, находящееся в левой части кабины.
(обратно)79
Вводиться - получать статус для работы на той или иной должности. Обычно говорят о получении звания командира воздушного судна.
(обратно)80
СПУ - самолетное переговорное устройство - телефонное устройство, с помощью которого члены экипажа самолета ведут переговоры между собой во время полета.
(обратно)81
МСРП - магнитофонный самописец рабочих параметров - один из двух «черных ящиков» самолета.
(обратно)82
КВС - командир воздушного судна, командир экипажа.
(обратно)83
Енисейск - город в Красноярском крае.
(обратно)84
АНО - аэронавигационные огни - бортовые цветные электрофонари, обозначающие ночью габариты и направление полета самолета. Они могут быть постоянными и мигающими. Огни аэронавигационные состоят из трех световых точек: на левом полукрыле красного, на правом зеленого и на хвосте самолета белого цвета. Огни аэронавигационные используются так же, как кодовые огни для передачи некоторых сигналов ночью.
(обратно)85
ЦВЛЭК - Центральная врачебно-летная экспертная комиссия.
(обратно)86
КИИГА - Киевский Институт Инженеров Гражданской Авиации.
(обратно)87
РОЛР ГА - Руководство по обеспечению летной работы в гражданской авиации.
(обратно)88
Правое кресло в кабине занимает второй пилот.
(обратно)89
ИЛС - индикатор на лобовом стекле; индикация лобового стекла.
(обратно)90
ОСП - оптическая система посадки; РСП - радиолокационная система посадки.
(обратно)91
ОАО - объединенный авиаотряд. В СССР в состав авиаотряда входили различные подразделения, которые в настоящее время разбросаны между авиакомпаниями, аэрпортами, различными государственными структурами.
(обратно)92
ВПР (высота принятия решения) – минимальная высота, на которой должен быть начат уход на второй круг, если пилот не установил надежного визуального контакта с землей. Для самолета Ту-154 обычно – 60 м.
(обратно)93
ГосНИИ ГА - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.
(обратно)94
Артур Хейли, известный американский писатель, автор романов «Аэропорт», «Взлетно-посадочная полоса ноль-восемь» и других.
(обратно)95
Синоптические (погодные) карты - географические карты, на которых условными обозначениями наносятся данные о состоянии атмосферы Земли в определенный момент времени. Бывают фактические и прогностические, приземные и высотные, а также карты особых погодных явлений.
(обратно)96
ПОС - противообледенительная система.
(обратно)97
РП - руководитель полетов - главный диспетчер воздушного движения на аэродроме, указания которого обязательны для всех участников воздушного движения и лиц, обслуживающих полеты.
(обратно)98
РД - в данном случае радиограмма. Также расшифровывается как разгонная дорожка или реактивный двигатель.
(обратно)99
БАНО - бортовой аэронавигационный огонь.
(обратно)100
АУАСП (автомат углов атаки и сигнализации пеpегpузок) - комбинированный прибор, показывающий текущий угол атаки, критический угол атаки и вертикальную перегрузку.
(обратно)101
АТИС (Automatic Terminal Information Service, ATIS) - автоматизированная система, постоянно передающая в радиоэфир на установленной частоте (как правило, в УКВ-диапазоне) информацию о метеорологической ситуации в районе аэродрома и оперативную информацию, необходимую экипажу воздушного судна для планирования вылета и прилета.
Аббревиатура АТИС в России официально принята и используется во всех нормативных документах.
Использование АТИС позволяет снизить нагрузку на диспетчера, делая ненужной передачу одних и тех же сведений каждому новому экипажу в зоне его ответственности.
(обратно)102
НПП - в данном случае скорее всего наставление по производству полетов - документ, определяющий основные положения организации, подготовки и выполнения полетов на летательных аппаратах. Наставление по производству полетов определяет: классификацию полетов, обязанности летного состава и порядок допуска его к полетам, организацию полетов и руководство ими на сухопутных и морских аэродромах, общие правила подготовки и выполнения всех видов полетов и перелетов, а также порядок их обеспечения.
Аббревиатура также расшифровывается как «навигационно-пилотажный прибор»
(обратно)


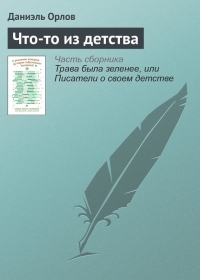
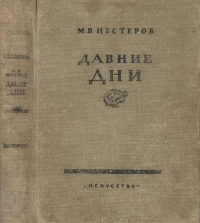



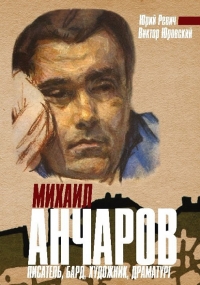
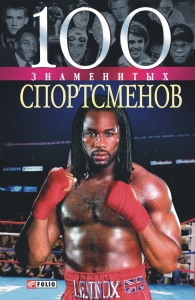
Комментарии к книге «Летные дневники», Василий Васильевич Ершов
Всего 0 комментариев