Павел Михайлович Михайлов 10000 часов в воздухе
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Более двадцати лет прошло с начала Великой Отечественной войны. Многое изменилось в мире с того времени. Но чем дальше уходят в историю суровые годы войны, тем полнее раскрывается великий подвиг советского народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть борьбы с гитлеровскими полчищами. В первых рядах бойцов страны социализма были наши славные авиаторы.
Вышло немало хороших книг о том, как беззаветно сражались лётчики истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации. О боевых делах пилотов гражданской авиации, летавших в грозном фронтовом небе на безоружных транспортных машинах, доставлявших партизанам боеприпасы, медикаменты, вывозивших под огнём противника раненых и больных, написано до обидного мало. Книга Героя Советского Союза Павла Михайловича Михайлова «10000 часов в воздухе» в известной степени восполняет этот пробел в нашей литературе о минувшей войне. Автор её — боевой лётчик, все военные годы не выпускавший из рук штурвала транспортного самолёта, — был желанным вестником Большой земли в партизанских отрядах, действовавших и в Пинских болотах, и в горах Югославии. Он скрывался в облаках от вражеских истребителей, ускользая от зенитного огня, ходил бреющим полётом над сушей и морем, во тьме ночной разыскивал партизанские костры и сажал самолёт на крошечных «пятачках». Обо всём этом он рассказывает просто, доходчиво и очень интересно. П. Михайлов повествует и о боевых эпизодах, участниками которых были его соратники — замечательные советские лётчики Таран, Шорников, Еромасов, Езерский, Павлов и другие. Это придает книге объёмность, расширяет рамки воспоминаний.
И в годы войны, и в мирные дни П. Михайлов — в авангарде советских гражданских пилотов. Он одним из первых лётчиков освоил полеты на новых турбореактивных самолётах, участвовал во многих дальних перелётах и в пределах страны и за её рубежи, в том числе и за океан. Обладая острым взглядом, большой наблюдательностью, автор даёт яркие зарисовки лётных будней и в воздухе, и на аэродромах городов, которые ему довелось посетить, рисует запоминающиеся портреты товарищей по авиационной профессии.
Листая страницы этой книги, читатель узнает, как «наживались» советскими пилотами миллионы километров воздушного пути (у самого Михайлова налёт приближается к 4 миллионам), как нелегко было проводить тысячи часов в воздухе. Читатель поймет, что путь авиатора — это не лёгкий «путь к славе», а дело, которое требует мужества, настойчивости и упорного труда. И думается, что этот правдивый рассказ о боевых и трудовых буднях советских лётчиков пробудит у кого-нибудь из юных читателей этой книги желание вступить в ряды покорителей воздушных и, может быть, межпланетных просторов.
Книга «10 000 часов в воздухе» — не роман и не повесть, а документальные записки о недавнем прошлом и настоящем. Это второе, исправленное и дополненное, издание популярной книги известного лётчика. Вероятно, её можно было бы и назвать иначе — ведь Михайлов провел в небе уже около 12 000 часов.
Со времени выхода в свет первого издания «10 000 часов в воздухе» прошло пять лет. Жизнь не стояла эти годы на месте, и П. Михайлов много летал, встречался с известными людьми, побывал в новых странах. Вырос за эти годы наш Аэрофлот, появились в советском небе новые гигантские воздушные корабли. Не рассказать обо всём этом было просто нельзя. И автор правильно сделал, что переработал свою книгу, кое-что сократил и многое добавил. Она стала более злободневной, познавательной, интересной.
Герой Советского Союза М. ВОДОПЬЯНОВ
К ШТУРВАЛУ САМОЛЁТА
Земляки встречаются в небе
… Этот телефонный звонок в полдень 12 апреля 1961 года меня не удивил. В то памятное в мировой истории утро, когда человек прорвался в космос, советские люди, гордые и счастливые тем, что первым космонавтом оказался их соотечественник, поздравляли друг друга, обнимались и целовались на улице, звонили друзьям.
— Поздравляю тебя с первым космическим полётом! — сказал в трубку товарищ.
— Спасибо! И тебя тоже!
— Но тебя вдвойне!
— Почему? — спросил я, не понимая, в чём дело.
— Потому, что майор Гагарин — твой земляк, он тоже смоленский, из Гжатска…
Газеты, радио, телевидение сообщали всё новые и новые подробности полёта и биографии космонавта, ставшего первым Героем Вселенной. И чем больше узнавали мы их, тем больше восхищались Гагариным, тем горячей становилось желание увидеть его, поговорить с ним.
«Хорошо бы встретиться с земляком, — думал я. — Но куда уж там, он так занят… Нас много, а он один…»
В канун первомайских праздников я собирался в очередной полёт в Прагу. Вечером жена рассказала, что слышала сообщение по радио о том, что Юрий Гагарин по приглашению чехословацкого правительства завтра летит в Прагу.
— Может быть, с тобой?
— При чём тут я? Мы будем выполнять обычный рейс по расписанию, а Гагарин, видимо, полетит специальным самолётом.
Хоть я и не надеялся на долгожданную, встречу, но всё-таки екнуло сердце: а вдруг!..
На аэродроме было заметно особое оживление. Около аэровокзала много корреспондентов. Среди собравшихся узнаю знакомого генерала, одного из первых Героев Советского Союза, Николая Петровича Каманина. Говорят, он руководит отрядом космонавтов.
Меня зовут как командира экипажа самолёта «ТУ-104» представиться Ю. А. Гагарину. Я жму ему руку и смотрю на его молодое, красивое, типично русское лицо, в котором отражаются одновременно железная воля и душевная мягкость, сила и одухотворенность, скромность и жизнерадостность. Таким я его и представлял — Гагарин оказался необычайно славным парнем.
Самолёт переполнен. С нами летят студенты из ОАР — довольно шумный народ, не менее экспансивные туристы из Южной Америки, итальянцы, французы, а также группа советских граждан, направлявшихся в Италию.
Все узнали, что их спутник — сегодня самый знаменитый человек на Земле. Ещё не успели мы полностью набрать заданную высоту, как чуть ли не все пассажиры бросились к носу самолёта, чтобы приветствовать Юрия Алексеевича, получить от него автограф, запечатлеть его на фотоплёнке.
Подумать только, как повезло пассажирам самолёта № 42389, рейса № 05, — встретиться с космонавтом, да ещё на высоте в девять тысяч метров!
Шум, гам, все сгрудились в первом салоне, где сидел космонавт. Может быть нарушена центровка самолёта. Пришлось, в целях безопасности, наводить порядок — настойчиво просить пассажиров занять свои места. Вот пробивается вперёд коренастый корреспондент чехословацкой газеты «Руде право». Он спешит сделать снимки: ведь рейс, соединяющий две столицы, — Москву и Прагу, длится немногим больше двух часов.
Надо что-то делать. Выход найден! Приглашаю Гагарина в пилотскую кабину и захлопываю дверь.
И здесь ему нет покоя. Молодой ещё лётчик Владимир Александрович Нефёдов не то в шутку, не то всерьёз спрашивает, как ему записаться в космонавты.
— Сколько вам лет?
— Тридцать два.
— Парень вы вроде крепкий, и ростом подходящий, не выше меня… Пишите заявление! — в тон ему отвечает Гагарин и фотографируется на память с будущим космонавтом.
Штурман допытывается, не нарушал ли воздушные пространства разных государств космический корабль «Восток», пересекая все земные границы мира.
— Думаю, что нет, — улыбается Гагарин. — Воздушное пространство по международным правилам считается до высоты полёта артиллерийского снаряда. Я летел раз в тридцать выше, чем идёт «ТУ-104», а во сколько раз выше снаряда — и сказать не могу. Мне довелось облететь земной шар без всяких разрешений и виз, но за границу по приглашению направляюсь впервые. И, представьте себе, волнуюсь даже больше, чем во время космического полёта.
Я заметил, каким взглядом поглядел Гагарин на приборную доску, и, как лётчик, сразу понял его. Каждому пилоту хочется поближе познакомиться с новой машиной.
Я предложил Гагарину правое кресло пилота. Пусть покрутит штурвал «ТУ-104», хотя бы на пять минут почувствует себя хозяином воздушного корабля, а не пассажиром.
По правилам мне этого делать не следовало. Но я подумал о том, что риска нет никакого: пилот за левым командирским штурвалом сидел, мог контролировать каждое движение, каждый поворот и если бы понадобилось, то в то же мгновение поправить его. Но этого делать не пришлось.
Гагарин внимательно следил за приборами, четко реагировал на их показания, строго вёл «ТУ-104» по курсу, на заданной высоте. Словом, чувствовалось, что сидит за штурвалом настоящий лётчик.
Вскоре ему пришлось освободить пилотское кресло.
— Вас вызывает пражское радио, — позвал Гагарина наш бортрадист.
Юрий Алексеевич подошёл к аппарату, пристегнул ларингофон, надел наушники. Он тепло приветствовал чехословацких радиослушателей и обстоятельно отвечал на вопросы журналистов из Праги, которые вели это необычное интервью с космонавтом, находившимся ни на земле, ни в космосе. Мы шли на высоте девять тысяч метров.
Я спросил, как ему понравился наш корабль.
— Вы, надеюсь, не обидитесь, — сказал он мне, улыбаясь, — ракета всё-таки лучше, чем любой самый хороший реактивный самолёт.
Конечно, я не обиделся.
Путь нашего корабля лежал над родной и милой нам обоим Смоленщиной, где прошло наше детство. Я показал Юрию Алексеевичу Гжатск. Теперь этот город на Смоленской земле стал знаменит на весь мир, как родина первого космонавта! Каждый поезд останавливается здесь на 5 минут!
— У нас много знаменитых земляков! — заметил Гагарин.
— Конечно, — подхватил я. — Вон, видите, впереди Волочёк — бывшее имение героя Севастопольской обороны адмирала Нахимова. Чуть подальше, в излучине Днепра, в поместье Каменец жил когда-то фельдмаршал Кутузов. В двадцати километрах отсюда — имение, где писатель Грибоедов провёл свою юность…
Всё мелькало быстро-быстро, как на киноэкране. Ведь мы шли со скоростью 15 километров в минуту. Если для меня, не раз пролетавшего по этой трассе, всё было знакомо в подробностях, то для Гагарина всё было ново и интересно.
Мы вспоминали один за другим славных сынов Смоленщины — первого русского авиатора Михаила Ефимова, советского стратонавта Георгия Прокофьева, творца вертолёта академика Бориса Юрьева и многих других.
— Вот здорово! — воскликнул Гагарин. — Крылатые земляки встретились в воздухе, и не где-нибудь, а над родными местами!
Не утерпел я и показал ему с высоты и маленькую деревушку Гришково, где я родился в 1917 году.
Деревенька наша, расположенная на берегу Днепра, состояла всего-навсего из двух улиц: продольной и поперечной. Если на них посмотреть с воздуха, они напоминают букву «Т» — посадочный знак, так хорошо знакомый каждому лётчику. Приземляясь на аэродроме где-нибудь в чужих, далёких краях и глядя на это «Т», я всякий раз вижу перед собой родное Гришково.
…Не могу не вспомнить ещё одного смоленского земляка — замечательного советского поэта Александра Твардовского. Он писал как-то, что у большинства людей чувство родины в обширном смысле — родной страны, отчизны — дополняется ещё чувством родины малой, родины в смысле родных мест, отчих краёв, района, города или деревушки. «Эта малая родина, — замечал поэт, — со своим особым обликом, со своей — пусть самой скромной и непритязательной — красой предстаёт человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой родине, что обнимет все малые и — в великом целом своём — для всех одна».
На «малой» родине
Детство! Счастливое и безмятежное или трудное и суровое, оно одинаково дорого нам.
Первые воспоминания о себе, смутные и невесёлые, — это и воспоминания об отце. В моей памяти отец навсегда остался человеком ласковым, добрым, но очень больным. Помню такую картину.
Июль. Яркое солнечное утро. Мать ушла в поле, меня оставила с отцом.
— Паша, ты бы мне горошку нарвал в огороде, — слышу слабый голос отца. Он лежит на кровати бледный, измождённый.
Быстро бегу на огород, отыскиваю грядку с горохом и тащу отцу горсть сладких зелёных стручков.
Он ест их с наслаждением и просит:
— Поешь и ты со мною, сынок!..
Знал отец, что в семье нет других лакомств ни для него, тяжелобольного, ни для нас, ребят…
Подробнее о своём отце — труженике и неудачнике — я узнал уже из рассказов матери. Мне ещё и четырёх лет не исполнилось, когда он умер.
Одна заветная мечта была у отца: вырваться из нищеты, «выбиться в люди». Не мог прокормить семью крохотный клочок земли, который принадлежал нам до революции. И каждый год, едва заканчивались полевые работы и был собран скудный урожай, отец вместе с дедом Захаром на всю зиму уходили в Петербург — тогдашнюю столицу Российской империи. Там они нанимались к подрядчикам на строительные работы.
Не нравилось отцу в городе, манили его к себе родные поля. И, как только наступала весна, он возвращался обратно в Гришково.
После Октября сбылась заветная мечта отца: прирезали нам земли, и отец перестал уходить в город на заработки. Все силы отдавал он теперь своему крестьянскому хозяйству. Но сил уже оставалось мало. Нужда и тяжёлый труд свалили его раньше времени.
После смерти отца все заботы о нас, детях, о хозяйстве легли на плечи матери. Нелегко ей, бедной, приходилось в ту пору. Чтобы свести концы с концами, она не только работала от зари до зари на своём поле, но ещё нанималась на подёнщину. Тут и на мою долю выпала забота. Я должен был помогать матери — нянчить младшую сестрёнку Шуру. Конечно, присмотреть за ребёнком — труд небольшой. Тяжелее было другое — смотреть, как беззаботно носятся по деревне мои сверстники. Вот так бы и помчался вслед за ними! Да разве бросишь Шурку!..
Первой нашей ребячьей забавой были игры на реке. Летом мы то и дело бегали к Днепру: купались, удили рыбу. Зимой же целыми днями носились по звонкому, гладкому льду, забывая обо всём на свете. Настоящих коньков ни у кого из нас и в помине не было. О них мы только могли мечтать. Но и на самодельных «снегурках» — лаптях с намоченной и подмороженной подошвой — выделывали такие трюки, которые могли бы удивить и чемпиона фигурного катания. Позднее я смастерил себе более удобные коньки. Сухое берёзовое полено разрезал вдоль, обтесал топором, остругал ножом, а скользящую поверхность отшлифовал стеклом так, что блестела не хуже зеркала. Получились коньки — ставь хоть рядом со стальными, фабричными. Лихо я катался на них. Ребята завидовали. Но один раз «снегурки» крепко подвели меня!
На самой середине Днепра у нашей деревни течение было такое сильное, что река здесь не замерзала даже в самые лютые морозы. Молодечеством у нас, ребят, считалось подкатить с разгона к самой полынье, круто развернуться и нестись обратно к берегу. Гурьбой, по команде, соскользнули мы однажды с крутого берега и помчали к середине реки. Одним рывком я вырвался вперёд. Дух захватывало — нёсся стрелой. Но у самой воды коньки забуксовали. Не успел и опомниться, как кромка льда подо мной треснула и меня понесло под лёд…
Плавал я, как и все наши деревенские ребята, ловко. Заработав изо всех сил руками и ногами, я быстро вынырнул из воды, уцепившись за кромку льда. Но выкарабкаться наверх было трудно, течением снова уносило под лёд. Помню, как я отчаянно барахтался и кричал. К счастью, товарищи мои не растерялись. Цепочкой, ухватившись друг за друга, разлеглись они по льду до самой воды. Передний протянул мне конец шарфа. Крепко держась за него, я подтянулся из последних сил и выполз на крепкий лёд.
Одежда на мне обледенела. От холода и испуга зуб на зуб не попадал.
Стремглав кинулся я к нашему школьному сторожу, доброму деду Трофиму. Старик только ахнул, когда увидел меня, и, раздев, тут же загнал отогреваться на печь.
Долго я пробыл у деда Трофима. Домой пришёл лишь под вечер как ни в чём не бывало. Матери не оказалось дома: она в тот день работала у Ковалдиных. Эти богачи у нас чуть ли не помещиками считались: имели много земли, большой сад, держали несколько коров и сытых коней. На посев и уборку нанимали батраков. Мать моя ходила к Ковалдиным на подённую работу: мыла полы, таскала воду, поила скотину.
Иногда мать брала меня с собой. Я видел, как живут эти, первые в округе богатеи — совсем не так, как большинство гришковцев. У нас, например, сплошь да рядом хлеба не бывало, а у Ковалдиных постоянно пекли вкусные пироги. «Почему же у Ковалдиных, — думал я, — пироги и в будний день не хотят есть, а для нас они даже в праздники — лакомство?»
Много новых мыслей вызывали и наши деревенские сходки. Правда, с этих сходок взрослые нас гоняли, но мы знали, что разговоры о том, что пора избавиться от кулацкого засилья, в деревне в последнее время раздавались всё громче. Как и всюду в стране, в жизни нашего Гришкова назревал великий перелом. После Октябрьской революции между крестьянами разделили помещичьи земли, но кулаки-богатеи всё ещё оставались в силе, и деревенская беднота во многом по-прежнему зависела от них. Лишь в 1924 году у нас произошёл новый передел земли — землеустройство, как говорили тогда. Кулаков прижали. Землю распределили по количеству едоков в семье.
Я становлюсь взрослым
Моей матери досталось целых пять десятин земли.
Большое это было счастье для семьи, но я, признаться, особенной радости не чувствовал, потому что с этой поры и мне пришлось стать настоящим работником. На подённые работы мать перестала ходить — времени не хватало, чтобы со своим хозяйством справиться: в семье, кроме матери, не было ни одного взрослого работника. Кто жил прежде в деревне, тот знает, как трудно без мужских рук переделать тяжёлую крестьянскую работу.
С ранней весны и до поздней осени, от зари и до зари, работали все мы от мала до велика в поле. Вместе с матерью и сёстрами трудился и я. Все приходилось делать; и коней водил на пахоте, и сено косил, и копнил, и снопы вязал, и картофель копал, и лён теребил…
Стал я с восьми лет настоящим помощником в семье. Читаешь теперь некрасовское стихотворение «Мужичок с ноготок» и вспоминаешь своё нелёгкое детство.
И все же работа в хозяйстве, заботы по дому не убивали в нас, ребятах, своё, живое, задорное.
Во мне это мальчишеское начало было так же живуче, как и у тех моих сверстников, которым не надо было слишком много трудиться. В то время как я работал, многие мои товарищи беззаботно играли. Тянуло меня неудержимо к ним, но я понимал — нужно помогать матери.
Выход был всё же найден — мать стала мне давать задание «на урок»: столько-то связать снопов или такую-то полоску прополоть. Выполнишь задание — свободен! Выполнять «урок» помогали мне мои дружки. Самый закадычный из них — Митька — стал председателем своеобразной ребячьей «артели взаимопомощи». По его зову ребята прибегали помогать и мне и другим, у кого оказывалось много дел по хозяйству. Дружно, коллективом принимались за дело, а потом все вместе отправлялись к Днепру.
После окончания полевых работ, когда весь хлеб был смолочен, свободного времени становилось много. Хорошо, если осень выдастся погожая. А как пойдут дожди, слякоть, забьёмся, бывало, по избам и сидим. Не очень-то разгуляешься по лужам в лаптишках! В такие тоскливые дни каждый из ребят придумывал для себя какое-нибудь занятие. Я пристрастился к лепке, прельщали меня на ярмарке ярко раскрашенные глиняные игрушки. Часами просиживал я у окна, дожидаясь хорошей погоды, и лепил, лепил из глины всяких петушков, лошадок и даже целые дома с колоннами, какие видел на декорациях ярмарочных балаганов.
Единственным ценителем моего «искусства» была моя младшая сестрёнка Шура. Только я за глину, а она тут как тут. Высунув от восторга язык, сидит и с восхищением наблюдает за работой, не смея пальчиком прикоснуться к моему глиняному богатству.
Позднее это искусство лепки не раз выручало меня. Но об этом я ещё расскажу.
Лепку вскоре заменило другое увлечение. Как-то наш мирской пастушонок Петя подарил мне нож, сделанный из обломка косы. По тем временам в нашей глуши это было целым состоянием. Полпуда ржи надо было отдать за такой нож. Счастливый обладатель этого бесценного инструмента, я начал трудиться над обрубками дерева. Сначала получались не совсем гладкие кубики, ружья и кинжалы. Потом дело пошло. Начали выходить довольно занятные и сложные игрушки: сани, телеги, мельницы с движущимися крыльями. Однажды даже удалось вырезать миниатюрную льномялку со станиной, зубчатыми валами и ручкой.
Резьба по дереву — нелёгкое занятие. Руки вечно в порезах, ссадинах. Зато как же я гордился, когда моим мастерством любовались не только сверстники, но даже взрослые. Я так увлёкся резьбой, что и в хорошую погоду перестал выходить на улицу. За эту привязанность к художеству дружки дали мне обидную кличку: «тихоня». Задетый за живое, я забросил свой нож и снова проводил целые дни на улице. Игра в снежки, катание с горки, коньки опять захватили меня. Это была последняя моя вольная зима. Весной и летом меня ждала работа, а осенью я пошел в школу.
За партой
Первый школьный день памятен каждому. Для меня этот день наступил внезапно.
Разговоры о школе в семье велись задолго до того, как я пошел учиться. Когда мне исполнилось восемь лет, односельчане говорили матери: «Пора тебе Пашку в школу посылать». Но мать к этим советам отнеслась безразлично. Она считала, что для крестьянского труда грамота ни к чему. Землю дали — ну и трудись на ней, не жалея рук. Так рассуждали многие в нашей деревне. Ведь особой грамотности для сельскохозяйственных работ в то время и не требовалось. Мать говорила, что школа будет лишь отрывать от дела. Так она в том году меня в школу и не пустила.
— А за Шурой кто присмотрит без тебя? — сердито отрезала она под конец.
Учиться мне хотелось. Некоторые мои товарищи ещё годом раньше отправились в школу. С завистью смотрел я, как они листают страницы букваря, как бойко читают по слогам.
Мне уже шёл девятый год. Я настаивал:
— Пойду учиться!
Поддержал меня наш родственник дядя Вася. После долгих уговоров мать наконец сдалась. Однако потребовала, чтобы все свои обязанности по хозяйству и дому я выполнял и впредь.
Всё лето работал я с матерью в поле. За несколько дней до начала занятий дядя Вася торжественно вручил мне свёрток. В нем были букварь, тетрадь, ручка с пёрышком. Как я обрадовался этому подарку!
1 сентября мать и старшие сёстры с рассветом уехали в поле. Я накормил Шуру, прибрал в избе и спрятал подальше спички — сестрёнка оставалась дома одна.
Захватив тетрадь и букварь, я вышел из избы и уселся на завалинке поджидать своего дружка Митьку. Он тоже в этом году впервые шёл в школу. Накануне мы условились с ним идти вместе.
Стояло ласковое утро золотой смоленской осени. Солнце поднялось, пригрело землю, и я с наслаждением ворошил босыми ногами тёплую, бархатистую пыль. В деревне было совсем тихо. Только глухие мерные удары доносились издалека: где-то на току цепами молотили овёс. На улицах не было ни души. Взрослые, радуясь погожему дню, выехали в поле. Ребят, обычно с раннего утра носившихся ватагами по улицам, сегодня не было слышно.
Наконец показался Митька. Этот завзятый озорник сейчас шагал степенно и важно. Постоянно вихрастый и растрёпанный, сегодня он выглядел по-иному. Всё на нём было аккуратно выстирано, выутюжено и заштопано. За плечами висела новая холщовая сумка. Подойдя ближе, Митька критически оглядел меня с головы до ног:
— А где же твоя сумка?
Сумки у меня не было. Подошли ещё двое наших дружков. Они тоже выглядели празднично. Оба неодобрительно покачали головами, заметив, что я одет кое-как. Да, первый школьный день застал меня врасплох!
— Пошли, — строго сказал Митька.
И мы зашагали к школе.
У небольшого школьного здания было шумно. Кроме наших деревенских ребят, здесь собрались ученики с Заречья, так назывались у нас сёла, расположенные по другой стороне Днепра. С зареченскими мы, гришковцы, обычно враждовали, но сегодня всё было мирно.
Школьный сторож дед Трофим прозвонил в колокольчик, и мы разошлись по классным комнатам. Таких комнат в школе было всего две, и в каждой из них одновременно занималось по два класса: первый и третий, второй и четвёртый.
В светлом, но тесном классе, куда мы вошли, стояло два ряда парт. Первый, что поближе к двери, занимали третьеклассники; во втором, у окон, расселись мы, новички. Я, конечно, уселся рядом с Митей. Над столом учителя, на стене, под стеклом, висел портрет Ленина в траурной рамке: тогда ещё и двух лет не прошло, как умер Владимир Ильич.
Вошла наша учительница Лидия Ивановна. Третьеклассники дружно встали и ответили на её приветствие. Вразброд за ними потянулись и мы.
Учительница обратилась к нам, первоклассникам. Она поздравила нас с первым днём учебы, потом стала рассказывать о Владимире Ильиче, о том, что у нас в Советской стране грамота нужна каждому.
Говорила Лидия Ивановна просто и понятно. Слушали мы внимательно. Затем она задала третьеклассникам арифметическую задачу и, пока те её решали, снова занялась нами. Лидия Ивановна показала, как садиться за парту, объяснила, как правильно держать карандаш, и мы начали писать палочки.
— Твоя тетрадь не годится, — сказала Лидия Ивановна и дала мне другую — в косую линейку, объяснив ещё раз, как надо держать карандаш.
Сначала палочки никак не давались мне. Мои руки легко справлялись с глиной для лепки, с ножом для вырезания. Но вот тонким карандашом пальцы никак не могли управлять. Пыхтя от напряжения и беспрерывно кося глазами на Митину тетрадь, неумело выводил я эти заколдованные палочки.
Учиться было интересно, особенно складывать из букв слоги, а из слогов — целые слова…
Но нелегко мне было в школьные годы. Только усядешься за уроки, раздается голос матери:
«Пашка, пойди принеси воды!»
«Павел, пора корову встречать!»
«Брось, сынок, свой букварь, поиграй с Шурой. Или не слышишь, что девчонка плачем исходит?»
Урывками, между делом выполнял я домашние задания, старался не отставать от товарищей. Особенно трудно приходилось весной и осенью, когда полно дел и в поле и в огороде.
Так, едва успевая справляться с уроками и делами по дому, я тянул все четыре года начальной школы.
Учительницу свою я крепко полюбил. Она была справедливой, заботилась о нас, своих учениках. Готовишь дома уроки и как о самой лучшей награде мечтаешь об одобрительной улыбке Лидии Ивановны.
Дядя Вася
Увы, домашние задания я выполнял далеко не блестяще. Бьёшься, бьёшься над какой-нибудь каверзной задачей, а спросить некого. Хорошо ещё, если заглянет дядя Вася. Он хоть изредка, но помогал мне в арифметике.
Потому ли, что я рос без отца, или потому, что дядя Вася очень любил меня, я особенно привязался к нему — самому близкому после мамы человеку. В моих глазах он был героем.
Сколько раз я любовался именными часами, подаренными дяде Васе — Василию Алексеевичу Мамонову — чуть ли не самим маршалом Блюхером, под командованием которого дядя бил «колчаков» (так он называл белогвардейцев). Рассказывая о прошлых боях, дядя Вася приводил всё новые и новые подробности, вспоминал множество боевых подвигов красных бойцов, плохо обутых и одетых, часто голодных, но всегда крепких духом. О себе дядя говорил мало — он был человеком очень скромным.
Из рассказов дяди Васи один мне запомнился особо.
Зимой 1919 года красноармейский полк, в котором он служил, держал фронт в тех местах, где дядя в юности работал у подрядчика-лесозаготовителя.
Командование части знало, что дяде Васе хорошо знакомы здешние края, и решило послать его в ближайшую деревню на разведку, узнать, не заняли ли её белые. На случай встречи с белогвардейцами дядя поехал в крестьянской одежде; вместо винтовки взял с собой плохонькую двустволку да топор, припасённый будто бы для рубки дров.
Ехать пришлось в ночь, лесом. Вначале полковая лошадка рысила по лесной дороге, затем сбавила шаг и, наконец, совсем остановилась, стала тревожно фыркать, перебирать ногами, бить копытами по снегу. Вдали показались огоньки; попарно светящиеся точки всё приближались. На освещённом лунным светом снегу было видно, как стая волков торопится наперерез всаднику.
Помощи ждать было неоткуда. Конь вздыбился, дядя Вася еле удержался на нём. Когда волки подошли совсем близко, лошадь стала как вкопанная и, согнув шею, приготовилась к защите. Дядя Вася взвёл оба курка. Разъярённые хищники с ходу кинулись на лошадь и всадника. Дядя выстрелил в упор, уложив наповал матёрого зверя, пытавшегося схватить коня за горло. В это время два других крупных волка впились клыками в ногу дяди и стащили его с лошади.
Сильная боль, однако, не лишила его самообладания. Прикладом ружья он начал отбиваться от наседавших зверей: одному раскроил череп, а другому ловко угодил в зубы. Очумевший от боли волк с воем закружился на месте, будто стараясь поймать свой собственный хвост. Лошадь между тем яростными взмахами подкованных ног тоже уложила одного волка. Дядя выхватил из-за пояса топор — и ещё один лесной разбойник свалился на землю. Остальные бросились врассыпную. У дяди, по его словам, велико было искушение перезарядить двустволку и послать вдогонку волкам ещё парочку пуль, да побоялся выстрелами привлечь внимание белых.
Перевязав кое-как ногу, дядя добрался до той деревушки, куда был направлен в разведку. Беляков, к счастью, там не оказалось.
В части же полковой фельдшер, осмотрев рваные раны на дядиной ноге, только покачал головой.
— От беляков уберёгся, а на серяков напоролся, — сказал он. — Ну ничего, ещё плясать будешь!
— Я и сейчас поплясать не прочь, — шутил дядя Вася, заканчивая рассказ. И, подумав немного, добавил: — А растеряйся я в тот раз, и не слушать бы вам сегодня этой истории…
Дядя был человек смелый и волевой. В его рассказах не было ни тени бахвальства. Человек наблюдательный, он заметил, что я трусоват, боюсь темноты; с тех пор он в самые тёмные ночи начал таскать меня на рыбалку или брал с собой в лес. Он заготавливал брёвна для постройки избы и нарочно задерживался там до темноты. Когда на обратном пути он быстрыми шагами уходил далеко вперёд, я оставался один и бегом догонял дядю.
Но вот я смог доказать, что я не трус. Случай для этого вскоре представился. У нас в Гришкове повальным увлечением молодёжи были качели.
С завистью мы, ребятишки, наблюдали за отчаянными смельчаками. Раскачавшись и поднявшись высоко над перекладиной качели, они описывали полный круг. Дух захватывало, когда качающийся оказывался в «мёртвой точке», повиснув в воздухе головой вниз.
Я начал тренироваться на качелях по ночам, взлетая с каждым разом всё выше и выше. И вот настал день моего торжества. На глазах у собравшихся парней и своих сверстников я описал полную окружность в воздухе. Правда, зрители не знали, что, достигнув «мертвой точки», я едва не свалился с качелей. Дядя похвалил меня за смелость, но посоветовал больше таких проверок храбрости не делать.
Смеясь, он сказал:
— Вот если ты, Паша, будешь лётчиком, тогда петляй себе на здоровье! У авиаторов, говорят, такое дело «мёртвой петлей» называют.
Впрочем, дядя не мечтал видеть меня лётчиком. Ему больше хотелось, чтобы я стал инженером.
— Закончишь четыре класса, возьму тебя с собой в Москву, — обещал он. — Там и будешь учиться, пока инженером не станешь. А я на стройке работать буду.
Не суждено было ему увидеть меня ни инженером, ни лётчиком— несчастный случай унёс его от нас навсегда. Утром, спеша на работу, он садился в поезд на ходу и попал под колеса…
Первая профессия
Пастушество было первой из тех многих профессий, которые я перепробовал, прежде чем стать лётчиком.
В третьем и четвертом классах мне было особенно трудно учиться — ведь занятия я начинал каждый год с большим опозданием. Кормов у нас в деревне постоянно не хватало, поэтому крестьяне гоняли скот на пастбище до самого снегопада. В школе я появлялся не раньше конца октября, а то и вовсе в начале ноября.
Зато я чувствовал себя помощником в семье. Деньги, полученные мной за пастушество, становились всё большим подспорьем в нашем хозяйстве. Платили мне, помню, по рублю за корову в сезон и по полтиннику за телёнка или овцу. Кроме того, с хозяина каждой коровы причиталось пастухам в конце сезона по пуду ржи.
Мой пастушеский заработок особенно поддержал семью в тот год, когда на нас обрушились несчастья одно за другим: ураганом сорвало крышу с избы, побило градом рожь на нашей полосе, пала единственная корова.
Если бы в прежние времена столько бедствий сразу свалилось на крестьянскую семью, пойти бы ей по миру или попасть в кабалу к кулакам. Не то было теперь — районный Совет выдал нам денежную и семенную ссуду. На эти средства мы починили избу, пересеяли погибшую полосу. А на покупку коровы пошли мои пастушеские заработки.
Пасти скот не совсем простое занятие, как это может показаться со стороны. Рабочий день пастуха длится от зари до зари, к тому же от пастуха требуется сноровка, терпение. Без привычки, без зоркого глаза в этом деле не обойтись. Зазевайся только — и забредёт стадо куда попало: в лес, огород или на посев! Попробуй тогда пастух рассчитайся за потраву!
Но есть в пастушестве и свои прелести. Чуть забрезжит рассвет, бежишь по деревне, шлёпаешь босыми ногами по прохладной росе, трубишь в пастуший рог. Звучно разносится по деревне старинная солдатская мелодия:
По камням, по кустам Рассыпьтесь, молодцы, По два в ряд!..Не помню, кто научил меня этому бодрому мотиву, только полюбил я его крепко. Под знакомые звуки рожка сонные хозяйки торопились на скотные дворы, раскрывали ворота, выгоняли на улицу коров и овечек.
Стадо поступало в моё распоряжение, норовя, впрочем, в каждую удобную минуту «рассыпаться по камням, по кустам». Более ленивые коровы-лежебоки пытались тут же повернуть обратно к своим воротам. Тогда на помощь приходил мой верный спутник — задиристый и смышлёный пёс Лохмач.
Пастбища находились неподалеку от деревни, на берегу Днепра. Отлучиться с выгона нельзя было ни на минуту. И всё же свободное время находилось. Чего-чего только не успевал я переделать за долгие месяцы пастушества! И над учебниками часами просиживал, и книги разные читал. Удавалось даже рыбу половить. А иной раз наловишь лягушек да на эту приманку и таскаешь раков из реки. Наскучат книги — примусь корзинки из ивовых прутьев плести.
Едва я закончил сельскую школу, как меня определили на постоянную работу. Чтобы разделаться с долгами, которых у нас после всех несчастий накопилась уйма, мать вступила в артель. Эта артель разрабатывала ближний известковый карьер, обжигала известь в ямах и отвозила на кожевенный завод, в город Сычёвку. Вместе с матерью я стал работать в артели возчиком.
У нас, ребят, была озорная игра: набьём бутылку негашёной известью, зальём водой и, крепко закупорив, взрываем. Мы даже наловчились при помощи известковых бутылок глушить рыбу в Днепре. Бутылка разорвётся в воде, оглушённая рыба всплывает наверх — бери её голыми руками. Но за этот хищнический лов нам крепко доставалось от взрослых, и мы отказались от него.
Однажды наше баловство едва не закончилось катастрофой. Мой товарищ Митя, готовя снаряд, замешкался, и бутылка зашипела у него в руках. Насмерть перепугавшийся Митя швырнул бутылку от себя так, что она угодила под окна соседского дома. Опасаясь, как бы не случилось беды, я кинулся к шипящей бутылке и с силой отбросил её подальше от дома. Бутылка, не долетев до сугроба, куда я метил, взорвалась; осколком мне поранило ухо, а в одном из ближайших домов выбило стекла.
С того дня я прослыл героем среди ребят. Правда, они не знали, что этот поступок был совершён мной под впечатлением только что прочитанного рассказа о матросе Кошке — герое обороны Севастополя. Но вскоре об этом случае узнала наша учительница, и мы прекратили возню с бутылками — подействовал крепкий нагоняй Лидии Ивановны.
— Ты нос задрал! — пробирала она меня. — Думаешь — великое геройство совершил? Не понадобилось бы твоё «геройство», если бы вы не занимались глупыми, опасными играми. Ты свою храбрость для полезного дела лучше побереги.
Так впервые в жизни мне довелось услышать о разнице между бессмысленным ухарством и подлинным героизмом. Теперь, когда я возил известь в Сычёвку, мне и в голову не приходило развлекаться «известковой гранатой».
В Сычевку ездил я не один — с обозом. Шагая за санями и прислушиваясь к скрипу полозьев, я думал о своей судьбе. Не прельщала меня, конечно, ни профессия возчика, ни жизнь в Гришкове. Хотелось учиться. Но кто мне поможет в этом? И вот я отважился. Получил справку об окончании сельской школы и стал ждать: авось выпадет подходящий случай — снова поступлю учиться…
Когда подошла моя очередь везти в артельном обозе известь, я встал раньше всех, собрал свои документы, оседлал нашу лошадку Мушку и вместо Сычёвки помчался в районный центр Холм-Жирковский. Там была ближайшая к нам школа-семилетка. Хватиться меня дома не успели. К тому же я отправился не обычной проселочной дорогой, а пустынной тропкой, через лес, чтобы меня никто не перехватил:
Я разыскал директора Холм-Жирковской школы и обо всём рассказал ему:
— Учиться хочу — и буду учиться. Но жить мне негде. Ни одежды, ни обуви у меня нет, средств тоже никаких.
Директор выслушал меня и улыбнулся:
— Откуда ты взялся такой, что ничего у тебя нет?
Я вспыхнул.
Заметив это, он успокоил меня:
— А ты, друг, не очень смущайся! У нас для таких, как ты, неимущих, общежитие приготовлено. Постараемся помочь тебе… Да не благодари, — остановил он меня на слове «спасибо». — Я тут ни при чём. Советская власть о таких, как ты, заботится.
В тот же день я был зачислен в пятый класс. До начала учебного года оставалось ещё больше месяца, но домой я возвращался радостный: принят в семилетку!
Впереди меня ожидали ещё немалые трудности. Прежде всего на меня дружно напали сёстры: почему я неведомо куда угнал лошадь, как я смел срывать отправку извести в Сычёвку. Потом-то я узнал, что известь вместо меня отвёз дедушка Дмитрий, отец матери, — он жил в соседней деревне.
Матери дома не было. С тревогой ждал я её возвращения. А когда рассказал ей, что поступаю учиться, она поплакала немного и сказала:
— Один ты у нас мужик в семье. Трудно без тебя будет… но и без учёбы, как видно, нельзя… Что же делать, Павлуша?
Я успокоил мать как мог, обещал ей летом по-прежнему работать в хозяйстве, приходить домой не только в зимние и весенние каникулы, но и каждый выходной день.
Преодолённые препятствия
…Никогда не забуду 1 сентября 1929 года. Проснувшись на рассвете, я собрал наскоро небольшую котомку и отправился в Холм-Жирковский. Так я преодолел первое препятствие на пути к заветной цели.
Учиться здесь было гораздо легче, чем дома: никто не отрывал меня от занятий. Правда, и в общежитии не всегда было спокойно. Кое-кто из школьников увлекался невинной, но очень шумной игрой — боем подушками. Подушечные бои прекратились лишь после того, как озорники по ошибке угодили подушкой в голову заглянувшему в общежитие учителю математики.
— Окружности в воздухе практикуетесь чертить? — вздохнул учитель, старательно счищая налипший на костюм пух. — Посмотрим, как вы их завтра на доске начертите, — добавил он и, круто повернувшись, вышел из комнаты.
Директору школы учитель ничего не сказал об этом случае, но баловников на уроках гонял крепко.
Жилось ученикам в Холме совсем неплохо. Школьное общежитие было чем-то вроде нынешних интернатов, в нем мы и кормились. Кроме того, школа одевала и обувала учащихся. И всё же я постоянно нуждался. Тетради, ручки, карандаши, а главное — учебники приходилось покупать за свой счёт. Денег же у меня не было, и подрабатывать я не мог — каждый выходной день я обязан был приходить в Гришково, чтобы помогать домашним по хозяйству.
Когда положение, казалось, стало безвыходным, пришла в голову мысль: не попробовать ли лепить игрушки? В следующее же воскресенье я уселся за лепку и наготовил массу всякой всячины: свистулек, птиц, зверушек. Оставалось подумать, где их обжечь. Требовалась специальная печь. Каким-то образом дед уговорил гончара посадить мои изделия в свою печь.
А через неделю мы с дедом чуть свет отправились на холм-жирковский базар.
Протянув мне корзинку с обожжёнными свистульками, дед сказал:
— Возись ты сам с этой чепухой!
Я наотрез отказался: школа находилась неподалеку от рынка — меня мог увидеть любой из учеников или учителей. Дед махнул с досады рукой и высыпал содержимое корзины на прилавок. Взяв самого маленького петушка, он засвистел что было силы.
— Что свистишь, старый? — засмеялся подошедший к нам парень.
— А вот купи — засвистишь и ты! — ответил дед, протягивая ему важно надутого поросёнка. — Всего двугривенный за забаву!
Парень приложил игрушку к губам, свистнул и бросил деду монету.
К великому нашему удивлению, моя «чепуха» пошла бойко. Скоро корзина опустела, а в кармане у старика позвякивало порядочно монет. На базаре, как в весеннем саду, свистели и ребята и взрослые. Дед выручил за игрушки семнадцать рублей — большие по тем временам деньги. Из этой суммы я выделил часть денег деду, часть — матери, остальные взял себе на школьные расходы.
Торговля свистульками продолжалась довольно долгое время. Этого заработка хватало не только на мои школьные расходы — я поддерживал им мать и деда и даже позволил себе неслыханное расточительство: покупку коньков.
В семилетке я много занимался спортом: упражнялся на брусьях и трапеции, ходил на лыжах. Причем лыжи смастерил себе сам: все лето строгал их из осиновых плашек. Но коньки по-прежнему оставались для меня любимым спортом.
«Гончарно-коммерческую тайну» свою я тщательно скрывал от товарищей. Кажется, я умер бы от стыда, если бы школьные друзья и тем более учителя узнали об этом.
Я ведь старался в школе быть на хорошем счету, что всегда вызывало насмешку у той небольшой группы переростков, которые терроризировали Холм-Жирковскую семилетку. Эта хулиганская компания, состоявшая из второгодников и даже третьегодников, ни сама учиться не желала, ни другим не давала. Хулиганы постоянно бесчинствовали в школе и в общежитии: избивали хороших учеников, передовых комсомольцев. Доставалось от них и пионерам.
Однажды, когда я вечером сидел в общежитии за уроками, ко мне подошёл кто-то из драчунов и дёрнул за пионерский галстук:
— Стараешься! Больше других надо? Комиссаром хочешь заделаться?
«Комиссар» — была насмешливая кличка, которую кулаки в издёвку давали сельским активистам.
Я не стерпел и с размаху стукнул обидчика по физиономии книгой. В руке у хулигана сверкнул нож. Находившиеся в комнате ученики дружно накинулись на верзилу, отобрали у него финку, надавали тумаков и выставили за дверь.
После того как хулиганы, в большинстве своём кулацкие отпрыски, устроили засаду против комсомольских активистов, их изгнали из школы, а кое-кого и судили.
В семилетку я пришёл пионером. Первым пионерским поручением моим было распространение среди крестьян газет и журналов. Помню, с каким усердием ходил я по домам, предлагая крестьянам книги, газеты. Энергии приходилось расходовать на уговоры много — в ту пору мало кто читал книги. Но я не жалел времени, каждая даже самая маленькая удача всерьёз радовала меня.
На следующий год мне дали уже более сложное поручение — вести школу ликбеза в соседней деревне Тешенки, обучать взрослых крестьян началам грамоты и счёту.
Аккуратно, два раза в неделю, зимними вечерами я отправлялся к своим подопечным. Занятия мне, мальчишке, вести было нелегко: на уроке мои великовозрастные ученики ещё кое-как соблюдали порядок, слушались, но только кончались занятия — начинались пляски под гармонь, сыпались шутки, песни. Особенно озорничали девушки: затолкают в снежный сугроб, еле выберешься! Но я не обижался: знал, что делаю полезное дело. Чувство долга, ответственности за общественное поручение всё больше крепло во мне.
В конце 1931 года меня приняли в комсомол. Комсомольская организация часто отправляла молодёжь на помощь вновь возникшим колхозам. Чаще всего нас посылали теребить лён. Мы не чурались никакого задания — деревенская работа была нам хорошо знакома с детства, наша бригада всегда выполняла задание первой. И школа наша была прочно связана с деревней, с её людьми. Может быть, поэтому мы научились уважать труд других и сами работали охотно.
По окончании семилетки я решил год поработать в своём колхозе: хотелось и родному колхозу подсобить и денег заработать для семьи. В эту пору мне было всего шестнадцать лет, но в работе я не отставал от взрослых. Правление колхоза направило меня работать лесорубом. Машин в те годы деревня не имела, лесозаготовки велись вручную — пилой да топориком. По колено в снегу, в ветхой одежонке работали мы в лесу: валили деревья, распиливали, укладывали в штабеля. Нам бы современные электропилы да тракторы с мощными лебедками, какими пользуются нынешние лесорубы! За день, бывало, так наломаешься — ни рук, ни ног не чувствуешь.
В колхозе мне довелось работать и плотником, и на известковых карьерах. К началу следующей осени дела нашей семьи поправились. Смог и я купить себе первый, пусть скромный, но вполне добротный костюм. В нём-то я и направился в районный город Вязьму, поступать в педагогическое училище.
Провожая меня в дорогу, дед сказал на прощание:
— А дом свой все же не забывай. Ничего роднее дома у человека не бывает… О матери не тревожься — в случае чего, подсоблю ей. — Поцеловал меня и прослезился.
С попутным обозом впервые в жизни уезжал я далеко от родных.
Путёвка в небо
Вязьма после Гришкова и Холм-Жирковского показалась мне большим, шумным городом. Педагогическое училище помещалось в красивом белом трёхэтажном доме, окружённом садом. Здесь же находилось и общежитие. Но, чтобы получить право на бесплатное жильё, питание и небольшую стипендию, нужно было хорошо учиться. Понадобилось не одну ночь провести за книгой, чтобы сравняться с однокурсниками.
Не стану подробно рассказывать о нелёгких годах, проведённых в Вяземском педагогическом училище, о том, как я наконец приобрёл звание учителя. Однако и эта профессия не пришлась мне по душе. Ещё за год до окончания училища у меня закралось сомнение: в педагогике ли моё истинное призвание? Как раз в это время многие из моих новых товарищей по училищу уходили в военные школы. Соблазнили они и меня. Перед тем как ехать к себе в деревню на каникулы, я зашел в райком комсомола и попросил направить меня в Ленинградское военно-морское училище имени Фрунзе. Из всех военных специальностей профессия моряка казалась мне наиболее заманчивой. Море, морская служба, плавание в дальние страны… Что может быть интереснее?
В Ленинград я поехал, но в военно-морское училище не попал: не приняли без законченного среднего образования. Пришлось возвращаться в Вязьму, заканчивать педучилище.
Прошёл год. Ещё не улеглось желание стать моряком, как я загорелся новой мечтой. Я твердо решил стать полярником, зимовщиком… Увы, вместо Арктики по окончании училища меня ждало назначение в родной Холм-Жирковский район, в деревню Маскино.
Но мечта объездить весь мир, повидать дальние края, о которых приходилось читать только в книжках, по-прежнему не давала мне покоя.
Весной 1938 года меня перевели на инспекторскую работу, а затем вызвали в Смоленск на курсы усовершенствования учителей. Здесь, в областном отделе народного образования, я встретился с девушкой — инструктором областного комитета комсомола. Она незадолго до того приезжала к нам в район проверять работу школы и знала меня. Эта встреча сыграла решающую роль в моей жизни.
Инструктор рассказала, что идёт набор комсомольцев в школы Гражданского воздушного флота. Она так интересно описала профессию лётчика, что я бесповоротно решил стать пилотом. Правда, в глубине души я сомневался, окажусь ли пригодным для такого дела. Но медицинская комиссия нашла меня вполне здоровым, и я вместе с другими земляками-комсомольцами получил путевку в Тамбовскую лётную школу Гражданского воздушного флота.
В те годы комсомол шефствовал над Военно-Морским и Воздушным Флотами. В авиационную школу мы ехали организованно, по комсомольским путевкам. В Тамбове нас встретили тепло.
Занятия на первых порах были только теоретические. С первых же дней и администрация школы, и комсомольская организация были вынуждены уделять особое внимание дисциплине. У многих из нас сложилось ложное представление об образе и поведении лётчика. Некоторые рассуждали: раз профессия авиатора связана с постоянным риском для жизни, то и на земле лётчику положено быть бесшабашным ухарем.
Получив увольнительную записку, многие курсанты шли в город и там напивались. При этом держали себя вызывающе, по принципу «знай наших», мы, мол, не кто-нибудь — лётчики!..
Пришлось крепко взяться за этих «героев алкогольного приземления». Каждый курсант должен был понять, что настоящему советскому лётчику больше чем кому бы то ни было не к лицу лихачество.
Соседом по койке был мой земляк Володя Павлов. С самых первых дней Володя показался нам чудесным парнем: открытым, смелым, честным. И вдруг неожиданно для всех нас загрустил, стал груб с товарищами, дерзок с начальством, невнимателен на занятиях. Последнее обстоятельство особенно поразило нас: занятия нам, курсантам, казались очень увлекательными. Мы изучали основы теории полёта, материальную часть самолёта и в первую очередь мотор. Аттестат зрелости был у каждого. Для тех, кто хорошо усвоил курс физики, особенно раздел механики, первые теоретические занятия в школе давались легко, вместе с тем всё было ново и интересно. А вот Володя Павлов неожиданно задурил. Как-то раз не поднялся вместе со всеми утром, не явился на занятия. Мы, несколько человек, пошли к нему в общежитие. Смотрим — лежит, укрывшись с головой одеялом.
— Ты что, болен? — спрашиваем Володю.
Он молчит, делает вид, что спит. Снова тормошим его.
— Уйдите от меня! — огрызнулся угрюмо Володя.
На правах соседа и ближайшего товарища я попытался было сорвать с него одеяло. Куда там: Володя сунул руку под кровать и схватил тяжёлый армейский ботинок.
Я крепко сжал ему руку:
— Ты что, очумел, Володя, на своих кидаешься!
А он снова:
— Лучше уйдите все отсюда. А то я за себя не ручаюсь!..
Когда все, кроме меня, ушли, Павлов вынырнул из-под одеяла и говорит мне, да так жалобно:
— Тоска!
— Что с тобой, Володя?
— Ты извозчиков в Москве видел?
— В Москве не видел, а вот в Вязьме видел. Двое их там было, на таких рыдванах старых… И клячи под стать экипажу.
Володя сел на кровать и заговорил с жаром:
— Неважно, что в Вязьме, а не в Тамбове. Неважно, что там клячи, а здесь самолёт… Не хочу я быть рейсовым пилотом. Воздушных извозчиков из нас здесь готовят. Не хочу, и всё! Сбегу из вашей школы!
Я опешил:
— Школа эта и наша и твоя, Володя! Не хочешь быть рейсовым пилотом, так чего же ты хочешь?
— Не стану я учиться в вашей школе, — повторял он упрямо, — не моя это школа! Не воздушным извозчиком я буду, а боевым лётчиком, истребителем!
Я внимательно слушал. Так вот, оказывается, в чём загвоздка!
— Ты меня не поймёшь, — продолжал Павлов, — ты ещё не пробовал воздуха!
— А ты разве пробовал? — удивился я.
— То-то и оно! Я ещё в Смоленске закончил школу аэроклуба. Летал… Как же!
Это было для меня новостью. Володя никогда нам не говорил об этом. Скромный, неразговорчивый, он никогда ничем не хвастался. Не в пример юношам, которые пришли к нам из авиационных техникумов: те высоко задирали нос перед нами, новичками авиационного дела.
— Я не могу жить без неба! — твердил Павлов упрямо. — Я на всё пойду, лишь бы уйти от вас!
Почувствовав, что тут дело неладно, я ушёл, твердо решив посоветоваться с товарищами. Между тем Володя свою угрозу не замедлил выполнить: как только через несколько минут в комнате снова появился помощник командира эскадрильи, Павлов нагрубил ему.
В тот же вечер мы собрались поговорить с Володей. Спорили долго: одни считали, что Володя совершил грубый поступок и его следует исключить за это из школы; другие говорили, что не надо исключать, а наложить на него строгое взыскание. В конце концов решили просить начальника школы проверить, умеет ли действительно Володя летать.
Мягкость нашего решения объяснялась просто: все мы только готовились стать лётчиками, а Павлов как-никак уже был им. Причем нисколько не кичился этим перед нами. Такая скромность вызывала уважение к нему.
Начальник школы нас понял. На другой же день Павлову было предложено сесть за штурвал самолёта.
На место инструктора в самолёт сел сам начальник школы, а мы, курсанты, затаив дыхание столпились на старте. Тревожила мысль: «Вдруг Володя оскандалится?»
Но этого не случилось. Самолёт благополучно приземлился.
Начальник школы нарочно громко сказал вытянувшемуся перед ним Володе:
— Хороший из тебя получится летун! А дурь из головы выкинь. Учиться будешь здесь! Гражданской авиации хорошие лётчики — такие, каким ты станешь, — нужны не меньше, чем военной. Понял? Можешь идти!
С тех пор Павлов о побеге из школы больше не заикался. К тому же ему разрешили иногда летать.
Я теперь сам лётчик и прекрасно понимаю Павлова: тому, кто хоть самую малость попробовал воздуха, жить без полётов действительно тяжело. Понял это и начальник школы.
В то время мы не только гордились героями советской авиации: Громовым, Водопьяновым, Чкаловым, в особенности Чкаловым, — мы просто бредили ими. Каждый из нас в душе мечтал стать таким же мастером пилотажа, как они!
И, когда 15 декабря 1938 года пришла горестная весть о трагической гибели Валерия Павловича Чкалова, мы, потрясённые общим горем, собрались на траурный митинг. Выступали командиры, лётчики, преподаватели, курсанты. В наших выступлениях звучала горячая клятва — стать в будущем такими же бесстрашными лётчиками, каким был Чкалов.
Последним выступал начальник школы. Заканчивая свою речь, он сказал:
— Вы хотите быть такими, как Чкалов? Это трудно, но ничего невозможного нет. Для этого требуются прежде всего отличные успехи в учении и железная дисциплина. Без дисциплины не может быть отличной учёбы, особенно в нашем лётном деле!
Сойдя с трибуны, начальник школы подошёл к одному из курсантов и указал нам на него:
— А вот это будущий аварийщик!
Мы сперва не поняли, в чём дело. Но начальник школы взялся за пуговицу, которая болталась на одной ниточке на гимнастёрке этого курсанта, оторвал её и высоко поднял, чтобы всем было видно.
— Вот, — сказал он, — глядите: расхлябанность начинается с пуговицы, а кончается авариями!
Эти предсказания начальника школы оправдались: неряха курсант плюхнулся на землю и повредил самолёт в одном из первых самостоятельных вылетов. Закончив с грехом пополам школу, он имел впоследствии несколько поломок и вынужден был уйти из авиации…
Комсомольское бюро школы с этого дня энергичнее стало заниматься вопросами учёбы и дисциплины. Мы придумали оригинальную доску показателей. Против фамилии каждого курсанта были вычерчены графы предметов. Каждая отметка, выставленная преподавателем, получала наглядное отражение на этой доске — в виде цветного треугольника: «отлично» — красного цвета, «хорошо» — синего, «посредственно» — коричневого, «плохо» — чёрного.
Значок ГТО второй степени
Дни шли за днями — мы упорно сидели над учебниками. Однако мы не забывали и про спорт. В школе был прекрасный спортивный зал, добротный спортивный инвентарь. Мы понимали, как важен для нас, будущих лётчиков, спорт, и занимались им усердно. Некоторые курсанты раньше занимались боксом и тяжёлой атлетикой, теперь они тренировали товарищей. Увлёкся тяжёлой атлетикой и я.
Сокровенной моей мечтой было до осени сдать испытания по комплексу ГТО второй ступени, с тем чтобы домой в отпуск приехать со значком. Это было тем более лестно, что обычно этот комплекс сдавали только старшекурсники.
Весной школа перешла на лагерное положение. Я готовился вступать в партию, политотдел школы давал мне всё более ответственные поручения. Так, однажды с путёвкой политотдела в кармане отправился я делать доклад об авиации в лагерь пехотного училища. Это было первым моим выступлением за пределами школы. Естественно, я очень волновался.
Сойдя с пригородного поезда, я шёл пешком, повторяя про себя наизусть свой доклад.
По дороге меня догнал младший лейтенант.
— Вы с этим поездом приехали? — спросил он меня.
— С этим.
— Не видали ли вы лётчика?
— Лётчика? Зачем вам лётчик? — спрашиваю его, уже догадываясь, в чём дело.
Оказывается, этого лейтенанта командование лагеря выслало на станцию встречать гостя, а он и не заметил меня. В самом деле, на докладчика, а тем более на лётчика я, ещё юноша, мало был похож.
Мы разговорились и незаметно дошли до лагеря пехотинцев. Зал летнего театра был переполнен, у меня зарябило в глазах. Не помню, как я добрёл до трибуны, а заметив на ней микрофон, совсем оробел.
Но, преодолев мучительное стеснение, начал и разошёлся. Школу свою, в общем, не подвёл.
Наконец пришла долгожданная пора полётов. Начались они после длительной наземной подготовки. Старшиной нашей лётной группы, состоящей из шести человек, назначен был Володя Павлов. Нам немало льстило, что наш старшина имеет хотя и спортивный, но всё же летный диплом. Эксплуатировали мы Володю нещадно! Лежа в палатке, часами расспрашивали его о различных подробностях техники полёта. Нужно отдать справедливость — он по-прежнему был скромен, добросовестно и неутомимо помогал нам советами.
Первые полёты на учебном самолёте «ПО-2» показали, кто из нас на что способен. Непригодных для авиации курсантов стали отчислять. Любопытно, что среди отчисленных оказалось и двое завзятых хвастунишек. Они всё грозились стать едва ли не будущими Чкаловыми. На деле же позорно провалились при первом полете: растерялись, струсили, вцепились в нервной судороге в управление и только мешали инструктору.
Каждого вылета мы ждали с нетерпением. Особенно волновались перед самостоятельными полётами. Мне неожиданно повезло. Первым в самостоятельный полёт пошёл, как и следовало ожидать, Павлов. Инструктор подсадил к нему меня. В воздухе Павлов давал мне как бы частные уроки: я держался за управление, а сам он брал на себя роль инструктора.
Наша лётная группа была признана одной из лучших. И всё было бы хорошо, если бы не наше зазнайство, которое кончилось для нас весьма плачевно.
Первым подвёл группу наш уважаемый старшина Володя Павлов. Зуд «истребительства», видимо, вновь охватил его. Он оставался в воздухе дольше, чем было разрешено, старался забраться подальше от места взлёта, от внимательных глаз начальства. А там вместо заданных виражей в зоне на свой страх и риск отрабатывал фигуры высшего пилотажа. Однажды он умудрился сделать подряд пятьдесят «мёртвых петель» Нестерова!
Как раз к этому времени подоспело и другое происшествие. Один из наших курсантов, идя на посадку, поспешил: выровняв самолёт прежде времени и выше, чем полагалось, он плюхнулся на землю. В результате грубой посадки было повреждено шасси машины.
Слава нашей группы померкла. Из передовых мы попали в отстающие, в «чёрный список». На несколько дней нас вовсе отстранили от полётов. Володя Павлов получил пять нарядов вне очереди, дежурил на старте, поглядывая с завистью, как летают другие.
— Зазнались! — шумел наш инструктор. — Вообразили себя асами, а летаете, как вороны! Смех и горе, а не лётчики! Один плюхается на землю, как лягушка, другой без спросу петли загибает! Эх вы, асы!..
Слово «ас», или «туз» по-французски, мы неоднократно слышали и раньше. Со времен первой мировой войны «асами» стали называть самых выдающихся лётчиков армии, сбивших наибольшее количество самолётов противника. «Ас — козырной туз, кроет все карты любой масти». Это выражение стало поговоркой среди лётчиков.
На инструктора мы не особенно обиделись. В конце концов он ведь был прав. Мы признали свою вину, а инструктор, отшумев, успокоился.
Он очень любил своё дело, любил нас, своих питомцев, не скупясь, делился своими знаниями в области авиации. А знал он много. Усевшись поудобнее, он охотно начинал рассказывать.
— Вы думаете, друзья, — говорил он, — что ас — это тот, кто садится и взлетает эдаким чёртом, загибает виражи над самой землёй? Нет, это не ас! Это просто ухарь, воздушный хулиган, и только!
А ведь многие из нас именно так и думали: ас — это тот, кто имеет свою особенную манеру летать, у кого что ни полёт, то головоломный трюк.
— Нужно чувствовать самолёт так, — любил повторять инструктор, — чтобы быть слитым с ним воедино. Всеми рулями управления настоящий лётчик должен владеть как собственными руками и ногами… Всё у аса должно быть рассчитано и в метрах и в секундах.
Инструктор добился своего: группа наша вскоре снова заняла первое место.
…Наступила осень, лагерь свернулся. Закончился первый учебный год в школе. Приближалось время отпуска, к которому мы усиленно готовились: шили выходную форму, начищали до сияния пуговицы, прицепляли новые «крабы» к головным уборам. Желанный значок ГТО второй ступени к этому времени, в числе других, получил и я. Давай и его на грудь! Хотелось выглядеть посолиднее.
«В полном параде» поехал я в отпуск. Моё появление в Гришкове не прошло незамеченным. Был всего-навсего пастушонок, а теперь смотрите — лётчик!
Но менялись в стране не только судьбы одиночек. К концу 1939 года и деревня стала иной. Позабыли наши гришковские колхозники о засилье всяких ковалдиных. Многие гришковцы «вышли в люди» — в новом, советском понимании этого слова. И всё же каждое появление в деревне таких, как я, в прошлом батраков и бедняков, было самой наглядной агитацией за советскую власть. На примере молодых гришковцев воочию можно было убедиться, какие широкие просторы открывает советский строй перед крестьянской молодёжью.
Товарищи, оказавшиеся в это время в Гришкове, разрывали меня на части, каждый зазывал к себе. От них я узнавал и о тех, кого не застал в Гришкове: кто учительствует, кто уехал поступать в институт, кто служит в армии. Год — как будто срок небольшой, а сколько перемен произошло в родном селе, сколько нового принёс колхозный строй.
Радостно было мне видеть, насколько обеспеченнее стала теперь наша семья. Избавилась благодаря колхозу моя мать от вечной тревоги за завтрашний день. Спокойно мог я возвращаться в школу.
Учебные будни
…После каникул размеренная школьная жизнь начинается не сразу. Отпускные настроения не вдруг исчезают. Целый месяц ещё щеголяли мы в выходной суконной форме. Многие отрастили себе волосы. В то время у нас считалось модным стричь затылок «под бокс», а спереди носить длинный чуб, опущенный на правую половину лба. Трудно представить себе что-либо безобразнее. Однако среди многих курсантов такая причёска считалась признаком лихости.
Командование не могло, конечно, мириться с этим. Не успели мы появиться в школе после отпуска, как издан был приказ: всех курсантов остричь наголо! Школьная парикмахерская живо разделалась с нашими чубами. Помню, как один курсант всеми правдами и неправдами пытался избежать ножниц и машинки парикмахера. Прическу сберечь ему не удалось, а пять нарядов вне очереди заработал!
Так постепенно после отпускного «шика» мы вновь превратились в скромных курсантов, одетых в синие хлопчатобумажные кителя. Потянулись месяцы упорных занятий теорией. Полёты были отложены до весны.
Казалось, всё вошло в свою обычную норму, как вдруг неожиданное событие взбудоражило школу.
Среди нас оказались два талантливых курсанта-художника. Оба они хорошо учились, но ещё лучше рисовали. Яркие, всегда привлекательные номера стенгазеты, плакаты, портреты — всё это делали они. Комсомольская организация не давала этим курсантам других поручений, кроме рисования.
Дело закончилось, однако, большим конфузом для нас, покровителей молодых талантов. Случилось это в субботу, в день общественного смотра: наши активисты совместно с командованием школы обходили помещения, проверяя, чем по вечерам занимаются курсанты. В общежитии чувствовалось обычное оживление: получившие увольнение наводили стрелки на брюках, прихорашивались, спортсмены готовили к завтрашней вылазке лыжи, точили коньки; фотолюбители заряжали кассеты, печатали фотографии знакомых девушек, с которыми надеялись встретиться.
Мы подошли к комнате художников. Она оказалась запертой изнутри. Когда наконец после долгой паузы открылась дверь, художники стояли перед нами красные, растерянные, руки по швам.
— Чем занимаетесь? — будто ничего не замечая, спросил помкомэск.
— Готовимся в город! — не совсем уверенно ответил один из них.
— И основательно уже «подготовились»?
Опустив голову, художники молчали. Мы не сразу поняли, в чём тут дело, но помкомэск хорошо знал своих воспитанников. Проворно сунув руку за незаконченный, прислонённый к стене портрет, он вытащил оттуда одну за другой несколько недопитых бутылок. В комнате воцарилось неловкое молчание.
— На гауптвахту шагом марш!.. — гневно крикнул командир.
На внеочередном комсомольском собрании выступил командир отряда.
Обведя строгим взглядом притихшие ряды курсантов, он сказал:
— В лётчики готовитесь, не так ли? А ведь пьяницам нет места в авиации! Кому придет в голову доверять штурвал, человеческие жизни и дорогостоящую машину пилоту, у которого в голове муть и руки трясутся?
Курсанты молчали: увы, это относилось ко многим из нас.
— А эти с позволения сказать «художники», — продолжал командир, — вообразили себя репиными и айвазовскими и зазнались. Думают — теперь им море по колено!.. — Помолчав, командир заключил: — Командование будет ставить вопрос об отчислении обоих художников из нашей школы.
До исключения, правда, дело не дошло. Комсомольская организация обоих провинившихся взяла под свой контроль, мы приняли на себя коллективную ответственность за них. С этого дня оба курсанта учились не хуже других и были при выпуске аттестованы пилотами.
Нашему комсомольскому бюро пришлось в эту зиму заниматься ещё кое-какими грешками курсантов. Будущие асы на занятиях вели себя порой не лучше иных мальчишек-пятиклассников. Стоило им нащупать «слабину» у какого-нибудь преподавателя, как они тут же садились ему на голову: на занятиях шумели, подсказывали друг другу.
Комсомольское бюро объявило войну и этим ребяческим выходкам. Поставили вопрос о честности комсомольца: не всё ли равно, большой или малый обман? И обманываем-то кого? Прежде всего самих себя. Можно ли стать первоклассным пилотом, если не знаешь устройства машины или законов её действия?
Со шпаргалками и подсказываниями также удалось покончить.
Время полётов
После надоевших всем наземных упражнений в искусственных условиях наступило время настоящих полётов. Пришла вторая лётная весна.
Обучение пилотажу начиналось с вывозных полётов на скромной машине «Р-5». Этот самолёт был для нас дорог тем, что имел свою славную историю: на нём спасали челюскинцев первые Герои Советского Союза.
Практика начиналась с того, что инструктор вёл машину, а курсант сидел за параллельным управлением, наблюдал, как действует инструктор, изучал приём пилотирования. Позднее к управлению самолётом допускался ученик, инструктор же сидел за параллельным управлением. Только после таких предварительных вылетов нас выпускали в самостоятельный полёт.
Нет лётчика, который позабыл бы ощущение своего первого полёта без опекуна-инструктора. В этот миг кажется, что в целом свете только и есть, что ты, воздух да штурвал.
Помню голубое весеннее утро. Приземлившись после очередного полёта, инструктор выбрался из кабины и сказал:
— Посиди, я сейчас вернусь!
Мотор работал на малых оборотах — чих, чих! Ярко светило солнце, я думал о своём будущем, о рейсовых полётах, полётах в дальние края. Я и не заметил, как подошёл ко мне командир звена.
— Как чувствуешь себя? — спросил командир.
— Отлично! — ответил я совершенно искренне.
— К самостоятельному полёту готов?
— Всегда готов! — отчеканил я.
Командир звена улыбнулся и приказал:
— Ну, раз так, проси старт и лети!
«Сейчас буду один в воздухе!» — мелькнуло у меня в голове. Вырулив на взлётно-посадочную полосу, я выровнял аппарат по курсу, на какой-то наземный ориентир, как учил меня инструктор. Затем, получив разрешение на старт, левой рукой двинул рычаг сектора газа, увеличил обороты мотора и стремительно покатился по взлётной дорожке. Подняв хвост самолёта, установил машину в линию горизонта, взял штурвал управления на себя, и вот машина в воздухе! Заданная высота — триста метров. Достигнув её, я перевёл аппарат в горизонтальный полёт.
В первый момент я не заметил, когда исчезли из поля зрения посадочные знаки старта. Я разволновался, не понимая, что происходит: направление ветра изменилось, что ли? Но вот через несколько секунд старт снова стал виден. Он не вполне совпадал с ранее указанными мне инструктором наземными ориентирами, но, может быть, пока я летел, его по какой-либо причине перенесли? Пойду на посадку!
На первых порах посадка у меня не клеилась: выравниваю аппарат, а он продолжает нестись на метр выше земли. Пробую взять на себя штурвал, чтобы коснуться колёсами земли и не допустить «козла», — самолёт начинает лезть вверх. Барахтанье продолжалось считанные доли секунды, мне же они казались вечностью.
С грехом пополам сел немного дальше посадочного знака. Как полагается, отрулил обратно на линию взлёта и, успокоенный, стал ждать указаний инструктора.
Как ни странно, никто не шёл ко мне. Приглядевшись к стоящим рядом самолётам и людям, я, к ужасу своему, понял, что сел на чужой старт.
Как раз в этот момент подошёл ко мне руководитель полётов другой группы.
— Слезай, — сказал он раздражённо, — приехали!..
Расстроенный, я отстегнул ремни, сошёл на землю и каким-то деревянным, не подчиняющимся мне языком спросил:
— Что же, больше не дадут мне летать?
— Где тебе летать, раз ты собственный старт потерял! — ответил насмешливо руководитель.
На машине подъехал мой инструктор. По выражению его лица я понял, что он рассердился на меня не на шутку. И было за что. Он считал меня в числе лучших своих учеников — недаром разрешил мне самостоятельно подняться в воздух без обязательного проверочного полёта. А я его так подвёл!..
Короче говоря, инструктор приказал мне идти домой пешком, а сам, дав газ, оторвался от земли и был таков! До нашего старта было рукой подать — километр, не больше. Мне же это расстояние показалось тысячевёрстным. Брел я, спешенный лётчик, понурив голову, и душа горела от обиды.
«Что я такое сделал, в конце концов? — рассуждал я про себя. — Сел как полагается. По всем правилам! Стартом ошибся? Так наш старт, очевидно, убрали. Нет, летать я всё равно буду!»
Стыдно было возвращаться в своё подразделение пешком после первого самостоятельного вылета. Какими глазами буду теперь смотреть на товарищей? Ведь меня же на смех поднимут!
Кончилась эта история хуже, чем я предполагал. Опасаясь насмешек товарищей, я изменил направление и пошёл не на аэродром, а прямо в общежитие. За самовольную отлучку с занятий меня на три дня отстранили от полётов.
Однако инструктор — он относился ко мне доброжелательно, — едва кончился срок наказания, сразу дал мне возможность летать больше, чем другим, чтобы наверстать пропущенное.
Начали мы обучаться и фигурам высшего пилотажа — полётам по приборам. Кстати, в то время это давалось труднее, чем сейчас. Авиагоризонта — прибора, определяющего пространственное положение самолёта, — авиаторы ещё не имели.
Помню, как-то раз вылетел я для отработки фигур высшего пилотажа в зону, расположенную в пяти километрах от нашего аэродрома. Облачность была в этот день средней, видимость сносная — километров пятнадцать, ветер умеренный.
Заданная высота — две тысячи метров, но, уже поднявшись на тысячу восемьсот метров, самолёт попал в облака. Я задумался: что делать? И решил: фигуры я всегда успею выполнить, а вот облачность не каждый день бывает. Попробую-ка испытать полёт в облаках.
Как только рыхлый слой серых облаков прикрыл земные ориентиры, стало побалтывать. Тем не менее сначала я летел вполне благополучно: три минуты в одном направлении, столько же — в противоположном. Вскоре это занятие мне наскучило, и я рискнул сделать в облаках вираж обычным порядком, как в чистом небе. Левый вираж удался хорошо — крен не превышал тридцати градусов. Выровняв самолёт, я приступил к выполнению правого.
Вот тут-то и стряслась со мной беда. Стрелка указателя начала отмечать быстрое увеличение скорости, самолёт стал подозрительно быстро терять высоту, мотор зловеще загудел. Машина из виража стремительно перешла в глубокую спираль.
Все мои попытки вывести самолёт из этой рискованной фигуры были безуспешны. Окутанный облачной ватой, я продолжал описывать круг за кругом, стремительно приближаясь к земле. Наконец самолёт вывалился из слоя облаков, но от этого не стало легче.
«Что случилось? — с ужасом думал я. — Неужто сейчас конец?..»
Мысль работала с молниеносной быстротой: припоминаю, как учили нас действовать, чтобы вывести самолёт из крутой спирали — необходимо прежде всего уменьшить скорость! Я сбавил газ, уменьшил скорость и на высоте тысяча метров от земли выровнял самолёт сперва в продольном, а затем и в поперечном положении. Затем снова прибавил газ и стал сличать наземные ориентиры с картой.
Установив, где нахожусь, взял курс на аэродром. Уже заходя на посадку, начал мучительно раздумывать: доложить инструктору всё, как было, или лучше скрыть? А вдруг за самовольный полёт в облаках меня снова отстранят от полётов?
Но тут вспомнилось комсомольское собрание, где я сам выступал, ратуя за правдивость, за комсомольскую честь.
Приземлившись, я доложил инструктору всё, как было, признался и в том, что в облака зашёл не случайно.
К моему удивлению, инструктор меня не обругал. Видимо, проступок мой был не так уж серьёзен, а, может быть, желание учлёта испробовать впервые полёт в облаках показалось ему законным. Тем более, что учебной программой были предусмотрены слепые полёты по приборам.
Так заканчивался второй год нашего обучения. Мы стали тренироваться на маршрутных полётах.
Сон инструктора
Стояло лето 1940 года, погода была безветренной и солнечной. Мне предстояло пролететь пятьсот километров по замкнутому треугольнику — в районе севернее Тамбова.
Техники залили горючее в основной и в дополнительный бачки машины. Я пригнал по росту сиденье, натянул лямки парашюта, застегнул ремни. Инструктор уселся сзади меня, стартёр взмахнул белым флажком, и я пошел в воздух.
Заданная высота — тысяча метров; первая сторона треугольника — на северо-восток от аэродрома. Ориентиры прекрасные: лесные массивы, река Цна, железнодорожное полотно. Приятно лететь в такой погожий, тихий день. Мерно работал мотор. Чуть побалтывало. Под крылом разворачивалась знакомая панорама: колхозные поля, сады, деревни. Я вообразил себя уже линейным пилотом, летящим далеко, в загадочную страну Индию. Накануне я как раз читал книгу об Индии, и мне страстно захотелось побывать там. А подо мной в это время расстилались густые тамбовские леса, жирные, черноземные пашни.
Я вёл самолёт по курсу самостоятельно. Инструктор молчал: не подсказывал мне и не поправлял. Порой я забывал даже, что он у меня за спиной. Контрольный полёт в том и заключается, что ученик всё делает самостоятельно, а инструктор только молча наблюдает за ним и отмечает промахи.
Болтанка усиливалась, переходя временами в резкие броски. Кучевые облака на горизонте постепенно сливались в сплошную облачность синевато-чёрного цвета. Я полагал, что инструктор даст мне указание обойти фронт циклона, но тот упорно продолжал молчать. Ну что же, молчание, как говорят, — знак согласия. Я пошёл навстречу грозовой туче, рассекая одно облако за другим. Про себя же подумал: «Инструктор меня не поправляет, знает, что готовлюсь стать линейным пилотом. Мало ли какие в рейсе могут встретиться метеорологические условия. Я обязан привыкнуть к любым!»
Рассуждал я неправильно — заходить в грозовые облака вообще не следует без крайней необходимости. А в те времена, когда самолёт ещё не был оборудован для слепых полётов как сейчас, тем более этого не следовало делать, да ещё такому неопытному лётчику.
Вскоре машину начало трепать, как щепку в морских волнах. Нервы напряглись у меня до предела. На пальцах, сжимающих рукоятку штурвала, выступила испарина: ведь первый раз попал я в такую переделку! А инструктор и тут ни звука.
Пришли на память страшные минуты, которые довелось мне пережить за свою недолгую лётную практику, вспомнил свой первый парашютный прыжок. Очень я волновался, когда выбрался на крыло. Чтобы не видеть под собой воздушной бездны, стал смотреть на горизонт — ощущение высоты потерялось. Собравшись с духом, я прыгнул, раскрыл парашют и благополучно приземлился.
«Неужели мне не удастся взять себя в руки? — подумал я. — Неужели инструктор не подскажет, что делать?» Но тот сидел молча.
Но сейчас было не до инструктора. Самолёт вошёл в тучу, его продолжало бросать вверх, вниз, в стороны. Приборы перед моими глазами заметались как бешеные. Усилиями ног пытался я сохранить курс, посылал вперёд то правую, то левую педаль. Крутя так и этак руль управления, я рассчитывал устранить крены.
О козырёк пилотской кабины ударились вначале крупные капли дождя, потом стекло задёрнуло непроницаемой, мутной плёнкой. Крылья поливал бешеный водный поток, брызги заливали мне очки. Я же твердил про себя: «Вот сейчас пробью эту тучу, и всё пойдет хорошо, всё будет благополучно!»
Вдруг перед самолётом сверкнула молния, и грозовые разряды стали следовать один за другим. Яркие вспышки электрических разрядов прорезывали сгустившуюся темноту.
Тут я не выдержал напряжения:
— Товарищ инструктор, товарищ инструктор! Что делать? Гроза!
Оглянулся назад, а он сидит по-прежнему молча. Рёв мотора, свист расчалок, грохот грозы — всё смешалось в один сплошной непрекращающийся гул.
«Ну, — решил я, — надеяться мне не на кого! Надо лететь точно по маршруту: уйдёшь в сторону — чего доброго, заблудишься». Да и не видно ничего: кругом только озарённое блеском молний тёмно-свинцовое месиво!
Молния сверкнула так близко, что, казалось, ударила в капот мотора. Самолёт с бешеной силой бросило к земле, и он вмиг потерял четыреста метров высоты, а затем снова взмыл кверху. Никогда мне не приходилось сталкиваться с воздушными ямами, не попадал я до того и в поток сильных нисходящих и восходящих воздушных течений. Того и гляди, крылья машины сомкнутся, как листы захлопнутой книжки!
Но злоключения мои только начинались: мотор, который до сих пор вёл себя превосходно, вдруг стал чихать, захлёбываться, а потом и вовсе заглох. Винт превратился как бы в крылья мельницы, лениво вращающиеся лишь под напором встречного воздушного потока. Когда мотор стих, я ощутил оглушительный грохот грозы, барабанную дробь крупных дождевых капель и града о плоскости крыльев. Треск и шипение электрических разрядов, зловещий рокот грома нарастали…
Из теоретического курса мне было известно, что, если мотор отказал, задача лётчика не терять скорости. Направляя самолёт к земле, я так резко отдал от себя штурвал, что машина сразу клюнула носом и с ужасающим свистом понеслась вниз.
Ручка управления двигалась так туго, словно кто зажимал её. Я с силой рванул штурвал из стороны в сторону, затем потянул его на себя, но он не слушался.
«Этого только недоставало, — подумал я в отчаянии, — управление заклинило! Ну, теперь гроб! Отлетался».
И вот в этот, казалось, самый безвыходный момент инструктор начал подавать признаки жизни, причём весьма энергично. Его окрик, раздавшийся в наушниках шлемофона, едва не оглушил меня:
— Что случилось? Почему мотор не работает?
Ошеломлённый тем, что мой молчаливый наставник внезапно заговорил, я растерянно молчал. Самолёт же продолжал со свистом нестись к земле, теряя метр за метром высоту.
— Эй, разиня! — кричал на меня инструктор. — Подай горючее в мотор из дополнительного бачка! Переключай скорее бензокран!
Бензопомпа отказала, и горючее больше не поступало в мотор из основного бака. Надо было самотёком пустить топливо из дополнительного бака.
Я мгновенно выполнил приказание инструктора, стал что есть силы накручивать рукоятку магнето. Со страхом следил я за поведением мотора: неужто подведёт? Но мотор не подвёл: одну за другой дал несколько вспышек и, вздрогнув, мерно загудел. Винт добросовестно вертелся. Я с облегчением вздохнул. Тогда мне показалось, что нет ничего прекраснее музыки работающего на полных оборотах мотора.
Лишь на высоте двести метров от земли, в слое сплошной ливневой завесы, мне удалось выровнять самолёт и перевести его в режим горизонтального полета. Только теперь почувствовал я, как устал.
Лёгким поворотом рукоятки управления из стороны в сторону я попросил инструктора временно принять управление. Он понял и выполнил просьбу. Я же стал разминать отёкшие от напряжения пальцы рук и рассматривать полётную карту, стараясь определить, где мы находимся.
Мы уже вышли из грозовой тучи и сейчас летели под облаками. Сличить наземные ориентиры с картой долго не удавалось, козырёк пилотской кабины, затянутый мутной водяной плёнкой, оставался непроницаемым. Пришлось глядеть на землю, высовываясь из-за козырька то справа, то слева. Встречный ветер сдирал с головы шлем, разгорячённое лицо моё охладилось, я пришёл в себя.
Выяснилось, что курса я не потерял в облаках, разве что немного отклонился в сторону. Впереди сквозь марево дождя отчётливо вырисовывалась тёмная полоса — очертания передней кромки леса. Значит, мы находимся на ближних подступах к аэродрому. Ещё готовясь к полету, эту лесную поляну я особенно усердно обозначил на карте зелёным карандашом.
Инструктор молча передал мне управление: значит, не так уж сердился. Тогда я развернул самолёт вправо на двадцать градусов, исправил курс и повёл машину по направлению к нашему аэродрому.
Вскоре под нами замелькали зубчатые верхушки сосен и елей, одинокие осины. Мы шли над лесом. А на горизонте уже виднелось нагромождение строений, окутанных шапкой дыма: это был Тамбов.
Приключения мои на этот раз кончились. Мы дома! Я чувствовал себя глубоко удовлетворённым: в течение трёх часов самостоятельно вёл самолёт! Как хорошо, что незадолго до этой грозы я залетал в облака! Не будь у меня хотя бы небольшого опыта, я, безусловно, сегодня растерялся бы.
Отрулив на линию предварительного старта, выключив мотор и освободившись от ремней, я подошёл к инструктору, который также сошёл на землю.
— Разрешите получить замечания! — обратился я к нему.
Инструктор ответил не сразу: нагнувшись, он внимательно рассматривал хвостовое оперение нашего самолёта. Оно сильно было потрёпано. Два подкоса, лопнувшие в верхних точках соединения, беспомощно свисали вниз. Наконец инструктор выпрямился и, не глядя на меня, сказал угрюмо:
— Какие же замечания? Плохо, очень плохо, Михайлов! Такого пилотажа ни один самолёт не выдержит. Гляди, во что ты превратил хвостовое оперение! Так и до беды недалеко…
Подавленный, я молчал. Спорить не приходилось, инструктор был прав. Через силу я выдавил из себя:
— Разрешите идти?
— Ступай!
Понурив голову, с трудом отрывая подошвы от земли, словно они стали свинцовые, я пошёл прочь.
Вдруг за спиной слышу голос инструктора:
— А всё-таки лётчик из тебя будет!
Поведение инструктора казалось мне странным: всю дорогу молчал и теперь толком ничего не сказал. Попробуй пойми!
Других полётов в этот день не было. Самолёт мой зарулили на стоянку. Вооружившись ветошью и вёдрами с керосином, мы стали обтирать с крыльев и фюзеляжа машины масляные брызги. Механики тем временем сменили порванные подкосы стабилизатора, заменили неисправный насос.
Такое повреждение хвостового оперения в контрольном полёте, какое приключилось у меня, в лётной школе считалось чрезвычайным происшествием. Для объяснения старший командир вызвал инструктора. Я тоже ждал вызова, но его не последовало.
Через некоторое время вся наша группа закончила зачётные полеты. Инструктор собрал нас, поздравил с окончанием обучения на самолёте «Р-5» и зачитал нам оценки. К величайшему удивлению, я получил «отлично». Такого сюрприза я уж никак не ожидал!.. Чтобы отметить аттестацию, мы собрались за праздничным столом. Набравшись смелости, я спросил инструктора, почему он не поправлял меня во время недавнего трудного полёта.
Инструктор рассмеялся.
— А ты сам, что ли, не догадываешься? — спросил он. — Я, брат, заснул! Погода, помнишь, была тихой, солнечной, у тебя всё шло гладко, а я до этого целую ночь летал. Ну, вот и не заметил, как вздремнул. Просыпаюсь — что за чёрт? Гроза, молния, самолёт пикирует, мотор стоит! Тут я и принялся на тебя кричать.
…Приближалось время государственных экзаменов. Командование школы вскоре убедилось, что подготовка, полученная нами за два с половиной года, достаточна и для управления скоростным самолётом «ПС-40».
Пришла пора расстаться со школой. Раньше нас сдавали государственные экзамены девушки. Их отделение изучало только учебный самолёт «ПО-2». Девушки обучались бок о бок с нами, но к их лётным способностям мы относились несколько недоверчиво. И зря!
Многие из девушек, обучавшихся вместе с нами, в дни Великой Отечественной войны вошли в состав женских авиационных полков и воевали с фашистами на славу. Кто из нас мог предполагать, что из этих тихоходных учебных машин «ПО-2» будут сформированы ночные бомбардировочные полки, что пилотирующие их девушки будут бомбить ближние рубежи, бесстрашно снабжать боеприпасами и продуктами наши десанты на Тамани, что десятки девушек-лётчиц будут удостоены звания Героя Советского Союза.
Наконец настал долгожданный торжественный день: нам вручили свидетельство. Путёвка в жизнь получена. Мы — лётчики!
Празднично убранный клуб, выпускной вечер, торжественное заседание и бал с духовым оркестром и танцами — всё прошло как во сне. Я получил назначение инструктором тренировочной эскадрильи Гражданского воздушного флота в город Орёл. Направление это не огорчило меня: я понимал, что здесь долго не задержусь. Советская гражданская авиация растёт, кадров не хватает, их нужно готовить. А там пройдёт год-другой, и меня поставят на дальние рейсы. Рано или поздно исполнится моя заветная мечта.
Тепло прощались мы с нашим инструктором. Но больше нам не довелось его увидеть: смертью храбрых он пал на фронте.
Паровозный гудок. Друзья на перроне вокзала. Прощай, школа! Закончился большой этап моей жизни — путь к штурвалу самолёта!..
И вот я снова в Гришкове. На дворе декабрь. Лютые морозы, сухой снег хрустит под ногами. Но на душе тепло и празднично…
Как миг, пролетел короткий отдых на родной Смоленщине. И снова прощание с семьёй, товарищами, друзьями детства.
БУДНИ ВОЙНЫ
Боевое крещение
Шёл 1941 год. Весной учебная эскадрилья перешла на лагерное положение. Наш палаточный городок находился вблизи аэродрома, в нескольких километрах от Орла.
В субботу 21 июня — хорошо это помню — я отрабатывал со своими учениками фигуры высшего пилотажа. С каждым из курсантов вылетал поочерёдно на тридцать минут и каждому демонстрировал в воздухе перевороты через крыло, штопоры, петли Нестерова. За эти три с половиной часа я так накувыркался, что вечером уснул точно мёртвый.
Сколько я проспал, не помню. Но и теперь ясно представляю, как сквозь сон послышались какие-то тревожные звуки.
Сосед мой по палатке, инструктор, тряс меня за плечо:
— Да проснись же, Павел, проснись! Война!..
Первые месяцы войны мы оставались в Орле. Занятия в эскадрилье продолжались, но теперь мы жили в постоянном напряжении. Всё чаще налетали гитлеровские бомбардировщики и нацеливались на наши аэродромы. Учебные полёты приходилось вести в промежутках между воздушными тревогами. А в ночные часы мы бродили по окрестным оврагам, вылавливали гитлеровских шпионов — «мигальщиков». Вспышками ракет, лучами карманных фонариков эти лазутчики указывали фашистским налётчикам, где расположены аэродромы, выдавали важные военные объекты.
В октябре 1941 года наша эскадрилья была эвакуирована в город Бугульму. Учебные занятия мы продолжали вести здесь усиленными темпами. Я понимал, как важно в военной обстановке готовить кадры лётчиков. И всё же меня тянуло к другому. Хотелось быть там, где наши воины стойко и мужественно сражались с захватчиками-фашистами.
Я продолжал писать заявление за заявлением о переводе в действующие воздушные части, но всё время получал один и тот же ответ: готовить лётные пополнения не менее важно, чем бомбить вражеские тылы и сражаться в воздухе с фашистскими истребителями.
Только к осени 1942 года желание моё было удовлетворено. Мы уже подготовили не один десяток пилотов, теперь было кому заменить нас на инструкторской работе.
К этому времени мой лётный опыт обогатился. Постоянные тренировочные полёты с курсантами в самой сложной обстановке пошли на пользу не только обучаемым, но и инструктору.
В часть я попал не сразу. На фронте нам предстояло летать на тяжёлых транспортных кораблях. С этими машинами мы ещё не были знакомы. Пришлось отправиться на переподготовку. Только в конце 1942 года прибыл я на один из подмосковных аэродромов, где расположилась авиагруппа особого назначения. Здесь-то и началась моя боевая служба.
Задачи нашей группы были многообразны. Мы доставляли особо срочные грузы прямо в районы боевых действий, когда не было других средств сообщения с передним краем. Нам поручали вывозить раненых, высаживать воздушные десанты. Регулярная воздушная связь с партизанами, действующими в глубоком тылу врага, была также делом авиагруппы.
Неприветливая погода поздней подмосковной осени встретила нас — новичков. Холодный, резкий ветер низко гнал над полем рваные многослойные облака. Глубокие воронки — следы налётов фашистской авиации — заполнила мутная вода; края их были окаймлены выброшенным грунтом, засыпанным грязным тающим снегом.
Ветер рябил воду в воронках, низко пригибая к земле кусты. По понятиям мирного времени погода была нелётная. В такую погоду покоиться бы на своих стоянках надежно закреплённым, зачехлённым самолётам, отдыхать бы в своих помещениях скучающим экипажам, коротая время за книгой, шахматами или домино. Но война изменила прежние понятия о лётной погоде.
Теперь жизнь авиагарнизона в любую погоду била ключом. На самолётах, вернувшихся из района боевых действий, ремонтники наспех заделывали свежие пробоины, техники готовили машины к вылету, механики заправляли баки горючим и смазочным. По полю беспрерывно сновали люди: одни усталой походкой направлялись на отдых, вернувшись с задания; другие, бодрые и подтянутые, шли к машинам, чтобы через несколько минут оторваться от земли. Одни тяжёлые транспортные самолёты то и дело взлетали, другие приземлялись.
«Ну вот, — подумалось мне, — теперь и я на фронте!»
Прежде всего я должен был явиться к начальнику политотдела группы. Когда я вошёл, навстречу поднялся коренастый подполковник. Протянув мне руку, он сказал просто:
— Начальник политотдела Гончаренок.
Смущённый, я доложил с опозданием:
— Лётчик Михайлов. Явился по вашему вызову.
— Садитесь.
Я сел и оглянулся по сторонам. На большом письменном столе, покрытом зелёным сукном, кроме чернильного прибора и груды папок с бумагами, на гибкой металлической пластинке красовалась большая модель самолёта как раз того типа, на котором мне предстояло теперь летать. По стенам были развешаны портреты неизвестных мне лётчиков. Судя по многочисленным орденам, это были видавшие виды пилоты.
Перехватив мой взгляд, подполковник Гончаренок спросил меня:
— Знаешь кого-нибудь из них?
— Нет, — ответил я. — Откуда мне знать, я ведь прибыл из тыла.
— Это всё наши орлы! — с гордостью объяснил мне начальник политотдела, указывая на портреты. — Это — Таран, там — Груздин и Еромасов, дальше — Фроловский… Ты ещё познакомишься с ними, у них есть чему поучиться.
В комнату вошли ещё два вновь прибывших лётчика, представились начальнику политотдела.
— Вы все комсомольцы? — спросил он у нас.
Комсомольцами оказались все, а один уже был членом партии. Долго длилась в этот день беседа с подполковником Гончаренком. О многих славных делах нашей боевой авиагруппы рассказал он.
Немало лет прошло с того дня, а рассказы Гончаренка всё ещё свежи в памяти…
Командирам кораблей Бибикову и Мамкину приказано было днём вывезти тяжелораненых бойцов из одного нашего подразделения, временно попавшего во вражеское кольцо и занявшего круговую оборону. Обоим тяжёлым кораблям предстояло пересечь линию фронта, выбрать с воздуха подходящую площадку, сесть, взлететь, снова пересечь линию фронта и возвратиться на базу.
Шквальный огонь зениток не помешал кораблям благополучно пересечь линию фронта. Нашли площадку, приземлились. Бибиков первым принял на борт раненых и тут же взлетел. Хуже пришлось Мамкину. В то время как он грузился, гитлеровцы потеснили кольцо круговой обороны и приближались к самолёту, намереваясь его захватить. Погрузка раненых продолжалась под ружейно-пулемётным огнем. Бибиков, заметив с воздуха, что товарищ попал в беду, не оставил его. Он развернулся и, незаметно подкравшись к посадочной площадке на бреющем полете, обстрелял из своих пулемётов фашистов, подбиравшихся к самолёту Мамкина.
Гитлеровцы растерялись от неожиданной атаки и залегли.
Экипаж машины под надёжной защитой с воздуха продолжал погрузку раненых. Манёвр Бибикова удался — вскоре взлетел и Мамкин. Оба самолёта, прижимаясь к земле, ныряя по оврагам и перелескам, вторично пересекли линию фронта, благополучно вернувшись на базу.
Экипажу Андреева приказано было доставить боеприпасы наступающим танковым и моторизованным частям, только что совершившим глубокий прорыв и оторвавшимся от своих баз. Посадка предстояла на узкой полоске земли, ограниченной кустарником. Обратно на базу нужно было доставить раненых. Первую часть задания Андреев выполнил без помех: вышел на цель, совершил блестящую посадку на неудобной площадке, быстро разгрузился, принял на борт раненых и немедля взлетел.
Четверых тяжелораненых уложили на пол. Экипаж заботливо ухаживал за ними, пилот принимал все меры к тому, чтобы лететь плавно, избегая болтанки. Один из тяжелораненых побывал в лапах у фашистских извергов. Стиснув зубы, лётчики выслушали его рассказ о том, как гитлеровские бандиты вырезали у него на груди свастику, а лопатой отрубили кисть руки…
Андреев уверенно вёл самолёт на базу по знакомому уже пути. Под крылом убегали леса, болота. Мелькали груды разбитой гитлеровской техники — следы поспешного отступления фашистов. Лес кончился, впереди по курсу возникли очертания полуразрушенной деревни. Близилась линия фронта. Замелькали багровые пунктиры трассирующих пуль: фашистский истребитель кружился над полянкой, в упор с бреющего полета расстреливал игравших на ней детей.
Заметив более интересную мишень — тяжёлый транспортный самолёт, «Мессершмитт» обрушился на него. Очередь, ещё очередь — задымилось у Андреева левое крыло. Нужно садиться, но куда? Лес, овраги. Когда крыло было уже охвачено пламенем, Андреев наконец отыскал холмистую полянку, окружённую деревьями, и мастерски сел на неё. Задыхаясь в едком дыму, под градом свинца, которым фашистский стервятник, кружась над полянкой, продолжал поливать приземлившийся самолёт, экипаж Андреева на руках перенёс всех раненых в лесную чащу.
Неожиданно вынырнувший из-за леса краснозвёздный истребитель с ходу сбил немецкого хищника. «Мессершмитт», охваченный огнём, рухнул в лес; раздался взрыв — и чёрный столб дыма поднялся к небу…
Стараясь не упустить ни одного слова, слушали мы рассказ Дмитрия Степановича Гончаренка. Каждый хотел запомнить мельчайшие детали боевых эпизодов. Ведь всё это могло впоследствии нам пригодиться — каждый из нас может попасть в такой переплёт.
Много рассказывал начальник политотдела и о полётах в блокированные Ленинград, Севастополь, Одессу. Особенно велики были воздушно-транспортные операции по трассе Москва — Ленинград. За несколько месяцев блокады 1941 года было выполнено свыше трёх тысяч вылетов в Ленинград. В осаждённый город-герой по воздуху доставили пять тысяч тонн продовольствия, полторы тысячи тонн различного вооружения и боеприпасов, сто двадцать восемь тонн почты, триста двенадцать тонн консервированной крови в госпитали для спасения жизни раненым бойцам Ленинградского фронта.
За это же время обратными рейсами из Ленинграда вывезли свыше пятидесяти тысяч изнурённых голодом ленинградцев и около девяти тысяч тяжелораненых.
Рассказал нам Гончаренок и о том, как по заданию Центрального штаба партизанского движения наши транспортные самолёты уже совершили тысячи боевых вылетов в расположение партизанских отрядов Ковпака, Федорова, Козлова, Сабурова, Мельникова и других. Многомоторные тяжёлые самолёты не только сбрасывали на парашютах всё, чего не хватало партизанам, но и совершали рискованные посадки на лесных полянах, на ледовых аэродромах, на кочках болот. Разгрузившись, они принимали на борт раненых, больных, детей.
Рассказ Гончаренка вдохновил каждого из нас. Хотелось поскорее лететь на трудное и рискованное задание.
Но нас, молодых пилотов, прибыло много, а экипажей да и машин на всех ещё не хватало. Поэтому командование многих пилотов отправило пока в подсобное хозяйство, помогать убирать овощи. Дело это было, конечно, нужное, но… картофель, морковь, свёкла! А товарищи в это время летают, воюют!..
Наконец меня зачислили запасным пилотом в экипаж командира корабля Княжко. Основным вторым пилотом там был Тараненко, налетавший уже не одну сотню часов, правда пока в лёгкой, одномоторной авиации.
Экипаж Княжко занят был снабжением партизанских отрядов, действовавших в то время в районе Миллерова и Ростова. Прощай, картошка! Теперь мы с Тараненко летали вторыми пилотами поочерёдно. Полёты были только ночные. Один из нас находился на борту корабля. Другой же, оставаясь на командном пункте, ко времени возвращения самолёта на базу ракетами указывал ему место, где следовало приземляться.
Но радость моя была преждевременна. Вскоре Княжко под разными предлогами стал всё чаще брать с собой Тараненко, а меня оставлять стартёром на базе. Обидно, однако поведение Княжко было понятно. Хоть я в полёте добросовестно выполнял все его распоряжения, мне ещё нужно было учиться и учиться. Ведь весь мой боевой опыт в то время равнялся нулю! Совсем иное дело — Тараненко: тот не раз самостоятельно летал в тыл врага и, в случае чего, мог оказаться надёжным помощником своему командиру, особенно в ориентировке.
Я был очень расстроен тем, что снова оказался «спешенным». Но скоро мне повезло. Да ещё как! Я попал в экипаж к самому Тарану!
Лётчик Григорий Таран
Григорий Алексеевич Таран уже в то время был среди лётчиков личностью почти легендарной. Он выделялся каким-то особенным, только ему свойственным обаянием. Уже тогда прославившийся многими боевыми подвигами, он был чужд всякого зазнайства. Скромный и простой в обращении со всеми, а с нами, новичками, в особенности, он охотно делился своим опытом, никогда и никому не отказывал в помощи или совете.
Таран был непревзойдённым мастером пилотирования тяжёлых транспортных машин. И если в военной авиации привилась поговорка: «Летать, как Чкалов!», то у нас, в гражданской, часто можно было услышать: «Летать, как Таран!»
Свою практическую летную деятельность Таран начал в очень трудных условиях — в высокогорных районах Средней Азии. Ему приходилось летать по трассам, пересекающим высокие хребты, петляющим между горными отрогами. Он не только перевозил пассажиров, почту, медикаменты и всякие другие грузы, но одновременно и прокладывал новые воздушные пути, появлялся там, где до него никто из авиаторов не бывал, находил с воздуха в горах и долинах подходящие площадки, садился на них и снова взлетал. А по его стопам шли уже другие, и новая линия входила в регулярную эксплуатацию.
В борьбе с трудностями на неизведанных высокогорных трассах оттачивалось и совершенствовалось лётное мастерство Тарана, закалялась его воля. К началу войны Таран великолепно владел техникой пилотирования тяжёлых транспортных машин многих типов.
Впервые я увидел Тарана на теоретических занятиях. Нас знакомили с материальной частью самолётов и моторов, на которых нам предстояло летать, с особенностями электрооборудования, а также с тем, как вести навигационные расчёты в полёте. Здесь же бывалые фронтовые лётчики на конкретных примерах обучали нас тактике полётов в тыл врага: как преодолевать его противовоздушную оборону, как вести себя в случае встречи с вражескими истребителями.
Рядом со мной на занятиях сидел новичок, вроде меня, молодой пилот Дмитрий Сергеевич Езерский, жизнерадостный блондин, неугомонный шутник и остряк. Но, когда занятия проводил Таран, даже мой сосед Езерский забывал о своих шутках. Каждый рассказ Григория Алексеевича был не только занимателен, но и поучителен: многое из того, что услышали мы от него в часы занятий, нам впоследствии удалось применить на практике.
Как-то раз после очередной беседы Таран оглядел свою небольшую аудиторию.
— Как ваша фамилия? — обратился он к моему соседу.
— Старший лейтенант Езерский! — отчеканил, вскочив с места и вытянувшись, мой друг Дима.
Таран придавал большое значение дисциплине. С удовлетворением окинув взглядом подтянутую фигуру и отметив хорошую строевую выправку своего собеседника, он распорядился:
— Так вот, старший лейтенант Езерский… готовьтесь к ночному полёту за линию фронта! Хочу проверить, как вы усвоили мои советы и рекомендации, как сумеете использовать их в боевой обстановке.
Они вылетели в тот же день, в сумерках, к партизанам, действующим в глубине брянских лесов. Мы все завидовали в душе Езерскому и с нетерпением ожидали его возвращения с задания. «Ну и повезло же Диме!» — думалось каждому из нас.
— Линию фронта мы пролетели на большой высоте, — рассказывал нам позже Езерский, — потом сразу пошли на резкое снижение. Ещё перед вылетом Таран рекомендовал мне с помощью штурмана изучить как следует предстоящий маршрут, наметить характерные ориентиры. Но на первых порах, сколько я ни вглядывался вниз, под крыло, глаза мои к темноте ещё не привыкли — я ничего не различал, кроме безграничной чёрной бездны. Лишь когда мы опустились совсем низко, в поле моего зрения замелькали перелески, овраги, кустарники, околицы деревни.
По словам Езерского, на цель они вышли без всяких затруднений: точно, по расчёту времени, прямо по курсу появились долгожданные сигнальные костры партизанского лагеря. Была уже отдана команда приготовиться к сбросу: штурман, механик и радист подтянули к дверям стокилограммовые тюки. Тут Таран резким движением штурвала от себя направил самолёт книзу. Езерский опешил.
— Товарищ командир! — воскликнул он испуганно. — Что случилось?
Не знал Езерский, что в момент выброса грузовых мешков из кабины необходимо наклонить самолёт носом вниз так, чтобы его хвост был приподнят вверх, а линия движения самолёта представляла наклонную траекторию. Это делалось для того, чтобы при раскрытии парашюта его стропы не могли зацепиться за хвостовое оперение или за стойку хвостового колеса.
После того как груз был выброшен, Таран заложил крутой вираж над целью, чтобы проверить, правильно ли спускались мешки с грузом. С самолёта было отчетливо видно, что раскрытые купола парашютов, озарённые снизу багровым отблеском костров, словно гигантские розовые магнолии, медленно плыли к земле.
Легли на обратный курс. Один за другим замелькали под крылом ориентиры. Среди них было и полотно железной дороги с крупным железнодорожным узлом, расположенным несколько в стороне от маршрута. Как только самолёт достиг железнодорожной линии, Таран резко развернул машину в сторону станции.
— По пути поглядим, что поделывают фашисты, — сказал он.
К станции подошли на бреющем полёте. Шум маневровых паровозов заглушал гудение моторов: гитлеровцы спокойно занимались своими делами, не чуя над собой беды. Пройдя так низко, что фюзеляж едва не царапнул по крышам станционных зданий, Таран развернул самолёт и, резко накренив его, подошёл к составам, стоящим на станционных путях.
— Огонь! — скомандовал он.
На станции поднялась невообразимая паника. Вспыхнули цистерны с горючим, стали рваться вагоны с боеприпасами, высоко в небо поднялись столбы дыма, огня и пепла.
Долго ещё за хвостом самолёта полыхало багровое зарево пожарища. Передав управление второму пилоту, Таран удовлетворённо откинулся на спинку сиденья.
Внезапность нападения с бреющего полёта обеспечила полную безопасность: ни одного выстрела с земли по самолёту не последовало. Экипаж Тарана благополучно возвратился на базу…
Таран рассказал нам о том, как в боевой обстановке иногда выручает простая смекалка, военная хитрость. Не только зенитчики, но и мирные жители, в том числе и малые дети, научились отличать фашистские самолёты от наших по звуку мотора. Наши моторы гудели мерно: «у-у-у», а фашистские надрывно, с передыхом. Когда наши самолёты пересекали линию фронта, фашисты, заслышав грозное «у-у-у», ловили нас прожекторами и поливали свинцовым огнём. Поймав же своё «гау, гау, гау», они гостеприимно зажигали посадочные огни.
Таран решил перехитрить фашистскую противовоздушную оборону. Установив секторы оборота своих моторов несинхронно — не в лад, он добился того, что и наши самолёты стали издавать фашистский лай: «гау, гау, гау». Таким способом Тарану удавалось пересекать линию фронта с меньшим, чем прежде, риском.
Григорий Алексеевич учил нас, как лучше ориентироваться на местности. Дело в том, что экспедиции в тыл врага проводились обычно в ночное время и притом на бреющем полёте, когда все наземные ориентиры от быстрого мелькания под крылом становятся неразличимыми, сливаются в сплошную линию.
— Прежде всего, — любил повторять Таран, — нужно перед полётом точно наметить себе по карте несколько контрольных ориентиров и точно знать свою путевую скорость — скажем, четыре километра в минуту. Когда по расчёту времени самолёт должен находиться над контрольным ориентиром, пилот на несколько секунд включает одну фару, и луч её обязательно даст отблеск от рельсов железнодорожного пути, от водного зеркала реки или пруда, от асфальта шоссе, от стёкол окон…
В каждом своём рассказе Таран подчеркивал, что пилоту, кроме смелости, настойчивости и искусства, требуется ещё и находчивость, смекалка.
Вот какой был у него случай. Григорий Алексеевич однажды потерял ориентировку в глубоком тылу врага. Он знал, что где-то поблизости находится железнодорожный мост, охраняемый вражеской зенитной артиллерией. Недолго думая Таран стал на бреющем полёте закладывать вираж за виражом, пока фашисты сами не показали ему, где находится мост, обнаружив себя беспорядочной стрельбой. А Григорию Алексеевичу это только и нужно было. Найдя мост, он лёг на правильный курс и вскоре вышел на цель.
Наша транспортная авиация оказывала в боевых условиях неоценимые услуги фронту, но для Тарана этого было недостаточно. Самолёт его был вооружён лишь пулемётами для защиты от истребителей, а Григорий Алексеевич, возвращаясь с задания, любил использовать своё вооружение и для нападения. Он рассеивал немецкие колонны на марше, нападал на железнодорожные станции, уничтожал эшелоны с боеприпасами, цистерны с горючим.
И вот выпала мне честь лететь с Тараном. А взял меня он потому, что отправлялся по хорошо знакомой мне трассе. Он летел на поиски потерпевшего аварию самолёта Княжко, с которым я недавно летал.
Километрах в ста от Волги в степи, у одинокого кургана, мы увидели распростертый на земле самолёт.
Таран сделал несколько кругов над местом аварии. Он хотел получить полное представление о случившемся, чтобы потом доложить командованию. Найдя километрах в десяти от места, где лежал разбитый самолёт, укатанную снеговую площадку, мы приземлились.
Теперь нам надо было вывезти экипаж с аварийного самолёта, а также снять с машины и доставить на базу всё, что представляло собой ценность. В помощь нам был придан лёгкий одномоторный самолёт, беспрестанно курсировавший между местом нашей посадки и местом аварии. Такой полёт занимал в оба конца около десяти минут.
Княжко рассказал, что ночью, в тумане, вынужденный идти на посадку вслепую, он налетел на одинокий курган, неожиданно возникший среди гладкой равнины. Самолёт без левой плоскости распластался на снегу. Экипаж, к счастью, оказался невредим.
Наконец всё ценное было погружено. Пора вылетать. Неожиданно Таран приказал мне занять пилотское место. Это уже превосходило самые сокровенные мои мечты! Я был горд оказанным мне доверием, счастлив тем, что сейчас полечу под руководством самого Тарана. Но вместе с тем и волновался изрядно: вдруг оскандалюсь? Тарану я верил безгранично. «Если он останется недоволен мной, — думал я, — значит, как пилот я ничего не стою».
Нужно было взлетать. Григорий Алексеевич замял место второго пилота. Потом, кивнув мне головой, крикнул:
— Взлетай! Чего ждёшь?
Я тотчас же двинул от себя рычаги сектора газа — моторы взревели, и машина покатилась вперёд. Всё моё внимание было сосредоточено теперь на том, чтобы точно выдержать направление взлёта, сохранить рекомендованную инструкцией скорость отрыва от земли. Взлёт прошёл благополучно.
Всего каких-нибудь пятьдесят метров отделяли самолёт от земли, когда машину вдруг резко развернуло влево и завалило в крен. Что за оказия? Растерянно оглядываюсь на Тарана, а он ободряюще улыбается. Оказывается, это он вмешался в управление — развернул самолёт.
— Чего глядишь? — крикнул Таран. — Вот так с разворота и ложись на курс! Кстати, какой он у тебя должен быть?
В спешке я взял градусов на пять левее. Теперь я завернул вправо и продолжал полёт. А Григорий Алексеевич то и дело ставил мне все новые и новые задачи.
— Сзади, слева, — истребитель противника. Что будешь делать?
— Прижиматься к земле! — уверенно ответил я.
— А ну-ка, покажи, как ты ходишь бреющим.
А высота у нас и без того была небольшой — в прифронтовой полосе, в зоне действия истребителей противника, транспортные самолёты, чтобы без нужды не обнаруживать себя, только так и летали.
Но что поделаешь? Я двинул штурвал от себя и понёсся буквально над самой землёй, того и гляди вмажешься во что-нибудь. Но я чувствовал себя уверенно: рядом со мной сидел Таран, он всё время вмешивался в управление, исправлял мои промахи, подсказывая, что нужно делать.
Григорий Алексеевич задавал мне самые неожиданные вопросы. В то время как я был целиком поглощен пилотированием, он вдруг спросил меня:
— Через сколько минут будем на базе? Покажи на карте, где мы сейчас находимся?
Цель его вопроса я прекрасно понимал: лётчик в полёте при всех неожиданностях должен уметь быстро и правильно реагировать на всё — и курс выдерживать, и вести точный расчёт времени, и быть готовым в любую минуту к встрече с неприятелем, и следить за состоянием и работой материальной части. Таким образом, он обязан уметь мгновенно переключать внимание с одной задачи на другую.
Так, в непрерывной учёбе, прошёл этот мой первый совместный с Тараном полёт.
Долетели мы до нашего аэродрома. Вижу, садиться сразу нельзя — несколько других самолётов ходят по кругу, дожидаясь очереди на посадку. Я стал в этот круг пятым. Но тут Григорий Алексеевич снова взял в руки параллельное управление. Один разворот, другой — и все машины очутились позади нас, а наш самолёт уже идёт на снижение. Всё это произошло молниеносно. Таран вынужден был нарушить очередь — бензин у нас был на исходе. Я же об этом не подумал.
— Бери управление да садись поаккуратнее! — скомандовал Григорий Алексеевич.
Садиться было не совсем легко — дул боковой ветер. Я приземлился с «козлом»: не сразу сел на три точки, а сперва коснулся земли, подпрыгнул и лишь после этого сел как полагается.
Я сгорал от стыда и ожидал, что Григорий Алексеевич сейчас обрушится на меня за эту ошибку.
Но Таран только спросил:
— Сколько имеешь налёта на такой машине?
— Пятнадцать часов вместе с вывозными!
— Ничего, летать будешь! — заметил Таран добродушно. Потом, махнув мне на прощание меховой перчаткой, неожиданно добавил: — Готовься к полёту в Москву! Летим завтра…
…Итак, мы в воздухе. Держу высоту сто метров. Всё идёт благополучно.
Вдруг Таран подаёт команду:
— А ну, покажи ещё раз, как ты умеешь бреющим летать!
Я отдал от себя штурвал и полетел метрах в десяти — пятнадцати от земли. Такая высота требует напряжённого внимания лётчика — земля мелькает под крылом, как вихрь, и нужно уметь держать курс, успевая делать «горку», если возникнет на пути неожиданное препятствие. А я, едва успев выполнить одно приказание Тарана, слышу новую команду:
— Ниже, ещё ниже, прижимайся к земле!
Меня даже в пот ударило. Нервы, воля, глазомер и без того на пределе. Но тут Григорий Алексеевич берёт штурвал в свои руки.
— Гляди, как надо летать! — кричит он мне.
Мы идём над самой землёй, чуть не касаясь её фюзеляжем. Таран нырял в овраги, использовал каждую складку рельефа местности, чтобы плотнее прижаться к земле. Точно на экране мелькнул у меня перед глазами матёрый волк, застигнутый гигантской тенью нашего самолёта; он не только не пытался броситься в сторону, но трусливо повалился на спину, беспомощно подняв лапы, как провинившаяся собачонка. Теперь я понял, почему такой полёт называется бреющим — если бы к фюзеляжу нашего самолёта было прикреплено большое лезвие, мы, вероятно, начисто срезали бы по пути всё: и мелкий кустарник, и остаток прошлогодней травы, и верхний слой снежного покрова…
Так мы долетели до Москвы. Здесь Григорий Алексеевич подверг беспощадному разбору моё пилотирование, указывая на мои ошибки, разъясняя, как избегать их в полётах. Всё становится ясным, кроме одного.
— А зачем нужно было так низко лететь, как вы это делали? — спрашиваю я Тарана.
В ответ Григорий Алексеевич только улыбается.
— Поживешь — увидишь, зачем это нужно… — говорит он мне.
Через несколько дней я получил назначение вторым пилотом в экипаж Назарова, который вместе со многими другими лётчиками должен был провести крупную операцию на Курском направлении. Весь экипаж, включая и командира корабля, состоял из молодых лётчиков, имеющих ничтожный опыт боевой работы. А летать нам предстояло в дневных условиях, садиться на переднем крае — километрах в четырёх от расположения противника.
На следующий день я прощался с Григорием Алексеевичем. Вместо напутствия он коротко сказал мне:
— Летай храбро, честно, а самое главное — не бойся истребителей противника! Ясна задача? Повтори!
На этом мы расстались с ним…
Наш экипаж, как и прочие экипажи, занятые снабжением передовых частей Советской Армии, незадолго до этого освободивших Курск и Елец, расположился на своей базе в землянках. По графику каждый корабль должен был совершать четыре-пять рейсов за день. Мы же старались летать шесть раз в сутки, и это почти всегда нам удавалось.
Линия фронта была ломаной, поэтому и летать нам приходилось не по прямым маршрутам, а по зигзагам, что значительно затрудняло ведение расчётов полёта и ориентировку. Да и истребители противника донимали. Однажды летели мы на передовую двумя тяжёлыми машинами. Впереди идущий корабль шёл выше нас, метрах в полутораста от земли. Его атаковали два истребителя «Мессершмитт-109». Он успел уйти от них, нырнув в овраг, однако не избежал пробоин. На другой день и наш корабль подвергся нападению фашистских стервятников, и мы тоже спаслись, прижимаясь к земле.
Всякий раз, когда нам удавалось таким способом уйти от преследования, я вспоминал Тарана и наш совместный с ним полёт из Борисоглебска в Москву. Как я ему теперь был благодарен! Попав в настоящую боевую обстановку, я понял, насколько важно для пилота тяжёлого транспортного корабля уметь вести машину на высоте в несколько метров от земли, уметь использовать каждую ложбинку, каждый овраг, чтобы плотнее прижаться к земле. В этом был залог успеха выполнения заданий, которые ставило перед нами командование.
Сначала мы только сбрасывали на передовой груз, потом стали летать и с посадками. Под обстрелом быстро разгружали самолёт, а на борт принимали раненых.
На этом фронте наш экипаж совершил сто восемьдесят боевых вылетов, в том числе несколько десятков с посадкой, эвакуировал в тыловые госпитали четыреста пятьдесят бойцов и офицеров.
Но не все полёты проходили гладко. Сделали мы как-то пять рейсов на передовую и готовились к шестому. Времени было в обрез, надвигались сумерки, кончился бензин. Мы попросили, чтобы машина с горючим подошла к нам. Но её по пути перехватил экипаж другого корабля, командиром которого был мой приятель Ильин. Больше горючего в бензозаправщике не оказалось. Ильин ушёл в шестой рейс, а мы в этот день вынуждены были остановиться на пяти.
Досадуя на свою оплошность — время было позднее, темнело, заправиться мы уже не успели бы, — наш экипаж зарулил машину на стоянку, зачехлил моторы и отправился отдыхать. Однако отдых оказался неспокойным: корабль Ильина ко времени не вернулся на базу. Все тревожились за судьбу товарищей.
Что произошло с кораблём Ильина, мы узнали позднее. Летел он сбрасывать груз в район Фатежа, начал с высоты семьдесят метров выгружать первые тюки с боеприпасами, тут как раз на него и напали два фашистских истребителя. Уходить Ильин не мог: прежде всего обязан был выполнить задание. Бесстрашный стрелок Толя Яцук открыл ответный огонь по неприятелю. Но бой был неравным. Короткими очередями Яцук всё же сумел сбить один истребитель. Второй ещё яростнее атаковал Ильина. Уже не одна пулемётная очередь прошила его корабль. Наконец прямое попадание — и снаряд разорвался внутри самолёта. Осколками ранило бортмеханика и Яцука, Ильин продолжал виражить над целью, сбрасывая остатки груза.
Истекая кровью, раненный в ноги стрелок из последних сил отбивался от второго истребителя. Яцуку удалось-таки подбить и его. «Мессершмитт», оставляя за собой дымный шлейф, выходил из боя и удалялся в своё расположение. Но и наш корабль загорелся. Ильин выбрал первую мало-мальски подходящую площадку в снежном поле и сел. Здоровые поспешно вытащили раненых из самолёта. Не успели они отползти от машины метров на тридцать, как взорвались бензобаки.
Фронтовики позаботились об экипаже самолёта. Через несколько дней Ильин с товарищами вернулись на базу.
Вблизи аэродрома…
Вскоре меня из вторых пилотов перевели на должность командира корабля. Но самолёта пока не было, как не было и экипажа. Ждать мне пришлось больше месяца. А пока я выполнял самые разнообразные задания командования. В конце апреля 1943 года я был включён в состав экипажа, получившего задание лететь через линию фронта, в глубокий тыл противника. Мы должны были сбросить боеприпасы и оружие одному из белорусских партизанских отрядов, действующих в районе реки Птич.
Нас ознакомили с обстановкой: лететь можно, конечно, только ночью. Партизанский отряд окружён; немцы прекрасно понимают, что снабжать его будут лишь с воздуха, поэтому над местом расположения отряда беспрестанно рыскают фашистские истребители. Партизаны по радио предупреждены о нашем прилёте и должны выложить «закрытое письмо», то есть пять костров, расположенных так, как обычно располагаются сургучные печати на конверте.
Мы вылетели с подмосковного аэродрома в сумерки. Уточнив направление ветра, сразу полезли вверх и линию фронта пересекли над облаками. Нам не видны были ни зарева пожарищ, ни осветительные ракеты, ни фейерверки трассирующих пуль — та обычная картина, которую с воздуха приходилось наблюдать над передовой.
Я вёл машину, сидя на месте второго пилота, справа. Слева от меня был опытный командир корабля А. Быстрицкий. Моторы работали ритмично. Под крылом самолёта расстилался облачный ковёр, над нами плыло тёмно-синее небо, усеянное мерцающими звёздами. За линией фронта мы летели уже около двух часов, а всего от базы до цели при встречном ветре нужно было лететь часа четыре, так что наш механик на всякий случай заполнил горючим все дополнительные баки.
Бортрадист Серёжа Смирнов трудился, то и дело отстукивая на ключе донесения на базу о нашем продвижении.
По расчетам выходило, что приближаемся к цели. Наш ориентир — развилок реки. Вблизи её уже нетрудно было отыскать условный сигнал — «закрытое письмо».
Посоветовавшись между собой, мы пошли на снижение. Исчезло звёздное небо, самолёт погрузился в густую вату облаков. Стало побалтывать. Внимательно слежу за приборами, снижаюсь, а земли всё не видно. Какова же глубина облачности, не до самой же земли она доходит?
Но вот туманная пелена стала постепенно разрежаться. В просветах показалась окутанная ночным мраком земля, мелькнули первые приметы весны: мёрзлые лужи, бездорожье, тёмные пятна чернозёма, похожие на бесчисленные заплаты на стелющейся снеговой рубашке. Ориентироваться всё труднее.
Справа по курсу блеснула гладь водной поверхности.
— Река! — крикнул я, обрадованный тем, что мы и над облаками не сбились с пути.
— Как будто бы она! — подтвердил и штурман.
Сверились с картой и полетели вдоль течения реки к развилку, откуда мы должны были продолжить курс на цель. Развилок разыскали без труда, но тут брызнул ослепительный свет прожекторов. В перекрещивающихся лучах их заметался наш самолёт.
С земли начался ураганный обстрел из орудий, пулемётов, винтовок, автоматов. Прожекторы ослепили меня на миг, я зажмурился и, с трудом раскрыв глаза, уставился на приборную доску. Начинаем маневрировать, стараясь уйти от огня, но проклятые лучи не выпускают нас из цепких объятий. Скорость наша приближается к четыремстам километрам в час, резко идём на снижение. Кругом — справа и слева, снизу и сверху — рвутся снаряды, осколки лязгают по моторам, кромсают обшивку фюзеляжа. На высоте пятидесяти метров от земли выравниваем самолёт, ложимся на курс. Кажется, ушли!
Лучи прожекторов ослабли, разрывов не слышно, гробовая тишина и мрак вокруг, только мерно гудят моторы. Чей-то вопрос: «Ну как?» — нарушил тишину. Начинается перекличка:
— Все живы?
— Живы!
— Раненых нет?
— Как будто нет!
Мы вздохнули свободно. После недавнего грохота взрывов и слепящих прожекторов тишина и мрак казались раем.
Для меня это было первое, по-настоящему боевое крещение. И до этого бывали полёты в боевых условиях, но ничего подобного ещё не приходилось переживать. Казалось, мы вырвались из костлявых рук смерти. Ну и развилок рек, ну и ориентир! Не ориентир, а ловушка, подстроенная нам фрицами.
Ещё несколько минут спокойного полета над тёмным массивом ночного леса, и вот впереди мелькнули тусклые огоньки партизанских костров — «закрытое письмо».
Цель найдена!
Один заход, другой, третий — и все мешки с грузом на парашютах летят в расположение отряда. Получайте, родные, пакет с новым шифром для связи, получайте оружие, боеприпасы, газеты, журналы и первомайские подарки! Отпразднуйте Первомай по-боевому — взрывами мостов, пуском под откос поездов, уничтожением карателей!
Убедившись, что груз нами доставлен по назначению, развернулись на обратный курс. Любопытная психологическая деталь: когда мы летели на цель, никто не думал об опасности, не испытывал ни малейшего страха. А все ведь прекрасно понимали, что предстоит дважды пересечь линию фронта, лететь несколько часов над территорией, оккупированной неприятелем, пробиваться к партизанам, воздушные подступы к которым оберегают вражеские истребители. Теперь же, когда опасность в основном миновала, задание выполнено, а мы благополучно вышли из серьёзной передряги, я нервничал: как бы снова не нарваться на засаду.
Само собой разумеется, на знаменитый контрольный ориентир мы не пошли, а обошли его градусов на пятнадцать левее. Кроме того, для большей безопасности решили забраться повыше, за облака. Лететь до своего подмосковного аэродрома нам предстояло часа три. На облегчённом самолёте меньше чем за полчаса мы поднялись на высоту четыре тысячи метров и без помех пересекли линию фронта.
Пот льётся градом с лица бортрадиста Серёжи Смирнова; он настойчиво постукивает ключом, посылая в эфир сигнал за сигналом, но из Москвы ни звука!
Наконец Серёжа разочарованно докладывает:
— Командир, связи не будет: антенна перебита, передатчик повреждён, приемник тоже неисправен. А в полёте починить не смогу!
Новое осложнение — придётся снижаться. Затемненная Москва окружена аэростатами заграждения, в стропах воздушных шаров легко запутаться, если продолжать полёт без ориентировки по радио. Пробили облака и на малой высоте наконец увидели землю. Под крылом замелькали поля, овраги, массивы леса, мелкие речушки. По времени мы должны были находиться над своей территорией, но где именно, определить трудно. Штурман, ныне покойный Женя Борт, сосредоточенно водил пальцем по планшету с картой — верный признак того, что и ему не разобраться.
Мы уже целых семь часов кружимся в воздухе. Механик заметно нервничает, то и дело проверяет наличие бензина и, когда оказываемся над большим лесным массивом, докладывает командиру: бензин кончается.
Садиться пока некуда. Командир подбирает наддув, уменьшает мощность, переводит работу моторов на малые обороты. Боясь пролететь мимо Москвы, мы начинаем менять курсы, летаем по треугольнику и тут окончательно теряем ориентировку. Механик настоятельно требует посадки. Впереди мелькнула полоса желтоватого цвета, вглядываемся — какой-то пустырь. Решаем садиться, но в первый заход не успеваем, а на повторный бензина может не хватить. Принимаем новое решение — лететь вперёд, пока хватит горючего.
Тем временем начинает светать. Вот уже восемь часов, как мы в воздухе. Механик предупреждает, что указатель бензина на нуле. А где мы летаем — по-прежнему остаётся неизвестным: то ли плутаем между тросами аэростатов заграждения, то ли вернулись на территорию, оккупированную врагом.
Впереди мелькнуло зеркало какого-то водоёма.
— Река! — крикнул обрадованный штурман.
Командир, который в этот момент вёл нашу машину, хотел сделать крутой разворот, чтобы выйти на реку, но я затормозил параллельным штурвалом. Да он и сам спохватился: на крутом развороте остаток бензина на дне бака могло плеснуть в сторону, заборник бензина обнажился бы, а моторы встали. Осторожно, плавно, с малым креном, «блинчиком», как у нас говорят, мы развернули самолёт по руслу реки и полетели по ее течению.
Куда приведет нас эта река, неизвестно, но если уж падать, так лучше на водную поверхность, чем в лес: и самолёт не разобьем, и сами живы останемся. Тем временем рассвело, а впереди по курсу сквозь дымку утреннего тумана мелькнули силуэты каких-то строений.
— Город! — крикнул штурман.
И сразу все забеспокоились: дотянем ли до аэродрома, есть ли здесь аэродром, кто в этом городе — свои или гитлеровцы?
Так или иначе, надо было садиться. Вот наконец и аэродром, а на нём, на стоянках, — родные длинноносые «МИГи». Свои! Мы — дома!
Командир с ходу направляет машину на аэродром, чтобы не упасть на его границе. Едва мы коснулись земли, как лопасти винтов стали вращаться вяло, по инерции, а затем и совсем замерли: мы израсходовали своё горючее до последней капли, долетели, как говорится, «впритирку». Но нам нужно было освобождать взлётно-посадочную полосу для других самолётов. Используя инерцию катящегося по земле самолёта, командир нажал правый тормоз — машина развернулась, немного откатилась в сторону и стала как вкопанная.
Облегчённо вздохнув, мы один за другим ступили на твёрдую землю. Хотелось размяться после восьмичасового полёта, а главное, посмотреть, во что гитлеровцы превратили наш самолёт: били-то они по нему изрядно!
Первое, что мне бросилось в глаза, это зияющие дыры в обшивке фюзеляжа. В каждую из них мог бы легко пролезть подросток. Киль оказался отбитым как раз в том месте, где крепится антенна. О мелких пробоинах от осколков и говорить не приходилось — их было не счесть!
Израненный самолёт привлёк всеобщее внимание. Несмотря на ранний час, возле нас мгновенно собралась многолюдная толпа лётчиков, механиков, обслуживающего персонала аэродрома. Куда же мы всё-таки сели? С этим вопросом я обратился к подошедшему к нам диспетчеру. Тот в полном недоумении уставился на меня.
— Какой аэродром? — переспросил диспетчер удивлённо. — Да подмосковный же! Вы что, в первый раз здесь, что ли?
Подмосковный? Значит, мы всю вторую половину ночи блуждали вокруг Москвы, возле своего собственного аэродрома? Вот так оказия! Удивительно, как мы не запутались в тросах аэростатов заграждения.
— Командир, идите-ка сюда! — позвал механик, забравшийся в это время в хвостовой отсек. — Всякого я насмотрелся, а такого не видал! Чудеса, да и только, — говорил он.
Оказывается, трос управления был повреждён осколком; из пятнадцати его проволок двенадцать были перебиты, трос держался всего только на трёх. Чудом спаслись мы от катастрофы.
Механик порвал оставшиеся проволоки троса, а затем прочно связал оба конца отрезком фалы, оставшейся в самолёте от парашюта.
Гостеприимные хозяева аэродрома пригласили нас поесть и отдохнуть. После восьмичасового нервного напряжения мы лишились последних сил, как-то сразу обмякли. И всё же бодрость духа не оставляла нас: несмотря на все трудности задание нами было выполнено! Да и самолёт свой, избитый и простреленный, мы всё-таки не разбили, дотянули его до аэродрома.
Прежде чем идти завтракать, мы уселись под крылом самолёта немного отдохнуть, прийти в себя. И, конечно, тут же уснули мёртвым сном. Нас с трудом разбудили часа через четыре, и мы благополучно перелетели на свой аэродром, расположенный отсюда в каких-нибудь десяти минутах полёта.
После этой памятной операции я вернулся на свою базу. У меня все ещё не было ни самолёта, ни экипажа, и мне по-прежнему давали эпизодические поручения.
Однажды я дежурил на аэродроме в качестве руководителя полётов. Было раннее весеннее утро, солнечное и безветренное. На горизонте показались три чёрные точки, ясно различимые на фоне голубого безоблачного неба.
Быстро приближаясь и увеличиваясь в размерах, эти точки вскоре приобрели отчётливые очертания воздушных кораблей, в которых я сразу же признал самолёты иностранного происхождения.
Первые два самолёта выполнили маневр захода на посадку обычно, как мы всегда это делали. Третий садился по-своему — не как линейный лётчик, а скорее как лётчик-испытатель: развороты глубокие, с большим креном, резкие и быстрые. С таким же мастерством была выполнена и сама посадка. Что-то знакомое почудилось мне в этом лётном почерке.
Я не ошибся. Когда машины подрулили к аэровокзалу, по трапу одной из них спустился Григорий Алексеевич Таран. Я бросился ему навстречу.
Со всех сторон сбегались лётчики, техники, командиры. Все спешили поздравить с благополучным прибытием отважных советских лётчиков, только что завершивших сложный беспосадочный перелёт через Северное море и Скандинавию.
Таран взглядом отыскал меня в толпе. Я подошёл к нему и поздравил с благополучным завершением перелёта.
— Командир корабля? — спросил он весело.
Я ответил утвердительно.
— Летаешь?
— Да, вот только на этой неделе дают машину и экипаж… А пока — вторым пилотом.
Мельком глянув на грудь моей гимнастерки, Таран крепко пожал мне руку: в числе прочих лётчиков нашей группы я к этому времени получил орден Красной Звезды за участие в Курской операции.
В плену у своих
Долгожданный день пришёл: в моё распоряжение наконец поступил тяжёлый транспортный самолёт, двухмоторная машина.
К исполнению своих командирских обязанностей я приступил с чувством радости и гордости: вон какую машину мне доверили!
В глубине души была и тревога: справлюсь ли, оправдаю ли доверие? Теперь я, командир корабля, лично несу полную ответственность за выполнение каждого очередного задания, за жизнь экипажа и пассажиров, за сохранность материальной части и грузов.
Доверенный мне самолёт был включён в группу, которая базировалась в Миллерове. Отсюда мы должны были обеспечивать всем необходимым Семнадцатую воздушную армию, ведущую в эти дни наступательные бои. С прифронтового аэродрома в Миллерово нам предстояло на рассвете вылетать за грузом в один из приволжских городов, принимать на борт запасные части и снаряжение. Загрузившись, мы летели прямо на фронт, а оттуда возвращались на свою оперативную точку. Рейсы были довольно большие, до девятисот километров.
Я летал только в дневное время, так как к самостоятельным ночным полетам меня пока не допускали.
Мы старались летать в любых метеорологических условиях: Семнадцатая армия не должна была испытывать никаких перебоев в снабжении. Связь со своей базой поддерживали по радио с борта самолёта.
Однажды, приземлившись на прифронтовом аэродроме, наш экипаж, как всегда, разгрузился. Время шло к вечеру, а до Миллерова оставалось ещё более полутораста километров. Надо было спешить.
Неожиданно получаю приказ из штаба армии: задержаться до наступления сумерек и принять на борт полковника, имеющего срочное важное поручение в тыл.
Начало темнеть, когда мы поднялись в воздух. Лететь предстояло около получаса — сущий пустяк по сравнению с тем, что я успел налетать за этот день. Вначале всё шло хорошо. Но, подлетая к самому Миллерову, я увидел зарево пожара, вспышки орудийных разрывов в воздухе. На земле пылали факелы рвущихся бомб. Фашистские хищники налетели на станцию и на аэродром.
Нам лезть в это пекло, конечно, не следовало, разумнее было переждать. Но где? К этому времени уже совсем стемнело. Сесть? Некуда. В воздухе ждать окончания налёта? Но хватит ли бензина? Однако иного выхода не оставалось. Я развернул машину и в стороне от города стал описывать круг за кругом, ожидая прекращения боя. Фашисты заходили на цель эшелон за эшелоном, наши прожекторы настойчиво прощупывали небо, неумолчно стукали зенитки и рвались снаряды. Стрелка бензиномера на машине между тем подходила к нулю. Надо было садиться. Посоветовавшись с экипажем, я рискнул тянуть на свой аэродром, зайдя на него с другой стороны, противоположной той, где шёл бой.
Однако не успели мы приблизиться к своему аэродрому, как налетел ещё один отряд фашистских бомбардировщиков, и бой разгорелся с новой силой.
Кругом — бесчисленные молнии и громы разрывов. Мечемся из стороны в сторону в лучах прожекторов. Свои же зенитчики бьют по нас напропалую. Единственное, что нам оставалось, — нырнуть к земле.
С силой я отдал от себя штурвал, и самолёт, клюнув носом, понёсся вниз. Уже над самой землёй удалось мне вывести машину из пикирования, и я потянул её к своему аэродрому на бреющем полёте: так было всё-таки безопаснее.
Неожиданно чихнул мотор. Впрочем, этого следовало ожидать — горючее было на исходе. Оставались считанные минуты. Садиться куда угодно и как угодно, только садиться!
Механик включил фары. В свете их лучей под крылом промелькнул кустарник, овраги, снова кустарник. Наконец как будто ровная площадка.
— Шасси! — подаю команду механику.
Шасси выпущены, колёса касаются земли, машина катится по инерции. Едва успеваю затормозить и остановить самолёт в нескольких шагах от какого-то оврага. Экипаж вздохнул с облегчением, я украдкой отёр с лица холодный пот.
Мы осмотрелись: самолёт приземлился в поле, на границе пустыря, поросшего травой и пересечённого оврагом.
До рассвета всё равно делать было нечего, и мы стали устраиваться на ночлег. Разостлав в кабине самолёта чехлы от моторов, шинели и ватники, мы уснули мёртвым сном. Но отдыхать нам суждено было недолго.
Едва успел я смежить глаза, как послышались какие-то звуки. Я не мог понять, откуда они. Может быть, это сон? Звуки становились всё яснее. Я приподнял голову со свёрнутой валиком шинели, прислушался. Что такое: сам себе не верю — вокруг самолёта отчётливо раздавались женские голоса.
— Вот где он притаился, гад! — звенел чей-то высокий голос.
— В небе разыскали, так думают на земле не сыщем! — отвечал ему другой.
— Фрицы небось уже сбежали! — с сожалением заметил первый голос.
Луч карманного электрического фонаря скользнул снаружи по борту кабины.
— Нет, спят, гады! Ишь где расположились на отдых! На советской земле!.. Эй, выходи! — приказали нам сразу несколько голосов.
Тут одна из женщин сильно стукнула каким-то тяжёлым предметом по обшивке фюзеляжа. Я вскочил на ноги и подошёл к окну. Самолёт наш был окружён девушками, одетыми в военную форму, вооружёнными автоматами.
— Эй, выходи, стрелять будем! — кричала как раз та, что стучала прикладом винтовки по самолёту.
Шум, поднятый воинственными девушками, разбудил остальных членов экипажа, вместе с ними и нашего пассажира. Все вскочили на ноги и, протирая глаза, прильнули к окнам.
А старшая среди девушек, колотя автоматом в дверь, продолжала покрикивать:
— Эй, выходи попроворнее, нечего придуриваться! Не то перестреляем, как зайцев!
Стрелок наш, парень горячий, да ещё вдобавок не вполне проснувшийся, кинулся было к пулемётной турели, однако полковник вовремя остановил его:
— Опомнись! Это же свои, видишь — наши зенитчицы. Сейчас я с ними договорюсь, недоразумение выяснится. Открывай дверь, спускай трап!
Но полковник напрасно надеялся на свой авторитет — с девушками договориться оказалось невозможно. Когда наш пассажир начал спускаться по трапу, на его грудь сразу нацелилось несколько автоматов, и тот же звонкий девичий голос крикнул:
— Руки вверх! Ишь ты, ещё советским полковником вырядился!
Глядим, наш пассажир, бывалый боевой офицер, покорно поднимает руки, позволяет себя обыскать и безропотно отдаёт пистолет. Здесь, на земле, среди нас полковник являлся старшим, так сказать, начальником нашего маленького гарнизона. Естественно, мы все последовали его примеру.
Когда стрелок наш попробовал огрызнуться, заявить, что не отдаст личного оружия, полковник тут же одёрнул его:
— Брось упрямиться! Они действуют по уставу… В штабе разберёмся!
Окружённые тесным кольцом девушек, которые держали автоматы на изготовку и торжественно навесили на себя «трофейное» оружие, мы поплелись по еле приметной, уходящей в кусты тропке.
Я попытался урезонить наших мучительниц:
— Послушайте, девушки, что же это вы безобразничаете? Ведь мы же свои, советские лётчики! Разве вы не видели красных звёзд на крыльях машины?
— Красные звёзды всякий может намалевать! — отрезала старшая из зенитчиц. — Если бы вы были свои, не стали бы в нас бомбами швыряться!
— Погодите, — настаивал я, — давайте вернёмся, рассмотрите получше самолёт: ведь он гражданский, транспортный, на нём и бомбодержателей-то нет! Разберитесь, а потом уже горячитесь!
— Зачем нам разбираться, — возразила девушка упрямо, — на то есть начальство, чтобы разобраться…
По мере того как проходило у нас чувство растерянности, вызванное внезапным нападением своих же, советских девушек, нас постепенно начинал разбирать смех. Вот так происшествие! Не ровен час, дойдёт вся эта история до нашей базы — проходу нам не дадут. Засмеют!
Мы сначала подтрунивали друг над другом, затем начали посмеиваться и над нашими конвоирами. Но не тут-то было…
— Разговоры прекратить! — прикрикнула старшая зенитчица. — Шире шаг! На допросе разговоритесь.
Мы умолкли. Девушки же продолжали весело переговариваться между собой. Из их разговоров мы поняли весь комизм положения, в котором очутились. Оказывается, часть фашистских бомбардировщиков была занята подавлением огня наших зенитных батарей. В это время досталось и зенитчицам. Но вот прожекторы взяли нас в клещи, и девушки открыли по нашей машине беглый огонь. Сейчас они глубоко были убеждены в том, что, во-первых, мы их бомбили, во-вторых, что они нас сбили: они сами видели, как наш самолёт «падал». Видимо, такое впечатление создалось у них в момент, когда, уходя от огня наших зениток, я перешёл в пикирование.
Именно так девушки и доложили командованию. Зенитчицам приказано было разыскать остатки подбитого самолёта, а экипаж, если он уцелел, взять в плен и доставить в штаб. Этот приказ они и выполняли…
Одна из зенитчиц, лишь только нас взяли в плен и разоружили, помчалась верхом в штаб доложить, что задание выполнено. Возле самолёта девушки оставили караульных. И вот мы, советские лётчики, идём под конвоем советских же зенитчиц — и смешно и грустно!
Эх, и моторы-то они не дали нам зачехлить…
На командном пункте, в блиндаже, усталый, с опухшими от бессонницы веками подполковник глянул на нас и улыбнулся:
— Садитесь, товарищи. Видали, в каком переплёте мы сегодня побывали? Не меньше ста бомбардировщиков на нас этой ночью налетало!.. — Потом, обращаясь к старшей зенитчице, сказал спокойно: — Вы правы, и эти ребята правы: это наши лётчики. Спасибо за службу, девушки, но тут недоразумение. Вы можете быть свободной, товарищ старшина. Отдыхайте: я знаю этот экипаж — он базируется у нас, в Миллерове.
Девушка густо покраснела. Видно было — нелегко у неё на душе. Пересилив себя, она подошла ко мне и протянула руку:
— Простите меня, товарищ командир корабля, что я приняла вас за фашиста. Я оскорбила вас невольно…
Я крепко пожал руку этой мужественной девушке:
— Вы исполняли свой долг, а мы — свой. Обе стороны были правы.
Мы дружески распрощались. Командир укрепрайона проверил документы у полковника: его он видел впервые. После короткого отдыха мы были уже на своём аэродроме.
Так, без предварительной подготовки, я стал командиром тяжёлого корабля, летающего ночью.
В гостях у матери
Выполняя очередные боевые задания, летая в тыл противника, я часто думал о доме, о родной Смоленщине, оккупированной фашистами. Как-то они там: мать, дедушка, сестры? Живы ли? И где теперь: успели ли выехать или их застали врасплох немцы?
С самого начала войны я не имел никаких сведений ни о матери, ни о ком другом из родных и близких. Куда только я не обращался в поисках, сколько запросов не писал! Наконец из Центрального эвакуационного бюро пришел ответ с адресом матери. И переписку с нею вскоре удалось наладить.
Мать моя, Анна Дмитриевна, росла в нищете, она до глубокой старости оставалась неграмотной. Поэтому письма, которые за неё писали, были короткими и скупыми. Я знал лишь, что мать, как только фронт приблизился к нашей деревне, бежала в чём была и эвакуировалась куда-то под Уральск. Позднее она писала, что Шура, моя младшая сестра, ушла на фронт и что они с тех пор переписываются. Другая же сестра, Таисия, живёт в Ленинграде, но мать об этом узнала лишь недавно.
Очень хотелось повидать мать, узнать подробности о её житье-бытье. Неожиданно мне повезло. В августе 1943 года я получил распоряжение от командования Семнадцатой воздушной армии слетать в Среднюю Азию — в города Андижан, Фергану, Ташкент. Надо было захватить оттуда запасные части к моторам. Задание оказалось для меня кстати: на трассе лежал город Уральск. Командир эскадрильи Таран разрешил мне, если обстановка позволит, залететь по пути к матери.
Настроение у меня было прекрасное. Я заранее представлял себе встречу с матерью. К тому же в этих местах стояла погожая осень и была уйма фруктов.
Выполнив задание, мы вылетели обратно из Ташкента. На борту самолёта — семья генерала, семь человек экипажа; везли мы также моторы с запасными частями, килограммов по двадцать фруктов на каждого пассажира да пять ящиков добротного узбекского вина — подарок фронтовикам. Словом, машина была загружена до отказа.
Вылет был назначен на рассвете, когда плотность воздуха, ещё не нагретого солнцем, выше, чем днем, и перегруженную машину поэтому легче оторвать от земли.
Чем ближе мы подлетали к Уральску, тем сильнее охватывало волнение: как бы не проскочить село Федулеево, где жила теперь моя мать. Впрочем, в голой, безлюдной степи, при хорошей видимости, нетрудно обнаружить с воздуха и крошечный хутор из двух-трёх домов.
Тратить много времени на поиски не пришлось: под крылом мелькнул затерянный в степи посёлок, домов в тридцать. Я развернул машину и с виража тщательно просмотрел местность, различил даже выбежавших на шум моторов людей. Экипаж был не менее озабочен моей предстоящей встречей.
— Садитесь, командир, — убеждал меня механик. — Вон там ровное местечко, как будто специально для нас предназначено!
Машина была перегружена, сажать её на случайную, неприспособленную площадку небезопасно. Да и Федулеево ли это? А дело идёт к ночи. Нет, рисковать нельзя!
Я решил лететь в Уральск, достать какую-нибудь автомашину и съездить к матери на несколько часов. Направляясь прямо на багровый диск солнца, скатывающегося к горизонту, добрался до Уральска.
Устроив пассажиров и экипаж в гостинице, я направился в город разыскивать командира батальона авиационного обслуживания. Но, как назло, ни на работе, ни дома его не оказалось. Неотступно преследовала мысль: неужели не удастся повидать мать? Быть рядом — и не встретиться! Кто знает, представится ли ещё раз такой счастливый случай до конца войны?
После долгих поисков наконец мне удалось встретить командира. С первого же взгляда этот человек не понравился мне: не то сонный, не то с похмелья, вялый какой-то, небрит, одет неопрятно.
Изложил ему свою просьбу: я — фронтовик, мать не видал с 1940 года, около трёх лет не мог наладить с ней переписки. А тут вот случайно очутился рядом с ней. Выручите, пожалуйста, машиной!
Мой искренний рассказ и скромная просьба нимало не тронули этого человека.
— Подумаешь, фронтовик! — фыркнул он в ответ. — А мы здесь что же, не воюем? Нет у меня для вас машины!
Это бездушие меня взорвало. Видя мое искаженное бешенством лицо и судорожно сжавшийся кулак, командир проворно выскочил из-за стола, за которым только что сидел развалившись, и быстро юркнул в соседнюю комнату, заперев за собой дверь на ключ.
Понурив голову я медленно поплёлся обратно в гостиницу. Рано утром механик на всякий случай подготовил самолёт. На мелкомасштабной карте я разыскал Федулеево: так и есть — та самая деревушка, над которой мы накануне виражили. Прикинул: расстояние от Уральска тридцать километров — значит, меньше десяти минут полета.
«Близок локоть, да не укусишь», — подумал я.
Пассажиры и экипаж заняли места, стартёр взмахнул белым флажком, и вот мы снова в воздухе.
Пассажиры поглядывают в окна, провожая взглядом удаляющийся Уральск; они веселы и оживленны — им ничего не известно о переживаниях командира корабля. Зато экипаж принял близко к сердцу мою неудачу: лица у всех товарищей насупленные, угрюмые. У одного родня погибла на фронте, у другого попала в лапы к гитлеровским карателям, многие потеряли связь с близкими за это время. Радист не вытерпел.
— Командир, — взмолился он, — а как же мать? Столько готовились мы все к этой встрече, подарки припасли, а теперь что же?..
Тихо стало в кабине управления, приумолкли члены экипажа, каждый думал о своих близких, о доме. Настроение товарищей передалось и мне.
Неожиданно для самого себя я повел самолёт на снижение.
Механик, выведенный из задумчивости, встрепенулся и хотел прибавить газу, но я опередил его инстинктивный жест, крепко зажав в кулаке головки рычагов сектора газа.
— Что случилось? — взволнованно крикнул механик. — Моторы сдали, что ли? Командир, прибавляйте газ, не то упадём!
Я тут же подал команду:
— Шасси!.. Щитки!
Механик, продолжая недоумевать, послушно выполнял мои распоряжения.
Мы благополучно приземлились на задворках какой-то деревушки. Со всех сторон бежали к нам люди, а впереди всех быстроногие ребятишки.
Первого из подоспевших к нам мальчуганов я спросил:
— Это что — Федулеево?
— Федулеево! — ответил тот.
Выключив моторы, я приказал:
— Экипажу пока не покидать самолёта… А пассажирам советую подышать воздухом и размяться. Скоро полетим дальше.
Один из пассажиров с неудовольствием обратился ко мне:
— А почему мы сели? Разве полагалась здесь посадка?
— Успокойтесь, — ответил я, — за полёт отвечает командир, а не пассажиры… В назначенное время будете на месте!
Вскоре вокруг нас собралась толпа: прибежали ребятишки, потом появились и старики со старухами. Среди подошедших я узнал нескольких своих односельчан. Вглядываются молча и, видно, про себя гадают: «Он или не он?»
— Ваня, — подозвал я подростка, который пристально разглядывал меня, — не знаешь ли ты, где моя мама?
— Анна Дмитриевна?.. — переспросил он радостно. — Она в степи, на полевом стане… Да я мигом!
И он что есть духу припустился бежать куда-то в сторону. Видимо, в этот день мы принесли колхозу немалый убыток: вслед за ребятами и стариками всё взрослое население деревушки побросало работу, все ринулись к самолёту.
Никому из здешних жителей не приходилось видеть так близко огромный транспортный самолёт. К тому же мало у кого из этой заброшенной в степи деревушки не было фронтовиков.
Колхозникам хотелось узнать новости с передовой, и на нас посыпались вопросы о полётах, о партизанах, о втором фронте, о работе на военных заводах…
А матери всё не было и не было. Наконец я заметил, как от последней, спешащей с поля к самолёту группы колхозников отделилась женщина. Она торопилась больше всех и, не выдержав, побежала. Я узнал её и бросился навстречу. Мать была босой, ноги и лицо её были покрыты густым степным загаром. Одета плохо: в потрёпанной трикотажной юбке, в какой-то выцветшей кофте, повязана стареньким ситцевым платком.
Плача, мать бросилась меня обнимать.
«Вот, — думал я, счастливый, — и нашлась моя мама!»
Пассажиры только сейчас поняли, в чём дело. Они окружили нас плотным кольцом. Каждому, видно, хотелось выразить своё сочувствие, у каждого нашлось сердечное, искреннее слово для старой, растроганной встречей женщины.
— Ты далеко отсюда живёшь, мама? — спросил я, когда она немного успокоилась.
— Да вон она, хата наша, шагов пятьдесят отсюда, не больше, — ответила мать, вытирая слезы радости. — Ты правильно сел, сынок! А может, ты меня ещё вчера с воздуха разглядел: я ведь чутьём угадала, что это ты летишь, выскочила из дому и с порога тебе всё платком махала… Я знала, что ты сегодня прилетишь, сынок, — говорила мать, — даже обед праздничный приготовила.
Я провёл мать по самолёту. Она была ошеломлена его размерами.
— Да это же дом настоящий, — приговаривала она, всё более удивляясь, — здесь целой семьей жить можно!
И снова расплакалась, то ли вспомнив свою избу в Гришкове, сожжённую гитлеровцами, то ли от радости, что сын её командует таким большим воздушным кораблем.
Затем мы всем экипажем отправились к матери обедать.
Времени у нас оставалось в обрез. Мы спешили. Мать почти не притрагивалась к еде, засыпала меня вопросами.
Тут я узнал подробности эвакуации семьи. Когда началась война, мать находилась в Гришкове с Шурой. Таисия работала в это время в Москве, а старшая сестра Паня вместе с мужем и двумя детьми жила в деревне Барсово, в семи километрах от Гришкова. Дед Дмитрий по-прежнему оставался в Шелухине.
Война быстро подкатилась к нашей деревне, рассказывала мать. Мимо Гришкова потянулись беженцы, а потом и наши войска, отступающие на восток.
В эти дни мать приютила какую-то девочку, бежавшую из города Демидова и отбившуюся в пути от родных. Аллочка скоро прижилась в нашем доме. Свою мать она так и не могла найти, но предполагала, что та эвакуировалась в Пензу, к родственникам.
Фашистский десант, выброшенный под городом Белым, советским частям кое-как удалось ликвидировать, но уже 2 октября наш фронт был прорван, гитлеровские танковые колонны двинулись по понтонным мостам через Днепр. Прорыву предшествовал многодневный ураганный обстрел и бомбёжка приднепровских укреплений, в том числе и деревни Гришково. Настало время копать картошку, но колхозники отсиживались по подвалам и щелям: все тропки были заминированы, да и голову на двор высунуть было опасно — снаряды и бомбы сыпались, как град…
— Мы видели, — говорила мать, — что у фашистов — сила, но все верили, что скоро нашей силы прибавится и мы с ними справимся. Когда я получила твоё последнее письмо о том, что вы у себя в школе готовите лётчиков для фронта, я дала его прочитать бойцам, которые у меня квартировали. Офицер прочёл твоё письмо и сказал: «Ну вот видите, скоро мы будем сильнее в воздухе, чем фашисты!»
Мать вместе с Шурой и Аллой бежали из Гришкова, когда уже началась ружейно-пулемётная перестрелка. Бежали почти раздетыми. Дом наш пылал, зажжённый снарядом. Горело полдеревни. Мать бросила на произвол судьбы всё своё имущество, скот, домашнюю птицу, весь хлеб.
Немцы подошли к деревне вплотную, и не оставалось времени бежать за Паней с детьми и дедушкой Дмитрием. Даже проститься с ними не удалось.
Мать, Шура и Алла вместе с небольшой группой односельчан днём скрывались в стогах сена, в перелесках, в канавах, а по ночам, голодные, измокшие под непрерывными дождями, измученные и продрогшие от холода, брели куда глаза глядят. Едва не нарвались однажды на фашистский танковый патруль, стоявший в засаде на опушке леса.
— Выскочила я на дорогу, — вспоминала мать, — захотела расспросить наших бойцов, как дальше идти, гляжу, а у танкиста на пальце перстень блеснул. «Ну нет, думаю, это вряд ли наши!» Пригляделась, а на танках фашистские кресты… Ах ты, батюшки мои, страх-то какой, едва ноги унесла! И обратно в лес.
Путь беженцам преградила какая-то река. Никто не знал, как глубока она, но переходить надо было, и решили переходить вброд. Первой, опираясь на лопату, подобранную где-то в пути, вошла в воду мать. Не успела она сделать и нескольких шагов, как провалилась в яму, уйдя туда с головой. На помощь ей бросилась Шура — та отлично плавала. Мать вытащили, и все благополучно перебрались на противоположный берег.
В эшелон попали не сразу: сперва гришковцам вообще никто не хотел помочь — они, в отличие от эвакуированных, были неорганизованными беженцами, то есть снялись с места внезапно, без эвакуационных документов. Но, когда таких «неорганизованных» набралась порядочная группа, комендант станции дал им эшелон.
И в этом эшелоне наши гришковцы оказались в худшем положении, нежели другие. У тех всё-таки было с собой кое-что: хлеб, вёдра, кружки, узлы с тёплыми вещами. Однако нашлись среди беженцев отзывчивые люди, которые поделились с моими земляками чем могли. Кое-как гришковцы добрались до Москвы, пробыли здесь четыре дня, ночуя в метро.
В Москве гришковцев зарегистрировали, выдали им эвакуационные документы, включили в общий поток беженцев, взяли на довольствие, как тогда говорили.
Поезд с эвакуированными медленно продвигался на восток, через города Тамбов, Саратов, Уральск. Дальше решили не ехать: не оставалось ни копейки денег. Алла рассталась с моими родными ещё в Тамбове, отсюда она отправилась в Пензу разыскивать мать. На дорогу девочке собрали последние тридцать рублей.
— В Уральске люди пошли в эвакопункт, и мы за ними, — продолжала мать. — Нас, тринадцать семей, назначили в Федулеево. Приехали за нами оттуда колхозники на волах да на верблюдах. Увидели мы этих длинноногих горбунов, остановились, а подойти к ним боимся. Плюются какой-то зеленой пеной, фыркают. Мы остерегаемся, а колхозники здешние смеются над нами.
«Не бойтесь, бабоньки, верблюда! Это скотина умная — зря не плюнет!» — успокаивали они нас.
Мать с Шурой попали в семью, где жили старик со старухой и сноха их с сыном. Здесь, кстати говоря, они прожили четыре года.
— Когда я вошла в горницу, — рассказывала мать, — бабка поклоном ответила на моё «здравствуйте» и указала, где разместиться. Старуха заметила, как мы обуты, и покачала головой: одна нога у меня была обута в валенок, другая — в тапочку, Шура — в изорванных ботинках, пальцы наружу.
«Чу, Каллистрат, — обратилась бабка к мужу, — гляди, какая у них обужка! Отдай матери свои валенки, а дочке пока хоть ботинки почини: ведь простудится девка!»
Дед беспрекословно выполнил бабкино распоряжение. В семье, видно, властвовала Надежда Арсентьевна.
В этот холодный зимний вечер 4 ноября 1941 года моих родных в чужой семье колхозника Мехайличенко приняли тепло и участливо.
Наутро мать отправилась в правление колхоза, потребовала назначить её на работу. Её сначала отговаривали: в таком возрасте можно и дома посидеть. Но куда там — разве мою мать переспоришь! После того как включили в наряд, она попросила, чтобы ей выдали аванс продуктами. И эту просьбу матери удовлетворили — дали хлеба и мяса. Полученные продукты мать с гордостью понесла домой — она знала, что и на новом месте никому не будет в тягость.
На первых порах мать работала в поле, крутила веялку. Потом её перевели на более лёгкую работу — перелопачивать зерно в амбаре. Но здесь оставалась она недолго: наступили лютые степные холода, в зернохранилище стоял жестокий мороз, а теплой одежды у неё не было.
Правление колхоза перевело мать в тёплое помещение, на колхозную ферму. На её попечение передали двадцать три телёнка…
Глаза у матери блестели, румянец разлился по морщинистым щекам, когда она вспоминала, как постепенно прослыла лучшей телятницей в колхозе. Ей стали поручать самых слабых телят, почти безнадёжных, а она их всех выхаживала. Приходилось целые ночи проводить в телятнике, чтобы уберечь больного телёнка.
В Казахстане скот летом не держат в стойлах, его выгоняют на дальние пастбища. Поэтому с первых дней весны и до глубокой осени мать работала в поле. И тут она прославилась одним маленьким открытием.
В тамошних краях не принято вить веревок; если что нужно связать, пользуются жгутом из овечьей шерсти. Однажды мать заметила на целине стебли дикой конопли. Применение этого растения в Казахстане было совсем неизвестно, в то время как у нас, на Смоленщине, его знали и ценили. Мать собрала коноплю, полёгшую под снегом, высушила её, вытоптала ногами сердцевину и очистила от костры палкой. Получилось крепкое длинное волокно, из которого при помощи крючка, на удивление местным колхозникам, она свила прочные ровные веревки.
Открытием матери заинтересовались колхозники и решили ей помочь. Дед Каллистрат, колхозный кузнец, выковал на кузне специальное приспособление для обработки стебля конопли — железную полосу с глубоким пазом, в который вставлялось деревянное било.
Идея приспособления тоже принадлежала матери. Этот инструмент значительно облегчил труд. С лёгкой руки моей матери колхоз теперь наладил собственное производство верёвок. Скоро этот опыт переняли и соседние колхозы…
Рассказала мне мать и про сестёр. Шура, видя, что мать в её помощи не нуждается, закончила курсы шофёров и добровольно отправилась на фронт. С Таисией, которая во время войны окончила курсы медсестёр и попала в Ленинград, мать, как и с Шурой, переписывалась. Самые тяжёлые дни ленинградской блокады Таисия проработала в госпитале. Держалась она молодцом и в письмах неизменно подбадривала мать.
О Пане и о дедушке Дмитрии мать ничего не знала. Мысли о них мучили её, и она взяла с меня слово навести точные справки.
Попутно хочу сказать, что просьбу матери я выполнил не сразу. О судьбе деда и сестры мне удалось узнать лишь много времени спустя, когда освободили Смоленщину.
Выяснилось тогда, что на следующий день после ухода из деревни матери и Шуры дед чуть свет примчался в Гришково. Зная, какие сильные бои происходили там накануне и тревожась за своих, он весь трёхкилометровый путь не шёл, а почти бежал, не переводя дыхания. Около девяноста лет ему было, а на ноги был ещё крепок. Не зря старик получил от односельчан кличку «ходовой».
В Гришкове никто не мог сказать ему толком, как и куда направились мои родные. Некоторые утверждали, что мать и Шура погибли во время вчерашней бомбежки. Убитый горем, беспомощный, как ребёнок, долго бродил дед по укрытиям, окопам и развалинам домов. Хотя бы трупы родных обнаружить — на большее он не мог рассчитывать. Сгорбившийся и обессилевший, возвратился он ни с чем в Шелухино. Здесь и провёл старик тяжкие годы оккупации. Дом его фашисты сожгли. Очутившись под открытым небом, дед поставил себе шалаш. Одинокий, заброшенный, он умер от истощения и горя, похоронив пятерых внуков, зверски убитых фашистами.
Паня, оказавшись одна с детьми, вынуждена была остаться в Барсове. Немцы перед самым своим уходом заперли Паню и детей вместе с другими жителями деревни в сарай, собираясь его поджечь. К счастью, ворвавшиеся внезапно в деревню наши бойцы спасли барсовчан…
В обратный путь федулеевцы провожали нас всем колхозом. Прощаясь, я едва упросил мать взять деньги. Долго она отказывалась, говоря, что ни в чём не нуждается.
Председатель колхоза, шагавший рядом с нами, рассказал мне, что мать в колхозе не раз премировали за хорошую работу, что она не сходит с Доски почёта, получает ударный паёк, что о ней писали в газетах. Сама-то она об этом умолчала!
— Мы и после войны Анну Дмитриевну от себя не отпустим! — говорил председатель. — Большая потеря была бы для колхоза!
— Ну, это уж ей самой решать! — рассмеялся я в ответ. — Только боюсь, что её потянет на родное пепелище!
Так, наговорившись вдоволь, распростился я с матерью. Надолго ли, кто мог знать!..
Через полчаса я уже был в воздухе.
На Днепровском плацдарме
После разгрома гитлеровцев на Волге всё быстрее и быстрее вражеская армия откатывалась на запад. Но враг был ещё достаточно силен: отступая, он упорно цеплялся за каждый естественный рубеж. Всюду, где только позволяли условия местности, фашисты создавали оборонительные полосы, именуя их «валами» и создавая легенды об их неприступности.
Гитлеровская пропаганда усиленно рекламировала «Днепровский вал», созданный на правом берегу реки. Здесь, хвастались гитлеровские генералы, они-де «расквитаются с русскими».
А перед нашими армиями уже вставала задача форсировать Днепр, чтобы закрепиться на его правом берегу.
К участию в этой операции были привлечены и тяжёлые транспортные самолёты.
В темноте, скрываясь от вражеских истребителей, на бреющем полёте мы пересекли Днепр. Потом, разыскав место высадки и набрав высоту не менее трехсот метров, которая обеспечивала безопасное раскрытие парашютов, высаживали десантников. Такие операции мы проделывали по нескольку раз за ночь.
Все действующие у Днепра самолёты нашей транспортной авиации были рассредоточены по разным тщательно замаскированным аэродромам небольшими группами, по десяти — пятнадцати машин в каждой.
Нашей группой командовал Таран.
Корабли с десантниками на борту взлетали через каждые три минуты. В первую ночь наш самолёт летел вслед за машиной Крюкова. Сам Крюков и его второй пилот Фалеев были моими старыми друзьями ещё по Тамбовской лётной школе.
Под крылом промелькнула тусклая цепочка красноватых стартовых костров. Мы поднялись в воздух. Темнота непроницаемая. Только далеко впереди отблесками разрывов и пламенем горящих селений полыхает линия фронта.
Цель наша была южнее Киева, в Каневском районе, неподалёку от станции Мироновка. Непрерывно гудели вражеские истребители, гитлеровцы поднялись в воздух, чтобы не допустить советский воздушный десант. Мы шли на высоте ста метров; силуэт нашего самолёта сливался с тёмной поверхностью земли; различить нас с высоты фашистам было непросто. Вот впереди блеснула широкая лента Днепра.
Багровое зарево отражалось в реке; вода, взбудораженная падающими осколками и бомбами, бурлила. Громыхали орудия, то и дело взлетали в небо ракеты, всё пространство над Днепром было прошито разноцветными пунктирами трассирующих пуль и снарядов.
К правому берегу, под огнём противника, бесконечными вереницами плыли плоты, рыбачьи баркасы, надувные лодки. Наши бойцы цеплялись за всё, что только могло держаться на воде. И по этой разнокалиберной и разномастной флотилии гитлеровцы беспрерывно били из пушек, пулемётов, автоматов и миномётов.
Били они не только по воде, но и по воздуху. Воздушного десанта они боялись ещё больше, чем плавучего. Совершенно беззащитные в этих условиях, наши транспортные самолёты вынуждены были перелетать через линию огня, надеясь лишь на удачу.
В грузовом отсеке, тесно прижавшись друг к другу, с зажатыми в руках автоматами сидели десантники. Увешанные гранатами, перетянутые крест-накрест парашютными лямками, они то и дело поглядывали в окна. Пока они чувствовали себя в относительной безопасности, но пройдёт пять — десять минут, и им придется покинуть вздрагивающий от близких разрывов самолёт и прыгать в ночь, прямо на голову фрицам. А там, внизу, круговой обстрел, рукопашная схватка, и не разобрать, где свой, где чужой. Чуть рассветёт — сбор группами на условный сигнал командира. Кто к этому времени уцелеет — приведёт себя в боевой порядок и пойдёт в атаку на гитлеровцев. Задача десантников — расширить плацдарм, на который непрерывно поступают новые подкрепления.
Цель близка, штурман уточняет расчёты. Снаряды рвутся кругом — справа и слева, под самолётом и над ним; немцы палят в небо, едва заслышав шум нашего самолёта. Я знаю по опыту, что видимый на близком расстоянии разрыв снаряда неопасен. А всё же ощущение неприятное. Кто знает, может быть, в следующий миг будет прямое попадание! Этого взрыва уже не увидишь и не услышишь.
Идущего впереди Крюкова не видно: дальше чем на двести метров вообще ничего не различить на фоне чёрного, безлунного и беззвёздного неба. И вот при пересечении Днепра прямо по курсу передо мной взвилось ослепительно яркое пламя. Оно совсем не походило на разрыв снаряда в воздухе. Такое пламя скорее напоминало вспышку при прямом попадании в самолёт.
«Неужели Крюков?» — пронеслось тут же в голове.
Огневой рубеж противника тянулся километра на два в глубь фронта, не больше, и мы пролетели его за тридцать секунд. Однако эти секунды, за которые мы успели преодолеть полосу смерти, кажутся вечностью. Утешает лишь мысль, что и гитлеровцам жарко приходится в эту ночь: наших транспортных самолётов, участвующих в десантной операции, — сотни, за каждым из них не угонишься. А бесстрашные советские воины тем временем летят и летят вниз с самолётов, расходятся и занимают позицию для боя…
— Цель! — докладывает наконец штурман.
Но я и так вижу — под крылом самолёта медленно плывут к земле белые купола парашютов, спускаются десантники, сброшенные другими самолётами группы Тарана.
Сейчас нужно собрать всю волю, проявить всё мастерство, чтобы не приключилось беды: самолёты заходят на цель с разной высоты, в темноте легко столкнуться с товарищем, купола парашютов плывут к земле со всех сторон — десантник может упасть тебе на крыло или стропами парашюта запутаться у тебя в хвостовом оперении и оказаться искрошенным винтом самолёта.
— Приготовиться! — звучит команда.
Парашютисты занимают исходное положение для прыжка в чёрную бездну. Механик и штурман открывают дверь кабины внутрь, свистит отсасываемый воздух. Вот первый десантник. Держа в одной руке оружие, в другой — кольцо, на случай, если откажет автоматическое устройство парашюта, он исчезает в раскрытой двери кабины. За ним — другой, третий, четвёртый… Мы накреняем самолёт в сторону раскрытой двери — один вираж, второй, и всё подразделение уже плывёт под белыми куполами к земле. Последним прыгает инструктор. Задание выполнено!
А там, внизу, уже закипает яростная перестрелка: приземлившиеся первыми парашютисты вступили в рукопашную схватку с гитлеровцами…
Едва успеваем резко развернуть самолёт в сторону: прошедший выше нас самолёт сбросил партию десантников, и они сыплются прямо на нас. Но всё обходится благополучно. Ложимся на обратный курс — он у нас сейчас проложен на большой высоте.
Приземлив свой самолёт и определив его на стоянку, вспоминаю о Крюкове.
— Все ли вернулись? — справляюсь у Тарана.
— Почти все, — мрачно и неохотно отвечает командир, — Вот только Крюкова и Бирюкова пока нет.
— Как это Крюкова? — невольно вырывается у меня. — Ведь он же раньше нас вылетел? Значит…
— Ничего это ещё не значит! — успокаивает, видимо, не менее меня встревоженный Таран. — Может быть, Крюков уклонился от маршрута или же сидит где-нибудь на вынужденной посадке. Неисправность какая. Мало ли что бывает…
Никто из нас не высказывает Тарану своих опасений, но каждого сверлит мысль: неужели та яркая вспышка впереди нашего самолёта — это?..
Грустно разбредаемся мы по своим землянкам. Отдыхать всё же надо — каждому из нас предстоят новые боевые вылеты. Как мы ни волнуемся за судьбу товарищей, усталость берёт своё. Вскоре я, как и остальные члены нашего экипажа, засыпаю мёртвым сном. Но сон мой непродолжителен — будит тревога за друзей.
Вскакиваю, бегу на командный пункт. Таран уже на ногах, а может быть, и вовсе не ложился?
— Товарищ майор, разрешите войти, — спрашиваю его волнуясь.
— Входите. Что случилось? — не очень любезно, как мне показалось, говорит Таран.
— Крюков и Бирюков?..
— Да пока никаких сведений… — отвечает командир, не глядя на меня.
Телефонный звонок внезапно прерывает наш разговор. Командир прикладывает трубку к уху, лицо его постепенно светлеет.
— Так, так, — повторяет он, — обязательно! Немедленно! Сейчас будет выполнено! Есть!
Несмотря на лаконичность ответов, я по выражению лица командира догадываюсь — вести добрые. Так и есть!
— Вот что, Михайлов, — приказывает мне Таран, — передай распоряжение экипажу Езерского, чтобы он взял на борт бочку бензина и был готов немедленно вылететь. Курс ему сейчас штурман проложит по карте…
Через двадцать минут корабль Езерского поднимается в воздух. Становится очевидным, что один из невозвратившихся самолётов не нашёл в темноте нашего хорошо замаскированного аэродрома и сейчас сидит где-то в поле без бензина.
Вскоре на горизонте показываются две черные точки, они растут и постепенно принимают знакомые очертания. Машины приземляются. Мы кидаемся им навстречу. Уже по номеру на фюзеляже видим, что вместе с Езерским вернулся и экипаж Бирюкова.
А Крюкова все нет! Неужели Крюков и Фалеев погибли? Оба одинаково дороги мне. Неужели я потерял обоих друзей?!
Но размышлять было некогда. Наступала вторая ночь. Снова каждая машина по нескольку раз летала с подкреплениями за огневую завесу, к плацдарму. Прочно удерживали его наши бойцы-десантники, несмотря на численное превосходство противника. Фрицы окончательно озверели. Как мы потом узнали из захваченных наземными войсками документов, Гитлер метал громы и молнии, когда узнал, что Советская Армия прорвала «Днепровский вал». Он грозил предать военно-полевому суду своих генералов, если они не ликвидируют прорыв. Но истерика Гитлера и все старания его приспешников бессильны были приостановить могучий натиск наших воинов. «Днепровский вал» затрещал, а всё новые и новые подкрепления по воде и по воздуху неудержимым потоком лились к нашим частям, осуществившим прорыв…
Вторая ночь была для нас значительно труднее первой, и тем не менее сквозь неистовый, шквальный огонь немцев мы упорно летали до тех пор, пока не сбросили на плацдарм весь десант парашютистов.
В эту ночь мы понесли тяжёлую потерю: не вернулся из полета экипаж Назарова. С экипажем Назарова я начинал свои первые боевые вылеты вторым пилотом. По пять-шесть раз в сутки летали мы тогда на полевые аэродромы, питали боеприпасами одну из наших воздушных армий, ведущую в то время наступательные бои. Это Назаров вывозил из-под бомбёжки в один рейс по сорок восемь раненых, тогда как машина была рассчитана на двадцать одно место.
И вот здесь, над Днепром, погиб мой первый боевой командир.
В ночном поединке с фашистским истребителем он до конца держал по радио связь с нашим оперативным пунктом. Последним его сообщением было:
«Одна очередь за другой прошивают фюзеляж… Штурман ранен… Пытаюсь производить манёвр за манёвром, чтобы уйти от наседающего на меня противника, самолёта-истребителя…»
На этом связь оборвалась. По-видимому, прямым попаданием кабину разорвало изнутри. Самолёт упал, экипаж погиб…
Борьба за жизнь
Форсирование Днепра закончилось успешно. Это была одна из самых крупных авиадесантных операций за все военные годы.
Наш экипаж возвратился на свою базу, а дней десять спустя мы переживали нежданную радость: целым и невредимым объявился пилот экипажа Крюкова — Фалеев. Немного позже прибыли и радист с механиком. Но наша радость была омрачена страшной новостью. Фалеев сказал, что раненый Крюков захвачен гитлеровцами в плен, штурман же пропал без вести. Фалеев предполагал, что он убит в беспорядочной ночной перестрелке.
История с Крюковым, как впоследствии мы узнали, подтвердилась. После капитуляции гитлеровцев Крюков был освобождён советскими войсками из фашистского лагеря под Берлином. Он постарел лет на двадцать: глаза ввалились, лицо покрыла густая сетка морщин, голова побелела.
Но не удалось гитлеровским палачам сломить дух и волю советского лётчика. После тяжёлых лет плена Крюков не отступился от любимого дела — вернулся в авиацию и летает рейсовым пилотом на сибирской магистрали.
— Это была трудная ночь, — рассказывал потом Фалеев. — Наш экипаж шёл на цель. Внезапно самолёт угодил в самое пекло. Вспышки от разрывов сливались в сплошное огненное море. Крюков стал лавировать, стремясь опасную полосу пройти змейкой. Но вот самолёт резко вздрогнул, словно по нему ударили молотом. Моторы затрясло, и машина, теряя скорость, понеслась вниз!
«Падаем!» — закричал Фалееву командир. Инстинктивно оба пилота отдали штурвал от себя, чтобы не свалиться в штопор. Местность оказалась овражистой, густо заросшей кустарником. О посадочной площадке нечего было и думать. А тут ещё внизу фрицы, укреплённая вражеская полоса.
Фалеев вспомнил про десантников: что-то будет с ними? Но штурман успокоил его: лишь только сдали моторы, парашютисты не растерялись и живо покинули самолёт. Они должны были выполнять своё задание. В это время раздался треск, Фалеев с Крюковым по инерции повалились вперёд, крепко стукнувшись о приборную доску.
У Фалеева ещё видны были свежие следы происшествия: ссадины и кровоподтеки на лице.
К счастью, самолёт упал не в овраг, а на бугор. Экипаж отделался ушибами. Больше других досталось командиру: от сильного сотрясения Крюков потерял сознание. С трудом привели его в чувство.
Нужно было принимать немедленное решение, как быть дальше. При том фейерверке, который устроили немцы, падение самолёта не могло остаться незамеченным. Враги должны были появиться с минуты на минуту.
Самолёт лежал на убранном шасси, а лётчики прямо из кабины сошли на землю, захватив с собой автоматы. Сначала они двигались цепочкой, потом поползли по направлению к ближайшему оврагу. План был таков: разыскать любое подразделение десанта, чтобы затем присоединиться к нему. Однако осуществить это желание оказалось нелегко: пули вокруг жужжали роем, в сплошной тьме нельзя было разобрать, кто в кого и откуда стреляет. Как только стрельба немного стихала, со всех сторон начинались крики: слышалось то русское «ура», то фашистское «хайль Гитлер». Последнее раздавалось чаще — видимо, самолёт упал в противоположной от нашего плацдарма стороне, угодив в расположение гитлеровцев.
Экипажу Крюкова приходилось ежеминутно припадать к земле или зарываться в кусты: группы немецких автоматчиков рыскали по оврагам, прочёсывая кустарник. На каждом шагу пилотам грозила бессмысленная гибель от шальной пули.
Лётчики пытались держать направление на русские голоса, но в схватке всё смешалось, не было и определённой линии фронта, поле боя представляло собой хаос разрозненных, самостоятельно сражающихся между собой групп.
Тучи рассеялись, над Днепром зажглись звёзды, они то появлялись, то исчезали, заслоняемые тёмными силуэтами самолётов. Оставаться дальше в овраге становилось рискованным.
Крюков наставлял экипаж:
«Надо пробираться к своим, присоединяться к парашютистам! Только смотрите, ребята, двигаться осторожно, без шума…»
Но не успели лётчики сделать и нескольких шагов, как обнаружили фашистскую засаду. Хотя они переговаривались шёпотом, гитлеровцы уловили русскую речь. Тотчас же десятка два фашистских автоматчиков принялись прошивать местность автоматными очередями, а затем кинулись шарить по кустам, где притаились пилоты.
Крики врагов, бешеные автоматные очереди вынудили лётчиков принять неравный бой. Штурман корабля, отстреливаясь на ходу из автомата, был сражён осколками разорвавшейся у него на поясе гранаты. Остальные члены экипажа бросились врассыпную, потеряв в темноте друг друга.
Бортмеханик и бортрадист вовремя успели скрыться от преследователей и через несколько дней вышли к своим.
По-иному сложилась судьба командира корабля Александра Крюкова. Присоединившись к своим парашютистам, он вместе с бойцами принял горячий бой. Группа отважных смельчаков в течение двух дней сдерживала натиск гитлеровцев. Затем оставшаяся горстка бойцов вынуждена была отступить в балку, которую вскоре гитлеровцы блокировали со всех сторон, подвергнув её непрерывному обстрелу. Однако одолеть лётчиков гитлеровцы сразу не смогли. Только на третьи сутки фашисты, почувствовав ослабление сопротивления (кончились боеприпасы), усилили ружейно-пулеметный огонь: в овраг, как град, посыпались гранаты.
Крюков и оставшиеся в живых бойцы, обессилевшие и истощённые, на пятые сутки были взяты в плен. Они продолжали отбиваться без патронов, но на каждого из советских бойцов навалилось не менее чем по пяти гитлеровцев.
Фалеев только что собрался полоснуть очередью в бегущих прямо на него гитлеровцев, как почувствовал толчок в правую руку. Автомат, перебитый пулями, опустился дулом вниз, а из кисти хлынула кровь.
Фалеев рухнул навзничь, широко раскинув руки и выронив автомат: бежать было поздно, сопротивляться безоружному бесполезно. Оставалось одно — притвориться мёртвым.
Набежали фашисты. Один из них дал по Фалееву короткую очередь, но в темноте промазал. Другой поддал «мертвецу» под бок ногой. Фалеев мешком покатился под уклон на дно оврага. Решив, что пилот убит, они ринулись дальше, по направлению к месту, где лежали остатки разбитого самолёта.
Едва фашисты удалились, Фалеев, собрав последние силы, пополз от места стычки. Он перебирался от куста к кусту, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Вскоре фашисты вернулись, но Фалеев успел уже отползти метров на двести в сторону. Он слышал, как гитлеровцы громко переругивались, видимо обвиняя друг друга в том, что упустили лётчика. Потом в бешенстве начали круговой обстрел местности. Пули свистели над головой Фалеева, сбивали вокруг ветки кустарника. Но ни одна из них, к счастью, не задела лётчика. Отведя душу, автоматчики двинулись обратно в своё расположение.
Немного успокоившись, Фалеев снова пополз, переваливаясь из оврага в овраг. Небо побледнело, приближался рассвет. Автоматно-пулемётная стрельба стала стихать, умолк и лай зениток. Фалеев в одном из оврагов обнаружил размытую ручьем яму; вокруг неё поднимались густые заросли ольхи, ивы, орешника. Наломав тихонько веток, пилот устлал ими глинистое дно, обмыл водой из лужи разбитое лицо, кое-как перевязал раненую руку. Затем прилёг на свою зелёную постель и тотчас же заснул.
Проснулся Фалеев только к вечеру. Ныло ушибленное лицо, горела раненая кисть, мучили голод и жажда. Он с отвращением прополоскал рот мутной водой и, осторожно раздвинув кусты, стал присматриваться, где находится. Поблизости, на пригорке, виднелся гитлеровский укрепленный район, По дороге взад-вперёд сновали машины, ползли, громыхая, танки. Где-то недалеко шёл артиллерийский бой.
Несколько в стороне пилот обнаружил извилистый овраг, ведущий, видимо, к Днепру.
С наступлением темноты Фалеев пополз по этому оврагу.
— Проползу метров пять, — продолжал свой рассказ Фалеев, — притаюсь, прислушаюсь, нет ли поблизости фрицев, а там дальше ползу. Так метр за метром, от куста к кусту, и продвигался к Днепру. Отдыхал каждые полчаса, ложился навзничь, глядел в усыпанное звёздами небо. Оно было сплошь иссечено линиями трассирующих пуль. До меня доносились сверху непрерывный гул самолётов, треск пулемётных очередей, хлопки разрывающихся снарядов. Душа болела: там, вверху, летают наши, идёт воздушный бой, а я тут ползу по оврагу, как уж…
Перед самым рассветом, переждав, пока проедут мимо фашистские автомашины, подсвечивающие себе путь подфарниками, осторожно переполз через дорогу, снова скатился в какой-то овраг, нашел глубокую воронку от авиабомбы и забылся в тяжёлом, неспокойном сне.
На третью ночь своего мучительного путешествия Фалеев наконец увидел впереди гладь реки, на поверхности которой расплывались отблески рвущихся снарядов. Он чувствовал бесконечную усталость, но вид Днепра, на левой стороне которого находились свои, вливал новые силы.
Выполз Фалеев из своего укрытия на бугорок, раздвинул осторожно кусты и замер: прямо на него шёл немецкий патруль, автоматчики. Упал он ничком, кусты плотно сомкнулись. Фрицы прошли мимо, ничего подозрительного не заметив.
Фалеев снова пополз и вскоре достиг реки; у самого берега увидел плывущее бревно. Бесшумно спустившись в воду, он ухватился за него и поплыл. Фашистские посты открыли по нему стрельбу. Пули как дождь падали в воду, а Фалеев всё плыл и плыл. Открыли огонь и с левого берега, тогда пилот приподнял голову и неистово закричал:
«Куда бьёте, черти! Я свой, советский пилот с подбитого самолёта!»
«Знаем мы этих «своих»! — насмешливо ответили ему бойцы. — Ну чёрт с тобой, плыви сюда, фриц паршивый, — живьём возьмем!»
Когда пилот почувствовал под собой илистое дно, силы оставили его. Ноги подкосились, он упал в воду и стал захлёбываться. Тут советские бойцы вытащили его на берег.
— Тащили меня довольно невежливо, — вспоминал Фалеев — ухватили под мышки, тянут, а ноги у меня по земле волочатся. Кое-кто из бойцов нет-нет да и поддаст коленом в мягкое место. Ну, думаю, убить-то не убьют, а тумаков я немало нахватаю. Наконец я не выдержал.
«Разойдись! — закричал я вне себя от ярости. — Офицера ко мне! Вам, что, чертям, поиздеваться захотелось?»
Оторопели бойцы, остановились, отпустили меня. А тут на счастье лейтенант подвернулся.
«В чём дело? — спрашивает он. — Что за шум?»
«Да вот «языка» на командный пункт ведем, — отвечают бойцы. — Сам на наш берег приплыл. Обросший, раздетый, весь избитый. Хорошо по-русски говорит, подлец, выдаёт себя за советского лётчика…»
Едва успев рассказать лейтенанту свои приключения, Фалеев потерял сознание. Очнулся он только в полевом госпитале.
Полгода спустя, когда фронт откатился далеко на запад, пришлось мне по какому-то заданию пролетать над Днепром, как раз в тех местах, где шли бои за плацдарм. Теперь, в этот чудесный весенний день, здесь всё было тихо и мирно. Цвели вишни и каштаны. А на фоне сияющего весеннего пейзажа все ещё давали о себе знать следы недавних битв: пепелища, дзоты, землянки… И повсюду громоздились ржавые груды разбитой техники: нашей, а чаще — вражеской.
На Днепровский плацдарм с парашютистами на борту мне приходилось летать ночью. Сейчас, в погожий день, трудно было с высоты определить точно эти места. Но, судя по карте, мы пересекали Днепр как раз на том участке, где шли наиболее ожесточённые бои за переправу. Вскоре я убедился, что не ошибся.
На правом берегу, недалеко от Днепра, между остатками зенитной батареи и двумя разбитыми танками, вкопанными в землю, я заметил распластавшийся в кустарнике транспортный самолёт. Я опустился ниже, описывая над разбитым кораблём круг за кругом. Да, это был он, знакомый мне самолёт Крюкова. Только благодаря счастливой случайности умудрился пилот под ураганным обстрелом посадить на таком пятачке подбитую машину. В этих трудных условиях он лишь слегка повредил самолёт, сохранив жизнь всем членам экипажа.
Как нас похоронили…
Группа наших транспортных самолётов, возглавляемая майором Семенковым, была занята доставкой вооружения и боеприпасов наступающим частям Советской Армии. Действовали мы в районе Каховки. Эта станция снова, как и в годы гражданской войны, стала ареной больших боёв.
Однажды в пасмурный холодный день (дело было поздней осенью) мы грузились перед отправкой в очередной рейс.
Признаюсь, для пилота транспортного самолёта возить боеприпасы — занятие не особенно приятное. Знали мы, что с ними нужно обращаться умело: не ударять, не бросать. На погрузке и разгрузке осторожность целиком зависела от нас, а вот в полёте… Ведь у каждого самолёта по разным причинам может случиться вынужденная посадка.
А посадка в боевых условиях не всегда проходит гладко. Стоит грубо толкнуться колёсами в неровную посадочную площадку, и тогда опасный груз взорвётся, а самолёт вместе со всем экипажем взлетит в воздух.
Поэтому, если мне приходилось с опасным грузом идти на вынужденную посадку в неизвестной местности, я всегда ощущал холодок за спиной…
В тот памятный день, о котором пойдёт речь, экипаж нервничал уже при погрузке. Впервые нам доводилось перевозить реактивные снаряды для знаменитых «катюш», наводивших ужас на гитлеровцев. Уже один необычный вид этих снарядов внушал страх: напоминали они не то морские торпеды, не то каких-то чудовищных рыб. Хотя мы, по обыкновению, спешили, стремясь сократить время на погрузку, снаряды на этот раз уложили особенно аккуратно. Это был шестой и последний наш рейс за день.
Шли мы, как всегда в прифронтовой полосе, низко, прячась от вражеских истребителей. Погода улучшилась, тучи разошлись.
Вблизи речки Молочной видны были свежие следы недавней битвы. В притоптанной, выжженной траве валялось множество трупов в серо-зелёных шинелях, немецкие каски с чёрными фашистскими крестами. Обгоревшими пятнами выделялись участки, поражённые снарядами «катюш».
В ночных полётах над линией фронта мы наблюдали огненные «автографы» реактивных снарядов. Подобно хвостам миниатюрных комет, они бороздили тёмное небо. А сейчас у меня за спиной лежал целый штабель этих «комет». Ощущение пренеприятное!
Неожиданно уменьшились обороты правого мотора, снизилась его мощность, упало давление масла. Продолжать полёт было нельзя. Что делать? Кругом голая степь.
— Командир, садиться надо! — кричит мне второй пилот.
— Немного ещё протянем, — отвечаю ему, а сам думаю: «Садиться? Нет уж, дудки!»
— А дальше что? — снова спрашивает второй пилот.
— А дальше найдём аэродром… Разве не помнишь, впереди, прямо по курсу, самолёты взлетали и садились?
Моя уверенность несколько успокоила экипаж, в то время как во мне самом тревога нарастала. Механик, не мешкая, переводит винт на большой шаг, чтобы уменьшить сопротивление встречного потока воздуха. Штурман замеряет расстояние до полевого аэродрома штурмовиков, а радист в своей рубке выстукивает ключом точки и тире, передавая на базу о случившемся.
Восстановить работу отказавшего мотора нам не удалось. Единственный действующий мотор не в силах был удержать перегруженный самолёт на прежней высоте. Под нами расстилались истоптанные, покрытые целой сетью оврагов поля. Мысль работала тревожно: предположим, сядем как-нибудь на пятачке, не стукнемся, не взорвёмся. А дальше что? Нам нужно масло, но кто даст его в чистом поле? А гвардейские минометчики с нетерпением нас ждут — «катюшам» нужны снаряды!
Нет, мы должны во что бы то ни стало дотянуть до аэродрома! Вдруг с ужасом убеждаюсь, что и второй мотор вот-вот заглохнет — он работает на предельном температурном режиме. Теперь уже штурман меня успокаивает:
— Вот сейчас, через минуту, где-то совсем рядом полевой аэродром должен показаться…
Наступили последние, критические минуты, когда экипаж повел борьбу за каждый метр высоты, и без того уже ничтожной.
Ура! Мы победили. Вот он наконец долгожданный аэродром — дотянули-таки! Осторожно разворачиваюсь с маленьким креном и тихонько, «блинчиком», иду на посадку.
Выпустили шасси, приземлились спокойно. Словно гора с плеч свалилась! Механик, забравшись на плоскость крыла, проворно открыл горловину масляного бака и опустил в неё мерник.
— Командир, — крикнул он тревожно, — долетались: масло всё!
Солнце уже низко склонилось над горизонтом, счёт времени для нас шёл теперь на минуты.
Внимательно осмотревшись вокруг, я заметил на противоположной стороне лётного поля маслозаправщик, направляющийся к стоянке штурмовиков. Я вспомнил, как приходилось юношей состязаться в беге: прижал локти к груди и что есть духу, со скоростью спринтера, пустился наперерез маслозаправщику.
— Стой! — кричу шофёру. — Стой!
Удивлённый водитель замедлил ход. Воспользовавшись этим, я тотчас же вскочил на подножку заправщика.
— Послушай, парень, — говорю ему, — видишь, транспортный самолёт приземлился?
— Вижу… А мне какое до него дело? У меня своё задание.
— Нет, поедешь сперва нас заправишь! Гляди, солнце садится, а мне нужно вашим же полкам на передовую снаряды до темноты доставить.
Водитель, не говоря ни слова, развернул машину, и мы понеслись по лётному полю. Механик проворно приготовился к заправке, и оба бака быстро наполнили маслом…
Через несколько минут мы были у цели. Обычно экипаж приступал к разгрузке, не дожидаясь хозяев груза, — дорога была каждая минута! На этот раз мы с опаской поглядывали на таинственных «рыб», дожидаясь, когда подойдут гвардейские миномётчики. Не ровен час, стукнешь чем — поминай как звали!
К великому нашему удивлению, подоспевшие на помощь солдаты вовсе не собирались церемониться: они выбрасывали снаряды через дверь самолёта пинком.
— А что им сделается? — усмехнулись миномётчики, заметив наше удивление. — Они ведь не заряжены…
И, указав на деревянный ящик, лежавший в углу кабины, старшина гвардейцев добавил:
— А вот с этим «гостинцем» надо поаккуратнее: взрыватели ко всей партии снарядов — там!
Только тут я понял, во что могло обойтись экипажу незнание новейшего оружия. Снаряды укладывали бережно, как грудных младенцев. А ящик — эту адову машину — второпях как попало пихнули в фюзеляж. Ну и дела!..
Мы ещё разгружались, когда ушёл в воздух приземлившийся до нас самолёт Бирюкова.
Запустив моторы, снялись и мы. Необходимо было застать на погрузочной площадке хотя бы один самолёт нашей группы — бензина у меня на обратный путь оставалось в обрез: мы перерасходовали его во время вынужденной посадки.
Как потом нам рассказывали, на погрузочной площадке в это время разыгралась такая сцена. Командир группы Алексей Иванович Семенков спросил:
— Все экипажи прилетели?
— Михайлова только нет, — ответили ему.
— Никто его не видел?
— Я видел, — отвечает Езерский. — Он сидит на вынужденной. У штурмовиков.
— Обознался, Дима! — возражает Бирюков. — Он при мне садился на цель: я улетал, а он разгружался.
— Здравствуйте! — возмутился Езерский. — Да я же шёл низко, даже номер на фюзеляже успел разглядеть. Сидит Павел. Слово даю, сидит на вынужденной. И машина его — целёхонька!
— Я-то что, — не унимался Бирюков, — ослеп, что ли? Я ведь и словечком с ним перекинуться успел. А ты говоришь: «на вынужденной»…
Семенков не стал спорить. Было ясно одно: приключилось что-то с экипажем Михайлова. Что именно, пока неизвестно.
Отправив самолёты на ночёвку, командир остался нас поджидать. Но вскоре вылетел и сам: темнота сгущалась, и было похоже на то, что мы уже не прилетим. А тут ещё в столовой за ужином кто-то из пилотов уверял, что сам видел, как под вечер фашистские истребители сбили советский транспортный самолёт.
Очевидец воздушного боя утверждал при этом, что подбитая фашистскими истребителями машина падала, охваченная пламенем. Как выяснилось позже, такой случай действительно имел место в этот день, но только не в нашей группе.
Мы же приземлились на погрузочной площадке, не застав ни единой машины. Бензина оставались капли. Погода снова испортилась, подул пронизывающий ветер, заморосил мелкий спорый дождь. Мы устали, продрогли, хотели есть. Вдалеке, на краю поля, робко светились окна одинокой, чудом уцелевшей от немецкой бомбёжки хаты.
Тянуло к теплу, на огонек. Но от самолёта уходить было рискованно.
Решили организовать дежурство у машины в три смены. А чтобы моторы не остыли, прогревали их периодически остатками бензина. Первой смене оставили всю свою верхнюю одежду — им предстояло дежурить под открытым небом, — а сами двинулись к хате.
Каково же было наше разочарование, когда вместо желанного отдыха нас ждали здесь холод и запустение. В хате ютилась колхозница с кучей малых, истощённых голодом ребятишек. Женщина растирала в ступе зерна кукурузы, а дети, горько плача, просили есть. Проголодавшиеся, мы с вожделением поглядывали на ступу, но, разумеется, ни у кого из нас не хватило духу попросить хотя бы горсть зерна. Только несколько кочанов капусты да немного кукурузы удалось утаить хозяйке. Всё остальное гитлеровцы отобрали, а что не успели захватить с собой, уничтожили перед отступлением.
Устроила нас женщина на ночлег в случайно уцелевшем амбаре с земляным полом. Здесь все было завалено бочками, всевозможной рухлядью. Но мы были рады и этому приюту, хотя потом дня три болело тело — до того нам намяла бока эта деревянная постель.
С рассветом мы отправились к самолёту в надежде заполучить помощь. Бензин кончился, связи никакой — сколько просидим, неизвестно. Угнетало сознание полной оторванности от товарищей. Мы посылали в небо ракету за ракетой, но безрезультатно.
Лишь после полудня на горизонте показался самолёт. Снова просигналили ракетами. Смотрим, садится.
Подошли ближе.
Вышел незнакомый пилот, спрашивает:
— Что случилось, ребята? На вынужденной, что ли?
Я объяснил ему, в чем дело.
— Вот что, друг, — сказал он мне, — у меня у самого бензина в обрез. Но вы не горюйте, я, так или иначе, в вашу группу сообщу. Потерпите ещё немного.
Лётчик отдал нам весь личный запас продовольствия и улетел. Беспокойство не проходило: разыщет ли пилот наших? А если они уже снялись с оперативной точки и улетели на базу? Как и кому он сообщит тогда о нас?
Волноваться пришлось, к счастью, недолго. Вскоре с востока показался ещё один самолёт, и мы снова заработали ракетницей. Наши сигналы заметили — самолёт развернулся, пошёл на посадку. По номеру определили: наш, экипаж Шутова.
Товарищи снабдили нас горючим, и мы поднялись вслед за ними. Шутов рассказал нам, что в группе все переволновались за нашу судьбу. Многие считали нас уже погибшими и перестали ждать. В это время от командования поступил приказ — всей группе возвращаться на базу под Москву. Перед самым вылетом командир решил попытать ещё раз счастья: Шутову было дано задание пройтись по всей трассе и внимательно просмотреть землю, не найдет ли нас.
Так мы были вызволены из беды.
На следующий день мы были уже в Москве и попали прямо к празднично убранному по случаю Октябрьской годовщины столу. Как говорится: с корабля — на бал!
Старый друг
Наша группа была переформирована в авиационно-транспортную дивизию Гражданского воздушного флота. После многочисленных и успешных полётов в тыл противника, к партизанам, мы получили распоряжение отправиться под Москву, на свою базу.
Слетевшись на подмосковный аэродром, экипажи эскадрильи радостно встречались друг с другом: было что вспомнить, о чём порассказать. Сбор был назначен в штабе полка. Появление среди нас Тарана всех очень обрадовало.
Таран, деловитый и озабоченный, по обыкновению, отрывисто сказал:
— Командиры кораблей, быстро на аэродром, сейчас будем летать!
Мы — пять пилотов — всей группой отправились за ним на лётное поле. Здесь стояла большая транспортная машина новейшего типа. По внешнему виду она была знакома, но за штурвалом её никому из нас, молодых командиров, сидеть не доводилось.
Таран сел на место второго пилота. Мы же все сгрудились за его спиной, ожидая, кому из нас первому выпадет честь занять сиденье командира корабля. Таран оглянулся и бегло окинул взглядом наши горящие нетерпением лица.
— Садись, Бирюков! — приказал он. — Месяц на земле партизанил, небось и вовсе летать разучился.
Константин Дмитриевич быстро занял место первого пилота.
— Набивайте глаз, — наставлял Таран, — привыкайте к новой пилотской кабине!.. — И стал рассказывать, как устроено оборудование новой машины. — Кабина эта, — объяснял он, — мало чем отличается от нашей прежней, даже приборы на доске расположены почти в том же порядке. Только вот надписи на доске приборов да и на всём оборудовании на английском языке.
Каждому из нас довелось в тот раз посидеть по нескольку минут на месте командира корабля, присматриваясь к незнакомой машине. Затем начались вывозные полёты. При этом тренирующийся занимал место командира корабля, а Таран сидел рядом с ним справа, наблюдая за управлением и исправляя ошибки пилота.
После того как каждый из нас сделал по два вывозных полёта под контролем Тарана, он вышел из машины и приказал:
— А теперь летайте сами! Каждому выполнить по пять посадок!
Наступил и мой черед лететь. Набрав заданные триста метров высоты, я стал выполнять положенные развороты над аэродромом.
— Ну, как машина? — спросил сидевший справа от меня Дима Езерский, уже закончивший самостоятельные полёты на этом самолёте.
— Да ничего, — ответил я уверенно, — машина как машина. По-моему, мало чем отличается от нашей «ЛИ-2».
— Ну ладно, садись, а потом скажешь, — заметил Дима уклончиво.
Признаться, я изрядно волновался: как-никак это был мой первый самостоятельный вылет на новой, совсем ещё незнакомой мне машине. К тому же беспокоило и другое обстоятельство — за моими действиями наблюдал не кто иной, как Таран. А глаз у Тарана намётанный — ни одна деталь в технике пилотажа не ускользнёт от него!
Самолёт шёл на посадку, всё поначалу обстояло хорошо. Как вдруг машина клюнула носом, будто её потянула к себе с земли неведомая сила. Я растерялся на какие-нибудь доли секунды, потом, опомнившись, быстро отдал от себя рычаги сектора газа — моторы заработали на полную мощность. Медленно покачиваясь с крыла на крыло, самолёт буквально в нескольких сантиметрах от земли выровнялся и снова взмыл вверх.
Я оглянулся: ребят, только что сгрудившихся за моей спиной, не оказалось. Видя, что машина вот-вот зароется носом в землю, они не преминули быстренько перекочевать в хвост самолёта. Я же, собрав все силы, благополучно приземлился, как положено: «на три точки».
Зарулил самолёт на старт для следующего взлёта, с волнением жду, что скажет Таран. Конечно, не мог он не заметить, что я на выравнивании допустил ошибку и проскочил дальше, чем следовало.
Я не ошибся. Грозно подняв кулак, Таран предостерегающе крикнул мне:
— Смотри, повторишь ещё раз такой заход, пеняй на себя: не видать тебе этой машины как своих ушей!
На счастье, все последующие четыре самостоятельных вылета сошли без промахов. Направляясь в штаб на разбор тренировки, я продолжал ломать себе голову: «Почему у меня так получилось с первой посадкой?»
— Не горюй, Павел, — утешал Костя Бирюков, заметив мое удручённое настроение. — Дело-то ведь простое! Мы вместе с экипажем набились в пилотскую кабину — вот и перегрузили носовую часть самолёта. Стоило тебе убрать газ, как машина, естественно, клюнула носом. Молодец, что не растерялся!
В штабе полка Таран придирчиво разобрал каждый наш самостоятельный полёт, затем приказал экипажам Езерского и Бирюкова готовиться к вылету.
— А ты, Михайлов, — сказал он мне, — ступай за распоряжениями к командиру полка!
— Есть явиться к командиру полка! — ответил я по-военному коротко. А на душе кошки скребли. «Намылят, — думаю, — мне сейчас голову по первому разряду!»
В кабинете командира полка собрались лётчики из других эскадрилий. «Так, — рассуждаю про себя, — значит, не одному мне придётся краснеть».
— Все в сборе? — спросил командир полка майор Алексей Иванович Семенков.
— Все! — доложил начальник штаба.
С каким же облегчением узнал я, что вместо предполагаемого разноса Семенков приступил к изложению нового задания.
— На вас, бывалых лётчиков, кто имеет уже за плечами не один десяток боевых вылетов, командование возлагает большие надежды, которые, я полагаю, вы оправдаете… — говорил Семенков.
При этом он сообщил, что нам поручается принять на Востоке новые самолёты и перегнать их на базу, под Москву.
— Старшим группы, — продолжал командир полка, — по перегонке самолётов назначается лейтенант Михайлов.
Затем начальник штаба огласил состав экипажей. Я услышал: командир корабля и старший по группе — Михайлов, второй пилот — Павлов, бортмеханик — Кучугурный, радист — Мокроусов.
Кучугурного и Мокроусова я знал хорошо, это были надёжные боевые ребята из экипажа Бирюкова; недавно целый месяц они партизанили. «А вот Павлов, Павлов, — повторял я про себя, — кто же это такой? Верно, какой-то пилот из новеньких…»
— Ясно задание? — прервал мои размышления Семенков.
— Ясно! — дружно в один голос ответили мы.
Выслушав распоряжение, пилоты и штурманы экипажей собрались уточнить предстоящий маршрут.
Можно представить, какова была моя радость, когда я встретил здесь… своего старого тамбовского друга Володю! Так вот о каком Павлове шла речь в приказе!..
Я бросился к нему:
— Володя, откуда, какими судьбами?
Мы обнялись. Я рассказал ему о новом задании, сообщив, что он назначен ко мне в экипаж. Володя был очень рад этому назначению.
Вот мы и в Красноярске. Шла зима сорок четвёртого года. Буйные февральские ветры перемешали снежные наносы, свистела не умолкая за окном пурга. Мы расположились в гостинице. Моя и Павлова койки стояли рядом, как в давние- давние школьные годы.
— Помнишь, Володя, — спрашивал я, — как ты хотел удрать из школы, чтобы стать истребителем?
— Было такое дело, — сказал Павлов смущённо.
— Ну, а сейчас как твоё настроение?
Володя рассказал, как он жил.
— Два года подряд просился я на фронт, и всё не пускали. Сижу изо дня в день вторым пилотом, как истукан, и покручиваю баранку штурвала. Утюжу воздух по маршруту Аляска — Якутск — Красноярск, перегоняю самолёты…
— Что ж, и это полезное дело, — заметил я.
— Полезное да надоедливое, — возразил Павлов. — В общем, лопнуло-таки моё терпение. Пошёл я к начальнику по перегонке, Илье Павловичу Мазуруку, и говорю ему: «Где же ваши обещания? Сколько мне тут у вас коптеть вторым пилотом? Я ведь так, чего доброго, и присохну к правому сиденью». Мазурук подумал, подумал да и отправил меня в отдел кадров, в Москву. Иначе я не попал бы к вам в часть…
Мы своим экипажем облетали вновь полученные машины над Красноярским аэродромом, проверили состояние материальной части, распределили экипажи по самолётам и вылетели в Москву.
Чувствуя страстное желание Павлова лететь самостоятельно, я уступил ему своё командирское сиденье, а сам сел рядом, справа. Легко было заметить, что Володя успел прекрасно овладеть техникой пилотирования новых машин.
— Для кого эта машина новая, — говорил мне Павлов, — а для кого нет. Я на «С-47» уже часов шестьсот налетал, если не больше.
В пути он дал мне точный перевод всех надписей на приборах, разъяснил работу радиокомпаса и рассказал о некоторых особенностях новой машины.
На базе аэродромные рабочие приводили новые машины в порядок: закрашивали белый круг со звездой, выводя на его месте пятиконечную звезду — опознавательный знак авиации Советского Союза.
Докладывая Тарану, как проходила перегонка машин, я воспользовался случаем, чтобы порекомендовать Павлова на должность командира корабля. Таран был чутким и отзывчивым командиром, он любил лётчиков смелых, волевых, отлично владеющих техникой пилотажа…
Когда он узнал от меня, что Павлов на «С-47» успел налетать шестьсот часов, судьба моего друга была решена: больше в составе моего экипажа летать вторым пилотом Володе не пришлось — он получил в командование самостоятельный корабль.
Человек за бортом
— Лейтенант Михайлов, вашему экипажу придётся выполнить срочное и ответственное задание. Надо немедленно вылететь за линию фронта, доставить партизанскому соединению Фёдорова-Дружинина боеприпасы и радиостанции!
— Есть, товарищ капитан!
— Учтите, к этому полёту надо подготовиться тщательно! Фашисты прекрасно понимают, что мы можем снабжать отряд Фёдорова-Дружинина только с воздуха. Вокруг сильные немецкие гарнизоны. Фашистская противовоздушная оборона до отказа насыщена наземными средствами — прожекторами, зенитными орудиями, пулемётами. И о воздухе не забывайте: вражеских истребителей будет немало.
— Понятно, товарищ капитан!
— На ваш экипаж надеюсь. Маршрут выбирайте по своему усмотрению, тщательно изучите противовоздушные средства противника, спокойно обдумайте, как обмануть его бдительность. Помните, лейтенант Михайлов, каратели будут вас встречать! А партизаны ждут помощи — задание должно быть выполнено.
Я вышел из штаба и направился к единственно уцелевшему среди обгорелых и развалившихся кирпичных коробок двухэтажному зданию — здесь размещались наши экипажи.
Ещё с порога я крикнул:
— Ребята, в полёт!
Товарищи мгновенно вскочили на ноги.
— Штурман, быстро прокладывай маршрут, а ты, Яша, — обратился я к бортмеханику Петрову, — готовь немедленно машину к вылету!
Мы со штурманом углубились в карту, тщательно изучая маршрут предстоящего полёта. Лететь следовало над огромным массивом болотистых лесов, над знаменитыми Пинскими болотами, в которых царское правительство едва не утопило во время первой мировой войны две свои армии.
Трассу пришлось проложить не напрямую, а с изломами: от одного наземного ориентира к другому, минуя более или менее значительные населённые пункты. Пусть этот путь будет длиннее, зато безопаснее!
Когда экипаж собрался на взлётной площадке, машина была уже загружена аккуратно упакованными стокилограммовыми тюками длиной два метра — мы везли с собой боеприпасы и радиостанции.
Ночь выдалась тихая. Слегка морозило, небо было безоблачным, ярко мерцали над нами звёзды. На своей территории мы держали высоту метров в триста. Ориентировка в первый же час полёта стала сложной: болота да леса, леса да болота, с зарослями низкорослого кустарника, с камышами на трясинах.
У самой линии фронта я начал прижимать самолёт к земле. Опыт научил, что бреющий полёт — самый безопасный способ пересечения фронтовой полосы. Но вот, ориентируясь по нарастающему гулу моторов нашей машины, гитлеровцы вслепую открыли огонь. Замелькали в воздухе десятки осветительных ракет. Не помогла, стало быть, и заимствованная у Тарана военная хитрость: перевод работы наших моторов на несинхронный режим, — не обмануло фашистов это «гау-гау» — подражание вою немецких моторов.
Начинает казаться, что все эти ракеты и пули направлены прямо в нас, и, по совести говоря, как-то неуютно становится сидящим в машине. Однако это неприятное чувство преодолевается быстро — мы ведь отлично знаем, что фашисты не видят нас, стреляют наугад.
Вся воля экипажа сейчас сосредоточена на одном: выйти на цель. А это не так просто. Мне хорошо известно, что точка для сброса боеприпасов должна быть обозначена пятью кострами, вытянутыми в прямую линию. Но партизаны разводят костры по-своему: в ямках, для того чтобы сигнальные огни можно было увидеть только сверху. Достаточно лётчику хоть немного «промазать», и он рискует не увидеть этих костров.
Скорость наша — ровно четыре километра в минуту; по расчетам мы должны быть уже над целью, а костров всё нет и нет. Набираю высоту, чтобы увеличить площадь обозрения, но под крылом всё та же картина: леса да болота, болота да леса и редко разбросанные между ними маленькие, будто притаившиеся деревушки. Посоветовавшись со штурманом, решаю проверить себя ещё раз: у нас есть резервный ориентир — озеро, к югу от цели. Его-то мы уж никак не пропустим, если только вообще не сбились с маршрута.
Разворачиваемся по направлению к югу. Все в порядке: десять минут полета — сорок километров расстояния, — и вот оно, озеро. Отблеск его отчетливо виден на фоне чёрного леса. Ложимся на обратный курс, снова летим десять минут, находим расчётное место и начинаем закладывать один вираж за другим: ошибки здесь быть не может! Вот наконец и костры: раз, два, три, четыре, пять — всё, как было условлено.
Даю команду:
— Приготовиться к сбросу!
В кабине темно, как в погребе. Натыкаясь друг на друга, штурман, механик и радист подтаскивают ближе к двери стокилограммовые тюки. Вдруг у меня за спиной раздаётся истошный крик:
— Ты что, очумел? Пусти!.. Нашёл время для шуток!
Второй пилот вскакивает и бежит в кабину выяснить, что случилось. С тревогой оглядываюсь на него, вижу — идёт, смеется. Узнав, в чём дело, я и сам не могу удержаться от смеха, несмотря на всю серьезность положения.
Оказывается, когда при первом заходе на цель стали сбрасывать мешки с обмундированием для партизан, радиста в темноте сбили с ног. Он упал, провалился между мешками и запутался в них. Бортмеханик на ощупь нашёл сапог и стал тянуть его к себе — ему показалось, что лопнул мешок с сапогами. Что делать? Конечно, надо сбросить сапог вниз, рассветёт — партизаны найдут. Вот и потащил бортмеханик радиста за ногу сбрасывать за борт, а тот испугался и заорал благим матом.
Делаем второй заход на цель, нажимаю сигнальную кнопку, слышу за спиной команду:
— Раз, два, отправили!
Я отчётливо представляю себе, что происходит. Мешки летят за борт: срабатывает автоматическое устройство, освобождённые от чехлов парашюты раскрываются, и груз, покачиваясь под белым куполом, плавно опускается туда, где его ждут с нетерпением. После того как груз сброшен, экипаж втягивает обратно в кабину фалы с прикреплёнными к ним парашютными чехлами и закрывает дверь.
Операция сброса подходила к концу. На борту оставалось ещё несколько мешков и радиостанции, как вдруг стрелок докладывает, что над нами появился фашистский истребитель с включёнными бортовыми огнями. Значит, обнаружили! Нужно маневрировать и уходить подобру-поздорову. А как же оставшиеся мешки и радиостанции? Нет, задание должно быть выполнено до конца!
Даю продолжительный сигнал — сбрасывать, сбрасывать всё с последнего захода. Посылаю второго пилота в кабину на помощь, а сам остаюсь один крутить штурвал. Вижу пунктир огней. Это пулемётная очередь — гитлеровский стервятник бьёт по нас. Слышу за спиной стрельбу — это огрызнулся наш стрелок; молодец, не растерялся!
А ребята действуют вовсю: мешок за мешком летит за борт.
Жмусь к земле, стараясь уйти от неприятельских пуль, от фашистского лётчика; он на истребителе не осмелится летать над самыми макушками деревьев, как делаю это я, — побоится врезаться в землю. Трассирующих огоньков больше нет, значит, и в самом деле мы ушли от преследования. Опасность миновала!..
В кабину возвращается второй пилот. Струйки пота стекают у него по лицу; сейчас он уже не смеётся, напротив, он бледен, губы дрожат.
— Что ещё случилось? — спрашиваю его.
Пилот не может выговорить ни слова. Наконец с трудом произносит:
— Механика нашего… Яши Петрова… нет в самолёте…
Я не поверил своим собственным ушам:
— То есть как это нет механика? Где же он?
— Выпал за борт вместе с мешками!
Я обомлел. Затем лихорадочно пытаюсь что-нибудь придумать. «Может быть, он ещё не свалился?.. Может быть, его можно спасти?» — проносится у меня в голове.
Отдаю штурвал второму пилоту. Подсвечивая себе путь карманным фонариком, направляюсь в грузовую кабину. Первое, что бросается мне в глаза, — это наша пропажа: бортмеханик Яша Петров лежит, распластавшись на полу. Бросаюсь к нему, начинаю тормошить.
Но радист с силой хватает меня за локоть, предупреждающе кричит:
— Командир, не троньте его!
— Что с ним? — недоумеваю я. — Жив он?
— Живой. Спит, и всё!
Спит!.. Это уж совсем непонятно. Но тут всё разъясняется. Радист рассказывает, что одна из фал грузового парашюта захлестнула Яшу под колено, а тюк увлёк его за борт. Едва успев крикнуть, Яша камнем полетел в ночь. Глянув в раскрытую дверь, штурман остолбенел — механик болтался под самолётом, упираясь локтями в дверной проем. Штурман с радистом уцепились за фалы и тянули их к себе, пока не подняли Яшу к борту машины. Затем схватили его за руки и благополучно втащили обратно в кабину.
Бортмеханик был невменяем, он озирался по сторонам и, ероша свою заиндевевшую шевелюру, всё время повторял:
— А где же моя шапка?
Шапки не оказалось — она отправилась в Пинские болота, а Яша тут же рухнул на пол и уснул.
У меня отлегло от сердца: Петров — парень здоровый, его железный организм, конечно, легко оправится от пережитого.
— Ладно, пусть спит, — сказал я радисту, — обойдёмся пока без механика.
Вспомнилась при этом юность, как я мечтал попасть на флот, начитавшись морских рассказов, особенно Станюковича. Во времена парусного флота матросы, прежде всего марсовые, которым по долгу службы приходилось лазать по вантам, частенько падали с кораблей в воду, и тогда раздавалась тревожная команда: «Человек за бортом!»
Но, чтобы подобная команда прозвучала на воздушном корабле, этого, пожалуй, ещё не бывало.
Отоспавшись, Яша пришел в себя. На наш вопрос, как он чувствует себя, помнит ли, что летел за борт, он сказал:
— Смутно всё помню… Чувствую себя хорошо… Вот только под коленом немного ноет, а так — всё в полном порядке!
Происшествие с Яшей Петровым всплыло в моей памяти много лет спустя. Весной 1949 года я должен был лететь за границу, доставить группу советских делегатов на Всемирный конгресс сторонников мира. На подмосковном аэродроме собрались провожающие. Особенно много народу пришло пожелать счастливого пути коренастому черноусому пассажиру. Я всегда интересуюсь своими пассажирами, а тут меня и вовсе разобрало любопытство: в этом неизвестном мне человеке чувствовалась большая душевная сила.
Курс наш лежал на Прагу. Мы летели уже над Белоруссией, приближаясь к Пинским болотам. Я внимательно вглядывался в землю, находя хорошо знакомые места. Сколько было совершено сюда ночных полётов к партизанам, сколько опасных боевых эпизодов пришлось пережить мне и моим товарищам над этими лесами, сколько раз приходилось здесь глядеть в глаза смерти!..
Мои воспоминания были прерваны самым неожиданным образом: приоткрыв дверь в пилотскую кабину, у меня за спиной остановился черноусый незнакомец.
— Разрешите войти? — услышал я голос.
Обычно не полагается никого из посторонних впускать в кабину пилота, но на этот раз я отступил от правил.
— Чем могу быть полезен? — спросил я вошедшего.
— Я хотел, — ответил незнакомец, — на минуту воспользоваться вашим планшетом: ещё раз взглянуть на знакомые пути-дороги, немало походил я по немецким тылам во время оккупации. Ведь это Пинские болота, если не ошибаюсь?
Я кивнул головой, затем передал управление второму пилоту и вместе с незнакомцем прошёл в пассажирскую кабину.
Поглядывая то в окно, то на карту в моём планшете, незнакомец вспоминал:
— Вот здесь мы застали врасплох фашистский гарнизон и начисто перебили его. Помню, захватили много трофеев, всех наших партизан удалось тогда обуть в сапоги! Наш отряд громил гитлеровцев в Сарнах, Олевске, Кухетской Воле, Красной Волоке, Камне-Каширском…
Рассказывая, незнакомец водил пальцем по карте. Я внимательно следил за движением его руки: ох, как хорошо и мне знакомы все эти места!
— Здорово нас в ту пору транспортная авиация выручала, — продолжал черноусый. — Лётчики всё доставляли нам по воздуху: боеприпасы, медикаменты, обмундирование, радиостанции. У меня в блокноте сохранились имена всех пилотов, которые к нам летали. Может, вы кого из них знаете. Что-то они сейчас поделывают?
Тут черноусый распахнул пальто, чтобы достать из кармана записную книжку, и на груди его блеснули две золотые звезды.
«Дважды Герой Советского Союза!» — удивился я.
Перелистывая блокнот, пассажир продолжал:
— Тяжело нам приходилось подчас, но и лётчикам было не сладко. Рассказывали мне, что однажды, когда нам сбрасывали боеприпасы, вместе с тюками выпал из самолёта механик. Насилу затащили его обратно, едва не погиб!
Я рассмеялся. Вспомнилась тревожная ночь, бледный, с дрожащими губами Яша Петров, распластавшийся затем на полу кабины…
— Это у меня выпал механик, — сказал я. — Значит, это к вам тогда летали мы?
Черноусый заглянул в свой блокнот.
— Так вы не Михайлов ли? — спросил он радостно.
— Михайлов, он самый…
Мы крепко пожали друг другу руки.
— Вот где довелось встретиться! Тогда вы меня боеприпасами снабжали, на войну, так сказать, снаряжали, а сейчас, наоборот, везёте мир защищать, чтобы не было новых войн! Вот как поворачиваются события! Ну и дела!.. Я — Фёдоров, будем знакомы.
В партизанский край
Когда наш экипаж летал к партизанам в район западнее Буга, мы не располагали полными данными об оперативной обстановке в этом районе. Лишь после, встретившись с известным партизанским командиром Петром Петровичем Вершигорой, я узнал, что, когда войска Первого и Второго украинских фронтов южнее Киева окружили крупную группировку фашистских войск, Первая украинская партизанская дивизия действовала в Польше. Партизаны совершали рейды в Билгорайские леса, оттуда по Замостью шли между Холмом и Люблином под Бялу-Подляску, а в районе Седлеца подходили к Варшаве. Фашистскому губернатору польских земель — гаулейтеру Франку партизаны не давали спокойно грабить польский народ.
Из Польши партизан стали вытеснять. В Варшаве и Кракове были сформированы эсэсовские полки: начались частые стычки, бои, окружения и налёты. Появились раненые. Кончились боеприпасы. Партизаны стали просить помощи: прислать самолёты, выручить боеприпасами, вывезти раненых.
Партизанам была оказана поддержка. «Молния. Сегодня ждите самолёт. Срочно сообщите координаты. Выкладывайте костры». Эта телеграмма была подписана руководителями Коммунистической партии Украины и штаба партизанского движения. Она воодушевила народных мстителей.
Небольшая группа тяжёлых транспортных самолётов, базировавшихся в освобождённом Киеве, получила ответственное задание: мы стали летать ночью к партизанам, вначале на сброс, на движущиеся цели — костры, а позже — с посадками на партизанских площадках в Белоруссии.
Все полёты в основном выполнялись в сложных метеорологических условиях: при низкой облачности, моросящем дожде, обледенении.
Наш экипаж получил новое задание: вместе с двумя другими машинами вылететь в расположение партизанского отряда с тем, чтобы в несколько рейсов эвакуировать на Большую землю, в Киев, больных и раненых партизан, а также женщин и детей.
Партизаны просили помощи. Чтобы вырваться из кольца, им прежде всего необходимо было отправить в тыл всех небоеспособных, которых к тому времени много накопилось в расположении отряда. Отряд действовал в тылу у врага, а его собственный тыл находился за линией фронта. Только авиация могла сейчас выручить отважных народных мстителей, возвратить отряду боевую подвижность.
Перед вылетом на это задание командир предупреждал нас:
— Имейте в виду, посадочная площадка там — крохотный пятачок, лесная полянка, окружённая густым лесом. Грунт песчаный. Для посадки это хорошо: песок тормозит и замедляет пробег машины; зато в момент взлёта этот союзник превращается в коварного врага. Вы сами знаете, машину начинает из стороны в сторону водить. Попробуй набери скорость, чтобы оторвать корабль от земли.
В этот момент из Москвы прилетел Таран. Он считал необходимым для себя проверить, как его воспитанники выполняют задания в тылу противника. Таран рассказал, что во время первой своей посадки на площадке, куда направлялись теперь мы, у него без приключения дело не обошлось. Но иного выбора у нас не оставалось.
Первый мой полёт на эту злополучную площадку мне хорошо запомнился. Посадка действительно оказалась лёгкой: короткий пробег и — колеса увязли в песке. Встреча с партизанами была тёплой, трогательной. Как сейчас помню, в толпе я еле протиснулся к командиру дивизии. Он тут же спросил:
— Как наш аэродром? Пожалуй, не хуже киевского?
Обступившие нас партизаны заговорили на разные голоса:
— Ты Павлик?.. Мы знали, что ты прилетишь.
— Сколько раненых возьмешь?
— Я тебе подарок приготовил…
— Что за подарок? — спрашивает командир отряда.
— Известно, что: бритву или трофейный пистолет, — отвечает комиссар.
Началась погрузка. Садились женщины, дети; несли раненых и больных на носилках. Норма была установлена в двадцать один человек, но за счёт веса израсходованного в полёте бензина мы обычно брали на борт больше людей. Так было и на этот раз.
Погрузка шла уже к концу. Я обходил площадку, выбирая наивыгоднейшую линию взлёта. Вдруг возле самолёта раздался выстрел. Что такое? Я поспешил к машине. Оказывается, партизаны пристрелили корову и уже втаскивают тушу в кабину.
— А корова зачем? — спрашиваю командира.
— Партизанский паёк нашим больным и раненым. Небось в киевских госпиталях нынче не больно сытно кормят! А им нужно поправляться, набираться сил. Они заслужили это, — ответил командир.
Я прикинул: коровенка худая, килограммов этак полтораста, не больше. Махнул рукой, попрощался с бородатым командиром, с партизанами и подал механику команду запускать моторы.
Отрулил на самый край площадки так, что хвостовое оперение очутилось между двумя деревьями. Было совершенно темно, дымные тучи плыли, казалось, над самым лесом. Моросил назойливый дождь, стёкла фонаря пилотской кабины затягивала мутная пелена. Включил фары; за дождём по-прежнему ничего не было видно. Но лететь надо. Дал газ. Была не была!..
Как и следовало ожидать, дело дрянь: тормозит песок, никак не наберу нужную для взлёта скорость, а машина начинает водить носом то вправо, то влево. Того и гляди, врежешься в деревья. А тут и взлётная площадка кончается.
Нет, так не годится! Остановил машину и снова отрулил на старт. Пассажиры волнуются, чувствуют — дело неблагополучно.
— Сходи успокой пассажиров, — говорю бортрадисту, а про себя думаю: «А меня кто успокоит? Таран и тот здесь имел неприятности. Но он-то сумел взлететь…»
Начинаю вторую попытку. Снова газ — самолёт покатился вперёд.
Командую механику:
— Форсаж!
Моторы взревели на максимальных оборотах. Скорость приближалась к пределу, который необходим для отделения самолёта от земли, но фары опять освещали бегущую навстречу стену леса.
«Ну, ещё немного, ещё чуть-чуть!» — подбадриваю себя.
Невольно подаюсь всем корпусом вперёд, будто могу своей силой помочь машине оторваться от земли.
Дождь между тем усилился, вода густыми струйками стекала по стеклам пилотской кабины, стеклоочистители не справлялись со своей работой. Обзор становился все отвратительнее. Но вот уже у самого леса самолёт повис в воздухе. Высота на первых порах настолько мала, что замечаю, как винты рубят листья на макушках деревьев. И всё же сразу подниматься выше нельзя — мала скорость, можем свалиться.
Осторожно набираю высоту, самое страшное теперь осталось позади. Чувствую, как от напряжения пот струйками стекает с лица за воротник гимнастерки. Летим всё ещё низко — облака прижимаются к лесу. Линию фронта пересекаем, как обычно, при фейерверке пуль и снарядов…
Всего за несколько дней наши три машины снабдили соединение Вершигоры боеприпасами, вывезли со злополучной площадки свыше трёхсот человек. В это время мы получили поздравительную телеграмму партизан: товарищи благодарили лётчиков за оказанную им помощь, за то, что мы доставили раненых в тыл.
По окончании операции весь состав экипажей был награждён орденами.
Первое ранение
Вскоре к нам, в Киев, на оперативную точку прилетел Владимир Павлов. Теперь он был командиром корабля. Объём работы у нас всё разрастался: партизанское движение в тылу противника, по мере успешного наступления Советской Армии, получило небывалый размах. Нам, лётчикам, надо было поспевать всюду: работать и на сброс грузов и с посадкой — вывозить раненых.
Павлову и мне поручили доставить боеприпасы и вооружение боевым группам, концентрирующимся на Сандомирском плацдарме, за рекой Вислой, в тылу противника. Одновременно Павлов получил и параллельное задание. Фашистские истребители сбили английский самолёт, летавший для связи с польскими партизанами. Английский экипаж оставил горящий самолёт и выбросился на парашютах недалеко от Сандомира. Павлову было приказано разведать возможность посадки в районе катастрофы, с тем чтобы вывезти британских лётчиков.
Мы с Володей отправились в очередной ночной полёт — через Пинские болота на реку Западный Буг, к городу Влодаве. Дальше наши пути расходились: я должен был свернуть прямо на юг, Павлов — лететь в другом направлении.
Первым поднялся в воздух наш экипаж. Мы имели на борту десантников; их следовало выбросить на правом берегу Вислы, у железнодорожного моста через реку.
Линию фронта, как обычно, перешли на бреющем полёте, затем, по мере приближения к цели, я стал постепенно набирать высоту, достаточную для того, чтобы парашют раскрылся.
На первых порах всё шло благополучно. Но, когда я повернул на юг и мы пересекли железную дорогу на линии Люблин — Холм, в воздухе стало светло как днем от навешанных осветительных парашютов. В небе перекрещивались разноцветные трассы — с земли и с воздуха. На горизонте плыл город Холм, от которого то и дело поднимались в небо огненные столбы: видимо, наши бомбили город, где в то время скопились гитлеровские войска. Над нашей головой шёл воздушный бой между фашистской авиацией и советскими истребителями прикрытия.
Били со всех сторон. Я прижал машину к земле и вышел из зоны огня. Но в душе росла тревога: ведь Павлов летит следом за мной, может как раз угодить под огонь!..
Приближалась цель. Мы шли над лесным массивом, когда наконец блеснула водяная гладь Вислы. Внезапно один за другим вспыхнуло несколько прожекторов; лучи их поползли по небу, разыскивая самолёт. Одновременно под крылом замелькали и сигнальные огни — место высадки было под нами. Значит, десант придётся сбрасывать под лучами прожекторов!
За три захода выбросили десант прямо на цель, кружились над кострами на правом берегу Вислы, а на левом — неистовствовали гитлеровские прожектористы, безуспешно пытавшиеся нащупать нас.
На обратном пути для безопасности спустились метров до тридцати над землёй. В Холме по-прежнему полыхали пожары, хотя взрывов уже не было видно. Выходило, что наши благополучно отбомбились. Линия фронта шла вдоль железнодорожного пути Брест — Ковель. Я стал пересекать её в новом месте, так как обычно старался дважды в одну ночь не появляться над противовоздушными средствами противника.
Впереди по курсу полыхали отблески выстрелов. Кто в кого стреляет, не пойму — может быть, это обычный ночной артиллерийский бой?
Показалась лесная опушка.
«Вот отсюда могут сейчас ударить!» — подумал я. И только мелькнула эта мысль, как с земли действительно ударили по нас, да ещё как! Звон разбитых стекол, оглушительный взрыв, свист ворвавшегося в кабину ветра. Чувствую, у меня горит верхняя губа, нестерпимо режет глаза. Пробую смотреть — не могу. Так и веду самолёт с адовой болью в зажмуренных глазах. Всё время стараюсь не забывать, что высота и до прямого попадания в наш самолёт была ничтожной, а нас продолжают прошивать пулемётными очередями, того и гляди, врежешься в землю. Крепко держу штурвал, сохраняя режим горизонтального полёта. Вдруг за спиной раздался, как мне показалось, громкий протяжный стон: догадываюсь — тяжело ранило штурмана. Неимоверным напряжением воли заставляю себя разжать веки. Вижу — приборная доска разбита, компаса нет совсем. Пальцы у меня в ссадинах. Кровь течёт по лицу, капает с верхней губы. Подо мной целая лужица крови. Трогаю осторожно глаза — целы; не пойму только, почему они такие мокрые… Сообразил — их залило лигроином. Так вот почему эта режущая боль!
Второй пилот сидит рядом со мной. Он, видимо, остался невредимым, но в полной невменяемости. У него шок: сидит пи жив ни мертв. Наконец подает признаки жизни.
— Командир, — говорит он, глядя на меня широко раскрытыми глазами, — компаса-то нет!
— Сам вижу, что нет! — отвечаю ему сердито. — Поведём по памяти.
А кровь всё течёт, не унимается.
— Боря, — прошу бортмеханика Глинского, — погляди, не пробита ли у меня голова: что-то больно много крови.
Глинский внимательно осматривает меня. Кроме ран на лице, он ничего больше не замечает.
«Ну, — думаю, — тогда, пожалуй, дотяну до посадки».
К этому времени мы успеваем перелететь через линию фронта. Детальная ориентировка и хорошее знание местности помогают нам обойтись без компаса. Сначала находим Днепр и, следуя по его течению, летим на свой аэродром, где благополучно приземляемся.
Радист успевает сообщить, что произошло с нами. На лётном поле нас уже ждёт санитарная машина. Меня немедленно увозят в госпиталь. Там вынимают осколки из губы и щеки, зашивают раны, после этого я возвращаюсь в группу к своим.
Отделался я на этот раз сравнительно легко, выйдя из воздушного боя с пожизненной отметиной на лице. Поправился от ран и штурман. Только в госпитале я узнал, что мы попали под сосредоточенный ураганный огонь противовоздушной обороны противника. Оказывается, перед нами над тем же злополучным местом пролетал другой самолёт нашей группы — экипаж Тараненко. Фашисты его обнаружили и открыли яростную атаку. Тараненко успел благополучно выскочить из-под вражеского огня, а мы с ходу угодили в самое пекло.
Попал под обстрел и Володя Павлов, когда летел за мной в районе Люблина. Ему навешали столько осветительных ракет, что стало светло, как во время киносъемки. Друг мой, к его чести, сумел выбраться невредимым из этого «фейерверка». Ему, правда, пришлось свернуть в сторону от Холма, к реке Висле, однако обходным путём он вышел на цель.
Своё задание Володя перевыполнил: не только разыскал экипаж со сбитого британского самолёта, но и совершил посадку в поле, возле леса.
— Захожу на посадку, — вспоминает Володя, — полоса казалась ровной. Вдруг самолёт как плюхнется! Что такое? Оказывается, сели на ржаное поле. Соломы столько накрутилось на колёса, что машина без торможения остановилась.
Вскоре после этих полётов экипажи мой и Павлова командование отозвало в Москву для получения нового задания.
В ДАЛЁКИХ КРАЯХ
Над тремя частями света
На стене просторного кабинета-зала висела большая, двухметровая карта. Красной изломанной линией на ней был отмечен маршрут: Москва — Баку — Тегеран — Багдад — Каир — Мальта — Бари.
Такой длинный путь, пролегающий над тремя частями света, предстояло совершить экипажам самолётов, командиры которых собрались сегодня на совещание. Группа наших транспортных самолётов должна была лететь в Италию на помощь союзникам, действовавшим на Апеннинском полуострове, и мы перед полётом получали от командования необходимые инструкции.
Впервые мы вылетали далеко за пределы нашей Родины, и нам, её крылатым посланцам, выпадала честь поддерживать в чужих краях авторитет Страны Советов, представлять её доблестный народ, её вооруженные силы.
10 июля 1944 года, с рассветом, по асфальтовой дороге к аэродрому помчались автобусы.
«Прощай, любимый город…» — звенела волнующая душу мелодия.
Так с пением и доехали до аэродрома экипажи десяти тяжёлых транспортных самолётов.
Вместе с нами отправлялись в дальний путь экипажи Езерского и Павлова. Мысль о том, что это трудное и почётное задание я буду выполнять вместе со своими боевыми товарищами, меня особенно радовала. На чужбине важно быть рядом со старыми, преданными друзьями. Ведь ехали мы не на туристскую прогулку — на войну, и никто из нас не был застрахован от смерти.
Хотелось верить, что рано или поздно вернёмся домой, — мы знали, что победа близка. Может быть, поэтому так радостно, по-боевому звенела наша прощальная песня. Нет, не завтра — сегодня выходим, только не в море, а в воздушный океан. Его нам предстояло пересечь над тремя частями света: Европой, Азией и Африкой.
И вот уже экипажи самолётов длинной цепочкой вытянулись вдоль выстроенных на аэродроме самолётов. Звучат слова команды, смолкает говор, мы замираем в строю. Перед строем — маршал авиации Астахов. Он пришёл проводить нас в дальний путь, сказать напутственное слово.
Стекла наших машин кажутся розовыми, в них отражается диск раскалённого июльского солнца — оно только что поднялось над горизонтом.
4 часа 45 минут… Последние прощальные слова, последние рукопожатия.
На рулёжной дорожке, обозначенной сегодня ради такого торжественного случая красными флажками, десять воздушных кораблей один за другим идут на старт. Вот взмыл в воздух один, за ним другой, третий… Поднялся и я. Прощай, любимый город, прощай, Москва!
Курс наш — на Баку; туда мы летим без посадки. В безоблачном небе на высоте две тысячи метров вытянулась прерывистая цепочка самолётов. Вылетели мы с интервалом в пятнадцать минут и строго соблюдаем дистанцию так, что с последнего корабля не видно первого, и наоборот.
Под крылом самолёта проплывают города, посёлки, лесные массивы, реки, ровная гладь полей — родная земля, истерзанная войной. Во рвах вокруг разрушенного города-героя — обломки обгорелых танков, бронетранспортёров, орудий, автомашин, самолётов, остовы целых железнодорожных составов. Сам город выглядит пустынно и заброшенно. Редко где торчат чудом уцелевшие трубы над развалинами домов.
В воздухе спокойно, не болтает. Наши пассажиры, руководство группой — двадцать один офицер, — прильнули к окнам; многие из них в своё время были участниками боёв на Волге.
А вот и нефтяные вышки Азербайджана. Как рвались сюда фашистские орды! Но нет, не досталась им бакинская нефть. Ни бакинская, ни грозненская и ни майкопская!
Баку встретил нас нестерпимой жарой, предвестницей тех климатических условий, которые нас ожидали впереди — на Ближнем Востоке и в Африке. Раскаленный воздух был неподвижен, густой, как глицерин.
В Баку мы пробыли недолго, заправились и полетели дальше. По желтоватым водам Каспийского моря гуляла мёртвая зыбь, вот-вот должен был надвинуться циклон. Дальше лежали Ленкорань, Астара, пограничный пункт… До скорого свидания, Родина!
Море остаётся позади, мы проносимся уже над территорией Ирана, летим над горным массивом, вершины которого прячутся в кучевых облаках. Приходится набирать высоту — две с половиной, три, три с половиной тысячи метров. Летим над облаками, под которыми скрываются горы. Ориентируемся только по курсу и по расчету времени. Когда мы выходим на Тавризскую равнину, в облаках начинают появляться просветы, постепенно распространяющиеся на весь горизонт.
Однако от этого нам не становится легче: земля просматривается лишь под самым самолётом, вся видимость по курсу затянута мутным маревом желтоватой песчаной дымки. На радиокомпас надежды мало: он в этих условиях не даёт устойчивых показаний на тегеранскую станцию.
Экипаж начинает нервничать: полёт в непривычной климатической обстановке над территорией иностранного государства вызывает естественную тревогу. Как бы не заблудиться, не оскандалиться!..
К счастью, опасения наши оказываются напрасными. По мере приближения к столице Ирана радиокомпас начинает работать исправно.
Один за другим самолёты идут книзу, постепенно сбавляя высоту. С шестисот метров мы уже отчетливо различаем очертания большого города.
Ещё в Москве мне стало известно, что высота тегеранского аэродрома тысяча двести метров над уровнем моря. До этого мне ни разу не приходилось садиться на высокогорные площадки, и это обстоятельство меня сейчас несколько беспокоит. Первые самолёты уже сели, пошёл на посадку и я, следуя за впереди идущим кораблём и учитывая заранее изученные мной ориентиры — трубы кирпичных заводов, расположенных поблизости от аэродрома.
Посадка была трудной, самолёт нёсся над землёй дольше, чем я этого хотел, но всё же мне удалось опуститься у самого посадочного знака.
Мы вступили на иранскую землю…
Она была сухой и потрескавшейся от зноя. Лётное поле оказалось вытоптанным настолько, что ни о каком растительном покрове не могло быть и речи. Сплошная пыль.
Аэродром был забит самолётами — американскими, английскими. По нему беспрерывно сновали приземистые «виллисы», развозили американских и английских офицеров.
От множества впечатлений зарябило в глазах. Сказывался одиннадцатичасовой напряжённый перелёт; хотелось прежде всего поесть и отдохнуть.
За годы войны мы привыкли жить на всём готовом. Поэтому я обратился к своему начальнику с вопросом:
— А где нас будут кормить?
— А где хотите! — ответил мне подполковник. — В городе и ресторанов и закусочных полно. А Иран к тому же не воюет, карточек здесь нет…
Итак, сегодня мы перенеслись в совершенно иной, непривычный для нас мир. Рестораны, харчевни! Но ведь для всего этого нужны деньги, да ещё и не наши, советские, а какие- то другие…
Видя мое замешательство, подполковник рассмеялся, полез в полевую сумку и стал отсчитывать хрустящие бумажки:
— Получай в счёт зарплаты, для первого знакомства с буржуазными порядками. Раз, два, три, четыре, пять!.. По сто долларов на брата в счёт зарплаты хватит?
— Хватит! — ответил я нерешительно, а сам подумал: «А кто его знает, хватит или не хватит? И сколько это на наши деньги — доллар?»
С доллара, — крикнул мне подполковник, — тебе в любой лавчонке дадут сдачу в персидской валюте — туманах. Гляди только, чтобы тебя не обжулили при размене!
В сопровождении нашего представителя мы направились в гостиницу. Разместились, умылись, а потом пошли разыскивать некоего не то Потапа, не то Прокопа; его нам рекомендовали как знающего русский язык ресторатора.
По пути мы рассматривали диковинный восточный город. Хотя был вечер, на улицах города царило оживление. Здесь ведь не знали ни затемнений, ни воздушных тревог. Продуктов и товаров было вдоволь. Столица невоюющего Ирана жила своей обычной, пёстрой и беспокойной жизнью. Необычно было лишь присутствие в городе иноземцев-военных. Но предприимчивые тегеранские дельцы и на этом умели наживаться.
По узким улицам персидской части города двигались во всех направлениях мулы, автомобили, верблюды, мотоциклы, велосипеды с колясками. Крикливо зазывали покупателей лоточники, торгующие фруктами и овощами; продавцы безделушек и ковров разложили свой товар прямо на тротуаре. Мелькали женщины в чадре, брели нищие в живописных лохмотьях, вертелись грязные босоногие ребятишки, выпрашивающие у прохожих мелочь. И вся эта толпа суетилась, нараспев выкрикивала что-то…
Потап, или Прокоп, встретил нас довольно приветливо. Забегали официанты, наш скромный заказ — три блюда и фрукты — был выполнен в мгновение ока. Счёт подал, как это здесь принято, сам хозяин. С каждого из нас, оказывается, причиталось по двадцати долларов. Мы покорно расплатились: двадцать так двадцать, очевидно, так и следовало.
Позже мы поняли, почему так любезен был с нами ресторатор. Прокоп здорово нажился на нашей доверчивости: за двадцать долларов каждый из нас у этого хозяина харчевни мог бы питаться едва ли не целую неделю, и не раз, а три раза в день.
Добравшись до своего номера, мы мгновенно уснули. Предстоял ранний вылет. Но спали мы недолго: мешала неприятная тяжесть и шум в голове, в горле пересохло, дышать было нечем… Ночь была такой же нестерпимо знойной, как и день.
Недолго думая я схватил со стола графин и вылил воду на пол, а простыни намочил под краном умывальника. Товарищи последовали моему примеру.
Воздух в комнате повлажнел, дышать стало легче, и мы снова заснули.
На аэродром отправились рано утром. Улицы ещё были пустынны. По тротуарам бродили, выискивая отбросы, бездомные псы. Кое-где, прямо на земле, спали нищие. Нас провожал сонный Тегеран.
Курс наш — на Багдад. Иран отделён от Аравийского полуострова высокогорной местностью, целой системой хребтов, отдельные вершины которых превышают три тысячи метров. Этот барьер нам предстояло теперь преодолеть.
Нас выручала погода. Небо было безоблачным, горные вершины отчётливо просматривались. До сих пор мне приходилось летать лишь над хребтами Урала, Кавказа и Сибири. Сейчас же мы шли, не спускаясь ниже трёх тысяч метров над уровнем моря, а порой встречались вершины, которые загоняли нас на высоту четырех тысяч метров. Воздух здесь накалён был до того, что даже на таких больших высотах термометр показывал тридцать пять градусов жары. Моторы перегревались и работали на предельном температурном режиме. В таких условиях нелегко было набирать высоту, если этого требовал рельеф местности. Помимо всего, изрядно болтало, самолёт поминутно проваливался, увлекаемый нисходящими воздушными потоками. Малейшая неосторожность — и врежемся в скалистый пик!
Нервы были напряжены неимоверно. Про такие условия лётчики говорят: «Самолёт висит на штурвале». Чуть-чуть замедленная реакция, и лётчику вместе с машиной — гроб!
Под крылом чередой проплывали остроконечные вершины крутых обнажённых скал, мрачные ущелья. С высоты дно горных каньонов представлялось бездной. Казалось, дёрнет сейчас воздушный поток, швырнет твой самолёт на скалы и полетишь в пропасть.
Наконец горная страна осталась позади, и мы все вздохнули с облегчением. Теперь под нами расстилалась однообразно жёлтая песчаная гладь пустыни — Аравийский полуостров. Единственный ориентир на нём — бесконечная линия насыпи, покрывающей нефтепровод. Он тянется от иранских нефтяных месторождений к нефтеперегонным заводам в Багдаде. Вдоль нефтепровода, попеременно справа и слева, мелькают небольшие посадочные площадки. Эксплуатация и текущий ремонт этого сооружения, по-видимому, осуществляются при помощи авиации — небольших, легких самолётов.
Мы пересекаем мутный Тигр с перекинутыми через него убогими мостами и подходим к зеленеющему на жёлтом фоне пустыни оазису — столице Ирака Багдаду.
Территория Багдада огромна, но только небольшая часть в центре города застроена многоэтажными, европейского типа домами. Подавляющая часть населения столицы живёт в одноэтажных домиках, окружённых ярко-зелёными деревьями и раскинувшихся на необозримой площади.
Миновав Багдад, мы летим над зеркальной гладью озера Хаббания и приземляемся на бетонированной дорожке близлежащего аэродрома.
То, что мы видим собственными глазами, ничего общего не имеет с представлениями об Аравии, сложившимися у нас по учебникам и справочникам. Где те смуглые арабы в белых бурнусах, глинобитные дома с плоскими крышами, о которых, помню, я — учитель географии — рассказывал в школе своим ученикам! Ничего подобного не нахожу здесь.
Вокруг аэродрома всё те же, знакомые ещё по Тегерану, однотипные бараки из гофрированного металла, купола подземных резервуаров для горючего, покрытые алюминиевой краской. Везде снуют юркие каракатицы — «виллисы» и тупорылые «студебеккеры».
Уверенно звучит английская речь: британские офицеры в белых кителях и пробковых шлемах обступают наши приземлившиеся самолёты.
Единственное, что здесь замечаем подлинно аравийского, это удушающая жара, обжигающий кожу раскалённый воздух, густой и неподвижный, — сорок пять градусов в тени! А мы в своих хромовых сапогах, в защитных гимнастерках, перетянутых ремнём и портупеей! Хотя и непривычно было смотреть на английских офицеров, важно шествующих… в шортах, тем не менее мы им завидовали. Пока наше командование вело переговоры с союзными офицерами — хозяевами аэродрома — о нашем размещении на отдых и дальнейшем пути, мы забрались под крыло самолёта, спасаясь от палящего солнца.
Наше внимание привлёк воробей. К моему удивлению, этот пернатый житель знойной Аравии ничем не отличался от своих белорусских или московских сородичей: перья его были такие же серенькие, а сам он такой же маленький, подвижной, нахальный и так же звонко чирикал.
Разместили нас в военном авиагарнизоне. Здесь было всё предусмотрено, для того чтобы по возможности оградить лётный персонал от изнуряющей тропической жары: душевые установки, холодильники, вентиляторы.
Позже мы убедились, что английские и особенно американские войска не только в далёком от полей битв Ираке, но и непосредственно в фронтовой полосе много заботились о своём комфорте. Всюду здесь сооружались домики из гофрированного металла, офицерские бары, душевые.
Рано утром, приняв душ и позавтракав, мы отправились в дальнейший путь. Под крылом снова необозримые просторы пустыни с редкими оазисами. По мере продвижения к югу оазисы попадались всё чаще и наконец слились в сплошное море зелени. Палестина!
У подножия холма, увенчанного куполом старинного собора, раскинулась живописная панорама Иерусалима.
Снова небольшой пустынный участок, пересечённый несколькими рядами невысоких скалистых гряд. А вот и Суэцкий канал. Теперь мы уже летим над долиной Нила. Она тянется широкой зеленеющей лентой на фоне однообразно жёлтой пустыни. Дельта Нила напоминает чем-то Волгу вблизи Астрахани. Только вода здесь мутная, красноватая.
Под нами столица Египта — Каир. Здесь и там торчат шпили минаретов. Как и во всех больших городах Востока, центр Египта застроен многоэтажными, европейского типа домами, а вокруг, на огромной территории, прячутся в зелени крохотные одноэтажные домики.
В тридцати километрах от Каира мы приземлились на аэродроме Каиро-Вест и вступили на землю Африки. Английские офицеры встретили нас радушно, по крайней мере внешне.
Здесь, в отличие от спокойной обстановки Аравии, уже попахивало войной. Ливийская армия фашистского генерала Роммеля была ликвидирована англичанами, но в море, у греческих берегов, война продолжалась. Происходили боевые действия и в воздушных просторах побережья.
Лётный состав английской авиации размещался в хорошо оборудованных палатках, куда устроили и нас. И здесь в каждой мелочи сквозило тяготение к комфорту, с той лишь разницей, что всё было оборудовано поскромнее, чем в Хаббании.
Герой Югославии
Здесь, на аэродроме, мы неожиданно встретились с группой советских лётчиков, возвращавшихся на родину. Они воевали в тех местах, куда теперь направлялись мы. Как обрадовались мы неожиданной встрече, товарищам, успевшим стать за несколько месяцев «ветеранами» воздушной борьбы в Средиземноморье!
Один из них — молодой ещё, невысокий, коренастый лётчик Александр Сергеевич Шорников — очень интересно рассказывал о своих полётах к югославским партизанам.
В апреле сорок четвертого ему поручили слетать на заснеженный горный аэродром в Боснии. Английские авиаспециалисты утверждали, что тяжёлый самолёт с грузом посадить в этом месте в горах зимой вообще невозможно. Шорников доказал, что хоть очень трудно, но возможно. Ему не поверили. Пришлось тогда купить в итальянской лавчонке несколько плетёных корзин, взять их с собой в полёт на гору Петровац, наполнить там югославским снегом и вручить после очередного полёта союзникам.
В конце мая фашистские войска начали новое большое наступление против Народно-освободительной армии Югославии и партизанских отрядов. Гитлеровцы, по-видимому, рассчитывали с помощью предателей из среды югославов — всяких там «четников» и «усташей» — захватить в плен верховный штаб НОАЮ во главе с маршалом Иосипом Броз Тито.
Был выброшен парашютный десант в районе города Дрвар. Фашисты перерезали все горные дороги. Большая группа десантников опустилась совсем близко от штаба Верховного командования.
Маршал Тито решил тогда перевести свой штаб в другое место. В ночь на четвёртое июня экипаж самолёта Шорникова получил приказ вылететь в район Купришко-Поле и произвести посадку самолёта примерно в ста километрах от города Дрвар.
Погода не благоприятствовала советским лётчикам. Маршрут их полета проходил через морскую базу Сплит, захваченную гитлеровцами. Её прикрывал очень сильный огонь зенитных батарей. Непрерывно маневрируя, Шорников миновал опасную зону и разыскал нужную ему вершину горы. Более получаса ушло на то, чтобы в разрывах облачности обнаружить световые сигналы. Но лётчик увидел партизанские костры. Требовалось большое умение и особая осмотрительность, чтобы посадить тяжёлый самолёт на тесную площадку, изрезанную горными ручьями. Шорников с облегчением вздохнул, когда прекратилось шуршание камней и машина замерла.
Вскоре у самолёта появились маршал Тито и сопровождавшие его лица. Они спустились с гор. Недолгое совещание, и вот самолёт, подпрыгивая на ухабах, стремительно набирает скорость и отрывается от земли.
На борту машины Шорникова — маршал Тито, начальники советской, английской и американской военных миссий, члены верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии.
Когда самолёт вышел на побережье Адриатического моря, маршал Тито зашёл в пилотскую кабину, подробно расспрашивал о трудностях взлёта и посадки, интересовался возможностью повторного полёта в эту ночь на ту же площадку.
…Второй полёт оказался труднее первого. Когда самолёт возвращался, начало рассветать. Чтобы избежать встречи с истребителями противника, Шорников вёл свой корабль бреющим полётом над морем.
Попытка гитлеровцев уничтожить верховный штаб Освободительной армии свободолюбивого горного народа была сорвана. Штаб-квартира маршала Тито разместилась на самой высокой горе острова Вис, куда можно было попасть только по извилистой крутой тропинке. Остров был недоступен оккупантам и всё время находился в руках югославских патриотов.
Здесь не раз бывал Шорников. Здесь он получил высокую награду.
Из своего памятного полета за членами верховного штаба НОАЮ Шорников вернулся Героем Советского Союза и Народным Героем Югославии.
…Шорников ещё не закончил свой рассказ, когда нас позвали к обеду.
К концу обеда в столовой к нам присоединились английские офицеры.
При первом знакомстве англичане произвели на нас благоприятное впечатление, и не только потому, что они буквально изощрялись в любезностях. Это ведь были наши боевые товарищи, недавно очистившие африканскую землю от гитлеровцев. Расспросив нас о дальнейшем нашем маршруте, британские офицеры пришли в изумление.
— Как, — недоумевал сухопарый штурман, — семьсот пятьдесят километров над морем на сухопутных самолётах?! Да это же безрассудство!
— Небо над морем далеко ещё не мирное, — предупреждал нас молоденький жизнерадостный пилот, — не исключена возможность встречи с фашистскими «мессерами»! Что вы тогда станете делать? Ведь вы же совсем беззащитны!
В конце этой беседы командир эскадрильи истребителей типа «Москито» окончательно разгорячился:
— Нет! — воскликнул он, ударив себя кулаком в грудь. — Я не допущу, чтобы русские лётчики, наши доблестные союзники, подвергались такому риску. Я подниму эскадрилью «Москито» и прикрою вас с воздуха. Пусть только попробуют сунуться «мессеры»!
Хотя после многочисленных тостов командир английской эскадрильи был явно навеселе, однако мы ему поверили: уж очень искренним казалось его сочувствие…
Спали мы хорошо. В Египте по ночам бывает значительно прохладнее, чем днём. Нам предстояло провести здесь весь день, и мы поднялись пораньше, чтобы успеть ознакомиться с достопримечательностями Каира и его окрестностей.
На аэродроме под наблюдением белых десятников трудились чернокожие нубийцы, рослые и сильные негры; здесь шли большие строительные и планировочные работы — видимо, авиабаза Каиро-Вест расширялась.
В этот день я стал свидетелем одной отвратительной сцены, при воспоминании о которой мне становится не по себе и теперь, когда пишу о ней много лет спустя. Возле наших палаток негры прокладывали подземный провод связи. Один негр замешкался. Недолго думая белый десятник подскочил к нему и с размаху ударил дубинкой по его чёрной лоснящейся от пота спине.
По газетам и литературе я, конечно, знал, как ведут себя белые колонизаторы. Но одно дело — читать, другое — видеть собственными глазами. Унизительная для советского человека сцена насилия так меня взорвала, что я чуть было не вмешался. К счастью, экзекуция ограничилась на сей раз этим единственным ударом, и я, стиснув зубы, отвернулся и зашагал прочь…
Знакомство с Египтом мы начали с Каира. Было совершенно очевидно, что за один день всего не осмотреть, оставалось выбирать самое интересное. Уличная жизнь египетской столицы нас скоро утомила: те же гомон и суета, что и в Тегеране.
Мы осмотрели знаменитый Каирский зоологический сад, в котором собраны многочисленные представители африканской фауны.
Съездили мы, конечно, и к пирамидам. Каждому из нас приходилось много читать и слышать о них, поэтому пирамиды не произвели на нас сильного впечатления. Величественные памятники времен фараонов показались нам давно знакомыми.
Усталые и измученные нестерпимым зноем, мы возвратились на аэродром. Больше всего в эту минуту нам хотелось одного — отдохнуть в каком-нибудь прохладном уголке. Но наши любезные хозяева-англичане пожаловали в гости.
Снова пошли «ахи» и «охи» по поводу предстоящего перелёта через море. И снова командир эскадрильи истребителей «Москито» клятвенно начал заверять нас, что он не позволит, чтобы мы, «дорогие союзники», одни летели через море.
Застольная беседа с английскими лётчиками проходила в дружеской обстановке. Заговорили о спорте. Как и большинство англичан, наши новые друзья оказались завзятыми спортсменами. Решили помериться силами, благо футбольное поле оказалось рядом с нашими палатками. Недолго думая мы наскоро сформировали свою команду. Весть о футбольном матче с русскими мгновенно облетела палатки авиагородка. Болельщиков собралось много.
Мяч в игре! Соревнования сразу начались в энергичном темпе. От каждого удара взлетала вверх галька, которой усыпано было футбольное поле. В самом начале игры забили гол в ворота англичан. В ответ англичане стали яростно атаковать наши ворота. Вырвавшись вперёд, Езерский погнал мяч к воротам противника на дистанцию хорошего удара… Вот он, удар! Мяч вместе с подскочившей галькой полетел высоко над штангой, а не рассчитавший своих движений наш нападающий Езерский упал, подвернув ногу. На этом состязание оборвалось.
Ушиб был настолько серьезен, что понадобилось вызвать врача. Игра же так и осталась незаконченной — со счётом 1:0 в нашу пользу.
На следующий день мы поднялись рано. Стояло чудесное утро. Вокруг аэродрома в тёмно-синем африканском небе от знойной жары высоко поднималось мутновато-жёлтое марево песчаной дымки.
Английские лётчики собрались провожать нас. Повторяя вчерашнее обещание, они заверили, что их истребители вылетят вслед за нами. Мы уточнили с ними по карте наш предстоящий совместный маршрут, сообщили, в каком пункте на африканском побережье предполагаем заправляться горючим, договорились также и о том, каким строем идти.
Один за другим поднялись в воздух наши корабли и легли на курс. Но, сколько мы ни обозревали горизонт, не смогли отыскать союзников в пустынном небе. Так они и не появились, и мы продолжали свой путь без прикрытия. То ли командир эскадрильи истребителей «Москито» накануне прихвастнул, то ли передумал в последнюю минуту и изменил своё решение.
Через пустыню и море
Набрав заданную высоту, я, по обыкновению, взялся за карту, чтобы сличить её с местностью. Увы, как на карте, так и на местности не было ни единого ориентира. Куда ни кинь взгляд — безбрежное море песков да жёлтое марево над горизонтом! Оставалось руководствоваться лишь курсом и расчётом времени полёта.
Под нами лежал район недавних боёв. В этих местах разыгрывалось сражение англичан с армией Роммеля. Однако, пролетая здесь, я видел только мёртвые, зыбучие пески. Все, что мне удалось заметить с воздуха, — это лишь несколько следов танковых гусениц. Они-то и привели нас к городу Эль-Алядум, вблизи которого, судя по сообщениям газет, и развернулись наиболее ожесточенные бои между армиями Монтгомери и Роммеля.
То, что мы увидели, собственно говоря, трудно было назвать городом: от силы тридцать домиков, окруженных садами, аэродром с ангаром, разрушенным авиабомбой, а может быть, тяжёлым снарядом, вот и всё.
Аэродромная команда Эль-Алядума была французской, состояла она из участников движения Сопротивления, но военное начальство, как и в Каире, было английским.
Мы заправились горючим и вскоре поднялись в воздух.
Таким образом, единственными приметами знаменитой битвы в пустыне были следы нескольких танков и разбитый ангар в Эль-Алядуме. Что ж, возможно, всё остальное было занесено зыбучими песками… Но в нашей памяти при этом вставали мрачные видения других сражений — сражений, следы которых мы неоднократно замечали, пролетая над просторами нашей Родины.
Развалины русских, украинских селений и городов, исковерканные врагом оборонительные сооружения на советской земле — как всё это не похоже на войну в Африке!
Лететь средь бела дня над морским театром военных действий да ещё на невооруженном сухопутном самолёте мне довелось впервые. Невольно напрашиваются мысли: а вдруг откажет мотор, появятся вражеские истребители или из морской пучины вынырнет подводная лодка и откроет по тебе огонь из зениток?
В таких условиях минуты тянутся часами, а часы кажутся вечностью.
Вопреки прогнозу, полученному нами от синоптиков в Каире, не было ни облачка. Над нами во все стороны до самого горизонта простирался чистый, густо-синий купол неба, внизу — такое же синее море, испещрённое волнистыми линиями белых гребешков. И на нём ни единого паруса, лишь изредка мелькнёт под крылом белое или серое пятно чайки.
Наша цель, остров Мальта, — маленькая, всего каких-нибудь километров двадцать пять в длину и десять в поперечнике, территория. Малейшая ошибка — и проскочил остров!
Но опасения наши оказались напрасными, с курса мы не сбились. Преодолев расстояние в семьсот пятьдесят километров над пустынным морем, мы вышли точно на Мальту. Сначала впереди, на горизонте, возникло тёмное пятно. Постепенно расплываясь, оно приняло отчётливые очертания гористого острова, на котором выступили скалы с серыми пятнами, зеленеющие холмы, широкие долины и белые домики.
Мы сделали обзорный круг над пологим плато, заметили на нем несколько аэродромов. Нужно было среди них разыскать тот, который был выделен английским командованием для нашего приёма.
Посадка на небольшой остров даже для опытного лётчика — дело нелегкое. На свой глазомер в таком случае пилоту рассчитывать недостаточно. Когда летишь над сушей, земля кажется ближе, чем это есть на самом деле. Над морем же, наоборот, высота всегда представляется преувеличенной.
Заходя на посадку, я заметил, что вода у берегов очень прозрачная: даже с высоты, сквозь водяную толщу в несколько метров, хорошо видны были не только водоросли — каждый камешек, лежащий на светлом дне.
Англичане, встретившие нас на аэродроме, знали, что наш перелёт был длинный, утомительный, и поспешили пригласить экипаж в гарнизонную столовую. Там мы пообедали, насладившись вдоволь действительно превосходным английским пивом, которое хорошо утоляло жажду.
Затем нам предоставили помещение для отдыха. Это было полуподвальное строение из гофрированного железа, с проходом посередине, с крошечными по обе стороны каморками, завешенными марлей для защиты от назойливых москитов.
Мы очень устали. С утра нам надо было двигаться дальше в путь, и тем не менее мы отправились осматривать город Ла-Валетта — главный населённый пункт острова.
Старинные городские здания, построенные преимущественно из туфа, были почти полностью разрушены беспрестанными бомбежками. Население города ютилось главным образом в подвалах. Остров, его героический гарнизон и население мужественно выдержали около трёх тысяч налётов немецкой и итальянской авиации!
Географическое расположение Мальты превратило её в опорный ключевой пункт в Средиземном море. Это обстоятельство является причиной постоянных несчастий для жителей острова: на протяжении двух тысячелетий Мальта была ареной военных действий, по нескольку раз переходя из рук в руки.
Населяют же остров мальтийцы, народ смешанного происхождения. Язык их арабский, с сильным влиянием итальянского.
На улицах города нас преследовала стайка неугомонных мальчишек.
Узнав, кто мы такие, они настойчиво повторяли:
— Руссо? Руссо?
— Да, да!.. — отвечали мы.
Население острова быстро узнало о прибытии советских лётчиков. На улицах стало людно, из раскрытых окон домов свисали красные полотнища.
Кое-кто кричал приветствия:
— Да здравствуют русские союзники!
Жара была нестерпимой. Мы зашли в тратторию — так здесь называют кафе — выпить по кружке пива. К нам подсел пожилой мальтиец с молодым парнем.
— Я пришел выпить с вами кружку пива, — сказал он. — Мы все прекрасно понимаем — прибыли настоящие союзники. О том, что вы прилетели, я узнал от сына…
Когда мы проходили мимо губернаторского дворца, стоявшие там двое часовых оказали нам принятую на острове воинскую почесть: завидев нас, они взяли винтовки на изготовку и чётко маршировали навстречу друг другу до тех пор, пока мы не скрылись из виду.
По установившейся со времен Ушакова традиции, русские офицеры, посетившие Мальту, брали верховых лошадей и отправлялись в горы осматривать живописные окрестности. Мы, к сожалению, не располагали для этого временем. Искупавшись в тихой бухте и вернувшись с пляжа на аэродром, мы уснули мёртвым сном.
Подъём, как всегда в летный день, был ранним. Однако с отлётом произошла неожиданная задержка: выяснилось, что с нами пожелал познакомиться знаменитый герой обороны Мальты, командующий гарнизоном острова генерал-лейтенант Форстер.
Мы не сразу опознали его в группе офицеров, толпившихся на аэродроме. Как и прочие офицеры, генерал был в шортах, гимнастёрке, перетянутой портупеей, и в чёрном берете. В этом одеянии вид у него, говоря откровенно, был далеко не воинственный.
Прощаясь с нами, генерал шутливо заметил, что пребывание русских гостей на острове лишило местный гарнизон месячного рациона хлеба и пива. Доля истины в этой шутке была: англичане вообще мало едят хлеба. Что же касается пива, то жара была такой несносной, а оно было таким вкусным!..
На генеральскую шутку мы ответили в том же тоне:
— Что поделать, генерал! Мы работаем, воюем и едим по-русски. Так уж у нас заведено!
На том и расстались.
Меня занимал вопрос: как после многотысячных массированных налётов вражеской авиации на Мальту мог уцелеть базирующийся здесь английский флот?
Вскоре я понял, в чём дело: в стенах скал выдолблены были пещеры, способные вместить не только подводные лодки — целые миноносцы! В этих надёжных укрытиях и отстаивались суда во время налётов авиации.
15 июля 1944 года закончился шестидневный перелёт над тремя частями света. Наши машины пронеслись над цветущей, густо населённой Южной Италией, в те дни уже освобождённой союзниками. Под нами многокрасочным ковром расстилались оливковые и апельсиновые рощи, альпийские луга и виноградники на отрогах Апеннин. Зелень всех оттенков мелькала под крылом самолёта.
Проплывали города, поселки, прибрежные рыбацкие деревушки, шахматные доски крошечных, трудолюбиво и тщательно возделанных клочков земли. А вот и дымная шапка над вершиной вулкана Везувия! Вот залив Таранто, вокруг которого по холмам, как белые ромашки, амфитеатром раскинулись городские домики!
Мы пересекли материк — голенище «сапога» Апеннинского полуострова — и вышли на побережье Адриатического моря, омывающего Восточную Италию, запад Балкан.
Посадку совершили на аэродроме Полезия, близ приморского города — порта Бари.
В Италии в дни войны
Мечта советского человека — это всегда реальная жизненная цель.
Герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов, участвовавший в спасении челюскинцев, мечтал о высадке десанта на Северном полюсе. Он даже пьесу написал на эту тему — «Мечта пилота», которая шла на сцене одного из московских театров. Меньше чем через три года мечта Водопьянова получила уже не только сценическое воплощение. Автор пьесы, управляя штурвалом тяжёлого транспортного корабля, высаживал на плавучие льдины первый воздушный десант — персонал станции «Северный полюс-1»: Папанина, Кренкеля, Ширшова и Фёдорова…
В дни Великой Отечественной войны мы все мечтали об одном — о победе. Но мечтали по-разному. Одни собирались расписаться на стенах рейхстага, другие — во что бы то ни стало хотели напоить своих коней в Эльбе, третьи — спуститься на лыжах с гор в Шварцвальде.
И у меня была своя мечта. Я хотел День Победы встретить в Мюнхене, столице Баварии, колыбели германского фашизма.
Когда после перелета Баку — Тегеран — Багдад — Эль-Алядум — Мальта мы очутились в небольшом итальянском городке Бари на побережье Адриатического моря, я почувствовал, что мечта моя близка к осуществлению. Мюнхен расположен на юге Германии, от Бари до него рукой подать. Когда прикажут, смогу легко долететь туда, даже без заправки горючим дополнительных баков.
Но мы шли к победе тяжёлыми и извилистыми путями войны, и летом 1944 года до Мюнхена ещё было далеко. Пока что в баварской столице фашисты чувствовали себя сравнительно спокойно. Союзники топтались на месте. На Восточном фронте в это время кровопролитнейшие бои с отступающими фашистскими войсками шли примерно на линии государственной границы нашей Родины.
В этих далеких краях я очутился впервые.
Экзотические страны Ближнего Востока, Африка, Мальта, Италия — всё было так ново и необычно, что перелёт прошёл как во сне. Вот когда сбылись мои юношеские мечты о путешествиях!
И только теперь, отдыхая на берегах Адриатики, под солнцем Южной Италии, я, как и все мои товарищи пилоты, «переваривал» свежие впечатления. Прежде всего мы думали о прошлых и предстоящих встречах с нашими союзниками — американцами и англичанами. Мы внимательно приглядывались к ним. Ведь теперь заканчивать войну нам предстояло бок о бок с ними!
Ещё задолго до этого, когда шли кровопролитные бои на Днепре, мы в частых разговорах между собой возмущались медлительностью союзников, затягивающих открытие второго фронта. Весь Балканский полуостров пылал в огне партизанской войны. Столкнувшись с необходимостью бросать всё новые и новые резервы на Восточный фронт, немцы ослабили свои оккупационные гарнизоны на Балканах. В такой благоприятной обстановке в балканских странах движение Сопротивления росло и ширилось с каждым днем, причем в авангарде его шли коммунисты и подлинные патриоты. А это и не устраивало кое-кого из американцев и англичан. Как узнал позже мир, не случайно второй фронт союзники открыли в Италии. Опередив наступление идущей с Востока Советской Армии, они рассчитывали утвердить на Балканах своё господство. Становилось понятным, почему союзники не хотят оказывать поддержку партизанам, а помогают только группам Сопротивления буржуазного толка. Они явно содействовали всем, кто после изгнания фашистов мог бы подавлять у себя в стране революционное движение и обеспечивать неприкосновенность капиталистических порядков.
Когда мы разобрались в этой сложной обстановке, стало понятно, как важна и ответственна наша роль, роль посланцев Советской страны. На нашу долю выпадала задача поддерживать материально и морально движение революционных патриотов балканских стран, протянуть им руку помощи, наладить прямую связь между ними и Советским Союзом, который был готов бескорыстно, по-братски помочь разобщённым народам Европы избавиться от фашистского ярма.
…Бари — прелестный, древнего происхождения город, с пышной субтропической растительностью, с населением свыше двухсот тысяч человек, с крупным механизированным портом и железнодорожным узлом. В нем есть и промышленные предприятия и высшие учебные заведения.
В Бари множество замечательных памятников церковной архитектуры XII и XIII веков, величественные развалины старинного замка.
Но жизнь города, начавшая замирать ещё при фашистском режиме Муссолини, окончательно заглохла в дни немецкой оккупации. Не возрождалась она и после прихода англо-американских войск. Почти все заводы стояли. Лишь незначительная часть безработных могла быть использована на строительстве военных укреплений, которые с лихорадочной поспешностью возводили союзники.
Наши экипажи разместились не в самом городе, а в пригородном посёлке Полезия, у самого моря. Жили мы в помещении бывшей школы, только кое-кто из нашего командного состава поселился в реквизированных оккупационными властями роскошных виллах.
Живописную картину представлял собой приморский пляж в воскресные дни. Итальянцы выезжали сюда из города целыми семьями на весь день. Любопытно, что в стране, где до войны выпускались самые лучшие, самые дешёвые в Европе автомобили, жители пользовались арбами или телегами, в которые впрягали мулов. Подняв оглобли своей повозки, отдыхающие натягивали на них какое-нибудь полотно, так что получался своеобразный шатёр, несколько предохраняющий от палящего зноя. После этого начинались заботы о пропитании. Лишь немногие семьи имели возможность за гроши покупать рыбу у крестьян приморских деревушек. Такие счастливчики в своём кругу считались чуть ли не «миллионерами». Большинство же горожан спускались семьями к воде и сами ловили крабов, осьминогов, морских ежей и рачков — всё, что попадалось под руку и что хоть сколько-нибудь было съедобно.
Нашлись и среди наших экипажей любители «острых ощущений» — попробовали мясо осьминога. Эта безвкусная, упругая, трудно пережёвываемая масса напоминала американскую жевательную резину.
Местные жители привыкли потреблять эту морскую живность преимущественно в сыром виде. Редко кто варил её. Мы видели, например, как готовили на огне блюдо из осьминога. Сначала его били о прибрежный камень до тех пор, пока не замирали все щупальца-присоски, затем тщательно прополаскивали в морской воде, пока не выйдет вся красящая жидкость, и потом варили. Иногда осьминогов жарили на оливковом масле с макаронами, с приправой из помидоров и красного перца.
Ловко и быстро обрабатывались и другие животные, перед тем как съесть их в сыром виде. С краба снимали только панцирь. Морского ежа расщепляли на две половины и вынимали его съедобные внутренности: пять ячеек, содержащие мелкозернистую массу, похожую на икру.
Рядом с нашим пляжем находился американский пляж. Некоторые пилоты развлекались тем, что за мелкую никелевую монету, а то и за сигарету заставляли итальянских ребятишек поедать крабов живьём. Разгрызаемый панцирь хрустел, как галька, на зубах, несчастные дети давились, американцы же хохотали.
Наш уголок на пляже был особым мирком, своеобразным заповедником, где не было ни завоевателей, ни побежденных, где люди встречались как равные и искренние друзья. Стоило только в городе распространиться слуху, что прилетели русские, как началось массовое паломничество. Итальянцы шли познакомиться с нами, побеседовать, а то и просто поглядеть на нас. До этого им говорили, что русские отпускают длинные бороды, ходят подпоясанные красным кушаком, с балалайкой через плечо.
Местные жители всячески старались доказать нам своё искреннее расположение. Как-то один из наших пилотов, возвращаясь поздно вечером с какого-то спектакля, заблудился в темноте и не мог разыскать в поселке нужного ему дома. Пожилой итальянец, которого он случайно встретил по пути, охотно проводил его. Пилот ушёл спать, а итальянец просидел на крыльце до утра. Когда в доме проснулись, гость попросил часового пропустить его к командиру.
Выслушав рассказ итальянца, наш офицер полез было в карман, чтобы расплатиться с проводником за оказанную им услугу. Но странный гость возмущенно замотал головой: его неверно поняли, никаких денег ему не нужно — он просто был рад помочь русскому офицеру и хочет, чтобы его фамилия стала известна командованию. Запомнилась мне эта фамилия.
Ещё раз спасибо вам за дружбу, синьор, — нет, не синьор, а товарищ Почарони!..
Первый вестник помощи
Дни шли за днями, мы уже отдохнули, а полёты всё ещё не предвиделись. Стояла нестерпимая жара: ни днем, ни ночью от неё не было спасения. Ворочаясь на своих раскладных койках под пологом, предохраняющим от назойливых москитов, мы с тоской думали о том, сколько полезных дел мы могли бы за это время выполнить у себя на родине!
А объединённый союзнический штаб в это время под самыми разнообразными предлогами препятствовал нам активно включиться в боевую работу.
Наконец наш экипаж получил долгожданное задание на первый боевой вылет. Мне предстояло разыскать партизанский отряд, который временно был вынужден отступить на греческую территорию.
Англо-американская сторона тщательно скрывала от нас эту точку, где находился английский офицер связи. Нас заверяли, что этот отряд кочует с места на место и разыскать его невозможно. Мы же имели точные сведения, что союзники постоянно летают туда только не из Бари, а из Египта. Впрочем, англичане не скрывали, что их самолёты летают к греческим партизанам, но умалчивали, что производят посадки.
Передо мной была поставлена задача: отыскать этот партизанский отряд, найти посадочную площадку, приземлиться и выгрузить медикаменты, а также обычные, необходимые партизанам вещи.
Наши полковники Попов и Троян с группой офицеров должны были остаться для связи и установления дружбы с греческими партизанами.
Мы понимали, как много может дать наш полёт к партизанам, и тщательно готовились к рейсу. Изучение карты заняло почти три дня. Пришлось прилежно потрудиться над ней с цветными карандашами в руках. Карта должна была стать нашим путеводителем, по ней мы могли отыскивать наземные ориентиры.
Удалось установить, что высота предполагаемой посадочной площадки над уровнем моря равна семистам метрам. Теперь оставалось определить подходы — с какого из них безопаснее идти на посадку. Рассчитывать на ориентировку по радиосигналам с земли нечего было и думать; подходы к посадочной площадке наметили, пользуясь скупыми данными карты. Требовалось учесть противовоздушные средства противника: немецкие укреплённые районы, аэродромы для ночных полётов вражеских истребителей, а также прожекторные точки зенитных батарей. Наш маршрут пересекал укреплённую линию на побережье.
Тщательно изучив карту и призвав на помощь весь свой опыт по прежним полётам в тыл противника, мы условно отменили предполагаемое расположение вражеских аэродромов, огневых и прожекторных точек.
Наконец все приготовления к полёту были закончены.
Наш самолёт над объятыми пламенем войны Балканами должен был явиться первым вестником того, что героям, изнемогающим от непосильной борьбы с оккупантами, идёт надёжная, братская помощь Советского Союза.
Нет, мы решительно не имеем права не справиться с заданием!
В моём дневнике записано: вылет из Бари 25 июля 1944 года. На борту самолёта, кроме экипажа, одиннадцать советских воинов, вооружённых автоматами и пистолетами. Им предстоит влиться в партизанский отряд и вместе с ним участвовать в боевых действиях против немцев. В обязанность советских воинов входит также поддерживать постоянную связь по радио с нашим командованием, чтобы согласовывать действия партизан с планом наступления Советской Армии на Балканах.
Груз наш состоит из продовольствия, оружия, переносных двигателей, радиостанций и другого военного имущества. Весь этот груз мы упаковали в специальные аварийные мешки, чтобы в случае необходимости сбросить его на парашютах, хотя твердо верили, что не придется этого делать.
Когда совсем стемнело, я получил разрешение у диспетчера американского командного пункта на вылет. Отрулил на стартовую линию и дал газ. Как искры, промчались мимо меня под левым крылом огни ночного старта. И вот мы в воздухе.
Я вёл самолёт в основном по приборам, лишь слегка подсвечивая их флуоресцирующим светом. Полностью освещать приборы в ночное время нельзя: яркий свет мешает лётчику видеть наземные ориентиры, пространство за стеклом кабины пилота становится непроницаемым.
Под нами мелькало множество огней: почему-то союзники отменили затемнение на всей территории освобожденной Италии. Даже портовый город Бари и тот не пользовался больше светомаскировкой. По ночам он защищался только цепью аэростатов.
Промелькнули огни города Таранто; миновали мы и Бриндизи; скоро должен показаться Гальяно — последняя наша точка на материке. По небу непрерывно рыскали прожекторы английских и американских постов противовоздушной обороны. Неудивительно — наш полёт по этому маршруту не был включён в план, а потому на земле, естественно, недоумевали: откуда взялся самолёт, не противник ли это?
Полёт наш был рискованным предприятием. Летели мы на высоте девятисот метров, вполне достижимой для огня зениток, да и истребитель мог выйти вдогонку, стоило ему только нас обнаружить. Такая встреча, конечно, не предвещала нам ничего доброго. Успокаивало одно: в хвостовом отсеке нашего самолёта установлен автоматический радиоответчик. Если на нас и наведут локатор, хитроумный аппарат с хвоста нашего самолёта тотчас ответит автоматически по радио: «Я свой!» Почешут зенитчики затылок: с одной стороны, в эту пору над ними никакого самолёта быть не должно, а с другой — этот пароль «Я свой!». По своим же бить не полагается! Пока они будут раздумывать над этой загадкой, мы успеем пролететь мимо…
Под крылом возникает мигающий маяк Гальяно. Я разворачиваю самолёт на новый курс, и вот мы над морем. Исчезли последние береговые огни, нас окружил полный «мрак: звезд ни одной, только чёрное небо да чёрная водяная гладь. Впечатление такое, будто летишь в ничто.
Поглядываю на своих товарищей и вижу — настроение у них совсем не боевое. Что и говорить: лететь в абсолютном мраке, через линию фронта, над морем, да ещё на сухопутном самолёте, — пожалуй, малоприятно. А ведь самое опасное ещё впереди! Откровенно говоря, я и сам чувствовал себя не лучше, но решил приободрить товарищей.
— Штурман, — кричу, — говори, где летим?.. — Взбудоражил механика: — Что же ты молчишь? Сколько горючего истратил?.. — Пошутил с радистом: — А ну-ка, покажи класс — свяжись с Москвой!..
Замечаю, оживились ребята. Штурман линейкой водит по карте, радист крутит рукоятку приёмника, механик проверяет бензин. Всё в порядке, работа в полёте отвлекает от мрачных мыслей.
Увлечённые своим делом, мы не заметили, как в море один за другим зажглись прожекторы. Внезапный яркий свет ослепил меня, прожекторы «поймали» наш самолёт. Чьи же суда нас обнаружили: немецкие или английские? Высота ничтожная, самолёт абсолютно беззащитен. Дадут по нас снизу очередь или залп — вспыхнем, как факел!
Военная хитрость подчас помогает преодолеть превосходящие силы противника. Решение созрело мгновенно: я схватил сигнальную лампу «люкс», высунул её в форточку и начал посылать книзу световые сигналы. Никакого пароля я, разумеется, не знал и сигналил наугад. А второму пилоту приказал:
— Держи курс, никуда не отклоняйся!
Гляжу, с моря светят мне ответным сигналом: дают букву «Н» — тире и точку. Стал и я посылать букву «Н». По сей день не знаю, что должен был означать этот сигнал, как неизвестно мне до сих пор и то, с кем мы тогда встретились: с немцами или с англичанами.
Механик тем временем включил по моей команде опознавательные огни и фары и тоже стал мигать ими. Так, перемигиваясь с неизвестным военным кораблём, мы и ушли в ночную тьму…
Конечно, самолёт, застигнутый вражескими прожекторами, должен вырываться из их световых объятий, уходить от них, лавируя в воздухе, меняя курс и высоту полёта. Но для этих манёвров у меня не было достаточной высоты. Придуманный же нами способ защиты оказался надёжнее — он бил на психологию преследующего, заставляя усомниться, что противник мог обнаруживать себя огнями. Раз сигналит — значит, свой, не боится!
К тому же мы понимали, что на неизвестном судне в этот момент настроение тоже было неспокойное: ведь будь это боевой самолёт, могли посыпаться бомбы на их головы. Поэтому и там, видимо, вздохнули с облегчением, расставшись с нами.
Передав управление второму пилоту, я прошёл в пассажирскую кабину, чтобы проведать своих пассажиров. Хотя это были видавшие виды воины, — они привыкли сражаться на твёрдой земле. Здесь же, в воздухе, бойцы чувствовали себя беспомощными. А тут ещё эта взвинтившая всех встреча над морем. Физиономии, замечаю, довольно кислые, однако все приветливо улыбаются, когда осведомляюсь об их самочувствии.
Самый завзятый остряк из всей этой сухопутной команды, переводчик Федя, рапортует:
— Самочувствие бодрое! Кажется, чуть-чуть не пошли ко дну!
Я улыбнулся и небрежно махнул рукой. Сделал вид, что ничего особенного не случилось: встретились, мол, с британским патрульным кораблём, обменялись сигналами, опознали друг друга и разошлись по своим курсам.
Я предупредил десантников, что мы приближаемся к цели, и просил их сидеть спокойно на своих местах, дожидаться команды. Это предупреждение было необходимо — иногда и самые храбрые люди в воздухе теряются. Зенитный ли обстрел, сильная ли болтанка или посадка на лес — не нюхавшие воздуха пассажиры начинают метаться по кабине, сбиваются в кучу, чаще всего в хвосте самолёта. А это нарушает центровку машины, затрудняет пилотирование.
Приближался вражеский берег. Я набрал высоту три тысячи метров и теперь летел над облаками.
Тут мы сразу угодили в циклон. Начало швырять из стороны в сторону. Удары воздушных потоков я отражал рулями. Вдруг самолёт стал набирать высоту с бешеной скоростью. Я приказал механику убрать наддув, но машину по-прежнему тянуло кверху. Затем так же внезапно самолёт клюнул носом. Что и говорить, трудновато пришлось в эти минуты.
До цели оставалось двадцать минут. Прошло ещё десять, под нами теперь расстилался невидимый до того из-за облаков горный рельеф. Снижаться было нелегко — высота некоторых горных вершин здесь достигает двух тысяч метров над уровнем моря.
В темноте пробиваться сквозь облака над горами, без приводных радиостанций — сложно. Самолёт продолжало немилосердно трепать. Воздушный поток, идущий в направлении, перпендикулярном горному хребту, образовал так называемую стоячую волну. Это вертикальное нисходящее течение большой силы способно было бросить машину вниз сразу метров на шестьсот и разбить её об утесы.
Поэтому я терял высоту осторожно, держа снижение на вариометре два метра в секунду. Но самолёт плохо слушался рулей: стрелка вариометра то показывала ноль, то перескакивала на три метра в секунду и более. Так вошли мы в густую, чёрную тучу — не стало видно ни неба, ни земли.
Я выровнял аппарат, с трудом перевел его в режим горизонтального полёта и передал управление второму пилоту Ване Угрюмову. Ваня, вопреки своей фамилии, был парнем живым, весёлым, умел легко ориентироваться и в открытом и в слепом полёте. Мне нечего было беспокоиться: штурвал находился в надёжных руках.
Сам же я в это время, прильнув к боковому стеклу фонаря пилотской кабины, искал землю. Постепенно глаза стали различать горные вершины, затянутые клочьями облаков; казалось, облака цепляются за макушки деревьев. Расселины же между хребтами представлялись таинственными густо-чёрными провалами.
— Командир, по расчёту мы над целью! — доложил штурман.
— Хорошо. Начнем её искать!
Самолёт перешёл в вираж, высота полёта упала до тысячи семисот метров, земля стала просматриваться лучше. Впереди, километрах в тридцати от нас, засветились огни населённых пунктов, над которыми изредка взлетали самолёты. Сверились по карте — точно: города Кардицы и Триккоала. В этих городах стояли немецкие части — значит, здесь поблизости должны быть и аэродромы, должны базироваться фашистские истребители и бомбардировщики. Штурман не ошибся: где-то недалеко под нами находится искомая партизанская площадка.
Ночь в горах
Полёт протекает нормально: видимая местность совпадает с картой, моторы работают ровно, беспокойные облака остались позади, болтанка прекратилась.
Однако радоваться было рано — впереди нас ожидали новые трудности: надо было разыскать в одном из ущелий, среди горных массивов, опознавательные огни партизанских костров. Затем, с акробатической ловкостью не зацепив какой-нибудь утёс, снизиться между горными отрогами до площадки, сделать расчёт и сесть на площадку. На словах просто…
Повторяю про себя слова приказа: «Сесть, даже рискуя целостью самолёта!» Но куда садиться? Довериться огням? А если партизаны за это время перебрались на другое место и огни — всего-навсего вражеская ловушка, а площадка — западня?
Напрягая до боли зрение, различаю постепенно две горные цепи, тянущиеся параллельно друг другу, угадываю между этими хребтами глубокую впадину, может быть, долину. Если партизаны действительно находятся где-то поблизости, то их надо искать только здесь. Удобнее места трудно найти.
Лечу на предполагаемую расселину. Проходит пять минут. Вот уже виднеется глубокая вытянутая котловина. Расстояние между обрамляющими ее горными хребтами около десяти километров; над долиной клочьями висит туман. Да, площадка здесь, и нигде больше! Перехожу в спираль.
Снижаться становится всё опаснее. Пока мы летели над горами, гребни их, несмотря на мрак, хотя бы слабо выделялись на фоне воображаемой линии горизонта. Теперь же мы очутились в настоящей бездне. Партизанских костров, как назло, всё не было.
Замедляю снижение. Утюжим воздух по склонам котловины.
Даём зеленую ракету, в ответ — молчание. Включаем кодовые огни. Штурман сигналит: точка, тире, две точки, тире. Мерно поют моторы, я попеременно перекладываю машину с правого на левое крыло, а земля по-прежнему не подает признаков жизни.
Неужели мы ошиблись?! Где-то здесь, если верить карте, должно быть озеро.
Снова набираю высоту. Спрашиваю штурмана:
— Какой курс на озеро?
— Курс сто пятьдесят градусов, время пятнадцать минут, — отвечает, видно волнуясь не меньше, чем я, штурман.
Летим по направлению к озеру, отсчитываю минуты. Если мы не ошиблись, под нами вот-вот должно появиться озеро.
Молчавший до сих пор механик беспокоится.
— Командир, — ворчит он, — воздух утюжим, утюжим без толку, а как на базу полетим?
— Ничего, Боря, сейчас разыщем цель, сядем, потом ты из-за голенища достанешь свои запасы, и мы благополучно вернёмся домой.
Плох тот механик, который не скрывает от командира корабля хотя бы самое малое количество бензина. У нашего Бориса этот драгоценный запас всегда есть. На эти-то тайные резервы я и рассчитываю теперь.
В момент, когда мы окончательно разуверились в себе, под нами блеснула водная гладь небольшого горного озера. Недаром мы со штурманом Толей потрудились в Бари над картой! Все расчёты оказались правильными — выходит, мы ещё четверть часа назад летали над партизанским лагерем. Непонятно только: почему он не отвечал нам? Что ж, попробуем ещё раз зайти, теперь я полностью уверен, что не ошибся. А раз так, разворот на сто восемьдесят градусов — и обратно в ту котловину! Да и небезопасным было для нас болтаться здесь — легко привлечь внимание противника. Немецкие аэродромы были расположены восточнее горного хребта, на расстоянии каких-нибудь пятидесяти километров.
Итак, мы находились в тылу противника. Где-то в этом районе должны патрулировать немецкие истребители — «мессеры», хорошо знакомые мне по прежним полётам к советским партизанам. От вражеских истребителей наш самолёт совсем не был защищён. На мне лежала ответственность за десантников, за свой экипаж и ценный груз. Поэтому я решил вернуться на цель, посигналить ещё раз и покружить снова над котловиной минут пятнадцать. Если же и на этот раз никто не отзовётся, повернуть немедленно обратно на базу. Бензина и в самом деле оставалось в обрез…
Снова котловина, а вокруг неё зубчатые горы. В стороне от нашего курса полыхает зарево пожаров, видно, как стреляют, идёт жаркий бой.
Снова заходим на чёрный провал долины, даём повторно зелёную ракету. Поглядываю на часы: прошло пять минут, десять… Неужели наша длительная подготовка окажется напрасной, неужели пропадет полёт? Неужели, после того что нам пришлось испытать за эту ночь, мы вернемся ни с чём? А время между тем истекает…
Мы близки были к отчаянию. Как вдруг — что это? Или мне померещилось? Нет, вижу отчетливо: раз, два, три, четыре… Десять белых световых точек, с ровными интервалами между каждой, зажигаются в чёрной яме под крылом.
Бесспорно — это огни посадочной площадки! Под нами — цель!
Однако и на этот раз меня охватывают сомнения. В тыл противника мне приходилось летать не раз, но наши партизаны обычно выкладывали совсем иные посадочные сигналы. Они вырывали глубокие ямы и в них разводили костры. Со стороны, для гитлеровцев, огни эти были незаметны, а с воздуха лётчик их легко обнаруживал. Тут же целая иллюминация, притом, кажется, ещё и электрическая! Полное пренебрежение маскировкой! Кто же это может быть? Нет ли тут какой провокации? Уж не ловушка ли?
Набрав немного высоты, я перевалил через возвышенность и отвернул влево, чтобы следом нырнуть в извилистую долину. Огни аэродрома потерялись из виду. Мы стали огибать пологость хребта, двигаясь ниже гребня гор. Внезапно нас обстреляли ружейно-пулемётным огнем: видно, мы нарвались на немецкую колонну на марше. К счастью, поблизости находилось ущелье и нам легко было в нём укрыться. Лишь бы оно не заканчивалось тупиком…
Мы все напряжены до крайности. А вдруг наскочим на скалу? Ведь это только наше предположение, что ущелье выходит в долину.
Мы летели теперь на высоте не более двухсот метров над землёй и девятисот пятидесяти метров над уровнем моря. Огней по-прежнему не видно, сплошной мрак. Ущелье под нами извивается змеёй. А по расчётам времени лагерь партизан должен быть вот-вот.
— Шасси! — командую механику.
— Есть шасси! — отвечает Боря.
Впереди на миг мелькнули заветные огни — и снова мрак. Скорость падает.
Вдруг перед самым носом самолёта возникает чёрная стена. Вот это сюрприз! Фары у меня уже зажжены, и я отчетливо представляю: ещё секунда-другая — и мы врежемся в деревья!
Инстинктивно рву штурвал на себя и хриплым от возбуждения голосом кричу механику:
— Форсаж!
Моторы, переведённые на максимальные обороты форсированного режима, неистово ревут, и самолёт с трудом переползает через возвышенность. Внизу ещё раз мелькнул ярко освещённый старт.
Наступает напряжённейший момент перед посадкой.
— Щитки! — кричу механику.
Механик выпускает щитки, и мы стремительно несёмся вниз. Стрелка вариометра отсчитывает десять — двенадцать метров в секунду.
И вот в самую последнюю секунду перед посадкой новые препятствия: старт снова пропадает из виду, а навстречу с бешеной скоростью несётся стена леса.
— Форсаж!.. — повторяю приказание.
Перед нами расстилается ровная посадочная полоса. Механик убирает газ, один за другим проносятся под крылом огни старта. Огромным физическим напряжением удерживаю самолёт от падения… Стартовые огни остаются позади, у самой границы площадки, я не сажусь, а тяжело плюхаюсь на землю.
Ну и посадочка! Увидел бы её мой покойный инструктор из Тамбовской лётной школы, задал бы он мне перцу!
Тотчас же развернув самолёт и отрулив обратно в сторону, освещаю окрестность, стараясь угадать, куда нас угораздило сесть: к врагам или друзьям?
Но вот со старта мне замигали лампой: приглашают! Не теряя времени, я отрулил на линию, с которой в случае опасности можно было бы немедленно взлететь, затем следую световому приглашению. А мысли между тем одна тревожнее другой: что, если это гитлеровцы и я сам полез к ним в ловушку? Вступать в бой или сдаваться? Нет, дудки — всё, что угодно, только не плен!
— Боря, — говорю тихо механику, — сейчас я стану на старт, но ты мотор и фары не выключай! Если это немцы, автоматы в руки, полный газ — и поминай как звали! Понятно?.. Уйдём, как полагаешь?
Борис утвердительно кивает головой, улыбается весело. Но меня не проведёшь — чувствую, улыбка у него деланная, да и себя ловлю на том, что улыбаюсь неестественно.
Пассажиры нашего самолёта напряженно вглядываются в окна. Рассмотреть что-нибудь толком трудно, кругом темь, стартовые огни погашены.
Сноп лучей от фар самолёта вырвал из темноты лесистый холм, последний барьер перед площадкой, которому я обязан вороньей посадкой.
Лампочка продолжает призывно мигать, и вокруг этой то вспыхивающей, то меркнущей световой точки бегает и суетится множество незнакомых людей.
Зарулив на стартовую линию, снова разворачиваю самолёт на сто восемьдесят градусов, прощупываю фарами взлётную дорожку, проверяю курс. Готово, препятствий для взлёта нет!
Лопасти винтов работают на малых оборотах, отбрасывая назад слабую струю горячего воздуха; в такт дыханию моторов мерно вздрагивает самолёт. Медлить больше нельзя: пожаловал в гости — выходи на люди! А кто они, эти люди?..
Оставив механика в пилотской кабине, беру автомат и вместе с вооружившимися штурманом, вторым пилотом и радистом прохожу к пассажирам. Обычно у нас, в гражданской авиации, двери самолёта открывает радист, он первый сходит на землю.
Радиста экипажа, как и штурмана, зовут Толей.
— А ну-ка, Толя, — обращаюсь как можно бодрее к радисту, — к своим прямым обязанностям приготовься!
Не спеша, еле переставляя ноги, Толя идёт к выходу. Толя — человек гражданский, и вначале я колеблюсь, правильно ли поступаю, посылая его первым на разведку. Но, глянув на его богатырскую фигуру могучего, широкоплечего сибиряка, который, как говорят, у себя, в родной тайге, ещё в юности один на медведя ходил, я успокаиваюсь. Такой парень, даже не стреляя, одним прикладом автомата, а то и кулаком человек пять сразу сшибет.
Толя нажал ручку, дверь распахнулась. Тотчас раздалась команда, похожая на немецкую, лязгнуло оружие. Радист инстинктивно попятился назад, рывком потянул за собой дверь, и она мгновенно захлопнулась.
Повернув ко мне перекошенное от страха лицо, Толя кричит:
— Их там целая шеренга выстроилась! Форма — фрицевская, все с автоматами! Не иначе, как влипли мы!
Всё, казалось, было ясно. Я поспешно прошёл обратно к себе в пилотскую кабину, с удовлетворением отметив, что мои пассажиры держат автоматы на изготовку. Порядок!..
Я уже взялся за штурвал, готовясь скомандовать механику: «Газ!» — как меня вновь одолели сомнения. Жалко было поворачивать, не выполнив задания! Да и удрать мы всегда успеем, к тому же в нас пока не стреляют…
Передумав, я вернулся в кабину и снова отправил Толю к двери. На этот раз в сопровождении переводчика Феди.
— Спроси только у них, что они за люди? — наказал я радисту.
В тот момент, когда Толя резким толчком ноги распахнул дверь, хлопнул выстрел и кверху взвилась белая ракета; она разом осветила площадку и строй вооружённых людей, вытянувшихся вдоль самолта. Люди что-то кричали хором. Федя перевёл:
— «Греческие партизаны! Добро пожаловать, русские гости!»
Догорающая ракета ярко осветила мужественные лица. Воины стояли «смирно», сохраняя строй. Большая часть из них была одета в серо-зелёную форму, все они были хорошо вооружены и продолжали что-то кричать, но шум моторов заглушал звук голосов. Я приказал механику выключить один из моторов, второй оставил. На всякий случай.
Спустив трап, с автоматами на шее мы стали один за другим сходить на землю. Прозвучала незнакомая команда, и строй взял автоматы на изготовку. Мы судорожно вцепились в своё оружие. Грянул залп в воздух, следом прозвучало троекратное «ура» на греческом языке.
У нас отлегло от сердца — сомнений больше не оставалось: мы — у своих! Перед нами почётный караул, залп был приветственный.
От строя отделился невысокого роста сухощавый человек, в аккуратно пригнанной форме, перетянутой портупеей. Человек этот был ещё не стар, но виски его изрядно серебрились; на строгом, аскетическом лице, как угли, горели чёрные глаза.
Отрекомендовавшись командиром греческого партизанского отряда, он рассказал, что партизаны узнали нас сразу по красным звёздам на крыльях самолёта. Выражая свою радость по поводу прибытия первых посланцев великой Страны Советов, командир заволновался, голос его дрогнул.
Недолго думая старший среди наших пассажиров полковник Г. М. Попов заключил партизана в объятия, радуясь этой счастливой встрече.
Строй дрогнул, все смешалось, мы очутились в толпе греческих партизан. Не помню, сколько рук я пожал, сколько получил и роздал поцелуев. Мы все — и хозяева и гости — были пьяны от охватившей нас буйной радости.
Посыпались взаимные расспросы. Ну и досталось же тут нашему переводчику Феде! Его, казалось, раздерут на части. Но зато и ухаживали за ним больше, чем за кем-либо другим из нас, — без него нельзя было обойтись.
Началась выгрузка самолёта. Мы должны были спешить, чтобы пересечь линию фронта под покровом ночи. Работали дружно. Любо было смотреть, как принялись за дело гости и хозяева!
У меня были с собой московские папиросы «Москва — Волга». Заметив, что многие курят, я стал угощать их. Вокруг меня сразу сгрудилась толпа, каждый хотел получить папиросу, даже коробку и ту отобрали у меня. Те, кому папирос не досталось, окружили счастливчиков: каждая папироса переходила из рук в руки, её рассматривали, пробовали прочесть золочёную надпись на гильзе. Никто, к моему удивлению, не закурил: подаренную папиросу, любовно осмотрев, бережно закладывали за отворот пилотки.
Досада взяла меня: и дал же я маху! Греки курят только сигареты или трубки, к нашим гильзам с твёрдым мундштуком они непривычны. Однако неужели им неинтересно попробовать, каков табак? Когда я спросил об этом одного из партизан, тот дружелюбно хлопнул меня по плечу.
— Напрасно беспокоитесь, — перевел мне Федя его слова, — очень хорошие папиросы, просто замечательные! Но пока мы будем беречь их, закурим все сразу в День Победы!
В разгар нашей разгрузки явился английский офицер связи. Мы признали его сразу: белый цвет его кожи резко выделялся среди смуглых партизанских лиц, да и британская колониальная форма светло-кофейного цвета вместе с пробковым шлемом были нам хорошо знакомы.
Небрежно волоча ноги в желтых крагах, сухопарый и долговязый, с бледным продолговатым лицом англичанин подошел к полковнику Попову и ленивым жестом, приложив два пальца к головному убору, стал расспрашивать, как мы рискнули сесть наугад в горах, на незнакомой площадке.
— Я вас вовсе не ждал! — процедил он сквозь зубы.
— Возможно, — нашёлся полковник, — что вы нас и не ждали. Но вот они ждали с нетерпением!
Тут советский офицер сделал широкий жест, указав рукой на обступивших нас партизан.
— Господин офицер, — вмешался я в разговор, — ждали вы нас или не ждали, сейчас уже неважно… Вы лучше скажите: почему так долго не отвечали? Вы же видели наши световые сигналы и ракету?
— А я и не собирался вам старт выкладывать, — ответил англичанин всё так же невозмутимо. — Вас здесь вообще не должно было быть! Мы ждали сегодня французский самолёт из Каира. Вам просто повезло: вы подстроились под время его прилёта — вот и пришлось вас принимать.
— Ну, пустяки, — сглаживая мою резкость, добродушно заметил майор Иванов. — У нас есть такая пословица: всё хорошо, что хорошо кончается!..
Партизаны окружили самолёт тесным кольцом. Федя не успевал переводить. Они просили передать привет Москве, приглашали посетить их в лучшее время на освобождённой греческой земле, выкрикивали нам дружеские пожелания.
Командир партизан долго не отпускал моей руки: просил прилетать почаще.
Особенно трогательным было прощание с нашими пассажирами — одиннадцатью советскими офицерами, с которыми мы сроднились за эту богатую переживаниями ночь. Их ждали трудные переходы по горной местности, стычки с немецкими карателями. Вся боевая страда партизанской жизни была у них впереди. Но мы твёрдо надеялись, что будем ещё летать к ним, будем не раз встречаться.
Перед последним рукопожатием майор Иванов сунул мне листок из блокнота:
— Вот адрес… Попадёшь раньше меня в Москву, зайди к жене и дочери, передай им привет!
Мы обнялись, поцеловав друг друга троекратно, и взяли друг с друга слово встретиться в недалеком будущем…
Фары самолёта освещали гладкую взлётную дорожку, очертания ближних гор, затянутых дымкой предутреннего тумана.
Моторы запущены, крутятся лопасти винтов, отбрасывая назад мощную струю воздуха. В свете фар мечутся командиры, они никак не могут оторвать партизан от самолёта.
— К взлёту готовы? — спрашиваю экипаж.
— Готовы к взлёту! — звучат ответные слова.
Рёв моторов на взлетной мощности отозвался в горах тысячеголосым эхом, за хвостом взвился столб пыльного вихря.
Теперь домой, на базу!
Разворот, ещё разворот… Облегчённый самолёт послушно набирает высоту, по спирали выбираясь из глубокого колодца. Гребни гор уже под нами, наша высота — две с половиной тысячи метров.
— Командир, на обратный путь горючего не хватит! — огорошивает меня механик.
— Где же ты был раньше, чёрт бы тебя побрал! — не стерпел я.
Ну что ж, не хватит на изломанный маршрут, полетим по прямой — она ведь, как известно, является наикратчайшим расстоянием между двумя точками.
Дипломатические тонкости
О том, что наш экипаж не только сбросил груз, но и приземлялся в расположении греческих партизан, да ещё на греческой территории, союзники узнали сразу. Всполошились они изрядно. Не успел я как следует выспаться после полёта, как услышал сквозь сон:
— А что, командир «Десятки» ещё спит?
Это сержант, посыльный из штаба, спрашивал вполголоса моего соседа по койке. «Десятка» была хвостовым номером моего самолёта. Я поднялся.
— В чём дело? — спросил я. — Здесь командир «Десятки».
— Полковник просит вас в штаб, если вы уже отдохнули, — доложил сержант.
Я поспешил в штаб. На аэродроме сразу после посадки я успел лишь коротко отрапортовать командиру базы о выполненном задании. «Вероятно, — думал я, — штабу не терпится узнать о подробностях полёта». На деле меня ожидало совсем другое…
Сидя за столом у себя в кабинете, полковник, посмеиваясь, внимательно вчитывался в развернутый лист газеты, которую издавала служба пропаганды англо-американского командования в Бари. Полковник глянул на меня, усадил и перевёл мне заметку, послужившую поводом для моего вызова в штаб.
Газета сообщала, что минувшей ночью советские самолёты высадили якобы авиационный десант в Греции с целью оккупации страны: пятьсот автоматчиков. Не более и не менее!
— Хитро задумано, — проговорил полковник. — У тебя небось и моторы остыть не успели, а уже сообщение в газету тиснули! Ну и наделал же ты, Михайлов, шуму!.. — Потом, нахмурившись, полковник продолжал: — Я не за этим тебя вызывал. Только что звонили по телефону из межсоюзнического штаба средиземноморских вооружённых сил. Требуют тебя с письменным объяснением: каким образом ты попал в Грецию, ведь они точки этой нам не давали?
Визит к союзническому командованию, разумеется, мало меня привлекал. Моё дело летать, что же касается дипломатических тонкостей, то, право, это занятие было не для меня. Я получил задание и выполнил его, как умел.
— Ничего, — успокоил меня полковник, — думаю, дело обойдётся без твоей личной явки, отошлем объяснение — пусть успокоятся.
Я тут же настрочил коротенькое объяснение. Дело, мол, было так: я получил задание лететь к партизанам, на сброс. Плутал, плутал между горами, а тут как раз нам зажгли стартовые огни. Вижу — можно сесть. Известно, как это заманчиво для пилота, летящего в тыл врага: имеешь полную гарантию доставить ценный груз по назначению. Вот и сел. Лишь потом я понял, что оказался в Греции, что площадка принадлежит греческим партизанам. Я сдал груз по назначению, а затем вернулся на базу…
Моих объяснений, как и предполагал полковник, оказалось вполне достаточно: союзники больше нас не запрашивали ни о чём; дело этим и ограничилось. Вызова не последовало. Видимо, мои показания требовались только для того, чтобы подшить их к «делу».
Наше боевое содружество с союзниками началось задолго до прилёта в Бари — в те дни, когда были организованы первые, так называемые челночные полёты. Американские или английские машины, заправившись и загрузившись на английских аэродромах, летели отсюда на свои цели — на территории Германии или её сателлитов. Отбомбившись, они не возвращались назад, а шли дальше на восток и садились на нашей территории, в районе Полтавы. Здесь самолёты заправлялись горючим, принимали бомбовую загрузку, ложились на обратный курс и, отбомбившись вторично, возвращались на свои исходные базы. Тогда-то наши лётные экипажи впервые и подружились со своими союзниками и товарищами по оружию. И дружба между нами на первых порах казалась крепкой.
Среди офицеров встречались наши искренние друзья. Запомнился, например, мне инженер одной из британских эскадрилий, капитан Хэг. У себя на родине он был лейбористом (по крайней мере, так выходило по его словам), на выборах всегда голосовал за британскую рабочую партию. Отец Хэга был мелким фермером, арендатором. Капитан живо интересовался колхозным строем в нашей стране и на эту тему часто беседовал с нашими лётчиками из бывших колхозников.
Запомнил я также одного американского лётчика-истребителя, по фамилии Фитцджеральд. Он происходил из ирландских эмигрантов. В беседах с нами Фитцджеральд открыто возмущался произволом капиталистических монополий в США и высмеивал закулисные махинации некоторых американских политиканов:
— На словах они с Гитлером воюют, а на деле только о том и думают, чтобы Советы обескровить и голыми руками вас взять. А вы, оказывается, колючие… в руки им не даётесь!
Этот лётчик был искренним поклонником советской авиации и Советской страны. Он приходился дальним родственником одному из тех двух американских механиков, которые принимали участие в спасении челюскинцев и были награждены орденом Ленина. Фитцджеральд от них и услыхал впервые много хорошего про Советскую страну и советский строй.
Боевое содружество между нами и союзниками продолжалось. Немало было среди американских, а также английских лётчиков таких, которые не за страх и не за бизнес, а за совесть сражались с гитлеровцами. Они попросту считали своим долгом лично участвовать в очищении земли от ядовитой фашистской заразы, от гитлеровской чумы. Такие лётчики честно сотрудничали с нами. Правда, они не разделяли наших убеждений, но в лице германского фашизма видели общего врага для всех честных людей мира.
Больше всего мешало нашему тесному общению с англо-американскими товарищами по оружию незнание языка. Многие из нас изучали английский язык в средней школе, но занимались им кое-как. Теперь мы очень жалели об этом. Непрочные школьные знания давно выветрились из головы, и объясняться приходилось жестами, прибегая к помощи своеобразного англо-русского жаргона, который постепенно выработался у нас.
Однако некоторые английские фразы волей-неволей пришлось заучить наизусть. На старте распоряжался англо-американский командно-диспетчерский пункт. С ним-то и приходилось объясняться по радиотелефону на английском языке.
Например, заходишь на посадку, надо обязательно спросить разрешения. То же самое перед рулёжкой на стартовую линию или перед стартом.
С командного пункта обычно следовал лаконичный ответ: «О'кэй!» — восклицание, означающее «Всё в порядке!» и широко распространённое в Америке в разговорной речи.
Но были среди нас командиры кораблей, которым на первых порах трудно давался английский язык.
Такой командир, заходя на посадку, обычно кричал в микрофон:
— Эй, союзник, сажусь! Как там у вас: «о'кэй» или не «о'кэй»?
Как ни странно, на союзническом командном пункте прекрасно понимали вопрос. Очевидно, здесь помогала интонация голоса.
В ответ немедленно следовало разрешение на посадку:
— О'кэй, о'кэй!..
И экипаж благополучно приземлялся.
Самолёт в болоте
Вскоре после возвращения от греков я получил новое боевое задание: вылететь с грузом в тыл противника, на сей раз — к югославским партизанам. Лететь к ним пришлось в дневное время, поручение было очень срочное. Поэтому командование решило прикрыть наш самолёт двумя истребителями. Сопровождать нас назначили двух храбрых лётчиков. Оба этих славных парня мне были хорошо известны — Ваня Сошнев и Саша Шацкий.
Я договорился с ними о подробностях полёта, условился, как поступать в случае встречи с противником и если на маршруте окажется туман или сплошные облака над горами.
Я первым поднял в воздух свою тяжело нагруженную машину. Вслед за мной оторвались от земли истребители. Первое время мы шли строем в безоблачном небе на высоте три тысячи метров. Через сорок минут показался вражеский берег, сплошь затянутый непроницаемой облачной завесой. Погода благоприятствовала нам — над морем мы избежали неприятных встреч с противником, а сейчас можно было уйти выше облаков и укрыться за ними от противовоздушной обороны гитлеровцев. Мы шли, держа прежнюю высоту, в верхней кромке облаков, за сплошной мутной пеленой. Видимость — нулевая! Пилотировать самолёт приходилось только по приборам. Дальнейший полёт с истребителями в облаках был небезопасен. Сопровождающие «ястребки» держались по обеим сторонам нашей машины, почти вплотную прижавшись к ней. Временами, когда этот строй окутывала особенно густая мгла, истребители казались продолжением крыльев большого самолёта. Создавалось впечатление, будто я управляю четырехмоторным причудливым гигантом. Нелегко приходилось Саше и Ване сохранять чёткость строя: требовалось большое умение, чтобы держаться на нашей скорости, — скорости, ничтожной для истребителей.
Время от времени я окликал их по командной станции:
— «Двойка»! «Пятерка»! Как идут дела?
— О'кэй! — шутливо отзывались оба пилота.
По нашим расчётам, партизанская точка близ местечка Бугайно в горах Югославии, куда мы направлялись теперь, должна была находиться в тридцати минутах полёта от Адриатического побережья. Мы уже пересекли невидимый под облаками горный хребет, высота которого, по данным карты, достигала тысячи семисот метров. Мысль о возможности столкновения в воздухе ни на минуту не покидала нас троих. Шацкий и Сошнев зорко следили, чтобы не сбиться с курса, вели машины строго по контурному очертанию моего самолёта, едва различимого в туманной дымке.
Вдруг в стороне, в разрыве между облаками, мелькнули одна за другой группы горных вершин, сливающихся затем в сплошной скалистый барьер, поросший лесом. Обескураженный этим непредвиденным препятствием, я приготовился набирать дополнительную высоту, как между утесами возник провал, и в нём открылась широкая долина с блеснувшей отыскиваемой нами речушкой.
Мы опустились в эту долину, заметив тотчас же дым костров — партизаны указывали нам место посадки и направление ветра.
По командному микрофону я напомнил сопровождающим о нашем прежнем решении: пока истребители ждут меня в воздухе, я сажусь, быстро разгружаю машину, и, не теряя больше ни минуты, мы вместе летим обратно. В условиях партизанских площадок, каждая посадка, как правило, сопряжена с известным риском, поэтому мы заранее условились, что Саша и Ваня садиться не будут.
Я развернулся, прошёл над площадкой, знакомясь с ней и присматриваясь к посадочному знаку, снова развернулся, теперь уже на расстоянии двух километров от костров, и приземлился.
Но только я приготовился тормозить машину, как началось что-то непонятное. Самолёт, зарываясь колесами в землю, покатился и увяз в мокром грунте. Затем, клюнув носом, так резко поднял хвост, что я с трудом мог удержать машину от падения.
— Ты шасси выпустил? — спрашиваю механика.
— Конечно, — отвечает тот.
— Где же они?
Борю редко покидало чувство юмора.
— Если будем разыскивать шасси, то весь самолёт утопим в этом проклятом болоте! — отвечает он.
И верно: машина наша остановилась, упершись в грунт плоскостями. Нижняя часть фюзеляжа ушла в трясину, в то время как лопасти воздушных винтов продолжали усиленно рубить землю. Моторы пришлось немедленно выключить.
Бегло осмотревшись, я понял, что нас посадили в болото не без умысла. Ведь кругом, исключая небольшой заболоченный клочок, где мы приземлились, была сухая почва.
К самолёту со всех сторон сбегались дочерна загорелые люди, вооружённые, в поношенном солдатском обмундировании, в пилотках с красными пятиконечными звёздами. Они шумно приветствовали нас.
Не теряя времени, я связался по командному телефону с истребителями:
— «Двойка»! «Двойка»! Я — «Десятка»! Вызываю для связи! Как слышно?
— Я — «Двойка», слышу отлично, — отозвался Саша.
Но моих упрямых товарищей не так-то легко было уломать — они вызывались тотчас же спуститься вниз, чтобы помочь мне выпутаться из беды. Решение было по меньшей мере безрассудным: немецкий гарнизон находился от нас на расстоянии двадцати километров; с минуты на минуту сюда могли нагрянуть танки. Пусть лучше гитлеровцы уничтожат один транспортный самолёт, который мы к тому времени постараемся разгрузить, нежели нам рисковать ещё двумя истребителями.
Даю «Двойке» последнее указание:
— Разгоняй машину, сделай горку, пробивай облака, курс на базу — двести тридцать градусов! Понял?
Не смея дальше упорствовать, «Двойка» перешла в пикирование вдоль долины, взмыла ввысь и исчезла в облаках.
Где-то выше кружилась «Пятерка». Встретятся, договорятся, уйдут на базу! Но… оснований беспокоиться за «Двойку» у меня было более чем достаточно: не шутка пробиться сквозь плотную толщу облаков! А вдруг какой-нибудь пилотажный прибор откажет? Случись нечто подобное, истребитель окажется в положении голубя, сброшенного с крыши с завязанными глазами. Такой голубь не расправляет крыльев в воздухе — он камнем падает на землю, разбиваясь насмерть…
Не успел я подумать об этом, как «Двойка» в беспорядочном падении вывалилась из облаков и стремительно понеслась вниз.
Закусив губу, я молча наблюдал за истребителем. Прибегать к командной радиостанции было бесполезно — в таких случаях лучше не подсказывать пилоту, не лезть «под руку». Не растеряется — справится сам. Про себя же я твердил: «Ну же, выводи, выводи, чёрт побери! Чего медлишь? Ведь сейчас земля: мокрое пятно от тебя останется!»
Саша, будто почувствовав мою тревогу, сумел овладеть собой и машиной. У меня отлегло от сердца — беспорядочное падение «Двойки» прекратилось, самолёт перешёл в режим горизонтального полёта.
— Саша, — крикнул я в микрофон, не в силах дольше сдерживать радость, — ну и напугал же ты меня! Ничего, теперь крепись, разгоняй снова, увеличивай скорость, на выходе дай форсаж, и всё будет в порядке. А над облачным колпаком тебя Ваня ждет. Счастливого пути!..
Я ещё некоторое время наблюдал за облаками, но истребитель больше не появлялся. Значит, пробился сквозь толщу облаков.
Теперь пора было подумать о своём собственном положении. Отложив на время выяснение причин, по которым наш самолёт сел на болоте, я решил прежде всего заняться спасением груза и машины.
С этим намерением я спустился на вязкую землю и тотчас же попал в горячие объятия югославских партизан — они окружили наш самолёт тесным кольцом.
Отвечая на бесконечные приветствия югославских патриотов, я не переставал ломать голову над тем, как нам выбраться из болота. Ночевать на партизанской точке было рискованно — фашистским истребителям ничего не стоит обнаружить застрявший в болоте транспортный самолёт. Могли и танки немецкие сюда прорваться. Партизаны укроются в горах — у них сборы коротки. А куда я спрячусь с машиной?
Самолёт между тем лежал на мягком грунте, распластавшись подобно бесколёсному планеру. Колёс не было видно совсем: их глубоко засосала трясина.
Партизаны, очевидно, приготовились устроить нам торжественную встречу, а вместо встречи им приходилось теперь уныло топтаться вокруг завязшего в болотной жиже самолёта. Переговариваясь между собой, они советовались, как выручить машину.
— Друже капитан, — обратился ко мне по-русски комиссар отряда Стишевич, — сейчас мы поможем вам вытащить авион из болота!
Пока мы решали, с чего начинать, к самолёту сходилось всё больше людей, а женщины запаслись даже букетами цветов.
Местность вокруг была живописной: бурная горная речушка, каменистые берега, поросшие кустарником, просторная, шириной километров пятнадцать, долина. Вдоль — скалистые горные хребты, хвойные леса. Дно долины густо покрывали пёстрые, струящие пряный аромат цветы. В высокой сочной траве неугомонно стрекотали кузнечики, вспархивали потревоженные нашим появлением птицы. Под самыми облаками медленно парил большой горный орёл; с первого взгляда я принял его за вражеский истребитель.
Но мне было не до красот природы. Предложения вытащить самолёт поступали самые разнообразные, однако каждое из них требовало большой затраты времени.
Выслушав все предложения и тщательно обдумав их, я вначале прикинул в уме, сколько примерно может весить мой облепленный грязью самолёт, полученную величину разделил на среднюю подъёмную силу взрослого человека. Затем обратился к Стишевичу — он стоял рядом со мной, готовый в любой момент помочь мне, — и спросил:
— Друже капитан, мне нужно двести партизан, сюда, к самолёту. Можно найти столько?
— Не двести, а тысячу, если понадобится! — с радостью отозвался партизанский комиссар.
И мы приступили к работе. Прежде всего выбрали две широкие длинные доски. Затем партизан, выделенных нам в помощь, я разбил на четыре бригады: первая должна была тянуть самолёт за тросы, прикреплённые к осям колёс, другая— подталкивать его сзади, третья, упершись в плоскости, — поднимать машину кверху. Четвёртая же бригада, которая раньше всех включилась в работу, вызвалась откидывать лопатами грязь вокруг шасси.
— Эх, раз — взяли, ещё раз — взяли! — командовал я.
— Ай да напред! — подхватили по-своему партизаны.
В скором времени нам удалось немного приподнять самолёт и подсунуть концы досок под колёса. Женщины и подростки успели связать из гибкого кустарника щитовой подстил. Машину раскачали, снова немного приподняли и подтянули, затем подтолкнули, вырвав её из густой болотной жижи, и наконец твёрдо поставили на доски. Теперь работа заспорилась — самолёт втащили на плетёный подстил.
Я вздохнул свободно. Попросив всех отойти в сторону, Боря Глинский запустил моторы. И на этот раз уже не мускульная сила двухсот человек, а тяговая мощь моторов вытолкнула самолёт вперёд — на твёрдый грунт. Радостное громовое «ура» огласило ущелье…
Мы с грустью оглядывали свой самолёт. Весь заляпанный грязью, он напоминал мне тех коров, которых в дни моего детства у нас, на Смоленщине, вытаскивали за рога из трясины. А грязи на нём налипло!.. С такой непредвиденной нагрузкой взлететь, конечно, было невозможно.
Объявили перекур. Партизаны, довольные тем, что машина спасена, разместились на земле живописными группами и затянули песню. А пели они замечательно! Я давно знал, что народ Югославии музыкален, но слушать его мне доводилось впервые.
Зазвенели, переливами покатились по долине народные черногорские песни. По-особому волнующе звучали они в исполнении мужественных людей, неутомимых тружеников, которых германский фашизм насильно оторвал от мирных занятий, вынудив взяться за оружие.
Веселье разгорелось. Начались танцы. Худощавые загорелые мужчины и девушки лихо отплясывали в такт пению, пристукивая каблуками. Не отставали от них и босоногие мальчишки, бойко притопывая голыми пятками и поднимая облачко тёплой пыли. «Коло» (хоровод) извивающимися пёстрыми кольцами вертелся всё быстрее и быстрее. Шутки и смех слышались в толпе. На какой-то миг забылась и война с тревожными буднями, хотелось только одного — продлить это короткое радостное торжество. Но пора было покидать гостеприимных хозяев.
Взлёт оказался сложным. Удерживая машину на тормозах, я дождался максимальных оборотов моторов с тем, чтобы начать разбег. Длинными показались мне эти считанные секунды. Приходилось то и дело брать штурвал на себя: машина вот-вот могла зарыться носом в землю. Наконец мы оторвались от крохотной злополучной площадки, унося с собой тепло дружеских чувств.
Едва мы набрали высоту 600 метров, как снаружи по стёклам кабины заструились мутные струйки дождя. Вскоре долина потонула в непроницаемой мгле. В полумраке веду самолёт по одним приборам. Но вот в кабине посветлело. Сквозь затуманенное стекло стал проступать матовый овал солнца. Вдали показалось море. Спустя ещё несколько минут исчезли громоздившиеся под нами облака, а внизу чётко вырисовывался горный прибрежный ландшафт. Далматские острова. Намеренно уклоняюсь в сторону от курса, чтобы не выйти на острова: там, я знаю, стоят немецкие гарнизоны.
Одновременно снижаю высоту, прижимаюсь плотнее к морю, чтобы на его фоне самолёт был менее видим для вражеских истребителей. На запад идём бреющим полётом, летим над самыми гребнями волн, высота наша теперь всего каких-нибудь пять — десять метров над морем. Через час благополучно достигаем своей базы.
Первым на аэродроме меня встречает мой друг Саша Шацкий. Он очень взволнован. Не может простить себе, что послушался моих уговоров и оставил меня одного в беде.
Рыжий Боб
Незадолго до того как я посадил свой самолёт в болото у югославских партизан, мы были приглашены в англо-американский клуб. Там шёл посредственный концерт, играл плохонький джаз, выступали слабенькие, видно, провинциальные актёры.
В зрительном зале было накурено так, что в горле першило от приторного американского табака. Эстрада едва была различима за этой дымовой завесой.
Сидевший в зале, видно, крепко подвыпивший американский пилот поднялся и, не спрося ничьего разрешения, влез на эстраду. Оттолкнув бесцеремонно конферансье и схватив усилительный микрофон, он начал гримасничать и кривляться, издавая при этом дикие, нелепые звуки.
Зрительный зал остался очень доволен этой выходкой — добровольного клоуна наградили шумными аплодисментами.
На другое утро я вместе с несколькими советскими пилотами направлялся к пляжу. Впереди нас шли трое американских лётчиков, среди них — вчерашний кривляка. Мы хорошо знали его ещё раньше. Фамилии его не помню, знаю только, что и наши пилоты, и американцы называли его просто Боб. Это был саженного роста детина, узкоплечий, узкогрудый, с длинными, свисающими почти до самых колен, как плети, руками.
Боб, видимо, считал себя душой общества; на его бледном, усыпанном бесчисленным множеством веснушек, испитом лице рот всегда был растянут в бессмысленной улыбке. Над низким лбом его росла жёсткая огненно-красная щетина, которой он, видимо, гордился: при каждом удобном случае Боб снимал фуражку и поглаживал свою неимоверно разросшуюся шевелюру.
Американцы, шедшие впереди нас, громко разговаривали и хохотали: то ли успели побывать в траттории, то ли вчерашний хмель ещё не выветрился у них.
Мы подходили к пляжу, когда над самой нашей головой с воем пронесся американский истребитель типа «Мустанг». Набрав высоту, он развернулся над пляжем и свечой пошёл ввысь. Хотя воздушное пространство над пляжем и не входило в пилотажную зону, лётчик с этим не посчитался и тут же выполнил целый каскад разнообразных фигур: горки, боевые развороты, крутое пикирование с переходом на бреющий полёт…
Наши спутники американцы остановились, задрав голову. Мы нагнали их и тоже стали наблюдать за кувыркающимся в небе самолётом.
Ваня Сошнев добросовестно отметил:
— Чисто работает, ничего не скажешь, хотя и не следовало бы над пляжем баловаться!
— Молодец, что и говорить! — подтвердил Саша Шацкий.
Вскоре «Мустанг» удалился в пилотажную зону, откуда теперь казался нам чёрной точкой.
— «Мустанг», — старался внушить нам Боб, жестикулируя длинными руками, — о'кэй! Русс — фанера, вэри бэд, пльохо!
Он щёлкнул пальцами и даже сплюнул, показывая, что наши истребители в сравнении с «Мустангом», по его мнению, ничего не стоят.
Спору нет, «Мустанг» имеет, очень мощный мотор. Однако такой ничем не оправданный запас мощности объясняется не столько лётно-тактическими соображениями, сколько коммерческими. Конструкция американских машин почти всегда утяжелена, поэтому ей требуется более мощный мотор.
Разгорелся спор. Сошнев не стерпел.
— Знаешь что, дружище, — сказал он Бобу, — вот выберем с тобой как-нибудь свободное время, выйдем в пилотажную зону, поупражняемся. Я тебя в два счета в землю загоню вместе с твоим хвалёным «Мустангом»! О'кэй? Идёт?
— О'кэй! — принял вызов Боб, растянув по привычке рот до ушей.
И они ударили по рукам.
Спор этот разрешился скорее, чем можно было предположить: как раз когда сопровождавшие нас истребители возвращались из Югославии.
Саша Шацкий и Ваня Сошнев летели в Бари с тяжёлым чувством. Они точно не знали, что с моим самолётом. Им казалось, что если я и выберусь из болота, то вряд ли удастся мне проскользнуть днем без прикрытия над вражеской территорией.
Минут через пятнадцать после того как истребители вышли к морю, Саша с Ваней заметили, что над берегом, у моря, кувыркаются в воздухе три самолёта. Впившись взглядом в горизонт, они не сразу разобрались, что там происходит. Наконец стало ясно: идёт воздушный бой — два немецких «Мессершмитта-109» атаковали американский «Мустанг».
— Придётся выручить союзника, — по командной радиостанции сообщил Шацкий товарищу. — Гляди, как в клещи его зажали, жарко ему приходится, бедняге.
— Давай нажимай, — отозвался Ваня Сошнев. — Будем «мессеров» с хода атаковать!
Как раз в этот момент фашистский истребитель пристроился в хвост «Мустангу» на дистанции прицельного огня. Но «мессер» не успел открыть огонь — Шацкий и Сошнев одновременно нажали на гашетки, и, прошитый двумя пулеметными очередями, выпущенными в упор, «Мессершмитт» задымился и упал в море. На водной поверхности остались лишь маслянистые пятна да мелкие обломки.
Видя, что дело плохо, второй «Мессершмитт» пустился наутёк.
— Не уйдет, всё равно свалим! — крикнул Шацкий Сошневу.
А тот уже пустил вдогонку второму фашисту меткую очередь, и немецкий истребитель, заныряв неуклюже в воздухе, потянул к берегу.
Шацкий тоже разрядил в него свой пулемет. «Мессер» мгновенно перешёл в пикирование и на всей скорости врезался в прибрежный утес. Раздался оглушительный взрыв, к небу поднялся огненный столб, увенчанный дымной шапкой. С «мессером» было покончено.
Тут советские лётчики вспомнили о своём подопечном. Пилот «Мустанга» покорно и безвольно пристроился к ним. Всмотревшись в летящий рядом американский истребитель, пилоты убедились, что они спасли не кого иного, как рыжего Боба.
Между пилотами завязалась беседа. Боб, успевший к этому времени прийти в себя, мгновенно набрался обычного форсу. На привычном жаргоне — смеси ломаных русских с английскими словами — он начал утверждать, что русским на этот раз просто повезло.
— Фортуна вам помогла! — уверял он.
— Не будь этой фортуны, — не утерпел Сошнев, — плавать бы тебе в море! Рыб кормить!
Но Боб, по обыкновению самоуверенный и развязный, не сдавался.
— Я вас не просил о помощи, — заявил он высокомерно. — Вы думаете, мой «Мустанг» один с двумя несчастными «мессерами» не справился бы? Конечно, эти машины получше ваших, но против американской техники им всё равно не устоять!
— О чём спорить? — отвечал невозмутимо Шацкий. — Вот прилетим домой. Если хватит бензина, уйдём в пилотажную зону и там посостязаемся, поглядим — кто кого! О'кэй?
— О'кэй! — согласился Боб.
Полчаса уже прошло с тех пор, как закончился воздушный бой. Впереди по курсу возникли извилистая линия берега, домики Полезии в зелени, пляж и аэродром.
— Ты садись, — сказал Шацкий Сошневу, — а я с этим типом сам померяюсь силами. Садись, а то он ещё, чего доброго, скажет, что нас двое против него одного!
Сошнев согласился. Шацкий же, взглянув на указатель уровня бензина — горючего оставалось минут на двадцать пилотажа, — стал разыскивать Боба. «Мустанг», оказывается, уже шёл свечой вверх, набирая высоту для «атаки».
Это был увлекательный и в то же время показательный поединок двух истребителей, за которым с напряжением следили с земли. Уже первые минуты боя выявили превосходство советского истребителя. На стороне Шацкого были высокая авиационная культура, блестящее искусство пилотажа, помогающее использовать до конца возможности машины.
Для всех, кто наблюдал за поединком с земли, в особенности для лётчиков, становилось очевидным, что, будь это настоящий, а не показательный бой, «Мустанг», будучи прошитым пулемётной очередью, давно загорелся бы и упал. Вот американец идёт на боевой разворот. «ЯК-9» преследует его по пятам, как будто он пришит к нему. Боб делает горку, Шацкий — тоже. Вираж — советский истребитель мгновенно пристраивается к своему «противнику» в хвост. «Мустанг» камнем падает вниз. «ЯК-9» за ним. И так без конца.
Горючее у Шацкого было на исходе; он собирался уже по командной рации предложить Бобу признать себя побежденным, как увидел: «Мустанг» встречным курсом летит прямо на него. Значит, американец решился на последнее средство — лобовую атаку.
«Ну, врёшь! — подумал про себя Шацкий. — Этому фокусу нас учил ещё Чкалов. Посмотрим, у кого крепче нервы!»
С земли было отчетливо видно, как две чёрные точки сближаются с бешеной скоростью. Но, видно, нервы Боба сдали, «Мустанг» взмыл кверху, подставляя своё выпуклое брюхо под прицел нашего истребителя. После этого Боб пошёл на посадку. Шацкий последовал за ним.
— Сбежал, брат? — добродушно спросил Шацкий.
Боб пожал плечами:
— Горючее кончилось, поневоле пришлось садиться.
Свидетель этого разговора, пожилой американский техник, молча полез в кабину «Мустанга» и показал советскому пилоту две растопыренные ладони: Боб соврал — бензина у него оставалось ещё на тридцать минут полета. Закончить этот спор Шацкий не смог — к нему приближался командир.
Едва Саша раскрыл рот, чтобы сообщить, что произошло, как полковник перебил его:
— Знаю, Сошнев уже доложил! Ты лучше скажи, кто тебе разрешил заниматься пилотажем? Да ещё так обращаться с союзником! Ты же его чуть в землю не вогнал!
— Я же с ним раньше договорился! — смущенно возражал Шацкий. — Он сказал: «Ладно, о'кэй»…
— С ним договорился, — снова перебил полковник, — а со мной?
Понурив голову, Шацкий молчал.
— За «мессеров» спасибо, молодец! — медленно заговорил полковник. — А за воздушное хулиганство, да ещё в гостях у союзников, объявляю выговор! Можешь быть свободным…
Шацкий повернулся налево кругом и зашагал по направлению к своей квартире. По дороге его нагнал Сошнев.
— Ну что, Саша, — спросил он, лукаво подмигнув, — поблагодарил полковник за службу?
— Поблагодарил, — ответил Саша хмуро, но тут же рассмеялся. — За пилотаж влетело, а за «мессеров» действительно благодарил… — Подумав, он добавил: — И всё же ничуть не жалею о случившемся. Чтобы этому рыжему верзиле нос натянуть, я согласен на десять суток гауптвахты, а не только на выговор!
Дело, однако, этим не закончилось. В ближайший понедельник все представители союзного командования, как обычно, собрались на разбор полётов, еженедельно происходивший в штабе союзного командования. Установленный ранее порядок подведения итогов за неделю на этот раз оказался нарушенным. Американский полковник Ирвинг заговорил сразу о другом. Он с возмущением передавал присутствующим о чрезвычайном происшествии: советский лётчик-истребитель, воздушный хулиган, сорвал американскому истребителю типа «Мустанг» выполнение боевого задания.
В кабинете находились пилоты, инженеры, штабные офицеры. Все они знали, что в действительности произошло с Бобом, и каждый отлично понимал, что рыжий Боб обманул начальство.
Боб сидел, по обыкновению небрежно развалившись на стуле, но избегал встречаться с кем-либо взглядом.
Выслушав обвинение полковника Ирвинга, полковник Карпов, сделавший выговор Саше Шацкому, на этот раз взял его под защиту. Спокойно улыбаясь, он попросил слова и заявил:
— Господа, мы прибыли сюда отнюдь не для того, чтобы вносить дезорганизацию в ряды союзной авиации. Информация уважаемого полковника Ирвинга страдает, мягко выражаясь, неточностью…
Далее полковник Карпов кратко познакомил совещание с тем, как обстояло дело в действительности.
Среди присутствующих началось оживление: одни посмеивались, другие были искренне возмущены, в том числе и многие американские лётчики, поглядывающие весьма недружелюбно на своего незадачливого соотечественника.
— Мне кажется, — продолжал Карпов, — что советский капитан Шацкий, затеяв показательный бой в пилотажной зоне, руководствовался лишь одним желанием — показать своему американскому товарищу по оружию несколько простейших приемов. Знание этих приемов поможет пилоту в другой раз обойтись без посторонней помощи при встрече с вражескими истребителями…
Раздался дружный хохот. Карпов поднял руку.
— Ещё несколько слов, господа, — продолжал он. — Мне вообще непонятно: «Мустанг» имеет такое преимущество в мощности по сравнению с «ЯК-9», что он мог легко, набрав скорость, уйти от расшалившегося товарища. А раз он этого не сделал, следовательно, и сам не был против состязания.
На этот раз хохот в кабинете, казалось, сотрясал стены. Покатывались буквально все. На этом инцидент был исчерпан. Нужно отдать справедливость американскому командованию: рыжего Боба на другой же день отправили обратно в США.
Командир «Большого Дугласа»
Осенью 1944 года Народно-освободительная армия Югославии, действуя вместе с наступающими с запада советскими войсками, очищала от фашистских полчищ города, сёла и целые районы югославской земли.
Большую помощь югославским партизанам оказывала наша авиагруппа, базирующаяся в Бари. И наш самолёт часто летал к югославам, точно так же, как и машина моего старого тамбовского друга Володи Павлова. Выполняя иногда очень сложные задания, мы с Павловым делились при встречах опытом боевой работы, подробно рассказывали друг другу о многочисленных приключениях при полётах в тыл противника.
Я хочу вспомнить здесь об эпизоде, ярко характеризующем моего приятеля. Павлов летел на выручку одного из кораблей нашего подразделения. Командир этой машины Трофимов совершил неудачную посадку ночью в расположении партизанского отряда. Партизаны и явились невольными виновниками поломки его самолёта: площадка была очень маленькой, а посадочные знаки выложены неправильно.
Павлову приказали срочно доставить техников к месту аварии, отремонтировать шасси у поврежденного самолёта. Дорог был каждый час. Хотя днем самолёт тщательно маскировали кустарником, нельзя было ручаться, что гитлеровская авиация не обнаружит его. А возможно, случилось бы и худшее — партизаны под напором противника могли оставить свою площадку. Тогда аварийный самолёт пришлось бы уничтожить, чтобы он не достался врагу.
Метеорологическая обстановка в этот день была довольно сложной. Только зная настойчивость, находчивость и мужество Павлова, командование могло направить его в такую погоду на выручку потерпевшего аварию пилота.
Слоисто-кучевые облака обволакивали горные вершины Балкан, образуя под самолётом сплошной белый ковёр, непроницаемый и безбрежный. По склонам гор облака медленно стекали в долины. Изрядно побалтывало.
Позже нам рассказывали, что в то время, как Павлов был уже в воздухе, в союзническом клубе «Империал» шли шумные споры: полетят ли русские в такую погоду на выручку своего товарища или нет? Заключено было даже пари на три бутылки виски. В момент, когда спорящие ударили по рукам, в клуб вбежал американский офицер связи.
— Русский пилот в воздухе! — воскликнул он, едва успев перешагнуть порог.
— Три бутылки виски! — обрадованно крикнул буфетчику выигравший пари.
— В такую погоду могут летать только русские или сумасшедшие! — сокрушённо заметил проигравший и вынул деньги для уплаты за виски.
А Павлов в это время уже приближался к цели — к той трудной площадке, на которой недавно потерпел аварию пилот нашей группы.
Володя не сомневался, что благодаря присутствию Трофимова ошибки на этот раз не произойдёт — посадочные знаки будут разложены правильно. Так оно и вышло. Несмотря на все трудности полёта, Павлов строго по расчёту времени вышел на цель, пробил облачность и совершил мастерскую посадку на партизанской площадке.
Радости аварийного экипажа не было конца. Из-за непогоды лётчики почти не надеялись, что в этот день к ним прилетят на помощь, в то же время они не знали, что им предпринять в случае тревоги: сжечь поврежденный самолёт и уйти с партизанами в горы или принять бой и отстаивать до последнего машину.
Дружеские рукопожатия, объятия, крики радости. Трофимовны воспрянули духом. Тем временем техники приступили к ремонту шасси. Расспросив у экипажа об обстановке на партизанской площадке, Павлов узнал, что здесь находятся и несколько американских лётчиков. Тяжёлые боевые корабли американцев возвращались после бомбардировки Вены, и часть из них была сбита противником.
Вскоре к Володе подошел старший из американских офицеров.
— О'кэй, — сказал он, пожимая советскому пилоту руку, — вы совершили поистине блестящую посадку! Я, если бы сам этого не видел, никогда не поверил бы: сесть в такую погоду, ночью, на такой, с позволения сказать, аэродром! Непостижимо!..
Американский офицер передал просьбу своего командования взять на борт и доставить на базу в Бари экипажи пострадавших боевых кораблей. Павлова окружили американские лётчики: снова дружеские рукопожатия, поздравления и неизменные возгласы: «О'кэй!»
Володя растерянно смотрел по сторонам.
— Сколько же вас всего? — спросил он у старшего американского офицера.
— Тридцать два человека.
Володя насупился:
— Но ведь на «Дугласе» моём только двадцать одно пассажирское место!
Американец развел руками.
— Мы знаем это, — заметил он. — Как только вы произвели посадку, мы организовали жеребьёвку и отобрали норму пассажиров. Остальные подождут следующей оказии. Прилетят же когда-нибудь и наши сюда, не век же будет держаться такая плохая погода! — добавил он, глубоко вздохнув.
Павлов добродушно и успокаивающе похлопал его по плечу:
— Конечно, прилетят. — А про себя подумал: «Прилетят? Чёрта с два! В такую погоду они не летают: облачность сплошная…»
Быстро заканчивалась разгрузка самолёта. Лица окруживших Павлова американских пилотов ясно выражали их чувства: вытащившие счастливый жребий были веселы и оживлённы, остальные грустны и подавленны.
Павлову стало жаль своих боевых друзей: у многих в Бари жёны с детьми, волнуются, ждут. И что за глупый принцип — жеребьёвка! Случись это у нас, у советских людей, отбор был бы совсем иным: в первую очередь эвакуировали бы раненых, больных.
Советский пилот заметил среди американцев и хромых, очевидно натёрших ноги, и одного пилота с забинтованным глазом… Как же быть всё-таки? Всем им хочется поскорее домой, все этого одинаково заслужили.
Павлову припомнилось, как, летая в партизанские тылы на советской земле, он брал на борт подчас и по тридцать раненых бойцов на таком же «Дугласе». Но там не было гор. И потом там этот риск вызывался крайней необходимостью. А здесь?
Второй пилот прервал раздумья своего командира:
— Разрешите принять на борт пассажиров? Машина разгружена, к полёту готовы.
Павлов молча кивнул головой. Он оглянулся на самолёт, чтобы проверить, как идёт погрузка. «Счастливчики» уже заняли свои места. Механик готовился прогревать моторы перед взлётом. «Несчастливчики» столпились у трапа, дружески напутствуя товарищей. При этом выражение их лиц оставалось грустным.
Тогда Павлов решился. Он сделал широкий пригласительный жест, предлагая и остальным американцам последовать на посадку. Те не заставили себя упрашивать — мигом разместились в пассажирской кабине.
Проходя через кабину, Павлов невольно усмехнулся: «Как сельди в бочке!»
Старший из американских офицеров, будто угадав мысли пилота, спросил:
— Неужели мы все полетим? Ведь в «Дугласе» всего двадцать одно место! Фирма гарантирует только такое число пассажиров… — Он показал на пальцах. — Можем разбиться! — Он опустил обе вытянутые руки книзу.
Павлов дружески похлопал его по плечу.
— О'кэй! — успокоил он американца и пошёл к штурвалу.
Штурман, находившийся в момент взлета в пассажирской кабине, позднее рассказывал:
— Прильнули все наши пассажиры носами к стеклам, глядят в ночь. Сами лётчики — знают, что машина против паспорта с гарантией фирмы перегружена в полтора раза. Вцепились руками в сиденья, как стали мы отрываться, ждут: что-то будет? Площадка-то с воробьиный нос, да и горы кругом. А лететь домой всем хочется…
Павлов уверенно на безопасной скорости поднял машину в воздух, заложил одновременно с набором высоты крутой, «тарановский», вираж, развернулся и лёг на курс. Знай Володя английский язык, он мог бы рассказать своим многочисленным пассажирам, что советские пилоты не в первый раз «выжимают» из попавших под их управление иностранных самолётов гораздо больше, чем написано в фирменной гарантии.
А пассажиры, когда перегруженная машина повисла в воздухе, только молча переглянулись. Старший же офицер в недоумении пожал плечами: всё обошлось благополучно, оторвались и не упали, не врезались при абсолютной темноте в склон горы…
Самолёт, продолжая набирать высоту, вошёл в облака. Исчезли горы, земля, партизанские костры в долине. На высоте три тысячи метров машина вынырнула из липкой мглы, очутившись под звёздным небом Адриатики. Связь с базой вскоре была установлена, и в Бари уже знали, что на борту корабля находятся американские пилоты. Немного погодя показались огни порта.
На этот раз на аэродроме собралось народу, как в дни торжества. Среди встречающих были жёны и дети спасённых американских пилотов, пришло и начальство — наше и американское. Несмотря на усталость (мы только что вернулись с боевого задания из Словении), я также поспешил к месту сбора.
Распахнул радист дверь, и по трапу из кабины один за другим стали спускаться пассажиры. Сколько же их? Я и счет потерял. Вокруг поцелуи, объятия, слёзы радости. Ведь их всех уже считали пропавшими без вести.
Американские лётчики с особым чувством пожимают руки членам спасшего их советского экипажа.
Стоявший рядом со мной штабной американский офицер, подозвав переводчика, обратился ко мне:
— Не пойму, как будто бы «Дуглас», а между тем тридцать два пассажира! Это что же, новая модель — «Большой Дуглас»?
— Нет, — рассмеялся я, — «Дуглас» обыкновенный. Вот что касается пилота, то он, пожалуй, особенный!..
Протискиваясь сквозь толпу, навстречу мне уже пробирается Володя — он только вырвался из чьих-то объятий. Мы поздравили друг друга с успешным выполнением задания и, как всегда, поделились деталями полёта.
Крылатое слово «Большой Дуглас», видимо, облетело всю многочисленную колонию союзнической авиации. На следующий день рано утром к нам явилась женская делегация. Спрашивали они не «русского начальника», как прежде, а «командира «Большого Дугласа». Им сказали, что «Дугласы» у нас все одинаковые, отличаются они только по номеру на хвостовом оперении. Но женщины стояли на своём:
— Как — все одинаковые? Один из ваших «Дугласов» большой — он берёт тридцать два пассажира…
Тогда мы поняли, в чём дело.
Володя сперва не хотел выходить, мы его насильно вытолкнули к пришедшим. Оказывается, ему принесли благодарственный адрес от семей спасённых им американских лётчиков.
Прозвище «Большой Дуглас» сохранилось за Павловым надолго. Даже итальянские мальчишки, встречая Володю на улице, поднимали кверху палец и звонко приветствовали его по-английски:
— «Биг Дуглас» пайлот! (Пилот «Большого Дугласа»!)
Мы все были рады успеху нашего товарища. Он совершил до этого немало подвигов, но последний имел особое значение: он укреплял боевое содружество между нами и союзниками, которое было особенно необходимо для победы над врагом.
Доставка шифра
Бороздя по ночам воздушные просторы над Балканами, я стал замечать, как всё отчетливее выделяется подо мной цепочка тусклых огоньков, которые зигзагами извивались между горными склонами.
Внимательно приглядевшись к карте, я убедился, что замеченная мной линия соответствует магистрали, идущей через города Скопле — Лесковац — Ниш на север Югославии. Это был единственный путь, по которому фашисты могли эвакуировать свои войска вместе с техникой из Греции на север, поближе к Австрии.
Так оно и оказалось на самом деле. Теснимые с запада советскими войсками, беспрестанно тревожимые действиями местных партизан, фашисты поспешно очищали греческую территорию. Бросив против югославских партизан дивизии карателей, фашисты были убеждены, что эвакуация Греции сможет быть осуществлена без значительных потерь. В действительности получилось иначе. Партизанские соединения ушли узкими звериными тропками в глубь горных ущелий, продолжая наносить оттуда сокрушительные удары по врагу.
Но, непрерывно маневрируя, партизаны потеряли обжитые посадочные площадки для приёмки самолётов и тем самым утратили единственную возможность получать с воздуха подкрепление. Все остальные пути противник блокировал. Боеприпасы были на исходе, кончились и продовольственные резервы; бойцы питались травами, ягодами, диким чесноком. Приостановилась эвакуация раненых и больных, которая тоже осуществлялась по воздуху. В то же время большое скопление небоеспособных людей сковывало манёвренность партизанских отрядов. Вдобавок, приключилась ещё одна беда: фашисты перехватили шифр, с помощью которого окружённые партизаны сносились по радио со штабом. Югославским бойцам грозила гибель. С большим трудом партизанский штаб сообщил, что соединению удалось подготовить кое-какую посадочную площадку, расположенную на околице села Мирошевцы, километрах в двадцати от города Лесковац. Находилась она между горами, в долине пересохшей, не обозначенной на карте речушки. Собственно говоря, это был всего-навсего «пятачок», наскоро спланированный партизанами. Длина площадки была не более семисот метров и почти не имела подступов: со всех сторон её окружали горные отроги высотой до пятисот метров. И всё же ничего другого для приёма наших тяжёлых транспортных самолётов придумать было невозможно.
А время не ждало. Прежде всего необходимо было вручить новый шифр, который сбрасывать нельзя, высадить небольшое офицерское пополнение, погрузить на борт раненых и больных, в том числе двух английских офицеров, прикомандированных к главному штабу сербских партизан. Эти британские представители уже несколько раз вызывали свои самолёты, но те прилетали, находили цель, кружились над нею, садиться же не рисковали — уж очень жуткой выглядела эта площадка с воздуха.
Советские пилоты к этому времени уже прослыли мастерами посадок «на пятачок», поэтому выполнение этого чрезвычайно трудного задания и было возложено на наше авиаподразделение. Выбор командования пал на два экипажа: мой и Езерского.
Первый вылетел я, за мною — Езерский. Мы разработали совместный план. Так как часть наших грузов могла быть пущена на сброс, мы дополнительно наметили себе километрах в сорока от Мирошевцев промежуточную цель, над которой и сбросили затем всё, что было можно. А уж на облегчённых самолётах направились к месту посадки.
Только я собрался садиться, как передо мной внезапно возник самолёт. «Эге, — подумал я, — видимо, Дима Езерский успел меня опередить». Так и есть, он сел первым!
Я повёл машину на посадку. Свет включённых фар вырвал из окружающего мрака одинокое дерево, будто сторожащее границы огородов. Если бы не фары, я неминуемо налетел бы на него. Самолёт взмыл кверху, преодолевая препятствие. Вот она, граница площадки. Машина на малой скорости коснулась грунта и запрыгала по его неровностям. Я вздохнул с облегчением, полагая, что всё обошлось благополучно, как вдруг в свете фар прямо передо мной обрисовалась зубчатая линия частокола. Я изо всех сил нажал на тормозные педали — скорость пробега уменьшилась, но самолёт продолжал катиться вперёд…
Молниеносно пронеслись в сознании все прежние посадки в сложных условиях. Вспомнил эпизод из своей инструкторской работы, когда мой ученик вместе со мной на самолёте «ПО-2» чуть не скатился в овраг. Я расконтрил, то есть освободил, хвостовое колесо, чтобы оно свободно могло вращаться вправо и влево, резко нажал левый тормоз, выкрутил штурвал, и самолёт медленно развернулся в двух шагах от проклятого частокола, в то время как конец правой плоскости описал дугу всего лишь в нескольких метрах от выступа крыши невысокого строения.
Оба самолёта мгновенно оказались окружёнными толпой восторженно приветствующих людей: они впервые видели красные звезды на плоскостях самолёта.
Командир отряда, счастливый и взволнованный, был доволен больше всех: ведь он беспокоился не только за себя — ему были вверены жизни многих людей.
Искренне были обрадованы и британские офицеры. Один из них откровенно заявил:
— Непонятно, что медлило наше командование? Давно надо было русских сюда направить. Наши прилетали, кружились, вертелись, и всё без толку… А про вас говорят, что вы чуть ли не на макушках скал садитесь.
Толпа окружила нас так плотно, что я с трудом протиснулся сквозь человеческое кольцо.
Разыскав представителя штаба, я вручил ему бесценный конверт с пятью сургучными печатями, в котором находился новый шифр.
Сербские партизаны, находящиеся в кольце врагов, изнурённые недоеданием и утомительными переходами по горным тропам, забрасывали нас самыми разнообразными вопросами. Хотелось задушевно побеседовать с этими мужественными и непреклонными людьми, но медлить было нельзя: ближайший немецкий гарнизон стоял всего в каких-нибудь пятнадцати километрах отсюда; наблюдательные пункты гитлеровцев, несомненно, заметили, как мы заходили на посадку, с минуты на минуту сюда могли нагрянуть танки…
Погрузив раненых и забрав на борт обоих английских офицеров, мы поспешно распрощались с новыми друзьями. Вследствие ограниченности площадки мы с Езерским решили взлёт производить в направлении, противоположном посадке. Для этого мы поочерёдно зарулили на самую окраину села так, что хвост самолёта встал между двумя крайними домами деревушки.
Моторы заработали на форсированном режиме, пыльный шлейф пронёсся по единственной деревенской улице и заволок все дома. Через несколько часов мы благополучно добрались до своей базы.
Обоим нашим экипажам ещё трижды пришлось побывать на этой точке. Мы летали сюда до тех пор, пока не вывезли раненых и не снабдили подразделение сербских партизан всем необходимым.
Гитлеровцы обманулись в своих расчётах: вооружённые отряды сербских партизан снова стали боеспособными, а избранная фашистским командованием «безопасная» магистраль стала кладбищем для фашистских бандитов и их техники.
«Перепутанный» пароль
Как помнит читатель, в июле 1944 года мы высадили в горах Греции, на партизанской площадке, группу наших офицеров во главе с полковником Поповым. Тогда, расставаясь, я твёрдо обещал Попову прилететь снова. Наконец-то я получил долгожданный приказ: нашему экипажу поручили доставить группе полковника Попова письма, а также посылки с подарками к Октябрьским праздникам.
Мы хорошо помнили, что в первый прилёт из-за плохих подходов к партизанской точке нелегко было приземлиться. Поэтому ко второму полёту мы со штурманом готовились особенно тщательно.
На этот раз мы летели официально, не таясь от союзников. Нас уведомили, что посадочный сигнал будет десять огней в одну линию, что отзыв «Я свой!», подаваемый лампой через форточку фонаря пилотской кабины, должен соответствовать букве «Б» по азбуке Морзе, то есть тире и три точки.
Мы проложили на карте курс, произвели точный расчёт времени, ещё раз определили место нашего контрольного ориентира — озера Даукли, которое должно было хорошо просматриваться с воздуха даже в темноте. Вместе с нами полетел командир нашей авиаэскадрильи Герой Советского Союза Пётр Фёдорович Еромасов. Ему полагалось знать все точки, куда летали экипажи руководимого им подразделения. А кроме того, ему хотелось познакомиться с боевым бытом греческих партизан.
Теперь Еромасова, этого замечательного, бесстрашного лётчика, уже нет в живых.
До сегодняшнего дня храню я в письменном столе, среди прочих, дорогих сердцу реликвий Отечественной войны, старую, выцветшую от времени боевую листовку с портретом мужественного командира самолёта. Он в лётном шлеме, руки его держат штурвал, а взор устремлён вниз на раскрытые в беспокойном фронтовом небе купола парашютов.
Посреди листовки на красной ленте призыв: «Летать и разить врага, как Герой Советского Союза Еромасов!»
Ночь выдалась лунная, но всё время, пока мы пересекали Адриатическое море, под нами простиралась беспросветная мгла. Лишь вдалеке по временам вспыхивал дождь падающих звёзд — явление обычное для этого времени года в здешних местах. Вспомнилось, как во время первых полётов в партизанские тылы я принимал разрывы зениток за дождь метеоритов. На этот раз глаз не обманул меня, это был действительно великолепный фейерверк метеоритов, неповторимое по красоте зрелище!
Морские порты на Балканском побережье, несмотря на светомаскировку, пестрели множеством огней. Видимо, немцы спешно эвакуировались. Мы, следуя на высоте трёх тысяч метров, не опасались обстрела с земли, тем более, что фашистам в эти дни было не до нас.
Преодолевая километр за километром, мы незаметно очутились над материковой Грецией. Показалась береговая полоса её, изрезанная заливами и бухточками, неровный — местами низменный, местами холмистый, а в глубине материка гористый — ландшафт страны.
В серебристом лунном свете отчётливо вырисовывается бесконечное разнообразие местной флоры. Подножия гор, скрытых вечнозелёным миртом, заросли древовидного вереска, можжевельника. На высоте семисот — тысячи метров над уровнем моря кустарник чередуется с лиственными деревьями. На этой же высоте местные жители разводят фруктовые сады и виноградники. Выше поднимается новый растительный пояс, заросли кустарника, редкий лиственный и хвойный лес. Дальше тянутся широколиственные породы — дуб, бук, а также хвойные, преимущественно пихтовые деревья. На высоте около двух тысяч метров преобладает альпийская и субальпийская растительность: травы, низкорослые кустарники и полукустарники. Самые вершины гор часто лишены всякого растительного покрова, стоят совершенно обнажённые.
В этой горной стране партизаны чувствовали себя спокойнее — им была знакома каждая тропинка. Но переходы были тяжелы; затруднялось также снабжение оружием, продовольствием; нелегко было в горных условиях организовать связь, эвакуацию раненых и тяжелобольных. Только авиации было по плечу разрешить все эти задачи.
Присмотревшись к земле, освещённой луной, я безошибочно узнаю места, над которыми наш экипаж пролетал в июле. Ни с чем нельзя спутать этого густого скопления межгорных котловин с их дном, то ровным, то холмистым. Самолёт пересекает знакомую горную цепь, как бы охраняющую обширную равнину с уютно расположившимися на ней городами Триккала и Кардица.
А вот и другой бесспорный ориентир: под нами серебристой змейкой извивается между горами река Ахелоас.
Обменявшись мнением со штурманом, докладываю Еромасову:
— Мы над целью!
Начинаем виражить, посылая на землю световой пароль. Но затянутая голубоватым маревом котловина никак не отзывается.
По выражению лица командира эскадрильи догадываюсь, что он сомневается во мне.
— А ты не спутал, Михайлов? — спрашивает он. — Тут, пожалуй, кроме горных козлов, никого не встретишь. Если бы здесь находились партизаны, они давно бы нам ответили.
Я горячо возражаю, так как абсолютно уверен в своей правоте, и весь экипаж поддерживает меня: мы над целью.
Но Еромасова переубедить трудно.
— Так-то оно так, — не сдаётся он, — но почему наши друзья долго не откликаются?
Я и сам не могу понять, в чём тут дело, и всё же мне хочется разубедить своего начальника.
— Мы над целью! — твержу я упрямо. — Разрешите доказать?
— Попробуй…
— Штурман, записывай время и давай курс на контрольный ориентир!
— Курс сто пятьдесят градусов, время пятнадцать минут полёта, — следует уверенный ответ.
Ложусь на этот курс. Свет луны скользит по горным склонам, подчёркивая рельеф местности. Левее видны какие-то огни; возможно, это колонна немецких войск на марше, а может быть, и фашистские транспортные самолёты. Но нам сейчас не до них…
Наконец мы выходим на озеро Даукли; зеркальная гладь его сверкает в свете луны, точно серебряное блюдо. Экипаж вздохнул с облегчением — расчёт был верен: пятнадцать минут назад мы летали над целью.
Немедленно ложимся на обратный курс. Искоса поглядываю на Еромасова, замечаю, что и он успокоился. Луна снова у нас позади; в её спокойном голубоватом сиянии отчётливо видна каждая деталь местности. Только отыскиваемая нами котловина по-прежнему затянута толщей тумана.
Снова виражу над невидимой целью, посылаю лампой «люкс» один световой пароль за другим: тире три точки, тире три точки — буква «Б». Механик усиленно мигает навигационными огнями, включает строевые огни — бесполезно, земля упорно молчит. А ведь мы в общей сложности утюжим воздух около часа. Что могло случиться?
Механик начинает ворчать: больше трёх часов находимся в полёте, сжигаем без толку бензин, а как полетим обратно?
— Может, партизаны отсюда ушли? — снова сомневается Еромасов.
Я не могу с этим согласиться!
— Нет, они здесь, и наши товарищи с ними!
— Так где же они?.. Ты долго намерен здесь болтаться? Не ровен час, прилетят немцы — собьют! — недовольно бурчит командир эскадрильи.
Он прав, конечно.
— Товарищ командир, у меня есть идея! — говорю я.
— Что ещё за идея?
— Снизиться в котловину и пошуметь. Там есть деревушка. Наделаем переполоху, всех перебудим, если спят. Догадается же кто-нибудь зажечь посадочные огни!
— Идея неплохая… Да вот только как механик?
С тревогой поглядываю на Борю: сейчас его слово — решающее.
Боря нерешительно почесал подбородок,
— Бензина впритирку, медленно отвечает он, — но я своему командиру верю. Придётся опять запасы из-за голенища доставать… Покрутимся ещё с полчаса…
Резко иду на снижение, самолёт ныряет в котловину. Лунный свет щедрым потоком обливает склоны гор, расселины, остроконечные возвышенности, строения знакомой деревушки. На высоте примерно сто метров, над самым селением, вывожу работу моторов на максимальный режим. Моторы ревут. Тысячеголосое эхо многократно усиливает этот рёв. Вся котловина наполняется адским грохотом и шумом. Такой концерт и мёртвого разбудит!
А механик вдобавок сигналит световыми точками, огнями фар. Большая скорость позволяет мне легко маневрировать, делать «горку», преодолевать препятствия, поминутно возникающие на пути.
В деревне наконец-то замелькали слабые огоньки.
— Ага! То-то же, проснулись, черти! — говорит Боря с досадой. Его раздражает мысль о зря израсходованном бензине.
Вспыхнула яркая белая точка. Одна, другая, третья… Вот он, долгожданный посадочный сигнал — десять огней в одну линию, вытянутых с севера на юг.
Огни горят, а на наши сигналы ответа по-прежнему нет.
«Как всё нескладно получается! — подумал я. — Впрочем, старт освещён, как условлено, обойдёмся и без пароля…»
Хорошо запомнив свою первую посадку на этой площадке, я теперь зашёл не с северной, а с южной стороны, где были более открытые, пологие подходы, хорошо просматриваемые при лунном свете.
Мы миновали все наземные барьеры и приблизились к ровной линии огней. Затем сели на знакомую площадку. Когда я затормозил машину, а Боря выключил моторы, сомнений, что мы достигли цели, больше не оставалось: у раскрытых дверей кабины показался подполковник Троян.
Вот и остальные, хорошо знакомые мне, но осунувшиеся и загорелые лица наших офицеров. Видно, нелегко давалась им боевая обстановка в непривычных горных условиях. А вокруг наших командиров оживлённо и радостно толпились сотни наших боевых, друзей — отважных греческих партизан.
Перебивая друг друга, мы заговорили все сразу: обменивались новостями, передавали приветы от общих знакомых и близких, расспрашивали друг друга о множестве вещей. Из беседы с Василием Абрамовичем Трояном я узнал, что Григорий Михайлович Попов с группой офицеров переправился в главный партизанский штаб Греции, а Константин Петрович Иванов горными тропами прошел в Албанию и действует заодно с албанскими партизанами.
В разгар нашей встречи к нам подошли два английских офицера. Тревоги и злоключения перелёта были уже позади, но мои волнения ещё не улеглись, и я не сдержался.
— Знаете ли вы, сколько из-за вас мы пережгли бензина? — сказал я, обращаясь к англичанам. — Почему же вы и на этот раз тянули, сразу не осветили старта? Ведь вы же и на этот раз были предупреждены о нашем прилёте.
— У вас был неправильный световой пароль: «Я свой!», — невозмутимо ответил старший из англичан.
— Как — неправильный? Буква «Б» — тире и три точки.
— Ошибаетесь, нужно было: точка и два тире, такие у нас были указания. Вы что-то перепутали…
Я опешил: такое недоразумение в военное время — просто невероятно!
Слышавший этот разговор подполковник Троян рассказал нам: сперва наши офицеры тоже сомневались, приняли самолёт за фашистский. Но, когда машина снизилась и мы закатили дьявольский концерт, наши офицеры сразу сообразили, в чём дело, поспешно оседлали ослов и мулов и из деревушки, в которой они ночевали, поскакали что было духу к старту. Не обошлось без пререканий с британскими представителями: союзники упрямо стояли на своём — самолёт принимать нельзя, пароль неправильный. С трудом удалось уломать англичан.
— Внутреннее чутьё подсказывало мне, — взволнованно говорил Троян, — что прилетели свои, именно ваш экипаж. Ну я и взял всю ответственность на себя.
Мы рассказали нашим товарищам и друзьям вкратце о последних событиях на фронте и продвижении советских войск, оставили им свежие газеты и, тепло распрощавшись, двинулись в обратный путь.
Мы долго потом раздумывали над «недоразумением» с искажённым паролем. Вся эта история казалась крайне подозрительной, и не без оснований. Ведь и в июле мы разыскали эту точку и совершили на ней посадку вопреки желанию англичан. Но, несмотря на сложность обстановки, мы своё задание выполнили и, вполне удовлетворённые этим, возвращались в Бари.
Пушки на самолёте
Командирами группы кораблей Гражданского воздушного флота, которая базировалась в Бари, были Езерский, Бажан, Павлов, Курицын, Шорников, Шипилов, Лукьяненко, Гиренко, Трофимов, Луцевич, Чуванов. Все они, как и наш экипаж, чуть ли не ежедневно летали к югославским, греческим и албанским партизанам.
Сентябрь 1944 года был обильно насыщен событиями большой международной политической важности: 1 сентября советские войска заняли Бухарест, 5 сентября я услышал по радио о выходе Финляндии из войны, 6 сентября советские войска вышли на границу Югославии. Вдохновлённые победоносным наступлением советских войск, партизаны на Балканах повсюду яростно нападали на фашистских оккупантов. Как в мышеловке, заметались гитлеровцы и их приспешники из числа местных предателей — усташей и им подобных негодяев.
Разрознённые партизанские ручейки и реки сливались в бушующее море народного гнева, захлестнувшее весь Балканский полуостров. Естественно, что при таких обстоятельствах и нашим транспортным воздушным кораблям работы намного прибавилось.
Только наш экипаж всего за два месяца — сентябрь и октябрь — совершил тридцать семь вылетов к партизанам в Сербию, Боснию, Словению, Хорватию, Черногорию, на Далматинское побережье, в Грецию и Албанию. Я говорю здесь только об одном нашем самолёте, а ведь их было много…
Беспрерывно под покровом ночной тьмы пересекали мы Адриатику, приземляясь на различных партизанских точках. Обычным стало появление наших краснозвёздных птиц в горных ущельях и извилистых долинах, над бурными речушками и густыми лесами — словом, всюду, где находились и действовали отряды бесстрашных патриотов. И, где бы мы ни появлялись, нас ждали проявления восторга и благодарности за помощь, оказываемую советскими людьми национально-освободительному движению балканских народов.
Летать приходилось и на сброс, и с посадками, в зависимости от заданий и условий местности. Возили мы и людей, и самые разнообразные грузы: горючее, продовольствие, медикаменты, боеприпасы и оружие. Однажды, загружаясь в итальянском порту Бриндизи, приняли на борт каждого самолёта даже по две 45-миллиметровые пушки, доставленные из Советского Союза. С этим грузом мы благополучно приземлились на окраине югославского города Ужице. Трудно описать радость партизан, которых мы снабдили артиллерией!
Кроме полётов на партизанские точки, расположенные на материке, мы летали на Далматинское побережье, в чудесный край тысячи островов.
Среди них, больше всех отдалённый от материка, как утёс среди морской глади, величественно возвышался остров Вис (Лиса). Небольшой — всего восемь километров в длину и четыре в ширину, — он весь был изрезан извилистыми, узкими заливчиками. Поверхность его обильно усеяна холмами высотой до пятисот метров. В средней его части с северо-запада и на юго-восток вытянулась котловина, подошва которой и была приспособлена партизанами под посадочную площадку для самолётов.
Вся местность вокруг неё в шахматном порядке была загромождена бочками с камнями, просто кучами камней и другими препятствиями, чтобы помешать высадке с воздуха немецкого десанта на планерах.
Стратегическое значение этого острова для Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) могло сравниться лишь со значением острова Мальта для англичан. На острове Вис был расположен штаб НОАЮ.
Фашистские захватчики всегда держали этот остров под прицелом своих орудий. С моря и с воздуха они неоднократно совершали огневые налёты, стремясь разгрызть этот орешек, но всякий раз наталкивались на стойкую оборону и получали сокрушительный отпор.
В глубокой пещере, облицованной известковыми плитками, располагался штаб НОАЮ. Сюда экипаж Шорникова вывез с континента маршала Тито, спас его, когда вместе со своим штабом он попал в немецкое окружение.
Остров Вис был у фашистов как бельмо на глазу. По данным разведки, гитлеровцы готовили «генеральную» операцию по захвату острова: ураганный огонь с суши, с моря и воздуха, высадка морского и воздушного десантов. Угроза нападения изо дня в день нарастала. Надо было быть готовым к отражению десантов, подумать о безопасности командования югославских войск.
Наш экипаж и экипаж Павлова получил задание вылететь на остров Вис в распоряжение штаба НОАЮ.
Полёт в ночное время на остров Вис был исключён: взлётно-посадочная площадка окружена высокими холмами, кустарниками, остроконечными вершинами. Поэтому мы рассчитали свой полёт так, чтобы успеть приземлиться с заходом солнца.
На исходе дня наш экипаж находился в воздухе, а примерно через час мы приблизились к острову Вис. На тёмном фоне моря он выглядел беспорядочным скалистым нагромождением. Выполнив пристрелочный круг над аэродромом, я повёл самолёт на посадку. Расчет требовался очень точный — впереди виднелись горы. Осторожно лавируя между ущельями и теряя постепенно высоту, мы наконец оказались на границе лётного поля. Здесь нас поджидали бойцы НОАЮ и советские офицеры связи.
Угасшее солнце оставило на горизонте ярко-красное зарево, сгустившиеся сумерки окутывали зубчатые очертания неровной линии горизонта, веяло теплом от прибрежных волн. Дышалось легко и радостно. Мы сели в автомашину и по каменистой извилистой дороге направились к своим офицерам связи.
Обстановка кажущейся тишины и покоя была вскоре нарушена. В воздухе засверкали разрывы зениток, застрочили автоматические пушки — война и здесь давала о себе знать.
Югославские товарищи встретили нас тепло, накормили вкусным ужином с далматинским вином, и мы отправились на отдых под навес возле домика, где располагался советский пункт связи.
Гул моторов прорывался сквозь сгустившиеся сумерки. Где-то поблизости находился противник. Но мы привыкли к походной жизни — под мерные хлопки автоматических зениток экипаж крепко уснул. Спали мы долго. Нас разбудили яркие лучи солнца. Утро было жаркое и знойное.
Не теряя времени мы отправились искупаться в прозрачной воде бухты. По пути к морю мы встретили югославских крестьянок. Они заботливо ухаживали за виноградниками: каждый обрабатываемый клочок земли здесь был тщательно возделан и засажен виноградом. Лица женщин и детей были сосредоточенны и суровы: война на каждого накладывала свою неумолимую печать.
С вершины горы казалось — до бухты рукой подать. На деле же, чтобы попасть в неё, надо было проделать сложный и небезопасный путь — преодолеть крутой спуск по извилистой горной дороге.
Спустившись вниз, мы очутились в портовом городке, раскинувшемся у основания гор. По дороге к пляжу нас остановила радушная горожанка. Узнав, что мы русские, она пригласила к себе в дом выпить вина.
Едва мы выкупались, как вокруг нас на пляже просторного залива собралась группа бойцов НОАЮ; к берегу причалил неизвестно откуда вынырнувший катер. У наших новых друзей довольные и весёлые лица. Каждый стремится во что бы то ни стало оказать нам хотя бы самую малую услугу. Едва мы выразили желание напиться, как появилась целая бочка вина. Когда мы попробовали возразить — мы ведь думали о воде, — стоявший рядом партизан, одетый в живописный национальный костюм и увешанный гранатами и пулемётными лентами, сказал:
— А у нас так заведено — пить только вино. Вина столько, что его некуда сливать, тем более сейчас, когда сбыта нет. У нас сложнее воду отыскать, чем вино.
Действительно, вина на острове Вис было много, а воды мало.
Так прошёл наш первый день на острове.
На следующий день мы взяли рыбацкую лодку и направились на южную сторону Вис, к острову-гроту, расположенному недалеко от берега.
Внутри грота, под этим созданным самой природой куполом, синела неподвижная, словно застывшая, морская гладь. Сквозь вершину грота проникали яркие солнечные лучи, освещая его причудливое, сказочное устройство.
Пока мы осматривали грот, к берегу причалила рыбацкая лодка; её владелец выгрузил свой богатый улов и щедро одарил нас свежей рыбой.
Хорошо отдохнув, мы сели в машину и поспешили к себе на базу. У каменного Домика, где расположились советские офицеры, нас встретили три другарицы — подруги, бойцы НОАЮ. На их приветливых лицах отражалось волнение. Сегодня они приготовили «званый обед» и очень беспокоились, что их угощение не понравится русским друзьям.
Напрасно волновались другарицы: обед удался на славу. Затем они рассказали нам много интересного о своём благодатном и живописном крае, познакомили с народными песнями, в которых поётся о высоких скалистых горах и морских просторах, о ласковом солнце и жаркой любви далматинок.
Девушки спели мелодичную песню «Марика». Никогда не забыть мне ни задорных лиц этих смелых девушек, ни их живописных костюмов, ни серебристых голосов, передающих певучие национальные мелодии.
К концу вторых суток нашего пребывания на острове на аэродром прибыли три машины типа «виллис» с советскими и югославскими офицерами. Мы получили задание на вылет в Бари.
Преодолев горные барьеры и снова нырнув за скалистые обрывы, ближе к водной поверхности, наша машина перешла на бреющий полёт. Вдруг на поверхность моря всплыла какая-то чёрная точка. По мере приближения самолёта она все отчетливее вырисовывалась среди пенистых гребней морских волн. Мы насторожились, изменили направление. Таинственное чёрное видение промчалось стороной. Возможно, это была подводная лодка, но чья именно, выяснить нам не удалось.
В сумерках, не включая фар, прямо с ходу я приземлил самолёт, зарулил его на стоянку советского сектора аэродрома Бари. Старший советский офицер поблагодарил экипаж за благополучный рейс, однако не преминул заметить:
— Почему так низко над водой летаете? Ведь это небезопасно — в два счета волной захлестнёт.
— Никак нет, товарищ полковник, — возразил я, — бреющий полёт над морем, с точки зрения маскировки, как раз наиболее безопасен.
— Во всяком случае, не следовало рисковать, — уже более мягко наставлял полковник.
Полёт с маршалом Тито
Через несколько дней, в ночь на 18 сентября, на нашу долю выпал ещё один полёт на остров Вис. Задание получили на этот раз мой и Володи Павлова экипажи. Два тяжёлых воздушных корабля один за другим отправились в путь.
К этому времени группа тяжёлых кораблей, поддерживающих связь с нашей базой, в количестве десяти самолётов, прибыла на аэродром в Бари. Они привезли важные вести из Советского Союза, очень хотелось побеседовать с товарищами, однако вылет задерживать было нельзя.
Как и в первый раз, мы приземлились на острове Вис в сумерках. После короткого осмотра материальной части экипажи отправились на отдых. Подъём был назначен ранний — в час ночи.
18 сентября. Стояла тёмная ночь. Веяло свежей морской прохладой. Кругом было тихо, спокойно, не спали только часовые на постах — бойцы противовоздушной обороны острова да сторожевые катера бороздили прибрежные воды. Нас пригласили в помещение за получением задания, а механики в это время отправились на аэродром готовить машины к вылету. Перед нами стояла ответственная боевая задача: произвести полёт к частям Советской Армии, действующим совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии.
— Старт назначается на три часа ноль-ноль минут, с таким расчётом, — приказал генерал-майор Соколов, — чтобы оба наших самолёта, вылетающие с острова Вис, включились в группу самолётов, стартующих из Бари курсом на восток. Объединённая группа из двенадцати кораблей составит целую армаду.
Вылет с острова предусматривался без стартовых сигналов, в абсолютной темноте, чтобы не привлечь внимания противника. Командирам кораблей при взлёте запрещалось включать какие бы то ни было осветительные приспособления. Впрочем, с аэродромом мы уже успели ознакомиться, и все препятствия, какие имелись на нём, запомнили наизусть. Оставалось проложить предстоящий маршрут на карте. Маршрут выпадал трудный: Адриатика, скалистые горы Боснии и Сербии, Дунай, линия фронта, равнина Румынии.
Пока экипажи изучали предстоящий курс по карте, у наших машин собрались офицеры из штаба Народно-освободительной армии Югославии и советские офицеры связи. Поднявшись первым по лесенке и войдя в самолёт, я заметил на кресле по левому борту пассажира. В светло-сером плаще, звёздочка на пилотке поблескивает эмалью. Лицо его показалось мне знакомым. Пассажир на мой недоумевающий взгляд никак не реагировал. Оставалось загадкой, как мог этот человек попасть в самолёт раньше командира корабля. Готовый сорваться с моих уст вопрос был предупрежден легким прикосновением чьей-то руки. Я обернулся.
Советский полковник приказал мне:
— Занимайтесь своим делом!
Пассажирская кабина постепенно наполнялась офицерами. Командир нашей группы полковник Щелкунов напомнил о спасательных жилетах. Я вынес их в кабину, и все занялись подгонкой жилетов и лямок парашютов. Мы с Еромасовым помогли незнакомцу в сером плаще надеть жилет, не забыли положить возле него парашют.
Конспиративно, в абсолютной темноте медленно подрулили машину на старт. Поставив самолёт на линию взлёта, опробовали моторы, дали газ с тормозов и повели машину по одним приборам.
Слева и справа горизонт закрывали от нас возвышенности, внизу проплывали склоны гор, выступал обрывистый берег, размываемый морским прибоем. Мы держались на высоте трёхсот метров. Вдруг ослепительный луч прожектора, как яркий столб огня, ударил сверху по борту фюзеляжа, пополз по хвосту нашего самолёта. Чтобы вырваться из этого огненного плена, мы снизились ещё больше, увеличивая одновременно скорость. Когда назойливый луч застрял в расселинах гор, наш самолёт спокойно, на высоте ста метров, полетел своим направлением.
Прожектор нас встревожил не на шутку. Дело в том, что на острове Вис базировались английские истребители ПВО, и, следовательно, их противовоздушная зенитная артиллерия была наготове. Трудно сказать, что разыскивали прожекторы. Во всяком случае, нас могли случайно подбить.
Штурман передаёт:
— Командир, курс девяносто градусов.
Меняю курс, перевожу самолёт в набор высоты. Необходимо набрать три тысячи метров — впереди вражеский берег, территория, занятая противником.
Чем дальше мы летим на восток, тем спокойнее рельеф местности: скалистые берега Адриатики сменяются округлёнными возвышенностями, пологими холмами, лесистыми широкими долинами. Многоводный Дунай зеркальной дорогой уходит в сторону от нашего пути. Внизу мерцают вспышки ракет, тьму прорезают огни орудийных залпов. Приближаемся к линии фронта. Перелетев её, мы оказываемся над равниной Румынии — теперь она уже освобождена от оккупантов. Вот наконец и город Крайова! Зажглись стартовые огни — стало быть, нас ждут.
Круг над аэродромом и заход на посадку. Полёт окончен. Пассажир в сером плаще, оказавшийся маршалом Тито, благодарит сопровождавших его командиров и весь экипаж за благополучный полёт.
Да, вторично советская авиация оказывает маршалу Югославии большую помощь…
15 октября наш экипаж доставил на площадку Дивцы к действующим частям личный состав штаба НОАЮ.
Затерявшееся в горных склонах местечко Дивцы находилось в восьмидесяти километрах от Белграда, на юго-запад от него. Оно стало в те дни центром партизанского района. Отсюда подготавливалось наступление Народно-освободительной армии на Белград.
Чтобы точнее выйти на цель, мы с штурманом проложили курс сперва на Белград, тогда ещё занятый фашистами, а уже оттуда должны были лететь на Дивцы.
Погода стояла скверная, но откладывать вылет было нельзя. Нам предстояло в эту памятную ночь пересечь Адриатическое море, горы Боснии и Черногории, после чего выскочить на Дунай и уже оттуда разыскивать лагерь партизан.
За окном кабины сплошная облачность, в кабине темно, хоть глаз выколи. Только фосфористые поверхности стрелок на приборах излучают чуть заметное зеленоватое сияние. Хлещет холодный непрерывный дождь, самолёт начинает обледеневать. Пока это обстоятельство не страшит: машина оборудована противообледенительным устройством, кромка крыла обтянута резиной, образующей своего рода отсеки — камеры, куда поступает воздух. Начинаю волноваться за другое: как бы не проскочить Белград, тогда уж цели ни за что не найти!
Внизу едва мелькают приметные чёрные пятна, скорее всего — разрывы в облаках. За дождём по-прежнему ничего не видно, «дворники»-стеклоочистители мало помогают. Летим над равниной, земля просматривается с большим трудом. Наконец прямо под нами сквозь мутную сетку дождя блеснула водная гладь Дуная. Меняем курс. Ещё немного — и видим цель. Даём вниз условный пароль — красную ракету. Один за другим в ответ зажигаются сигнальные костры. Свет их то и дело затягивается дождевой завесой.
А как садиться? Сколько времени здесь идёт дождь, каков грунт на посадочной площадке, не размякла ли она? Короткое совещание с членами экипажа и единодушное мнение — садиться. Эх, была не была!..
Поравнявшись с кострами, самолёт мягко коснулся земли. Я затаил дыхание: что-то будет? Не покалечить бы машину! Но нет, самолёт катится, грунт хороший, значит, не завязнем в грязи и обратно взлететь сможем.
Мы уже привыкли к тёплым встречам с нашими друзьями, однако то, что ожидало нас в Дивцах, превзошло все ожидания. Шёл противный мелкий дождь, вода хлюпала под ногами, но никто не хотел замечать этого. Вокруг самолёта собрались бойцы и офицеры Народно-освободительной армии Югославии. Откуда-то появились музыканты, начались пляски; девушки-партизанки затащили и наших лётчиков в круг; веселье стало общим.
Никогда не забыть мне крошечной площадки, запрятанной в отрогах гор, оживлённых загорелых лиц, весёлой пляски при свете факелов…
Офицеры штаба НОАЮ и две машины типа «виллис» нами были доставлены в Дивцы в эту же ночь.
Высший командиры Югославской армии 20 октября въехали в освобождённый от гитлеровцев Белград.
28 октября 1944 года маршал Тито, выступая в Белграде перед участниками парада югославских войск, заявил:
«В боях за Белград воины Славной Советской Армии и наши воины объединились для совместной борьбы против немцев. Улицы Белграда были политы кровью сынов всех народов Югославии и кровью героев Советской Армии, сынов великого Советского Союза. Именно поэтому борьба за Белград имеет исключительное историческое значение».
Памятный салют
20 октября 1944 года, в тот самый день, когда советские войска и югославская армия вступили в Белград, командование направило около десятка тяжёлых кораблей нашего соединения на партизанскую площадку Оток. Мы везли туда горючее и боеприпасы.
Площадка Оток была на редкость неудобной, короткой — всего семьсот метров длиной. Располагалась она как бы на полуострове, в излучине между двумя изгибами реки. «Недомажешь» — купайся в реке, и «промажешь» — не добро: попадёшь в реку. Направление для взлёта и посадки независимо от ветра оставалось только одно: для посадки — с юга на север, для взлёта — с севера на юг. Кругом — вода, горы.
Наша машина побывала в Отоке в те дни, когда столица Словении Любляны была занята гитлеровцами. Но НОАЮ, окружив фашистские гарнизоны, постепенно уничтожила их. Части НОАЮ, расположенные в районе Любляны, имели все виды вооружения, в том числе и два танка.
Гитлеровцы твёрдо решили очистить этот район от партизан. Каратели, двигаясь вдоль горных рек к центру расположения югославских патриотов, применяли все средства, вплоть до авиации. Однако партизаны не падали духом, они не собирались сдавать свои позиции. На их стороне было весьма серьёзное преимущество: они лучше знали местность, и это помогало им.
Отряды поднялись выше, по горным склонам, заманив туда три батальона карателей. Полагая, что у бойцов Народно-освободительной армии кончились боеприпасы, фашисты уверенно двинулись к местечку Оток, близ Метлика, и угодили в западню. Здесь партизаны их окружили, уничтожив начисто.
Ободрённые успехом, партизаны перешли в контрнаступление и двинулись под прикрытием танков на север, по направлению к местечку Метлику. В азарте наступления танки ушли далеко, не заметив, как остались без горючего. Теперь-то нам и предстояло выручить их.
Вылетели мы сентябрьским вечером, имея на борту трех пассажиров, а также тысячу семьсот килограммов горючего в металлических бочках. Путь лежал на северо-восток через Адриатику, вдоль побережья Далмации. Партизанская площадка находилась в тринадцати километрах северо-западнее города Карловац.
Именно здесь 27 июля 1941 года под руководством Коммунистической партии Югославии началось народное восстание против гитлеровских оккупантов. Вскоре оно охватило всю страну, окончившись исторической победой над фашистами. С тех пор 27 июля ежегодно отмечается в Югославии как большой национальный праздник.
Горючее, которое мы благополучно доставили, выручило партизанские танки.
— Теперь они снова загрохочут! — воскликнул рослый танкист.
Мы были поражены блестящей организацией базы Народно-освободительной армии у местечка Оток. Партизаны жили в глубоких пещерах, неуязвимых для вражеских авиабомб. Там находились и мастерские, и склады боеприпасов, и госпиталь.
Партизаны гордились своим богатым хозяйством, и им явно не терпелось показать его нам.
— Не можем здесь долго оставаться, — отвечали мы огорчённо, — фашисты обнаружат наш самолёт и разбомбят его.
— Ништа, ништа, друже капитан! — уверенно возражали партизанские командиры. — Авион мы ваш замаскируем так, что ни один фашистский коршун его не заметит. У нас есть большой опыт в этом деле: ведь поле, на котором вы сели, не разбомблено, хотя оно прекрасно просматривается днём с воздуха, не правда ли?
Оказывается, подготовив к нашему прилёту эту площадку, партизаны каждый день на рассвете засаживали её для маскировки кустарником, а ночью всё убирали.
Бойцы-югославы обступили наш экипаж, забрасывая нас нетерпеливыми вопросами. Их интересовало многое, особенно же то, как идут дела на других партизанских точках Югославии, каковы успехи Советской Армии.
Закончив разгрузку и тепло распрощавшись с партизанами и советскими офицерами связи, мы готовились взлететь, как вдруг видим: в наш самолёт грузят что-то.
— Разве мы вам лишнего бензина привезли? — изумился я.
— Нет, что вы! По приказу командующего соединениями словенских партизан генерал-лейтенанта Розмана мы грузим для вас скромный подарок — новенький трофейный мотоцикл!
Среди партизан были и женщины. Рослая, красивая девушка, помнится, звали её Душанка, сказала нам:
— У нас в Словении такой обычай: без подарка гостей не отпускать.
Мы не посмели обидеть хозяев и приняли их подарок с благодарностью…
Вторично направили нас в Оток через две недели. Этот полёт проходил в очень трудных метеорологических условиях. Погода совершенно испортилась. В пепельно-сером небе громоздились мощные кучевые облака; подобно чёрным хребтам, они стеной преграждали нам путь к побережью Югославии.
Лавируя между облачными шапками, рассекая их крылом, мы поднялись на высоту до четырёх тысяч метров.
Самолёт швыряло так, что даже некоторые приборы выходили из строя. Машина сплошь была усыпана искрящимися огоньками. На стеклах фонаря пилотской кабины играли ослепительные зайчики. Лопасти винтов наэлектризовались, превратившись в феерический, сверкающий всеми цветами радуги фантастический круг. Казалось, мы горим.
Наконец мы преодолели этот насыщенный атмосферным электричеством облачный барьер и полетели над волнистым степным простором, где то и дело мелькали скалистые тёмные вершины гор.
Оток был найден нами не без труда.
Здесь мы узнали горестную весть. Душанка, утирая слезы, так не идущие к её мужественному лицу, рассказала нам о гибели генерала Розмана, одного из прославленных героев народно-освободительного движения Югославии. Оказалось, что англичане доставили в Оток новый тип миномёта. Генерал Розман, который всегда входил во все мелочи боевой жизни, лично руководил его испытанием. При первом же выстреле миномёт разорвало, ранило боевой расчёт. Генерал был тяжело ранен в брюшную полость. Несмотря на принятые меры, спасти его не удалось.
Мне стало ясно, почему наше командование направило нас в этот полёт. Мы доставили в Оток нового югославского командующего.
А фашисты, пронюхав о гибели грозного Розмана, приободрились, активизировали свои действия, считая, что партизаны деморализованы гибелью своего командира. Однако расчёты захватчиков не оправдались.
Теперь, в эти знаменательные дни освобождения столицы Югославии, площадка Оток снова стала центральным узлом снабжения словенских партизан всем необходимым: оружием, боеприпасами, обмундированием.
До сих пор словенские партизаны как бы играли с фашистами в кошки-мышки: заманят часть в мешок и перебьют её. Освобождение Белграда и успешное наступление советских войск вместе с частями НОАЮ позволяли теперь изменить способы борьбы с захватчиками. Речь шла уже не о том, чтобы тревожить гитлеровцев, — настал момент полностью уничтожать их живую силу. Предстояло генеральное сражение. Поэтому для снабжения словенских партизан направили не одну нашу машину, а целую воздушную армаду — десять тяжёлых транспортных самолётов.
Так как на площадке Оток бывал до сих пор только наш экипаж, то общее руководство операцией поручили мне. Выполнение задания было связано с большими техническими трудностями. Ночью на зажатом в излучине реки «пятачке» надо было посадить десяток тяжёлых самолётов, да так, чтобы избежать аварии.
Перед стартом мы кратко ознакомили экипажи с характерными ориентирами, со всевозможными препятствиями на подходах к аэродрому. Связь между собой уговорились держать по командной радиостанции.
К счастью, на этот раз установилась хорошая погода: небо чистое — ни облачка, только россыпь искрящихся звёзд. Мы шли на высоте три тысячи метров над морем, курсом на северо-восток.
Блуждающие по тёмному небу прожекторы противника, установленные в портах Сплит и Шибеник, служили нам прекрасными ориентирами. Наши корабли приближались к цели. Внизу, на извилистых горных дорогах, то и дело вспыхивали светящиеся шары-ракеты, били минометы, летели трассирующие пули: партизаны вели бой с оккупантами.
Под крылом город Карловац; правее нашего курса в небе бледное зарево — отражение огней Загреба. Один за другим заходим на посадку. Наш экипаж сел вторым. Уже с земли я продолжал по радио руководить приземлением нашей армады, но все самолёты в эту ночь посадить не удалось. Внезапно вокруг площадки поднялась сильная ружейная, пулемётная, орудийная стрельба, и мы очутились как бы в огненном кольце. Быстро разгружаем приземлившиеся самолёты. Остальным приказываю возвращаться на базу. Рисковать бессмысленно: становится очевидным, что фашисты, встревоженные гулом моторов наших транспортных машин, поняли, чем это им грозит, и решили захватить самолёты вместе с грузом. Пора и нам убираться восвояси.
Я взлетаю последним, перестрелка постепенно стихает. Но не успел я развернуться над площадкой, как огонь с земли вспыхнул с новой силой. Били изо всех видов огневых средств, поражало обилие взлетающих в воздух разноцветных ракет. У нас на борту советский полковник, старший офицер связи на партизанской точке. Он летел в Бари по вызову.
Обращаюсь к нему:
— Ну, хозяин земли, посоветуйте курс! Где безопаснее, как нам вырваться?
Полковник рекомендует северо-запад — там нет укреплений и меньше подъездных путей. Следую его совету. Летим сквозь огненную завесу, меняя направления, чтобы выйти из-под обстрела. Самолёт швыряет из стороны в сторону. Наконец-то прорвались, огненное кольцо осталось позади.
Только вздохнули с облегчением, вдруг слышим крик механика:
— Горим!..
И верно, явственно ощущается запах гари. Ищем очаг пожара. Неужто снаряд разорвался в мотогондоле?
Механик докладывает:
— Под капотом левого мотора бьёт светло-голубой язык пламени.
— Что делать будем? — спрашиваю его.
— Немедленно садиться — сгорим!
Садиться! А куда?! Под нами остроконечные пики гор. Надо срочно гасить пламя левого мотора, но вряд ли дотянем на одном моторе через море до базы. Разворачиваю самолёт на сто восемьдесят градусов и лечу обратно в Оток. Будь что будет!
Дотянули кое-как. Тихо вокруг площадки, стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. С трудом угадываю линию посадки, даём красную ракету, чтобы предупредить: ведь никто не ждёт нас внизу. Костры разгораются сильнее, садимся…
Прежде всего постарались определить причину пожара: лопнул кронштейн крепления выхлопного патрубка. Нужна сварка, но как организуешь её здесь? Опасения наши были напрасны — партизаны оказались людьми запасливыми, и их механическая мастерская, расположенная в одной из пещер предгорья, была богато оснащена всем необходимым оборудованием. Наш механик отправил туда на «виллисе» повреждённые детали. Вскоре всё было готово, и мы успели вылететь на базу ещё до рассвета.
Пока шёл ремонт, мы разговорились с подошедшим к нам командиром батальона партизан. Я поинтересовался, чем закончился бой вокруг аэродрома. Оказалось, что в эту ночь посадочную площадку охраняли две дивизии Народно-освободительной армии. Атака фашистов была быстро отбита, причем с большими для них потерями.
Вторичный же обстрел, жертвой которого едва не стал наш экипаж, исходил не от врага — это был, как потом выяснилось, салют победы. Партизаны только что получили волнующую весть об освобождении Белграда. Салютовали они горячо и восторженно, не подозревая, конечно, что наш самолёт находится в сфере их выстрелов…
Великая радость братьев-славян стала и нашей радостью. Я крепко пожал руку командиру батальона, и мы обнялись с ним как родные. Мы охотно простили ему и его товарищам то напряжение, которое нам в эту ночь пришлось пережить в результате таких бурных проявлений счастья.
«Сюрпризы» мистера Поукера
Вскоре наша эскадрилья перебазировалась на югославскую территорию. Боевые вылеты мы теперь производили с аэродрома Земун, расположенного в живописной излучине одного из притоков Дуная.
Был конец апреля 1945 года, наши войска вели бои на подступах к Берлину. На прежнюю базу — в Бари — советские пилоты летали теперь, как правило, от случая к случаю. Один такой вылет выпал и на долю нашего экипажа.
Наш самолёт налетал без ремонта около шестисот часов. Материальная часть машины, особенно её винто-моторной группы, поизносилась, пришла пора становиться на полный ремонт. Техническое обслуживание наших машин, по заключённому соглашению, должны были производить союзники. Поэтому мы договорились, чтобы ремонт нашей машины произвели в американских мастерских в Бари.
С главным инженером этих мастерских мистером Поукером мы были знакомы ещё раньше; он не принадлежал к числу наших близких друзей, но, как нам казалось, симпатизировал советским лётчикам. Во всяком случае, Поукер всегда был корректен и приветлив с нами.
Прибегать же к его технической помощи было сущим удовольствием. Обратится, бывало, к мистеру Поукеру наш инженер, покажет повреждённые детали, а то и целый агрегат попросит отремонтировать. Посмотрит американец, поморщится, покачает головой и прикажет немедленно выбросить на свалку, а сам тут же распорядится отпустить новые со склада.
— Приходите через три часа, — скажет Поукер, — всё будет готово!
И ни разу он нас не подвёл. А инженера даже в пот бросало: такая расточительность! По наивности щедрость мистера Поукера мы принимали за признак особого расположения к советским лётчикам. Нам и в голову не приходило, что американцы предпочитают повреждённую деталь заменить новой хотя бы только потому, что считают более выгодным выпустить лишнее количество запасных частей, нежели содержать ремонтные мастерские.
Мистер Поукер принял нас, как всегда, чрезвычайно любезно, поздравил с успехом советских войск под Берлином, обещал ремонт нашей машины закончить к 1 мая. Это и меня устраивало: я предполагал вылететь обратно, как только отремонтируют самолёт, чтобы провести праздник вместе со своими товарищами.
— Надеюсь, — сказал Поукер, — мы с вами встретимся скоро на Дальнем Востоке, будем вместе японцев бить!
— Правильно, — шутливо отвечали мы, — можно даже так сделать: летите с нами 1 мая через Москву, прямо на Дальний Восток!
Мистер Поукер с удовольствием принял наше предложение: у него в Москве, в американском посольстве, работают родственники, он охотно их навестит.
— Так и полетим вместе, — продолжал американец, — а я за это время подготовлю вам такой сюрприз!.. Только ахнете!
Вокруг нас расцветала итальянская весна, но мы оставались равнодушными к её прелестям: в эти предмайские дни как-то особенно угнетало вынужденное бездействие. Наконец точно в назначенный срок самолёт наш вышел из ремонта. Рано утром мы отправились на аэродром и не без труда среди множества выкаченных из ангаров серебристых птиц отыскали свою: «Десятка» празднично сверкала свежей краской.
А тут появился на «виллисе» и сам мистер Поукер, он улыбался во весь рот.
— Ну, как мой сюрприз? — крикнул нам ещё издали мистер Поукер. — Понравился?
Вначале мы не поняли, о чём идёт речь: разговор о сюрпризе, откровенно говоря, нами был забыт. На что это: мы остолбенели! На самом видном месте, на поверхности фюзеляжа, объявилась красотка. Облачённая в весьма легкомысленный костюм, она предстала перед нами парящей в облаках в образе не то ангела, не то птицы.
— Вы знаете, кто это писал? — спросил, нимало не смущаясь и будто не замечая нашей растерянности, Поукер. — Известный нью-йоркский художник. Он у нас на базе служит сержантом. Вот мы его и привлекли!
Из деликатности мы промолчали, но твёрдо решили немедленно замазать красотку — засмеют на базе!
— Мой сюрприз, — не унимался между тем американец, — для того, чтобы ваш самолёт не затерялся в небесных просторах над японскими островами. Теперь я без труда отыщу в воздухе вашу «Десятку»…
Мы пошутили ещё немного в этом же духе, затем внимательно осмотрели отремонтированный самолёт: внешне всё было в полном порядке. Меня немного тревожило состояние пневматики: её не сменили, поверхность по-прежнему пестрела порезами, трещинами и выбоинами, которые остались от многочисленных посадок на неприспособленных партизанских площадках. Мистер Поукер развёл руками и постучал по одной из покрышек носком ботинка.
— Эта резина ещё послужит вам! — заметил он обнадёживающе. — Да я и не мог тут ничем вам помочь: её не значится в калькуляции — пришлось оставить в том виде, в каком она была.
Ещё раз поблагодарив мистера Поукера, мы отрулили в сектор своей стоянки, чтобы опробовать моторы. Всё казалось в абсолютном порядке.
Успокоившись насчет ремонта, мы начали грузить запасные части, ящики с апельсинами и лимонами и тут только обнаружили, что давление в баллоне одного колеса ниже нормального. Но дефект был незначителен, и его немедленно устранила наземная команда.
Получив разрешение на полёт через Адриатику, мы взлетели. Моторы работали ритмично. Я развернулся и полетел над морем.
Впереди показался югославский берег. Мы считали себя уже дома, как вдруг, бросив привычный взгляд на моторы, я с ужасом заметил, что на мотогондоле чёрная масса плёнкой стекает вниз с крыла, по ребру обтекания. Тревога: бьёт авиамасло! Продолжать полёт небезопасно. Скрепя сердце решаю возвращаться обратно.
Стрелка давления масла начинает падать.
— Левому мотору — флюгер! — подаю команду механику.
Левый мотор выключен, лопасти его винта не вращаются, они повернуты рёбрами к встречному воздушному потоку. Теперь самолёт тянет лишь один мотор — правый. Снижаюсь. Летим над морем. Дотянем ли до суши? Неужто 1 Мая нам «праздновать» вместе с дельфинами в Адриатике?!
Повреждение левого мотора может быть только следствием небрежного ремонта. Таков был второй «сюрприз» мистера Поукера.
Но вот наконец и итальянский берег. На повышенной скорости, продолжая снижаться, лечу на аэродром Бари. Колёса мягко касаются земли. Сидящий рядом со мной механик Боря Глинский вздыхает с облегчением:
— Уф, кажется, приземлились!
Не успел я ответить Глинскому, как глухой взрыв потряс машину: сперва забросило кверху левое, а затем и правое крыло, словно какая-то невидимая сила подняла самолёт с земли. Затем машина снова опустилась и, кренясь, развернулась носом по ветру…
— Вот тебе и приземлились! — сказал я механику.
Самолёт был изувечен: лопасти винтов согнуты в бараний рог, вместо правого колеса опорой для машины теперь служила непосредственно консоль крыла. В таком виде, с поднятым кверху крылом, самолёт, движимый силой инерции, продолжал тихо скользить по грунтовой поверхности взлётно-посадочной полосы аэродрома.
— Вот вам и третий «сюрприз» мистера Поукера! — воскликнул штурман.
Я вышел из машины сам не свой: вот так первомайский подарок Родине! Взглянув в последний раз на искалеченный, распластавшийся на земле, как подбитая птица, самолёт, я побрёл прочь.
Вины за собой не чувствовал никакой, а между тем получилась неприятность. В эти минуты я был совершенно невменяем.
Товарищи догнали меня, взяли под руки и подвели к подоспевшему «виллису». Я смутно представляю, как мы уселись, куда поехали.
— А что с самолётом? — спросил я, с трудом приходя в себя.
— Всё в порядке! — успокоил меня Боря. — Американцы уже подцепили его тягачом, потащили чинить… Поставят на ноги — и полетим!
— Вряд ли теперь полетим, — ответил я. — Уж скорей поплывём на пароходе. После таких приземлений не летают!
«Сюрприз» мистера Поукера! — вертелось у меня в голове. — А при чём здесь Поукер? Не пеняй на зеркало, говорит русская пословица, коли рожа крива! Я командир корабля, я один и в ответе!»
Нас разместили в вилле. Товарищи сели есть, а мне и кусок в горло не лезет. Измученный раздумьями, я вышел в сад.
К вечеру прибыл переводчик, вручил мне акт аварийной комиссии. Комиссия утверждала, что авария произошла якобы потому, что пилот не справился с посадкой самолёта на одном моторе в сложных условиях сильного ветра, в результате чего в самолёте оказалось поломанным правое шасси и погнута консоль.
Такая односторонняя оценка аварии была неверна, а потому и несправедлива. Но мне и без того было тяжело. Я решил ничего не предпринимать.
Иначе отнеслись к решению комиссии мои товарищи. Боря Глинский вместе с инженером направились на аэродром. Не прошло и часа, как за стеной раздался голос радиста, передающего на нашу базу сообщение:
«…после приземления с одним работающим мотором произошёл взрыв баллона левого колеса, в результате чего самолёт креном подбросило кверху. Под действием сильного, порывистого ветра самолёт взмыл вверх и приземлился на одно правое колесо, ферма которого сложилась. В итоге — погнуты лопасти винта и повреждена консоль. Самолёт ремонтируется».
Примерно так я и сам рисовал себе причины постигшей меня неудачи. Но тут меня взорвало: ведь есть же акт! Кто смеет выгораживать меня? К чему эта опека!
Я готов был кинуться к радиооператору, остановить его: зачем приглаживать факты? Сообщайте так, как записано в акте!
Моё намерение предупредил Боря Глинский. Он сообщил, что прежний акт уничтожен и вместо него составлен новый, что содержание этого, второго, акта и передают сейчас на базу. Причём текст акта, заметил Глинский, был изменён главным образом под давлением мистера Поукера.
Это был четвёртый «сюрприз», который преподнёс нам американец в течение одного и того же злополучного дня. А я, каюсь, перестал было считать его порядочным человеком! Впрочем, мистер Поукер и себя не обидел: он умолчал о причинах выхода из строя левого мотора, как не сказал и о том, что мы требовали смены баллонов. Таким образом, американский инженер и себя выгородил, и меня не поставил в положение виновного в аварии.
И всё же первомайский праздник мы вынуждены были встречать в Бари…
День Победы
Радостные вести неслись с фронта: наши войска штурмовали Берлин. Зато никаких приятных известий не было насчёт ремонта нашего самолёта. Любезность мистера Поукера, оказывается, имела свои пределы: те дорогостоящие и наиболее дефицитные детали, которые требовались для ремонта, он без распоряжения свыше взять со склада не мог. Нам он говорил, что запрос послан, но время шло, а ответа всё не приходило. Экипаж приуныл — такие события разыгрываются в мире, а мы сидим сложа руки!
Советская комендатура в Бари решила ускорить дело. Подполковник Капранов приказал подготовить штабную машину для поездки в Рим. Живой, худощавый, с тонкой чёрточкой чёрных усов на смуглом лице, вольнонаёмный шофёр серб Симич 3 мая доложил:
— Мой корабль готов к полёту!
До Рима надо было проехать девятьсот километров. В столице Италии мне уже однажды пришлось побывать. Но на этот раз я направлялся туда не по воздуху, а по обычному наземному шоссе, правда превосходному, как и все дороги в Италии.
Симич был виртуозом своего дела и даже по самым узким и извилистым участкам вёл машину на предельной скорости.
Первая заправка — в Фодже, где расположен крупный союзнический авиационный узел и выстроен прекрасный аэродром. Отсюда союзники целыми армадами «летающих крепостей» ходили на бомбёжку Вены, Мюнхена и других городов. Из Фоджи мы выехали поздно, часа в четыре дня. Не заметили, как быстро сгустились сумерки. В каком-то небольшом городке остановились в траттории перекусить и помчались дальше. В наступившей темноте по зигзагообразной горной дороге стали подниматься к перевалу через Апеннины. Шоссе вилось вдоль склонов над глубокими ущельями, но Симич не сбавлял скорости — извилистые горные пути были привычны ему.
Крутой поворот, ещё поворот, уклон… Вдруг Симич резко затормозил машину.
— Слезай, приехали! — громко окликнул нас шофёр.
Мы вышли и осмотрели машину: одна из полуосей лопнула, соскользнувшее заднее колесо, шурша о камни, покатилось в пропасть. До Рима оставалось около полутораста километров.
— Симич, — распорядился подполковник, — оставайся! Продуктов тебе в машине хватит, а мы пошли «голосовать».
Вскоре из-за поворота блеснул свет: подъехала машина, которую мы недавно обогнали. Шофёр заметил наш сигнал — поднятые вверх руки — и затормозил. Он оказался итальянцем, а наш переводчик Коля знал только английский. Мимикой и жестами кое-как объяснились. Машина была нагружена до отказа, и шофёр смог взять только подполковника, мы же с Колей заночевали у дороги.
Лишь на рассвете другой попутной машиной добрались до Рима. Машина везла рыбу, и запах рыбы, пропитавший всю нашу одежду, долго потом преследовал нас.
В советской миссии встретились с Капрановым и составили письмо на имя союзного командующего средиземноморским театром военных действий. В нём мы просили о выдаче запасных частей для ремонта нашего самолёта.
Пока составлялась вся сложная документация, у нас оставалось порядочно свободного времени, чтобы успеть ознакомиться с достопримечательностями Рима.
Прежде всего нас повезли в открытой машине осматривать Колизей, древнеримский гигантский каменный цирк-стадион, рассчитанный на пятьдесят тысяч мест. Тут когда-то сражались гладиаторы. Здесь некогда римские императоры одним движением большого пальца руки даровали жизнь побеждённому гладиатору или повелевали добить его. Палец, опущенный книзу, обозначал смерть.
Восемь лет продолжалось строительство Колизея. По тогдашнему уровню техники это небольшой срок для такого величественного сооружения. Сейчас от Колизея сохранилось не более одной трети, но и развалины его продолжают поражать своими размерами и величавостью.
В качестве гида нас сопровождала удивительно жизнерадостная итальянская девушка Сильва — живая и подвижная, как ртуть. Она была связана с нашей миссией в Риме, подружилась с русскими и даже знала русский язык. Впрочем, в её произношении некоторые слова было довольно мудрено понять.
Побывали мы и на знаменитом римском пляже. Расположен он на месте древнеримской военной гавани Остия. Сюда из Рима ведёт автострада, одна из лучших в Европе — двадцать пять километров. Прямая, ровная — ни подъёмов, ни уклонов. Многолетние клёны, эвкалипты, дубы переплелись кронами вверху над трассой, образуя кружевной зелёный туннель. Стволы деревьев у основания обведены белыми с чёрной каймой кольцами. Такая окраска помогает водителям автомашин ориентироваться при ночной езде. На эту автостраду, чтобы не задерживать другие машины, запрещается выезжать со скоростью ниже восьмидесяти километров в час.
Не в пример нашему жалкому пляжу в Бари, римский пляж был действительно роскошен: широкая полоса мелкого кварцевого песка незаметно спускается в море, нигде ни камней, ни ям. Вокруг пляжа множество гостиниц, ресторанов, различных увеселительных учреждений. Ещё задолго до войны Муссолини выстроил здесь один из крупнейших в Европе курортных городков для привлечения иностранных туристов. Дуче знал, как выколачивать валюту!
В течение двух дней мы будто одержимые носились по Риму, знакомились с его неповторимыми памятниками духовной и материальной культуры: дворцами и храмами, музеями и площадями, досадуя, что не имеем по меньшей мере месяца времени, чтобы получить сколько-нибудь полное представление об исторических памятниках города. Гёте, долго живший в Риме, сравнивал его с морем: «Чем дальше едешь по морю, тем глубже становится оно. Это можно сказать и о Риме».
Нас заинтересовала Навонская площадь, расположенная в самом центре старой части города, с величественными дворцами вокруг. Эта площадь — излюбленное место детей для игр. А один раз в год, 6 января, в день «крещения», на этой площади устраивается детский праздник Бефаны.
В представлении итальянских ребятишек Бефана — добрая старушка волшебница, как наш дед-мороз. В «крещенскую» ночь, по местному поверью, Бефана вылезает из печки, возле которой для неё уже заранее развешиваются чулки. Хорошим детям Бефана накладывает в чулки подарки, а плохим насыпает уголь и золу.
Война пощадила замечательные памятники римской старины. Объясняется это просто: папа договорился с англо-американским командованием, что Ватикан вместе с несколькими крупными итальянскими храмами в центре города останется неприкосновенным. Благодаря этому весь центр Рима оказался вне сферы действий бомбардировочной авиации. Зато его окраины и пригороды были основательно разрушены. Всюду видны мрачные следы недавних пожарищ…
Пока Симич отремонтировал нашу машину в дорожных мастерских и прибыл в Рим, были оформлены и документы на запасные части для самолёта. Настала пора распроститься с «вечным городом».
Трогательно прощались мы с Сильвой.
— Я хочу в Россию, — говорила она, — в Москву. Мой отец — дипломат, он побывал во многих столицах мира, но говорит — самое незабываемое впечатление произвела на него Москва… Пауло, — спросила она меня, — вы скоро полетите в Москву?
— Надеюсь, что скоро!
— А меня сможете захватить с собой? Я ведь не много места займу в самолёте.
— Охотно. Только что вы будете делать в Москве?
— О, я знаю — у вас надо работать. Кто не работает — тот не ест!
— Правильно. У нас такой принцип!
— Что ж, и я буду работать!
— Что же вы умеете делать?
— Всё! На первых порах буду играть на пианино, преподавать музыку в школе. Я ведь окончила консерваторию, — ответила Сильва с гордостью.
— Раз так, — согласился я, — тогда можно… Дело только за разрешением властей, одного моего согласия для этого недостаточно, хоть я и командир корабля.
Сильва опустила голову.
— Ах, вот как, — уныло сказала она, — нужно ещё разрешение…
Я искренне сочувствовал этой чудесной девушке. Все бесконечные её разговоры о путешествии в Москву до сих пор мне казались шуткой. Только теперь я понял, что Сильва всерьёз собралась в Советский Союз. Не знаю, осуществила ли она своё желание.
Путь наш лежал на базу в Неаполь. Перемахнув через Албанские холмы, мы мчались дальше унылой равниной. Левее нас оставались осушённые ещё до войны Понтийские болота.
Все города на нашем пути — Террачина, Фонди, Формиа — были дотла разрушены бомбами. Предстояло отстраивать их заново.
До Неаполя от Рима двести тридцать километров. Симич обещает доставить нас за три часа. Чем дальше к югу, тем живописнее становится дорога: она то поднимается в горы, то опускается в равнины, то подходит к самому морю. Цветут в рощах апельсины и оливки, по склонам холмов — пестрый ковёр весенних цветов и ярких трав.
Первая наша остановка в городе Казерта; здесь расположился один из англо-американских штабов. Сюда-то и нужно доставить письмо, которое мы везём из Рима. Город этот некогда считался священным: здесь находилась старинная резиденция итальянских королей.
С бумагами в штаб отправился подполковник Капранов. Мы же втроём — Симич, переводчик и я — уселись в тени машины дожидаться его возвращения. Хотя май в Италии считается весенним месяцем, стояла удушливая жара. Во дворе было пусто, только старичок дворник усердно орудовал метлой, напевая себе что-то под нос и поднимая тучи пыли. К счастью, легкий ветерок относил её в сторону от нас.
Неожиданно из окон здания штаба во двор полетели телеграфные ленты, конфетти, записные книжки, карандаши, целые пачки писчей бумаги и вместе со всем этим — резиновые шары.
В тот же момент в стенах здания поднялся невообразимый шум; впечатление было такое, что штаб громят. Дворник взбеленился. Вначале он ещё пытался кое-как прибрать летящий сверху сор, но его становилось так много, что двор буквально стало засыпать. Тогда дворник застыл посреди двора в позе полной безнадёжности, громко бормоча по-итальянски:
— Да что, с ума они сошли, что ли? Ведь не Новый же год!
В полном недоумении стояли и мы посреди двора. В этот момент подполковник Капранов выбежал из подъезда здания штаба и в глубоком волнении порывисто обнял нас.
— Война окончена! — воскликнул он. — Берлинский гарнизон во главе с Кейтелем капитулировал! Гитлер покончил с собой!
Двор мгновенно наполнился людьми. Все кричали, обнимались, целовали друг друга, жестикулировали, как безумные. Английское «хуррэй» смешивалось с итальянским «вива».
Вопрос о запасных частях для нашего самолёта был решён. Теперь в Неаполь можно было и не заезжать, но, получив такое радостное известие, мы решили всё же отправиться туда, побывать в неаполитанской советской миссии и поделиться с соотечественниками общей радостью.
Снова Симич вовсю гнал машину, теперь уже по дороге, усаженной многолетними тополями. Между деревьями мелькал виноград, вьющийся по натянутой проволоке. По бокам кружили плодородные поля провинции Кампанья. Мы проезжали исторические места. Здесь, в долине реки Волотурно, итальянские добровольцы Гарибальди некогда разбили войска неаполитанского короля. Навстречу нам бежали старинные церквушки и низенькие домики крошечных деревушек, незаметно переходящих в предместья Неаполя.
Мы легко разыскали нашу миссию. Произошла радостная встреча. Мы узнали подробности о капитуляции немцев и самоубийстве Гитлера. Нам захотелось отпраздновать счастливейшее из событий — конец войны.
И вот горстка советских граждан, кого война временно забросила на чужбину, собралась в День Победы за праздничным столом.
Весть о победе молниеносно распространилась по городу. С наступлением темноты население Неаполя от мала до велика высыпало на улицу. В городе зажглась иллюминация, засияли гирлянды разноцветных фонариков. Движение транспорта приостановилось. Неаполитанцы пели и плясали, аккомпанируя себе на гитаре.
Мы вышли в город посмотреть на народное гулянье. Как только неаполитанцы узнали, что мы — советские пилоты, нас стали обнимать, целовать, пожимать руки; приветствия неслись со всех сторон. Опасаясь быть затисканными насмерть, мы нырнули в переулок и удрали восвояси.
Только при свете дня мы увидели, какие разрушения причинила городу война; особенно пострадала гавань в порту, считавшаяся до войны крупнейшей в Средиземноморье. Пока восстановлен был всего один причал — тот, у которого разгружался американский транспорт. На рейде не было ни одного торгового судна, стояли только английские и американские военные корабли.
Но даже уродливые следы войны не в состоянии были обезобразить этот изумительной красоты город. Амфитеатр утопающих в зелени белых домиков по-прежнему живописно возвышался над подковообразным заливом, а над ним величаво дымилась шапка Везувия.
К вечеру 8 мая 1945 года мы возвратились в Бари. Первые радости победы здесь, видимо, уже отшумели, однако то и дело из раскрытых окон домов доносились звуки гитары и песен.
По городу всюду бродили английские и американские солдаты. Мы отправились в межсоюзнический клуб «Империал», чтобы вместе со своими боевыми товарищами отпраздновать победу.
В клубе было людно и шумно как никогда. Мы выбрали свободный столик и заказали ужин. Обосабливаться было неудобно. Подполковник Капранов отправился к соседнему столику и пригласил на танец жену американского генерала. Вскоре и сам генерал пожаловал к нам. Завязалась беседа.
Капранов поднял бокал:
— Пью за то, чтобы эта война стала последней, чтобы вообще больше на земном шаре не было войн!
Американец задержал свой бокал и отрицательно покачал головой.
— Вы смешные мечтатели! — заметил он. — Войны были и будут до тех пор, пока будет существовать мир. Человечество не может жить без войн — это несвойственно его природе!
Многое могли бы мы возразить этому «философу» в генеральском мундире, но ни обстановка, ни место не располагали к политической дискуссии…
На другой день мы получили по радио официальное извещение из Москвы о праздновании Дня Победы. Нам очень хотелось собраться за праздничным столом в тот час, когда в Москве грянут залпы победного салюта. Тщательно готовились мы к празднику, причем на долю каждого приходились какие-нибудь обязанности. Нашему экипажу досталась пиротехническая часть — устройство праздничного фейерверка.
С первым ударом кремлёвских курантов, услышанных нами по радио, мы высоко подняли первый бокал.
— За Родину! За победу!
После тоста наш экипаж стремительно бросился по винтовой лестнице на крышу, там был приготовлен фейерверк. И через несколько мгновений в небо Полезии высоко взвились праздничные ракеты. Они как бы перекликались с теми, которые в этот момент взлетали над Москвой, сопровождаемые восторженными взглядами сотен тысяч людей, собравшихся на Красной площади и запрудивших ближайшие к ней улицы и мосты через Москву-реку.
Оставшись наедине с собой, я попытался в этот день отдать себе отчет в минувших событиях. Пока шла война, мы настолько были поглощены ею, что некогда было и размышлять. Сейчас, как в калейдоскопе, проносились в памяти полёты на сброс и с посадками в тылы белорусских и украинских партизан, перелёт над тремя частями света, последняя боевая работа на Балканах с базы Бари. Двести двадцать раз довелось нашему экипажу пересечь Адриатику в ночное время, лавируя между неприятельскими постами противовоздушной обороны, прячась всякий раз от фашистских истребителей.
Теперь всё это оставалось позади: и опасности, и жертвы, и лишения. Всё прошло, как тяжёлый сон. Лётчики нашей гражданской авиации внесли немалый вклад в дело победы. Командиры тяжёлых транспортных кораблей Г. Таран, Д. Кузнецов, А. Гармаш, П. Рыбин, А. Груздин, С. Фроловский, П. Еромасов, Д. Езерский, В. Павлов, В. Шипилов, А. Шорников, Н. Метлицкий, И. Рыжков, Н. Маслюков, А. Мамкин и другие летали в зоне действия вражеских истребителей, под постоянным огнём фашистских зенитных батарей. Замечательное лётное мастерство, бесстрашие, железная воля, готовность в любую минуту выполнить свой долг до конца — всё это помогло им с успехом осуществлять самые ответственные задания.
Праздник прошёл, пора было заканчивать наши дела. В ту пору в Бари оставались только два наших экипажа, остальные перебазировались в Белград. Мой самолёт нужно было ремонтировать ещё несколько дней. Не желая сидеть сложа руки, я попросил командование дать мне другой свободный самолёт и вместе со своим экипажем перелетел в Белград. Отсюда мы совершили несколько вылетов по Югославии. Возили медикаменты, запасные части для взорванных фашистами электростанций и водопроводов и всякое другое аварийное оборудование.
Наконец мой видавший виды корабль был готов. Наш экипаж принял его, проверив со всей придирчивостью качество ремонта. Распрощавшись навсегда с Бари, мы в последний раз пересекли Адриатику курсом на Белград.
Комендант аэродрома
С генератором для электростанции и трубами для водопровода я прилетел в дотла разрушенный город Подгорицу (теперь он заново отстроен и называется Титоград).
Это было очень памятное нам место, хотя в нём и не приходилось дотоле бывать. Зато над ним мы летали частенько.
На этот раз мы прилетели в Подгорицу в светлый солнечный день. Чуть ли не всё малочисленное население недавно освобожденного города вышло встречать советский «авион». В основном это были вчерашние партизаны, о чём можно было безошибочно судить по их виду. Комендант аэродрома тоже не успел сменить защитную солдатскую форму на гражданский костюм. Это был очень приветливый коренастый мужчина, лет сорока, с поседевшими усами. Звали коменданта Стефан Видич.
— Как леталось, друже? — улыбаясь, спросил он меня.
— Сегодня отлично! — ответил я. — А вот, бывало, не раз проклинал вашу Подгорицу.
— Почему?
Я рассказал о ночных полётах над этими местами, когда они были ещё оккупированы гитлеровцами.
— Я, то есть мы, вернее — наш партизанский отряд освобождал Подгорицу, — обрадованно заговорил Стефан. — Ночью мы разгромили гарнизон. Захватили фрицев врасплох. С аэродрома не успел подняться ни один немецкий самолёт, а все были заправлены…
Партизаны погнали фашистов дальше, а охранять аэродром оставили команду из… двух человек — Стефана Видича и ещё одного пожилого партизана. Прилетали и улетали отсюда не очень часто.
В одну летнюю ночь Стефан, нёсший караульную службу у светового посадочного знака «Т», услышал всё нараставший гул. Самолётные моторы ревели надрывно, как говорится, с «передыхом». Среди звёзд появилась ещё одна — зелёная, стремительно очертившая дугу над зубчатыми склонами гор. Это был сигнальный огонёк на крыле самолёта. Через минуту-другую машина пошла на посадку.
— Я обрадовался, — рассказывал комендант аэродрома, — не забывают нас добрые друзья — советские лётчики. Милости просим в Подгорицу! За площадку краснеть нечего. Это тебе не кое-как выровненные огороды, а настоящее зелёное поле. Садитесь, пожалуйста! Я расшевелил сигнальные костры, чтобы горели поярче.
Уже совсем близко от земли пилот включил самолётные фары. Тут я заметил, что машина мало похожа на те, на которых вы прилетали. У неё, кроме двух моторов на плоскостях, был ещё третий на носу.
Что это за птица к нам прилетела? Долго ломать голову над этим не пришлось. Машина развернулась и рулит прямо на меня. А на её боку и хвосте чёрно-белые фашистские свастики! Тут я малость трухнул, правда, ненадолго — надо было действовать. А как?
Самолёт остановился, но винты продолжали вращаться, моторов не выключали. Вскоре открылась боковая дверца и спустился походный трап… Я взвёл автомат и пошёл навстречу, стараясь пока держаться в темноте. Я был шагах в десяти от самолёта, когда услышал по-немецки: «Это — Тирана? Здесь свои?»
В ответ я крикнул: «Так точно, это Тиранский аэродром. Мы вас ждём, выключайте двигатели!»
Винты перестали вращаться. На аэродроме стало тихо, очень тихо.
Вся команда самолёта — пять человек — спустилась на землю. Что мне делать? Начинать сразу стрелять или немного обождать? Попробую крикнуть сначала: «Хенде хох! Ни с места, буду стрелять!» Я шагнул из темноты. Увидев наведённое на них дуло автомата, гитлеровцы покорно подняли вверх руки. Тут уж я не поскупился на громкие команды: «Третьей роте окружить самолёт!», «Взводу Дыбича охранять подходы с дороги на город!», «Взводу Иваньковича оттащить самолёт с летного поля!», «Дундичу разоружить экипаж!», «Сержанту Богдановичу отвести пленных к командиру батальона!» Для того чтобы нагнать побольше страха на прилетевших, вспоминаю и выкрикиваю знакомые фамилии партизан. На мои команды прибежало пополнение — весь мой «отряд» в единственном лице сержанта Богдановича. Вдвоем с ним мы отобрали у гитлеровцев пистолеты. Затем я крикнул: «За сержантом Богдановичем по направлению командного пункта шагом марш!» А где взять КП, когда не только на аэродроме, но и в городе все здания разрушены? Вспомнил я тогда про небольшое бомбоубежище и отконвоировал пленных в бункер. Утром на беглом допросе выяснилось, что экипаж транспортного самолёта «Ю-52» совсем молодой, делал только третий самостоятельный вылет и заблудился. Летели они в Тирану. Оттуда надо было им забрать офицеров фашистского вермахта. Пути отступления по суше из Албании и Греции к тому времени были перерезаны югославскими партизанами и частями НОАЮ. Пришлось гитлеровскому командованию использовать для эвакуации транспортную авиацию.
А взятый в плен «Ю-52» вы, наверное, видели в парке Калемегдан, — закончил свой рассказ комендант аэродрома.
Я видел новенький «Ю-52» и удивлялся, как он попал на выставку трофеев в Белграде. Она была открыта в последние дни войны в старинном парке, входить в который надо под сводами древней крепости Калемегдан. На аллеях и газонах парка валялись обломки самолётов, сожжённые «пантеры», подорвавшиеся на минах «тигры». С трудом верилось, что вся эта грозная сила совместными действиями Советской Армии и Народно-освободительной армии Югославии превращена в ржавое сырьё для мартеновских печей.
На братском кладбище в Белграде похоронены 2944 бойца Народно-освободительной армии, 961 советский воин. На мраморных плитах выгравированы имена Героев Советского Союза В. М. Михайлова, Ф. Д. Федина и сотен других. А сколько лежит здесь воинов, чьи имена остались неизвестными! Сохранились лишь прозвища, запомнившиеся югославским товарищам по оружию: «Василь», «Миша-танкист»…
Югославские встречи
Белград.
Когда мы подлетали к нему в 1945 году, ещё с воздуха на фоне полуразрушенного города заметили мрачное серое здание. В нем совсем недавно находилось гестапо. Вид его напоминал о тех ужасах, которые пришлось пережить от гитлеровских палачей народам Югославии.
Не раз я наблюдал с воздуха белградские зелёные улицы, то ползущие кверху, то спускающиеся вниз, причудливое сочетание видавших виды старинных домов и совсем молодых современных зданий. Помнятся пепелища разрушенных кварталов — в городе была уничтожена половина зданий.
В 1961 году я снова попал в Белград, приехав сюда в составе делегации Советского Комитета ветеранов войны, приглашённый на празднование двадцатилетия восстания против гитлеровских оккупантов.
Мы ходили по сегодняшнему Белграду — одному из красивейших городов Европы. С высоты старой крепости открывается чудесный вид на новый Белград. За слиянием полноводной Савы с могучим Дунаем выросли кварталы многоэтажных комфортабельных домов, построенных с большим вкусом. В белградских «Черёмушках» будет жить четверть миллиона людей, уже получили квартиры более пятидесяти тысяч человек.
Через восемнадцать лет я встретился с партизанским комиссаром, помогавшим вытаскивать мой самолёт из болота. Волосы его из чёрных стали пепельными. Но он по-прежнему бодр, энергичен и ведёт большую партийную работу.
— Друже капитан, — весело улыбаясь, спросил меня Стишевич, — сколько тебе понадобится партизан, если ты сядешь в болото на «ТУ-114»?
…Мы посещали в Югославии места партизанских боёв. Нас встречали и сопровождали участники войны, многие из которых принимали самолёты на партизанских площадках, а с некоторыми мне даже приходилось летать.
В древнем городе Дубровник на торжественном приёме ко мне подошёл председатель городского Совета Никола Иованович:
— Узнаете меня, друже Михайлов? Я с вами летел с острова Вис.
Разве я мог забыть тот полёт!
…По пути в Титову Ужицу я сразу узнал знакомый ориентир — крупную возвышенность Твентиште. Здесь партизаны вместе с верховным штабом НОАЮ попали в окружение. Силы были неравны. Гитлеровцев около 120 тысяч с артиллерией, танками и авиацией. Партизан 16 тысяч. И патриоты в ожесточённых боях разорвали железное кольцо окружения.
Здесь решили поставить памятник. Место это настолько красиво, скалы так живописны (они напоминают наши знаменитые красноярские Столбы), что было ясно — обычный памятник тут не будет «смотреться». Тогда молодой архитектор Богдан Богданович предложил построить необычный памятник — висячий алюминиевый мост на огромной высоте между двумя скалами над стремительной рекой Дрина. Этот серебристый мост на поднебесной высоте будет виден издалека и станет символом непобедимости народа, отстоявшего свою свободу и независимость, — народа воина и труженика.
НА ВОЗДУШНЫХ ТРАССАХ
Снова на Родине
Настал долгожданный день. 19 июня 1945 года, через сорок дней после окончания войны, был получен приказ о нашем возвращении на Родину. По-братски распрощавшись с югославскими товарищами и получив ордена Партизана Югославии, наш экипаж оторвался от аэродрома Земун под Белградом, взяв курс на Львов — Киев.
Прошло много лет, а я всё не могу забыть того перехватывающего горло волнения, с каким подлетал к Москве. Я чувствовал себя так, будто вернулся из долгих утомительных странствий, и всё, что я видел в родной столице, по-особому радовало и удивляло меня.
…В Москве я узнал много новостей, повидался с военными и невоенными друзьями и знакомыми. Но, как ни велики были события последних дней, как ни приятно было отмечать вместе с москвичами всенародные торжества по случаю победы, на сердце было неспокойно. Желание встретиться с сестрой Таисией и от неё узнать о судьбе всей нашей семьи не оставляло меня.
Сдав «Десятку» и получив отпуск, я выехал из Москвы в Ленинград. Моё появление в Ленинграде для сестры было полной неожиданностью. Мы не виделись с Таисией много лет, но она сразу узнала меня и, плача и счастливо улыбаясь сквозь слёзы, крепко обхватила меня за шею.
— Павел, Павлуша! Вот какой ты стал! — радовалась и удивлялась сестра.
Она усадила меня рядом с собой и не отпускала от себя ни на шаг.
Я пробыл у сестры несколько дней, часами слушал её горестные рассказы о муках, испытанных земляками из Смоленщины в дни фашистской оккупации, о героических днях ленинградской блокады. И, конечно, узнал о своих близких: о том, как погиб дедушка, как чуть не сожгли фашисты сестру Паню с детьми, и о многом-многом другом.
Немало я насмотрелся горя за годы войны, но и теперь колючий ком подкатывал к горлу, как только сестра начинала вспоминать пережитое.
Как-то утром за завтраком сестра читала газету. Вдруг она спросила:
— Кроме тебя, Павел, в гражданской авиации есть ещё какой-нибудь лётчик Михайлов Павел Михайлович?
— Что-то не припомню, — ответил я.
— Ну, значит, это о тебе! — воскликнула сестра, поспешно протягивая мне газету.
Не сразу понял я, что могло взволновать Таю. Пробегаю первую страницу, смотрю… Указ Президиума Верховного Совета о присвоении звания Героя Советского Союза… Стоп! Теперь-то я и сам прочел, что нам, четырём лётчикам гражданской авиации: Езерскому Дмитрию Сергеевичу, Михайлову Павлу Михайловичу, Павлову Владимиру Федоровичу, Шипилову Василию Алексеевичу — присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды. Чувство горячей радости прихлынуло к сердцу. Я был горд и за себя и за своих товарищей. Все мы были участниками боевых действий на Адриатике, все помогали доблестным балканским партизанам в их трудной борьбе с гитлеровцами. Мы с честью выполнили долг советских пилотов.
Вскоре нас пригласили в Москву, в Кремль, и там Михаил Иванович Калинин вручил всем золотые медали Героя Советского Союза. По-отцовски ласково и сердечно приветствовал он каждого награждённого, и от этого особенно хорошо и празднично становилось на душе.
Поля сражений остались позади. Страна звала нас, пилотов, к мирным, трудовым заботам. Отпуск мой кончался, меня назначили рейсовым пилотом на международные линии.
Летал я в Берлин и в Софию, в Бухарест и в Прагу, в Белград и Хельсинки. Сколько примечательных встреч, сколько интересных пассажиров довелось узнать в пути: тут и наши зарубежные друзья, едущие в Москву, и передовые люди Советской страны, спешащие на деловые встречи в различные города мира.
Особенно же мне нравилось летать в Берлин: трасса пролегала над моими родными местами — над Смоленщиной. Шёл 1948 год. Один из полетов в Берлин совпал со знаменательным событием в моей лётной жизни: командование вручило мне значок лётчика-миллионера! В этот первый миллион налётанных мной километров входили и рейсы на передовую с боеприпасами, и полёты к белорусским и украинским партизанам, и боевая работа на Балканах. Включалась в этот счёт и последняя моя работа на международных линиях.
Полёты на мирных воздушных трассах стали теперь обычным занятием каждого пилота, кто был воздушным партизаном в дни войны. Как и прежде, выполнять рейсовые полёты под руководством Тарана было одно удовольствие.
Однажды осенним утром Таран проводил наш экипаж в очередной путь. Возвращались мы после утомительного рейса Москва — Стокгольм — Москва в тот же день. Время было позднее, темнота скрывала аэродром вместе с прилегающими к нему сооружениями. Сгустившиеся облака зловеще громоздились над авиагородком.
Приземлившись, я обратил внимание, что работники аэродрома, встречавшие нас на перроне, против обыкновения, чем- то удручены, неразговорчивы. На этот раз среди них не было ни одного командира корабля. Такое же подавленное настроение было и у сотрудников метеостанции, куда я пришел сдать метеобланки.
Я не вытерпел и спросил, ничего не подозревая:
— Что за траурное настроение во Внукове сегодня?
Синоптик только мельком взглянул на меня. Причину этого странного поведения людей мне удалось узнать лишь в диспетчерской. Сдерживая рыдания, дежурная рассказала мне, что произошло. Григорий Алексеевич Таран вместе с Алексеем Ивановичем Семенковым отправились на охоту. Они любили охотиться недалеко от аэродрома, на опушке леса, — это было их заветное место.
Семенков и Таран вдвоём часто бродили с ружьём и почти никогда не возвращались с пустыми руками. В этот день они, доехав, по обыкновению, до места охоты, поставили машину у обочины дороги и разошлись в разные стороны. Не успел Таран сделать и нескольких шагов, как испуганный хрустом сучьев заяц выскочил с лежки. Таран прицелился, выстрелил из одного ствола и, конечно, не промахнулся. Стрелок он был меткий! Но заяц был не убит, а только ранен, он прыгнул вперёд и прижался к земле. Таран, войдя в охотничий азарт, решил во что бы то ни стало настигнуть свою добычу и с ходу ударил зверька прикладом. Тут-то и произошла катастрофа: второй ствол после выстрела оставался заряженным; от сотрясения при ударе курок соскочил, прогремел выстрел, и весь заряд попал Тарану в живот… Григорий Алексеевич не сразу упал — он только выронил ружье, прикрыв ладонями рану.
Семенков, не успевший отойти далеко, прибежал на выстрел, немедленно кликнул шофёра; вдвоём они уложили Тарана в машину и помчались в Москву.
Григорий Алексеевич, теряя сознание, с трудом прошептал Семенкову:
«Я… кончился…»
«Да что ты, — утешал его Алексей Иванович, — это с твоим-то здоровьем! Сейчас тобой займутся врачи, через две недели снова будешь на ногах!»
«Нет, Лёша, — отвечал еле слышно Таран, — это всё… Прошу тебя об одном: не забывай моих детей!..»
Через двадцать минут бешеной гонки Григорий Алексеевич был доставлен в больницу и тут же положен на операционный стол. К сожалению, на этот раз медицина оказалась бессильной: как ни бились лучшие хирурги, сохранить жизнь Тарана не удалось.
Мы все, недавние ученики Григория Алексеевича, тяжело переживали эту утрату. В годы войны тоже приходилось хоронить товарищей и друзей, но это происходило в боевой обстановке — там жертвы неизбежны. А тут? Блестящий пилот, герой Великой Отечественной войны, прославленный ас гражданской авиации, всегда выходивший целым и невредимым из самых трудных боевых операций, погиб от нелепого случая. Это было ужасно, это просто не укладывалось в голове!
Само собой разумеется, Семенкову не пришлось брать на себя заботу о детях Тарана. Государство целиком обеспечило семью погибшего.
«Дипломатический багаж»
Отпраздновав наступление нового, 1948 года, наш экипаж летел в Прагу. В праздничные и послепраздничные дни пассажирские места в самолётах обычно пустуют. Редко кто в это время отправляется в дальний путь, разве по крайней необходимости. В эти дни, чтобы машина не пустовала, свободные места заполняют багажом — подходящим по размеру грузом в мягкой упаковке.
Как сейчас помню, стояло тихое январское утро. Падали редкие сухие пушинки снега, под ногами прохожих тихо поскрипывал снег.
Несмотря на послепраздничное затишье, в самом аэровокзале по обыкновению оживлённо, особенно у окон отдела перевозок. Мой самолёт уже подготовлен к выруливанию. Тщательно проверив состояние машины, я выслушал бортмеханика и бортпроводницу Нину, которые доложили, что самолёт заправлен, прибран, чехлы на кресла надеты чистые, термосы наполнены чаем и кофе, буфет снабжён горячими и холодными закусками.
Убедившись в полной готовности самолёта, я подрулил на стоянку к аэровокзалу. Экипаж был занят последними предполётными приготовлениями; я же отправился в отдел перевозок уточнять загрузку.
В этот момент ко мне обратился дежурный начальник смены:
— Командир, загрузка полная: пассажиров всего пять человек, остальное — почта и багаж, правда, багаж необычный. Вот этот господин, — дежурный указал на широкоплечего иностранца, — приволок из Москвы такие чемоданища, что я не знаю, можно ли протащить их в дверь самолёта. Смотри сам — сумеем их разместить?
К нашему разговору, как я успел заметить, внимательно прислушивался один из пассажиров. Это был человек среднего роста, с одутловатым, неприятным лицом, одетый в модное светлое демисезонное пальто в клетку. В плечах чуть ли не косая сажень. Возле пассажира стояли ещё три человека в шляпах — все незнакомые мне иностранцы. Не успел я ответить, сможем ли мы взять чемоданы, как один из иностранцев, сильно нервничая, заспорил:
— Нечего смотреть, наш багаж должен следовать только вместе с пассажирами!
Как раз в это время к самолёту подвезли три огромных кофра. И снова я заметил, как разволновался споривший пассажир.
Через некоторое время он стоял уже возле своего багажа, а я поспешил к самолёту, чтобы на месте выяснить, можно ли этот негабаритный груз взять в полёт.
Рыжеватый господин семенил возле кофра, размахивая руками, как граблями, и мешал носильщикам, суетливо подавая им советы, как протиснуть сундуки в дверь самолёта. Я не обращал внимания на разглагольствования этого «дипломата», а прикидывал в уме, как поступить.
Уже с первого взгляда видно было, что все чемоданы разместить в самолёте не удастся. Я пошел переговорить в отдел перевозок. По моим пятам неотступно следовал владелец багажа. Я нашел начальника смены и сказал, что, несмотря на все настояния иностранцев, взять на борт самолёта три таких сундучища никак нельзя. В крайнем случае, можно поместить один из них с тем, чтобы положить его на два задних пассажирских кресла.
Иностранцы подняли неистовый крик:
— Как это — нельзя? Мы дипломаты! Вы обязаны перевозить наши вещи! Мы требуем отправки! В противном случае мы вынуждены будем звонить в посольство.
— Куда бы вы ни звонили, — заметила на это дежурная отдела перевозок, — а наши порядки вам никто не позволит нарушать. Это вы у себя дома можете командовать. Как сказал командир корабля, так и будет! Желаете лететь с одним чемоданом — пожалуйста. Нет — ваши чемоданы будут доставлены в Прагу на следующем грузовом самолёте.
Иностранцы быстро ухватились за эту мысль.
— Мы оплатим перелёт в Прагу, — заявили они, — но при условии, что вы и нас отправите вместе с чемоданами.
Меня эта канитель начинала волновать: могли опоздать с вылетом. Я понял, что эти «дипломаты», как они себя называют, беспокоятся прежде всего за сохранность своих сундуков.
Довольно резко я заметил:
— Отдел перевозок отвечает за сохранность ваших вещей!
А дежурная добавила:
— Специального самолёта сегодня нет, это можно сделать только завтра.
— Тогда мы не полетим, получайте обратно билеты!
Иностранцы стали запугивать дежурную, всячески угрожать ей и грубить. А время вылета приближалось.
Тут я потерял терпение и громко произнес:
— Я пошёл на вылет!
«Дипломаты» не на шутку переполошились. Но как они ни настаивали на своём, а пришлось им подчиниться нашему требованию.
— Хорошо, я лечу со своим чемоданом, — заявил один из них. — Но секретарь нашего посольства тогда останется с остальными вещами и напишет жалобу на вас, направит протест вашему правительству!
— Пусть пишет, а вы собирайтесь, если думаете лететь! — ответила дежурная отдела перевозок.
Снова около самолёта очутился чёрный мрачный кофр длиной около двух метров и почти по метру в ширину и высоту.
— Берите чемодан, ставьте его на попа и стоймя затаскивайте в машину! — приказал я грузчикам.
Грузчики приготовились взять чемодан за углы, как вдруг, откуда ни возьмись, господин с одутловатым лицом. Снова начал он крутиться возле чемодана.
— Осторожнее, осторожнее!.. Кантовать нельзя! Брать чемодан лучше всего за это место, — указывал он грузчикам на боковые ручки чемодана-сундука.
С трудом и не сразу одним концом удалось чемодан подать во входную дверь пассажирской кабины, но второй конец ещё держали на руках. Наконец кое-как втолкнули груз на площадку самолёта и остановились перевести дух.
Механик предложил:
— Давайте мы его поставим вертикально около буфета.
Суетливый господин опять стал возражать, что в таком положении вещи помнутся, что класть чемодан можно только горизонтально, причем непременно крышкой кверху.
Я подумал и согласился: пусть лежит чемодан — чего доброго, при первой незначительной болтанке упадёт и повредит отделку самолёта. Я даже предложил поднять чемодан с пола и поместить его боком на поручни двух последних кресел возле буфета: так устойчивее будет.
Вместе с бортмехаником мы помогли затолкать чемодан поближе к борту самолёта, а чтобы он не загораживал продольный проход между креслами, поставили его боком. Я ушёл к себе в кабину. «Дипломат» не успокоился и настоял на своём — чемодан был перевёрнут крышкой вверх. Мы готовы были на всё, лишь бы избавиться от бесконечных претензий господ «дипломатов».
Ни разу ещё за всю свою лётную практику не приходилось мне перевозить такой объёмистый груз, не встречались мне и столь назойливые пассажиры среди дипломатов.
Но вот волнения улеглись, и нам пора было отправляться в путь. Все пассажиры находились на своих местах. На двух передних рядах кресел слева сидели советский генерал с женой, работник аппарата ЦК партии и какой-то гражданин Чехословацкой Республики, возвращающийся на родину. По правому борту, двумя креслами дальше переднего, сидел беспокойный владелец кофра, средние ряды кресел были заполнены почтой, предназначенной для Праги, и багажом пассажиров.
Громадный чемодан, причинивший нам всем столько хлопот, лежал за почтой.
Экипаж занял свои рабочие места; бортпроводница Нина сидела, как всегда, в кресле возле буфета.
Беспокойный господин, представитель одной из заокеанских стран — как я успел узнать, — то и дело оглядывался на свой багаж, будто опасался, что в последний момент перед стартом кофр его может исчезнуть.
Царящую на аэродроме в предутренний час тишину нарушил рёв моторов. Самолёт стремительно покатился вперёд, рассекая плотный зимний воздух, и, в последний раз коснувшись шасси бетонной взлётно-посадочной полосы, взмыл вверх. Пунктом нашей первой посадки был намечен город Львов.
Самолёт подвигался вперёд плавно, без единого толчка. Спокойный режим полёта усыпляюще действовал на пассажиров, все дремали. И даже беспокойный господин, закрыв глаза, небрежно развалился в кресле.
Я сидел в левом пилотском кресле, держал перед собой полетную карту, отмечая на ней контрольные ориентиры и местонахождение самолёта. Между делом мы делились впечатлениями о встрече Нового года, рассказывали, кто, как и где веселился в предпраздничную ночь.
В кабину вошла бортпроводница.
— Можно с вами посидеть? — спросила она. — Пассажиры все задремали, убаюкало их, а мне стало скучно одной.
Нина была общительна и любознательна. Чтобы повидать чужие страны, она не побоялась против воли матери устроиться бортпроводницей. Нину, конечно, многое интересовало за рубежом, но была у неё и своя слабость — пристрастие к заграничным модам. Экипаж знал эту слабую струнку девушки и нередко добродушно подшучивал над ней. Но Нина нисколько не обижалась. Она прекрасно знала, что отношение экипажа к ней самое дружелюбное, пассажиры тоже любят и ценят её. Да и было за что: в свои нехитрые обязанности бортпроводницы Нина вкладывала всю душу. Был случай, когда в пражском аэропорту пассажиры, следующие в Москву на другом самолёте, увидев Нину, гурьбой потянулись к диспетчеру и стали просить, чтобы их пересадили на нашу машину.
Мы все дорожили Ниной как работником. Но это не мешало нам подтрунивать над ней.
— А знаешь, Нина, — заговорил наш балагур и весельчак радист Толя, — я слышал, что в Европе за один день все моды переменились, пожалуй, теперь в твоей вязаной кофте на аэродром в Праге неудобно будет выйти.
Нина притворилась равнодушной.
— Подумаешь, нашёл чем напугать! — ответила она.
— Ну ладно, — не унимается Толя и поднимается со своего кресла, — ты посиди здесь, а я пойду поищу что-нибудь вкусное в твоём буфете!
— Нечего тебе лезть в мой буфет, я подотчётное лицо! — вспылила Нина.
— Вот и хорошо, что не я, а ты отвечаешь за продукты, — всё с тем же серьёзным видом шутил бортрадист. — Сейчас доберусь до шоколада, наемся вволю! — Толя даже облизнулся при этом.
— Пожалуйста, иди, у меня всё записано, сколько чего есть, — не сдавалась Нина.
Толя помахал Нине рукой, закрыл за собой дверь и вышел в пассажирскую кабину.
Но не прошло и трёх минут, как встревоженный бортрадист возвратился в пилотскую кабину.
— Вот не зря говорил я тебе о шоколаде, Нина! — сыпал скороговоркой Толя. — Собака этого дипломата рвётся из чемодана — видно, почуяла запах съестного в буфете. Скребётся лапами в своём «купе»…
Нина, хотя и не совсем поверила, однако насторожилась. Она вышла из кабины и направилась к буфету, но тут же вернулась взволнованная.
— А ведь верно — что-то живое в чемодане. Я сама слышала, как там вначале что-то зашуршало, а потом поднялась какая-то возня.
Наш бортмеханик, человек степенный, осторожный, решил вмешаться в разговор.
— Хватит вам разыгрывать! — сказал он Нине с Толей. — Не полагается над дипломатами шутить. С ними шутки плохи, чего доброго, может получиться серьёзный политический скандал. Идите лучше делом займитесь.
— Да нет, я не шучу! — возразила Нина. — Кто-то на самом деле возится в чемодане: не то собака, не то кошка!
— Раз так, пойду-ка я сам проверю, а потом, в случае чего, доложим командиру. — И бортмеханик вышел.
Не спеша, вразвалку, бортмеханик направился к чемодану, стал возле него, осмотрел внимательно, приложил сначала одно ухо к крышке кофра, потом, для пущей верности, другое. Нет, ничего не было слышно, дурака валяют ребята. Вернулся в пилотскую кабину и говорит громко, так, чтобы я услышал:
— Вот что, молодые люди, хватит друг другу голову дурить! Чемодан как чемодан, лежит себе на месте спокойненько и ни лаять, ни мяукать не собирается. Неужели мне на уши медведь наступил, что я не заметил подозрительных звуков? Неуместны тут ваши шутки: сегодня ведь не первое апреля.
— Командир, — взволнованно настаивала Нина, — клянусь, что в чемодане кто-то есть!
— И я даю голову на отсечение! — серьезно подтвердил Толя.
Я не сразу понял, из-за чего идёт спор.
— Расскажите по порядку, в чём дело! — сказал я ребятам.
Нина и Толя принялись рассказывать, перебивая друг друга. Я понял, что ребята волнуются не зря. Распорядившись всем оставаться на своих местах, я отправился к чемодану.
Открываю дверь в пассажирскую кабину и вижу следующую картину: возле кофра стоит его владелец, осторожно этак трогает что-то руками.
«Странно! — подумал я. — Всего несколько минут назад иностранец крепко спал, а сейчас он уже бодрствует и как ни в чём не бывало возится с кофром. Или он притворился, что задремал?»
Совершенно официальным тоном я спросил неугомонного пассажира:
— Почему вы не сидите на месте?
— Мой чемодан!.. — пролепетал невнятно «дипломат».
— Почему вы беспокоитесь за него? Как видите, чемодан лежит на месте. Разве вы не знаете, что по самолёту без нужды прогуливаться не полагается, тем более не разрешено переставлять багаж?
Но «дипломат» не собирался отходить от чемодана. Соблюдая корректность, но уже более строгим тоном я сказал ему:
— Потрудитесь немедленно занять своё место!
Иностранец, как мне показалось, нарочито ломаным языком ответил:
— Не понимаю по-русски!
Тогда я указал рукой ему на кресло:
— Садитесь немедленно, а не то мне придётся вам помочь!
Странный господин без дальнейших препирательств поплёлся на место.
Чемодан никаких звуков больше не издавал. Уходя к себе, я всё же приказал Нине, которая теперь возилась возле буфета:
— Будешь сидеть здесь. Следи, чтобы этот тип не подходил к своему багажу и чтобы не открывал чемодан.
Но не успел я войти в кабину и сесть за штурвал, как снова вбегает Нина и испуганно кричит:
— Командир, он оттолкнул меня, он кого-то выпускает!
Тут уж я встревожился не на шутку. Войдя в пассажирскую кабину, я заметил, что большинство пассажиров дремлет, а «дипломат» сидит, будто ничего и не случилось. Я снова подошёл к чемодану, смотрю: оба замка открыты, а крышка немного приподнялась, образуя узкую щель. Сомневаться больше не приходилось — дело не совсем ладно, надо быть начеку!
В самолёте творилось что-то необычное, но что именно, понять нелегко. У экипажа стали возникать разные догадки.
— Командир, может быть, пассажиру не хотелось возиться с ветеринарной справкой и он поместил нелегально в чемодане свою собаку? — сказал радист.
— А вдруг у неё сап? — забеспокоилась Нина.
Толя расхохотался:
— Разве у собак бывает сап?
Нина сконфузилась, но не сдавалась:
— Ну, пусть не сап… Тогда, может, бешенство у этой самой собаки, или кошки, или не знаю, кого он туда поместил?
Бортмеханик наш всё ещё сомневался. Покачав недоверчиво головой, он заметил насмешливо:
— А может, это всё вам померещилось? Вот командир ведь ходил, ничего подозрительного не заметил… А если даже и так, — продолжал механик, — почему обязательно собака или там кошка какая? Да что дипломат жулик, что ли?.. Был со мной такой случай. Собрались мы в экстренный рейс на Север и взяли со склада на всякий случай меховые комбинезоны. Упаковали их, летим. Вдруг слышим: бегает кто-то по багажу, скребётся, пищит, никак не поймем, что случилось. Ломали- ломали голову, пока не разобрались, в чём дело. Оказалось, это крысы. Они ещё на складе забрались в комбинезоны. Может, и сейчас крысы?
«Нет, это не крысы! — думал я. — Крысы безусловно отпадали; для меня ясно одно — «дипломат» не случайно отпер чемодан. Если он действительно везёт в чемодане кошку или собаку, а она стала задыхаться, — это ещё полбеды. Ну, а если… а если там человек?! Известны были случаи, когда бандиты нападали в воздухе на экипаж и принуждали его сворачивать с курса, чтобы следовать по заданному ими маршруту! Что, если «дипломат» и его запрятанный в чемодан спутник — я начинал предполагать, что это действительно спутник, — вооружены? Ведь случись что, нам, кроме голых рук, нечем защититься. У нас оружия нет. А в Москве ещё два таких кофра осталось. Нет, медлить больше нельзя: ум хорошо, а два — лучше. Пусть всё это в конечном итоге окажется пустяком и меня поднимут на смех, если я устрою напрасную панику, пусть, но я должен действовать!..»
Я поспешил к себе в кабину с намерением изменить курс полёта и передать куда следует по радио о своём подозрении, как вдруг следом за мной вошёл генерал.
— Товарищ командир, — обратился он ко мне, — что-нибудь случилось? Давно замечаю — бегаете взад-вперёд. Я даже проснулся.
— Да пока ничего особенного, — ответил я. — А вы ничего не заметили?
— Нет.
— Кстати, оружие у вас есть? — спохватился я.
— Конечно. Два пистолета!
— Вот хорошо, что вы такой запасливый! Дайте один мне!
— Зачем?
— Бой будем вести, — полушутя ответил я. — В самом деле, давайте оружие! — повторил я свою просьбу. — Положение тревожное…
Я высказал генералу свои опасения; тот насторожился. Он оказался фронтовиком, человеком боевым.
Его пистолет я передал бортмеханику.
— Держи! — приказал я бортмеханику. — Ты свободнее других в экипаже, понаблюдай, как дальше будут развиваться события. А если что, бей наповал! Вас же, товарищ генерал, прошу спокойно сесть, чтобы «дипломат» ни о чём не догадался, и последите за его поведением. Ни в коем случае не допускайте его к чемодану.
— Всё понятно, возвращаюсь на своё место, — кивнул мне генерал.
— А ты, Толя, — обратился я к бортрадисту, — передай в Киев: «Посадка у вас. Прошу обеспечить встречу самолёта вооруженной охраной».
Одновременно я дал распоряжение второму пилоту Егорову держать курс на Киев.
По расчету, до Киева лететь оставалось ещё минут сорок. Все наши ребята немедленно заняли свои рабочие места. Только Нина, забыв о своём шоколаде и буфете, с любопытством наблюдала в маленькую щёлку из пилотской кабины за подозрительным господином. Вдруг она испуганно зашептала:
— Смотрите, смотрите, пошел, пошел!..
— Кто пошёл, куда пошёл? — спрашиваем мы Нину.
— Да к чемодану — иностранец, а за ним — генерал!
— Леонид Иванович, — приказал я второму пилоту, — строго выдерживай курс, а я ещё раз схожу выясню, что там.
Открываю дверь пассажирской кабины и слышу окрик генерала:
— Я вам рекомендовал сидеть на месте! Почему вы не подчиняетесь, ходите по самолёту?
Побледневшее, обрюзгшее, с мешками под глазами лицо беспокойного иностранца выражало теперь испуг и растерянность.
Заплетающимся языком он бессвязно бормотал:
— Мой человек, папа, мама плачут, он задыхается!
— Садитесь на своё место! — пригрозил генерал пистолетом.
Бортмеханик также был наготове и взял в руки оружие.
Не на шутку перепугавшись и съёжившись, как побитая собака, беспокойный пассажир поспешил занять своё кресло. Чтобы не произошло какой заминки, мы вторично сообщили в Киев: «Посадка у вас! Обеспечьте встречу самолёта вооружённой охраной!»
Чем ближе к аэродрому, тем возбуждённее состояние у экипажа.
В голову лезут тревожные мысли. А вдруг завяжется перестрелка в воздухе? А вдруг злоумышленники пойдут на крайность, чтобы замести преступные следы, и взорвут самолёт? Кто знает, какие гостинцы припасены у них в чемодане? Скорей бы уж Киев!..
Наконец показались окрестности украинской столицы, а затем и Киевский аэродром. Члены экипажа повеселели.
С ходу мы приземлились. Встречают ли нас?..
Взметнулся красный флажок дежурного, а возле него, в форме защитного цвета, — бойцы-автоматчики. Значит, ждали, встретили!
Самолёт встал на заторможенных колёсах носом к аэровокзалу.
Открыв дверь пилотской кабины, я объявил:
— Граждане пассажиры, в Киеве из самолёта никто не выходит, сейчас будет проверка документов и багажа!
Пассажиры недоумевали: ведь посадка в Киеве по расписанию не полагалась. Я распахнул входную дверь, повеяло зимней свежестью. Возле самолёта стояли автоматчики, а навстречу мне шёл майор.
Пассажиры прильнули к окнам: самолёт был окружён вооружёнными людьми.
Я спустил на землю стремянку. Поднявшийся в самолёт майор спросил:
— Что случилось, товарищ командир?
На ходу, в двух словах, я обрисовал создавшееся в пути положение.
Майор вошёл в пассажирскую кабину и стал проверять документы. Сначала проверил у всех сидящих на передних местах, после чего я попросил пассажиров освободить на время самолёт. Затем майор спросил документ у подозрительного иностранца.
На требование: «Ваши документы» — он вытащил паспорт, в котором значилось, что господин Н. является атташе по труду одной из иностранных миссий в Советском Союзе.
— Ваш багаж? — спросил майор.
— Вот мой багаж. — «Дипломат», продолжая ломать русский язык, повёл пухлым указательным пальцем в сторону чёрного чемодана.
— Сопроводительную ведомость предъявите.
— Есть, есть!
Господин Н. поспешно вытащил из бокового кармана костюма бумажник и извлек из него документ, в котором на добротной лощёной бумаге было чёрным по белому оттиснуто: «Лицензия на провоз багажа и груза без права осмотра».
Майор покрутил в руках бумагу, а открыть чемодан не решился — дипломатический багаж, шутки плохи!
— Какой там к чёрту «дипломатический»! — вспылил я. — Шпионов, диверсантов возить этим господам, что ли, разрешено? — И тут же в присутствии всего экипажа и сотрудников аэропорта я с силой рванул ручку чемодана на себя — и чемодан раскрылся.
Из вороха вещей показалась голова черноволосого человека, стриженного под «бокс», мертвенно бледного. Новоявленный пассажир молчал.
— А это кто такой? — строго обратился майор к атташе.
— Мой человек… — почти на чисто русском языке залепетал Н. — У него папа, мама в Мадриде, он хочет их видать, а у него нет паспорта. Плачут. Я его решил без паспорта провезти домой. Пожалел…
«Хорош гусь, — подумал я. — Папа, мама плачут!»
— Ваши документы! — обратился майор к «зайцу» в чемодане.
Ответа не последовало.
— Нина, — позвал я бортпроводницу, — иди скорей сюда, будешь разговаривать с пассажиром!
Дело в том, что наши бортпроводницы на международных линиях по совместительству являются и переводчиками.
Нина с опаской подошла ближе к чемодану и, ничего не подозревая, спросила:
— С каким пассажиром?
— Да вот с этим, который залез в сундук! — показал я ей.
Нина совсем растерялась.
— Значит, это не собака была? Хорошо… Парлэ ву франсэ? — обратилась Нина к таинственному пассажиру.
— Он говорит только по-испански, — поспешил вмешаться господин Н.
— Ничего, поймёт и французский, — подбодрил я Нину. — Не обращай внимания на эту уловку, смелее спрашивай по-французски, есть ли при нём паспорт.
Не успела Нина открыть рта, как из чемодана показалось узкое лицо, и бледно-синие губы зашевелились, бормоча:
— Да я и по-русски хорошо говорю, лучше, чем по-французски.
Все вздохнули с облегчением. Задача упрощалась.
— Коли хорошо говорите по-русски, так отвечайте на вопросы. — Майор взял бразды правления в свои руки. — Паспорт есть?
— Есть!
— Давайте его сюда, поглядим, что за паспорт! — приказал майор.
Вещи в чемодане заворошились. Втиснутый между ними незнакомец стал приподниматься. Опираясь одной рукой о борт сундука, он протянул потрёпанный паспорт.
Майор взял его, раскрыл и стал читать вслух:
— «…уроженец Мадрида, проживает в Советском Союзе с тысяча девятьсот тридцать шестого года, с конца войны — без подданства…» — Затем скомандовал незнакомцу: — Поднимайтесь!
Незнакомец неуклюже выкарабкался из своей берлоги. Выглядел он странно и одет был не менее странно: в одной нижней рубашке, выползающей из брюк, босой, с растрёпанными волосами. Господин Н. тут же приволок откуда-то костюм, ботинки, рубашку, шляпу и пальто и подал незнакомцу. Тот мгновенно оделся, преобразившись в довольно щеголеватого джентльмена.
Пригляделся я к своему удивительному пассажиру, к его внешности и подумал: «Человек как человек! Встретишь такого на улице, и в голову ничего плохого не придёт. Лицо, конечно, не русское, да мало ли каких людей с восточными и южными чертами лица в нашей стране не проживает!»
— Пойдёмте, — сказал майор новому «пассажиру» и пригласил его следовать за собой.
«Пассажир» безропотно подчинился.
Вслед за ним последовал без приглашения и «дипломат».
— Вы можете остаться здесь, — предупредил «дипломата» майор.
— Нет, нет, я должен следовать за ним — это мой подопечный!
Вчетвером мы прошли в помещение контрольно-пропускного пункта.
По пути «пассажир» с глубоким вздохом признался:
— Ох, как плохо чувствовать себя лётчику взаперти! Я ведь сам пилот!
— Пилот, летающий в чемоданах? — с презрением заметил я.
— Да, пришлось! — нехотя согласился тот.
Майор предложил «пассажиру» рассказать, как и почему он оказался в чемодане. Тот молчал, а Н. начал изворачиваться.
Я вспомнил, что в машине остался раскрытый чемодан, содержимое которого нам было неизвестно, и бросился к самолёту. Поднявшись в кабину, мы вместе с членами экипажа стали осторожно разбирать чемодан, опасаясь, как бы не оказался среди вещей какой-нибудь адовый сюрприз. Всякое случается!
Сверху лежало клетчатое одеяло, а под ним пальто. Дальше мы обнаружили резиновую грушу размером с футбольный мяч. Она, очевидно, предназначалась в качестве опоры для плеча в том случае, если бы чемодан поставили вертикально и человек, лежащий в нем, оказался повёрнутым головой вниз. Затем мы вынули костюм, рубашку, множество разноцветных галстуков с изображением восходящего солнца и золотого рога, а также больше дюжины носовых платков.
Под рубашкой, какие носят солдаты тропических колониальных войск, в углу чемодана, лежала кожаная кобура, а в ней — пистолет новейшей системы. Далее мы обнаружили два бутерброда с колбасой и сыром и две резиновые грелки.
В одной была вода для питья, а другая, по всей вероятности, заменяла стеклянную утку.
Судя по содержимому чемодана, путешественник основательно запасся всем необходимым в дорогу. В крышке перед замочными скважинами всё дерево было вынуто, как видно в целях вентиляции. Таким образом, было предусмотрено всё, чтобы чемоданный пассажир чувствовал себя в дороге сносно.
Значит, Н. отпер чемодан вовсе не потому, что «пассажир» задыхался… Так почему же? Но раздумывать долго над этим не было времени. Я должен был немедленно лететь дальше: торопили пассажиры, к тому же задержка в пути могла вызвать тревогу у тех «дипломатов», которые остались в Москве, чтобы отправиться транспортным самолётом. Они, конечно, следят за нашим рейсом, и прилети я не по графику во Львов, им нетрудно будет догадаться, что тайна их багажа раскрыта.
Я посоветовался с майором и начальником аэропорта, приготовился к отлёту, но настоял на том, чтобы майор сопровождал до Львова задержанных иностранцев.
— Хорошо, — согласился майор. — А там, во Львове, можно и с Москвой снестись, получить указание, как дальше поступить с задержанными.
Мы вылетели во Львов. В кабине одним человеком прибавилось. «Пассажир» то и дело искоса посматривал на своё чёрное логово.
Расстояние от Киева до Львова хотя и небольшое, но с необычным пассажиром на борту на этот раз показалось мне очень длинным.
Во Львове нас уже встречали. Документов у прибывших здесь не спрашивали, а только объявили, что самолёт дальше не полетит — ночёвка. Все направились прямо в гостиницу аэропорта. «Пассажира» мы сдали представителям пограничного командования. Меня попросили всё происшедшее изложить обстоятельно. Я сел писать.
Составленный следователем протокол и свидетельские показания, изобличающие господина Н., иностранец вынужден был подписать. Ведь это в его чемодане был обнаружен неизвестный «пассажир». Кроме того, Н. дал согласие на личный обыск с тем только условием, что вещи, принадлежащие ему лично, не будут подлежать изъятию.
Н. просчитался — он позабыл, что при нём имеются два поддельных заграничных паспорта, один из которых предназначался для второго шпиона, находящегося в чемодане, оставленном в Москве.
Для Н. теперь не было смысла продолжать полёт на запад. Он попросил отправить его из Львова обратно в Москву.
Просьбу его удовлетворили. Остальных пассажиров на следующий день доставили в Прагу.
После мы узнали, что разоблачённый нами субъект оказался агентом заграничной разведки. Он выполнял крупные диверсии и на этот раз вёз важные секретные сведения, которые были нанесены шифром на узорчатые носовые платки и галстуки.
Шпион был лётчиком и имел юридическое образование. Шефы снабдили его всевозможными поддельными документами, вплоть до пропусков с правом доступа в ответственные советские учреждения. Последняя диверсия была им провалена. Чтобы замести следы провала и избежать ареста, шпион рискнул перебраться через границу в чемодане.
Трудно точно сказать, что могло бы произойти в воздухе, очутись на борту самолёта сразу все три чемодана со спрятанными в них вооружёнными шпионами, опекаемыми двумя «дипломатами». Стук в чемодане был, конечно, не случайным. Возможно, это был сигнал к началу действия. Шпион, по-видимому, предполагал, что все диверсанты в сборе.
На предварительном следствии ему был задан вопрос:
— Зачем вам понадобился в чемодане пистолет?
Пожав плечами, он с наигранной непринуждённостью ответил:
— Так, на всякий случай!
Становилось совершенно ясным, какой именно «случай» имел в виду матёрый диверсант.
Через несколько дней в печати появилось сообщение, вызвавшее чувство глубокого удовлетворения у членов нашего экипажа. В нем говорилось, что секретарю и атташе некоего иностранного посольства в Москве, господам Р. и Н., за поведение, несовместимое со званием дипломатов, предложено покинуть пределы Советского Союза.
Командование Главного управления Гражданского воздушного флота отметило специальным приказом этот случай в нашей лётной практике и представило к награде весь экипаж.
…Прошло пятнадцать лет с тех пор, как произошёл этот инцидент в воздухе, но я и теперь не могу забыть его. Провожая в самостоятельный международный рейс молодого пилота, я напоминаю, ему о давно минувшем случае и говорю: «Будьте бдительны!»
Долг советского пилота быть неустанно зорким. На нашем воздушном пути могут встретиться самые неожиданные опасности, причем не только технического характера!..
Пересаживаюсь на реактивный самолёт
Вскоре меня, по моей просьбе, перевели на внутренние линии. Я стал летать рейсовым пилотом по маршруту Москва — Хабаровск — Москва. Без малого семь тысяч километров! С любопытством приглядывался я к происшедшим здесь за последние годы переменам.
Вся эта трасса, которую в своё время начали эксплуатировать примитивными способами, оказалась теперь оборудованной современными наземными средствами радионавигации. Аэродромы были прекрасно освещены и легко принимали самолёты даже в ночное время, всюду были выстроены современные взлётно-посадочные дорожки, удобные и красивые типовые аэровокзалы.
Но не только оборудование трассы вызывало восхищение, радовал невиданный расцвет уральских и сибирских городов. Советские пятилетки изменили лицо этих мест. Здешние жители, возможно, и не замечали этого, но нам, лётчикам, с воздуха эти разительные перемены были хорошо видны. Под нами всякий раз расстилалась как бы наглядная карта экономического расцвета нашей страны.
Довелось мне летать и в Заполярье. Поднимаясь с Красноярского аэродрома, мы летели на север и, следуя вдоль русла Енисея, садились в заполярном речном и морском порту Дудинка. Полёты по этой трассе требовали исключительной осторожности и внимания. И летом и зимой здесь нередки обледенения, не говоря уже о том, что довольно большие отрезки трассы полностью лишены каких бы то ни было, не исключая аварийных, посадочных площадок. Лётчик в таких условиях должен, как правило, полагаться только на безукоризненную работу машины.
На сибирских магистралях наш экипаж приобрел огромный опыт рейсовых полётов в самых трудных метеорологических условиях. Здесь особенно чувствовалось, что транспортная авиация в старом виде не может быть широко применена. Прежде всего дело касалось скорости: увеличение мощности моторов неизбежно приводило к утяжелению конструкции. Транспортная авиация на поршневых двигателях явно приблизилась к потолку своей скорости. Другое дело — реактивная авиация, о растущих успехах которой мы узнавали каждый день. Так родилась идея выделить группу реактивных самолётов для перевозки грузов и почты на линии Москва — Хабаровск. Выбор этой самой протяжённой трассы был не случаен. Реактивный самолёт доставит почту или пассажиров из Москвы в Хабаровск всего за одиннадцать часов, включая посадки, то есть в двадцать раз быстрее, нежели курьерский поезд, и в три раза быстрее поршневых транспортных машин.
В 1953 году была создана первая группа из семи пилотов гражданской авиации, которых направили обучаться пилотажу на реактивных самолётах. В этой группе я оказался вместе со своими старыми боевыми товарищами, однокашниками по Тамбовской лётной школе: Константином Петровичем Сапёлкиным и Виктором Артуровичем Филоновым. Из всей группы один лишь Сапёлкин успел познакомиться с реактивной техникой.
Случилось это вскоре после занятия Берлина советскими войсками.
— Сел я на берлинский аэродром Шенефельд, — рассказывал нам Константин Петрович. — Глазам своим не верю: стоят в ряд целехонькие «Хейнкели-111», последняя новинка немецкой авиационной техники. Ну, как тут было удержаться — не посмотреть на это чудо? У какого лётчика не заблестят глаза при виде самолёта незнакомой конструкции!
Забыв про осторожность и не заметив снаружи ничего подозрительного, Сапёлкин смело забрался в машину и занялся исследованием кабины управления. Внимательно осмотрел доску приборов — на ней всё было знакомо, расположено почти так, как и на наших советских самолётах, если не считать надписей под приборами на немецком языке. Но справа пилот увидел какой-то красный рычажок. Он принял его за рукоятку шасси и с силой потянул на себя. В этот же момент на верху кабины, прямо над головой пилота, открылся люк.
«Вот тебе и раз! — подумал Сапёлкин. — Кабина герметизирована, а вместо шасси — люк». Он встал на пилотское сиденье и выглянул в отверстие: вокруг самолёта стоял его экипаж, готовый по первому зову ринуться на помощь командиру.
— Ну, чего рты поразевали? — прикрикнул на них Константин Петрович. — Я же говорил, никакой мины нет!
Он снова уселся на пилотское место. Хотелось попробовать завести самолёт. Над самым сиденьем Сапёлкин обнаружил красную ручку, назначение которой было непонятно. Решительным жестом он повернул рычаг. И тут случилось нечто невероятное. Раздался взрыв, и пилота с силой выбросило через раскрытый люк, подняв в воздух на высоту четырёх-пяти метров.
Члены экипажа бросились врассыпную, не сомневаясь, что самолёт заминирован.
Константин Петрович тяжело рухнул на крыло — даже самолёт покачнулся. А потом, придя в себя, медленно повёл одной рукой, другой… Перелома, к счастью, не было — пилота спасло добротное меховое обмундирование. Что же произошло? Оказывается, сработала катапульта.
Дело в том, что при полёте на больших скоростях нельзя выброситься на парашюте: мешает поток встречного воздуха. Поэтому для прыжка с парашютом в таких случаях предусмотрено специальное сооружение — катапульта. Силой порохового взрыва, преодолевающей встречный воздушный поток, катапульта выбрасывает лётчика из самолёта. Красная загадочная ручка, за которую дернул Сапелкин, привела в действие спусковой механизм, который и заставил недоумевающего Константина Петровича совершить это воздушное сальто…
Мы потом долго ещё поддразнивали Константина Петровича:
— Костя, расскажи, как ты в Берлине без самолёта летал!
Со свойственным ему добродушием Сапёлкин охотно повторял свой рассказ.
Осваивая реактивную технику, каждый из нас испытал на себе катапультирование. Учились мы напряжённо. Техника управления реактивным самолётом значительно отличается от пилотирования обычной машины с поршневыми двигателями.
С волнением приступила наша группа к первым полётам. Припоминается один из первых моих рейсов на реактивном самолёте конструкции Ильюшина. Продолговатый фюзеляж его с короткими по бокам крыльями и поднятым кверху хвостом занял линию старта.
Окинув взглядом приборы, я увеличил до максимума обороты турбины и отпустил тормоза. Самолёт покатился вперёд; под его брюхом сплошной лентой быстро помчались серо-белые плиты взлётной дорожки.
Незначительным движением штурвала на себя я поднял переднее колесо, а вслед за этим прекратились толчки, исчезло ощущение точки опоры. Самолёт стремительно стал набирать высоту, ожила стрелка высотомера — она быстро отсчитывала одну тысячу метров за другой. Я взял направление на восток.
Ни тряски, ни вибрации, чувствую только лёгкие толчки, какие бывают, например, когда быстроходный катер реданом ударяется о встречную волну. Достигаю заданной высоты — десяти тысяч метров. Кабина загерметизирована. Безмятежная тишина. Правда, двигатель реактивного самолёта производит изрядный шум, если прислушаться к нему с земли, но моя скорость околозвуковая, поэтому я в кабине не слышу грохота собственного двигателя.
Стремительно несусь под лучами палящего солнца, вдалеке от бурь и непогод — они разыгрываются где-то там, под облаками. Самолёту эти стихии теперь не страшны. Одно непривычно — отсутствие винта; он прежде постоянно маячил перед глазами. С наслаждением ощущаю состояние полного покоя, будто самолётом управляет не разумная воля человека, а неведомая сила.
Вокруг меня необозримый воздушный океан. Чудится, я один во всей стратосфере. Но это только чудится. Навстречу мне с молниеносной быстротой только что промелькнул другой реактивный самолёт, летящий с востока на запад. На встречных направлениях лётчики реактивных самолётов видят друг друга какие-нибудь считанные секунды.
Самолёт мелькнул и исчез, как мираж. Вслед за ним отчётливо потянулся белый волнистый, точно облачная полоса, шлейф, вычерченный им на фоне неба. Следуя по этой белой ленте, оставленной в небе неизвестным товарищем, я могу двигаться к месту назначения, а товарищ может воспользоваться моим следом.
Впрочем, мы вооружены такими мощными средствами радионавигации, которые избавляют нас от необходимости пользоваться подобным ориентиром. Не успеваю передать по радио пролёт одного контрольного ориентира, как настраиваюсь уже на другой. А вот и пункт посадки! Снижение, кабина разгерметизирована, шасси выпущено.
— Заход на посадку разрешаю! — слышу в наушниках шлемофона голос диспетчера командного пункта.
На самолёт быстро надвигается аэродром. Мелькнула бетонная полоса. Легкий толчок от соприкосновения резины с плитами посадочной дорожки, и самолёт гасит скорость. Используя инерцию, я заруливаю на стоянку. Полёт окончен.
Свердловск! Всего два с половиной часа назад я находился в Москве…
Это было в 1954 году, а уже в 1955 году, во время авиационного парада, москвичи впервые наблюдали полёт нового многоместного пассажирского реактивного самолёта. Сейчас такие самолёты регулярно курсируют на наших воздушных внутренних и международных линиях.
Если лететь на реактивном самолёте с востока на запад, то пассажир, вылетев, допустим, из Новосибирска в 4 часа утра по местному времени, прибудет в Москву тоже в 4 часа утра, только по московскому времени. Иначе говоря, реактивный самолёт несётся с быстротой, почти равной скорости вращения Земли вокруг её собственной оси.
Москва — Якутск на «ТУ-104»
15 сентября открылось регулярное воздушное сообщение на линии Москва — Иркутск, затем Москва — Тбилиси, Москва — Ташкент, Москва — Хабаровск.
19 октября самолёт «ТУ-104» впервые в мире пересёк заснеженные вершины высочайшего горного барьера земного шара — Гималаев. С восхищением осматривали самолёт жители Дели и Рангуна. Это событие нашло живой отклик в Индии и Бирме.
В первой половине апреля 1957 года два «ТУ-104» вылетели почти одновременно: один из них пересёк экватор и приземлился в столице Индонезийской республики — Джакарте, а второй из Москвы взял курс на юг, перевалил через водную гладь Чёрного моря, заснеженные вершины Кавказских гор и приземлился в Анкаре.
В Турции население мало знало об успехах и достижениях Советского Союза: информация о нашей стране тамошней печатью и радио подавалась по рецептам сторонников «холодной войны». Неудивительно, что появление нашего «ТУ-104» в этой стране вызвало сенсацию.
И специалисты, и рядовые экскурсанты буквально засыпали экипаж бесчисленными вопросами. Особенно недоверчиво публика отнеслась к сообщению, что скорость самолёта доходит до тысячи километров в час и что для обратного рейса из Анкары в Москву не требуется заправки самолёта горючим.
Впрочем, турки вскоре воочию убедились, что это не выдумка. Что же касается скорости, то её взялся проверить командующий турецкой военной авиацией. Он послал два своих истребителя «сопровождать» гостя. Экипаж «ТУ-104», увеличив число оборотов турбин, перевел самолёт на максимальный крейсерский режим: стрелка указателя скорости подходила к предельным цифрам. Турецкий «эскорт» быстро сдал и еле заметными точками мелькал в белом хвосте-шлейфе, оставляемом нашим самолётом. Ещё несколько мгновений — и «сопровождающие» совсем исчезли в синеватой дымке горизонта.
Реактивные самолёты «ТУ-104» облетают зарубежные пространства во всех направлениях земного шара, бороздят и воздушные просторы нашей необъятной Родины. Эти самолёты можно видеть и над песками Средней Азии, и над горными вершинами Кавказа, и у Тихоокеанского побережья.
Мне хочется рассказать читателям о полёте в Якутск, когда самолёт «ТУ-104» впервые приземлился в далёком и суровом крае вечной мерзлоты. Этот полёт был серьёзным экзаменом как для самолёта, так и для его экипажа.
Рано утром 25 марта 1957 года у меня на работе зазвонил телефон. Я взял трубку.
— Товарищ Михайлов, — раздался голос главного маршала авиации П. Ф. Жигарева, — поручаю вам организовать и выполнить полёт по маршруту Москва — Иркутск — Якутск. В Якутске вы были недавно, проверяли возможность посадки самолёта «ТУ-104». Вам и карты в руки. Помните, к полёту надо тщательно подготовиться, хорошенько продумайте всё!
— Есть, товарищ главный маршал! — ответил я. — Задание будет выполнено!..
26 марта, поздно вечером, мы вылетели на «ТУ-104» по маршруту Москва — Иркутск — Якутск.
Огромное расстояние в шесть с половиной тысяч километров от Москвы до Якутска мы много раз покрывали на самолёте с поршневыми двигателями «ИЛ-12», а сейчас этот путь нам впервые предстояло совершить на реактивном самолёте. Вспомнилось недавнее прошлое нашей авиации.
По мере движения на восток расстояние между самолётом и землёй всё увеличивалось. Серебристая птица всё выше забиралась под тёмно-синий купол небосвода, по которому рассыпанным бисером искрились бледные холодные звёзды.
Вот мы достигли высоты десяти тысяч метров. Приближаемся к Волге. Вокруг великой русской реки видим огромное зарево огней, узнаём Горьковскую область с её крупнейшим машиностроительным центром — городом Горьким. Пестреют посёлки лесорубов и сплавщиков в Заволжье, приволжские колхозные сёла, многочисленные пристани и полустанки. И всё это электрифицировано.
Всё дальше и дальше уходит на восток наш самолёт. Внизу, в разрыве облаков, то и дело мелькают залитые электрическим светом советские города и сёла. Словно яркими цветами усыпана родная земля. Какой знакомый и близкий сердцу пейзаж! И как же преобразилась за годы советской власти наша Родина! Она расцвела бесчисленными, как звёзды, электрическими огнями новостроек.
Мы приближаемся к Уральскому хребту. Некоторые из наших спутников переводят стрелки часов. Самолёт перелетает границу Европы и Азии. Свердловск — один из крупнейших центров социалистической промышленности и культуры в нашей стране. За годы пятилеток этот город, ставший арсеналом нашей индустрии, превратился в крупный узел воздушных сообщений. Через него ежедневно в четырёх магистральных направлениях проходят пассажирские, почтовые и грузовые самолёты — с запада на восток и с востока на запад, а также на север и юг. Свердловск — центр крупнейшего экономического района.
После кратковременной стоянки в Свердловском аэропорту мы пролетаем дальше над плодородными равнинами Сибири, выходим на многоводные Иртыш, Обь — великие водные сибирские пути.
Впереди — Новосибирск.
Часто мы возим сюда пассажиров, почту, ценные грузы — детали для машиностроительных заводов, запасные части для тракторов.
Одна из новых улиц Новосибирска названа славным именем трижды Героя Советского Союза лётчика Александра Покрышкина, в прошлом рабочего новосибирского завода.
И, глядя на оживлённые улицы, площади, мосты этого прекрасного центра Сибири, на замечательное здание театра — он стоит в ряду с самыми большими в стране, — трудно поверить, что всего сорок лет назад здесь стоял маленький захолустный городишко Ново-Николаевск…
Воздушная трасса Новосибирск — Красноярск — одна из самых оживленных; кого только не встретишь на ней!
Новые воздушные пути ответвились от Красноярска на Алтай, в районы освоения целинных и залежных земель, в тайгу, на северные лесоразработки, на Крайний Север, в Норильск.
Старик лесоруб, который сел в самолёт в Новосибирске, рассказывал мне о прошлом, которое сегодня кажется стародавней былью. Рассказывал и будто морщился, вспоминая, как хищнически в царской России истребляли сибирские леса, как неделями горела тайга и подолгу из-за дыма люди не видели солнца. А сейчас по всей трассе Новосибирск — Красноярск дымят мощные, оснащённые новейшей техникой лесозаводы. Вокруг них живописно раскинулись рабочие поселки, электростанции, клубы, школы.
Пролетаем множество крупных промышленных строек, далёкий Красноярск, видим снежные вершины Саянских гор, а вскоре показывается и бурная Ангара.
Вспоминаю, как однажды в разгар зимы мне пришлось лететь из Красноярска самолётом «ИЛ-12» на Крайний Север. Наш экипаж долго и тщательно готовился к полёту; в мельчайших подробностях изучали мы предстоящий полёт по безлюдной тайге, боялись заблудиться. Отмечали все водные контрольные ориентиры; основным из них являлся, как показывала карта, самый приметный — река Енисей. Каково же было наше изумление, когда в полёте мы обнаружили совсем иные, не нанесённые на карту ориентиры: освещённые электрическим светом поселки, новые стройки и гудрон дороги, светящиеся точки беспрерывно движущихся по шоссе автомашин. Напрасны были наши опасения — заблудиться в такой тайге стало мудрено.
Как ни странно, но мы чувствовали себя подобно герою очерка, напечатанного несколько лет назад в «Огоньке». В нём говорилось об одном иностранном лётчике, совершавшем скоростной полёт вокруг Земли. Летя над советской территорией, он руководствовался довольно подробной маршрутной картой, в которой были точно обозначены леса и степи, горы и реки. А под крылом самолёта на месте таёжной глухомани пилот видел города и заводы, вместо непроходимых болот — широкие ленты асфальтированных дорог. Сбитый с толку, он вынужден был приземлиться, решив, что уклонился от курса. Карта подвела иностранца — она была пятилетней давности. Жизнь обогнала географию!
Под холодными лучами искрящихся звёзд наш корабль стремительно продвигался вперёд навстречу восходящему солнцу. Вдали, у самого горизонта, вырисовывалось светло-голубое небо, забрезжил рассвет. Вырвавшиеся из-за горизонта светло-розовые лучи солнца озарили восток, а вскоре показался отливающий золотом и сам огненный диск; он рос и ширился, затопляя светом необозримые дали.
Близился Иркутск — другой оживлённый воздушный перекрёсток страны, центр воздушной Транссибирской магистрали. Старый купеческий Иркутск — город золотоискателей и скупщиков пушнины, — как и Новосибирск, стал сейчас крупнейшим промышленным и культурным центром всей Восточной Сибири.
Вблизи от Иркутска расположился шахтёрский город Черемхово. На всём сравнительно небольшом расстоянии от Черемхова до Иркутска видим море огней. Один за другим тянутся заводы, рабочие посёлки. Над шахтами вздымаются копры, островерхие терриконы, похожие на пирамиды, — многочисленные холмы выброшенной из угольных шахт пустой породы.
В шестидесяти километрах от Иркутска, среди сосновых чащ, вырос совсем юный город — Ангарск. Ровные асфальтированные улицы, красивые многоэтажные дома, школы, клубы. И живёт в этом городе в основном юное, как он сам, племя: молодые строители, приехавшие сюда по зову сердца.
Мы приближались к Иркутскому аэродрому. В предутренней туманной дымке город только что пробуждался. Впереди по курсу, среди лесистых холмов и склонов, ровным полотном поблёскивала на солнце взлётно-посадочная полоса. Механик приготовил к выпуску шасси, штурман по локатору уточнял ориентиры, проверял курс захода на посадку с прямой. Пилоты держали связь с командной радиостанцией.
Путь от Москвы до Иркутска, равный четырём тысячам пятистам километрам, мы проделали за шесть лётных часов. Первый этап маршрута завершён.
В Иркутске я пересел на летящий по расписанию в Якутск самолёт «ИЛ-14». Прежде чем продолжать наш полёт, мне необходимо было проверить на месте, подготовлена ли в Якутске посадочно-взлётная полоса для приема необычно большого «ТУ-104». Надо было учесть даже такие мелкие препятствия на пути, как угол забора или телеграфный столб — они могли помешать посадке реактивного самолёта.
28 марта я возвратился в Иркутск, чтобы вести отсюда самолёт «ТУ-104» в Якутск. За тридцать минут до начала рейса экипаж, а также наши спутники — якутские журналисты — собрались у самолёта. В 1 час 10 минут по московскому времени, или в 7 часов 10 минут по якутскому времени, зашумели, слегка засвистев, обе турбины: мощные потоки газов устремились в реактивное сопло. Самолёт установлен для старта.
— Взлёт! — подаю команду экипажу.
Машина рассекает своим остриём пепельно-матовую облачность. В светло-голубом небе справа тонкой изогнутой чёрточкой поблёскивает усечённый серп луны. Мы достигаем высоты семи тысяч метров. Чем выше поднимается самолёт, тем всё больше и больше справа озаряется восток. Невозможно уследить за сменой красок. Светло-голубой фон небосвода переходит в бледно-розовый и тут же превращается в оранжевый, багряно-красный…
Самолёт набирает ещё пятьсот метров, и из-за горизонта показывается золотистая верхушка сияющего диска солнца. Оно растёт и ослепляет нас всё больше. Опускаю светофильтры, чтобы солнечные лучи не мешали вести наблюдение за приборами. Миновав тонкий слой облаков, далеко внизу, в синеватой дымке, вижу извилистые заснеженные речки, сопки, холмы и возвышенности, покрытые тёмными массивами леса.
Проходит двадцать минут — мы на высоте одиннадцати тысяч метров. Перевожу самолёт в горизонтальный полёт. Летим со скоростью восемьсот пятьдесят километров в час: мешает встречно-боковой ветер. Автопилот не включён — ведём машину поочерёдно с Филоновым. Одновременно он держит связь с попутными аэропортами. Штурман, почти не отрываясь, смотрит в трубу локатора, уточняет местонахождение самолёта, чтобы не отклониться от контрольных ориентиров.
Прогноз погоды, полученный нами в Иркутске, полностью подтверждается: до самого Киренска ясное небо. Мерно работают двигатели, в самолёте ни качки, ни вибрации — поставьте на стол книгу ребром, и она не шелохнётся. Настроил автопилот: пусть теперь этот чуткий прибор сам ведет самолёт. Под нами слева, далеко внизу, тёмным фоном проплывает могучая лесистая тайга; её массив порой пересекается белыми зигзагообразными линиями замёрзших речушек. Тут и там проступают седые пятна скованных льдом озёр; по ним мы сличаем карту с местностью.
Однообразный таёжный пейзаж вскоре меняется. Справа, насколько хватает глаз, тянутся скалистые гребни гор, окаймляющие берега Байкала. Дальше, на север, вдоль нашего пути величественно выделяется хаотическое нагромождение горных массивов, хребтов, скал, остроконечных пиков, снежных вершин.
У города Киренска мы пересекаем Лену. Теперь она вьётся справа от нас, в долине между склонами и холмами. От Олекминска берега пошли крутые, скалистые, кое-где круто спускающиеся к реке. Лена покрыта льдом: в конце марта здесь ещё суровая зима. Прибрежные известняки образуют столбы причудливой формы.
Ландшафт так быстро сменяется, что не успеваешь окинуть взглядом, не только удержать в памяти места, где таятся несметные богатства.
По левому борту самолёта между долинами рек Лены и Енисея темнеют безбрежные просторы тайги. По руслу реки Нижней Тунгуски, по отрогам гор, падям и болотам изучали геологи нераскрытые тайны края. После долгих поисков, упорного труда ими были найдены кимберлиты; эти алмазосодержащие породы по качеству алмазов не уступают знаменитым южноафриканским камням. Одно из богатейших месторождений кимберлитов назвали «Зарницей».
Мы пролетаем Олекминские месторождения каменной соли, мощные источники горючего газа в районе устья реки Вилюй. Якутия — край почти нетронутых природных богатств: золото, олово, слюду и многие-многие другие полезные ископаемые таит щедрая обширная земля. По богатству земных недр, бескрайных лесов и многоводных рек Якутия вряд ли имеет себе равных в мире.
Поистине сказочные богатства веками покоились в земных недрах края! Советские геологи разбудили спящего богатыря. Там, где раньше шумела непроходимая тайга, теперь вырастают благоустроенные посёлки с уютными домиками, школами и даже со своей электростанцией. Каждый якутский поселок имеет свой собственный транспорт, катера, тракторы, а нередко и самолёты. И неудивительно: здешние расстояния огромны…
В районе Якутска начало побалтывать. Полагая, что скоро минуем воздушное волнение, я не стал изменять высоту полёта. Вопреки нашему предположению, качка стала усиливаться. Самолёт начало тянуть в сторону от курса. Рулём поворота стараюсь держать нужное направление.
В этих условиях пилот должен уметь реагировать быстро, энергично и чётко. Хотя мы находились уже на ближних подступах к Якутску, я, чтобы избавиться от болтанки, вынужден был снизить самолёт на пятьсот метров. Время приближалось к четырём часам по московскому счёту, а здесь уже близился полдень. До Якутска оставалось тридцать километров. Я начал снижаться. Отчётливо стали видны окраины города. Толпы людей на улицах провожали взглядом наш самолёт. Это те, кто не успел попасть на аэродром.
Впереди на сверкающем фоне снежной равнины всё яснее и яснее выделялась тёмная линия посадочной полосы. С убранными шасси самолёт вихрем пронёсся над аэродромом. Встречающие восторженно приветствовали появление «ТУ-104». Заход на посадку; самолёт строго вычертил траекторию снижения, высота уменьшилась, колёса коснулись земли.
Рулём поворота твёрдо выдерживаю направление движения, применяю тормоза, скорость падает, но не быстро. Что делать? Посадочная полоса стремительно уходит под нос самолёта. А что, если длина этой полосы окажется недостаточной? Филонов подсказывает:
— Жми на тормоза!
Половину дорожки уже прошли; в этот момент скорость самолёта заметно гаснет. Ещё сильнее нажимаю на тормозные педали, и наш «ТУ» становится послушным.
Метров за шестьсот до конца взлетно-посадочной полосы мы остановились и подрулили к месту стоянки. Уф! Как будто стокилограммовый груз с плеч сняли… Через два часа тридцать пять минут после вылета из Иркутска мы оказались в Якутске!
Александр Васильевич Сназин, принимавший самолёт, рассказывал нам, какое впечатление произвел на него наш полёт:
— Вижу, ваш «ТУ» приближается к посёлку. Ещё мгновение — и он несётся над землёй, точно громадная птица, с широко раздвинутыми крыльями. Ноги дрожат, волнуюсь. Машина стала приземляться, не выдержали мои нервы: закрыл глаза, думаю — разбилась. Потом замечаю: среди пыльной завесы показался серебристый хвост — стало быть, цел «ТУ-104»! А что будет дальше? Ведь он на большой скорости катится вперёд, а там, за посадочной полосой, всякие неровности, не говоря уже о высоковольтной линии. Отлегло от сердца лишь после того, как машина остановилась точно на заранее намеченном для неё месте!.. Пятнадцать лет работаю в авиации, но ничего подобного не доводилось раньше испытывать!
Сназин волновался не случайно: такие самолёты, как наш, садятся только на бетонированные аэродромы. А здесь, в Якутии, «ТУ-104» впервые в практике тяжёлых реактивных самолётов садился прямо на грунтовую полосу, покрытую снегом.
Живейший интерес к самолёту проявило не только население Якутска, но и жители всех окрестных деревень. Толпы народа непрерывным потоком стекались к месту стоянки «ТУ-104».
Всюду слышен был один и тот же разговор:
— Подумать только, за два часа тридцать пять минут из Иркутска!
На аэродроме было людно, как в большой праздник. Тут были люди разных профессий и занятий, рабочие, служащие, школьники и даже глубокие старики оленеводы.
Торжественная встреча на стоянке самолёта вылилась в массовое торжество.
Чуть ли не весь город перебывал в гостях у экипажа.
Ко мне обратилась группа гостей с просьбой рассказать им о реактивном самолёте. Тут были депутаты Верховного Совета Якутской республики, рабочие, школьники.
— Какое самочувствие у пассажиров вашего самолёта? Есть ли разница по сравнению с полётом на обычном аэроплане? — допытывался у меня рослый быстроглазый школьник.
— Конечно, разница в ощущении большая, — охотно отвечал я. — На реактивном самолёте пассажир не чувствует пи тряски, ни вибрации, ни шума. Полный покой! Да и летит «ТУ» высоко — «потолок» его превышает тринадцать тысяч метров.
— Много ли на вашей машине двигателей? — спросили посетители.
— Двигателей всего два, но это мощные реактивные двигатели, работающие по принципу ракеты. Расположены у бортов машины, в корневой части крыла. Такое расположение их обеспечивает устойчивость и безопасность полёта даже в том случае, если один из двигателей выйдет из строя. Но порча их практически маловероятна, особенно в мирных условиях.
Слушатели были очень удивлены, узнав, что «ТУ-104» может свободно пересекать циклоны, зоны облаков с обледенением, что крыло и хвостовое оперение машины, агрегаты силовой установки и стекла фонаря кабины оборудованы противообледенительными устройствами.
Да и как не удивляться новшествам авиационной техники! Наши «ТУ-104» снабжены современным радионавигационным, радиолокационным и радиосвязным оборудованием, средствами слепой посадки и автоматического пилотирования. Это позволяет экипажам совершать полеты днем и ночью, независимо от метеорологических условий, выполнять регулярные рейсы на дальние расстояния в любое время года.
У самолёта отличная устойчивость и управляемость.
Гостей поражает множество приборов, систем, агрегатов, ручек, рычагов, размещённых в пилотской кабине.
— Трудно управлять таким огромным кораблём? — обращается ко мне с вопросом якут-пионер.
— Да, — отвечаю я любознательному мальчишке, — на первый взгляд многим кажется, что управлять этой машиной мудрено. А между тем она не менее послушна в управлении, чем любая другая машина. В кабине пилотов есть автопилот, пилотажно-навигационное оборудование. Здесь всё продумано — от совершенной техники пилотажа до покоя и удобств пассажиров.
Около шести тысяч человек успело побывать внутри самолёта и намного больше толпилось вокруг него, завидуя счастливчикам, осмотревшим все кабины и салоны.
В свою очередь, наши гости рассказали нам много интересного о том, как начинали прокладывать первую авиатрассу в Якутии. Первый самолёт в Якутске население увидело 8 октября 1925 года. На пароходе был доставлен в город агитсамолёт Сибосоавиахима «Красная звезда». Самолёт был маленький, изрядно поношенный, построенный итальянским авиационным заводом. Осенний день выдался тёплый. На городском лугу собрались толпы народа. В этот день некоторым смельчакам удалось получить первое воздушное крещение: они сделали два-три круга над Якутском.
24 октября «Красная звезда» совершила полёт от Якутска до села Покровка и обратно. В дни общего торжества по случаю появления в крае первого самолёта закончила свою работу экспедиция общества «Добролёт»; ею были произведены изыскания воздушной трассы от станции Рухлово, Амурской железной дороги, через Алдан в Якутск. Экспедицию возглавляли лётчики Корф и Романов. Экспедиция свой тяжёлый путь поисков площадки для посадки самолётов начала 6 июня. Двигались по бездорожью на оленях, лошадях, в собачьих упряжках.
Расстояние в тысячу двести километров экспедиция прошла преимущественно пешком, завершив свой поход только в конце ноября. В пути погибла при этом половина лошадей и оленей.
В 1928 году после длительной подготовки было решено открыть постоянную воздушную линию Иркутск — Якутск, первую по времени и единственную линию, которую обслуживали гидросамолёты.
30 июня, в день празднования десятилетия со дня установления советской власти в Якутии, в Якутск первым рейсом на гидроплане «Моссовет» прилетели уже знакомые якутянам лётчики: Корф, Демченко, бортмеханик Винников.
Газета «Автономная Якутия» писала тогда:
«Открытие воздушной линии Иркутск — Якутск есть величайший политический фактор в истории Советской Якутии, — фактор, который мог получить своё фактическое осуществление только в результате Октябрьской революции».
Больше тридцати лет прошло с того дня, как появился первый самолёт в Якутске, а сейчас нет ни одного, даже самого отдалённого района в республике, куда бы не летали самолёты. Свыше сорока тысяч километров воздушных путей теперь в разных направлениях опоясывают Якутию.
На следующий день, с рассветом, мы прощались с Якутией.
Наш самолёт летел на прежней высоте — одиннадцать тысяч метров, со скоростью приблизительно равной скорости вращения Земли. Под нами проплывали один за другим контрольные ориентиры. Вскоре мы очутились на ближних подступах к Москве, точно в заданное время приземлились в аэропорту Внуково.
Расстояние в шесть тысяч километров Якутск — Москва «ТУ-104» преодолел за восемь с небольшим летных часов, сделав в пути всего лишь две посадки: в Иркутске и Омске.
Полёт на Камчатку
Бушует осенняя непогода. Непроглядная тьма сгустилась над Внуковским аэродромом. Яркие лучи прожекторов освещают готовый к старту сигарообразный «ТУ-104». Серебристый самолёт будто потемнел от непрерывного дождя. В свете прожекторов отчётливо виден номер машины: 5413. Этому реактивному кораблю и его экипажу выпала ответственная и почётная задача — проложить воздушный путь до Камчатки. Москва — Камчатка — самая длинная в мире континентальная воздушная трасса; свыше девяти тысяч километров! Правда, до Хабаровска мы будем лететь по «проторённой» воздушной дороге, но последние две тысячи километров — весьма сложные и ещё не изведанные; по ним «ТУ» не летал. Нам предстоит преодолеть всегда неспокойное Охотское море, снижаться меж гор и сопок, порой возвышающихся более чем на три с половиной тысячи метров. Гейзеры, действующий вулкан, тёплое морское течение Куросиво создают на этом отрезке трудные для перелёта атмосферные условия.
Но мы настроены бодро: для пробного — «технического», как у нас называют, — рейса экипаж подобрался отличный.
Штурман Калинин в последний раз проверяет аппаратуру, просматривает карту, уточняет маршрут полёта, заранее готовясь к тому, что, возможно, придется лететь только по приборам. Хлопочет бортрадист; на его обязанности обеспечить связь со всеми радиостанциями вдоль трассы и с Москвой. Он изучает позывные радиостанций до пункта первой посадки — Омска.
А дождь всё хлещет и хлещет. Небо беспросветное, по-осеннему неприветливое. Должно быть, потому нам так долго не дают разрешения на взлёт. Наконец в 19 часов 30 минут из командно-диспетчерского пункта по радио слышим команду:
— 5413! Запуск двигателей разрешаю.
Заработала одна турбина, за ней — вторая. Дан старт.
В памятный вечер 24 октября 1957 года, незадолго до празднования сороковой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, «ТУ-104» отправился в свой первый рейс на Камчатку. Он должен был открыть новую воздушную трассу для регулярного сообщения на реактивных самолётах.
Летим, окутанные толстым слоем облаков. Стеклоочиститель едва успевает сгонять струйки воды, дождь не унимается. Затем поднимаемся на высоту пять тысяч метров, облака остаются далеко под нами. Вверху открывается искрящееся звёздами тёмно-синее, почти чёрное небо. Поднимаемся ещё выше, летим на высоте десять тысяч метров.
Под Свердловском облака исчезли, и сразу засверкали огни индустриального Урала. Первая наша посадка в Омске. Участок пути Москва — Омск мы пролетели за два часа пятьдесят минут, идя со скоростью восемьсот восемьдесят километров в час.
Дальше летим на Иркутск. Вот тонкой полоской осветился восточный край небосвода. Полоска эта всё ширилась и росла, переливаясь чистыми цветами радуги. Потом солнечные лучи, будто вырвавшись из невидимого плена, с силой ударили в нос корабля, обильными потоками устремились вниз к Ангаре. Заискрилось, засверкало в розовых лучах восходящего солнца разлившееся на много километров Иркутское море. Давно ли мы пролетали здесь, а как изменился глухой таёжный край! Мы, пилоты, как хорошему другу, радуемся каждому новому ориентиру и любовно заносим его на свои маршрутные карты.
Короткая остановка в Иркутске, и следуем дальше в Хабаровск. Весь полёт от Москвы до Хабаровска занял немногим более десяти часов. Теперь потянутся самые трудные, полные для нас неожиданностей и загадок две тысячи километров пути.
От Хабаровска мы летим вначале вдоль извилистого Амура. На высоте шесть тысяч метров земля здесь исчезает из поля зрения: снизу, сверху и по сторонам — непроницаемая толща слоистых облаков. С инструктором-пилотом Шапкиным ведем поочерёдно самолёт, ориентируясь лишь на показания приборов. Радист аккуратно поддерживает связь с Хабаровском, телеграфируя одновременно о вылете в Петропавловск-на-Камчатке.
Чтобы пробить облачность, поднимаемся на высоту десять тысяч метров. По расчетам, пора быть Сахалину, но внизу по-прежнему всё затянуто плотными кучевыми облаками. Причудливые нагромождения облаков, тянущиеся до самой Камчатки, напоминают полярный ландшафт, бескрайные снежные просторы Арктики. Тысячекилометровый прыжок через Охотское море мы совершаем как бы с закрытыми глазами, доверяясь лишь приборам да радиопеленгам.
Летим, как гигантская летучая мышь, которая самой природой снабжена средствами радиолокации. Как известно, ультракороткие звуки, издаваемые мышью при полете, ударяясь о препятствия на её пути и возвращаясь обратно, тем самым предупреждают зверька об опасности. Поэтому мышь облетает все преграды, не видя их.
Приборы, созданные человеческим умом, гораздо совершеннее. Они позволяют нам вслепую вести самолёт строго по курсу. Радист берёт пеленги из Хабаровска и Магадана, а штурманы наносят по ним на карту фактическую линию нашего движения.
Нас всё более начинает беспокоить мысль: не стоит ли такая же облачность над самой Камчаткой? Как садиться вслепую среди гор и сопок?
Мы тут же начинаем определять место, дальше которого самолёт не должен будет лететь и откуда мы немедленно повернём в обратный путь на Хабаровск, если погода не позволит сесть на Камчатке.
Охотское море мы пересекли всего за один час. К нашей великой радости, уже на подступах к Петропавловску-Камчатскому мы получили по радио сообщение, что нас принимают и разрешили снизиться до четырёх тысяч пятисот метров.
Примерно на расстоянии двухсот двадцати километров от Петропавловска-Камчатского мы начали снижаться. На семикилометровой высоте снова погрузились в светло-серые тучи. Началась болтанка. Приборная доска вибрировала так, что цифры мелькали в глазах. Сопки совершенно пропали за облаками. Штурман Калинин лишь по радиолокатору ведёт наблюдение за наземными ориентирами. Стрелка радиокомпаса колеблется то вправо, то влево и вдруг резко опускается книзу на сто восемьдесят градусов. Это под нами металлические башни широковещательной радиостанции. Значит, мы над Петропавловском-Камчатским. Снижаясь, разворачиваемся; самолёт правым крылом очерчивает прибрежные воды Тихого океана. На высоте три тысячи пятьсот метров выходим из облаков. Перед нами открывается Камчатский полуостров с остроконечными вершинами многочисленных сопок.
Снижаемся, делаем развороты и выходим к Авачинской бухте. Воды её с тёмно-синей гладью не шелохнутся. Ступенями спускаются к воде улицы города. В порту густой лес мачт. На высоте тысяча метров делаем четвёртый разворот и продолжаем снижение. Нелегко с первого захода рассчитать посадку огромного самолёта на незнакомом аэродроме, сжатом со всех сторон горами. А вдруг из-за большой высоты или скорости и подойдя к аэродрому не сможем сесть? Тогда что? Ведь впереди, за аэродромом, опять горы… Да, здесь рассчитывать нужно точно! Вспоминаю наши посадки на Балканах в годы войны.
А между тем бетонированная взлётно-посадочная полоса стремительно надвигается на нас. На высоте десяти метров выравниваем самолёт. Широкой лентой под самолётом замелькали бетонные плиты. Мягкое касание дорожки… Сели.
Как и повсюду, на Камчатском аэродроме народ — полгорода. Пришли посмотреть новый реактивный самолёт. Те, кому удалось попасть внутрь самолёта, интересуются решительно всем — от приборов управления до устройства пассажирских кресел. Многие местные жители подолгу задерживаются у фарфоровой статуэтки, украшающей пассажирскую кабину. Она изображает оленя и рядом с ним женщину с ребёнком.
— Глядите, глядите, это наша!.. — с радостным удивлением восклицает колхозник-оленевод, внимательно разглядывающий кухлянку и торбаса на изящном фарфоровом изваянии. — Который ее лепил, — продолжает оленевод, — не иначе, как в нашем Пенжинском районе побывал: там все такие кухлянки носят.
Случайно маленькая статуэтка стала символом связи Москвы с одним из отдалённых районов Советского Севера.
Мы объяснили экскурсантам, что прибыли сюда, чтобы открыть регулярную воздушную связь между Камчаткой и Москвой на самом совершенном в мире пассажирском реактивном самолёте, что этот подарок приготовило Советское правительство трудящимся Камчатки к сорокалетию Октября.
Хороша камчатская столица, особенно когда видишь её с высоты полёта. Она расположена подковообразно над бухтой, одной из самых удобных и красивых в мире. Улицы города многоступенчатыми террасами спускаются с сопок к морю.
Нам посчастливилось увидеть здесь редкое зрелище: ночью огни города, отражаясь от зеркальной поверхности воды, образуют в кристально-чистом воздухе серебристые световые столбы, напоминающие северное сияние. Поднимаясь высоко над городом и портом, они искрятся и колеблются в воздухе, как гигантские сказочные призраки.
С аэродрома в город мы ехали по извилистому гладкому, без единой выбоины, шоссе. Вдоль пути тянулись карьеры туфа — застывшей лавы вулканического происхождения. Туф — добротный и дешёвый строительный материал, широко здесь используемый.
Как и все города нашего Союза, Петропавловск-Камчатский опоясан лесами новостроек. Петропавловцы большей частью ныне живут в добротных двухэтажных каменных домах из туфа. На бетонированных улицах множество автомашин, даже забываешь, что находишься «на краю земли». Не меньшее оживление царит и в порту, откуда то и дело раздаются гудки и сирены пароходов и теплоходов.
Петропавловск-Камчатский — наша дальневосточная рыбная столица, здесь перерабатываются ценнейшие лососевые породы. За последние годы рыбные промыслы значительно механизированы. В городе строится первая в нашей стране геотермическая электростанция; она будет работать на «водяном топливе», с использованием тепла подземных горячих источников. Это позволит во много раз увеличить энергетическую базу Камчатского полуострова и прежде всего рыбных промыслов.
Интересно сравнить настоящее и прошлое Камчатки. В своём отчёте за 1912 год тогдашний камчатский губернатор Мономахов сообщал царскому правительству, что на всю область имеется пять врачей, двенадцать фельдшеров и четыре повивальные бабки. В 1957 году на Камчатке работали семьдесят две больницы, сто девяносто пять фельдшерско-акушерских пунктов, двадцать восемь аптек.
Капитан рыболовного сейнера колхоза имени Кирова Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР Иван Игнатьевич Малякин рассказывал нам, что он плавает двадцать два года, из них девятнадцать лет в водах Тихого океана. За свою трудовую жизнь он выловил восемьдесят шесть тысяч центнеров рыбы — количество, достаточное, чтобы целый год кормить население крупного промышленного центра.
— Без авиационной разведки, — вспоминает Иван Игнатьевич, — мы добывали рыбу «по нюху» и порой возвращались без улова. Сейчас же самолёты наводят сейнеры по радио прямо на косяки. Уловы бывают такие богатые, что иной раз опасаемся за целость невода: трещит!..
Авиация в бездорожной и отдаленной Камчатке играет огромную роль не только в рыболовецком хозяйстве. Кроме регулярного воздушного сообщения по линии Петропавловск — Хабаровск, теперь есть связь и с другими районами Камчатской области.
В обратный путь из Петропавловска-Камчатского мы отправились 27 октября. Вершины сопок по-прежнему были окутаны облаками, и мы снова пробивали их. Развернувшись над Авачинской бухтой, мы попрощались с Тихим океаном и легли на свой курс. В редких просветах между клубящимися облаками виднелись бурные волны Охотского моря, омывающего побережье Сахалина.
Перелёт от Москвы до Петропавловска-Камчатского, включая посадки в Омске, Иркутске и Хабаровске, «ТУ-104» проделал за десять часов двадцать минут. Обратный путь продолжался несколько больше — двенадцать часов двадцать пять минут: давало себя знать сопротивление встречного ветра.
Расстояние в оба конца, восемнадцать тысяч километров, примерно равнялось длине пути Москва — Нью-Йорк — Москва.
Незадолго до полёта на Камчатку мы совершили полёт в Америку также на «ТУ-104», об этом расскажу позднее. Здесь же замечу, что оба раза скорость движения на отдельных участках пути достигала тысячи шестидесяти километров в час.
На Внуковском аэродроме нас встретил дождь. Прямо с аэродрома наш новый знакомый Иван Игнатьевич Малякин отправился в Большой театр; билет туда он заказал ещё утром по радио из Петропавловска-Камчатского. Время у нашего пассажира было строго распределено: на следующий день он должен быть на юбилейной сессии Верховного Совета СССР. Малякин оказался первым пассажиром на новой линии, а спустя всего три месяца началось регулярное воздушное сообщение с Камчаткой на «ТУ-104».
Зарок Нины Петровны
Мне хорошо запомнились подробности первого пассажирского рейса на Камчатку.
Хабаровск. Раннее утро 29 января 1958 года. В голубоватой дымке морозного воздуха гуляет ледяной, пронизывающий ветер, но холод не может остановить людей. В Хабаровском аэропорту полным-полно пассажиров. Одни покупают билеты на Москву, другие торопятся к самолётам, идущим на Магадан, Сахалин, во Владивосток. Но самая большая очередь у окошка, где оформляется отправка пассажиров, багажа и почты на Камчатку.
В репродукторах громко раздается голос диктора:
— Граждане пассажиры, начинается посадка на самолёт «ТУ-104» за номером 5426, следующий по маршруту Хабаровск — Петропавловск-Камчатский.
Пассажиры взволнованы.
Раньше, чтобы попасть на Камчатку, им приходилось лететь из Хабаровска в Магадан и лишь оттуда в Петропавловск-Камчатский. Путь в несколько тысяч километров продолжался не один день. А сейчас «ТУ-104» домчит их всего-навсего за два с четвертью часа.
Старт дан в 5 часов 19 минут по местному времени. Летим на высоте десять тысяч метров, со скоростью девятьсот пятьдесят километров в час. Внизу, через просветы матовых облаков, видна коса Сахалина, а дальше — безбрежное неприветливое Охотское море.
Бортпроводницы на подносах разносят завтрак пассажирам. Уступаю правое пилотское сиденье второму пилоту Демину, а сам отправляюсь проверить самочувствие пассажиров, заодно и познакомиться с ними. Может быть, встречу кого из прежних воздушных пассажиров? Вот в передних креслах сидят шофёр Серзин со своей женой Ольгой Павловной и сыном Серёжей. Семья переезжает с Сахалина на Камчатку. На «ТУ-104», разумеется, летят впервые.
— Как чувствуете себя в полёте? — спрашиваю Серзина.
— Привольнее, чем в кабине своей автомашины, — отвечает довольный шофёр.
— А тут лучше, чем дома, — солидно замечает шестилетний Серёжа.
Рядом с семьей Серзина расположился военнослужащий Хороших. Он возвращается на Камчатку с кавказского курорта, на «ТУ-104» сел в Москве.
— Раньше, — говорит Хороших, — от Москвы до Камчатки я добирался на четвёртые, а то и пятые сутки, а сегодня меньше чем за пятнадцать часов долечу. Великое это дело для нас, окраинных жителей, товарищ пилот! Великое!..
А вот и самый маленький наш путешественник — двухмесячный Саша Фёдоров; он совсем неплохо чувствует себя на руках у матери. Этого пассажира не занимают ни скорость движения, ни время нашего прибытия. Мать малыша Римма Ракитская из села Каменское, на севере Камчатки, гостила в Хабаровске, теперь возвращается домой. Своё первое в жизни путешествие её восьминедельный Саша совершает на реактивном самолёте. Вырастет мальчуган, и станет для него этот перелёт седой историей, а сам он, может быть, поведет межпланетный корабль. Как знать!
Шестидесятидевятилетняя Мария Даниловна Лисина на самолёте летит впервые в жизни и сразу на «ТУ-104».
С доброй улыбкой Мария Даниловна говорит:
— Та на зализници больше трясло. А у нас на сели, як на тий таратайцы-чортопхайци: кудысь пойдёшь, так и зовсим все кишки повытрясае. Ни, на вашему небесному экспрессови раскатывать краще, ниж на «Москвичу» нашего предколгоспа.
— А что же вы, бабуся, на старости лет в такую даль собрались? — спрашиваю старушку.
— А до чоловика своего законного. Уж двадцать рокив, як вин покинув нашу ридну Днепропетровщину.
— Сойтись, что ли, снова решили с ним?
— Та бог з вами, командир, скажете тоже такое! Хиба ж мы расходились? Он и письма и гроши мини присылав. Раниш я не хотела покидать сына та дочку, вони остались на старому мисцю. А я решила доживаты вик со своим законным. И он просит. Чоловик мий в Петропавловске — знаменитый печник. Для своей старухи, навить, гарну печь склав. Буде де погриты стари кости. Вы, молодь, того не понимаете!..
Я повернулся, чтобы идти, но меня остановила молодая женщина. Она внимательно прислушивалась к нашему разговору, не спуская пристального взгляда с меня.
— Неужели не узнаете меня, товарищ Михайлов? — спросила женщина.
Всмотревшись в её лицо, я вспомнил:
— Нина Петровна, вы ли это? Ведь вы же зареклись не садиться в самолёт!..
Нина Петровна конфузливо заморгала ресницами и, смущённо улыбаясь, сказала:
— Во-первых, это было восемь лет назад, и я действительно все эти годы не летала, а во-вторых, это же реактивный самолёт, это же «ТУ». О нём я так много читала и слышала. Говорят, ему никакие бури не страшны?
— Да, вы правы, Нина Петровна. Раньше самолёту выше пяти тысяч метров трудно было подняться, а теперь и на двенадцать тысяч легко забираемся. Все бури-непогоды остаются далеко под нами, и нашему «ТУ-104» всегда светит солнце. Конечно, если мы летим днём. Такого переполоха, как случился с нашим старым самолётом, на «ТУ» быть не может, Нина Петровна.
С этими словами я ушёл к себе в кабину и, наблюдая за работой пилота, вспомнил о своей первой встрече с Ниной Петровной.
1 мая 1950 года мы летели на двухмоторном самолёте «ИЛ-12» из Хабаровска в Москву. Самолёт шёл на высоте две тысячи семьсот метров. В кабине было холодно.
— Подтопить бы, Тихон Тимофеевич, — обратился я к бортмеханику. — Температурка-то у нас минусовая.
— Это нам ничего не стоит, — весело ответил бортмеханик.
Электропечь заработала, и я с удовольствием расправил спину под потоком тёплого воздуха.
Штурвал держал второй пилот. Штурман внимательно вычислял курс, чтобы не отклониться к северу, в сторону Буреинского хребта. Фронт холодной погоды, о котором нас предупредили синоптики, будто бы остался позади, но плотные шапки облаков стали подниматься выше над горами, как бы выжимая нашу машину кверху. Самолёт поднимался ввысь, а тёмно-синие шапки облаков неотступно тянулись за ним.
«Ничего особенного, — уговаривал я сам себя, — над горами всегда формируется облачность».
Стрелка высотомера показала три тысячи триста метров. В горах бушевала непогода, мощные кучевые облака продолжали наседать.
— Ничего, сейчас проскочим их, и всё будет в порядке, — успокаивал я экипаж.
Но в этот момент плотная облачная стена грозно преградила нам путь. Начались воздушные толчки. В пассажирской кабине восемнадцать взрослых пассажиров и шестеро детей безмятежно дремали, растянувшись в своих креслах, ничего не подозревая о тревожной обстановке.
Я крепко сжал штурвал, чтобы при толчке он не вырвался из рук. Экипаж начал нервничать. Становилось очевидным, что мы не успели проскочить хребет, что как раз над вершинами гор нас застиг ураган.
Я вынужден был подняться ещё на пятьсот метров. Но сразу почувствовал страшную вялость в движениях, всё время хотелось вздохнуть поглубже, набрать побольше воздуха. Признаки начинающегося кислородного голодания были налицо.
Между тем облака сплошной массой облепили наш «ИЛ-12». Казалось, они просачиваются внутрь самолёта. В кабине стало темно, как в погребе. Даже фосфорическая окраска стрелок мало помогала различать деления на приборах. В глазах рябило от невероятной болтанки, беспрерывных бросков вверх и вниз.
В пассажирской кабине никто уже не спал. Кое-кого из пассажиров укачало, и они, побледнев, сжались в испуге.
Крылья самолёта обледенели. Налетающие бурными порывами мощные потоки воздуха готовы были расчленить машину на части.
В наушниках шлемофона раздавался треск электрических разрядов.
— Выключить радиостанцию, — помню, приказал я радисту и поспешил успокоить товарищей: — Это же последние судороги холодного фронта, сейчас пройдём грозу.
Высоту и курс полёта менять было нельзя. Влево уклонишься — там государственная граница, высокие горы, безлюдная тайга. Вниз — там тоже горы, и при снижении или воздушном толчке не мудрено удариться о скалу. Оставался единственный выход: перелететь быстрее через перевал, чтобы, выскочив на равнинное место, снизиться. Буря всё не утихала.
Черноту туч прошил острый зигзаг молнии, и в нос самолёта ударил резкий слепящий свет.
Этого только недоставало!
Самолёт, как шлюпку в открытом море, стало швырять в разбушевавшемся воздушном океане.
Бортмеханик перетрусил не на шутку.
— Командир, — говорит он жалобно мне, — у меня ребята малые остаются.
— А я, по-твоему, не хочу жить! — нарочито грубо ответил я, но тут же успокоил его: — Сейчас проскочим, видишь — уже спокойнее стало.
Словно издеваясь над моими словами, нас осветило такой молнией, что мы на короткий момент ослепли.
— Командир, возвращаться надо! — взмолились члены экипажа.
Я начал разворачивать самолёт влево, но тут рядом снова полоснула молния.
— Командир, держи вправо! — кричит мне механик. — Справа разрядов меньше.
Выкручиваю штурвал вправо. Молний здесь нет, но трепать продолжает с неменьшей силой.
Развернулся я на сто восемьдесят градусов, и понесся наш «ИЛ» на всех парах назад.
— Штурман, — кричу, — давай расчет! Миновали хребты или нет? Где мы находимся?
— Миновали, миновали! — отвечает штурман. — По расчёту под нами долина.
Пытаюсь перевести самолёт на снижение, уменьшаю наддув — мощные потоки воздуха по-прежнему тянут машину вверх.
Проходит минута, другая, и разбушевавшаяся, вымотавшая нас до предела гроза начинает стихать.
Опять беру курс на запад и по приборам веду самолёт на минимально допустимой высоте. Наконец в непроницаемых облаках появился просвет…
— Опасность миновала, вырвались-таки! — оповещаю я экипаж.
Все вздыхают с облегчением.
Теперь летим над равнинной тайгой. Ветра почти нет, тихо, а по земле бегут бурные, мутные потоки. Влево от нас небольшая железнодорожная станция. Читаю на карте название — Архара.
Отныне эта станция, притаившаяся в извилке гор, навсегда останется памятной для меня.
И экипаж и пассажиры были вконец измучены грозой. Многие находились в полуобморочном состоянии; но кончилась гроза, и все понемногу стали приходить в себя. Мы достигли ближайшего аэродрома и, обрадованные, приземлились.
Пассажиры выбрались на свежий воздух, расположились отдохнуть под крылом самолёта. Все успокоились. Только какая-то девушка — это и была Нина Петровна — никак не могла успокоиться: она заявила нам, что никогда в жизни больше не подойдет близко к самолёту.
— Мало ли что, — заспорил с Ниной Петровной чей-то звонкий, тоже девичий голос, — и на море аварии и штормы бывают, и на железной дороге крушения случаются, не ходим же мы из-за этого пешком! Вспомните десятидневный путь от Хабаровска до Москвы в душном вагоне, прежде чем зарекаться.
Но Нина Петровна оставалась непреклонной.
Когда пришло время лететь и все пассажиры заняли свои места, девушка с чемоданчиком в руке ушла на железнодорожную станцию…
Вот об этом-то случае я и вспомнил сейчас.
Какое счастье, что пассажиры этой совершенной машины избавлены от испытаний, какие нам с Ниной Петровной пришлось пережить несколько лет назад — в век поршневых моторов. Да, теперь Нина Петровна спокойно могла снять с себя зарок…
Самолёт приближался к Камчатке, держа курс на снеговые вершины Авачинской и Корякской сопок. Первый пассажирский рейс на Камчатку был благополучно завершён.
После кратковременной стоянки блестяще выдержавший экзамен экипаж взял обратный курс на Хабаровск.
Так было положено начало оживленному регулярному пассажирскому движению на самолётах «ТУ-104» на линии Хабаровск — Петропавловск-Камчатский. Расстояние в две тысячи километров покрывается теперь за два часа пятнадцать минут! А от Москвы до Камчатки — всего за десять — двенадцать часов. Реактивный самолёт входит в быт!
По возвращении с Камчатки я встретился с известным у нас в стране лётчиком-полярником Ильёй Павловичем Мазуруком, и разговорились мы с ним о наших авиационных новостях. Рассказал я ему про свой последний полёт на «ТУ-104».
— А знаешь, — говорит мне Мазурук, — кажется, совсем недавно — примерно с 1931 по 1936 год — и я на этой линии летал. Но как! Если погода хорошая, вылетишь из Хабаровска, пролетишь триста тридцать километров и садишься на ночёвку. На другой день пролетишь ещё километров триста двадцать, доберешься до Николаевска-на-Амуре, и снова ночёвка. На третий день проскочишь ещё километров сто шестьдесят до Охи, на Сахалине, а тут уж сидишь у моря и ждёшь погоды! Выпадет погожий день — летишь дальше через Охотское море. А оттуда ещё сколько до Камчатки лететь надо! Сотни километров. Напрямую лететь было нельзя, путь преграждали высокие скалистые горы. А чего стоило перелететь Охотское море? Лететь-то над ним приходилось десять часов. Ведь скорость тогдашних самолётов не превышала ста двадцати километров. Много дней продолжался нынешний двухчасовой путь на Камчатку…
Чтобы понять, какое значение имеют быстроходные самолёты типа «ТУ-104» в условиях огромных пространств нашей страны, стоит сравнить между собой два крупнейших перелёта. Известные лётчики Чкалов, Байдуков и Беляков совершили беспосадочный полёт по маршруту Москва — Камчатка — остров Удд. На первоклассной по тому времени машине «АНТ-25» девять тысяч триста семьдесят четыре километра они пролетели за пятьдесят шесть часов двадцать минут. Причем это был не обыденный, а рекордный перелёт. Сколько времени потребовалось бы сейчас рядовому советскому лётчику, чтобы преодолеть это же расстояние на «ТУ-104», читатель сможет подсчитать сам.
Из Владивостока в Москву
Пожалуй, у каждого человека средних лет празднование его дня рождения омрачается оттенком грусти. Друзья разошлись по домам, стол опустел, а ты остаешься наедине со своими мыслями. И главная из них: «Я стал старше ещё на один год».
13 января 1958 года был день моего рождения. По заведённой традиции, я готовился к встрече с близкими товарищами. Но моё маленькое семейное торжество на этот раз не состоялось: я должен был снова лететь на Дальний Восток. Наш экипаж прокладывал ещё одну воздушную линию, которая должна была связать Москву с крупнейшим морским портом на Тихом океане — Владивостоком.
Снова наш быстрокрылый красавец «ТУ-104» летит на восток. Столица Родины ещё спит, а наш экипаж уже встречает восход и любуется гигантским веером солнечных лучей, торжественно вонзающихся в небо.
Здесь, на высоте десять тысяч метров, штурман корабля Григорий Петрович Павлюк из экипажа командира Николая Степановича Окинина даёт первое интервью представителям печати.
Павлюк — опытный штурман. Более пятнадцати лет провёл он на воздушных линиях страны, на груди у него поблёскивают значки миллионера.
— «ТУ-104», — начал не спеша Павлюк, — оснащён отличными радионавигационными средствами. Но радио на нашем самолёте не только надёжная связь с землей, это и главное средство навигации. С помощью радиокомпасов мы в любую погоду можем определить, где находится самолёт, взять правильный курс на аэродром, точно выдержать свой маршрут. Современное средство навигации — это радиолокатор. На его экране возникают изображения местности, которая находится под крылом самолёта. Ни облака, ни темнота не могут помешать нам точно ориентироваться в пространстве. Вот, видите линию на карте полёта? Хотя земля здесь закрыта облаками, штурман на экране радиолокатора отлично видит пролёты контрольных ориентиров. Мы спокойны, курс наш правильный…
Скверная погода как нельзя лучше подтверждала слова Павлюка. Хабаровск встретил нас неприветливо: видимость оказалась плохой, дул сильный ветер, крутила позёмка. Самолёт заводил на посадку диспетчер Хабаровского аэропорта по наземным локаторам. На его экране было видно местонахождение нашего самолёта.
— Снижайтесь до высоты восьмисот метров. Берите курс сто четырнадцать градусов. Выпускайте шасси, — подавал диспетчер одну команду за другой.
Вот и полоса аэродрома.
— Разрешите посадку? — запросил Николай Трофимов.
— Вас вижу, посадку разрешаю! — отвечает земля.
Через непродолжительное время мы сошли на хабаровскую землю.
В Хабаровске экипаж вынужден был задержаться. Современная авиация, даже самая совершенная, ещё не вполне свободна от прихотей стихии. На Дальнем Востоке пронёсся сильный циклон, ветер достигал двенадцати баллов, скорость его доходила до тридцати метров в секунду. Чтобы представить силу этой бури, достаточно вспомнить, что порыв ветра со скоростью двадцать пять метров в секунду способен опрокинуть пешехода. В течение двух суток свирепствовала снежная буря, позёмки и метели вихрем крутились над аэродромом, наметая снежные горы и сугробы на взлётно-посадочной полосе аэропорта.
Как только буран стих, наш «ТУ-104» взял курс на юг, на Советское Приморье. Здесь, за низкогорными возвышенностями, слева пошли цепи гор; сплошные горы и хребет Сихотэ-Алинь, как мощные валы, с обрывистыми отвесными спусками и кручами; вытянулись в ряд с юго-запада на северо-восток. Справа белой извилистой лентой поблескивала Уссури с её многочисленными притоками, берущими начало на западных склонах хребта.
Эти места прошёл замечательный советский следопыт Арсеньев. Ещё мальчишкой я прочитал и полюбил его книгу «По Уссурийскому краю». Теперь эти места предстали в своей природной красоте. Зеленела знаменитая саянская ель, дающая великолепную строительную древесину, лёгкую и прочную. Рядом с нею высилась не менее ценная пихта. Эти гигантские деревья достигают пятидесяти метров в высоту, толщина их ствола у корня доходит до полутора метров. В этот тихий, погожий час мы хорошо видели под самолётом целый дендрарий, созданный самой природой: белокурую пихту, даурскую лиственницу, монгольский дуб, жёлтую березу, ильм, липу, мелколистный клён, маньчжурский орех, пробковое дерево… Всего и не перечислить!
И кажется нам, что там, внизу, между вековыми стволами, осторожно пробирается неутомимый арсеньевский проводник Дерсу Узала.
Тайга осталась позади; самолёт приблизился к замёрзшей глади озера Ханка, окаймлённого с западной стороны зубчатыми горами. Показалась вьющаяся змейкой дорога; она пролегла по местам, где в годы гражданской войны разыгрывались жаркие, упорные бои с иностранными интервентами, повела в город Спасск-Дальний, слава которого живет и поныне в памяти советских людей. Здесь в 1922 году потерпели окончательный крах японо-американские интервенты.
Сегодня Спасск — строящийся город. На полную мощность работает цементно-шиферный завод, раздвигаются корпуса центральных мастерских, обслуживающих всю лесную промышленность Дальнего Востока. Среди молодых, недавно отстроенных улиц возвышается памятник, воздвигнутый в честь героев «штурмовых ночей Спасска». Куда ни посмотри — всё памятные места. Живая история!..
— Впереди по курсу Владивосток, — докладывает штурман.
С земли на борт передают данные метеослужбы: ветер восемь метров в секунду, дует под углом девяносто градусов к посадочной полосе, достигая временами скорости десять-одиннадцать метров в секунду. Условия посадки не радуют.
Большая высота полёта и скорость, с которой проносится над сопками «ТУ-104», скрадывают действительный масштаб: лётная дорожка и выложенные сигналы на ней кажутся игрушечными.
На этот отдалённый макет с изображением посадочных знаков и сигналов нам и предстояло сделать точный расчёт, приземлиться у посадочного «Т». Но расчёт захода на посадку сделать не так-то просто — с высоты две тысячи пятьсот метров над поверхностью оголённых гор надо прикинуть визирную линию в точку начала выравнивания самолёта, которая всегда выбирается пилотом метров за двести до посадочного знака «Т».
Признаться, с похожими условиями посадки я сталкивался не раз. Но сегодня рядом со мной на левом пилотском кресле сидел мой боевой товарищ Николай Степанович Окинин. Он держал экзамен на право самостоятельного пилотирования «ТУ-104» в качестве командира корабля. Я же выполнял роль инструктора и заботился о том, чтобы Николай в сложных условиях самостоятельно справился с задачей.
Я был уверен, что Николай не подведёт. Ведь тринадцать лет назад в боевой обстановке, занимая рядом со мной правое кресло второго пилота, он ни разу не подвел меня.
В 1944 году наш экипаж получил задание вылететь ночью на двухмоторном транспортном самолёте из Бари в местечко Лука-Баня, в Сербии. Самолёт должен был доставить боеприпасы югославским партизанам, попавшим в окружение. Условный сигнал для посадки: выложенные в ряд десять костров между горами, в узком ущелье.
До нас никто туда ещё не летал. Отыскали мы эти костры, начали снижаться. Поначалу всё шло хорошо. Лучи прожекторных фар самолёта уже осветили подходы к площадке.
Вдруг раздался истерический крик бортрадиста:
— Командир, не садись! Давай газ, уходить надо!..
Не понимая, что происходит, я рефлекторно пальцами правой руки стиснул головки рычагов газа и двинул их вперёд. Неожиданный рёв нарушил тишину горного воздуха: на полную мощность заработали моторы, вихрем закружились воздушные винты.
Самолёт уже взмыл кверху, а я не могу понять, что произошло.
— Радист, в чём дело?
— Принял сигнал тревоги из Бари. Каратели захватили цель, перебили партизанскую охрану, устроили ловушку для нас.
— Ты слышишь, Николай? — обратился я к Окинину.
— Да, мне тоже показалось, что сигналы слишком яркие, — ответил он. — Да и партизан что-то не видно возле костров. Ведь они обычно гурьбой мчатся навстречу самолёту. А тут никакой партизанской жизнью не пахнет. Боюсь, это хорошо замаскированная ловушка.
Теперь нам ничего другого не оставалось, как притвориться, что мы неточно рассчитали заход на посадку и поднялись вторично, чтобы снова приземлиться. В действительности же мы спешили набрать высоту, чтобы выбраться побыстрее из ловушки.
Наш манёвр гитлеровцы разгадали слишком поздно — их бешеная ружейно-пулемётная трескотня теперь велась впустую. Мы тем временем уже шли на запасный партизанский аэродром, сдали груз и приняли раненых…
Обстановка сегодняшней посадки по напряжённости напоминала этот забытый уже военный эпизод. Но я чувствовал, что Окинин уверенно ведёт машину — опыт тех лет не пропал даром.
Всё ближе и ближе Владивосток. Вот и аэродром. Левым разворотом устремляемся на город. Крылатый гигант мчится совсем низко; неопытному глазу может показаться, будто мы вот-вот заденем мачту Владивостокского телецентра.
Внизу проплывали площади, стадионы, причалы морских судов, бухта со снующими по ней буксирами; застывшие, как часовые, военные корабли на рейде. Вот она, красавица бухта Золотой Рог.
Разворот над водами Тихого океана, и снова несёмся над бухтой. Два традиционных приветственных круга над городом, и опять набираем высоту. Под нами аэродром, идём на посадку со скрупулёзной точностью. Ветер затрудняет пилотирование, удерживает машину в линии посадочного курса. С молниеносной быстротой наш «ТУ» приближается к аэродрому. Мягкое касание колес о бетон — и посадка завершена.
Наш рейс прошёл вполне успешно. Семь тысяч семьсот восемьдесят пять километров «ТУ-104» преодолел за девять часов тридцать минут при средней путевой скорости восемьсот километров в час.
Утром 20 января мы осматривали город. Побывали на борту судна в бухте Золотой Рог.
Вернувшись к себе в номер, я вынужден был принять неожиданных гостей.
Первым из них оказался флотский офицер Герой Советского Союза А. Н. Кисов.
Гость пришел с просьбой: нельзя ли ему полететь в качестве первого пассажира нашего «ТУ-104».
— Мне надо срочно быть в Москве по вызову Президиума Верховного Совета, — говорил он.
Взять или не взять? По правилам в пробном «техническом» рейсе не полагалось иметь пассажиров, но не всегда бывает на пользу формальное соблюдение порядка.
— Полетим, — коротко ответил я.
Едва закрылась дверь за флотским офицером, вошёл армейский офицер; тоже просит захватить его в Москву. Цель поездки, правда, тут была иная — не официальный вызов, а зов сердца.
— Получил очередной отпуск, — рассказывает офицер, — спешу в Ленинград к своей невесте. Ждёт не дождётся, письмами засыпала. Чем быстрей доберусь, тем скорее свадьба!
Призадумался я на минутку и вспомнил, как у нас на Смоленщине в былые времена жених к невесте на рысаке спешил. Да, так бывало прежде, а теперь в небесах человек будет на реактивном самолёте к милой лететь. Ну и времена!.. Надо взять, пусть в их супружеской жизни этот полёт будет памятным!
В этот вечер мне, видно, не суждено было отдыхать. Явился ещё один проситель — моряк, отличник боевой и политической подготовки. Командование корабля просило доставить его в Москву. Моряку я тем более не мог отказать: он спешил не на веселье, у него похороны — умер отец.
Нам, пилотам, в своей лётной работе приходится часто сталкиваться с самыми разнообразными человеческими судьбами, и мы привыкли переживания своих пассажиров принимать близко к сердцу.
21 января наш самолёт покинул Владивосток и в тот же день прибыл в Москву. Потребовалось немногим больше десяти часов лётного времени на обратный путь. На борту нашего воздушного корабля находились первые четыре пассажира (один из моих пассажиров ухитрился получить билет и на жену). Трасса Москва — Владивосток — Москва открыта.
Спустя месяц по этой крупнейшей в стране авиалинии началось регулярное пассажирское сообщение. Мне вместе с экипажем Восточно-Сибирского управления Аэрофлота пришлось и на этот раз доставить первых пассажиров из Москвы во Владивосток.
А ровно через год мне посчастливилось одним из первых лететь по новой, более короткой трассе из Москвы во Владивосток через территорию Китайской Республики. Новая авиалиния проходила теперь через Омск — Иркутск, минуя промежуточную посадку в Хабаровске, которая до того удлиняла путь на несколько сот километров.
ЧЕРЕЗ ОКЕАН И ОБРАТНО
Предвидение сбылось
13 июня 1937 года Валерий Чкалов вместе с Георгием Байдуковым и Александром Беляковым на самолёте «АНТ-25» конструкции дважды Героя Социалистического Труда Андрея Николаевича Туполева совершили беспримерный в истории перелёт из СССР в Соединенные Штаты Америки через Северный полюс. За шестьдесят три часа шестнадцать минут самолёт «АНТ-25» прошёл девять тысяч сто тридцать километров и приземлился в Ванкувере. Тремя неделями позже на самолёте этого же типа известные советские авиаторы Михаил Громов, Алексей Юмашев и Сергей Данилин по тому же маршруту выполнили второй перелёт.
Экипаж Громова пробыл в воздухе шестьдесят два часа семнадцать минут и, покрыв расстояние в десять тысяч двести километров, произвёл посадку в Сан-Джасинто близ границы США с Мексикой.
Через двадцать лет — 17 июля 1957 года — этому знаменательному событию в истории отечественной и мировой авиации было посвящено торжественное заседание в Большом зале Политехнического музея в Москве.
На трибуне сменяют друг друга участники исторических перелётов. Все они вспоминают о тех уже далеких днях, когда самолёты «АНТ-25», вызывая восхищение во всём мире, мчались из Москвы через Северный Ледовитый океан в Западное полушарие.
Это было поистине незабываемое время. Авиация Страны Советов выходила на широкую дорогу триумфальных побед. Каждый день был насыщен большими событиями. Во всём мире велась упорная борьба за скорость, дальность, высоту полёта, и в авангарде этой борьбы шла наша Родина, её социалистическая индустрия, авиаконструкторы, пилоты.
Само собой разумеется, для того чтобы совершить столь дальние перелёты, нужны были выдающиеся лётчики и первоклассные машины. Таких лётчиков воспитала наша Коммунистическая партия, наш народ, советский строй. Советская Родина дала лётчикам первоклассную машину. Её создал авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев.
Тогда, двадцать лет назад, Валерий Чкалов перед вылетом из Москвы в США сказал: «Мы не первые и не последние…»
Ещё в 1929 году на самолёте «АНТ-4» «Крылья Советов» лётчик Шестаков совершил перелёт из Москвы в Нью-Йорк по маршруту длиной почти двадцать тысяч километров. Без малого восемь тысяч километров сухопутный самолёт прошёл над водой. Затем продолжительное время пассажирские самолёты типа «АНТ-4» курсировали на воздушных линиях Гражданского воздушного флота Советского Союза.
Была и ещё одна попытка советских авиаторов совершить беспосадочный перелёт через Северный полюс по маршруту Москва — Нью-Йорк. Она, правда, закончилась трагически. Это полёт экипажа Сигизмунда Леваневского. Леваневский вылетел вскоре после рекордных перелётов Чкалова и Громова.
Леваневский с экипажем в шесть человек и с грузом в полторы тонны на сухопутном самолёте конструкции Болховитинова пропал без вести в районе Северного полюса. Поиски продолжались около года, но положительных результатов не дали, хотя к спасательным операциям были привлечены лучшие полярные пилоты страны. Во время этих полетов наша авиация понесла ещё одну тяжёлую потерю: возвращаясь из Арктики, с розысков Леваневского, погиб в авиационной катастрофе старейший полярный лётчик Герой Советского Союза Михаил Сергеевич Бабушкин.
Вспоминая об этих событиях, все ораторы приходили к одному выводу: беспосадочные перелёты Чкалова, Громова и их товарищей доказали практическую возможность регулярного воздушного сообщения между Советским Союзом и США.
Получил и я слово на этом собрании. Я поделился своими мыслями насчёт полётов за океан на «ТУ-104». Авиация сблизила континенты, во всех странах мира самолёты вошли в быт.
Быстрота передвижения, надёжность, комфорт привлекают тысячи пассажиров. Несмотря на то что авиатрассы, по которым курсируют турбореактивные лайнеры, протянулись на многие тысячи километров через районы с различными климатическими условиями, все их рейсы, как правило, выполняются с пунктуальной точностью. Работники Пражского аэропорта, например, говорят, что по прилетам и вылетам «ТУ-104» они проверяют свои часы. Недалёк тот день, когда на международной воздушной линии Москва — Нью-Йорк будут летать серийные пассажирские самолёты. Такие полёты вполне по плечу пилотам советской и американской гражданской авиации.
Прошел всего месяц после заседания в Политехническом музее. Неожиданно меня вызывает Алексей Иванович Семенков и говорит:
— Я слышал, что у вас есть полётная карта через Атлантику.
— Да, но только на английском языке.
— Вот и хорошо. Радиомаячные зоны по маршруту над Атлантикой необходимо расшифровать и перевести на русский язык. Возможно, что в какой-то степени этими данными смогут пользоваться наши экипажи.
На этом разговор закончился, но я понял, его неспроста затеял Семенков. Карта, о которой шла речь, попала ко мне случайно. Незадолго до разговора с Семенковым мне довелось встретиться с одним из зарубежных пилотов. По его просьбе ему был показан турбореактивный пассажирский лайнер «ТУ-104».
Осматривая машину, он заметил:
— Да, вот на таком именно самолёте и надо летать через океан!
Мы разговорились. Оказалось, что на самолёте «Супер Констелейшн» он семьдесят пять раз пересекал Атлантику, неоднократно бывал в Нью-Йорке. Прощаясь, пилот подарил мне свою полётную карту.
А через несколько дней после беседы с Семенковым стало известно, что Главному управлению Гражданского воздушного флота поручено доставить советскую делегацию в Нью- Йорк, на XII сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Управление транспортной авиации занялось подготовкой к полётам. Было поручено проложить авиационную трассу через Атлантический океан на турбореактивном пассажирском самолёте, связав тем самым два континента, две великие державы — Советский Союз и США.
Итак, вслед за Шестаковым, Чкаловым, Громовым, но уже по другому маршруту и на другом, более совершенном самолёте — в Америку!
Валерий Павлович Чкалов был прав, предвидение великого лётчика сбывается: советский самолёт снова летит за океан.
Пока «летим» у карты
Полёт Москва — Нью-Йорк — Москва для нас, пилотов, начался задолго до старта. Будущий маршрут сначала прокладывался на карте. Пилоты и штурманы намечали места посадок, наносили ориентиры, проставляли курсы, радиотехнические средства: маяки, пеленгаторы, приводные и широковещательные станции.
Постепенно карта «оживала», и, глядя на неё, можно было ясно представить себе весь путь от взлёта в начальном пункте маршрута до посадки в месте назначения.
Первый этап предстоящего полёта Москва — Лондон вряд ли таил в себе трудности. Линии его пути пролегали над густонаселённой территорией, крупными городами с аэродромами, приводными и широковещательными радиостанциями. Радиотехнических средств на этом участке вполне достаточно для самолётовождения даже в самых сложных метеорологических условиях. На случай, если в Лондоне из-за неблагоприятной погоды нельзя будет произвести посадку, намечалось воспользоваться запасными аэродромами: Скипхол в Голландии или Стенстед в Англии.
Второй участок полёта был намного сложнее — над Атлантическим океаном почти при полном отсутствии запасных аэродромов. Затруднена на этом участке и ориентировка. Временами там нарушается связь из-за так называемого непрохождения радиоволн. А если ко всему этому прибавить, что линия пути, проведённая нами на полётной карте, протянулась далеко на север, в район «кухни погоды», преимущественно плохой, то станет ясным, с какими трудностями должен был встретиться экипаж самолёта. Тем более, что нашим лётчикам ещё не приходилось летать над этими местами.
Но самым сложным и ответственным этапом перелёта оставался путь от Кефлавика до Гуз-Бея, хотя и более короткий, чем участок от Москвы до Лондона. Эта часть воздушной трассы почти целиком пролегает над океаном. Лишь незначительный её отрезок проходит над сушей, да и то над совершенно безлюдными берегами Гренландии. А как быть пилоту в случае вынужденной посадки?
Но это ещё не всё. Мы должны учесть, что дует сильный встречный ветер, и, следовательно, мы потеряем немало времени на то, чтобы его преодолеть. Рассчитывать на хорошую путевую скорость здесь никак нельзя. Не приходится надеяться и на более или менее удовлетворительную связь с землёй: непрохождение радиоволн в этом районе считается обычным явлением. И тем не менее мы не собирались вешать носа: поживём — увидим! Ведь будем лететь на отличной машине, иметь всё необходимое на случай каких-либо осложнений.
Наконец четвёртый и последний участок пути. Он был бы самым лёгким, если бы мы имели данные о «воротах» — коридорах входа и выхода на аэродромы, трассы, да и о самих аэродромах. Впрочем, здесь нам должны были помочь иностранные лидировщики (так называют лётчиков, которые выполняют роль воздушных лоцманов).
Маршрут был проложен. Дело оставалось за разработкой плана-графика. В авиации существует неписаный закон: прежде чем вылететь с пассажирами по новому маршруту, проводится так называемый пробный, или технический, полёт. Поэтому Министерство иностранных дел СССР запросило у правительств США, Англии и других стран разрешение на проведение двух рейсов. В первый из них — технический — было решено вылететь 4 сентября. Цель полёта — ознакомиться с радиосветотехническими средствами трассы, условиями захода на посадку, особенно в случае неблагоприятной погоды на аэродромах: низкой облачности, дождя, тумана. Одновременно экипаж должен был узнать также, как на аэродромах обслуживают самолёты. Нам, кроме того, важно было проверить состояние взлётно-посадочных полос, их пригодность для «ТУ-104».
Короче говоря, сложнее всего технический полёт. Во время его проведения надо подготовить условия для безупречного выполнения пассажирского рейса.
Расчёт нашего технического полёта строился таким образом, чтобы пройти расстояние, равное девяти тысячам километров, в один день и произвести до захода солнца посадку в Нью-Йорке.
На весь полёт предполагалось затратить тринадцать часов десять минут, а с учётом полуторачасовых стоянок в трёх аэропортах — семнадцать часов сорок минут. На подготовку самолёта к обратному вылету и знакомство экипажа с Нью-Йорком отводилось два дня. В обратный путь мы намечали стартовать 7 сентября.
На этот раз мы предполагали ночевать в Кефлавике. Чем это вызывалось? В Нью-Йорк самолёт будет лететь с востока на запад, и, стартовав из Москвы днем, он должен был засветло приземлиться в Макгайре. Другими словами, мы летели по солнцу.
Совсем иное дело на обратном пути — с запада на восток. Если бы мы не предусмотрели ночёвки в Кефлавике, пришлось бы значительную часть маршрута, проложенную над океаном, пройти ночью, а посадку в Лондоне производить после захода солнца. В этом не было необходимости — ночью люди отдыхают, и нам тоже невредно ночью поспать. Ведь цель нашего рейса заключалась в том, чтобы быстрее доставить пассажиров в Нью-Йорк. На обратном же пути в Москву нам ничего не мешало заночевать в Кефлавике.
Правда, это не означает, что для лётчиков ночь может служить помехой. На авиационных трассах нашей страны пассажирские самолёты летают круглые сутки, причём в любое время года и в любую погоду. На воздушных магистралях Москва — Хабаровск и Москва — Пекин, идущих также с запада на восток, «ТУ-104» при выполнении регулярных рейсов значительную часть пути проходит ночью, и наши лётчики неплохо справляются со своим делом. Во всяком случае, ночных «инцидентов» с реактивными лайнерами не было.
Итак, маршрут намечен. Старшим руководителем перелёта утверждается А. И. Семенков. Первым командиром корабля — Борис Бугаев. Этот опытный пилот, как и второй командир Иван Орловец, налетал на наших воздушных линиях два миллиона километров. В начале 1956 года он одним из первых начал полёты на «ТУ-104». Бугаеву пришлось совершить на самолёте — первенце советской турбореактивной авиации перелёты в Варшаву, Будапешт, Бухарест, Париж, Копенгаген. Он же водил «ТУ-104» в первый рейс на международной авиационной трассе Москва — Прага.
Третьим командиром корабля назначили меня.
Обычно в рейсовых перелетах, выполняемых на наших воздушных линиях, экипаж «ТУ-104» состоит из семи-восьми человек. Почему же на сей раз потребовалось включить в экипаж трёх командиров корабля, трёх бортштурманов и трёх бортинженеров? Рейс Москва — Макгайр был рассчитан на тринадцать часов десять минут. Естественно, что потребовалось обеспечить в пути смену экипажа. Но даже и при такой организации полёта на долю каждого из нас ложилась необычная нагрузка. Во время рейса в США все члены экипажа должны были находиться на борту самолёта не менее семнадцати-восемнадцати часов.
Пока мы вели подготовку к перелёту, поступили разрешения на полеты от всех государств, кроме США, над территорией которых пролегал наш путь.
Но вот в последних числах августа государственный департамент США сообщил, что разрешён прилёт двух советских реактивных самолётов «ТУ-104» в Соединенные Штаты в период с 3 по 17 сентября 1957 года. Представитель государственного департамента при этом указал, что это будут первые советские пассажирские самолёты, которые приземлятся в США, и что от Ньюфаундленда курс самолётов будут прокладывать американские штурманы.
И вот наступил день, когда Семенков собрал экипаж вместе с участниками подготовки к перелёту.
Первое слово, по заведённому в авиации порядку, предоставили «кудесникам погоды» — синоптикам. Докладывал начальник метеорологической службы Внуковского аэропорта Бродский. Синоптики изучали поступающие к ним сведения о погоде с самых отдалённых точек земного шара, наблюдали все изменения в метеорологической обстановке по маршруту, составляли карты. Бродский рассказал, какая погода ожидается по всей трассе от Москвы до Нью-Йорка, какова будет облачность в аэропортах, где предстояло производить посадки, рассказал о ветровых режимах на отдельных этапах маршрута. Он говорил также о состоянии погоды в Лондоне, Кефлавике, Гуз-Бее и что следует ожидать к нашему прилёту. Надо отдать должное работникам метеорологической службы: составленный ими прогноз в дальнейшем полностью оправдался.
Бортинженер самолёта Иван Крупа рапортовал кратко:
— Самолёт осмотрен, подготовлен. Можно вылетать хоть сейчас. Подобраны и упакованы запасные части и агрегаты. Подготовлены также спасательно-плавательные средства… Кстати, мне хочется задать один вопрос. В иностранных аэропортах нам придётся сталкиваться с обслуживающим персоналом. По своему личному опыту я знаю, что в капиталистических странах прежде всего интересуются, кто будет платить за посадку и за различного рода услуги. Там требуют платить деньги прямо у самолёта. Это обстоятельство необходимо учесть.
Присутствующие засмеялись. Вот ещё непредвиденная «забота»!
Семенков поспешил успокоить бортинженера.
— Всё будет в порядке, — сказал он. — У нас будут деньги для расчётов. Не волнуйтесь… — Потом он сказал: — Так как товарищ Орловец уже бывал в Лондоне, знает его аэропорт, то ему, как говорится, и карты в руки. Он первым поведет самолёт из Внуковского аэропорта. В Лондоне его сменит Бугаев.
После совещания в моём распоряжении оставался один день. За это время надо было многое сделать. На этот раз с нами не будет представителей печати, и я решил сам вести записи от старта до финиша. Сотрудник редакции «Литературной газеты» просил меня по возвращении из рейса дать статью в газету. Я обещал.
За несколько дней до полёта я встретился случайно с фотокорреспондентом В. А. Тёминым, который летал с нами на Камчатку.
— Я слышал, вы летите в Америку? — спросил он меня.
— Да.
— Как это хорошо! А фотоаппарат с собой берёте?
— Нет, это лишняя обуза. У меня и так будет по горло работы.
— Немедленно идём за аппаратом! В такой полёт — и без фотоаппарата?! Это же преступление!
Я заколебался, но Тёмин настоял на своём. И вот в моих руках фотоаппарат «Зоркий-4». Однако иметь аппарат — это полдела, надо же уметь работать с ним.
Тёмин на ходу объясняет: съёмка при солнце, съёмка утром, вечером… диафрагма… выдержка. Съёмка в облачную погоду. Съёмка с самолёта. Съёмка с самолёта при солнце… В облачную погоду… Комнатная съёмка… Импульсная съёмка…
Да, нелёгкое дело!
«Зачем мне всё это?» — с досадой спрашиваю себя.
Но Тёмин непоколебим.
— Все будет в порядке, — заверяет он меня. — Главное, запомните все, что я вам говорил, и действуйте смелее!
В моём блокноте — целая инструкция по фотоделу. Тем не менее в свои способности запечатлеть наш полёт на фотоплёнке я верю мало. Впрочем, на месте виднее будет.
С этой мыслью я отправился на предполётный отдых.
Сквозь туман — в Лондон
В это раннее сентябрьское утро, пока москвичи ещё спали, на бетонную площадку перрона аэровокзала, умытую ночным дождём и окутанную предрассветной дымкой, вырулил «ТУ-104». На его серебристой обшивке чётко вырисовывался номер 5438. И каждый, кому довелось в эти минуты быть здесь — лётчики, авиатехники, радисты, — чувствовал необычную приподнятость и радостную взволнованность.
Фотокорреспонденты, несмотря на ранние предутренние часы, когда всё вокруг ещё дремало, наводили свои объективы на самолёт, экипаж и с помощью «блицев» запечатлевали их на плёнке.
В аэропорт прибыли наши первые лидировщики-англичане: пилот Д. Локхид, штурман Э. Дейль. Люди как на подбор: рослые, крепкие. Немного отстал от них ростом пилот-бортрадист В. Шеллинг. Под его рыжеватыми усиками постоянно играет весёлая улыбка. Шеллинг немного говорит по-русски. Может быть, на этом основании он сразу же потребовал, чтобы мы называли его не иначе, как Василием Васильевичем.
Есть правило, что если между государствами нет договорённости о регулярном воздушном сообщении, то, когда нужно лететь в другую страну, на борту машины находятся лидировщики из этой страны, своего рода лоцманы. Как только наш самолёт минует Берлин, микрофон возьмет в руки английский лидер штурман-радист. В Гуз-Бее на борт «ТУ-104» поднимутся американские пилот, штурман и радист. Кстати, Шеллинг вторично лидирует самолёт «ТУ-104» по маршруту Москва — Лондон. Первый раз он сопровождал машину в столицу Великобритании, когда командиром корабля летел Орловец.
Время нашего вылета наступило, но мы ждём — нас не принимает Лондон. Там, как назло, нелётная погода. Проходит час, лидировщики нервничают. У них безнадёжно унылый вид — они чувствуют себя неловко за негостеприимство своей столицы. В Лондоне всё ещё стоит туман, и английские лётчики-лидировщики не уверены, рассеется ли он к тому времени, когда станем подходить к аэродрому. Всё же решили лететь и держать курс к берегам Англии…
«Граждане пассажиры! Объявляется посадка на самолёт «ТУ-104» 5438, следующий по маршруту Москва — Нью-Йорк!»
Сообщение диктора вызвало у всех собравшихся заметное оживление. Пассажиры, летящие в различных направлениях, поспешили на перрон аэровокзала — проводить в далекий путь наш красавец самолёт.
По крутому трёхэтажному трапу поднимаются на борт самолёта трансатлантического рейса первые пассажиры. Среди них четырёхлетний мальчик Серёжа Гуренович. Торопливой походкой, в кепи с большим козырьком, похожем на головной убор жокея, в тёмном добротном костюмчике, Серёжа уверенно направился в кабину, прямо к своему месту. В этот момент, мне кажется, многие завидовали ему: такой маленький, а уже летит за океан!
— К полёту готовы! — докладывает Орловец руководителю перелёта Семенкову.
В эти предстартовые минуты с борта самолёта я делаю первый снимок.
Закрываются двери самолёта. Орловец проходит в пилотскую кабину, занимает своё рабочее место за штурвалом. Справа от него уже сидит второй пилот Сычёв.
Спокойно стоявший самолёт легко сдвигается с места — автомашина буксирует его на старт.
Через иллюминаторы видны провожающие. Среди них — товарищи по работе, командиры, родные и близкие. Они машут нам на прощание руками.
Ровно в 7 часов 45 минут дан старт. На полную мощность заработали турбины, самолёт набирает скорость. Орловец едва заметным движением рук отрывает его от земли. Мы в воздухе. Правым разворотом ложимся курсом на запад. Высоту набираем по маршруту. Быстро перемещается стрелка высотомера, расстояние между самолётом и землёй всё увеличивается. Самолёт на заданной высоте. До земли одиннадцать тысяч метров.
Пилоты реактивных самолётов всегда стремятся быстрее выйти на эшелон, то есть на заданную высоту: на большой высоте расходуется почти в два раза меньше топлива, чем вблизи земли.
Я прильнул к иллюминатору. Плыли облака, а в просветах между ними мелькали зелёные массивы лесов, колхозные поля, города и реки. Вот блеснула водная гладь Днепра, показались родные просторы Смоленщины. Вспомнились детство, семья, навсегда дорогое сердцу Гришково.
Снаружи свирепствует встречный ветер, но пассажиры его не замечают. Самолёт стремительно мчится вперёд, и все спокойны: машину ведут опытные лётчики, штурманы, инженеры, налетавшие не одну тысячу километров в самых разнообразных условиях и на самых различных трассах.
Как только пересекли советскую государственную границу, английские лётчики Локхид, Дейль и Шеллинг проходят в пилотскую кабину. Вот Варшава, а через два часа тринадцать минут наш самолёт уже над Берлином. Отчетливо виден большой аэродром Темпельгоф. Миновав Западную Германию, пересекаем границу Голландии. Несмотря на встречный ветер, наша путевая скорость семьсот пятьдесят километров. Небо совсем чистое. С высоты десять тысяч пятьсот метров отчетливо видим типичный голландский ландшафт. Земля, изрезанная на мелкие участки, похожа на шахматную доску.
Над Голландией к нашему самолёту стараются пристроиться два реактивных истребителя.
Руководитель перелета Семенков обращается к лидировщику майору Шеллингу:
— Зачем это они нас сопровождают?
— Не беспокойтесь, — отвечает англичанин, — они просто хотят посмотреть на красивый самолёт.
Приближаемся к морю, горизонт постепенно обволакивает туманом. Переходим на связь с Лондоном. Оттуда поступают приятные вести: погода улучшается, пока же над английской столицей держится туман. А мы уже недалеко от Лондона. Под нами, судя по расчётам бортштурмана Носова, водное пространство, отделяющее острова Англии от континента, но видеть его нам мешает густая пелена тумана.
Эскортирующие нас сигарообразные истребители вскоре отваливают в сторону, исчезая в облаках.
Стрелка часов приближается к одиннадцати. Туман рассеивается, и впереди показываются берега Великобритании. Радист держит непрерывную связь с диспетчерской службой Лондонского аэропорта. Нас принимают. Настроение у всех приподнятое.
Вовсю веселится Борис Бугаев. Обернувшись в нашу сторону, он, улыбаясь, говорит:
— Лондон, Лондон! Мэй ай лэнд? (Разрешите посадку?)
Я отвечаю ему в тон:
— 5438, ю мэй лэнд! (Посадку разрешаю!)
В 11 часов ровно начинаем снижение, и самолёт сразу входит в туман. Туман сгущается до темноты. Заметно побалтывает. Бортпроводница старательно угощает участников перелёта мятными конфетами.
Когда же до земли остаётся около тысячи метров, видимость улучшается. Различаем рыжие полосы полей и лугов, тёмно-зелёные пятна леса. Привлекает внимание густота населённых пунктов. От английского побережья до Лондона нам встретилось не менее пятнадцати аэродромов с бетонированным покрытием, длинными взлётно-посадочными полосами.
В кабине раздаётся возглас: «Лондон!» Открывается изумительная гигантская панорама английской столицы. Плавно катит свои воды Темза. Как много мостов на ней!
Самолёт круто снижается. До земли остаётся сто пятьдесят метров, семьдесят метров… Аэродром набегает на самолёт, под нами проносится широкая бетонная лента — посадочная полоса. Мы думаем об одном: «Орловец должен посадить самолёт только на отлично. За нашей посадкой наблюдают сотни глаз».
Колёса мягко касаются бетона. В 11 часов 34 минуты по московскому времени наш самолёт уже катится по бетонной дорожке центрального Лондонского аэродрома.
Первый этап пути пройден за три часа сорок девять минут.
Моросит мелкий дождь. Самолёт ставим вдалеке от аэровокзала. Встречают нас только официальные лица и представители советской колонии. Впрочем, прорвались и три корреспондента: радиовещательной компании «Би-Би-Си», газеты «Таймс» и телевидения. Их интересуют подробности перелёта. Семенков, Бугаев, Орловец и другие члены экипажа едва успевают отвечать.
Наблюдаем любопытную картину: под аэродромом проходит туннель, из которого то и дело выбегают служебные машины и автобусы с пассажирами. Все это происходит в непосредственной близости от нашего самолёта. Как выясняется впоследствии, в этих автобусах сидели любопытные лондонцы, решившие использовать единственную возможность — хотя бы на расстоянии посмотреть на наш «ТУ-104».
На первом участке нашего перелёта материальная часть самолёта работала безукоризненно. В Лондонском аэропорту понадобилось только провести послеполётный осмотр машины и её отдельных агрегатов, топливной, масляной и водяной систем, шасси, а затем заправить топливные баки.
Быстро и аккуратно выполнял инженерно-технический состав Лондонского аэропорта все наши запросы. Обслуживающий персонал встретил нас приветливо, радушно. Рабочие и служащие аэропорта интересовались, как в СССР обслуживают рейсовые самолёты, какие у нас применяются средства механизации. Многие из них пожелали осмотреть «ТУ-104». Мы им позволили, и работники аэропорта благодарили нас. Поблагодарили и мы взаимно за услуги.
Мы предполагали пробыть в Лондоне полтора часа. Увы, пришлось задержаться больше. Вынужденная стоянка была вызвана формальностями, связанными с пребыванием советских граждан в иностранном государстве. Лишь спустя два с четвертью часа можно было продолжать путь.
Курс на Исландию
Никто из посторонних нас не провожает, только рабочие аэродромной службы приветливо машут платками и кепками, да на площадке командно-диспетчерского пункта толпятся служащие аэровокзала.
13 часов 55 минут. Мы снова в воздухе. Происходит смена экипажа. Начинается второй этап перелёта. За штурвалом — Бугаев.
Проходит пятьдесят минут с момента взлёта, и Британские острова остаются позади. В Атлантику вступаем на высоте одиннадцать тысяч метров. Держим курс на Исландию. Море не просматривается, летим над облаками, руководствуясь только радиосредствами самолётовождения. Лидировщики всё те же.
В пассажирской кабине завязывается беседа. Мы слушаем рассказ Локхида. Он летает уже семнадцать лет. В годы второй мировой войны водил тяжёлые военные воздушные корабли, воевал над Африкой, Германией, Японией. Полёт на «ТУ-104» произвёл на него большое впечатление.
— Большая мощность, внушительный вид, — говорит он о нашей машине, — идеально строгие и красивые формы, быстро набирает высоту, прост в управлении.
Мы не остаемся у него в долгу и, в свою очередь, расхваливаем Лондонский аэропорт, его техническое оснащение. Всё, что мы успели увидеть за наше краткое пребывание в Лондоне, выше всяких похвал.
Под нами океан. Видны седые гребни его волн. Тёмно-свинцовые воды Атлантики неспокойны. Но в пассажирской кабине светло, тепло. Обед сопровождается весёлыми шутками.
Бортрадист Метёлкин непрерывно держит связь с Москвой и Исландией. Москва интересуется мельчайшими подробностями нашего полёта. Радиограммы поступают на самолёт одна за другой.
Воздушный корабль мчится всё дальше на север. Пересекаем шестидесятую параллель. Вспоминаем, какие различные по своему значению и интересные точки расположены на ней: Ленинград, Магадан, мыс Олюторский, остров Нунивак у Аляски, Юлианехоб в Гренландии, озеро Пейн на Лабрадорском полуострове. Над ним нам и предстоит пролететь.
Остров Исландия, куда держит курс наш самолёт, расположен, так сказать, у вершины земного шара — на стыке Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Северная оконечность острова врезается в пунктирную линию Полярного круга. Отсюда до Москвы четыре тысячи пятьсот километров. Кстати, такое же расстояние и от Иркутска до Москвы. Самолёт «ТУ-104» проходит его, включая посадку в Омске, за семь часов десять минут.
По своей площади Исландия занимает второе место в Европе, превосходя почти в три с половиной раза территории Бельгии, Нидерландов, в два с половиной раза территории Дании, Швейцарии. И вместе с тем Исландия — одна из наименее населённых стран в Европе. Здесь живёт всего сто сорок тысяч человек.
Самолёт проходит над большим кораблём. Это плавучая база с радиотехническими средствами навигации. Миновав корабль, штурман Акимов передаёт Бугаеву поправку в курсе.
Подходим к Исландии. Показывается береговая полоса. За ней виднеются холмы и сопки, хаотическое нагромождение чёрно-пепельных туфов и базальтовых наплывов. Дальше — горы. Никаких следов растительности.
Остров этот возник в результате вулканической деятельности. Лава и пепел составляют его почву. На нем насчитывается около ста вулканов, причем двадцать восемь из них действуют и поныне.
Посадка на Кефлавикский аэродром связана со значительными трудностями. Команды с земли передают английскому лидировщику «Василию Васильевичу», а он, в свою очередь, информирует Бугаева. Таким образом, условия посадки становятся известными командиру корабля как бы из вторых рук.
Снижаемся. Сопки становятся всё больше и больше. Вот уже выпущено шасси, выпускаются и закрылки, скорость полёта всё уменьшается, самолёт идёт на посадку, садится.
16 часов 40 минут по московскому времени. Мы в Кефлавике. Во время снижения самолёта нам удалось рассмотреть фонтан действующего гейзера. Его белый султан выделялся на фоне пепельно-серой, словно выжженной земли. Мне удаётся его заснять.
В Исландии широко используется горячая вода гейзеров: по трубам её подают в города для отопления квартир, обогрева парников и оранжерей.
Расстояние в тысячу девятьсот километров «ТУ-104» прошёл за два часа сорок минут. Снова и снова подтверждаются высокие лётные качества нашей машины.
Первыми нас встретили вездесущие фоторепортёры. Они буквально лежали вдоль взлётно-посадочной полосы, нацелив на «ТУ-104» объективы своих аппаратов. Вначале их легко было принять за цепь автоматчиков, обстреливающих наш самолёт на пробеге.
Мы приземлились на территории американской военной базы. Среди встречающих — много лётчиков, инженеров, вообще авиационных специалистов. Прибыли, конечно, и представители советской колонии.
Погода капризничает. Небо сплошь закрыли облака, дует пронизывающий арктический ветер. Но это не мешало исландцам быть приветливыми с нами.
У самолёта собирается всё больше народу. Все с интересом осматривают незнакомую им, удивительную машину. То и дело раздаются возгласы восхищения.
Вдруг собравшиеся на аэродроме заулыбались: к огромному «ТУ-104» неожиданно подрулил крохотный спортивный самолёт «Сэсна». Он казался лилипутом, расположившимся у подножия великана. Владелец самолёта специально прилетел в Кефлавик из столицы Исландии Рейкьявика, чтобы встретить нас и осмотреть советский самолёт.
Представители печати и авиаспециалисты засыпали членов экипажа самыми различными вопросами: как мы летели, что интересного наблюдали в пути?.. Особенно же их интересовал сам первенец советской гражданской реактивной авиации. Как устроен «ТУ-104», как работают двигатели на нем, какова скорость полёта? В этой сумятице не обошлось и без приключений. Окружив плотным кольцом Семенкова, репортеры вынудили его дать интервью прямо с ходу. Но в это же время Семенков должен был встретиться с начальником авиабазы. Генерал обиделся, что руководитель перелёта не пожаловал с визитом к нему первому, и, не осмотрев самолёт, покинул аэродром.
Нам очень хотелось побывать в Рейкьявике. Каждый из нас немало слышал и читал об этом городе, с его уютными одноэтажными домиками, сложенными из местных туфов. Хотелось осмотреть его своеобразные узкие улочки с крутыми подъёмами и спусками, проехать на площадь Астувэлур, где находится парламент, взглянуть на памятник Иону Сигурдсону — борцу за национальную свободу и независимость страны. А главное — встретиться и поговорить с жителями столицы. Ведь среди них у нас много друзей.
Но мы были связаны графиком полёта. И, хотя вместо намеченных полутора часов мы задержались на целых четыре часа, побродить по городу не смогли. Со следующего пункта нашей остановки, Гуз-Бея, поступали неблагоприятные сообщения о погоде. К тому же связь работала с перебоями. Нам объясняли это непрохождением радиоволн.
Позже, когда мы прочитали сообщение некоторых иностранных газет о том, что мы «летели из Москвы в Нью-Йорк двадцать два часа», нам стало понятно, что задержали нас в Кефлавике не случайно. Кому-то было выгодно сорвать своевременное прибытие в Нью-Йорк «ТУ-104», чтобы ослабить впечатление, которое он произвёл на Западе.
Кстати, некоторые буржуазные газеты грубо извращали цель перелёта «ТУ-104» в США. Они уверяли читателей, будто этим перелетом Советский Союз наметил «добиться пропагандистских преимуществ, которые может принести демонстрация этого скоростного и совершенного реактивного самолёта». В исландские газеты также проникли туманные рассуждения о каких-то «особых целях» нашего перелёта.
Зато более длительное, чем предполагалось, пребывание в Кефлавике для нас не пропало даром. Мы познакомились со страной.
Ни с чем, пожалуй, нельзя сравнить пейзаж Исландии. Горы, ледники, вулканы. На севере, в районе Акурейри, имеется небольшая роща карельской березы, выращенная из семян, завезённых из России и Канады. Незабываемое впечатление оставляют извилистые фиорды, холмистые ледяные поля, озёра.
Время идёт. Связи с Канадой по-прежнему нет.
Семенков созывает пилотов на совещание. Местная метеорологическая служба предсказывает улучшение погоды на трассе. Все высказывают единодушное мнение: вылетать немедленно.
К полуострову Лабрадор
20 часов 50 минут.
Мы снова в воздухе. На борту, кроме англичан, находятся также и канадские лидировщики Эдварде и Стюуэр. У штурвала снова Орловец. Теперь на сухопутном самолёте пойдём над водным пространством в две с половиной тысячи километров.
Слева по борту, недалеко от берега, над водой возвышается глыба странной квадратной формы. На тёмно-свинцовой поверхности океана она стоит как привод, по которому самолёт заходит на посадку.
Пилоты установили наивыгоднейший режим работы двигателей.
На этом участке особенно важно экономно расходовать топливо. Кто знает, может быть, из-за плохой погоды придётся возвращаться от расчётной точки в пункт вылета.
Виктор Акимов и Николай Носов заняты своим делом — они ведут расчёты. Главное — точно выдерживать курс. Не менее важно — не прозевать точку возврата. Не исключено, что Гуз-Бей нас не примет, и тогда, развернувшись на сто восемьдесят градусов, снова пойдём в Кефлавик.
В этот момент я навёл на Носова объектив своего фотоаппарата. Должен получиться интересный снимок: штурман Носов за работой во время полёта над Атлантикой.
Внизу океан гонит неспокойные волны, набегающие друг на друга пенистые гребни напоминают весенний ледоход.
Прошло сорок пять минут. Пролетаем над большим кораблём. Он стоит перпендикулярно к нашему курсу. Это второй радионавигационный маяк на нашем пути. Меняем курс. Связи по-прежнему нет ни с Москвой, ни с Гуз-Беем. В Москве нас предупреждали, что появление новых пятен на солнце может вызвать возмущения в эфире. По-видимому, так и получилось.
Носов показывает точку на карте, где летим в данный момент. Но точно определить, с какой скоростью идёт самолёт, он не может. Сильный встречный ветер не позволяет развить больше шестисот девяноста километров в час. Плохо, но океан есть океан!
Машину начало покачивать, значит, мы вошли в тропопаузу — слой воздуха, который залегает между тропосферой и стратосферой. За бортом как будто тихо, но это спокойствие сомнительное. На высоте нашего полёта с огромной скоростью несутся массы воздуха, образуются воздушные волны. На больших высотах в атмосфере имеются постоянные воздушные течения, скорость перемещения их доходит до трёхсот шестидесяти километров в час. Они возникают на высоте от девяти до двенадцати километров над землёй, в широтах, близких к полюсам, а ближе к экватору на высоте пятнадцати — семнадцати километров, и текут почти непрерывно.
Хорошо, если течение этих «воздушных рек» идёт в направлении полёта. Но мало приятного сулят они, когда самолёт идёт навстречу, как мы сегодня. Чтобы выйти из тропопаузы, пилот набирает высоту. И действительно, стоило нам подняться ещё на триста-пятьсот метров, как полёт снова становится спокойным.
По московскому времени 22 часа. В Москве давно уже темно, а мы летим под северным бледно-голубым небом, и нам светят яркие лучи ещё не зашедшего солнца. Высота полёта одиннадцать тысяч метров. Море то появляется под нами, то снова исчезает за облачной пеленой, будто кто поднимает и опускает театральный занавес.
Но вот облачность рассеялась, и открылось незабываемое зрелище: словно белоснежные бутоны лилий, плывут по морю айсберги, сверкая на солнце светло-бирюзовыми вершинами.
— По-видимому, вы в первый раз наблюдаете такое зрелище? — спрашиваю я нашего переводчика Николая Кустова, прильнувшего жадно к иллюминатору.
— Да, — признался он. — Я чувствую себя так, как будто передо мной открылся сказочный мир.
Во время стоянок в аэропортах у Кустова много работы. Все переговоры с обслуживающим персоналом и администрацией ведутся с его помощью. Только успевай! Зато во время полёта у него много свободного времени.
Мы разговорились. Оказывается, Николай много слышал о полётах на поршневых самолётах. Рассказывали, что во время набора высоты и при снижении пассажиры чувствуют себя плохо. И вдруг ему предложили лететь в Нью-Йорк, да ещё на «ТУ-104».
— Ни разу в жизни не летал, — рассказывает он, — а тут сразу подъём на десять-одиннадцать тысяч метров! Ночи не сплю, всё думаю о полёте. На взлёте крепко сжал пальцами подлокотники кресла. Жду — вот-вот начнёт бросать, тошнить, словом, жду неприятностей. Не знаю, сколько бы времени я просидел в оцепенении, если бы не привёл меня в чувство сосед по креслу — Колосов. «Чего ты сидишь, как изваяние?» — «Жду, когда взлёт кончится», — цедя сквозь зубы, ответил я. «Хватился — взлёт! Мы высоту уже набрали!» — «Вот здорово! А где же ощущения?..» — Ну и посмеялся же надо мной Колосов!..
В кабине повисает гнетущая тишина. Связи нет. Молчат Москва, Новосибирск, Мурманск, Северный полюс, Хабаровск — все радиостанции, которые следят за нашим полётом. Не отвечает по-прежнему и Канада. Точки возврата пройдены — назад не повернуть, двигаться можно только вперёд. А что, если и в Гуз-Бее сопки и аэродром окажутся закрытыми низкой облачностью и туманом?
Обстановка тяжёлая. Но вот раздался звонкий голос второго нашего переводчика Константина Ковшова, весельчака и балагура. Глядя в воды океана, Костя нарочито громко кричит:
— Кит! Кит!
— Не кит, а акула, — спокойно возражает ему Колосов.
— Да нет же, кит! — горячо спорит Костя. — Вот он, вынырнул на поверхность. Смотрите, смотрите! Вон показал головищу, подмигнул левым глазом, ударил хвостом и скрылся в волне.
Шутливый разговор выводит всех из задумчивости. Люди оживились и не заметили, как вдали показался материк.
Вскоре мы идём вдоль безжизненных берегов Гренландии. Мелькают остроконечные вершины острова. Горы, горы без конца. Вокруг всё мертво, только ледники да фиордовые поля, кажется, живут своей таинственной жизнью.
Зловещий остров — «кухня погоды». Закованный льдами, он лежит в морозной дремоте. Вот уж где не хотелось бы застрять!
Залитые солнцем складки снега, нагромождение ледников, остроконечных вершин — таков расстилающийся внизу пейзаж Гренландии. Щёлкнул затвор фотоаппарата. Вряд ли будет удачный снимок, но попробовать следовало.
Отходим от Гренландии на юго-запад. У всех вырывается вздох облегчения: нашим лидировщикам-канадцам удаётся установить связь с Гуз-Беем на ультракоротких волнах. Оказывается, наш расчёт был правильным — прогноз погоды подтвердился, Гуз-Бей принимает самолёт.
Полночь по московскому времени. В Москве бьют куранты Спасской башни, а мы при ярком дневном свете приближаемся к берегам Канады. Внизу снова всё затянуто тяжёлыми, тёмно-свинцовыми облаками. Снижаемся, ныряя в облака, погружаемся в непроницаемую мглу.
Высота четыре тысячи метров. В редких просветах между облаками видим острова, расположенные рядом с Лабрадором. До аэродрома — десятки километров.
Посадка предвидится ещё более неприятная, чем в Исландии: аэродром в Гуз-Бее со всех сторон окружён возвышенностями от трехсот до тысячи метров высоты плюс облачность. Нервы напряжены.
— Земля, земля! — раздался долгожданный возглас.
Вынырнула щётка хвойного леса. Для вынужденной посадки лес — место неподходящее. Однако это лучше, чем безжизненные камни застывшей Гренландии. Самолёт заводят на посадку с помощью радиолокационных средств. Канадские лидировщики принимают команды с земли и передают их «Василию Васильевичу», а тот — командиру корабля. Садиться надо с первого захода, поворотный заход значительно усложнил бы пилотирование на малых высотах при трудных подходах. Вынырнув из облаков, замечаем широкую бетонированную ленту. В 00 часов 30 минут по московскому времени мы приземлились в Гуз-Бее.
Вечереет. Вдоль аэродрома вытянулись стандартные дома барачного типа, окрашенные в защитный цвет. Наш самолёт движется по рулёжной дорожке недалеко от ангара, возле которого, опустив нос на землю, стоит тяжёлый четырёхмоторный транспортный самолёт с выпущенными закрылками. Разрушенная стойка переднего колеса и выпущенные закрылки свидетельствовали о том, что поломка произошла во время посадки. На площадке у командного пункта собралось население базы — офицеры, женщины, дети. Все они приветливо встречали нас.
Командование авиабазой приготовило нам ужин и ночлег в полной уверенности, что мы останемся здесь до утра, полагая, что тяжёлый транспортный реактивный самолёт ночью не летает.
На аэродром спускаются сумерки. Наш конечный маршрут Гуз-Бей — Нью-Йорк. К самолёту подходят три американских пилота. Поравнявшись со мной, они представились — американские лидировщики.
Один из них, пилот, на ломаном русском языке знакомит с прогнозом погоды: ожидается два мощных грозовых фронта.
— Наши самолёты при такой метеорологической ситуации не летают, — обращаясь ко мне, заявляет американец.
— Почему?
— Грозу нельзя ни стороной, ни верхом обойти.
— На какой высоте летают ваши рейсовые самолёты?
— Обычно на высоте четыре-пять тысяч, максимум шесть-семь тысяч метров. А грозовые облака могут простираться и до восьми — десяти тысяч метров!
— Для «ТУ-104» эта высота не является преградой, — ответил я и повёл лидировщика к командиру корабля Бугаеву.
«ТУ-104» в Нью-Йорке
5 сентября. 2 часа по московскому времени. 19 часов по нью-йоркскому.
Дан старт. Пробежав половину полосы, наш самолёт отрывается от земли и с правым разворотом уходит в ночь. Входим в облака.
На этом этапе снова пилотирует Бугаев. На борту американские лидировщики: пилот капитан Ренеджер, штурман Дабсон, бортрадист Робинсон. Все они в штатских костюмах, хотя Ренеджер — военный лётчик. Радист хорошо знает русский язык, значит, можно будет обходиться без переводчика. Всё-таки облегчение для экипажа.
Наш курс — на юго-запад. Багровый отблеск заката озаряет всё вокруг феерическим светом — лилово-красным, оранжевым, тёмно-фиолетовым. Наши спутники дремлют. Они всё ещё живут по московскому времени.
По курсу слева на фоне тёмного неба огни северного сияния. Трепетно колеблются серебристые столбы. Потом светлые лучи расходятся веером, а правее их возникают лёгкие светлые облака. Увеличиваясь и сливаясь, они сверкают на тёмно-синем небосводе голубовато-прозрачным сиянием, образуя нечто похожее на Млечный Путь.
Увлекшись этим необычным зрелищем, многие из нас не заметили, как вдали заполыхало множество огненно-красных вспышек.
Гроза! Прогноз погоды некстати оправдывается. Мощные кучевые облака поднимаются всё выше, усеянный ярко искрящимися огоньками звёзд «ТУ-104» несется вверх, подальше от грозы.
Постепенно забираемся на высоту более десяти тысяч метров. Мы в стратосфере. Под нами пылает сплошное море огней — так сильны разряды молний.
Наши лидировщики впервые очутились на такой высоте. Они предупреждали нас о грозе, не предполагая, что советский реактивный самолёт, легко поднявшись в стратосферу, может оставить грозовые облака далеко под собой.
Когда стрелка указателя высоты дошла до цифры свыше десяти тысяч метров, капитан Ренеджер спросил у Бугаева:
— А ещё выше можете?
— Выше? Конечно, можем, пожалуйста!
— Нет, нет, не надо! — замахал руками американец, поспешно останавливая Бугаева, который уже взялся за рычаги секторов газа.
Семенков, находившийся в это время в пилотской кабине, спросил Ренеджера, как ему нравится наш самолёт.
— Очень хороший самолёт! Его нельзя сравнить ни с одним из существующих в мире… Это всё равно, что пересесть с лошади на автомобиль. Я бы за такой самолёт наших три дал…
— А я бы шесть… — говорит сидящий рядом Дабсон.
Покидая борт «ТУ-104», капитан Ренеджер сказал:
— Вполне можно было согласиться летать рейсовым пилотом на «ТУ-104». Платили бы хорошо!
Не успели мы миновать один грозовой фронт, как возник другой. Под нами разбушевавшаяся стихия, а вверху бледные мерцающие звезды и холодный свет луны. Снова взбираемся на огромную небесную высоту.
Постепенно разбушевавшаяся стихия угомонилась. Облака начали снижаться, но земли по-прежнему не было видно.
Засверкали огни Бостона. Скоро Нью-Йорк. А связи с землёй всё нет. Возмущения в верхних слоях атмосферы снова прерывают радиосвязь.
Проходит ещё немного времени, и впереди возникает огромный светящийся ковер — Нью-Йорк! Наша высота десять тысяч метров.
Только на подходе к городу удается установить связь с землёй. Начальник военной базы Макгайр полковник Форд сообщает, что метеорологическая обстановка в районе аэродрома сложная — шквальный ветер и дождь. И всё же надо снижаться. Однако командно-диспетчерский пункт даёт нам не сразу разрешение на посадку. Американский пилот объясняет, что аэродром вынужден срочно принять самолёт, у которого отказал мотор…
Наконец посадка разрешена и нашему «ТУ». Сильно болтает, боковой ветер затрудняет пилотирование, тем не менее Бугаев и Девятов мастерски приземляют машину.
5 часов 45 минут по московскому времени, 22 часа 43 минуты по нью-йоркскому. Здесь ещё не закончилось 4 сентября. Посадка произведена на аэродроме Макгайр в штате Нью- Джерси, в ста десяти милях юго-западнее Нью-Йорка.
Нелёгкий путь от Москвы до Нью-Йорка в девять тысяч километров пройден за тринадцать часов двадцать девять минут, а не за двадцать два часа, как писали некоторые зарубежные газеты.
Как и везде, прибытие нашего самолёта в США вызвало большой интерес. Несмотря на ночное время и дождь, около двухсот корреспондентов газет, телеграфных агентств, радио- и телевизионных компаний, прорвав полицейское оцепление, окружили нас.
Я выходил из самолёта последним. Слепящие лучи прожекторов и вспышки «блицев» не позволяли спуститься по трапу. Спасла догадка: вскинув свой фотоаппарат и нацелив его на густой частокол микрофонов, окруживших наш экипаж, я, в свою очередь, дал вспышки «блицем». Это вызвало короткое замешательство среди представителей печати, они прекратили «обстрел». Затем раздался дружный взрыв смеха, послышались весёлые крики:
— Вот это да! Один русский приостановил атаку…
У самолёта я встретил советских журналистов. Представители советской печати взяли первое подробное интервью о нашем перелёте.
Тут наш экипаж подвергся сумасшедшей атаке американских корреспондентов. Они засыпали Бугаева, Семенкова и каждого из членов экипажа вопросами: «Сколько летели до Нью-Йорка?», «Какую держали скорость?», «Много ли у вас таких машин?» Мы едва успевали отвечать. Рассказали, что прилетели на обычном серийном самолёте и пилотировали его линейные лётчики Гражданского воздушного флота, которые уже второй год совершают на реактивных машинах регулярные рейсы на самых различных авиалиниях.
Посмотреть советский реактивный самолёт приехали многие видные американские инженеры, конструкторы, военные специалисты, представители крупных авиационных компаний. Восторженно о самолёте отзывались и американские газеты, и многие американцы. Ясно было, что «ТУ-104» произвёл в США огромное впечатление. И своим полётом он, по словам американской печати, «побил воздушную мощь Запада». А газета «Нью-Йорк таймс» в специальной передовой статье писала, что ввод в эксплуатацию «ТУ-104» был «огромным скачком в авиационной технике».
Аэродром, на котором мы приземлились, — военный. Американские власти не разрешили посадку «ТУ-104» в Нью-Йоркском аэропорту.
Дальность расстояния помешала многим, кто хотел, осмотреть наш самолёт. Правда, и в Макгайре встречающих собралось много. Газета «Крисчен сайенс монитор» писала: «Когда этот самолёт появился в поле зрения под шум собственных моторов, на него устремили взоры сотни людей, собравшихся у заборов из колючей проволоки и несколько часов — почти до полуночи — простоявших здесь в ожидании».
За сотни километров на аэродром Макгайр прибыли двое пожилых людей, чтобы посмотреть советский «ТУ-104». Они русские, давно эмигрировавшие из России в Америку. Администрация им заявила, что «ТУ-104» не прилетит: время по графику уже вышло. А если он и появится, то ночью над Нью-Йорком обязательно зацепит крылом за небоскрёб… В США действительно был случай, когда военный самолёт — тяжёлый бомбардировщик — задел небоскрёб. В результате этой катастрофы сгорело семь этажей дома.
Однако старики остались ждать и все же дождались прилета нашей машины.
Увидев самолёт, они, радуясь и плача, говорили нам:
— По возрасту нам уже не суждено быть в России, а как бы хотелось! Смотришь на «ТУ-104», глаз радуют его красивые формы и весь его внушительный вид. Нам особенно дорого, что машина сделана руками наших соотечественников. Какая тонкая работа! Посмотрели ваш самолёт — и как будто в России побывали! — Со слезами на глазах, растроганные старики жали нам руки.
Тёмная ночь. «ТУ-104» стоит на бетонированной площадке возле служебного здания аэродрома. Экскурсанты и встречающие разъехались по домам. Вокруг самолёта установлены на крестовинах деревянные столбики, в ушки которых протянут канат, опоясывающий со всех сторон «ТУ-104». Вооружённые полицейские охраняют его.
Для наведения порядка внутри самолёта осталось несколько человек, а большая часть экипажа и пассажиры после двадцати часов пребывания в пути проходят двухчасовую процедуру таможенных формальностей. Мы сидим в душном помещении, многие засыпают от усталости.
Чего мы ждём? Что надо делать? Скоро ли отпустят? Никто из нас на эти вопросы ответить не может.
Чиновники с олимпийским спокойствием, жуя резинку, перелистывают нужные и ненужные дела, делая вид, что страшно заняты. После двух часов ничем не оправданного томительного ожидания нас отпускают. Рассевшись по машинам советского дипломатического представительства, колонной в десять автомашин мы отправляемся в Нью-Йорк. Путь нашей колонне прокладывает мощная полицейская машина с красным мигающим светом на крыше. Такая же автомашина замыкает нашу колонну. Мы едем в Нью-Йорк под конвоем полиции.
Русские шоферы-виртуозы лихо мчат нас по хорошей автостраде со скоростью более ста двадцати километров в час.
Расстояние от Макгайра до Нью-Йорка мы проезжаем за два часа. За проезд по дороге от аэродрома до Нью-Йорка с каждой автомашины взыскали по одному доллару двадцать пять центов. Перед спуском в туннель, проходящий под рекой Гудзон, снова плата — пятьдесят центов. За стоянку автомашин — особая плата. Плата за всё — таков закон капитализма!
Не успели мы войти в здание советского посольства в Нью-Йорке, как руководителю перелёта Семенкову вручили несколько депеш. На столах надрывались телефоны.
В 10 часов по нью-йоркскому времени мы были уже на ногах. На проводе Москва. Корреспонденты «Советской России» и «Вечерней Москвы» связались с Нью-Йорком, чтобы получить наши последние сообщения о перелёте.
В эту беспокойную ночь спать нам почти не пришлось. Рано утром мы вернулись в Макгайр, чтобы провести послеполётный осмотр самолёта и подготовить его для следования в обратный путь.
На аэродроме, где уже дожидались желающие посмотреть самолёт, нам предложили перерулить «ТУ-104» на другую стоянку.
По указанию администрации и сопровождающего на рулении капитана Ренеджера, одетого в военную форму, наш воздушный корабль был поставлен на бетонированной площадке возле большого ангара, в котором стоял неуклюжий двухпалубный высокий самолёт.
Мы узнали, что с этой нахохлённой, похожей на пернатого хищника, неуклюжей машины была сброшена первая атомная бомба на Хиросиму. Об этом с восторгом нам сообщил Ренеджер. Но нас такое сообщение мало радовало. Было обидно, что советский реактивный пассажирский лайнер оказался рядом с этой стальной американской «реликвией». Невольно вспомнились жертвы Хиросимы. С тяжёлым сердцем отошли мы от машины. Нет, не для перевозки атомных бомб должны строиться самолёты!
В небе над аэродромом носились реактивные истребители последней марки — «Ф-102».
— Макгайр — место базирования тяжёлых транспортных самолётов, а почему здесь летают истребители? — спросили мы у капитана Ренеджера.
— О да! Их здесь не было, они недавно, только что прилетели, — ответил капитан.
Некоторые американские газеты в те дни писали, что «ТУ-104» якобы ничем не отличается от военного бомбардировщика. А прибывшие в Макгайр истребители «Ф-102» из зоны ПВО Нью-Йорка надежно могут защищать воздушное пространство от противника, с успехом отразят любую атаку русских при налёте на аэродром Макгайр.
Эта дешёвая газетная трескотня понадобилась, чтобы исказить и уменьшить значение нашего перелёта через океан и доказать американской публике, что в Америке, дескать, имеются самолёты получше, чем у русских.
Точно так же, как в Англии, Исландии и Канаде, на аэродроме Макгайр обслуживающий персонал отнесся к нам очень внимательно и заботливо.
Когда нам, например, понадобилось буксировочное приспособление, его быстро соорудили, хотя это было не так просто. Наш экипаж от души поблагодарил американских друзей.
— Ол райт! Мы не забыли военные годы совместной борьбы с фашизмом. Мы и сейчас хорошо можем понимать друг друга и жить в мире, — сказал, уходя от самолёта, старший сержант Сомпсон. (Фамилия его, как и у всех американских военных, была написана на правом кармане форменной рубашки).
Слова Сомпсона заставили вспомнить Бари. Кто знает, может быть, этот же механик Сомпсон и тогда обслуживал наши самолёты. Но если в те грозные годы мы могли находить общий язык, то в послевоенный период надо ещё лучше знать друг друга, добиваться хороших добрососедских взаимоотношений между государствами и народами.
На следующий день экипаж отдыхал. Воспользовавшись свободным временем, мы решили побывать в Нью-Йорке — городе, о котором столько слышали.
Весь день 6 сентября посвятили его осмотру. Конечно, один день — срок очень маленький для ознакомления с таким огромным городом. Это, собственно говоря, было знакомство из окна автомобиля. Гигантский город представился мне скоплением механизмов, в которых теряется живой человек. Видели мы небоскребы, подавляющие собой город, улицы, забитые автомашинами и пестрящие множеством кричащих реклам. Всюду шум, суета и… всюду отсутствие какой бы то ни было зелени. Лишь на набережной, ведущей к зданию Организации Объединенных Наций, мы видели деревья. Немного зелени было ещё в скверике у порта, откуда и начал расти город.
Советским лётчикам довелось побывать в здании Организации Объединенных Наций и даже присутствовать на заседании Совета Безопасности, где как раз в это время выступал представитель Советского Союза.
Полицейские, стоящие у входа, узнав, что мы члены экипажа «ТУ-104», не отобрали у нас пропуска в здание ООН, разрешив оставить их нам на память, как редкие сувениры.
Возвращение
Утром следующего дня начались сборы в обратный путь. Ровно в 13 часов 30 минут по московскому времени 7 сентября сигарообразная машина с надписью «Аэрофлот СССР Л5438» взяла старт.
Итак, новый бросок через океан, на сей раз в обратном направлении. Но теперь мы уже летим на Родину. А домой всегда легче возвращаться.
Корабль сначала ведёт Орловец. На борту те же американские лидировщики, они будут сопровождать нас до Гуз-Бея. В салоне пассажиры, двое взрослых и двое ребят.
— Даже не чувствуется, что мы на такой высоте и что летим с такой скоростью, — замечает кто-то из пассажиров.
Не прошло и часа, а уже Носов объявляет:
— Покидаем берега Соединенных Штатов.
Видимость прекрасная. Под нами синева безбрежного водного пространства, которое нам предстоит преодолеть.
В 16 часов 15 минут мы совершили посадку на знакомом нам аэродроме Гуз-Бей. Обратный путь занял времени на час меньше, чем при полёте в Америку.
Старший нашей группы раздаёт собравшимся на аэродроме памятные открытки «ТУ-104» с датой вылета из Москвы и посадки в Нью-Йорке, а также сувенирные значки.
Фотолюбители фотографируют самолёт. Они просят разрешения снять экипаж вместе с экскурсантами. Одна молоденькая фотолюбительница работала усовершенствованным фотоаппаратом. Только щёлкнет затвором, как тут же раскрывает кассету, снимает тонкий слой бумаги — и снимок готов!
19 часов 15 минут. Подошла моя очередь вести самолёт.
Ни с чем нельзя сравнить те радостные чувства, которые я испытывал перед полётом на «ТУ-104» через Атлантику в условиях Севера и неустойчивой погоды. Чем труднее задача, тем интереснее она для лётчика.
Я занял левое пилотское кресло, подогнав его по своему росту. Осмотрел арматурное оборудование кабины, надел наушники, проверил готовность к полёту экипажа. Через лидировщика попросил разрешения и вырулил на старт.
Разрешение на взлёт получено, и 74-тонная машина плавно покидает землю Канады.
Левым разворотом ложусь на курс девяносто градусов. Как и многим участникам Отечественной войны, этот курс мне особенно знаком — он всегда означал: «Задание выполнено, летим домой».
— Пассажиры чувствуют себя хорошо, — докладывает бортинженер Крупа.
Всё выше в синий небосвод устремляется наша машина. Вот она, заданная высота полёта — десять с половиной тысяч метров. Идём над Атлантикой; она закрыта от нас слоисто-кучевыми облаками.
Штурман по радиолокатору уточняет местонахождение, ведёт расчёт пролёта над контрольным ориентиром. Самолётом теперь управляет автопилот. Моя задача следить за его работой и при помощи рукоятки, установленной на подлокотнике, корректировать действие прибора.
Штурман принимает позывные приводной радиостанции поворотного пункта на берегу Гренландии. На экране извилистой чертой светится береговая линия. Берега закрыты облаками. Меняем курс и проходим мимо этого негостеприимного острова. Бортрадист держит связь с аэродромом Кефлавик. Сообщают — погода там сносная. Уже точно рассчитано время нашего прибытия в Исландию. Слаженная работа штурмана и радиста радует нас, доказывает способность нашего экипажа вести далекие перелёты при полной невидимости земли, при отсутствии радиоориентиров по маршруту.
Приближается время прибытия. Уменьшаю обороты, перевожу самолёт на снижение. Штурман дает расчёт снижения на посадку с прямой. Мы на ближних подступах к аэродрому. Вдруг самолёт ныряет в пепельно-серый туман. Пилотирую по приборам, выдерживаю заданную скорость снижения, чтобы сесть с ходу.
— Заход на посадку разрешён, — переводит лидировщик.
Самолёт выскочил из облаков. Аэродром быстро надвигается на нас. Мгновенно проносимся над ним. Расчеты, переданные с земли, оказались не совсем точными. Разворот один, второй и наконец иду на посадку. «ТУ» низко несётся над землёй. Через мгновение блеснула торцовая часть бетонной полосы. Мы мчимся так быстро, что кажется, будто полоса вот- вот исчезнет и мы проскочим посадочный знак «Т». Но эти опасения напрасны: наша машина уже катится по бетону.
22 часа 01 минута по московскому времени, а здесь ещё совсем светло.
Мы в Кефлавике. Здесь, как помнит читатель, предусматривалась ночевка на обратном пути. Обменявшись мнениями с членами экипажа, Семенков принимает решение продолжать полёт — трасса теперь уже нам знакома, погода в Лондоне хорошая, и нас там принимают ночью.
Во время стоянки жители Кефлавика попросили инженера Колосова показать им внутреннее оборудование самолёта. Разговорившись с ними, Колосов, между прочим, спросил, каковы их политические взгляды.
Один ответил: консерватор.
— А я либерал, — заявил другой.
— Такой молодой, а уже либерал! — засмеялся Колосов.
Этот невинный разговор прервал стоявший рядом полицейский. На древнескандинавском языке он сердито крикнул:
— А ну-ка, либерал, марш отсюда!
Видимо, с либералами полицейский живёт не в ладах.
Спустя полтора часа отдохнувший Орловец поднял наш самолёт в воздух. Взору открылся огненно-красный веер лучей заходящего солнца.
Прощай, страна гейзеров, прощай, светящийся Кефлавик, раскинувшийся у прибрежных отмелей бухты!
Ночь. Мы снова над океаном, потом над Англией. Встают сплошные светящиеся массивы: прямо по курсу Манчестер, справа Ковентри.
Ночной Лондон расцвечен в яркие огни: светло-голубые, ярко-оранжевые, но немало и тускло мерцающих огоньков.
На аэродроме английской столицы мы пробыли три часа сорок пять минут. Москва, как нам сообщили, была сплошь затянута туманной дымкой. Пришлось ждать, пока погода несколько улучшится.
Вылетели только ранним утром.
Мы шли над Берлином, едва забрезжил рассвет. Вскоре огненно-красными лучами озарился восток. «ТУ-104» вступил в воздушное пространство нашей Родины.
И вот наконец так хорошо знакомый аэровокзал родной столицы.
8 сентября 1957 года в 9 часов 10 минут «ТУ-104» приземляется в Москве.
…14 сентября 1957 года во Внукове снова стартовал «ТУ-104». На этот раз он уже шёл по проторённой воздушной дороге Москва — Нью-Йорк и в тот же день доставил на аэродром Макгайр делегацию СССР на XII сессию Генеральной Ассамблеи ООН…
Советская гражданская авиация вписала новую блистательную страницу в свою богатую историю.
7000 километров без посадки
После дальнего перелёта наш «ТУ-104» отдыхает во Внуковском аэропорту. И невольно приходит в голову мысль: подобную машину ждал, но так и не дождался Валерий Чкалов, мечтавший за двое-трое суток обогнуть «вокруг шарика», как любил он говорить о кругосветном перелёте. А в какой восторг пришел бы этот замечательный лётчик, если бы увидел новое «пополнение» славного семейства туполевских воздушных кораблей!
В честь сорокалетия Великой Октябрьской социалистической революции коллектив конструкторского бюро А. Н. Туполева построил ещё один воздушный корабль — «ТУ-114». Этот воздушный гигант можно смело назвать межконтинентальным пассажирским лайнером, способным преодолевать без посадки расстояния от Москвы до Пекина, от Москвы до Хабаровска и, наконец, от Москвы до Америки.
Для глаза бывалого лётчика любой новый самолёт воспринимается привычно, не вызывая особого восторга. Но, когда мне довелось впервые познакомиться с «ТУ-114», нельзя было не поразиться его огромным размерам, его мощным, сильным установкам. Вот гигант так гигант!
Недаром иностранные авиаспециалисты дали самую высокую оценку этому флагману советского воздушного флота.
20 мая 1959 года «ТУ-114» отправлялся в первый пробный беспосадочный перелёт Москва — Хабаровск, участником которого довелось быть и мне.
Впервые в истории отечественной гражданской авиации экипажу линейного флагмана предстоит покрыть путь в 7000 километров без посадки по самой длинной в мире сухопутной трассе на турбовинтовом самолёте с нагрузкой более 15 тонн.
Мерно работают воздушные винты, ритмично напевая свою привычную песню. Через несколько минут скошенные крылья, скользнув по верхушкам кучевых облаков, слегка вибрируя, парят в просторах поднебесья.
Мы на высоте 8000 метров, затем поднимаемся на 10 километров.
Не успели по-настоящему освоиться с окружающей обстановкой, как уже миновали Казань. Прошел ещё час — сумерки перешли в ночь. Мы движемся со скоростью 800 километров в час. Прошло ещё два часа, и мы не заметили, как вечерняя заря сменилась утренней.
Бурятская Автономная Республика. Наш самолёт пролетает её за час. Но разве можно за один час рассказать о её несметных богатствах: о золоте, редких металлах, лесе, пушном звере, об огромных стадах скота, привольно пасущегося на обширных луговых просторах. Столицу Бурятской АССР Улан-Удэ отделяют от Москвы 5000 километров. Писатели Чехов и Короленко в своё время преодолевали это расстояние за несколько месяцев, современный железнодорожный экспресс проходит в пять суток, а наш самолёт — за один бросок, немногим более 6 часов.
Наш гигантский серебристый корабль минует один рубеж за другим. Густой занавес из облаков то раскрывает землю, то прячет её. Иногда этот занавес подпирает крыло самолёта. Тогда огромное тело нашей машины начинает слегка вздрагивать. Но это ни у кого не вызывает беспокойства. Штурвал в руках опытнейших пилотов. А в этот полёт подобрались и вовсе замечательные люди.
Взять, к примеру, командира корабля Алексея Петровича Якимова. Он лётчик-испытатель, мастер своего дела, 18 лет поднимает в небо новые самолёты, как говорится, даёт им путёвку в жизнь. За 25 лет летной работы он освоил 90 типов самолётов! Для этого нужны выдающиеся способности, отличная техническая подготовка, высокое искусство. И не случайно ему выпала честь первому лететь на таком корабле, как «ТУ-114».
Второй командир корабля, Михаил Алексеевич Нюхтиков, рос и совершенствовал своё умение вместе с развитием отечественной авиации.
С 1927 года он за штурвалом. За свою многолетнюю работу летал более чем на 220 типах различных самолётов, всё время воспитывая новые молодые кадры, передавая им свой богатый опыт лётчика-испытателя. За успешное испытание и освоение реактивных самолётов ему присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Через иллюминаторы видна уже широкая лента поблёскивающего на солнце многоводного Амура. Мы приближаемся к Хабаровску.
Наш полёт совпал по времени с награждением Андрея Николаевича Туполева.
Макет самолёта «ТУ-114» среди прочих советских экспонатов на Брюссельской Международной выставке вызывал восхищение авиационных специалистов.
Международная авиационная федерация (ФАИ) присудила Генеральному конструктору Андрею Николаевичу Туполеву золотую медаль.
Надо полагать, что жюри, присудив высшую награду за лайнер, который не имеет себе равного, приняло во внимание всю многолетнюю работу Туполева и его соратников над самолётами для гражданской авиации. Первый перелёт по замкнутому кругу через Европу совершил самолёт «АНТ-9» в 1929 году. Вёл его М. М. Громов. Он же на самолёте «АНТ-25» поставил в своё время мировой рекорд длительности полёта по треугольнику без пополнения горючим — 72 часа. На самолёте «АНТ-25» Чкаловым и Громовым совершены рекордные полёты через Северный полюс в Америку. Самолёты «АНТ» первыми садились на Северном полюсе.
Наконец, первый в мире реактивный пассажирский самолёт «ТУ-104» побывал почти во всех столицах мира.
Последний отпрыск «семьи» «АНТ-4» — «ТУ-114» накануне вручения его творцу Андрею Николаевичу Туполеву золотой медали совершил дальний и в сегодняшних условиях сказочный перелёт без посадки из Москвы в Хабаровск за 8 часов 42 минуты, пройдя около 7000 километров, и в тот же день возвратился в Москву.
Снова в Америку
Наш крылатый флагман «ТУ-114», не имеющий себе равных по своим размерам, грузоподъёмности и дальности полёта, побывал в Пекине, Тиране, Будапеште, Париже. И всюду, где бы ни приземлялся этот большой воздушный лайнер, он вызывал всеобщее восхищение. Люди в международных аэропортах шли и шли, чтобы осмотреть два этажа этого летающего гиганта — верхний пассажирский и нижний, где помещаются кухня и багажные отсеки.
«ТУ-114» предстояли новые и новые дальние, ответственные рейсы, и каждый из нас, лётчиков, мечтал принять участие в этих перелётах.
Трудно передать то чувство радости, которое я испытал, когда меня неожиданно вызвали в кабинет к старшему начальнику и он сообщил:
— Получено срочное задание. Надо сформировать экипаж и выполнить полёт в Вашингтон на самолёте «ТУ-114».
— Есть подготовиться к полёту и принять участие в его выполнении! — радостно ответил я.
Хотя полёт должен был выполняться без посадки и трасса могла бы выглядеть на карте прямой линией из Москвы в Вашингтон, она состояла из отдельных участков: лететь надо было по облётанным маршрутам, где имелись наземные радиотехнические средства для ведения связи и навигации. Поэтому на карте были начертаны прямые линии: Москва — Стокгольм — Осло, Кефлавик — Гандер — Нью-Йорк — Вашингтон.
Из всех этих участков наиболее сложным всегда является полёт над Атлантикой. Маршрутная линия, проведённая по полётной карте, протянулась далеко на север, в район «формирования» плохой погоды. Над океаном полёту мешает сильный встречный ветер, вызывающий большую потерю времени.
Имея за плечами некоторый опыт подготовки к таким дальним перелётам, я погрузился в разработку плана полёта. Всё надо было делать очень быстро — вылет назначен через три дня.
Этап за этапом отрабатывались все детали выполнения перелёта.
Наконец день вылета.
Экипаж занял свои рабочие места. В штурманской кабине Николай Носов. У него много забот. Ещё и ещё раз он просматривает маршрут на карте. Как и раньше, в полёте на «ТУ-104», когда он первым прокладывал курс на Нью-Йорк, он докладывает командиру корабля, что ориентировка в основном будет по радиосредствам и что по пути над Атлантикой придётся преодолевать струйные течения, то есть такие воздушные массы, течение которых в основном проходит с запада на восток и достигает скорости более двухсот километров в час.
Скажем, если истинная скорость на высоте полёта будет равна 800 километрам в час, то в расчёт путевой скорости мы брали только 700.
…С командно-диспетчерского пункта получено разрешение на взлёт.
Тяжело загруженный самолёт легко трогается с места, массивные колёса скользят по бетону, самолёт набирает скорость.
Командир корабля Иван Моисеевич Сухомлин тянет штурвал на себя, и гигантский самолёт в воздухе.
Вторично в истории отечественной гражданской авиации экипажу корабля предстоит без посадки пролететь 8163 километра по трансатлантической трассе на сухопутном корабле.
За бортом бушует сильный встречный ветер. Минуем Стокгольм, затем Осло. Позади осталась Скандинавия.
Самолёт ведут опытные лётчики, штурманы, инженеры, налетавшие не одну тысячу километров в самых разнообразных условиях. Командир корабля Иван Моисеевич Сухомлин — хорошо известный лётчик. Несколько лет инструкторской работы, 80 боевых вылетов в период Великой Отечественной войны на тяжёлом гидросамолёте.
После войны около двух десятков лет Сухомлин испытывает новые самолёты, в том числе и тяжёлые корабли Туполева. И не случайно ему выпала честь лететь на таком корабле, как «ТУ-114», в Америку.
Когда я зашёл в пилотскую кабину и предложил Ивану Моисеевичу отдохнуть, он ответил:
— Я не устал. Это не полёт, а прогулка. Вот лечу и вспоминаю 1935 год, когда в районе Кавказа на планере меня отцепили, и я один парил в воздухе тридцать восемь часов. И то не просил подмены.
Этот мировой рекорд до сих пор ещё никем не побит.
У И. М. Сухомлина есть и другие мировые рекорды: полёты на скорость, дальность, высоту с разным грузом, установленные на «ТУ-114». Он «хозяин» 38 международных рекордов!
…Летим уже более семи часов.
Внизу сквозь редко разбросанные хлопья облачной ваты засветились седые гребни волн. Тёмно-свинцовые воды Атлантики неспокойны.
Давно миновали Исландию.
Наступило время ужина. Иван Моисеевич уступил своё место второму пилоту — Александру Даниловичу Калине, а я занял правое пилотское кресло. Приятно сидеть за штурвалом гиганта, которым восхищается весь мир, да ещё в таком сложном и ответственном рейсе через океан. Самолёт теперь ведет без каких-либо отклонений хитроумное устройство — автопилот — строго по заданному курсу и на определённой высоте.
…Пролетаем над большим кораблём. Это второй радионавигационный маяк на нашем пути.
Из-за сильного встречного ветра путевая скорость сильно падает. Она не превышает 680 километров в час. Но ничего не поделаешь, океан есть океан!
Нашу машину начало побалтывать, несмотря на то что мы уже поднялись на 11 тысяч метров. Это верный признак того, что самолёт вошел в тропопаузу — слой между тропосферой и стратосферой. За бортом как будто тихо, спокойно. Засветились на солнце заснеженные ледники Гренландии.
Горы, горы без конца. Все вокруг мертво. Залитые солнцем складки снега, нагромождение ледников, остроконечных вершин — таков расстилающийся под нами пейзаж Гренландии.
Проходит ещё немного времени — и впереди возникает сквозь мутную дымку огромный Нью-Йорк.
Штурман уточняет прибытие в Вашингтон, рассчитывает время снижения. Лидировщики получают погоду с аэродрома Эндрюс.
Хотя над Нью-Йорком ясно и безоблачно, в районе аэродрома Эндрюс, в 25 километрах от Вашингтона, метеорологическая обстановка не сулит ничего хорошего. Туман, видимость около двух километров. Командир начинает снижение.
Уже на ближних подступах к Вашингтону земля закрыта ровным слоем плотных облаков. Ориентировка ведётся по радиотехническим средствам. Высота 500 метров, земля не просматривается. 400 метров — тоже нет. Отрывистые команды лидировщиков следуют одна за другой. Командир не успевает устанавливать самолёт на заданные курсы.
Высота 250 метров! Как в мутном стекле, замелькала земля. Справа надвигается чёрная полоса — гудрон аэродрома. Но садиться уже поздно: вышли левее её. Уход на второй круг. Снова манёвр за манёвром в облаках. Но вот наконец посадка разрешена. Идём на снижение.
Короткий пробег, и мы остановились на середине бетонной полосы.
Нас окружили инженеры, лётчики, обслуживающий персонал аэродрома. Подкатили наскоро сделанный трап на автомашине, по которому мы спустились вниз и сразу попали в объятия своих друзей и товарищей по работе, прилетевших раньше нас с членами правительственной делегации СССР.
На перроне аэровокзала величественно выделялся «ТУ-114». Невдалеке от него на бетонной площадке стояли два наших «ТУ-104», которые несли службу связи, и «ИЛ-18». И в дополнение к этим кораблям прибыл второй самолёт «ТУ-114». Не скрою, всем нам было приятно смотреть на армаду советских реактивных и турбовинтовых пассажирских самолётов в Америке.
Расстояние, отделяющее нас от Москвы, — 8163 километра — мы пролетели за 11 часов 30 минут лётного времени, из которых 30 минут пошло на заход и посадку в сложных метеоусловиях.
В борьбе с ураганом
Все советские самолёты улетели домой, а наш «ТУ-114» с бортовым номером «Л-76459» оставался ещё на несколько дней в Вашингтоне, чтобы его могли осмотреть все желающие. Их было очень много.
Посмотреть советский турбовинтовой самолёт прибыли видные американские инженеры, конструкторы, представители авиакомпаний, деловых кругов Америки, журналисты, лётчики-испытатели. Все они не могли скрыть своего восхищения советским скоростным самолётом-гигантом.
Известный американский лётчик-испытатель Бейкер, осмотрев «ТУ-114», заявил:
— За двадцать лет в авиации ничего подобного не видел! Какие огромные размеры, строгие аэродинамические формы, мощные силовые установки!
К нам приходили не только авиационные специалисты, но и люди самых разнообразных профессий. Был среди них друг СССР, замечательный пианист Ван Клиберн. Правда, он остался верен себе и в кабине самолёта: завел речь с бортинженером, который показывал ему оборудование, о достоинствах концертов Рахманинова.
Экскурсантов было столько, что наш экипаж еле успевал отвечать на вопросы. Но нам повезло. Ещё раз посмотреть самолёт пришел наш лидировщик бортрадист Уоринг, вот он-то и заменил переводчика-гида. Он долго и с увлечением рассказывал своим соотечественникам про этот уже знакомый ему самолёт.
…Наш вылет в назначенный срок не состоялся.
Надвигался ураган, образовавшийся в Атлантическом океане у Антильских островов. Он перемещался широкой полосой на север, всё сокрушая на своём пути, срывая крыши, ломая деревья, переворачивая автомашины, уничтожая посевы.
В метеорологии ураганом называют ветер силой 12 баллов, а если перевести это в метры, то 29 метров в секунду, или 104 километра в час.
Все газеты писали о надвигающемся урагане, радио давало штормовое предупреждение, а специалисты комментировали по телевизору развитие циклона и его перемещение по американскому северо-восточному побережью.
В результате этого урагана, названного Греси (в США принято каждому урагану давать женское имя), погибло свыше тысячи человек, были большие разрушения. В городе Чарльстоне (Северная Каролина) из каждых пяти домов было разрушено четыре.
Угроза надвигалась и на Вашингтон.
Над аэродромом нависли дождевые свинцовые облака, начались ливни с грозами, усилился ветер. Высота облаков достигла 10–12 тысяч метров. Лететь в такую погоду нельзя: в мощно-кучевых облаках и зонах сильной болтанки самолёт может деформироваться.
Наш экипаж принял решение — вылет перенести на более поздние сроки, которые бы исключали метеоопасности в полёте.
На аэродром пришла весть, что недалеко потерпел катастрофу тяжёлый транспортный самолёт и погибло 36 пассажиров.
Нам, лётчикам, хорошо знакомы трудности, которые приходится преодолевать в полёте. А когда пришлось вести борьбу с ветром на земле, мы не сразу освоились с «сухопутным пилотажем».
На тяжелогружёном «ТУ-114» лететь нам было невозможно. Но и на земле оставаться тоже было опасно: ветер мог поломать самолёт.
После короткого совещания инженеров, техников и лётчиков были приняты все меры, чтобы обеспечить безопасность самолёта на земле.
«Друзья познаются в беде» — гласит народная пословица.
Когда над аэродромом нависла угроза, американские специалисты были к нашим услугам. Они быстро подвезли к самолёту тёс и концы, которыми закреплялись рули управления самолёта. Концами связывались лопасти соосных винтов, к которым подвешивались тяжёлые мешки с песком, для того чтобы от ветра винты не могли раскручиваться.
…К счастью, Греси обошел Вашингтон в шестидесяти километрах западнее его.
Хотя ураган прошел стороной, без последствий для нас, однако над Вашингтоном была «возмущённая» атмосфера: низкая облачность тяжеловесными хлопьями закрывала аэродром, небо было хмурым, шёл дождь, дул пронизывающий ветер.
Отсроченное время вылета — 48 часов — истекло, а метеообстановка ничего утешительного не предвещала нам; больше того: с юга Америки надвигался второй ураган. Как бы нам не попасть в новую беду!
За это время мы детально познакомились с оборудованием аэродрома, со взлётной полосой, с которой нам предстояло подниматься.
Вдоль этой полосы по бокам тянулись две длинные металлические цепи. Одно звено такой цепи весило, наверное, килограммов десять. Можно себе представить, сколько весит вся цепь, если её длина равнялась ста метрам. Когда-то я читал, что в заграничных авиакомпаниях применяют тормозные сетки, но не думал, что они с такими цепями. Оказалось, как раз это и была одна из тормозных сеток. В конце бетонной дорожки по всей её ширине установлена капроновая сетка высотою около метра. К концам этой сетки прикрепляются массивные тяжеловесные цепи. Когда лётчик не рассчитал и самолёт приземлился с перелётом, он неизбежно упирается передними колесами в сетку, тащит её вперёд, а сетка своими концами увлекает тяжёлые цепи. Надо полагать, какая бы ни была большая скорость самолёта, далеко утащить такие цепи он не сможет.
Естественно, в первую очередь мы интересовались длиной взлётной дорожки. Нам хотелось выяснить, какие расстояния на этой полосе обозначаются при ночных стартах.
Комендант аэродрома «Эндрюс» показал на сопровождающую нас машину:
— На ней красные стартовые огни! Будут поставлены, как вы захотите.
Мы сначала ему не поверили, — как это можно возить огни на машине? Но через минуту мы убедились, что можно. Из движущегося автомобиля, через определенные интервалы, были выброшены брезентовые мешки с песком. В верхней их части вшиты патроны с красными лампами, питающиеся от сухих батарей.
— Почему при небрежном броске лампы не разбиваются при ударе о землю?
— Да ведь эти мешки совсем как «Ваньки-встаньки», — улыбнулся комендант. — У вас, наверное, тоже есть такие игрушки. Песок ведь тяжелее, он всегда идёт вниз первым.
И вот все десять переносных маячков засветились ровной цепочкой. Они осветились красными огнями на этой репетиции ночного старта.
Лишь в ночь с первого на второе октября наш самолёт взял старт.
Нам снова предстоял бросок через океан — на сей раз в обратном направлении. Но теперь уже мы летели на Родину. А домой всегда приятно возвращаться. Корабль вёл по-прежнему И. М. Сухомлин.
Не прошло ещё и часа, а Носов уже объявил:
— Покидаем берега Америки.
Видимости никакой. Под крылом тёмно-серое туманное месиво, которое скрывало синеву водного пространства. Временами наш корабль выходил из толщи облачного слоя, но затем снова погружался в него. В облаках изрядно трясло.
Не стану описывать подробности обратного полёта, он ничем особенным не отличался, хотя также потребовал значительного напряжения сил экипажа.
В Москву мы прилетели за 10 часов 30 минут.
Рейс закончен. Позади 16 400 километров, дважды пересечённый нами океан. Позади — магнитные бури, северные порывистые ветры, ураганы, грозы. Из Москвы в США и обратно «ТУ-114» пролетел за 22 часа 15 минут.
Впереди межпланетные полёты
…Нас было двенадцать человек. Мы пришли в Кремль, чтобы получить орден Ленина, которым был награжден Аэрофлот к своему сорокалетию. Орден Гражданскому воздушному флоту СССР вручали 22 апреля 1964 года, в день рождения Владимира Ильича Ленина.
Великий гений революции, создатель Советского государства, Ленин всегда высоко ценил значение авиации.
Ленин ещё в тяжёлые годы гражданской войны и иностранной военной интервенции гениально предвидел большое будущее авиации, определил её значение в строительстве нового общества.
Сразу после Октябрьской революции Председатель Совета Народных Комиссаров привлёк к строительству воздушного флота учёных, ставших на сторону советской власти.
В начале 1921 года был опубликован подписанный Владимиром Ильичём декрет о воздушных передвижениях в РСФСР. Это был первый законодательный акт, регулирующий воздушные сообщения в стране.
Ещё при жизни Ленина, в 1923 году, была открыта первая в стране регулярная воздушная линия Москва — Нижний Новгород (ныне Горький) протяжённостью 420 километров.
Так было сорок лет назад. Воздушные линии страны выросли за эти годы в тысячу раз! Теперь небесные дороги Родины составляют более 420 тысяч километров… Если вытянуть в одну ленту все эти авиамаршруты, то можно более десяти раз опоясать земной шар. И не две сотни пассажиров, а 38 миллионов человек перевозят за год самолёты Аэрофлота. В отдельные дни, особенно летом, в воздух поднимаются 200 тысяч человек — примерно население такого города, как Смоленск.
За 40 лет Гражданский воздушный флот превратился в важную отрасль народного хозяйства Советской страны, оснащённую передовой техникой, располагающей замечательными кадрами лётчиков, штурманов, инженеров, техников, связистов и работников других авиационных специальностей и профессий.
Орден, которым за заслуги перед Родиной отмечен Аэрофлот, принимали его руководители и линейные пилоты. Начальник Аэрофлота генерал-полковник авиации Евгений Фёдорович Логинов на этой торжественной церемонии говорил о том, каким станет Гражданский воздушный флот СССР в самом недалёком будущем. Советские самолёты будут перевозить в год более 50 миллионов пассажиров — иными словами, всё население такой страны, как Италия. Каждый пятый гражданин СССР совершит ежегодно воздушную поездку.
Небо Родины будут бороздить новые замечательные воздушные корабли. Их девиз — скорость, дальность, безопасность и комфорт. Один из таких самолётов — «ИЛ-62» — уже выходит на магистральные линии. Его четыре реактивных двигателя позволяют развивать крейсерскую скорость — 900 километров в час. Он поднимет 182 пассажира и сможет совершать беспосадочный рейс от Москвы до Нью-Йорка… А вслед за ним — пассажирские самолёты со сверхзвуковыми скоростями. Такие самолёты за один час смогут покрывать расстояние в 2500–3000 километров. На полёт из Москвы до Хабаровска потребуется не более трёх часов.
Время, пространство, движение! Как меняются эти понятия в наши дни и как тесно переплетаются они между собой!
Свой первый миллион километров я «зарабатывал» около 8 лет, второй — 4 года, третий — значительно меньше…
А вот Валерий Федорович Быковский поставил мировой рекорд скорости и дальности полёта менее чем за пять суток. Ему вручены были три значка Аэрофлота «За налёт миллиона километров». Он сделал 81 виток вокруг нашей планеты за 119 часов.
Кажется, так недавно, когда советский вымпел уже был доставлен на Луну и советские спутники Земли поражали человечество, я получил коротенькое письмецо от знакомого французского лётчика:
«С комплиментом. Поклонитесь от меня Вашим учёным и техникам. Если Вам когда-нибудь нужен будет межпланетный пилот, можете рассчитывать на меня. Я готов!
Жорж Баллини, пилот компании «Эр Франс»
Это посчастливилось сделать советскому военному лётчику коммунисту Юрию Гагарину. Он первым взглянул с высоты на нашу планету, стал первым героем современности, и Жорж Баллини прислал мне новое письмо, кончающееся такими словами: «…своим возвышением человечества над силами природы мы обязаны современной науке, передовой технике и таким парням, как ваш Гагарин… Да здравствует Гагарин!..»
Мы, советские лётчики, вполне реально мечтаем о будущих межпланетных полётах.
Мне хочется кончить эту книгу тем, с чего я её начал. Когда я поздравлял Юрия Алексеевича Гагарина на борту самолёта «ТУ-104» и мы обменялись своими книгами, я сделал такую дарственную надпись: «С самыми тёплыми чувствами, в память о первом заграничном рейсе, от лётчика-земляка. Сегодня Вы у меня пассажиром на «ТУ-104», и, кто знает, может быть, скоро я у Вас буду пассажиром при полёте на Луну».
Может быть, и не у самого Гагарина, но, во всяком случае, — у его небесного брата или у его новой сестры…
Я глубоко верю, что в недалёком будущем космос станет близким и привычным, как, скажем, Ленинград или Смоленск, и его таинственные глубины будут доступными не только особо смелым, сильным и выносливым, но и всем людям, населяющим нашу планету.




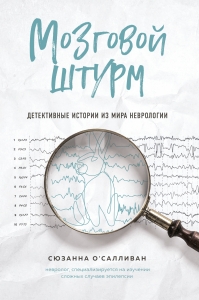


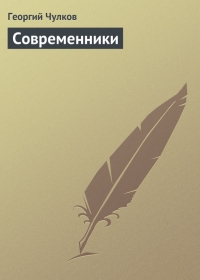
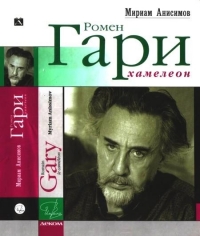


Комментарии к книге «10000 часов в воздухе», Павел Михайлович Михайлов
Всего 0 комментариев