В.В. Шигин Тайный сыск генерала де Витта
от автора
Моей жене Виктории
с любовью посвящаю эту книгу
Недалеко от Севастополя на овеянном легендами мысе Фиолент находится тысячелетний Георгиевский монастырь. Когда-то на его территории располагалось небольшое кладбище, где хоронили людей, имевших особые заслуги перед Отечеством. Еще и сегодня неподалеку от бюста А.С. Пушкину, установленному в честь посещения великим поэтом мыса и монастыря, можно увидеть остатки старого кладбища, но самих могил, увы, уже не отыскать.
Бывая у стен знаменитого монастыря, я всегда пытался отыскать место захоронения человека, судьба которого до сегодняшнего дня остается загадкой. Слишком много загадочного окружало его при жизни, слишком много тайн унёс он с собой в могилу, в том числе тайну своих отношений с Александром Пушкиным и Адамом Мицкевичем, тайну любви Наполеона, Оноре де Бальзака, тайну декабристов и многое-многое другое.
Этот человек — генерал от кавалерии и кавалер всех российских орденов граф Иван Осипович де Витт. Его портрет можно увидеть в знаменитой галерее героев 1812 года, что в Зимнем дворце Петербурга. Наверное, ни об одном российском генерале не ходило в своё время столько противоречивых разговоров, домыслов и самых невероятных слухов. Многие факты его биографии до сегодняшнего дня сокрыты под плотным покровом неизвестности…
ПРЕКРАСНАЯ ФАНАРИОТКА
Иван де Витт родился в 1781 году в Каменец-Подольске. Отец его, Иосиф де Витт, был комендантом этой польской крепости. Впоследствии, во время восстания конфедератов, де Витт без боя передал свою крепость российским войскам и в награду за это был принят на русскую службу, при этом он был оставлен в своей старой должности. Впрочем, особого следа в истории отец нашего героя не оставил — в отличие от своей супруги.
Женой старшего де Витта и матерью Ивана была знаменитая на всю Европу авантюристка — красавица Софья де Витт. О ней мы должны поговорить подробнее, ибо незаурядная личность Софьи де Витт оставила заметный след в мировой истории. Кроме того, незримая тень матери оказывала влияние на нашего героя на всем протяжении его жизни. История жизни Софьи де Витт была столь богата самыми невероятными событиями, что могла бы послужить сюжетом целой серии приключенческих романов! Недаром история этой загадочной красавицы вдохновила впоследствии Пушкина на создание одного из самых гениальных творений!
Но обо всем по порядку. Начнем с того, что Софья Витт была по происхождению гречанкой, причем, судя по всему, из весьма бедной семьи. Вне всяких сомнений и то, что Софью Витт можно считать достойной представительницей великой плеяды авантюристов XVIII века, давших миру немало известных имен — от Джакомо Казановы до графа Сен-Жермена и Калиостро. Дети сапожников, ремесленников и крестьян с легкостью присваивали себе самые громкие титулы и, обманывая доверчивых аристократов, добивались денег и славы. Под стать мужчинам были и женщины. Чего стоит только история таинственной и несчастной куртизанки княжны Таракановой, мечтавшей о российском престоле и ставшей, в конце концов, разменной монетой в руках польских конфедератов. При этом, если главным качеством мужчин-авантюристов было умение обольщать женщин, то главным оружием авантюристок-женщин было, естественно, умение обольщать мужчин. К этому следует, разумеется, прибавить и такие обязательные качества, как красота и ум.
И ещё одна особенность удивительной плеяды великих авантюристов XVIII века — все они, как один, не обошли своим вниманием Россию, надеясь сорвать свой куш и попытать счастья. У одних искателей фортуны в России все сложилось прекрасно: граф де Литта, герцог де Ришелье, граф де Рибас, к примеру, сумели прижиться и стали вполне уважаемыми людьми. Принца Нассау-Зигена и американца Поля Джонса подвела излишняя самоуверенность, после чего их карьера в России завершилась полным крахом. Граф Калиостро, как известно, был разоблачен и с позором бежал, а самозванка княжна Тараканова, чьи непомерные амбиции стали угрожать верховной власти, умерла от чахотки в казематах Петропавловской крепости. Что же касается женщины, речь о которой мы поведем ниже, то она оказалась настолько умна, что сумела извлечь из того, что ей давала судьба, все, что только возможно.
Однако, кроме всего прочего, необходимо отметить и особенность личности Софьи — будучи православной гречанкой, она сквозь всю жизнь пронесла преданность своей вере и свою искреннюю любовь к России. И то и другое она старалась воспитывать и в своих детях.
Официально считается, что Софья Глявоне (Клаврон) — Челиче Софья из семьи Глявоне-Челиче — родилась 12 января 1760 года. В ряде источников помимо фамилии Челиче приводятся ещё фамилии Глявоне (или Клаврон) и Маврокордато. Красота Софьи Клаврон была замечена уже в раннем девичестве, и с тринадцати лет она считалась самой красивой девушкой в Константинополе. О красоте Софьи будут впоследствии ещё много говорить в самых возвышенных тонах все, с кем только пересекался её жизненный путь. Ряд биографов прямо именуют её просто и без затей: «прекрасная фанариотка».
Фанариотами издревле именовали константинопольских греков, живших в особом квартале Фанаре на берегу Золотого Рога. Последние потомки гордых византийцев, они должны были выживать среди враждебного им мусульманского мира, чтобы сохранить свою веру и самобытность. Эта многовековая борьба за выживание сформировала особый тип людей: умных, хитрых, умеющих приспосабливаться к любым условиям и удивительно предприимчивых. Фанариоты практически стояли на протяжении многих веков во главе турецкой торговли. Помимо этого турки весьма активно привлекали фанариотов и к государственной службе, в качестве наместников в пашалыках и министров дивана. Со временем само понятие «фанариот» становится нарицательным, как определение человека, который выкрутится из любой ситуации и никогда не упустит свою выгоду. Софья Клаврон была настоящей фанариоткой по своему духу. Она, думается, всегда знала, чего хотела, и упорно шла к своей цели, невзирая на возникающие преграды.
По одной версии, несколько лет юная красавица провела в константинопольских притонах, а затем — первый поворот судьбы: её высмотрел польский посол и, выкупив у содержателя, решил отправить в Варшаву в качестве подарка королю Польши Станиславу Понятовскому, который, как известно, обожал столь экзотические презенты. Вместе с Софьей была выкуплена и её старшая сестра, тоже отличавшаяся редкой красотой. Однако до Варшавы девушек так и не довезли. Еще в константинопольском порту Софью случайно увидел польский военный советник майор Иосиф де Витт и тут же, выложив баснословную сумму, перекупил обеих красавиц у посла.
По свидетельству Ф.Ф. Вигеля, неплохо осведомленного о биографиях своих современников, эта будущая львица Петербурга была на пороге жизни служанкой в константинопольском трактире (а вовсе не проституткой, как говорила молва!), где обратила на себя внимание секретаря польского посольства, а затем и самого посланника при Оттоманской Порте Деболи, который и увез её с Босфора на Вислу.
Согласно другой версии, посол в Турции Боскамп Лясопольский, проезжая по улицам Константинополя, заметил бедную тринадцатилетнюю девочку-гречанку, которая была им приобретена у матери за 1500 пиастров. По пути в Польшу посланник остановился в Каменце. Там в юную спутницу посла без памяти влюбился сын коменданта крепости майор Иосиф де Витт, которому удалось тайно обвенчаться с прекрасной фанариоткой и вскоре увезти её во Францию. Имеется также история о некоем французском после в Стамбуле, доставившем девочку сразу в Париж, но последнее весьма сомнительно.
А вот ещё один рассказ о начале восхождения красавицы: «Летом 1777 года в Стамбуле, в польском посольстве, возглавляемом Каролем Лясопольским, появилась красавица Софья (ей было 17 лет). “Самая красивая женщина” Европы была помещена в дом, где жили слуги. Кароль часто приглашал её к себе. Родилась она вблизи Стамбула, отец — скупщик скота, жили бедно. Девочка получила “спартанское” воспитание. В 11 лет она потеряла свою невинность (двоюродный брат всем рассказал о случившемся). Пришлось ехать в Стамбул к тетке. Юная Софья начала пользоваться своей красотой. Вскоре в столицу переезжает вся её семья, но через два года умирает отец, сгорает дом, остались без средств к жизни. В это время судьба свела её с Лясопольским. Была зачислена в свиту посольства, хотя считалась фактически содержанкой посла. Быстро приспособилась к новой жизни, проявив блестящие способности. Научилась неплохо говорить по-французски, усвоила манеры поведения в высшем обществе. Посол записал в своем дневнике: “Память необыкновенная! Логический склад ума. Наблюдательность и настойчивость поразительны! Умеет маскироваться, скрывать свои чувства, может быть угодливой, уступчивой, если того требуют обстоятельства”. Он охотно проводил время с красавицей, забыв о службе. Разгневанный король Польши Понятовский потребовал немедленного возвращения Лясопольского в Варшаву. А посол с Софией наслаждались красотой Черноморского побережья. Пришлось расстаться, его ждали жена и дети. Но вскоре попал в немилость, и сейм запретил ему заниматься дипломатией (якобы причина — нечистокровный поляк). Переписывались. Уж, не знаю, тосковала ли на самом деле Софья о Лясопольском, но тот о ней точно. Затем овдовевший к тому времени Кароль, приглашает красавицу в своё имение “Дуду”. На крыльях ветра неслась к нему София.
Еще бы, ведь это был её шанс вырваться из мира вечной нужды и изменить свою судьбу!
С большим трудом добралась она до Каменец-Подольска. Комендантом крепости в то время был де Витт, а его правой рукой — сын Юзеф, майор польской армии. Приехав в Каменец-Подольск, Софья сразу же проявила свой ум и авантюрный характер. Отрекомендовавшись невестой посла и выдавая себя за знатную особу, она сразу требовала к себе и соответствующего отношения. И сразу же все получила. Впрочем, разрешения на выезд в Польшу все не было, а ждать было уже невмоготу. Видя, что дело затягивается и посол, вполне возможно, уже охладел к ней, Софья решает самостоятельно устроить свою судьбу, тем более что в поклонниках у неё недостатка не было. Предпочтение она отдает молодому Юзефу де Витту, посчитав его наиболее перспективным. Что касается избранника красавицы майора де Витта, то он являлся поляком голландского происхождения, отец которого некогда оставил родину ради карьеры в другой стране. Род Виттов был в своё время весьма знаменит в Европе. Достаточно вспомнить лишь знаменитого голландского адмирала Корнелиуса де Витта по кличке Забияка, геройски павшего в одном из сражений англо-голландских войн XVII века, и правителей Голландии того же периода — братьев Иогана и Корнелиуса де Витт. Вскоре Софья стала законной супругой майора.
Польский историк пишет по этому поводу следующее: «Первую свою победу 13-летняя Софья одержала, сама не зная и не желая того. Их с сестрой выгрузили на берег вместе с другим имуществом королевского посла в Каменец-Подольской пограничной крепости. И гречанку-жемчужинку в грязном изорванном платье с буйными спутанными локонами увидел сын коменданта крепости майор Иосиф де Витт. Крошка предназначалась гарему любвеобильного и не слишком разборчивого Станислава Августа, короля Польского. Посол купил сестричек-гречанок в Турции у их собственной матери, расхваливавшей свой товар, за сущие гроши. Теперь комендантский сын заплатил ему за них кучу золота. Посол был рад — ему меньше хлопот и верные деньги. Старшая из красавиц быстро стала любовницей майора, а от второй, Софьи, майор за свои собственные денежки получил лишь решительный отказ и предложение взять её в законные супруги. Предложение беспрецедентное, поскольку майор услышал его от рабыни, от маленькой шлюшки, крепостной, без рода, без имени, без прав, зато с красотой Прекрасной Елены. Майор обвенчался с ней 17 июня 1779 года. Перед чарами, мольбами и мудрой речью юной невестки не устоял и старый комендант, не дававший вначале согласия на этот брак. На матушку майора чары не подействовали — она попросту скончалась. Старшую сестру красавицы Софьи не забыли, она была благополучно и весьма выгодно выдана замуж за турецкого пашу».
В родословной семьи Потоцких о происхождении Софья, о её молодости, приводится несколько иная версия: «Изначально она (Софья. — В.Ш.) была “стопроцентной” Челиче, поскольку отец и мать носили такую фамилию. Но в пятнадцатилетием возрасте Софья осталась без отца. Мать повторно вышла замуж — за купца-армянина, но вскоре умер и он. В довершение ко всему во время большого пожара семья лишилась дома… Погорелиц приютила тетка Софии по матери, которая была замужем за купцом Глявоне. Сама Софья всегда подчеркивала, и свидетельства сохранились, своё происхождение от знатного аристократического рода Панталиса Маврокордато, проистекающего от царской греческой семьи и связанного кровными узами с властителями Византии…
Положение сестер в польском посольстве в Стамбуле и их последующая жизнь опровергают ставшие расхожими вымыслы о продаже их кому-либо на невольничьем рынке в Стамбуле. Наверное, поэтому, для придания большей “правдоподобности” вымышленному факту, польский историк Йосип Ролле, широко известный как Антоний I, в своих писаниях сознательно занижает возраст Софьи и её сестры (в его книге “Судьба красавицы” во время приезда в Каменец-Подольский Софье было 13 лет, а сестре — 15). А ведь к 1777 году Софья и тем более её сестра были уже взрослыми и самостоятельными девушками, к тому же, хоть и обедневшими, но полноправными подданными турецкого государства. Об этом вымысле и сознательном искажении фактов пора, наконец, сказать открыто и прямо. Ведь именно с подачи Йосипа Ролле в общественном сознании укоренилась нелепая легенда о Софье как о “трижды проданной” женщине, единственным достоинством которой была лишь её необычайная красота».
Как бы то ни было, но в 1779 году Софья стала законной супругой сына коменданта Каменец-Подольской крепости Иосифа де Витта. Несмотря на все варианты происхождения Софьи Клаврон, все биографы красавицы согласны в одном: обладая необыкновенной красотой, немалым умом и предприимчивостью, девушка сумела сделать себе блестящую партию с польским дворянином, что по нравам XVIII века было редкостью.
Прожив год в Каменец-Подольске, молодая пара выехала за границу. Перед вчерашней служанкой открылись аристократические салоны Берлина и Гамбурга, Рима и Венеции, Неаполя и Вены и, наконец, Варшавы. Если для всякой другой девушки из бедной семьи это было бы уже пределом мечтаний, то, посмотрев Европу и познакомившись с высшей аристократией, Софья уже мечтала о более счастливой судьбе, чем судьба гарнизонной майорши.
Неожиданно для всех, и в первую очередь для мужа, Софья произвела настоящий фурор в высшем свете Парижа. Польщенный де Витт демонстрировал и даже рекламировал свою жену. Шляхтичу льстило, что его жена затмевала своей красотой европейских светских львиц. А Софья продолжала завоевывать все новые мужские сердца. Известная в то время парижская художница Виже-Лебрен, рисовавшая юную де Витт, объявила во всеуслышание, что красивее этой девушки нет во всей Европе. На балы, где танцевала Софья, специально приезжали, чтобы посмотреть на красотку, о которой все так много говорили. Вскоре у ног Софьи был уже весь Париж. Супругов Витт приглашали на самые престижные приемы только для того, чтобы полюбоваться необыкновенной красавицей. Всюду, где появлялась Софья, мгновенно образовывались толпы поклонников. Положение её мужа вскоре становится откровенно двусмысленным, но недалекий шляхтич этого не понимал и упивался ролью мужа красавицы. Тем временем с Софьей знакомятся и рассыпаются в комплиментах почти все европейские монархи: Фридирих VI и Людвиг XVIII, Карл X и Иосиф II. Прошло совсем немного времени, и мадам де Витт стало совершенно ясно, что провинциал-муж только мешает ей подняться ещё выше. Заурядный поляк давно потерялся в толпе поклонников и все больше раздражал покорившую Европу супругу.
Именно в это время, в 1781 году, у Софьи рождается сын, названный Иоганном, который и является главным героем нашего повествования. Но это ещё впереди. Блистающей в свете матери, разумеется, было не до ребенка. Сразу после рождения мальчика передали кормилице и нянькам. Своему сыну Софья станет уделять внимание значительно позднее, а пока она снова поглощена балами, приемами и толпами поклонников.
Что касается её супруга, то после поездки в Париж майор де Витт отправляется в Петербург подыскать себе достойное место службы. С собой он берет и Софью, чтобы с помощью её красоты попытаться завести выгодные знакомства. В Петербурге появление первой красавицы Европы вызвало настоящую панику среди местных примадонн и восторженный переполох среди мужчин. Вскоре слух о Софье де Витт достиг ушей всесильного князя Потемкина, и тот, увидев её на одном из приемов, немедленно пожелал заполучить красавицу себе. Так в жизни бывшей греческой служанки начался новый этап.
Происходившее далее было весьма цинично, но таковы были нравы эпохи. Представители светлейшего вступили в откровенные переговоры с майором де Виттом относительно его жены. Началась самая настоящая торговля. Де Витт в обмен на жену требовал титул графа и генеральский чин. Потемкин настаивал на полковничьем чине и титуле барона. В конце концов победил де Витт, став, в обмен на отданную Потемкину жену, и графом, и генералом. Впрочем, Потемкин знал, что делал, так как вместе с мужем получила графский титул и его жена. Отныне бывшая простолюдинка Софья Клаврон стала графиней Софьей де Витт. Мы не знаем, как отнеслась сама Софья к факту своей перепродажи, впрочем, её, скорее всего, об этом никто и не спрашивал. Красавица была всего лишь дорогим и модным товаром. Что касается Потемкина, то он был в восторге от приобретения такого приза и немедленно окружил Софью всеми благами, которые только мог дать. Любовь гречанки князь оценил в два прекрасных крымских имения — Массандру и Симеиз.
В 1787 году в Крыму Софья была представлена Екатерине II и произвела на императрицу хорошее впечатление. Прекрасно знавшая происхождение Софьи де Витт и любвеобильность своего фаворита, императрица никакой ревности к греческой красотке не испытывала. Любопытно, что буквально перед встречей с императрицей Софья только что вернулась из Константинополя, куда ездила навестить свою сестру, ставшую к этому времени главной женой трехбунчужного паши Гуссейна, командовавшего турецкой армией на Дунае. Родственные отношения Софьи с высшей знатью Османской Порты ещё не раз впоследствии сослужат хорошую службу и ей, и её старшему сыну, и России.
Отметим и то, что Екатерина не только милостиво приняла Софью, но и одарила её несколькими белорусскими деревнями и целым ворохом драгоценностей. Об истинной причине столь благожелательного отношения императрицы к графине де Витт мы расскажем ниже. Пока же властитель Тавриды щеголял перед всей Европой своей фавориткой как драгоценным трофеем, а Софья, в свою очередь, вполне могла гордиться своей властью над вторым человеком России. Не был печален и бывший муж, которого Потемкин назначил губернатором Херсона с годовым окладом в 6000 рублей. Так что все участники сделки остались довольны.
С началом Русско-турецкой войны, в 1787 году, упомянутая выше французская портретистка Виже-Лебрен посетила Ставку Потемкина и была поражена щедростью его подношений своей возлюбленной: «Ему всё было нипочем, лишь бы удовлетворить желанию, капризу обожаемой им женщины». Влюбленный в госпожу де Витт, он «расточал перед нею самые изысканные любезности. Так, однажды, желая подарить ей кашемировую шаль безумно высокой цены, он дал праздник, на котором было до двухсот дам, а после обеда устроил лотерею, но так, что каждой досталось по шали, а лучшая из шалей выпала на долю самой прекрасной из дам (т. е. госпоже де Витт)».
Об этих празднествах «князя Тавриды», где неизменно царила прекрасная гречанка, имеется ряд характерных свидетельств в воспоминаниях современников. В «Записках Александра Михайловича Тургенева» сообщается, что во время осады Очакова, когда «войско умирало от холода, голода и житья в землянках», князь Потемкин в главной квартире своей, в лагере «давал балы, пиры, жег фейерверки… куртизанил с… бывшею прачкою в Константинополе, потом польской службы генерала графа Витта женою…» В воспоминаниях об отношении Софьи с Потемкиным очень много неправды и откровенных наветов. Причин тому было много: зависть дворянства к богатствам светлейшего князя и его влиянию на императрицу, ненависть женской половины к красоте Софьи и её головокружительному взлету, и так далее. А потому, читая «исторические» измышления об этих двух незаурядных личностях, к ним надо всегда относиться предельно критически.
Биограф Софии так написал о её красоте тех лет: «Со знаменитого портрета, написанного итальянским художником Сальватором Тончи, смотрит на нас из дали трёх столетий нежное, почти детское лицо, обрамленное волшебными непослушными волосами. Глаза полны чистоты и какой-то неуловимой прелести. И улыбка чуть-чуть трогает губы, беспомощно и маняще».
Испытывала ли сама Софья какие-то чувства к светлейшему? Ряд фактов говорит, что не только испытывала, но что именно Потемкин стал её самой большой любовью. До самого последнего дня своей жизни она носила на груди медальон с его портретом.
Историки фиксируют, однако, что спустя некоторое время влюбчивый Потемкин охладел к красавице и уже не оказывал ей того внимания, как раньше.
Однако в отношениях Софьи с Потемкиным не все так просто. Разумеется, близкие отношения между графиней и князем, судя по всему, были, но наряду с этим имели место и совершенно иные отношения — политические. Отметим, что Софья, несмотря на своё низкое происхождение, была весьма эрудированна. Об этом говорит хотя бы тот факт, что она знала пять языков: греческий, турецкий, польский, русский и французский. Если прибавить к этому ослепительную красоту, умение обольщать, женскую хитрость и лукавство, то перед нами вырисовывается достаточно четкий образ идеального агента, способного почти открыто работать в высших сферах.
А потому политические отношения между графиней де Витт и Потемкиным мне кажутся более предпочтительными и главенствующими, чем заурядная любовная интрига светлейшего. Давно известно, что Потемкин только внешне казался сумасбродным и капризным сибаритом. На самом деле это было лишь маской, за которой скрывался искусный и тонкий политик, всегда блестяще разыгрывающий свои многоходовые партии. А потому вполне возможно, что и Софья была нужна светлейшему не только как любовница, а как помощник в его тайных внешнеполитических делах.
Предоставим слово одному из биографов Софьи де Витт: «Красавица, осознав свою власть над миром мужчин, поняла, что теперь больше всего ей нужна свобода. Вернувшись в постылую, жалкую Каменец-Подольскую крепость, родив сына Ивана и похоронив тестя, сделавшись комендантшей, госпожа де Витт решилась завоевать российскую столицу. Но юная завоевательница была поразительно прозорлива. Она понимала, что не может предстать перед матушкой-императрицей с пустыми руками. Прекрасная путешественница отправилась в Вену, посетила и Стамбул, где пораженный её красотой, совершенно очарованный, с ней мило беседовал французский посол. Он и не подозревал, что его собеседница, почти дитя, внимала с невинным видом каждому его слову, и каждое его слово запоминала… Теперь прелестнице было что подарить своей государыне-императрице — информацию!
Ее шаги на новом, весьма привлекательном поприще оценили — ей были дарованы угодья. Но гораздо более ценным приобретением было то, что её, Софью, увидели! Теперь её стали видеть часто в Стамбуле, в Львове, при дворе Станислава Августа. Сам король отдал приказ возмущенному мужу, отчаявшемуся вернуть домой блудную жену. И приказ этот звучал не просто как комплимент женским прелестям мадам де Витт: “И не думай оставлять крепость из-за своей жены, твоя жена сама должна возвратиться, доверься её уму”.
Прелестница оказывалась при командующем русским войском Салтыкове, под Хотином, и пушки молчали лишних три дня, приводя в негодование Потемкина. Сестры встретились. Подруга Салтыкова Софья де Витт и супруга турецкого паши приостановили сражение, задержали «викторию» русских. И даже Потемкин унял свой гнев, когда от Салтыкова прибыл к нему в лагерь прекрасный посол… С того дня господину де Витту за его супругу исправно платил Потемкин, разумеется, в интересах Отечества. Муж, предоставленный сам себе, ещё не раз убеждался, что очень выгодно вложил те тысячу червонцев, которые он заплатил когда-то за крошку-гречаночку. А мадам де Витт, теперь уже послом от самого Потемкина, отправилась в Варшаву — разузнать о настроениях вечно непокорной польской шляхты. Верная себе, обворожительная Софья прежде всего была послом любви. Её предназначение — завоевывать сердца. Задание Потемкина было выполнено блистательно. В Варшаве в неё без памяти влюбился Потоцкий… О такой добыче русские политики могли только мечтать. «Крупнейший помещик, представитель древнего польского рода, яростный защитник интересов независимой Польши».
Если не принимать во внимание обилия лирики в данном отрывке, главное очевидно — Софья де Витт предстает не столько как любвеобильная гетера, сколько как талантливая разведчица. Сразу возникает вопрос: может, именно за это и приблизил её к себе Потемкин, может, именно за успехи в секретных операциях, а не на любовном ложе дарил ей крымские поместья? Может быть, и представляли Софью императрице вовсе не как легкомысленную красотку, а как особо ценного агента? Может быть, и не было вовсе никакого охлаждения в их отношениях, а просто началась новая операция по приобретению для России весьма влиятельного агента в Польше?
Именно поэтому с именем Софьи де Витт связано множество не только любовных, но и политических интриг. Однако Софья была слишком умной, чтобы при этом рисковать своим, с таким трудом добытым, благополучием, а потому, даже интригуя, она всегда стремилась оставаться в тени. Отметим, что Софья была лишена каких-либо личных политических амбиций. Возможно, решающим фактором работы на Потемкина было единство веры, ведь де Витт была все же гречанкой. Возможно, в этом была ещё одна заслуга светлейшего, сумевшего, в перерывах между амурами, заронить в женское сердце любовь к России. Как бы то ни было, но своего старшего сына Иогана Софья называла дома исключительно Иваном, да и воспитывала с пеленок в любви к России. При этом, видя негативное отношение большинства польской аристократии ко всему русскому и исходя из своего богатого жизненного опыта, Софья делала все это в тайне от окружавших. Как непроста и как дальновидна была эта женщина! Как много и умело смогла она дать своему сыну! Время покажет, что эти труды не пропали даром.
Примечательна весьма таинственная история с падением крепости Хотин. Дело в том, что комендантом крепости был муж старшей сестры Софьи Гассан-паша. Турок был настолько влюблен в свою жену, что ради неё отказался от гарема и находился полностью под её влиянием. Когда наша армия осадила Хотин, там появилась Софья, которая несколько раз встречаясь со своей сестрой. После этого Хотин капитулировал. Вполне возможно, что именно Софья и её сестра сумели убедить Гассан-пашу в бессмысленности сопротивления. Если это было действительно так, то Софья де Витт спасла сотни жизней русских солдат. Уже за одно это она достойна нашей памяти!
В это время в Польше происходила напряженная внутриполитическая борьба вечно враждующих аристократических группировок. Правительства Австрии, Пруссии и России готовились к очередному разделу саморазрушающейся Польши, которая, раздираемая склоками шляхты, на глазах теряла государственность, превращаясь в неуправляемое бандитское образование. Подготовка к усилению российского влияния в Польше, прежде всего в её восточных областях, шла по всем направлениям.
Относительно дальнейшего развития событий существует тоже несколько легенд. Согласно первой, официальной, сам Потемкин уступил красавицу безнадежно влюбленному в Софью пророссийски настроенному гетману Станиславу Потоцкому. Причем передача любовницы польскому гетману была не прихотью сумасбродного князя, а тонким политическим расчетом искушенного в закулисных интригах государственного деятеля. По другой версии, Софья де Витт якобы сама бросила надоевшего ей мужа и, видя равнодушие Потемкина, ушла к Станислову Потоцкому. Были слухи, что гетман уплатил предприимчивому генералу де Витту за право жениться на его жене отступные в размере два миллиона злотых, так что и здесь ушлый голландец не остался в накладе, а Софья стала уже не только графиней, но и гетманшей.
Из родословной семьи Потоцких: «Йозеф Витте после смерти своего отца сделался комендантом Каменца-Подольского, но к этому времени амбиции Софьи вышли уже далеко за рамки этого города и статуса первой леди Подолья. Она окунулась в вихрь политических интриг, стала доверенным лицом Екатерины II, а чуть позднее разделила ложе с фаворитом императрицы князем Потемкиным. Силой и уговорами де Витте заставил жену вернуться в Каменец. Но прекрасная комендантша недолго гостила в собственном доме. Её новым увлечением стал граф Феликс-Станислав Потоцкий, к которому она убежала в Варшаву. В ответ на требование Витте графу Потоцкому немедленно вернуть жену, Софья возвратилась в Каменец с намерением откупиться от мужа. Она переписала на его имя свои белорусские имения, подаренные Екатериной, а также вручила более полумиллиона золотых, выданных ей влюбленным графом. Витте согласился дать ей свободу».
Софья и Станислав Потоцкий были неразлучны с 1791 года. Оформить же отношения они решили лишь четыре года спустя, уже заведя внебрачных детей. При этом старые цепи Гименея над ними словно не довлели. Иосиф не противился бракоразводному процессу, и к январю 1796 года формальности были улажены. К нему отошли белорусские владения бывшей супруги и 150 тысяч злотых. Кроме того, Софья взяла обязательство выкупить у графа Потоцкого на имя своего первенца Ивана де Витта поместье Грушевский Ключ и передать его экс-супругу на правах пожизненного владения. Самого же пятнадцатилетнего сына Станислав Потоцкий брал на воспитание.
Остановимся на личности нового избранника Софьи де Витт подробнее, ибо он оказал огромное влияние на всю последующую жизнь, как самой Софьи, так и её ещё тогда маленького сына.
Станислав Потоцкий родился в 1752 году на Волыни. Отец его был киевским воеводой, человеком властным, жестоким, с огромным польским гонором. Владения Потоцкого были расположены по всей Правобережной Украине: в Краковском и Сандомирском воеводствах, а также на Брацлавщине — Умани, Тульчине, Немирове, Тальное и другие. Наследник влиятельнейшего и богатейшего рода Польши, Станислав был настоящим баловнем судьбы, став одним из богатейших польских магнатов, за что и получил прозвище «щенсный», то есть счастливый. Именно под именем Потоцкого-Щенсного он и вошел в историю. Политическую карьеру Потоцкий-Щенсный начал уже в юном возрасте, когда стал бельским старостой. Резиденцией огромных владений Станислава Потоцкого с 1775 года стал город Тульчин. В своей жизни Щенсный достиг немало: маршалок Торговицкой конфедерации, крупнейший тульчинский, браиловский и уманский помещик, воевода Чернморусский, маршал Тарговицкий и генерал коронной артиллерии. Щенсный являлся кавалером российского ордена Александра Невского и обоих польских орденов, а также автором злободневных трактатов: «Вечное бескоролевье», «О наследии трона в Польше» и «Протест против трона в Польше». В 80-х годах XVIII века Щенсный был членом масонской ложи «Великого Польского схода». Считается, что выстроенный им позднее парк «Софиевка» полон тайных масонских символов.
Пушкинист Л. Гроссман в своем произведении «У истоков бахчисарайского фонтана» пишет, что известный мемуарист «Вигель в своих записках называл фамилию Станислава-Феликса Потоцкого-Щенсного “семейством польских Атридов”, не менее преступных, чем их античные прообразы. Он вспоминает по этому поводу историю семьи Борджиа, нравы которой были обычны в Польше эпохи её распада, во многом близкой к средневековой Италии с её вожделениями и злодеяниями. Он называет третью жену Станислава-Феликса, т. е. Софью Витт, “новой Федрой”, затмившей… знаменитую героиню Эврипида и Расина».
Разумеется, «преступность» семьи Потоцких, заключавшаяся на самом деле лишь в их русофильстве, не такой уж большой грех, по крайней мере, не хуже прозападное других семейных польских кланов.
Сегодня польские историки дружно не любят Потоцкого-Щенсного, не без оснований считая его преданным сторонником России, а потому и изменником независимой Польши. Поэтому, читая характеристики, даваемые современными польскими историками Щенсному, надо понимать их необъективность и предвзятость.
До сих пор в польских учебниках истории значится, что ценой присоединения Польши к Российской империи Екатериной II якобы стала красавица-гречанка Софья Витт. Свидетельствует польский биограф: «У нас в руках почти доказательство того, что мадам Витт выступила здесь в роли политического агента, кокетством склоняя колеблющегося Потоцкого принять предложение “северной союзницы”. На человека с небольшим умом слишком много было расставлено здесь сетей… а тут ещё самая красивая женщина, ангел или сатана во плоти, вешается ему на шею, нашептывая сладкие слова любви, и, со свойственной восточным наукам образностью, рисует ему будущее счастье его отечества, а его самого в этом отечестве — первым гражданином, может быть, королем, которого благословят подданные». При всем уважении к Софье де Витт и её красоте, все же наивно полагать, что Польша обошлась России столь дешево, и всё было так просто.
Как бы то ни было, но именно маршал конфедерации вельможный пан Станислав Потоцкий подписал акт конфедерации, решив судьбу Польши, что означало полный передел её границ и ввод русских войск для поддержания порядка. Польша потеряла свою независимость, которую, впрочем, не слишком и стремилась в тот момент отстаивать. На церемонии подписания акта конфедерации присутствовала и одна из виновниц сего исторического события — Софья де Витт.
Вот одна из типичных польских биографий Щенсного: «Окруженный с детства гувернерами, Станислав так и не смог одолеть вершины никаких наук в силу тупоумия. Во время эпидемии холеры Станислав был отправлен в путешествие. 18-летний юноша встретился с дочерью помещика Комаровского Гертрудой. Девушка была хорошо воспитана, начитана, умна, довольно красива. Между молодыми людьми завязался роман. Визиты участились. Гертруда забеременела. Родители Гертруды склонили Потоцкого к женитьбе. Состоялось тайное венчание пары. Но “тайна” разнеслась по всей округе. Разгневанный граф заставил сына разорвать этот брак, а с Гертрудой решили жестоко расправиться. Ватага казаков под видом грабителей напала на дом Комаровских и схватили Гертруду. Потоцкие планировали упрятать её в монастырь, но по дороге встретился обоз чумаков, и, чтобы заглушить крик Гертруды, бандиты набросили на неё подушки, под которыми она и задохнулась. Труп выбросили в прорубь. Весной он всплыл, родители подали в суд, но кто мог тягаться с могущественным родом Потоцких! Станислав был потрясен. Родители отправляют сына за границу. Но он пробыл там недолго, ибо почти одновременно ушли из жизни его отец и мать. Так Станислав стал единственным наследником несметных богатств.
Станислав стал мужем Жозефины-Амалии Мнишек, представительницы древнего аристократического рода. Жили в Тульчине. За 23 года супружества она родила 11 детей: 7 дочерей и 4 сына, но не все от Потоцкого. Станислав в политике разбирался слабо, подпадал под чужое влияние. Оказался на стороне вражеской оппозиции, был отвергнут друзьями и покончил с политической деятельностью. В Яссах он познакомился и увлекся Софьей. Красавица пустила в ход все свои чары. Жозефина все узнала, но не придала этому особого значения. Но вот появляется в Петербурге муж и просит развод, на что она не соглашается. Софье тоже не удалось расторгнуть свой брак. Влюбленные уезжают в Гамбург. Здесь их тоже встретило общественное презрение. Появилась нужда и в материальных средствах, так как Жозефина прекратила высылать деньги. По величайшему разрешению царицы, “семья” возвращается на родину. Но де Витт не расторгает брак, как и Жозефина. Положение нелегкое, имеется двое детей от Потоцкого (Константин, Николай). Софья пишет письма, в которых заверяет в своей любви и верности, ловко играя на чувствах мужа. В них ложь, лицемерие. Ей уже 36 лет. Она едет в Умань, чтобы не потерять Потоцкого.
Более двух миллионов злотых пришлось заплатить де Витту за Софью, за то, чтобы 17-летний брачный союз между Софьей и Иосифом был расторгнут. Это был 1796 год. Но вымогательством де Витт продолжал заниматься до конца своих дней.
Обосновавшись в Тульчине с Софьей, Потоцкий продолжал удовлетворять все её прихоти. В это время и был задуман парк в дар Софье. Руководителем строительства парка был назначен военный инженер Метцель. Он разработал оригинальный художественно-архитектурный комплекс парка в «пейзажном стиле».
Однако с уникальным парком у Софьи были связаны не только прекрасные воспоминания первого периода жизни с Потоцким, но и трагические. Под усеченной Колонной Печали в парке были похоронены трое детей: Константин, Гелена и Николай, которые умерли почти одновременно во время эпидемии оспы. В 1798 году Софья родила Александра. Однако несмотря на все усилия, ей никак не удавалось стать законной женой Потоцкого. Жозефина упорно не давала развода неверному мужу. Помог в этом деле старший сын Потоцкого и Жозефины — Юрий. Он служил при дворце в Петербурге и вел откровенно разгульный образ жизни. Бесконечные долги покрывались из отцовских доходов. Когда на этой почве между сыном и отцом возник серьезный конфликт, Софья сумела примирить отца с сыном и обеспечить последнему необходимое денежное содержание. Впрочем, все это сделала Софья не бескорыстно, а при условии, что сын уговорил свою мать согласиться на развод. В утешение для брошенной жены гетман добился ей ордена Святой Екатерины 1-й степени и звания статс-дамы Императорского двора. Что ж, и здесь Софья оказалась на высоте. В 1798 году 23-летний брак между Жозефиной и Потоцким был окончательно расторгнут. В этом же году в предместье Тульчина Софья обвенчалась со Станиславом, став отныне графиней Потоцкой.
После долгожданной свадьбы Потоцкие предались неуемному веселью и развлечениям. В залах Тульчинского дворца не умолкала музыка, частыми стали балы, маскарады, увеселительные прогулки. Жозефина умерла. Единственным искренним другом Софьи, из детей Потоцкого от первого брака, был Юрий, который поселился в Тульчине, так как был разжалован государем Павлом I и выслан из Петербурга за разгульный образ жизни.
От брака с Потоцким Софья имела ещё двух дочерей-погодков — Софью и Ольгу. Как известно, гетман велел назвать одну из дочерей в честь своей супруги. Дочери гетмана от брака с Софьей де Витт — одни из героинь нашего повествования.
Уже в отрочестве Софья и Ольга считались признанными красавицами, хотя современники и считали, что Потоцкий несколько «подпортил» породу, и дочери даже в расцвете юности проигрывали рядом с ошеломляющей красотой своей матери. Девочки получили прекрасное образование, их готовили для замужества за первых вельмож Российской империи, а потому, как и Иоганн де Витт, Софья и Ольга воспитывались с любовью к России и ко всему русскому. Едва девочкам минуло шестнадцать, как они были привезены в Санкт-Петербург и представлены высшему свету. Красота, юный возраст, прекрасные манеры и богатство отца привлекли к сестрам самое пристальное внимание потенциальных женихов. Однако окончательный выбор будущих мужей для дочек оставил за собой отец.
В НАЧАЛЕ ПУТИ
О точном месте рождения Иогана де Витта данных нет. В биографии нашего героя сказано лишь то, что он родился во время заграничного путешествия супругов и год его рождения — 1781-й. Учитывая, что большую часть времени супруги де Витт провели в Париже, скорее всего, именно там и появился на свет их сын. В 1782 году супруги возвратились в Каменец, где и прошло детство Иогана.
После разрыва матери с Иосифом де Виттом Иоган остался с матерью, хотя во время её знаменитого романа с Потемкиным жил при гувернере и няньках. Известно, что Софья де Витт тайком от отца перекрестила в Херсоне своего сына в православную веру. Отныне бывший Иоган стал Иваном. Когда Софья де Витт вышла замуж за Потоцкого, она немедленно забрала сына к себе. У отчима с пасынком сложились хорошие отношения, и гетман заботился об Иване как о родном сыне. Впрочем, жизнь Ивана в имении Потоцкого продолжалась всего несколько месяцев. Дело в том, что после третьего раздела Польши Варшава надолго стала российским городом, а потому вся польская аристократия сразу же кинулась искать счастья и карьеры у порогов петербургских дворцов. Не стала исключением и семья гетмана Потоцкого. 17 февраля 1792 года десятилетний Иван де Витт был записан на военную службу со званием корнета, оставаясь при этом жить с матерью.
К Ивану де Витту применимо все то, что писал по этому вопросу историк В.В. Болотов в 1875 году, основываясь на мемуарах XVIII века: «Иногда малейшие дети включались в действительную службу, и чтоб им почти от рождения шло старшинство, и чтоб можно было, через происки, потом самих ребятишек брать в выпуск капитанами. Что же касается до взрослых, то и из них большая часть вовсе не служила, а все жили по домам и либо мотали, вертопрашничали, буянили, либо с собаками по полям только рыскали, да выдумывали моды и разнообразные мотовства; однако, не смотря на то, ещё скорее доставали себе либо поручичьи, либо капитанские чины, и, будучи сущими ребятишками и молокососами, выпускаемы в сих чинах в армейские полки, перебивали у действительно служащих линию и старшинство». Было таких офицеров нажаловано столько, что «не знали, куда с ними деваться…»
Одновременно с Иваном был записан корнетом в гвардию и его сводный брат Станислав Потоцкий.
В августе 1796 года Софья Витт-Потоцкая привезла пятнадцатилетнего Ивана в столицу. К этому времени его отец получил графское звание, которое унаследовал и сын. Именно тогда де Витт официально меняет своё имя Иоган на Ивана, а по отцу решает именоваться не Иосифовичем, а Осиповичем. Так в российской столице появляется молодой граф Иван Осипович де Витт, прибывший делать карьеру в гвардии.
Молодой граф был принят на службу в Конногвардейский полк. Для этого у него были все данные: хороший рост, отличная выправка и, что особо важно, немалые средства, которые были непременно нужны, чтобы быть настоящим конногвардейцем, то есть достойно содержать себя и вести соответствующий образ жизни. В 1796 году вместе с полком де Витт участвует в траурных церемониях при кончине императрицы Екатерины II.
До 1796 года лейб-гвардии Конный полк был единственным регулярным кавалерийским полком в русской гвардии. В большинстве источников отмечается, что впервые полк участвовал в боях лишь в 1805 году. Однако это заблуждение. Первое участие в боевых действиях Конный полк принял ещё в 1737 году, когда три из десяти эскадронов полка сражались при взятии Очакова и в битве при Ставучанах в ходе Русско-турецкой войны 1737–1739 годов.
В павловскую эпоху лейб-гвардии Конный полк имел обмундирование, вооружение и конный убор по образцу армейских кирасирских полков. По воинскому уставу 1796 года и табелю от 1798 года де Витту были положены: перчатки, треугольная шляпа с султаном, плащ, фуражная шапка, китель, палаш с темляком, портупея, шашка, кушак, кираса (окрашенная в черный цвет), карабин, погонная перевязь, лядунка и пара пистолетов, колет из палевой кирзы, с застежкой на крючках, суконный камзол, белые лосины и высокие ботфорты с накладными шпорами.
Год 1796-й занимает особое место в российской истории. Со смертью Екатерины II заканчивается «золотой век дворянства», а заодно с ним — и период женских царствований в России. Павел I сразу же начал своё царствование с наведения порядка в собственной гвардии, которая при его матушке жила весьма вольготно и настоящей службой себя не слишком утруждала.
Уже 29 ноября 1796 года, то есть через три недели после воцарения Павла, появились воинские уставы о конной и пехотной службе. Положение гвардии переменилось разительно. Полковой адъютант Измайловского полка Е. Комаровский так писал о тех днях: «Образ жизни наш, офицерский, совершенно переменился. При императрице мы думали только о том, чтобы ездить в театры, общества, ходили во фраках, а теперь с утра до вечера сидели на полковом дворе и учили нас всех, как рекрутов». Непривычные, невиданные ранее тяготы службы вызвали массовые отставки.
Историк пишет: «Неродовитые, разумеется, в сравнении с петербургскими, офицеры, среди которых было много выходцев из Германии, Курляндии, Украины (именно к последним относился и корнет де Витт. — В.Ш.), делали зачастую более быструю и значительную карьеру, чем гвардейские старожилы. Всеобщее презрение вызывали новые уставы. В первую очередь за их сходство с прусскими уставами… Введенные Павлом изменения в армии, вплоть до нового мундира, провоцировали раздражение и озлобление».
В течение первых нескольких недель после введения новой прусской формы и ужесточения дисциплины около семидесяти офицеров-конногвардейцев оставили полк. Из ста тридцати двух офицеров, бывших в Конногвардейском полку в 1796 году, лишь двое остались в нём к марту 1801 года. Фактически полк был развален, и его предстояло формировать заново. Честно говоря, Ивану де Витту, который только что поступил на службу и не вкусил всех прелестей старой гвардейской жизни, просто не с чем было сравнивать свою только что начавшуюся службу. А потому никаких оснований для ухода со службы у него не было. Кроме того, сделать такой опрометчивый шаг ему не разрешили бы ни мать, ни отчим. Из-за того что в Конногвардейском полку демонстративно покинули службу более половины офицеров, там сразу же появилось много вакансий, которые заполнялись из других полков. Павел I был весьма зол на покинувших полк фрондеров, но одновременно весьма благосклонен к тем офицерам, кто остался в нём служить.
К чести гетмана Потоцкого-Щенсного, он весьма неплохо относился и к своему приемному сыну Ивану. По крайней мере, денег на его образование и карьеру не жалел. Немалые деньги выделял сыну и его отец граф де Витт. Молодой граф получил неплохое образование, в совершенстве знал основные европейские языки: русский, польский, французский, голландский, немецкий, греческий и даже турецкий, что весьма пригодилось ему в дальнейшем. Заслуга в изучении языков всецело принадлежала его матери. Будучи весьма склонной к изучению иностранных языков (по некоторым сведениям, Софья Витт-Потоцкая знала семь европейских языков), она сумела обучить им и своего старшего сына. Кроме того, с юных лет де Витт был введен матерью и отчимом и в высшие круги польской аристократии, где обрел множество полезных знакомств, а потому вполне мог рассчитывать на прекрасное будущее.
Служба в Конногвардейском полку при Павле I действительно была нелегкой. Парады и дежурства, караулы и маневры сменяли друг друга постоянно. Помимо этого много времени и нервов отрывали ежедневные разводы и вахтпарады. Император лично участвовал во всех разводах и вахтпарадах гвардии, мельчайшие стороны армейского быта не ускользали от его пристального и пристрастного внимания. А новшества сыпались на гвардейских офицеров каждый день.
Гвардия и армейские полки вскоре получили новый мундир по прусскому образцу, штиблеты, парик с буклями и косой, и прочее. Павловский мундир, в отличие от екатерининского (122 рубля), стоил не более 22 рублей. Меховые шубы и дорогие муфты были запрещены вовсе. Под мундир разрешалось надевать фуфайки или подбивать его мехом. Новый воинский устав запрещал офицерам делать долги, занимать деньги и брать товары в кредит. В противном случае полковой командир обязан был уплатить долг, вычитая деньги из офицерского жалованья. Если долг оказывался слишком большим, офицера надлежало посадить под арест, а все его жалованье поступало кредиторам и заимодавцам. Все эти полезные меры вызывали резкое и однозначное неприятие со стороны гвардейцев.
На изменении настроений в армии сказалась, прежде всего, возросшая тяжесть службы. Теперь каждый офицер персонально отвечал за своё подразделение: бесконечные смотры и вахтпарады, контролировавшие выучку солдат, могли закончиться неприятностями вплоть до ареста и исключения из службы. Прекратились тянувшиеся годами отпуска офицеров. Было покончено с практикой записи дворянского недоросля в полк, когда к своему совершеннолетию он достигал уже офицерского чина. Таких дворянских детей, числившихся в армии, регулярно получавших чины и награды, но реально не служивших, было исключено со службы более полутора тысяч человек. Можно сказать, что де Витту сильно повезло, и он был одним из последних дворянских отпрысков, кто успел воспользоваться старым законом и просидеть четыре года дома в корнетском чине.
Служба в Конногвардейском полку у де Витта протекала вполне успешно. Уже в августе 1798 году он был произведен в подпоручики. Следующий, 1799 год вообще стал для восемнадцатилетнего офицера звездным. В апреле его производят в поручики, а в октябре — уже в штаб-ротмистры. Думается, что здесь сыграла свою роль и знаменитая фронда конногвардейских офицеров. Некомплект офицерского состава полка надо было срочно ликвидировать, и толковую молодежь активно продвигали вперед. Одновременно был переведен в полк и ряд армейских офицеров, для которых этот перевод был огромной удачей в жизни. Эти меры привели к тому, что вчера ещё самый оппозиционный полк гвардии стал одним из самых преданных императору.
Разумеется, стремительный рост в чинах трудно объяснить какими-то выдающимися достоинствами молодого графа. Вполне возможно, что де Витт отличился на каком-нибудь очередном вахтпараде и был отмечен императором Павлом I, который прямо на месте производил в очередной чин отличившихся и карал провинившихся. Однако, скорее всего, причина крылась совсем в ином. Павел I был крайне заинтересован в лояльности польской аристократии. С момента Русско-польской войны 1792 года прошло совсем немного времени, и старые обиды поляков были ещё очень свежи. Как мы уже знаем, Потоцкий-Щенсный являлся как раз лидером прорусской партии, поэтому в Петербурге его ценили особо. Стремительная карьера пасынка вполне могла быть одним из знаков признательности российского императора к отчиму. Кроме того, весьма вероятно, что не осталась в стороне от карьеры сына и его мать Софья, которой не составляло особого труда уговорить любящего мужа отписать в столицу письмо с просьбой о производстве пасынка в очередной чин. Разумеется, отказать Потоцкому в такой малости Павел I тоже не мог.
В январе 1800 года де Витта внезапно переводят из Конногвардейского в Кавалергардский полк. Почему? Полки того времени представляли собой достаточно замкнутые сообщества со своими традициями и правилами, а потому переходы офицеров из полка в полк были делом не частым.
История кавалергардов начиналась с коронации императрицы Екатерины I в 1724 году, когда в качестве её почетной стражи был сформирован Кавалергардский корпус. С течением времени это формирование, комплектовавшееся из представителей знатных российских фамилий, видоизменялось, распускалось и образовывалось снова. Главной задачей кавалергардов была охрана дворцов и царствующих особ. Но новый император посмотрел на это дело иначе. Уже 11 января 1800 года Павел I переформировал Кавалергардский корпус в 3-эскадронный лейб-гвардии Кавалергардский полк, на одинаковом положении с другими гвардейскими полками, причем без сохранения привилегии набора офицеров исключительно из дворян. Отныне бывшие преторианцы становились обыкновенным конным полком, хотя и гвардейским. Это сразу же вызвало демарш старых кавалергардов, которые демонстративно коллективно начали выходить в отставку, как ранее сделали их товарищи конногвардейцы. Освободившиеся вакансии были немедленно заполнены офицерами других гвардейских полков. В число таковых попал и де Витт. Чтобы в кротчайшие сроки создать из кавалергардии нормальный полк, помимо офицеров Павел I лично отобрал из лейб-гвардии Конного полка 7 унтер-офицеров, 5 трубачей, 249 рядовых. Их присоединили к прежним кавалергардам. Так, собственно, и возник Кавалергардский полк. Почти одновременно командиром всей гвардейской кавалерии был назначен граф Пален, он же занял пост инспектора тяжелой кавалерии.
Вместе с другими офицерами, доказавшими свою преданность, Павел I вскоре награждает де Витта орденом Святого Иоанна Иерусалимского, одной из наград, учрежденных императором — магистром Мальтийского ордена. За что получил награду де Витт, нам неизвестно. Вполне возможно, что это было сделано, опять же, в угоду отчиму. Но, может быть, дело было не только в этом. Разумеется, никаких воинских подвигов за графом пока не было, зато он честно и старательно служил. На фоне массовой гвардейской оппозиции для Павла это уже значило немало. Как бы то ни было, но император лично знал молодого графа де Витта, следил за его службой и, несомненно, благоволил к нему.
Переформирование Кавалергардского полка Павлу I до конца завершить так и не удалось, и подавляющая часть кавалергардских офицеров, помнивших свои недавние дворцовые привилегии и веселую беззаботную жизнь, были по-прежнему настроены к императору откровенно враждебно. Прямо противоположная ситуация сложилась в Конногвардейском полку, где все оппозиционеры были уже изгнаны, а вновь прибывшие офицеры полностью поддерживали императора. Именно поэтому к чести конногвардейцев из всей гвардии только офицеры этого полка не оказались замешанными в убийстве Павла I.
11 марта 1801 года эскадрон лейб-гвардии Конного полка, которым командовал полковник Саблуков, должен был выставить караул в Михайловском замке, где проживал император Павел со всем семейством. Полк имел во дворце внутренний караул, состоявший из 24 рядовых, трёх унтер-офицеров и одного трубача. Он находился под командой офицера и был выстроен в комнате, перед кабинетом императора, спиной к ведущей в него двери. Дежурным по караулу в этот день был корнет Андреевский.
Через две комнаты был расположен другой внутренний караул от гренадерского батальона Преображенского полка под командованием подпоручика Марина. Главный караул во дворе замка (а также наружные часовые) состоял из роты Семеновского полка. За день до этого по совету графа Палена (стоявшего во главе заговора), обвинившего конногвардейцев в «якобинстве», император удалил все эскадроны Конного полка (кроме эскадрона полковника Саблукова) из столицы.
Согласно выработанному заговорщиками плану, сигнал к вторжению во внутренние апартаменты дворца и в кабинет императора должен был дать адъютант гренадерского батальона Преображенского полка Аргамаков, которому, в свою очередь, должен был дать сигнал командир кавалергардов генерал граф Уваров, который в качестве доверенного генерал-адъютанта Павла I был дежурным во дворце в ночь с 11 на 12 марта.
Подпоручик Марин (будущий поэт), командовавший внутренним пехотным караулом, удалил верных императору гренадер Преображенского лейб-батальона. Верный императору полковник-конногвардеец Саблуков по приказу великого князя Константина Павловича также был отозван из дворца и назначен дежурным полковником по полку.
Семеновцы заняли все подходы ко дворцу и все его внутренние коридоры и проходы. Сигнал был подан, пьяные заговорщики (братья Зубовы, генерал Бенигсен и другие) ворвались в комнату императора, а затем Скарятин, офицер лейб-гвардии Измайловского полка, снял висевший над кроватью собственный шарф императора и задушил его. Когда в комнату ворвались конногвардейцы, было уже поздно…
На следующий день под прикрытием кавалергардов во дворец прибыл великий князь Александр Павлович. Нижние чины и офицеры лейб-гвардии Конного полка отказались присягать Александру; лишь только когда им был показан труп Павла, присяга состоялась… Первые дни после воцарения нового императора офицеры Конного полка держались в стороне и с таким презрением относились к заговорщикам, что произошло несколько столкновений, окончившихся дуэлями.
Что касается де Витта, то он в перевороте никакого участия не принимал. В известных на сегодня списках заговорщиков его фамилии никогда не было. Да и не имел граф никаких личных причин таить обиду на своего императора.
По большому счету для кавалергардов де Витт был чужаком, присланным к ним для «оздоровления» из Конногвардейского полка, с которым у кавалергардов давно были весьма натянутые отношения. К моменту переворота де Витт находился в Кавалергардском полку всего три месяца и за это время, разумеется, ещё не смог стать своим. Кроме того, как известно, конногвардейцы считались (и на деле оказались) единственно до конца верными Павлу, тогда как кавалергарды, наоборот, были в первых рядах убийц императора. Думается, что служить в кавалергардах де Витту было нелегко и морально. Вряд ли у него было там много друзей, так как большинство офицеров полка считали его любимчиком императора и относились соответственно.
Как ни странно, но государственный переворот пошел де Витту на пользу. Уже 16 марта его снова производят в новый чин, на сей раз в ротмистры. Здесь, по-видимому, сыграли роль сразу два фактора.
Во-первых, в те дни получила повышения в чинах большая группа гвардейских офицеров, причем как принимавших непосредственное участие в перевороте, так и не принимавших. Новый император, таким образом, «рассчитывался» с гвардией за услуги по занятию трона.
Во-вторых, дав де Витту новый чин, Александр I сигнализировал его отчиму, что российская власть по-прежнему благосклонна к нему и ценит своего польского союзника. А награды продолжали сыпаться на молодого кавалергарда как из рога изобилия. В октябре этого же, 1801 года всего на двадцатом году от рождения де Витт производится в полковники и принимает под команду самый элитный и престижный 1-й эскадрон Кавалергардского полка. И все это — не участвуя ни в одном сражении и не покидая Петербурга! Принимая во внимание влияние Потоцкого-Щенсного и старания матери, все же думается, что и сам Иван де Витт служил по-прежнему достаточно прилежно и старательно.
Биографы де Витта немного знают о его первых петербургских годах. Думаю, что не буду далек от истины, если предположу, что молодой красивый полуполяк-полугрек с прекрасным знанием французского языка и с прекрасными аристократическими манерами, умный и легкий по характеру, при этом ещё и очень богатый, был желанным гостем всех великосветских салонов и балов.
В кавалергардском полку существовала давняя традиция отмечать производство офицеров в новый чин своеобразным способом. Герой торжества нанимал похоронный катафалк, на который устанавливался гроб, доверху заполненный бутылками с шампанским. Вокруг гроба торжественно рассаживались участники празднества и начинали хором распевать похоронные песни, не забывая при этом опустошать содержимое гроба. Катафалк тем временем объезжал весь город. Периодически он останавливался, и тогда развеселые офицеры заставляли зазевавшихся прохожих пить вместе с ними. У нас нет информации, что де Витт участвовал в подобных мероприятиях. Однако у нас нет и никаких данных, что он в поездках на катафалке не участвовал.
Скорее всего, де Витт, как и всякий уважающий себя молодой кавалергард, веселился наряду со своими товарищами, восседая у гроба, забитого льдом и шампанским, и распевая печальные псалмы под грохот вылетающих пробок.
Однако обстоятельства заговора гвардейских офицеров против императора и его ужасная смерть, вне всяких сомнений, потрясли молодого де Витта. Он просто не мог не задуматься над тем, как легко горстка мятежников может переменить власть в такой великой державе, как Россия. Мы уже никогда не узнаем, о чём именно думал молодой граф, но о выводах его раздумий можем определить с определенной уверенностью — государственная власть должна уметь защищаться от подобных заговоров, и для этого нужны особые специально подготовленные люди. Как знать, может быть, именно после смерти императора Павла и начала выкристаллизовываться идея де Витта о секретной службе, действующей во благо России и стоящей на защите императора…
Но и это не все. Мы не знаем всех обстоятельств непринятия участия в заговоре против императора молодого де Витта, но именно тогда кавалергардский ротмистр на деле продемонстрировал свою безграничную преданность российскому престолу. Разумеется, на словах эту преданность демонстрировали все офицеры гвардии. Что касается де Витта, то он её доказал, причем в самый критический момент, в то время как для большей части гвардии участие в мятеже казалось не только и не столько благом для России, как возможностью обеспечить себе карьеру при новой власти.
Отметим, что достойное поведение де Витта не осталось незамеченным представителями правящей фамилии и было оценено по достоинству. Причем оценено не только вдовой покойного императора, но, как это, быть может, на первый взгляд покажется странным, и вступившим на престол Александром Первым. Последний прекрасно разбирался в людях, и преданный династии офицер был ему значительно ближе, чем те, кто ради карьеры только что поднялись на мятеж против его отца, а потом, как знать, быть может, при определенных обстоятельствах выступят и против него. Увы, но во все времена по-настоящему преданных людей не так уж и много…
Повторюсь, что никакой информации о конкретном поведении де Витта во время мятежа у нас нет, слишком незначительной был он тогда фигурой, чтобы попасть в анналы истории. Но то, что из офицеров, не участвовавших в заговоре, де Витт был выделен особо, наводит на определенные предположения. По авторской версии, молодой ротмистр вполне мог узнать о затеваемом свержении Павла от проговорившихся офицеров-кавалергардов, а узнав, предпринять попытку известить императора, а может, и наследника, о готовящемся перевороте, однако это ему не удалось. Возможно, де Витт был изолирован сослуживцами. И хотя, повторюсь, никаких исторических доказательств этому нет, последующие события в целом делают данную версию весьма правдоподобной.
Как бы то ни было, но отныне между Романовыми и де Виттом начинаются скрытые от большинства глаз особые отношения, которые во многом определят его дальнейшую судьбу и продлятся до последних дней нашего героя. Но все это будет ещё впереди.
После событий 11 марта 1801 года де Витт недолго командовал своим 1-м кавалергардским эскадроном. Уже в сентябре 1802 года его переводят в лейб-кирасирский Её Величества полк, где он принимает под своё начало эскадрон. Кирасиры Её Величества, хоть и пользовались правами гвардии, но к старой гвардии, как кавалергарды, уже не относились. Впрочем, это в известной мере компенсировалось тем, что шефствовала над полком лично вдовствующая императрица Мария Федоровна.
Истинные причины перевода де Витта в лейб-кирасиры мне не известны. Предположу, что одной из таковых могло быть хорошее в прошлом отношение к де Витту со стороны Павла I и, как мы уже говорили выше, его достойное поведение во время мятежа. Зная об этом, вдова императора и пожелала видеть в полку своего имени офицера, к которому в своё время благоволил её покойный супруг и который доказал свою преданность в кровавых событиях 1 марта. В пользу этого предположения говорят следующие факты. Уже спустя несколько дней после смерти Павла I его вдова Мария Федоровна известила Александра I о намерении удалиться в Павловск. Тот спросил у неё, кого она хотела бы видеть в качестве своей охраны. Императрица отвечала: «Я не выношу вида ни одного из полков, кроме Конной гвардии». Тем самым она подчеркнула свою любовь к офицерам-конногвардейцам, оставшимся до конца верными её мужу. Что касается де Витта, то он, хотя и носил мундир кавалергарда, по своему настрою и поведению оставался именно конногвардейцем.
Любопытно, что эскадрон конногвардейцев, отправлявшийся в Павловск, по особому повелению Александра (с подачи, разумеется, его матери) был снабжен новыми чепраками, патронташами и пистолетными кобурами со звездой ордена Святого Андрея Первозванного, имеющей надпись: «За Веру и Верность». По воспоминаниям полковника Саблукова, «эта почетная награда, как справедливая дань безукоризненности нашего поведения во время заговора, была дана сначала моему эскадрону, а затем распространена на всю конную гвардию. Кавалергардский полк, принимавший столь деятельное участие в заговоре, был чрезвычайно обижен, что столь видное отличие дано было исключительно нашему полку. Генерал Уваров горько жаловался на это, и тогда государь, в виде примирения, велел дать ту же звезду всем кирасирам и штабу армии, что осталось и до настоящего времени».
Думаю, что после событий 11 марта и сам де Витт не испытывал особого желания продолжать службу в Кавалергардском полку, чуждому ему по духу и нравам. Скорее всего, он с удовольствием согласился переменить место службы. Будучи человеком умным, де Витт просто не мог не понимать, что вдовствующая императрица Мария Федоровна всегда будет иметь большое влияние на своего старшего сына-императора, а потому служить в полку её имени и пользоваться её личным расположением гораздо перспективнее, чем прозябать среди чужаков кавалергардов.
В отличие от кавалергардского полка, атмосфера лейб-кирасир Её Величества была более простая, почти домашняя. Здесь помнили и чтили убитого императора, здесь царил настоящий культ его супруги.
Пусть старомоден белый наш колет; Пускай кираса уж не сдержит пули — Короне нас вернее нет, За Государыню наш вздох последний будет!Лейб-кирасирский Её Величества полк изначально назывался драгунским Портеса полком, а затем Невским драгунским. Боевое крещение полк получил осенью 1705 года в составе кавалерийского отряда князя Меншикова в бою под Прагой. Впоследствии полк принимал участие во всех крупных битвах Северной войны — у Калиша, при Лесной, под Полтавой, был в Курляндии, Померании, Голштинии, Дании, участвовал в подавлении восстания Кондратия Булавина.
В 1733 году в русской армии начинают формировать кирасирские полки — главную ударную силу кавалерии. Невскому драгунскому полку выпала особая честь — он стал не просто кирасирским, а лейб-кирасирским, то есть шефом его стала сама императрица Анна Иоанновна. Императрица считалась полковником полка, а его командиры именовались вице-полковниками. Впоследствии императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II также были шефами и полковниками полка. При этом нужно отметить, что он не входил в состав гвардии, а был армейским полком, но имевшим особую привилегию — шефство высочайших особ. В 1796 году шефом полка была назначена супруга Павла — императрица Мария Федоровна. В 1798 году полк выступил из России за границу и принял участие в кампании 1799 года в Швейцарии. 26 сентября 1799 года три эскадрона полка приняли участие в бою у деревни Шлатте — последнем сражении на берегах Рейна. В марте 1800 года полк вернулся в Россию и, по существу, являлся в то время единственным из привилегированных полков тяжелой кавалерии, имевшим боевой опыт.
В октябре 1798 года в знак особого расположения к полку Павел I пожаловал ему на чепраки и чушки шитые серебром восьмиконечные звезды с двуглавым орлом в центре. Отметим, что кирасиры Её Величества были единственным полком, имевшим с 1801 года серебряные кирасы, тогда как во всех других кирасирских полках они были отменены и вновь введены (но уже стальные) только в 1812 году. Это был знак высшего благоволения со стороны Павла I.
Немного позднее из-за синего цвета приборного сукна за лейб-кирасирами Её Величества навсегда закрепилось прозвище «синие кирасиры». Как и в других привилегированных полках, у лейб-кирасир Её Величества были свои традиции. Так, нижние чины полка комплектовались, как правило, из высоких красивых брюнетов. По возможности и офицеры полка тоже должны были быть брюнетами, так что и по внешнему виду де Витт полностью соответствовал «стандартам» лейб-кирасир. Общая полковая масть коней полка была рыжей, и только у трубачей — серой. В 1-й эскадрон входили золотисто-рыжие кони, во 2-й — рыжие белоногие с проточиной, в 3-й — рыжие со звездочкой, и в 4-й — темно-рыжие и бурые. Каким из этих эскадронов командовал де Витт нам в точности не известно.
Любили лейб-кирасиры и выпить. Недаром в одной из полковых песен пелось:
Не боятся вина количества Кирасиры Её Величества!В том же лейб-кирасирском Её Величества полку при Иване начал службу поручиком и его младший сводный брат — Станислав Потоцкий. Отношения между братьями были прекрасными, и они не только вместе служили, но и вместе проводили время вне службы.
Одно из главных отличий службы в гвардии от службы в обычных армейский полках — это огромное количество всевозможных празднеств и парадов, в которых приходилось участвовать гвардейцам. Петербургские парады вообще занимали заметное место в жизни города и своим количеством, и красотой. Парады были полковые или всего гвардейского корпуса, по случаю смены караулов и дворцовые, в связи с большими праздниками или важнейшими событиями в жизни империи, столицы, императорской фамилии. Эти церемонии запечатлены на многочисленных гравюрах и картинах. Чаще всего военные команды и музыка оглашали просторный Царицын луг, ставший со времени Павла I в полном смысле Марсовым полем, как в Париже. Здесь проводились многочисленные военные учения.
С начала XIX века военные парады стали устраивать в память о различных исторических событиях. Так, 16 мая 1803 года столица торжественно «возобновила память об основателе сего града…» Гвардейские полки прошли маршем по Английской набережной к Сенатской площади. Во главе колонн был молодой государь — Александр I, который при прохождении мимо Медного всадника «изволил ему салютовать, чему последовали все войска». В этом параде участвовал со своим эскадроном и Иван де Витт.
Важным элементом военного быта гвардейских полков, расквартированных в Петербурге, было соперничество. Мы уже говорили о весьма сложных отношениях между офицерами Кавалергардского и Конногвардейского полков, которые длились не один год. Соперничество между полками находило порой самые разные формы выражения. На поле боя полки гордились своей доблестью, на походе — выносливостью. В мирное время соперничество было на скачках и в дружеской попойке, а порой решалось и на дуэлях.
У гвардейцев, как и в каждой уважающей себя корпорации, был свой жаргон. Вот некоторые характерные его образцы, автором которых был командир лейб-гвардии Уланского полка граф Гудович: «сушить хрусталь» — пьянствовать, «попотеть на листе» — играть в карты. Широко использовали, к примеру, термин «хрипун» для обозначения военного щеголя, затянутого в корсет. Все это составляло жизнь и де Витта.
Однако помимо всего этого молодой полковник серьёзно занимался совершенно иными, казалось бы, совершенно чуждыми гвардейцу, делами. Всё свободное время де Витт уделяет изучению устройства иностранных армий, их особенностей и уставов. Военная разведка в то время ещё не была до конца сформирована, но тот факт, что де Витт уже тогда отдавал предпочтение именно секретной службе, сомнений не вызывает. Одновременно молодой полковник становится завсегдатаем великосветских салонов. Имя, связи и деньги открывали ему все двери. Вскоре о красавце полковнике стали говорить как об умном и многообещающем молодом человеке. Почтенные мамаши обратили на него взор как на перспективного жениха. Но Иван де Витт и не помышлял об этом. Мир салонов, интриг и скоропалительных любовных связей, мир сплетен и закулисных дел пришелся ему столь по душе, что вскоре он чувствовал себя там как рыба в воде. Кровь матери влекла молодого графа к невероятным приключениям и самым рискованным авантюрам. Современники отмечают, что в ту пору у графа было немало романов. Впрочем, у кого из гвардейских офицеров их не было?
В 1805 году для Ивана де Витта начинается новая глава его жизни: полк выступает за границу, на этот раз в Австрию. Началась война с наполеоновской Францией, и молодому полковнику предстояло получить своё боевое крещение на поле брани.
Говоря об участии лейб-кирасиров Её Величества в кампании 1805 года, необходимо сказать следующее. В отличие от легкой кавалерии (гусар, драгун и уланов), которая предназначалась для разведки, несения дозоров, лихих рейдов по тылам противника и его преследования после выигранного сражения, тяжелая кавалерия (конногвардейцы, кавалергарды и кирасиры) предназначалась для пробития неприятельской обороны. Рослые всадники в броне с тяжелыми палашами на огромных конях должны были в тесном строю проламывать вражеские порядки.
По существовавшему в ту пору уставу тяжелой кавалерии, неприятеля следовало атаковать только сомкнутым «железным» строем, а уже для преследования, не выдержавшего натиска врага, использовалась «рассыпная атака». По команде: «Рознь! Марш! Марш!» следовало «каждому кирасиру не держать ни линии, ни шеренги, а ехать вперед». Стреляли и рубили до тех пор, пока сигнал «Аппель» не заставлял прекратить преследование и, не мешкая, собираться к своему штандарту. При этом своё место в шеренге можно было не отыскивать, но желательно было найти свою шеренгу (первую или вторую). Место сбора определялось по штандарту, для прикрытия которого всегда оставались с обеих сторон по три ряда кирасир с командиром 3-го взвода, а также замыкающий офицер и трубачи.
Кирасиры были главной ударной силой армии, от которой зачастую зависел конечный исход генерального сражения. Подготовка и снаряжение кирасир стоило очень дорого, а потому их никогда не бросали в бой, как все другие полки, а берегли «как зеницу ока» для нанесения решающего смертельного удара противнику. Именно поэтому боевых дел у кирасиров, как правило, бывало намного меньше, чем у их коллег гусар и уланов. Весьма нечасто выпадало кирасирам драться с неприятелем во время многочисленных войн с Турцией. Там для них просто не было достойного противника, так как турки не имели тяжелой кавалерии, и драгуны с казаками вполне справлялись с их иррегулярной конницей. Однако в войнах с европейскими регулярными армиями кирасиры были просто необходимы. И если кирасиры уж шли в свою решающую атаку, то эта была стальная лавина, которая сметала все на своем пути. Остановить этот всесокрушающий напор мог только ответный удар такой же тяжёлой конницы. В этом случае встречное сражение становилось настоящим полем брани рыцарских времен, когда, закованные в железо, огромные всадники крушили друг друга своими тяжелыми палашами.
Кампания 1805 года была несчастливой для русского оружия. В кровопролитнейшем и несчастливом для русской армии сражении при Аустерлице лейб-кирасиры приняли самое активное участие. Полк не раз ходил в атаки, а затем весьма успешно прикрывал отступление нашей разбитой армии, находясь в её арьергарде.
Полковник Иван де Витт при Аустерлице был контужен в правую ногу близко разорвавшимся ядром. Граф Ланжерон, участвовавший в том же сражении, впоследствии писал в своих мемуарах, что «Витт со своим полком удалился с поля сражения как раз в то время, когда его присутствие там было необходимо». При этом, по словам того же Ланжерона, «Витт только притворялся, что был контужен». Обвинения достаточно серьезные, однако не без натянутости.
Во-первых, де Витт не мог «со своим полком удалиться с поля сражения» хотя бы потому, что он в то время никаким полком не командовал, а был всего лишь командиром одного из эскадронов. Командиром же лейб-кирасир Её Величества в день Аустерлица был генерал-майор Д.М. Есипов, чьи действия в сражении были оценены как правильные и храбрые. После тяжёлых потерь кавалергардов и конногвардейцев именно лейб-кирасиры Её Величества остались практически последним конным резервом русской армии. Именно поэтому их и не бросили в пекло боя, а использовали уже в самом конце сражения для прикрытия отхода разбитой армии. Один только вид сомкнутых и готовых к контратаке кирасирских эскадронов быстро привел в чувство преследовавших нашу армию гусар и драгун Наполеона. Удара вымуштрованных кирасирских эскадронов легкая кавалерия не выдерживала никогда. А потому, предприняв несколько бессвязных попыток прорваться мимо, французская конница откатилась.
Обвинение Ивана де Витта в притворстве во время Аустерлица тоже весьма натянуто. Зачем ему было притворяться, когда он так и не убыл в обоз, а до конца кампании оставался в арьергарде армии со своим полком и принимал самое активное участие в ретирадных столкновениях с французами? Что касается самого Ланжерона, то он никогда не принадлежал к кругу друзей де Витта, а в будущем (в так называемый «одесский период» жизни нашего героя) вообще, будучи далеко не рядовым масоном, считался одним из главных его недоброжелателей. Но об этом речь ещё впереди.
В конце 1806 года после окончания кампании с французами лейб-кирасирский Её Величества полк был отправлен в состав Молдавской армии, в связи с начавшейся очередной войной с турками. В больших сражениях «синим кирасирам», впрочем, поучаствовать на той войне не довелось. Лейб-кирасир, как обычно, берегли как ударный резерв главнокомандующего, хотя в нескольких небольших стычках они все же приняли участие. Но полковника де Витта в рядах полка к тому времени уже не было.
Впоследствии в 1812 году лейб-кирасирский полк императрицы входил в состав кирасирской дивизии 1-й армии Барклая-де-Толли. Не раз дым сражений Отечественной войны и заграничного похода обвевал штандарты полка. Полоцк, Бородино, Красный, Люцен, Кульм, Фер-Шампенуаз, Париж — вот основные боевые вехи истории полка в эпоху Наполеоновских войн. За боевые отличия в Отечественную войну полк получил 19 Георгиевских серебряных труб.
Итак, боевое крещение нашего героя состоялось. Увы, началось оно в самой трагичной для русского оружия кампании за предшествующее столетие. Впрочем, говорят, что трудности и неудачи в начале пути лишь закаляют того, кто невзирая ни на что идет к своей цели. Именно так случилось и с полковником Иваном де Виттом.
ТАЙНЫЙ АГЕНТ НАПОЛЕОНА
Крайне любопытно, что с началом мирных переговоров Александра I с Наполеоном полковник де Витт был отозван из своего полка в Тильзит. Для чего же он там понадобился? Никаких особых подвигов де Витт на тот момент не совершил. Не было у него пока и никаких заслуг на политическом и других поприщах. Однако вызов молодого полковника в Тильзит, думается, случайностью не был. Дело в том, что в окружении Наполеона находилось тогда много поляков, которые, постоянно интригуя против России, оказывали определенное влияние на французского императора. Чтобы хоть немного противостоять польской партии во французском лагере, Александру нужен был в своем окружении молодой, энергичный и боевой офицер-поляк, причем представитель высшей польской аристократии. Лучшим кандидатом на эту роль, несомненно, был граф де Витт — пасынок польского гетмана Потоцкого.
Чем в точности занимался в Тильзите граф, история нам свидетельств не оставила. Не слишком ещё важной персоной он был к тому времени. Однако нетрудно предположить, что одной из задач де Витта было установление личных контактов с польскими легионерами Наполеона, среди которых было немало его личных знакомых, а может, и друзей детства. Немудрено, что польские офицеры приняли де Витта как своего. Совместные беседы и прогулки, обеды и ужины — именно там можно было узнать многое из того, что никогда не звучало на официальных встречах. Думается, что молодой граф блестяще выполнил данное ему поручение, и император Александр не пожалел, что его выбор пал на этого офицера. Именно за это говорят стремительно последовавшие сразу же за Тильзитом перемены в судьбе де Витта. А перемены произошли, на первый взгляд, весьма странные…
Сразу же после заключения Тильзитского мира между Францией и Россией де Витт отбывает в Подолию, где тогда был расквартирован его лейб-кирасирский полк. Там он внезапно для всех выходит в отставку и спешно выезжает в Вену. По поводу столь непонятного поступка молодого офицера говорили тогда разное. Еще бы, ведь перед де Виттом открывалась блестящая карьера, а он вдруг ни с того ни с сего выходит в отставку! В официальной биографии нашего героя значится, что он оставил службу вследствие неких «неприятностей по службе». Но что это были за «неприятности»?
Из записок биографа де Витта Н. Чулкова: «Причиной его (де Витта. — В.Ш.) ухода со службы были, по-видимому, служебные недоразумения с князем Багратионом и графом Витгенштейном. Это видно из рескрипта императора Александра I от 26 января 1808 года на имя подольского губернатора, которому повелевается учредить надзор за графом Виттом, ввиду разнесшегося в Петербурге слуха, что он, вследствие служебного неудовольствия, намеревается вызвать на дуэль генерал-майора графа Витгенштейна и генерал-лейтенанта князя Багратиона, и не допустить поединка. Если же дуэль состоялась, то предписывалось арестовать Витта, хотя в том же рескрипте передавался слух, что дуэль действительно состоялась».
Все вышеизложенное довольно странно. Разумеется, дело могло обстоять именно так, как описывает Н. Чулков, однако целый ряд фактов говорит за то, что на самом деле события развивались несколько в ином русле. При всем уважении к законам офицерской чести я все же глубоко сомневаюсь, чтобы каждый командир эскадрона мог вызывать на дуэль своего командующего армией, да ещё во время военных действий! Напомню, что тогда Багратион был командующим Дунайской армией (в состав её входил и лейб-кирасирский полк), которая вела активные боевые действия с турками. При этом улаживанием дела о размолвке между командующим армией и командиром корпуса, с одной стороны, и командиром эскадрона, с другой, занимается лично император!
При всем уважении к де Витту, его чин и должность на тот момент явно не стоили такого внимания. Здесь вполне достаточно было бы решения того же Багратиона. Так в чём же дело?
А дело, как думается, было в следующем. После унизительного для России Тильзитского мира Александр I вовсе не собирался отказываться от дальнейшей борьбы с Наполеоном. Тильзит был для него лишь небольшой передышкой, за время которой Россия должна была оправиться от понесенных поражений и приготовиться к новой войне. При этом всем, а в особенности российскому императору, было абсолютно ясно, что новая война будет очень тяжелой. А потому наряду с непосредственной подготовкой армии надлежало постоянно иметь информацию обо всем, что происходит в армии Наполеона. Разумеется, у Александра в Париже был прекрасный военный атташе полковник Чернышев. Но Чернышев был официальным разведчиком, который постоянно находился «под колпаком» сыщиков Наполеона, а потому далеко не всегда мог добыть нужную информацию. К тому же Чернышев находился в Париже, а Великая армия активно перемещалась по всей Европе. Александру как воздух нужен был свой человек в самой армии, а ещё лучше — в её Главном штабе или в походной Ставке императора. При этом информатор должен был отвечать целому ряду важных требований:
— быть преданным России и лично Александру;
— быть высокопрофессиональным военным, разбирающимся во всех армейских нюансах, в картах и документах;
— иметь хорошие связи, если уж не во французских, то, хотя бы в польских высших кругах;
— обладать личным обаянием, умением нравиться, хитростью и ловкостью в делах;
— быть богатым, чтобы исключалась любая попытка подкупа.
Всеми этими качествами обладал полковник лейб-кирасирского Её Величества полка Иван де Витт. Решение об отправке полковника во вражеский стан принимал лично император. Инициативная и успешная деятельность де Витта во время тильзитских переговоров понравилась Александру. Не забыл он и поведения де Витта во время мартовских событий 1801 года, когда тот на деле доказал свою преданность его отцу, а это значило, что де Витт — человек чести. По-видимому, именно поэтому Александр I остановил свой выбор на де Витте.
Однако тот же Александр I, безусловно, понимал, что французы тоже далеко не дураки, чтобы раскрывать свои объятия прибывшему к ним российскому разведчику. Для внедрения де Витта нужна была легенда, которая не только самостоятельно достигла бы ушей потенциального врага, но и придала де Витту авторитет во французских военных кругах. Такой легендой мог стать только особо крупный скандал, связанный с графом. Причем такой скандал, где де Витт фигурировал бы как человек чести, не прощающий оскорблений и бросивший вызов какому-нибудь весьма могущественному врагу.
Ставки в затеваемой игре были очень высоки, и Александр I играл в ней по-крупному. Именно поэтому в легендарные враги де Витту и был выбран генерал Багратион. Почему именно он? Да потому, что на тот момент именно Багратион считался Наполеоном самым талантливым, а значит, и наиболее опасным из российских генералов. За Багратионом была слава Итальянского и Швейцарского походов Суворова, удивительное по доблести и мастерству отступление от Шенграбена, победы над турками. И тут в России находится смельчак, который бросает вызов Багратиону! При этом это не какой-либо русский дворянин, а именитый и всем хорошо известный польский аристократ, за спиной которого стоит богатейшая и знаменитейшая семья Потоцких! Все выглядело настолько натурально и правдиво, что можно было не сомневаться: профранцузски настроенные поляки примут де Витта с распростёртыми объятиями. В непростой ситуации с польским вопросом заполучить в свои ряды представителя традиционно пророссийского клана Потоцких было для них большим политическим успехом. К слову сказать, сам Багратион, судя по всему, был далеко не в восторге от уготованной ему роли. О характеристике, данной Багратионом де Витту, мы ещё поговорим позднее. Пока же отметим, что она показывает неприязнь генерала к нашему герою, однако и дает исчерпывающую оценку его профессионализму.
4 сентября 1807 года «оскорбленный» де Витт выходит в отставку.
Оправдываясь перед друзьями, граф говорил, что после Аустерлицкого побоища и позорного Тильзитского мира он полностью разочаровался как в военной службе, так и… в самой России!
— К тому же, — заявляет во всеуслышание де Витт, — я потомственный польский шляхтич, а потому отныне мои симпатии полностью на стороне французского императора, который обещал восстановить польскую государственность!
Такой поступок сразу же сделал вчерашнего любимца изгоем петербургского света.
— Еще бы! — говорили с раздражением те, кто ещё вчера числил его в приятелях. — Разве может сын польского графа и пасынок польского гетмана стать русским патриотом!
О, если бы только знали они тогда, что в жизни бывают и не такие превращения!
Сразу после этого де Витт без паспорта (то есть своевольно!) покидает Россию. Он уезжает вначале в Варшаву, где местные аристократы устраивают беглецу самый теплый прием. Его здесь многие помнят и знают, у него полно влиятельных друзей по линии отчима и влиятельных родственников по линии отца. Для высшего света Варшавы молодой граф тоже не чужой! Вскоре де Витт оказывается в Вене, а потом и в Париже, а затем снова объявляется в Варшаве. От своего недавнего российского прошлого перебежчик отмежевывается самым решительным образом. Отныне он уже никакой не Иван Осипович, а вполне европейский респектабельный граф Иоганн де Витт!
Итак, согласно официальной версии, де Витт без паспорта выехал за границу, то есть, по существу, бежал без разрешения своего начальства. И это полковник! И это в разгар войны с Турцией! И это в то самое время, как его лейб-кирасирский полк находился в действующей армии! Уже всего этого было вполне достаточно, чтобы лишить де Витта чинов и отправить прямиком на каторгу. Но странное дело: никто на его бегство даже не отреагировал… Никто не собирался лишать его чинов и отправлять в Сибирь. Исчезновение де Витта из России было как бы не замечено.
В официальной биографии нашего героя о его пребывании за границей сказано весьма лаконично: «Витт без паспорта уехал за границу и поселился в Вене. В 1809 г. во время войны Франции с Австрией он вместе с некоторыми другими русскими офицерами поступил волонтером во французскую армию и принимал участие в сражениях при Асперне, Ваграме, Голабрюнне и Знаиме. В 1811 году граф де Витт служил тайным агентом по наблюдению за поляками, а в июне 1812 года он снова поступил на русскую службу». Не слабо, скажу я вам! И как-то не слишком понятно.
Появление де Витта в Варшаве странным образом совпало с начавшимся разыгрыванием Наполеоном «польской карты». Впереди у французского императора было неизбежное столкновение с Россией, а потому позиция поляков в этой связи приобретала немаловажное значение.
Тем временем бывшего российского полковника постоянно видят на всех варшавских светских раутах. Он красив, богат, остроумен, много говорит о будущем Польши. Все уже знают, что граф де Витт — настоящий патриот Польши и заклятый враг России! С графом знакомятся польские генералы-легионеры Домбровский и Понятовский. Генералы — люди несентиментальные, а потому сразу же наводят справки об отставном полковнике. Петербургские корреспонденты подтверждают: де Витт бросил службу из-за любви к Речи Посполитой и симпатий к Наполеону, не побоявшись вражды с ненавистным им Багратионом и полной обструкции. Генералы оценивают информацию по достоинству, ибо в самом начале XIX века такое поведение было делом нечастым! Решиться на подобное мог только человек, сжигавший за собой все мосты! Однако некоторая настороженность по отношению к перебежчику у польских военачальников все же оставалась. Дело в том, что де Витт, в отличие от других, вовсе не пытался выслужить себе чин и должность во вновь формируемых легионах и не торопился вступить в их ряды. Это выглядело несколько подозрительным, хотя каких только оригиналов не бывает среди ясновельможной шляхты!
В эпоху Наполеоновских войн верили делам, а не словам, делами же считались подвиги на полях брани, а потому и де Витт должен был доказать свою преданность Наполеону участием в боях. Именно поэтому в 1809 году, с началом очередной франко-австрийской войны, де Витт вступает добровольцем не в польские легионы, а непосредственно во французскую армию и принимает участие в кровопролитных сражениях при Асперне, Ваграме, Голабрюнне и Знаиме. Теперь он свой. Однако это только первый этап. Де Витту ни к чему служить обычным строевым офицером французской армии. Ему необходимо получить доступ к государственным и военным секретам.
Чтобы убедиться в искренности де Витта, его просят исполнить ряд деликатных поручений в интересах общепольского дела. Разумеется, граф не думает отказываться! Ради родной Польши и во вред злодейке России он, кажется, готов на всё! Больше того, используя свои ещё оставшиеся связи в гвардейских штабных кругах, де Витт умудряется достать и предоставить генералам исчерпывающую информацию о дислокации и составе российской армии, вплоть до характеристик командиров дивизий. То, о чём французский император не мог и мечтать, само упало к нему в руки! Домбровский и Понятовский немедленно докладывают о добытых сведениях Наполеону. Тот приказывает маршалу Бертье тщательно проверить поступившую информацию. Осторожный Бертье тщательно сличает предоставленные де Виттом сведения с имеющимися у него и убеждается, что добытые бывшим российским полковником документы очень важны. Они не только подтверждают всю имеющуюся у французов информацию о составе и дислокации русской армии, но в значительной мере уточняют её весьма важными подробностями. Полученное — это поистине подарок судьбы!
И Наполеон и Бертье понимают, что совершенно неожиданно для себя они получили опытного специалиста, чьи услуги в свете предполагаемой войны с Россией могут оказаться поистине бесценными. А потому следующий шаг де Витта уже кажется вполне логичным: ему предлагают поступить на службу к Наполеону. Но и это не всё! Ценного сотрудника, разумеется, никто и не подумал ставить в полковой строй. Не для того же его брали! Де Витта было решено использовать именно как специалиста по России!
Поступление де Витта на службу к самому непримиримому врагу России вызвало настоящий шок в петербургских офицерских кругах. Бывшие сослуживцы полковника открыто говорили о его предательстве, клялись, что как только представится случай, они непременно вызовут изменника на дуэль. Увы, слухи и сплетни той поры будут преследовать нашего героя ещё очень долго.
Однако в то время мало кто обратил внимание, что император Александр I, которому, конечно же, сразу доложили об «измене» гвардейского полковника, никак не прореагировал на «новость». Мало того, он почему-то даже приказал не вычеркивать «сбежавшего» графа из списков русской армии. Секрет столь странного на первый взгляд поведения императора открывался весьма просто: и отъезд де Витта, и его показная ненависть к России, и даже шумный скандал вокруг пропольских высказываний бывшего полковника — все это были элементы тщательно срежиссированного русской разведкой спектакля.
Неизбежность скорого столкновения с Францией император Александр понимал не хуже своего воинственного визави, а потому наличие профессионального агента в недрах французского Генштаба было для него совершенно необходимо. Что же касается личности де Витта, то, учитывая его польское происхождение, врожденную любовь к приключениям и интригам и, как выяснилось, большой русский патриотизм и верность престолу, он оказался на своем месте.
Что же касается тех секретных сведений, которые представил де Витт Наполеону, то и над ними заранее тщательно потрудились российские штабисты, продуманно смешав истинное и придуманное. Что и говорить, а операция по внедрению агента в штаб французской армии была проведена блестяще!
Здесь нам стоит вспомнить известный роман Валентина Пикуля «Честь имею!», посвященный деятельности нашего разведчика «с профилем Наполеона» в предреволюционные годы. Интересно, но операция по «исчезновению» главного героя романа из российской армии была обставлена почти по такому же сценарию.
С кем можно сравнить начало шпионской карьеры графа де Витта? Наверное, только со знаменитым Штирлицем! Но Штирлиц, как известно, был образом собирательным и литературным. Что касается де Витта, то он был вполне реальной исторической личностью.
Итак, операция по внедрению разведчика прошла более чем успешно. Но это было лишь началом настоящего дела! Теперь предстояло организовать работу по утечке информации из французского Генштаба и наладить связь с Петербургом. А потому де Витт вовсе не случайно объявляется в столице Франции. В Париже тайное шефство над новоиспеченным французским волонтером сразу же берет тогдашний российский военный атташе полковник А.И. Чернышев.
Из биографии А.И. Чернышева: «В 1808 году был послан императором Александром Первым в Париж, где заслужил расположение императора Наполеона. В 1809 году, во время войны Франции с Австрией, находился при армии Наполеона в битвах при Асперне и Ваграме. В 1809 году пожалован во флигель-адъютанты к Е.И.В., а в 1810 году произведен в ротмистры. С 1810 по 1812 год исправлял должность военного агента в Париже и руководил агентурной сетью в военном министерстве Франции, используя в качестве прикрытия статус курьера для доставки писем от императора Наполеона к императору Александру Первому. Красивый и ловкий, прекрасный танцор, он пользовался большим успехом в парижском обществе (по мнению современников, Чернышев находился даже в близких отношениях с сестрой императора Наполеона, принцессой Полиной Боргезе), пристально наблюдая в то же время за военными приготовлениями Франции и сообщая об этом в Санкт-Петербург. В своих сообщениях Чернышев постоянно старался усилить подозрительность императора Александра Первого и советовал ему не только быть готовым к отражению нападения со стороны Франции, но и самому действовать наступательно. В ноябре 1810 года получил чин полковника».
Женатый на польской княгине Теофиле Радзивилл, Чернышев имел возможность общаться в польских эмиграционный кругах, однако его информации о внутрипольских делах было уже недостаточно. Необходимо было ввести в игру новую самостоятельную фигуру, которая могла бы взять на себя все «польские» дела. Такой фигурой и стал де Витт. Сам первоклассный разведчик, Чернышев умело и незаметно ввёл де Витта в местные великосветские салоны, познакомил с сестрой Наполеона Полиной Боргезе, на которую молодой и красивый поляк произвел самое приятное впечатление. Однако военные атташе всегда находятся под самым пристальным вниманием органов контрразведки, а потому Чернышев не мог лично руководить агентурной работой.
Для этого он свёл де Витта со служащим французского военного министерства Мишелем, который уже много лет верой и правдой работал на русскую разведку и имел своих платных осведомителей в различных военных департаментах. Таким образом, во французском военном руководстве была в самое короткое время создана целая разведывательная сеть под непосредственным началом де Витта и общим руководством и прикрытием со стороны Чернышева.
Не остался де Витт незамеченным и во французской армии. За храбрость в боях с австрийцами его отмечает Мюрат, а потом и сам Наполеон. Из «волонтера» де Витта производят (точно так же, как и в России), минуя все промежуточные чины, сразу в полковники французской армии. Отныне молодой граф состоит при походном штабе императора, где всё так же занимается различными секретными заданиями, которые неизменно исполняет самым блестящим образом. С этого времени де Витт становится самым настоящим двойным агентом. Каждый свой шаг, поступок и даже слово ему предстоит взвешивать самым тщательным образом.
Известно, что де Витт сумел отличиться во время боевых действий в Испании, а затем во время разведывательной поездки в Турцию. В Константинополе де Витт налаживает отношения с рядом местных вельмож и быстро создает сеть своей личной агентуры. Этому немало способствовала его тетка, муж которой, уже известный нам Гассан-паша, был весьма влиятельным вельможей. Кто мог тогда подумать, что эта поездка сыграет в судьбе де Витта весьма важную роль!
Однако эти успехи были только началом настоящей карьеры нашего героя в наполеоновской Франции. Вскоре де Витт сумел стать поистине незаменимым для императора. Он — доверенное лицо в любовных делах Наполеона. Согласитесь, что это уже проявление наивысшего доверия!
Дело в том, что в это время у Наполеона происходят большие изменения в личной жизни. Мы вынуждены остановиться на них, так как личная жизнь французского императора в этот период времени оказалась сферой самого пристального интереса де Витта.
Ещё во время боевых действий против России в Польше у Наполеона начался страстный роман с польской красавицей Марией Валевской. Истории этого романа посвящены десятки, если не сотни исследований. Поляки настолько гордятся тем, что их соотечественница переспала с французским императором, что даже сняли на эту тему умильную мелодраму «Марыся и Наполеон». Нас роман Наполеона и Валевской интересует лишь тем, что имел самое непосредственное отношение к судьбе нашего героя. Но обо всем по порядку.
Вначале немного о самом романе. Мария Валевская (в девичестве Лончиньская) родилась в Польше в 1789 году. Происходила из знатного, старинного, но обедневшего рода. Воспитывалась овдовевшей матерью в ветхом особняке и разоренном поместье. В семье было шестеро детей, из них пять девочек. Брата (он был первенцем) ждало неопределенное будущее. Когда Марии было 15 лет, на неё обратил внимание 68-летний граф Анастасио Колонна Валевский — богатейший помещик, владелец большого замка в Валевице, близ Варшавы, человек угрюмого нрава, дважды вдовец, принялся настойчиво ухаживать за Марией. Старик ухажер, естественно, ей не слишком нравился, ведь даже младший из внуков Валевского был на десять лет старше Марии! Но матери было крайне важно сбыть с рук хотя бы одну из дочерей. Выбора у Марии не было, и в 1805 году в возрасте 16 лет Мария стала графиней Валевской. Долги семьи были уплачены, родовое поместье восстановлено. Вскоре Мария родила болезненного мальчика. Вопреки предположениям, с мужем у неё установились достаточно неплохие отношения.
Зимой 1806 года в Польшу прибыл Наполеон, готовящийся продолжать боевые действия против русской и австрийской армий. Поляки встречали его восторженно, мечтая о том, что французские штыки помогут им восстановить своё бездарно растранжиренное королевство. О том же мечтала и Мария Валевская. В имении Броня, под Варшавой, сотни полков криками встретили Наполеона. Прибежала посмотреть на знаменитость и Валевская. Пока Наполеону меняли лошадей, он, скучая, разглядывал толпу. И внезапно увидел Марию. Девушка была очень хороша. Марии было тогда 17 лет. Она была блондинкой с большими голубыми глазами. Наполеон не привык отказывать себе в удовольствиях. Девушка ему сразу понравилась. Он снял треуголку и преподнес Марии букет, составленный из цветов, которыми была заполнена его карета. На этом первая встреча и завершилась.
После кровопролитнейшего сражения при Пултуске с российской армией Наполеон вернулся в Варшаву дожидаться весенней оттепели. Продолжать боевые действия у него просто не было сил. Французские войска стали на зимние квартиры на правом берегу Вислы. У императора появилось свободное время, и он вспомнил о девушке, которую встретил в Броне. Немедленно были наведены справки. Талейран «достал её мне», сказал он потом. Через главу временного правительства Польши князя Юзефа Понятовского Марию пригласили на официальный бал, который давал Наполеон. Инстинкт заставил её отклонить приглашение. Но польские аристократы и, наконец, муж уговорили Марию принять его: ничто не должно раздражать того, на чью силу они рассчитывали.
По существу, ВСЯ ПОЛЬША укладывала семнадцатилетнюю девушку в постель французскому императору. Я, честно говоря, не совсем понимаю, в чём здесь, собственно, предмет польской гордости. В рамках нормальной морали вся история с Марией выглядит весьма мерзко и гнусно. Самое же постыдное, что во всём этом самое живое участие приняли муж, мать и брат Марии. Каждый желал извлечь из её падения свою выгоду.
На бал к Наполеону Мария прибыла в белом платье в сопровождении мужа. Наполеон с жадностью следил за каждым её движением. Наконец он послал к ней адъютанта, чтобы пригласить её на танец. «Я не танцую», — ответила она. Раздосадованный император пересёк зал, расталкивая на своем пути гостей, и очутился перед ней. Она опустила глаза. Он уставился на неё и вдруг выпалил: «Белое не идет к белому, мадам». Затем подошёл ближе: «Почему вы не захотели танцевать со мной? Я ожидал совсем иного приёма». Развернулся на каблуках и вышел. Перепуганный муж сразу же увёз Марию домой.
На следующее утро адъютант привёз Марии цветы и записку: «Я никого не видел, кроме вас; я никем не восхищался, кроме вас; я никого не хочу, кроме вас. Поскорее ответьте мне и утолите нетерпеливую страсть. Н.» Это письмо осталось без ответа. Это характеризует Марию как весьма порядочную девушку. Увы, окружение, в котором она жила, было, в отличие от неё, и ненормальным, и аморальным.
Через пару дней к Марии приехал уже сам глава польского правительства князь Понятовский с новым письмом императора. Цель премьера — уговорить Марию переспать с Наполеоном! Письмо гласило: «Я вам не нравлюсь, мадам? У меня были основания надеяться, что я смогу вам понравиться. Но, может быть, я был не прав. Мой пыл разгорается — ваш же гаснет. Вы нарушаете мой покой! О, подарите же несколько мгновений радости и счастья бедному сердцу, которое жаждет обожать вас! Неужели так трудно ответить мне? А ведь за вами уже два ответа. Н.»
Официальная польская история утверждает, что гордая Марыся не ответила и на это письмо, и тогда Наполеон пообещал ей в обмен на постель предоставление Польши независимости. Он писал: «Бывают такие моменты — и сейчас я как раз переживаю один из них, — когда надежда столь же мучительна, сколь и отчаяние. Как утешить разбитое сердце, которое так страстно желает припасть к вашим ногам, но должно сдерживаться, что парализует его самые заветные желания? О, если бы вы только захотели! Вы и только вы можете устранить разделяющие нас препятствия. Мой друг Дюрок сделает так, что вам это будет совсем нетрудно. Придите! Придите! У вас будет все, что вы пожелаете. Стоит только вам пожалеть моё бедное сердце — и ваша страна станет для меня ещё дороже. Н.».
С помощью своего адъютанта, генерала Жерара Дюрока, Наполеон устроил так, что содержание его последнего письма стало известно членам польского временного правительства. Их реакция была именно такой, какой он и ожидал. В лице неуступчивой Марии они сразу же увидели средство добиться восстановления своего государства. В дом Валевских заявилась толпа просителей «за любовь с Наполеоном». Притворившись больной, Мария пыталась отказаться от встречи с ними. Но не тут-то было, в дело вмешался граф Валевский. Вместо того чтобы схватить саблю и выгнать наглецов взашей, ясновельможный пан на коленях умолял жену переспать с другим мужчиной!
От имени двенадцати миллионов поляков «депутаты сексуальной партии» умоляли Марию отдаться Наполеону, жертвуя своим телом во славу великой Польши. Поразительно, но эти люди даже составили ей соответствующий документ: «Если бы вы были мужчиной, вы бы отдали свою жизнь за справедливое и благородное дело Отечества. Как женщина, вы можете принести другие жертвы, и вы должны заставить себя на них пойти, как бы они ни были тяжелы». Что могла противопоставить такому натиску преданная даже ближайшими родственниками семнадцатилетняя девчонка?
Надломленная и униженная, Мария согласилась встретиться с Наполеоном. Можно себе представить, как в тот момент она смотрела на своего мужа! Первое свидание с Наполеоном принесло ей сюрприз. Она не знала, что ожидать от этой встречи, но в любом случае не ждала сочувствия. И действительно, Наполеон был настроен отнюдь не благодушно. В течение многих лет ему было достаточно пошевелить пальцем, чтобы к его услугам была любая женщина по его выбору. Томная красота Марии, её безупречная фигура, не совсем безупречный французский язык, наконец, само её сопротивление — все это воспламенило его. Как вспоминал его камердинер Констан, «целый день после бала он то вставал, то садился, то ходил по комнате, то опять садился и опять вставал». Узнав, что двоих его молодых адъютантов видели флиртующими с Марией, он тут же отправил их на передовую линию.
Когда наконец он увидел её одну в своих личных покоях и она села перед ним в кресло, он с трудом сдерживал себя. Он встал перед ней на колени и поцеловал ей руки, затем обнял её и целовал до тех пор, пока она не вырвалась и не побежала к дверям. Тут он сказал ей о своей любви. Она заплакала. Наполеон с пониманием отнесся к её страхам и вдруг стал нежным. Он говорил ей о её любимой Польше и о своих планах вернуть ей независимость. Спросил и о графе Валевском: почему она вышла замуж за такого старика? Она в последний раз запротестовала против нарушения супружеской верности: «Тех, кого сочетали на земле, можно разлучить только на небесах». На её счастье, Дюрок появился слишком быстро. «Как, уже?» — спросил Наполеон. И, обратившись к Марии, сказал: «Ну что ж, моя милая стенающая голубка, идите домой и отдохните. Не бойтесь орла… Придет время, вы полюбите его и будете иметь над ним полную власть».
Так Мария невредимой вернулась к графу Валевскому. Но только на одну ночь. На следующее утро, проснувшись, она увидела букет из бриллиантов, букет из цветов и новую мольбу императора: «Мария! Моя милая Мария! Моя первая мысль — о вас. Мое первое желание — вновь увидеть вас. И вы придете вновь, не правда ли? Вы обещали прийти. Если не придете, орел сам прилетит к вам! Я увижу вас на обеде — так сказал мне наш друг. Примите этот букет: я хочу, чтобы он стал символом тайных уз и тайного согласия между нами и чтобы никто не знал об этом. Мы сможем обмениваться нашими мыслями, пусть даже на нас смотрит целый мир. Когда я буду прижимать руку к сердцу, вы будете знать, что я думаю только о вас; когда вы будете касаться букета, я тут же буду знать ваш ответ. Любите же меня, моя прелесть, любите и берегите этот букет! Н.».
Мария очень рассердилась. Испарились все мысли о патриотизме. Бриллианты были слишком откровенной платой за её тело. Она возвратила их вместе с цветами. Умолять её пришел Дюрок: в пышных выражениях он обещал Польше свободу. Она не доверяла ему. Оставшись одна, она подумала о самоубийстве, затем о побеге. Она быстро написала записку своему мужу. Сообщив, что виделась с Наполеоном, она добавила: «Я вышла невредимой, пообещав вернуться этим же вечером. Я не смогу сдержать это обещание, так как теперь слишком хорошо знаю, что случится».
Но она не вручила эту записку и не убежала. В тот же вечер она была на обеде у Наполеона. Весь вечер она избегала его взгляда и не обмолвилась с ним ни единым словом. Когда обед закончился и гости разъехались по домам, её попросили остаться, а затем проводили в личные покои императора. Тут появился Наполеон. Его лицо было мрачным, а манеры — грубыми. «Я уж и не надеялся увидеть вас вновь, — сказал он. — Почему вы отказались от моих бриллиантов и моих цветов? Почему вы избегали смотреть на меня за обедом? Ваша холодность обидна, и я не намерен её терпеть». Потом он добавил, что она подтвердила его мнение о польском народе. Она точно такая, как и другие поляки, — надменные, пустые и бесчувственные. Но он не сдастся. «Я заставлю вас убедиться в серьезности моего намерения покорить вас. Вы полюбите меня! Я воскресил имя вашей страны. Благодаря мне польская нация жива, как и прежде». Он вынул карманные часы и посмотрел на них. «Видите, я держу в руках часы? Точно так же, как я разобью их сейчас вдребезги у вас на глазах, я разнесу Польшу, если вы откажете мне в своем сердце и отвергнете мое». С этими словами он швырнул часы на пол, разбив их на сотни кусочков. Мария вскрикнула и упала в обморок.
Когда она пришла в себя и увидела, что её одежда в беспорядке, она поняла, что над ней было совершено насилие. Наполеон якобы испытывал чувство стыда и даже просил прощения. Валевская была слишком ошеломлена, чтобы возмутиться. Затем позвали Дюрока, и тот перенес её в одну из комнат дворца. Она ненадолго заснула. Когда она проснулась, её ожидал Наполеон. С этого момента он стал внимателен и чуток. Он искренне говорил о себе, своих надеждах и мечтах, о Польше.
Невероятно, но в последующие дни её привязанность к нему возрастала. Она уже больше не думала ни о муже, ни о своем позоре. Она жила в ожидании новых визитов к Наполеону.
Об этом романе услышала в Париже императрица Жозефина — его неверная 43-летняя креолка, которая не подарила Наполеону наследника. Она написала, что приедет к нему. Он ответил, что не желает даже думать об этом: здешний климат ей не подходит. И это действительно было так. «Я огорчен больше, чем ты, — говорится в его письме Жозефине. — В это время года мне хотелось бы коротать долгие ночи с тобой». Но друзьям он писал в другом тоне, намекая на причину своего подъема. «Мое здоровье никогда не было столь крепким; оно так хорошо, что я стал более галантным, чем раньше».
Когда русские сконцентрировали войска в Восточной Пруссии, Наполеон спешно вернулся в армию. Громя неприятеля, он находил время для ежедневных писем Марии, которая поехала вместе с матерью отдыхать в Вену. Наступила новая зима. Наполеон расположился в укрепленном прусском замке Финкенштейн. Чувствуя себя одиноким, он послал за Марией. Она приехала к нему в сопровождении брата — капитана польских уланов.
У неё была своя спальня с огромным камином и кроватью с балдахином, смежная со спальней Наполеона. Когда Наполеон был занят делами, она или читала, или вышивала. Когда же он был свободен, они вместе обедали, без устали разговаривали или предавались любви. Она наслаждалась своей властью над величайшим человеком Европы. «Мне выпала честь стать вождем народов, — говорил он ей. — Когда-то я был желудем, теперь же я — дуб. Но если я дуб для всех остальных, я рад быть желудем для тебя». Они перестали делать вид, будто в основе их романа лежала политика. Хотя Наполеон и помог создать новое польское правительство и восстановить польскую армию, он признавался, что не в состоянии освободить Польшу. Но привязанность Марии к нему не ослабевала. «Я люблю твою страну… но мой первейший долг — Франция, — говорил он ей. — Я не могу проливать французскую кровь за чужое дело». Когда весной, проведя с ней два с половиной месяца, он уезжал, она дала ему кольцо, на внутренней стороне которого было выгравировано: «Когда ты перестанешь любить меня, помни, что я по-прежнему тебя люблю».
Сегодня польскими историками документально установлено, что именно граф де Витт во многом способствовал сближению Наполеона с его будущей неофициальной женой красавицей Марией Валевской. И здесь хитромудрый разведчик разыграл всё как по нотам! Едва он узнает о знакомстве Наполеона с Валевской, как сразу понимает, что это настоящая любовь, а не мимолетная интрижка, и начинает немедленно действовать. Но как! В течение какой-то недели де Витт полностью очаровывает некую вдову Юзефу Любомирскую, в первом браке Валевскую, имевшую от этого брака маленькую дочь.
Бывшая в «свойстве», то есть являвшаяся женой брата Марии Валевской в первом браке, Юзефа Любомирская, несмотря на развод, сохранила с бывшей родственницей самые близкие отношения и являлась её самой интимной подругой. Именно Юзефа стала тем мостиком, через который де Витт мог отслеживать не только все перипетии разгоравшегося романа, но и в некоторой мере даже влиять на его ход. А это было чрезвычайно важно для России, ибо с помощью Валевской польская аристократия мечтала заставить Наполеона действовать в своих интересах, конечной целью которых являлось создание великого Польского королевства «от можа до можа» за счёт российских земель. Этого допустить было никак нельзя, а потому операция «Мария Валевская» имела очень большое значение.
Как установили историки, женитьба де Витта на Юзефе Любомирской не была счастливой, да он, судя по всему, об этой стороне брака думал как раз меньше всего. Мадам де Витт, по отзывам современников, была женщиной весьма передовых взглядов на семейную жизнь, умудряясь одновременно сожительствовать как со вторым, так и с первым мужем, не считая множества любовников. Что касается де Витта, то образовавшийся любовный треугольник позволял ему установить самые дружеские отношения с братом Марии Валевской (первым мужем Юзефы).
Факт, что Иван де Витт женился на своей ветреной супруге именно весной 1809 года, в разгар романа Наполеона с Марией Валевской, доказывает, что в своем браке граф преследовал, прежде всего, служебные цели. Этим можно объяснить и тот факт, что Витт более чем снисходительно относился к постоянным изменам своей жены. Когда же надобность в браке отпала, он немедленно развелся с любвеобильной пани Юзефой. Но в 1809 году именно она обеспечила графу близость к Марии Валевской, а через неё — и к самому Наполеону.
Мы не знаем, было ли сближение с Наполеоном через его польскую любовницу заранее продуманным «заданием центра» или же гениальным экспромтом самого де Витта. На мой взгляд, весьма маловероятно, чтобы Петербург мог заставить жениться на нелюбимой женщине даже своего агента. Не будем забывать, что все происходило в начале XIX века, когда понятия о долге и чести были несколько иными, не говоря уже о том, что обольстить ветреную Юзефу де Витт мог только по своей доброй воле. А если все обстояло именно так, то заслуга полковника двух разведок графа де Витта возрастает ещё больше!
Из письма польского офицера Томаша Лубеньского от 31 июля 1809 года: «Позавчера в театре зашёл в ложу супругов Витт и застал там жену Анастазия Валевского (ею являлась Мария Валевская. — В.Ш.), которая рассказала мне о Варшаве…»
Именно супруги де Витт опекали Марию Валевскую в Вене, а затем, когда она почувствовала себя беременной, вдвоем сопровождали её в Париж на встречу с Наполеоном. В надежде на наследника Наполеон окружил её вниманием и заботой. Именно через де Витта Наполеон и Мария вели свою тайную интимную переписку. И здесь граф оказался на должной высоте! Во всяком случае, император был весьма доволен деликатной деятельностью де Витта и в 1811 году неожиданно для многих во Франции назначает его своим личным тайным агентом в герцогстве Варшавском. Теперь именно де Витт докладывает Наполеону о благонадежности поляков, об их тайных помыслах и надеждах, именно он просеивает большую часть информации, которая поступает Наполеону о польских делах. А уж де Витт, как никто другой, знает, что и как нужно доложить императору! И, как знать, может быть, тот факт, что Наполеон был весьма недоволен тем, что поляки пытаются навязать ему воссоздание своего королевства и, несмотря на все их уговоры, он так и не согласился на это, — есть результат работы нашего героя.
Что касается Марии Валевской, то её дальнейшая судьба не была счастливой. Многообещающая беременность Марии закончилась выкидышем. Разочарованный Наполеон отправился сокрушать Австрию. Затем он вызвал Валевскую в Вену, где она вскоре снова забеременела. Но жениться на Марии Наполеон уже передумал. В это время он разводится с Жозефиной и в апреле 1810 года женится на дочери австрийского императора Марии-Луизе. А буквально через месяц пани Мария родила ему сына Александра, тут же пожалованного в графы. Марии же было обещано, что её сын будет королем Польши. После этого Валевская вернулась к своему старику мужу, и они зажили, словно ничего не было. При этом Мария пользовалась дикой популярностью в Польше, её называли «польской женой Наполеона» и считали за счастье увидеть. До 1811 года у Марии была надежда, что её сын рано или поздно станет наследником французского императора, но после рождения у Наполеона законного сына от Марии-Луизы эти надежды испарились.
Удирая от казаков около Варшавы в конце 1812 года, Наполеон хотел было навестить Марию, но боязнь казаков оказалась сильнее любви к «польской жене». В 1814 году Наполеон отрекся от престола и был сослан на остров Эльба. Там его навестила Валевская, и они провели два дня вместе. Затем последовали возвращение Наполеона и знаменитые сто дней. В Париже он в последний раз принял Марию Валевскую. Они говорили наедине, а потом в присутствии других людей он пожал ей на прощание руку.
Спустя пару лет новым мужем Валевской стал генерал д’Орнано — французский офицер, корсиканец и дальний родственник Наполеона. Впоследствии сын Марии и Наполеона Александр стал министром иностранных дел Франции при Наполеоне III. Говорят, что Валевская до самой смерти продолжала любить Наполеона, хотя и была привязана к д'Орнано. Последний не только не ревновал супругу к её прошлому, но, наоборот, гордился им. В 1817 году Мария Валевская скончалась в возрасте 28 лет. Легенда гласит, что последним слетевшим с её уст словом якобы было «Наполеон».
Итак, проведенная де Виттом в 1811 году операция «Мария Валевская» завершается полным успехом! Отныне де Витт мог контролировать все происки польской шляхты против России, провоцировать к ней недоверие Наполеона и быть в курсе всех франко-польских тайн. Отныне полковник французской службы Иоган де Витт не только был допущен к тайным делам французской империи, но и сам их создавал. В Варшаве Витт пробыл чуть больше года, постоянно находясь в личной переписке как с министром иностранных дел Франции Талейраном, так и с самим Наполеоном. О, если бы знала его мать Софья де Витт о том, чем по-настоящему занимается её Иван-Иоган! Как гордилась бы своим старшим сыном, сумевшим столь виртуозно обмануть покорителя Европы! Возможно, кому-то это покажется преувеличением, но мне граф де Витт представляется последним отпрыском той самой плеяды знаменитых авантюристов ушедшего века, к которой принадлежала и его мать. Однако, как человек уже иного поколения, де Витт сумел поистине гениально совместить свою врожденную авантюрность с воинским долгом, а любовь к приключениям — со служением той Родине, которую он выбрал для себя раз и навсегда.
Сегодня давно уже не секрет, что перед вторжением французов в Россию наше военное руководство было прекрасно информировано о составе и силах Великой армии, направлении её ударов, о тактических, стратегических и политических планах Наполеона. Об источнике столь обстоятельной информации нигде и никогда не говорилось. Но кто же лучше, объективней и быстрее, чем де Витт, мог обеспечить Петербург такой информацией? Тайный агент французского императора являлся ещё более тайным агентом императора российского. Столь высокопрофессионально подготовленного разведчика, пробравшегося в высшие командные сферы врага, Россия ещё никогда в своей истории не имела! В то же самое время де Витт в списках российской армии официально числился… резидентом военной разведки 2-й армии генерала Багратиона!
Вот суммированный экстракт деятельности русских разведчиков (и среди них, разумеется, и де Витта), доложенный военному министру Барклаю-де-Толли весной 1812 года о методах борьбы с Наполеоном, в случае его вторжения в пределы России: «Уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки и решительность в продолжении войны: суть меры для Наполеона новые, французов утомительные и союзникам их нетерпимые… Надобно вести против Наполеона такую войну, к которой он ещё не привык… соображать свои действия с осторожностью и останавливаться на верном… заманить противника вглубь и дать сражение со свежими и превосходящими силами… тогда можно будет вознаградить с избытком всю потерю, особенно когда преследование будет быстрое и неутомимое…»
Но де Витт сообщил не только это! Он сообщил Барклаю-де-Толли и точную дату перехода Наполеоном российской границы. Это позволило нашим войскам не быть застигнутыми врасплох. Проведя аналоги событий первой Отечественной войны с событиями второй Отечественной, можно сказать, что полковник де Витт был одновременно нашим Штирлицем и Рихардом Зорге во вражеском стане.
Однако разработкой плана «Мария Валевская» деятельность де Витта в рядах французской армии не ограничилась. Помимо польских дел он занимался ещё и обустройством особого агента, которым была… супруга знаменитого генерала Петра Багратиона Екатерина Скавронская (Багратион).
О личной жизни знаменитого полководца у нас почему-то предпочитают умалчивать, ибо личная жизнь Багратиона не сложилась. Однако супруга генерала достойна воспоминания именно как талантливый агент российской разведки.
Дело в том, что, по мнению некоторых историков, у Багратиона был в своё время роман с великой княгиней Екатериной Павловной, имевшей сильный мужской характер и прозвище «смесь Петра Первого и Екатерины Второй». Екатерину Павловну даже прочили в жены Наполеону, но та отказалась от этой сомнительной чести наотрез. Поговаривали в то время (не без оснований) и о том, что великая княгиня после позорного Тильзитского мира брата Александра с Наполеоном готовила дворцовый переворот, чтобы, убрав непопулярного тогда Александра, самой стать императрицей. Для этого ей якобы и был нужен преданный, храбрый и популярный генерал. Им и должен был стать Багратион. Амбиции младшей дочери вполне поддерживала и её мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Однако из этого «екатерининского» заговора ничего не получилось. Узнав о замысле сестры, император Александр принял необходимые меры для своей безопасности. Всё было решено в узком семейном кругу. Екатерину Павловну срочно выдали замуж за двоюродного брата, принца Петра-Фридриха-Георга-Ольденбургского, и выслали в Тверь, куда новоиспеченный муж был определен губернатором. Впрочем, несмотря на политическое противостояние, личные отношения великой княгини с братом императором особых изменений не претерпели. Александр, как и прежде, любил и уважал свою своенравную младшую сестру более, чем всех иных братьев и сестер.
Пострадал в результате своей преданности Екатерине Павловне лишь Петр Багратион, однако и его наказание было весьма оригинальным. Популярного генерала во избежание дальнейших недоразумений быстро женили на восемнадцатилетней московской красавице Скавронской, которую, по иронии судьбы, как и великую княжну, звали Екатериной Павловной. При этом Александр I знал, что генерал испытывает к юной красавице весьма нежные чувства. Что касается чувств Скавронской к Багратиону, то они никого не интересовали. Ко всему прочему Скавронская приходилась знаменитому генералу… внучатой племянницей. Как вскоре выяснилось, нравственность молодой жены прославленного генерала оставляла желать много лучшего. Уже до свадьбы у Скавронской была длительная любовная связь с графом П.П. Паленом. Об этом знала вся Москва, знал об этом и Петр Багратион. Почти сразу же из-под венца Екатерина Багратион демонстративно уехала в Европу, чтобы уже никогда не увидеть своего нелюбимого, хотя и знаменитого мужа.
У нас нет никаких документальных данных относительно участия де Витта в «деле Екатерины Павловны». Однако тот факт, что именно к этому времени де Витт становится личным тайным агентом императора Александра I, что именно он установил деловые отношения со всеми главными участниками этой интриги, включая великую княгиню, генерала Багратиона и его молодую жену, наводит на мысль, что де Витт всё же имел к заговору какое-то отношение. Вполне возможно, что участием в событиях, связанных с великой княгиней, и стало последующее доверие к талантливому разведчику со стороны Александра. Кроме того, внезапный уход с российской службы де Витта в 1807 году, как раз в самый разгар раскрытия «заговора Екатерины Павловны», и его срочный отъезд во Францию одновременно с супругой Багратиона наводят на мысль о далеко не случайных совпадениях всех этих событий.
Екатерина Багратион остановилась в Вене и имела там большой успех. Её красота и фамилия знаменитого мужа влекли к ней всех — от поэтов до наследных принцев. Багратион шила умопомрачительные наряды и устраивала роскошные балы. Гёте говорил о ней: «При своей красоте и привлекательности она не могла не собрать вокруг себя замечательного общества». Ей предлагал руку и сердце наследный прусский принц Людовик. Что касается самого генерала Петра Багратиона, то он несколько раз звал жену домой, но, поняв, что она к нему никогда не вернется, безропотно оплачивал все её фантастические счета.
Вскоре дом Екатерины Павловны Багратион в Вене стал настоящим светским салоном. Именно здесь стали собираться самые влиятельные сановники австрийской империи, симпатизирующие России и ненавидевшие Наполеона.
Биограф Екатерины Багратион Л. Репин пишет: «К Екатерине Багратион стекаются ценнейшие сведения, которыми она распоряжается в интересах своего Отечества. Именно в это время она становится любовницей австрийского канцлера Меттерниха, покоряет его совершенно, уговаривает его привести Австрию на сторону России. Первая русская разведчица высокого полета! Известно, что агенты Бонапарта следили за ней в Вене и сообщали в Париж о тайной деятельности Екатерины Багратион. Фамилия Бонапарту была куда как более знакома. Всю войну 1812 года Катя Багратион переправляла в Россию секретные сведения, добытые ею на полях любовных сражений. Её личным адресатом был император Александр Первый, в прошлом тоже делившей с ней ложе».
Получается, что император Александр имел в Европе двух личных тайных агентов: Екатерину Багратион и Ивана де Витта. Естественно, что они прекрасно знали друг друга, а порой и успешно сотрудничали, когда того требовали интересы дела.
Петр Багратион знал о сотрудничестве де Витта со своей женой, тем более что Витт числился резидентом его 2-й армии. Возможно, кое-что знал он и об участии де Витта в «заговоре Екатерины Павловны». Тем интересней для нас характеристика, данная Багратионом де Витту. И хотя эта характеристика по-суворовски лаконична, она весьма информативна: «Лжец и двуличка, хотя и полезен на службе…» Из этого можно сделать вывод, что прямодушному Багратиону не нравился род занятий де Витта, в том числе и тайные отношения с его собственной женой, однако, как человек умный и патриот России, он понимал, что деятельность де Витта чрезвычайно полезна и нужна.
Что касается самого графа, то ему лучше всего удавалась работа с женщинами-агентами. На это у молодого разведчика был просто талант! Кроме того, де Витт, как настоящий профессионал, мастерски умел «консервировать» свою агентуру, ибо знал, что она обязательно пригодится в будущем. Так случилось и с Екатериной Багратион. А потому мы ещё не раз в нашем повествовании встретимся с этой необычной и удивительной женщиной.
В России де Витт появляется неожиданно для всех всего за несколько дней до вторжения наполеоновских полчищ. Почему столь внезапно покинул он Ставку Наполеона, в точности неизвестно. Возможно, что он просто считал к этому времени свою миссию уже выполненной, и теперь ему надо было успеть лично сообщить Александру I о последних планах французского императора. Однако возможно и другое. Как раз в это время в Париже был разоблачен и арестован многолетний агент России полковник Мишель. Вскоре он дал показания, а затем был гильотинирован как изменник. Но перед смертью Мишель, должно быть, спасая свою жизнь, успел рассказать о многом. Секретные службы приняли необходимые меры, но опоздали. Наши оказались проворней. Руководителю русской военной разведки и военному атташе А.И. Чернышеву тогда, хоть и с трудом, удалось бежать в Россию. Когда французские агенты ворвались в дом российского атташе, там уже было пусто. Лишь в камине догорали последние сожженные бумаги… А потому вполне возможно, что прижатый к стенке Мишель, в надежде спасти свою жизнь, рассказал все, что знал и о де Витте. Однако тот, вовремя предупрежденный Чернышевым, всё же успел спастись.
Но, даже спешно возвращаясь в Россию, де Витт умудряется оставить в Польше свою агентуру. Он понимает, что настоящая игра ещё только начинается и его связи будут очень скоро востребованы.
Мы не знаем, как отреагировал Наполеон на известие, что его личный тайный агент оказался профессиональным русским разведчиком. Однако думается, что эта реакция была достаточно бурной, ведь Наполеон понимал, что теперь, не говоря уже о многочисленных военных секретах, его самые интимные тайны станут достоянием русского императора. И главное, несмотря на всё своё могущество, он был бессилен покарать человека, так ловко обманувшего его! В своих мемуарах Наполеон обходит этот случай молчанием. Впрочем, что он мог там написать?
Тем временем, сделав доклад командующему 1-й армией, де Витт был спешно отправлен в Петербург, где его уже с нетерпением ждали император Александр и новый комендант императорской квартиры полковник А.И. Чернышев. Конфиденциальная беседа вернувшегося разведчика и российского императора длилась несколько часов. Александру, скорее всего, очень важно было узнать самые последние новости из французской Ставки, касающиеся расклада политических сил в Европе, наблюдения Витта о поведении и высказываниях в узком кругу Наполеона. Из императорского кабинета де Витт вышел уже с приказом о новом назначении.
В другое время появление в Петербурге известного дезертира и изменника, наверное, наделало бы немало шума, но в те дни страна вступала в Отечественную войну, и о де Витте почти и не вспомнили. Куда по логике вещей мог назначить только что прибывшего из вражьего стана агента император Александр? Скорее всего, в действующую армию, чтобы там, на месте, заниматься разведкой. Но нет! Для Витта было припасено совсем иное назначение, полностью соответствующее его таланту.
В ОГНЕ СРАЖЕНИЙ
В Петербурге де Витт встретился с матерью, которая в преддверии французского нашествия перебралась в столицу. Любопытно, что после изгнания французов члены правительства учрежденного Наполеоном Варшавского герцогства пытались именно через Софью Потоцкую наладить связи с императором Александром.
В Петербурге де Витт задержался ненадолго. Теперь путь разведчика лежал в Киев, где ему (как гласил высочайший рескрипт) надлежало сформировать резервные казачьи полки из украинцев и лояльных России поляков.
Дело в том, что на Левобережной Украине в начале XIX века население не поставляло рекрутов. Воинскую повинность несли тогда лишь жители Подольской губернии. Для остальных была предусмотрена только конская повинность, т. е. выделение ремонтного поголовья для кавалерии и обозных лошадей. Но столь велико было желание широких кругов жителей Украины включиться в непосредственные боевые действия против Великой армии Наполеона и его союзников, что Александр I согласился на формирование в пределах Киевской и Подольской губерний четырех конных полков. Войско формировалось «из людей к казачьей службе способных и издавна навыком и охотой к ней известных». В нём проявились, с одной стороны, реорганизация традиционно-казачьего войска, а с другой — преемственность казачьего быта. Достаточно внушительное по тем временам конное соединение в 4700 человек формировалось по территориальному признаку, когда каждый уезд полностью снаряжал и вооружал два эскадрона около 300 человек. От набора казаков отказались лишь в Херсонской губернии из-за эпидемии чумы.
Патриотический порыв был настолько велик, что все полки были полностью отмобилизованы за два месяца, и уже 6 сентября 1812 года, в канун Бородина, двинулись на фронт. Несколько слов о принципе формирования и правах казаков. Поставка одного казака засчитывалась селениям за два рекрута. Полки де Витта были сформированы на период войны и должны были после её окончания быть распущены, но предусматривалось, что казаки остаются казаками, а потому они должны будут и впредь иметь наготове коня, обмундирование и оружие, находиться в боевой готовности и по первому приказу являться в свой полк. За это они пожизненно освобождались от всех налогов и государственных повинностей.
Украинские казачьи полки начали создаваться по так называемому предварительному распоряжению от 5 июня 1812 года. Темпы формирования были высочайшие. В течение какого-то месяца были укомплектованы, вооружены и обучены четыре полка. В полки «поступали мещане, цеховые, помещичьи, казенные, экономические, ранговые и старостинские крестьяне… с обязанностью иметь лошадь, конскую сбрую и мундирную одежду по образцу». На командирские должности «приглашались отставные обер- и унтер-офицеры, чиновники, служившие в милиции, и чиновная шляхта».
Из биографии де Витта: «Ему (де Витту. — В.Ш.) было поручено сформирование четырех казачьих полков на Украине. Казаки набирались из крестьян, чиншевой шляхты и мещан, со 152 ревизских душ по человеку, всего 4800 человек. 3 полка восьмиэскадронного состава были набраны в Киевской губернии и один в Подольской. 14 июня 1812 года граф Витт был назначен бригадным командиром украинских казачьих регулярных полков, им же сформированных… С этими-то полками он принимал участие в войнах Отечественной и за освобождение Европы».
Украинские казаки получили собственную форму: темно-синие полукафтаны и серые шаровары, черные казачьи шапки, вооружение: сабли, карабины, пистолеты и пики с черными древками. На пиках крепились матерчатые флюгера. Своеобразной была структура полков де Витта: полки делились не на сотни, а на эскадроны. Весь личный состав комплектовался по казацкой традиции из добровольцев, включая и командиров.
За то, что де Витт сумел сформировать полки в кратчайшие сроки, он был удостоен высочайшей благодарности. Кроме того, четыре полка, согласно структуре российской армии, образовывали не бригаду (которая включала в себя обычно два полка), а дивизию, состоявшую из двух бригад. Было очевидно, что бригадные штаты для полноценно сформированной конной дивизии — явление временное, и рано или поздно они будут пересмотрены. Явно не соответствующий количеству полков бригадный штат можно объяснить недостатком командных кадров. В преддверии войны шло интенсивное формирование новых соединений, и опытных военачальников не хватало. Что касается де Витта, то он, будучи полковником, не мог быть сразу назначен на должность начальника дивизии, соответствующую генерал-лейтенантскому чину. Именно поэтому он был назначен бригадным начальником с последующим производством в генерал-майоры и перспективой получения на той же должности впоследствии генерал-лейтенантских эполет. Что и говорить, аванс, данный Александром де Витту, был весьма большим!
Итак, в сентябре 1812 года де Витт двинул свои полки форсированным маршем в район Луцка на соединение с 3-й армией генерала Тормасова, противостоявшей австрийскому корпусу Шварценберга и саксонскому корпусу Ренье. Армия Тормасова прикрывала юго-западную часть России и действовала на коммуникационных линиях неприятельских корпусов. С прибытием казачьих полков де Витта и других пополнений армия Тормасова превратилась в достаточно внушительную боевую силу, сковавшую крупную объединенную группировку противника.
В сентябре в тот же стратегический район прибыла ещё одна армия, Дунайская, под командованием адмирала Чичагова, разместившаяся по реке Стырь. Теперь обе армии прикрывали Подолию и Волынь. Казаки де Витта действовали на широком фронте от Острога до Борисова, совершая боевые рейды в качестве «летучих отрядов» и на территорию Варшавского герцогства. Казаки де Витта участвовали в освобождении Бреста, Минска, Борисова, дрались на берегах Вислы и Одера. В октябре 1812 года де Витт был произведен в генерал-майоры.
В октябре 3-я и Дунайская армии были объединены под общим командованием Чичагова, а Тормасов переведен на место Барклая-де-Толли — стал командовать пятью корпусами. Группа войск Чичагова выдержала натиск отступающих корпусов Наполеона на Березине. В Березинском деле де Витт не раз водил свои полки в атаку против того, кто ещё совсем недавно сделал его своим личным тайным агентом и осыпал всевозможными милостями. Наполеону удалось вырваться из березинского ада, но из 30 тысяч войск он потерял там 20.
Однако все же думается, что формирование Уланской дивизии было отчасти лишь прикрытием совсем иной деятельности де Витта или по крайней мере сопутствовало ей. Принимая во внимание всю предыдущую и последующую деятельность де Витта, вполне можно предположить, что и на Украине де Витт занимался не только формированием конных полков, но, используя свои старые агентурные связи, вел работу по отторжению поляков от Наполеона, засылал агентов, дезинформировал польскую аристократию относительно российских и французских планов. Судя по дальнейшему развитию событий, де Витту удалось найти в тот момент единомышленников среди ясновельможной шляхты. После оставления Наполеоном Москвы исход русской кампании уже ни у кого не вызывал сомнения. Было очевидно, что русская армия в самом скором времени займет Польшу. Разумеется, польские аристократы не без оснований опасались репрессий за поддержку французов и своё активное участие в походе на Москву.
Иван де Витт стал той фигурой, через которую они могли получить информацию о настроениях в российских верхах относительно своего будущего и просить снисхождения к своей судьбе. Разменной картой в этих переговорах были гарантии польской шляхты не допустить превращения Польши в партизанский край и их готовность к сотрудничеству с Петербургом. Именно для этих столь важных и сложных переговоров де Витту и надо было находиться не в ведущей ожесточенные бои действующей армии, а на спокойной Украине. Только оттуда он мог быстро и легко сноситься со своими польскими конфидентами, получать необходимую информацию и реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. А ситуация в Польше менялась весьма быстро. Чем хуже шли дела у Наполеона в России, тем больше появлялось сторонников у де Витта в Польше.
Как известно, вступившая в пределы Польши российская армия не была встречена партизанским движением. Профранцузски настроенные поляки бежали вслед за своим благодетелем на Запад, а остальные притихли, надеясь на обещанное снисхождение. Император Александр был к покаявшимся предельно милостив, тем более что перед ним лежали подробнейшие списки деяний этих лиц и их исчерпывающие характеристики. Об этом де Витт тоже успел заранее позаботиться…
После потери Варшавы отступающие французы разделились. Австрийцы и поляки стали отходить на Краков, а генерал Ренье с остатками саксонских войск и французской дивизией Дюрютта отошел к Калишу, где дал отдых измученным войскам, не выставил даже авангарда. Тем временем Кутузов выслал вдогонку Ренье корпус Винценгероде. Корпус был составлен наскоро. Авангард корпуса под началом генерал-майора Ланского составили два гусарских полка, конная батарея и три казачьих полка де Витта. Причем казаки шли в передовом дозоре. На подходе к Калишу де Витт выяснил, что французы не имеют даже выставленных дозоров, о чём тут же доложил Винценгероде. Тот принял решение о немедленной атаке. Бой начался ранним утром 1 февраля стремительной атакой гусар и казаков во главе с Ланским и де Виттом. Они стремительным ударом опрокинули несколько неприятельских полков и перерезали французам путь отхода. Вскоре подоспела пехота и атаковала деревни, где квартировали французы и саксонцы. Отрезанные друг от друга, французы и саксонцы сопротивлялись ожесточенно, но недолго. Первыми оружие сложили саксонцы, окруженные в деревне Коканин, только три роты с большими потерями сумели прорваться к Калишу. В селе Боркове отчаянно оборонялся генерал Ностиц, надеясь на помощь извне, но, не дождавшись таковой, тоже вскоре сложил оружие. В деревушке Павловек саксонцы стали в каре и, отбиваясь от казаков де Витта, стали двигаться на запад. Ренье выслал было им в поддержку конницу, но она была опрокинута Ланским. А казаки де Витта уже занимали предместья Калиша. Когда к Калишу пробились главные силы французов, им удалось потеснить казаков, но ненадолго. Ожесточенный бой прекратился только ночью, французы начали отход на Глогау. Часть сил под началом генерала Габленца отошла к Ченстохову и соединилась с отрядом князя Понятовского, но соединиться с главными силами Ренье так и не смогла из-за непрерывных атак казачьих полков.
Утром 2 февраля Калиш был занят нашими войсками. Потери русской армии составили 670 человек, французы и саксонцы потеряли более 1500 человек, ещё столько же сдались в плен.
Из биографии де Витта: «В ноябре 1812 года он (де Витт. — В.Ш.) участвовал в делах под Лошницей и Меджиричем (11 ноября); 1 февраля отличился при взятии Калиша и получил за это ордена Святого Георгия 3 степени и Святого Владимира 3 степени». В феврале 1813 года де Витт был назначен «за боевые отличия» шефом 1-го Украинского казачьего полка с сохранением прежней должности.
Георгиевский крест был самой престижной и желанной наградой российских офицеров, а потому давали его нечасто и за конкретные выдающиеся подвиги. Иван де Витт получил за Калиш сразу Георгия 3-й степени, минуя 4-ю! Такие награждения были большой редкостью, и их давали за действительно выдающийся подвиг. За Калишское сражение де Витт, ко всему прочему, был удостоен ещё одного весьма престижного ордена — Святого Владимира. Это говорит о том, что вклад де Витта в победу русской армии под Калишем был действительно выдающимся. В послужном списке графа на сей счёт сказано следующее: «Граф, генерал-майор де Витте Иван Осипович в воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражении против саксонских войск 1-го февраля при Калише 22 февраля 1813 года удостоен Георгия 3-й степени». Вместе с Виттом Георгиевские кресты за Калиш получили знаменитый командир Александрийского гусарского полка князь Валериан Мадатов, генералы Ренин, Никитин и Шаховский. Именно после Калиша о де Витте и о князе Мадатове заговорили в армии, как о двух выдающихся и перспективных кавалерийских военноначальниках.
При Калише среди казаков де Витта отличился его подчиненный ротмистр Александр (Али) Чеченский. Он с передовым отрядом первым из казаков ворвался в предместье города Дрездена. Вскоре по представлению де Витта храбрый чеченец был назначен командиром 1-го Бугского казачьего полка.
В апреле 1813 года корпус Сакена осадил польскую крепость Ченстохов. После установки батарей начался обстрел города, но едва в Ченстохове начался пожар, Сакен велел прекратить огонь из-за боязни за хранимую в городе чудодейственную икону Пресвятой Богородицы, чтимую в России много веков. После этого комендант крепости запросил перемирия на 24 часа, после чего написал капитуляцию. Первыми в сдавшийся город вступили казаки де Витта. При вступлении в город настоятель и братия местного монастыря поднесли генералу Сакену список с чудотворного образа Ченстоховской иконы Божьей Матери. Впоследствии он был доставлен в Санкт-Петербург и установлен в Казанском соборе с негасимой лампадой.
А затем было участие в заграничном походе 1813–1814 годов. Свою миссию в Польше генерал де Витт исполнил примерно, а потому теперь вполне мог проявить себя и на полях воинской чести. Командуя сформированной им украинской Уланской дивизией, де Витт принимает самое непосредственное участие практически во всех значительных сражениях той беспримерной кампании. В дальнейшем полки де Витта сражались в составе корпуса генерала Сакена.
В 1814 году полки де Витта входили в так называемый «летучий отряд» графа М. Воронцова. Помимо трёх казачьих полков де Витта в него входили два егерских полка, несколько гренадерских батальонов и артиллерийских рот, гусарских и уланских эскадронов. Отряд тревожил тылы наполеоновской армии, участвовал во многих стычках на территории Германии.
Отметим следующий любопытный факт. Корпус Сакена действовал в составе армии Блюхера, и де Витт вскоре установил личные дружеские отношения с прусским маршалом. Сакен по этой причине часто просил его лично ездить в Ставку к Блюхеру для решения и согласования различных вопросов по взаимодействию русского корпуса и прусских войск. Это лишний раз говорит об удивительной коммуникабельности де Витта и его умении находить общий язык с совершенно различными людьми.
После сражения при Шампобере де Витт был отправлен Блюхером 29 января 1814 года в Труа в главную квартиру князя Шварценберга за известиями, а затем принял участие в сражении под Лоаном. С 8 по 16 марта де Витт со своим отрядом истребил «неприятеля, скрывавшегося под видом жителей и возмущавшего их к поднятию оружия». 18 марта он участвовал в военных действиях под Парижем. За кампанию 1814 года по личному представлению Блюхера де Витт получил прусский орден Пур ле Мерит и Красного орла 1-й степени.
Дело в том, что действия казачьих войск при столкновении огромных регулярных армий не включали в себя участие собственно в сражениях и фронтальных атаках на неприятеля. Для этого существовали другие конные соединения, в первую очередь кирасиры. Казаки выполняли совсем иную функцию: дозорную службу, сбор разведывательной информации, действия на коммуникациях и в тылу противника, нападения на отдельные небольшие части и обозы, прикрытие собственных коммуникаций и тылов. Для этого казачьим командирам нужны были такие качества, как предприимчивость, дерзость и выносливость. Всеми этими качествами, думается, в полной мере обладал де Витт. Не нуждается в особых комментариях вклад де Витта в победу при Кацбахе, за что он был удостоен высшей степени — Анненского креста.
Прусская армия не имела в своем составе частей, подобных казачьим, и испытывала в них большую нужду. Именно по этой причине полки де Витта и были подчинены Блюхеру. Любопытен факт командировки де Витта на главную квартиру в разгар боев с противником. Скорее всего, это было связано не только с поездкой «за известиями», но и с выполнением некой очередной специальной миссии. Возможно, казакам де Витта удалось захватить некие особо ценные документы, возможно, что-то ещё.
Интересен и факт борьбы отряда де Витта с «неприятелем, скрывавшимся под видом местных жителей». Говоря современным языком, казаки де Витта провели спецоперацию по зачистке захваченной территории. Сегодня такие операции проводит спецназ. В биографии отмечается успешность проведенной Иваном Осиповичем операции. Ему лучше всего удавались неординарные поручения, требующие не только личной храбрости и знаний общекавалерийского командира, но особых знаний о противнике, военной хитрости и даже некой особой интуиции.
Почти во всех боях вместе с Иваном участвовал и его сводный брат — Станислав Потоцкий. Отличившийся ещё на кровавом поле Аустерлица, он прошел затем Фридланд и Бородино. В бригаде де Витта Потоцкий командовал 1-м Украинским казачьим полком. За храбрость при Калише полковник Потоцкий получил Владимира 3-й степени, а за Лейпциг был удостоен генерал-майорских эполет и Георгия 4-й степени. Молодому Потоцкому явно благоволил сам Александр I. За взятие Парижа Станислав Потоцкий стал уже кавалером Анны 1-й степени.
19 августа 1814 года де Витт был официально назначен начальником Украинской казачьей дивизии, а его четыре полка были, соответственно, сведены в две бригады. Тогда же за подвиги в Отечественную войну и заграничные походы всем украинским казачьим полкам были пожалованы серебряные трубы.
Закончилась война, и российская армия потянулась в родные пределы. Местом дислокации конной дивизии была определена Южная Малороссия, а полки определены в состав 2-й (Южной) армии, оберегающей границы с Турцией. Однако командир казачьей дивизии генерал-майор де Витт, сдав дела и проводив свои полки в Россию, сам туда не торопился. Он инкогнито перебирается в Вену. Начинается новый этап в биографии талантливого резидента.
ЗА КУЛИСАМИ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА
Итак, сразу же после окончания войны Иван де Витт был назначен командиром Украинской казачьей дивизии, однако новое назначение было пока чисто номинальным. Генерал занимается делами совершенно иными, чем командование вверенными ему войсками.
В Париже Иван Осипович познакомился с баронессой Барбарой Юлианой фон Крюденер. Одно время она была известна как модная писательница. Первый свой роман «Валерия» она издала в Париже в 1803 году. Роман был слабый, но Крюденер проявила феноменальные способности к рекламе и книга имела успех. О Крюденер заговорили в свете. Она становилась модной.
В 1805 году баронесса, находясь в Риге, познакомилась с учением «моравских братьев» о внезапном «пробуждении» и сразу же стала ревностной сторонницей этого учения, при этом начала активно распространять его в Европе. Королева Луиза Прусская оказалась первой и очень восприимчивой ученицей.
Затем Крюденер путешествовала из города в город и проповедовала, поражая своих слушателей пророчествами. Она рассказывала о борьбе между темным ангелом — Наполеоном и светлым — Александром I. Баронесса прошла по всей Швейцарии. Она переполошила Базель, и власти вынуждены были изгнать её оттуда. В Бадене её приветствовала восторженная толпа. В 1814 году фрейлина Елизаветы Алексеевны Стурдза, с которой баронесса Крюденер сблизилась в Карлсруэ, познакомила её с императрицей. Внутренний голос говорил баронессе, что это только начало. Она мечтала сблизиться и с самим Александром I. Подруга-фрейлина сделала всё, чтобы их встреча состоялась как можно скорее. Крюденер писала фрейлине письма, полные таинственных предсказаний, а та показала одно из писем императору, велевшему ей написать баронессе, что встречу с ней он сочтет за счастье. Затем баронесса написала фрейлине, что ей открылось величие миссии императора и что есть множество вещей, которые она должна срочно ему сообщить.
4 июня 1815 года Александр I прибыл в Хейльбронн, где находилась главная квартира русской армии. Потом император рассказывал Стурдзе: «Первым моим движением было взять книгу, которая всегда со мною; но отуманенный рассудок мой не проникал и смысл читаемого; мысли мои были бессвязны, сердце стеснено. Я оставил книгу и думал, каким бы утешением была для меня в эту минуту беседа с сочувствующим душевно мне человеком. Эта мысль напомнила мне о вас и о том, что вы мне говорили о г-же Крюденер, а также и о желании, высказанном мною вам, познакомиться с нею… Не успел я остановиться на этой мысли, как услышал стук в дверь. Это был князь Волконский; с видом нетерпения и досады он сказал мне, что поневоле беспокоит меня в такой час только потому, чтобы отделаться от женщины, которая настоятельно требует свидания со мною, и назвал госпожу Крюденер… Мне казалось, что это сновидение… Я принял её тотчас же».
Через два дни император переехал в Гейдельберг. Неподалеку от его дома поселилась и баронесса. По вечерам Крюденер беседовала с императором, и эти разговоры разгоняли его тоску. Когда русские войска вошли в Париж, Александр I пригласил туда баронессу. Она остановилась в отеле, недалеко от Елисейского дворца. Они вместе проводили вечера в беседах. Когда император не мог встречаться с баронессой, он обменивался с ней письмами, которые передавал де Витт. Таким образом, генерал был посвящен не только в отношения двух мистиков, но и успел изучить основные принципы учения баронессы Крюденер. И к баронессе, и к её учению де Витт относился крайне негативно, хотя вынужден был это скрывать.
Через некоторое время отношение императора к Крюденер резко изменилось. Вполне возможно, не без участия де Витта. Вспоминая впоследствии о встречах с баронессой, император писал: «Я очень скоро увидел, что этот свет был не что иное, как блудящий огонь». Охлаждение к Крюденер особенно усилилось, когда она стала публично высказывать мысль об освобождении греков от турецкого владычества, которое, по словам баронессы, непременно должен был осуществить Александр I. В 1824 году баронесса умерла, но идеи её, как оказалось впоследствии, её пережили. Пройдут годы, и де Витту ещё раз придется столкнуться с наследием баронессы.
А пока граф по секретному предписанию Александра I спешит в австрийскую столицу, чтобы ещё до официального начала Венского конгресса, которому предстояло определить судьбу послевоенной Европы, подготовить новую и обновить старую агентуру. Борьба на конгрессе предстояла нелегкая. Изначально стало очевидно, что среди участников конгресса нет даже видимого единства.
Каждый преследовал свои личные цели. Англия стремилась к экономическому господству в Европе, к усилению Пруссии в противовес как Франции, так и России, созданию у границ Франции барьера из соседних королевств и сохранению за собой захваченных французских и голландских колоний. Австрия, в свою очередь, делала все возможное, чтобы не допустить усиления России и Пруссии и обеспечить свою гегемонию в германских княжествах и влияние в итальянских государствах. Пруссаки спали и видели, как заполучить Саксонию и земли на Рейне. Однако это очень не нравилось Австрии и Франции, предпочитавшим видеть самостоятельную Саксонию буфером у границ Пруссии. Что касается России, то она намеревалась создать Польское королевство под своим протекторатом. Последнее вызывало недовольство и Англии, и Австрии, и Франции. Что касается последней, то с помощью хитромудрых интриг Талейрана ей удалось не только встать с позорной скамьи побежденного государства-агрессора, но выдвинуться в число руководящих государств.
Необходимость присутствия в Вене столь опытного в европейских делах агента была для Александра I очевидна. Дело в том, что российский император, принимая во внимание решающую роль России в борьбе против Наполеона, требовал для неё и территориальных приращений, путем воссоединения под его скипетром в единое государство с конституционным образом правления великого герцогства Варшавского и всей остальной Польши. Это стремление, естественно, вызвало недовольство не только Англии и Австрии, но и внешне союзной Пруссии. Побороться за влияние на Польшу собиралась даже побежденная Франция. Польский вопрос грозил стать для России на Венском конгрессе самым главным, а потому присутствие под рукой опытного и сведущего в польских делах разведчика было для Александра I просто необходимо.
Чтобы развязать де Витту руки, он не был включен в состав российской делегации как официальное лицо, а действовал частным образом, порой же и вовсе на свой страх и риск, чтобы в случае провала не подставить российскую делегацию. По этой причине в Вене Иван Осипович держался более чем незаметно. В отличие от своего недавнего пребывания в Варшаве, в Вене он не посещал ни балов, ни официальных приемов. У опытного разведчика на сей раз были иные цели. В приватных беседах с дипломатами различных государств он зондировал те или иные политические вопросы, затем докладывал Александру, подкупал обслуживавших европейских монархов лакеев, которые информировали его о происходивших неофициальных беседах.
В ходе переговоров австрийский канцлер Меттерних затеял чрезвычайно сложную многоходовую интригу, успех которой позволил бы Австрии единолично присвоить себе все выгоды закончившейся войны и встать во главе ведущих держав Европы. Суть интриги заключалась в том, чтобы вначале совместно с Англией постараться разъединить союз Пруссии и России и таким образом с большой легкостью расстроить планы России относительно Польши, а затем уже с помощью обманутой России помешать Пруссии в её германских планах. С ведома Меттерниха министр Кестльри объяснил Александру I, что объединение Польши под его началом являлось бы крайне опасным для европейского спокойствия. Одновременно прусскому королю внушалось, что Австрия готова отдать ему Саксонию, если тот будет готов служить оплотом против России. Расчет Меттерниха был таков, что, польстившись на Силезию, Пруссия предаст Россию и та окажется на конгрессе в одиночестве. Гордый и обидчивый император Александр навсегда разругается с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом, после чего последний уже никак не сможет рассчитывать на помощь русского царя в последующей борьбе с Австрией. В этой борьбе Австрия должна была отказать Пруссии в Саксонии, сославшись на сопротивление этому Баварии и других мелких германских княжеств. Таким образом, Меттерних хотел добиться двойного успеха. После этого австрийский канцлер считал, что ему уже ничего бы не стоило договориться с Англией и указать своё место Франции.
Этот хитромудрый и весьма дальновидный план не удался из-за успешной деятельности российских разведчиков, сумевших разузнать отдельные детали меттерниховского замысла и уже из них сложить примерную картину готовящейся дипломатической диверсии. Среди тех, кто добывал столь необходимую для российской делегации информацию, был генерал де Витт.
Поняв, куда клонит Меттерних, Александр I провел собственные тайные переговоры с главой французской делегации Талейраном и добился от него согласия не препятствовать присоединению Польши к России. Что касается прусского короля, то Александр просто-напросто приехал к нему и напомнил о тех услугах, которые Россия совсем недавно оказала поверженной в прах Пруссии. Пристыженный Фридрих-Вильгельм дал клятвенное обещание более не слушать козней Австрии, а держаться за Россию. В свою очередь, Александр заявил королю, что согласен на присоединение к Пруссии Саксонии.
Свои слова российский император подкрепил делом. Тотчас все русские войска очистили Саксонию, и её немедленно заняла прусская армия. Великий князь Константин овладел великим герцогством Варшавским, объединив его с принадлежавшей России частью Польши.
В ответ на демонстративной союз России и Пруссии Франция, Австрия и Англия подписали тройственное соглашение против них. Венский конгресс, по существу, зашел в тупик. Недавние победители внезапно, к своему изумлению, обнаружили, что наибольшую выгоду от всех склок получила побежденная Франция, оставившая в дураках практически всех, кроме России.
Снова начались долгие переговоры, в центре которых опять оказались польские земли. Чтобы не допустить конфронтации и расторгнуть тройственный антирусский и антипрусский союз, Россия с Пруссией пошли на некоторые уступки. Александр I уступил Австрии Краков, Торн, Тарнополь и часть Познани — Пруссии. Однако большая часть бывшего герцогства Варшавского все же оставалось за Россией.
На этом работа конгресса завершилась. Императоры и короли, разъезжаясь, дали друг другу обязательства совместно бороться с проявлением любого революционного духа и вольнодумства.
Во всех этих делах участвовал граф де Витт. Чем только он ни занимался: подслушивал и подсматривал, перлюстрировал и подкупал, влюблял и запугивал. И если в Вене Александр переиграл не только французского министра Талейрана, но и австрийского канцлера Меттерниха, то в том видится немалая заслуга и генерал- майора де Витта.
Именно в Вене Иван де Витт впервые сошелся с флигель-адъютантом императора Павлом Киселевым. Что касается последнего, то он оказался неплохим разведчиком и в ряде случаев хорошо помог графу в получении секретных австрийских бумаг. В непосредственном подчинении у де Витта для тайных дел находился любимец императора, герой Смоленска и Бородина подпоручик гвардейского Генштаба Василий Перовский, с которым де Витта в своё время будет связывать участие, быть может, в самой секретной операции за всю историю России. К тому же Перовский, возможно, имел самое непосредственное отношение к тайне Георгиевского монастыря, о которой речь пойдет ниже.
В Вене де Витт снова встретился с Екатериной Багратион. К этому времени муж ветреной красавицы уже ушел из жизни, получив смертельную рану при Бородино. Смерть мужа нисколько не отразилась на образе жизни Екатерины. Она все так же меняла любовников и наряды. Но если раньше деньги ей высылал муж, то теперь она их получала в виде пенсии за погибшего супруга.
Во время Венского конгресса Екатерина устраивала у себя в доме роскошнейшие приёмы, на которые прибывали все главы союзных делегаций, включая императора Александра. В салоне Екатерины Багратион решались тогда многие вопросы большой политики. Особенно незаменима светская львица оказалась в той тайной борьбе, которую Александр I вёл с австрийским канцлером Меттернихом. Будучи всё ещё любовницей канцлера, Багратион добывала порой самые тайные данные о планах австрийской политики. В помощники к Екатерине Багратион был определен де Витт. В салоне Багратион весьма часто бывала великая княгиня Екатерина Павловна, уже успевшая к этому времени овдоветь. Любившая всякие тайные дела, сестра императора по-прежнему активно участвовала в добыче секретных материалов и так же, как и мадам Багратион, использовала свой дом в своих целях. С участием де Витта состоялась её помолвка с наследным принцем Вильгельмом Вюртембергским, в результате чего великая княгиня стала вскоре королевой Вюртемберга.
Именно на Венском конгрессе император Александр, видимо, пришёл к выводу, что де Витт — тот человек, которому он может доверять во всём. Именно поэтому он был первым, кого император посвятил в свои тайные замыслы о послевоенном переустройстве российской армии. Это была идея устройства обширных военных поселений. Летом 1814 года на Венском конгрессе император высказал мысль о военных поселениях графу де Витту. Об этом впоследствии рассказал сам Иван Осипович. В Записке, хранящейся в РГВИА, Витт пишет: «В 1814 году, блаженныя памяти Государю Императору на Венском конгрессе угодно было удостоить меня объяснением великую мысль свою о военном поселении…» Но об этом речь в следующей главе.
В целом Венский конгресс стал большой политической победой России. По итогам конгресса предусматривалось лишение Франции всех её завоеваний и создание у её границ государств-барьеров. Сильнейший барьер против Франции составили рейнские провинции Пруссии. Швейцария была усилена за счёт расширения границ и включения в её состав стратегически важных горных перевалов. На северо-западе Италии было восстановлено Сардинское королевство. К России отошло бывшее Великое герцогство Варшавское, получившее название Царства Польского. Австрия вновь установила своё господство в Италии, получила Восточную Галицию и обеспечила себе преобладающее влияние в образованном Германском союзе. Пруссия приобрела часть Саксонии, Познань, а также левый берег Рейна, большую часть Вестфалии, шведскую Померанию и остров Рюген. Объединением Голландии и Бельгии было создано Нидерландское королевство. Норвегия была отдана Швеции. Италия осталась раздробленной. Англия закрепила за собой колонии Голландии и Франции: Мальту, Капскую колонию на юге Африки и Цейлон.
Итоги Венского конгресса следует считать большим успехом России. Получив почти все территории, на которые он имел виды, император Александр I фактически возглавил совет глав европейских государств. Отныне позиции России в Европе становились самыми доминирующими, и именно она являлась гарантом мира и спокойствия на континенте.
Во всех этих дипломатических завоеваниях была и немалая толика труда разведчика де Витта. И пусть его венская работа была не столь эффектной внешне, как деятельность в наполеоновской Ставке, но значение для России она имела не меньшее. Кроме того, ещё более доверительными и близкими стали отношения де Витта с императором. Генерал-майору было разрешено в случае особой необходимости обращаться к императору с секретными делами напрямую и в любое время, минуя при этом все канцелярии и министров. Пройдет совсем немного времени, и де Витт, в отчаянной попытке предотвратить антигосударственный переворот, воспользуется данным ему правом.
После окончания Венского конгресса де Витт был отправлен во Францию, где состоял при командующем российского оккупационного корпуса графе М. Воронцове. Так как Иван Осипович официально считался командиром казачьей дивизии, в состав штатного генералитета оккупационного корпуса он не вошел, а находился в распоряжении командира корпуса.
Чем же занимался граф? Дел у него хватало. Во-первых, надо было улаживать постоянно возникающие вопросы с местными властями и населением, хватало и других дел. Но не это было главным направлением его деятельности. Дело в том, что в полках оккупационного корпуса начали возникать масонские сообщества, причем входили в них не только офицеры полков, но и адъютанты М. Воронцова: В. Голицын, И. Ягницкий и А. Лобанов-Ростовский.
Академик С. Окунь в своем труде «История СССР 1796–1825 гг.» пишет: «А знаете ли вы, заявил Меттерних (канцлер Австрии. — В.Ш.), единственный и истинный мотив нежелания императора Александра видеть хотя бы только один корпус армии — всего десять тысяч человек — расположенным за границей? Это его убеждение, что корпус перейдет на сторону врагов». Разумеется, речь здесь не идет о переходе корпуса на сторону Наполеона. Речь идет об опасении российского императора, что офицеры могут быстро проникнуться «якобинством», т. е. масонством. При этом Александр прекрасно понимал реальность такой угрозы. Именно поэтому при оккупационном корпусе ему нужен был такой опытный специалист-контразведчик, как Иван де Витт.
Биограф М. Воронцова О. Захарова в своей книге «Генерал-фельдмаршал светлейший князь М.С. Воронцов» пишет: «Подозрение властей в том, что русский корпус “офранцузился”, то есть в нём сильны революционные настроения, было также одной из причин внимания Санкт-Петербурга к деятельности М.С. Воронцова на посту командующего корпусом во Франции. М.С. Воронцов был крайне уязвлен этими подозрениями в свой адрес, которые, с одной стороны — ставили под сомнение всю его государственную карьеру как военного и государственного деятеля… О сложности во взаимоотношениях с властями в этот период Воронцов не пишет никому, кроме Закревского (близкий друг Воронцова. — В.Ш.), он старается не говорить на эту тему с родными и с окружающими, которые заметили его плохое настроение, но связали это с ухудшением здоровья». Вполне возможно, что всё закончилось бы не столь благополучно, если бы не де Витт. Без излишней огласки и шума он сумел провести ряд «оперативных мероприятий». Они сразу же сбили волну «омасонивания» офицеров. С вступившими же в тайные ложи офицерами были проведены соответствующие беседы, после чего масонско-якобинские страсти в корпусе сразу поутихли. Когда же в октябре 1818 года император Александр вместе с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом прибыл в Киеврен для смотра корпуса, де Витт произвел доклад Александру, который вполне его удовлетворил. Разумеется, что деятельность де Витта скрепила и дотоле вполне близкие его отношения с М. Воронцовым. Отметим, что, несмотря на большую озабоченность властей революционными настроением офицеров оккупационного корпуса, в мятеже декабристов приняли участие только несколько человек из состава этого бывшего корпуса. Почему большинство офицеров отказалось по возвращении на родину от активной масонской деятельности? Вполне возможно, что благодаря именно своевременной «профилактичекой» работе де Витта.
В 1818 году М. Воронцов, вполне возможно, не без участия де Витта, знакомится в Париже с его кузиной, графиней Елизаветой Браницкой, и вскоре просит её руки у матери — графини А.В. Броницкой, любимой племяннице знаменитого князя Г. Потемкина. Свадьба состоялась в Париже 20 апреля (2 мая) 1819 года. Отметим, что посаженным отцом невесты на свадьбе был герцог Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоо.
Пока Иван Осипович решал дела политические, его мать, Софья Потоцкая, в том же, 1815 году выкупила из казны имение на южном берегу Крыма — знаменитую Массандру, удивительно живописное местечко с целебным воздухом. Прекрасная фанариотка мечтала основать здесь большой город.
В одном из путеводителей по Крыму в 1834 году сообщалось, что Массандра известна «гигантским проектом, который 15 лет назад был составлен… графиней Софьей Потоцкой, желавшей заложить здесь основание городу». Для будущего города было уже придумано весьма тенденциозное название — Софиеополь.
В 1815 году Потоцкая подарила верхнюю часть имения, так называемую Верхнюю Ореанду, своему старшему сыну.
ВО ГЛАВЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
В 1814 году полки русской армии вернулись на родину. Однако если вначале предполагалось после войны распустить полки, то затем было решено оставить их, как постоянное формирование. Казаков отпустили по домам с обязательствами «по первому требованию» являться в полк. Офицеры оставались на действительной службе и должны были иметь «полные сведения о состоянии и занятиях подчиненных казаков» в мирное время. Так продолжалось до 1817 года, когда эти полки были упразднены, и бывшие казаки включены в состав военных поселенцев.
В июне 1816 года 1-й, 2-й, 3-й и 4-й украинские казачьи полки Ивана де Витта были переименованы соответственно в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й уланские и одновременно были включены в состав армейской кавалерии как 3-я Украинская уланская дивизия. В командование новосозданной дивизией сразу же вступил Иван Осипович. Теперь он был дивизионным начальником уже не только де-факто, но и де-юре. Отныне бывшие казачьи полки становились регулярными кавалерийскими соединениями.
А затем де Витт вступил на новое поприще — ему была поручена организация военных поселений на юге России. Окончательно вопрос о создании военных поселений решился в 1816 году. Отметим, что кроме императора в этот круг входили только Аракчеев, Ермолов, генерал-лейтенант де Витт и чиновник канцелярии императора Самбурский.
В 1817 году де Витту было поручено формирование ещё одной дивизии — Бугской уланской, на этот раз на базе 3-го и 4-го полков своей дивизии и Бугского казачьего войска. Вместе с Украинской уланской дивизией она должна была стать основой будущего военного поселения.
Сведений о том, как восприняли новость малороссийские казаки, информации нет. Однако можно предположить, что особого восторга у призванных по случаю войны мещан и крестьян это известие не вызвало. Но на этом преобразование казачьих полков не закончилось. Именно на их базе было решено сформировать корпус резервной кавалерии, основу которого составили бы военные поселения на юге России. Задача, прямо скажем, была весьма непростая. Предстояло неким образом совместить казацкую традицию с дисциплиной регулярной армии.
Создание военных поселений шло непросто. До этого никто подобных вопросов не решал. Теперь помимо военной деятельности Ивану де Витту предстояло решать и бесчисленные хозяйственные вопросы, связанные с размещением тысяч людей в военизированных поселениях, с их обустройством и военной подготовкой.
Казачьи традиции быстро преобразовались в уланские, и вскоре на офицерских пирушках уже вовсю пели новые песни:
Кто два раза в день не пьян, Тот, простите, не улан!Император Александр придавал большое значение поселенным войскам и внимательно следил за их образованием и становлением. В начале мая 1818 года, находясь на юге России, он приехал на смотр только что сформированной Бугской уланской дивизии и остался ею весьма доволен. «Всё, что я видел сегодня, превзошло мои ожидания!» — объявил он де Витту. За устной высокой оценкой почти сразу же последовала и официальная награда. Уже 6 мая за скорое формирование дивизии Иван Осипович был произведен в генерал-лейтенанты.
Расселение военных округов между тем расширялось, росло вширь численно и пространственно. Если первоначально «поселенная конница» занимала территорию нескольких уездов Новороссии, то затем в их число попали уезды Киевской и Подольской губерний.
В том же, 1818 году году де Витт стал командующим вторыми (резервными) батальонами полков 10-й, 13-й и 20-й пехотных дивизий, а чуть позднее — и командующим вторыми батальонами полков 7-й, 8-й и 9-й пехотных дивизий. Фактически отныне в его руках были сосредоточены все воинские резервы юга России. В декабре 1819 года де Витт был награжден орденом Святого Владимира 2-й степени «в воздаяние отличного усердия к службе и трудов, понесенных при устройстве вверенных военных поселений Бугской уланской дивизии», а год спустя получил второй по значению орден империи — Святого Александра Невского.
Какую же цель преследовал Александр I, создавая военные поселения вокруг Петербурга и на юге России? Страсть императора к прусской муштровке в данном случае нельзя признать основной причиной, так как для этой блажи вполне хватало и существовавшей армии. Не являлось главной целью и желание с помощью создания военных поселений сократить расходы государства на армию. О главной причине желания Александра I создать военные поселения как можно быстрее историки обычно умалчивают. А причина была, и весьма серьезная!
Заключалась она в том, что в создании военных поселений Александр I видел воинскую силу, которую в случае необходимости он мог бы противопоставить гвардии, после заграничных походов ставшей гнездом масонства. На первый взгляд это выглядит парадоксально: император создает противовес собственной гвардии, обязанной служить главной опорой его трона. Однако если вспомнить события декабря 1825 года, то все оказывается весьма логичным и своевременным. Надо вспомнить и события тех лет в Турции, когда султан был вынужден истребить свою собственную «преторианскую гвардию» — янычар, чтобы обезопасить себя от их мятежей. И в первом и во втором случае императором Александром и султаном Махмудом II руководили одни и те же мотивы.
Историк Б. Башилов приводит конкретные исторические данные о том, что русское масонство после Отечественной войны находилось в полном подчинении у руководителей иностранных масонских орденов, частью которых, собственно, и являлись русские ложи. Б. Башилов пишет: «27 января 1815 года великий мастер Петербургской ложи “Сфинкс” А. Жеребцов отправил товарищу великого мастера ложи “Сфинкс” уездному предводителю дворянства П.И. Левенгагену письмо, в котором сообщал, что он за нарушение устава, по постановлению Верховного Совета ордена в Лондоне, предан масонскому суду. Текст этого документа, фотокопия которого была опубликована в 1912 году в газете “Земщина” (№ 896 от 5 февраля 1912 г.) таков: “Высокопреосвященный брат Левенгаген! Перед получением мною Вашего письма, в котором Вы делаете честь сообщить мне, что, по домашним обстоятельствам, вы не можете оставаться вице-президентом уважаемой ложи “Сфинкс” и слагаете с себя обязанности, я получил извещение от верховного Лондонского Совета, объявляющего, что его решение о Вашем поведении по отношению к братьям, не пожелавшим принять извинения, которое Вы поручили мне им передать, послав в великий капитул “Феникса”, долженствующий Вас судить по своей мудрости. В ожидании сего Совет временно отрешил Вас от должности вице-председателя Шотландской ложи. Мне велено сообщить это с чувством великой скорби. Счастливейшим днем моей жизни будет тот, когда я увижу Вас оправданным в глазах масонства. Примите, высокопреосвященный брат, уверения в моих чувствах к Вам. А. Жеребцов, великий мастер ложи “Сфинкс”.
Французский посол граф Буальконт в депеше, написанной 29 августа 1822 года, констатирует: “…Император, знавший о стремлении польского масонства в 1821 году, приказал закрыть несколько лож в Варшаве, и готовил общее запрещение; в это время была перехвачена переписка между масонами Варшавы и английскими. Эта переписка, которая шла через Ригу, была такого сорта, что правительству не могла нравиться. Великий князь Константин (живший постоянно в Варшаве) приказал закрыть все ложи. Из Риги Его Величество также получил отрицательные отзывы о духе масонских собраний; Генерал-Губернатор приказал закрыть все ложи и донес об этом в С.-Петербург”. “В России имеются все признаки духа разрушения, — сообщает в том же письме граф Буальконт, — который распространен в государстве, где мнения выражаются только катастрофами; где можно видеть людей, прекрасно воспитанных и принадлежащих к сливкам общества, но восхваляющих убийц Павла I, и где лучшим тоном людей высшего света были их намеки на то, что и они имели отношение к этому ужасному преступлению”.
1 августа 1822 года Александр I дал следующий указ: “Все тайные общества, под каким бы наименованием они ни существовали, как то масонских лож и другими, закрыть и учреждения их впредь не дозволять, а всех членов сих обществ обязать подписками, что они впредь ни под каким видом ни масонских, ни других тайных обществ, ни внутри империи, ни вне её, составлять не будут”.
Создание военных поселений очень обеспокоило русскую аристократию. Кстати, в этом отчасти кроются истоки той жуткой ненависти, которой пронизана вся дореволюционная и послереволюционная история в отношении Аракчеева, а вместе с ним и де Витта. Еще бы, ведь именно они были к середине 20-х годов XIX века главными гарантами безопасности престола, независимости и целостности России, главным препятствием к осуществлению масонских замыслов. Отсюда и эта дикая ненависть!
…С претворением в жизнь замысла Александра кончалась эра своеволия гвардии, её влияния на внутреннюю политику государства. Заметим также, что вывод гвардии за скобки внутренней политики был залогом будущего безболезненного уничтожения крепостного права. Для русской боярщины это являлось смертельным ударом. И она всё прекрасно понимала. Пусть здесь никого не смущают мечты декабристов об отмене крепостного права и создания масонско-гражданского общества. Даже если некоторые из них и искреннее мечтали об этом, сделать такой шаг не дало бы остальное большинство. Мечты заговорщиков масонов были исключительно о личной власти, расчленении и фактическом уничтожении России как мировой империи, всё остальное было уже второстепенно.
Историк Б. Башилов пишет: «Очень характерно, что декабристы особое внимание сосредоточили на проведении революционной работы именно в районе военных поселений. Масоны и русское якобинцы, видимо, отдавали себе отчёт в том, что военные поселения являются орудием, направленным против них. С другой стороны они старались использовать недовольство, имевшееся среди военных поселений, и направить его, с помощью намеренных строгостей, против правительства. Раскрытие заговора декабристов было обнаружено не где-нибудь, а в военных поселениях на юге России. Штаб южного района поселений (здесь, разумеется, имеется в виду граф де Витт. — В.Ш.) напал на след революционной работы масона полковника Пестеля».
В переписке Александра I с гр. Аракчеевым “проскальзывает исключительное, доходящее до удивления, постоянное внимание, забота, опасение, почти навязчивая идея во всём, что касается военных поселений, желание никого даже близко к ним не подпускать”. Такой вывод делает Богданович. По поводу беспорядков в гвардейском Семеновской полку Аракчеев писал императору весной 1820 года: “Я могу ошибаться, но думаю так, что сия их работа есть пробная, и должно быть осторожным, дабы ещё не случилось чего подобного”.
Аракчеев не ошибся в том, что в гвардии велась работа против Александра I. В мае 1821 года князь Васильчиков подал Александру рапорт об обнаружении в гвардии политического заговора. Тогда Александр I решил удалить гвардию из Петербурга в Вильно под предлогом скорого похода её в Европу. 4 марта 1824 года Александр пишет Аракчееву: “Обращая бдительное внимание на всё, что относится до наших поселений, глаза мои ныне прилежно просматривают записки о проезжающих. Все выезжающие в Старую Руссу делаются мне замечательны” (дальше перечисляются фамилии лиц)… Может быть, они поехали по своим делам, но в нынешнем веке осторожность не бесполезна… Вообще прикажи Морковникову и военному начальству обратить бдительное и обдуманное внимание на приезжающих из Петербурга в Ваш край”. 8 марта Император сообщает Аракчееву: “Я полагаю, что необходимо петербургская работа кроется около наших поселений. И что на настоящий след мы ещё не напали”.
23 мая 1823 года находившийся в Варшаве Александр I предлагает Аракчееву так разместить 13-ю дивизию, “чтобы она не мешала поселенным войскам, и дабы не было между ними сообщений”. “Есть слухи, — записывает в 1824 году Александр I, — что пагубный дух свободомыслия или либерализма растёт или, по крайней мере, сильно развивается уже между войсками. Что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом своих секретных миссионеров для распространения своей партии”.
Теперь мы подходим к весьма важному для нас вопросу: почему во главе южных военных поселений был поставлен именно Иван Осипович де Витт? На первый взгляд, это достаточно странно, так как на тот момент в русской армии было большое количество куда более заслуженных генералов. Ответ на этот вопрос логически вытекает из сказанного выше. Де Витт был назначен на столь высокий и исключительно важный, с точки зрения государственной безопасности, пост не случайно, а в силу его безусловной личной преданности престолу и России. Вспомним, что именно ему первому Александр доверил свои мысли о военных поселениях ещё в Вене! Как это ни грустно констатировать, но, видимо, на тот момент этим критериям соответствовал далеко не весь российский генералитет. Из этого следуют как минимум четыре очень важных вывода:
Во-первых, до назначения на должность начальника военных поселений юга России граф уже оказал императору особые услуги, которые позволили рассчитывать на его АБСОЛЮТНУЮ преданность. Именно так же, исходя из АБСОЛЮТНОЙ преданности, был назначен командующими всеми военными поседениями России (и северными в частности) генерал Аракчеев. Вывод: и Аракчеев, и де Витт были теми генералами, которые пользовались ОСОБЫМ доверием императора Александра.
Во-вторых, совершенно иначе выглядит и значение должности де Витта. Исходя из вышеизложенного, де Витт не был заурядным командиром кавалерийского корпуса (так формально приравнивалась его должность). Именно он, и никто иной, в случае мятежа и колебаний со стороны местных губернаторов и генералов должен был взять на себя всю полноту власти для подавления восстания военной силой. Отсюда огромные полномочия, полная административная и хозяйственная самостоятельность, общение на равных с Воронцовым и огромный авторитет.
В-третьих, совершенно иначе выглядит в этом контексте и будущая деятельность де Витта по выявлению участников масонского заговора офицеров 2-й армии. Историки лукавят, именуя её самодеятельностью де Витта. Никакой самодеятельности тут не было и в помине! Он выполнял именно то, ради чего, собственно, и был назначен на свою должность. Подробнее об этом мы ещё будем говорить в своё время.
Наконец, в-четвертых, становятся понятны и все потуги декабристов «Южного общества» выйти на де Витта: будущее сватовство Пестеля к его приемной дочери, обсуждение на заседаниях вопроса о вступлении генерала в общество и резонные сомнения. Иначе и быть не могло, ведь нейтрализация кавалерийских поселений де Витта была единственным условием успеха мятежа на юге. Но своих людей масоны в поселениях не имели, а потому и привлечение де Витта к мятежу было их мечтой. При этом наиболее трезвые головы понимали, что граф поставлен на свой пост, чтобы противодействовать мятежу, а потому привлечь его на свою сторону невозможно. На этом заговорщики, собственно, и попались, когда попытались вначале выйти лично на де Витта, а потом, испугавшись, решили действовать через его чиновника для особых поручений…
С годами менялись система и структура командно-управленческих инстанций военных поселений. Так, пять округов и отдельная волость в Киевской и Подольской губерниях со временем были выделены в отдельное Киево-Подольское управление военных поселений с центром в Умани. Всего в Подольской губернии к этому разряду военно-хозяйственных поселений отчислили 37 сел. Был проект командования о присоединении к дивизиям многих казенных сел Балтского уезда, но это не удалось реализовать из-за противодействия Министерства внутренних имуществ. В число военных поселений попали села Чернявской волости Балтского уезда: Ержев, Черное, Гижкалунга, Дубово, Воронково. Были и другие села уездов, оказавшиеся в военном режиме, но они находились значительно восточнее Днестра.
Военный историк А. Керсновский следующим образом описывает порядки в созданных по приказу Александра I военных поселениях: «День военного поселенца был расписан до последней минуты, повседневная жизнь его семьи регламентирована до мельчайших подробностей — вплоть до обязательных правил при кормлении грудных детей, мытья полов в определенные часы и приготовления тех же кушаний во всех домах. За малейшие проявления частной инициативы в хозяйстве, за пустячное отступление от предписанного казенного шаблона назначались несоразмерно суровые наказания».
Однако всё это теория. На практике, как всегда бывает на Руси, послабления, разумеется, были. Причем в южных поселениях, где силен был казачий дух, а во главе поселений стоял достаточно либеральный де Витт, всё было ещё более упрощено, чем в военных поселениях Севера России. Кроме того, уровень жизни в военных поселениях был неизмеримо выше, чем в обычных помещичьих деревнях, к тому же жители были социально защищены от продажи, помещичьих прихотей и т. д.
Военные поселения делились на две части: Северные и Южные. В Южных была поселена в основном кавалерия, в Северных — большей частью пехота. Северной частью руководил лично Аракчеев, и там всё было намного строже, чем на юге. Что касается де Витта, то он не придавал особого значения шагистике, сосредоточив своё внимание на делах хозяйственных, и при этом добился серьезных успехов. Поселенные войска не только обеспечивали себя всем необходимым, но приносили ещё, и заметный доход государству. По этой причине поселенная кавалерия и просуществовала вплоть до Крымской войны, тогда как поселенная пехота была упразднена вскоре по восшествии Николая I на престол.
Система собственно военных поселений была такова: из состава полка выделялись так называемые «хозяева», которые освобождались от военной службы. Их задачей было организовывать сельскохозяйственное производство и кормить определенных на их «баланс» солдат. За это солдаты должны были отрабатывать некоторые работы по распоряжению хозяев. Хозяева имели определенную предпринимательскую свободу и в южных округах, начиная с 1830-х годов весьма хорошо зарабатывали. Однако серьезным недостатком являлась необходимость большого числа разных строительных работ, на которые отвлекались и солдаты, и хозяева, особенно на первых порах. Дело в том, что строительные планы военных поселений были весьма амбициозны и требовали больших трудозатрат. Впрочем, это были неизбежные издержки, так как надо было обустраивать сами хозяйства, строить дома, дороги и т. д.
Военно-административная структура поселенного войска отличалась своеобразием: все селения группировались в более крупные подразделения — округа, каждый из которых дробился на волости (в среднем состояли из 10 поселков) и «участки» (не менее 10 поселков). Округа, «волости» и «участки» возглавляли командиры соответствующих рангов, а при них «комитеты», то есть штабы. Командование ведало и военной подготовкой поселенцев, и поддерживанием на определенном уровне хозяйственного состояния «поселков». Хозяйственная деятельность дворов с 1827 года регулировалась и регламентировалась командованием.
Поселения де Витта просуществовали до 1857 года, когда были упразднены, а сами поселенцы обращены либо в государственных крестьян, либо в «пашенных солдат».
В июне 1825 года уланские полки де Витта получили имена собственные. 1-й Украинский полк стал просто Украинским, 2-й Украинский — Новоархангельским, 3-й Украинский — Новомиргородским, 4-й Украинский — Елисаветградским, 1-й Бугский — Бугским, 2-й Бугский — Одесским, 3-й Бугский — Вознесенским, 4-й Бугский — Ольвиопольским.
На первом этапе создания военных кавалерийских поселений на юге России Иван Осипович, как мы уже упоминали, занимался организацией Бугской уланской дивизии, ставшей основой этих поселений. Дивизия была организована в течение двух лет (с 1817 по 1818 г.) на базе украинских казачьих полков и Бугского казачьего войска и включала четыре уланских полка: Бугский, Одесский, Вознесенский и Ольвиопольский. Сразу же по окончании формирования Бугской дивизии де Витт приступил к формированию 3-й Украинской казачьей дивизии, в состав которой вошли полки: Украинский, Новоархангельский, Новомиргородский и Елисаветградский. Формирование этой дивизии заняло три года. Когда Украинская дивизия была сформирована, генерал де Витт сразу же приступил к формированию 3-й кирасирской дивизии. Формировать кирасирскую дивизию было особенно сложно, так как для тяжелой кавалерии требовались крупные кони, рослые и физически сильные люди и дорогое вооружение. Именно поэтому формирование этой дивизии затянулось на четыре года и было завершено только в 1826 году. Дивизии поселенной кавалерии де Витта размещались в Херсонской и Екатеринославской губерниях. В их состав входили четыре уездных города и 125 сел. Вся территория поселенной кавалерии подразделялась на 12 округов, в каждом из которых размещалось по одному полку. Все три кавалерийские дивизии были сведены в 3-й Резервный кавалерийский корпус, командиром которого был назначен де Витт «за успехи в начальном устройстве военного поселения». Тогда же за создание кавалерийского корпуса он был удостоен ордена Святого Владимира 1-й степени.
Первым начальником штаба Южных военных поселений (резервного кавалерийского корпуса) был назначен генерал-лейтенант и георгиевский кавалер Филипп Филиппович Экельн. С 1829 года начальником штаба кавалерийского корпуса де Витта стал генерал-майор Воин Дмитриевич Задонский, участник почти всех крупных сражений 1812–1814 годов, особенно отличившийся при Лейпциге, где во главе эскадрона дважды атаковал конницу двух французских гвардейских корпусов. В новом начальнике штаба де Витт нашёл единомышленника и хорошего помощника. Перед назначением к де Витту Задонский состоял «для особых поручений при главном штабе Его Императорского Величества по военным поселениям». Опытнейший кавалерист и давний знакомый де Витта, он пришелся к месту, и генералы хорошо сработались, так как помимо высокого профессионализма оба отличались человечным отношениям к людям.
Когда болезни роста первых лет были преодолены, Южные поселения под руководством де Витта начали показывать неплохие хозяйственные результаты. Любопытно, что если во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов поселенная кавалерия графа была на должной высоте, то при подавлении польского восстания два года спустя кавалерийские части военных поселений показали уже несколько худший уровень боевой подготовки. Впрочем, это, возможно, объяснялось тем, что, будучи военизированными крестьянами, кавалеристы де Витта не слишком горели желанием рубить саблями таких же, как они, польских крестьян.
В целом, по сравнению с Южными поселениями де Витта, Северные поселения А. А. Аракчеева были чудовищно неэффективны из-за низкой урожайности тамошней земли. Новгородские крестьяне всегда жили животноводством, солдат же заставляли выращивать хлеб. В результате Новгородский корпус военных поселений был хронически убыточным. В противоположность этому крестьяне, приписанные к поселенной кавалерии Юга России, весьма эффективно управлялись особыми окружными начальниками и исполняли барщинные работы «на войско», которому доставляли сено, овёс, хлеб, избыток которых продавали в Одессе. Пшеницу, при этом, де Витт сеять запретил, велев ограничиваться более дешевой рожью. Это делалось для того, чтобы воинские начальники не могли наживаться на солдатском труде. Продажа на сторону дорогой пшеницы была слишком соблазнительна, так как сулила слишком большие выгоды для недобросовестных поселенных офицеров. Разумеется, что воровство всё равно простиралась и на рожь, и на овёс, хотя и не в такой мере.
Это раздражало Аракчеева и являлось дополнительным фактором его ненависти к более успешному хозяйственнику де Витту. Бывая в Южных военных поселениях де Витта, Аракчеев наглядно видел, что тот гораздо лучше справляется с порученным ему делом. Негодование отца передавалось сыну Аракчеева, который откровенно безобразничал во время посещения виттовских поселений.
Из воспоминаний декабриста Н.В. Басаргина (в то время адъютанта начальника штаба 2-й армии генерала Киселева): «Государь (император Александр I. — В.Ш.), осмотрев 2-ю армию и будучи ею очень доволен, пригласил Киселева ехать с собою в поселенные войска Украинского поселения. Там ждал его граф Аракчеев. Киселев взял меня с собою, но как при генерале Дибиче не было адъютанта, то он попросил его прикомандировать меня на время смотра поселений к нему. Мы ехали с Государем и прибыли вместе в Вознесенск. Там застали Аракчеева. Трудно объяснить то влияние, которое он имел на покойного Александра. Смешно было даже смотреть, с каким подобострастием царедворцы обходились с Аракчеевым. Я был свидетелем его стычки на словах с Киселевым, который его не любил и не унижался перед ним, и где он его славно отделал. Услышав от Государя, как он остался доволен 2-ю армией, и, вероятно, будучи этим недоволен, Аракчеев в первое свидание с Киселевым, когда Государь ушел в кабинет, обратился к нему, при оставшемся многолюдном собрании, со следующими словами: “Мне рассказывал Государь, как вы угодили ему, Павел Дмитриевич. Он так доволен вами, что я бы желал поучиться у вашего превосходительства, как угождать Его Величеству. Позвольте мне приехать для этого к вам во 2-ю армию; даже не худо было бы, если бы ваше превосходительство взяли меня на время к себе в адъютанты”. Слова эти всех удивили, и взоры всех обратились на Киселева. Тот без замешательства отвечал: “Милости просим, граф; я очень буду рад, если вы найдете во 2-й армии что-нибудь такое, что можно применить к военным поселениям. Что же касается до того, чтобы взять вас в адъютанты, то, извините меня, — прибавил он с усмешкою, — после этого вы, конечно, захотите сделать и меня своим адъютантом, а я этого не желаю”. Аракчеев закусил губу и отошел. Вот одно из доказательств значения Аракчеева у императора Александра. С ним был в это время побочный сын его Шумский, молодой прапорщик гвардейской артиллерии, шалун, пьяница и очень плохо образованный юноша. Во время случившихся маневров его обыкновенно ставили с батареей на какое-нибудь видное место. Государь, зная, кто он, нередко подъезжал к нему и разговаривал с ним. Аракчеев, чтобы более и более обратить на него Высочайшее внимание, обыкновенно брал его с собою, когда бывал с докладом у Государя, извиняясь, что делает это потому, что не может по слабости зрения сам читать доклады. Однажды нас пригласил на вечер один из адъютантов графа Витта. Шумский был там же и так напился, что едва мог стоять на ногах. Вдруг прислал за ним граф, чтобы идти с докладом к Государю. Мы принуждены были облить ему несколько раз голову холодной водой, чтобы хотя несколько протрезвить, и в таком положении он отправился».
В 1817 году в Слободско-Украинской (ныне Харьковской) губернии ряд казенных селений были отданы под военное поселение кавалерии с перечислением всех этих селений с коренными жителями из губернского управления в военное. А по Высочайшему указу от 1 января 1821 года подобные военные поселения были образованы в Екатеринославской и Херсонской губерниях, с передачей тамошних селений из гражданского в военное управление. В Херсонской губернии военные поселения были образованы в уездах Александрийском и Елисаветградском. Приём предназначенных селений из гражданского ведомства и образования в Херсонской и Екатеринославской губерниях военных поселений был поручен вновь назначенному начальнику этих поселений графу де Витту.
17 января 1822 года губернатор В. Шемиот предоставил генерал-лейтенанту графу Ивану де Витту часть Верхнеднепровского уезда, предназначенного для поселения кирасирских полков. В 1823 году В. Шемиота на посту губернатора сменил Т. Цалабан, а в 1824 году — А. Свечин, в 1832-м — Н. Лонгинов. Со всеми у де Витта сложились нормальные деловые отношения. Хорошие отношения с самого начала установились у де Витта с губернатором Херсонской губернии графом К. Сен-При, губернатором Таврической губернии Н. Петровским, а потом и со сменившим последнего Д. Нарышкиным.
Затем в состав военных поселений поступили и заштатные города Елисаветградского уезда, Вознесенск и Новомиргород, и, наконец, в 1829 году уездные города Елисаветград и Ольвиополь. Передача Елисаветграда из гражданского в военное ведомство произошла при участии херсонского гражданского губернатора Могилевского, командира 3-го резервного кавалерийского корпуса и начальника военных поселений графа де Витта. Тогда же в Елисаветграде разместился и штаб военных поселений.
В апреле 1832 года де Витт был назначен инспектором всей поселенной кавалерии, но до назначения нового военного губернатора в Варшаву не мог выехать к месту своего нового назначения. Теперь поселенная кавалерия, общее командование которой было вверено графу Витту, составляла уже три резервных корпуса с прикомандированными к ним резервными дивизиями и артиллерийскими ротами и военно-рабочими батальонами. Центром Южных поселений был Елизаветград, но де Витт не любил жить в этом степном городе. К тому же он не особо любил докучать придирками своим подчиненным, предоставляя им максимум самостоятельности в деле боевой подготовки и хозяйственной деятельности, контролируя лишь уровень выучки войск на смотрах и проводя периодические ревизии во избежание воровства. Большую часть времени граф проводил в имениях знакомых польских магнатов в Киевской и Подольской губерниях. Два или три раза в год он объезжал корпусные штабы, в которых к его приезду собирались окружные начальники для совместного обсуждения средств к улучшению наружного вида и благосостояния военных поселений, особенно сёл, лежащих на почтовой дороге. Все сёла были распланированы, а все избы перестроены по одному образцу. В мае 1836 года де Витт объявил, что едет в Петербург просить государя осчастливить поселения своим посещением. По возвращении из Петербурга он вызвал всех начальников военных поселений и объявил им, что государь назначил смотр в августе будущего года для всей армейской кавалерии с её артиллерией, обозами и понтонными парками. Местом для смотра был выбран Вознесенск, где находился штаб сводного кавалерийского корпуса. Время смотра войск определялось тем, что к этому времени был собран с полей хлеб.
После фактической отставки А.А. Аракчеева в конце апреля 1826 года началась ликвидация автономий военных поселений. Поэтому уже в начале сентября 1826 года генерал И.И. Дибич приказал П. А. Клейнмихелю переподчинить Главному штабу поселенный 3-й резервный кавалерийский корпус и Бугскую уланскую дивизию, расположенные в Херсонской губернии с последующей передачей в состав армии. Однако затем из-за финансовых трудностей от этого все же отказались.
В Южных военных поселениях ещё в 1832 году прошла очередная реформа. При этом поселенная конница была сведена уже в два резервных корпуса, общее командование которыми было, опять же, доверено де Витту. По существу, граф становился уже фактическим командующим целой конной армии, самым мощным кавалерийским объединением России. Был проведен ряд реформ по внутреннему управлению поселениями. Прежде всего, само управление поселенной частью кавалерии было отделено от управления действующими и резервными эскадронами, которые были подчинены полковым и бригадным командирам, тогда как поселенные эскадроны подчинялись непосредственно начальнику дивизии. В 1836 году военные поселения кавалерии были изъяты из ведения начальников дивизий. Эскадроны были переименованы в волости, комитеты полкового управления — в окружные комитеты; дети поселян были освобождены от зачисления в кантонисты и должны были подлежать общей рекрутской повинности; оброком военные поселяне южных поселений обложены не были. Позднее военные поселяне были обязаны отбывать рекрутскую повинность на общих основаниях, 3 дня в неделю работать на общественных полях и доставлять продовольствие расквартированным в округах войскам.
Ну а как жила всё это время мать нашего героя, блистательная Софья де Витт-Потоцкая? Злые языки утверждали, что Софья умудрилась иметь любовную связь даже с одним из своих пасынков. Вообще любвеобильную красавицу женское общество всегда и везде дружно ненавидело, а потому в Варшаве ходили упорные слухи даже об её плотской связи с самим дьяволом. Но что не сделает женская зависть!
Из труда польского историка: «Хотя разница в возрасте между мачехой и пасынком была 13 лет, между ними возникли самые интимные отношения. Станислав духовно был сломан: презрение общества — ему не простили предательства. В тяжелую минуту переживаний Потоцкий решил найти сочувствие у жены, но застал её в объятиях сына. Софию он безумно любил, переживал очень тяжело её измену. Умирая, не пожелал проститься с женой. Он не знал, кем был для будущего ребенка: отцом или дедом! Умер Станислав в Тульчине в возрасте 63 лет. Похороны его были торжественными. Гроб с телом был поставлен в костеле и оставлен на всю ночь. Неизвестные сняли с покойника мундир, забрали все ордена и драгоценности, а совершенно обнаженное тело поставили и облокотили об стенку, рядом был приколот клочок бумаги с надписью “за измену отчизне”. Поляки не простили Потоцкому его предательства. Дом Потоцкого погрузился в траур, съехались многочисленные члены большого семейства. Но недолго они оплакивали покойного. Между ними начались споры за раздел наследства. Софье пришлось вести длительную и сложную борьбу за богатство. К счастью, к этому времени она не потеряла своей красоты и умения ею пользоваться. Граф Потоцкий платил за свою любовь неистово и страстно. Он был готов платить и дальше. Но от него потребовалось нечто большее, чем золотые червонцы. Да и чем можно было заплатить за такую любовь, кроме собственной жизни. Граф заплатил и эту цену, последнюю. Эта “сделка” чуть не стоила Софье всего, чего она достигла. И случилось это, или могло случиться… только потому, что ясновельможная пани полюбила. Впервые в жизни она играла не в открытую, не по правилам… Она забыла обо всем, она ни о чём не думала! Она изменяла своему пану в его доме, с его сыном.
Софье было 35, Юрию Потоцкому — 22. Она ставила на карту всё. Он привык рисковать, он был игрок — в кутежах, скандалах, картах и в любви, за это и был выдворен по указу нового царя Павла. В Уманском дворце, под крылом заботливого и снисходительного отца, Юрий поставил на кон отцовскую любовь. Победила, как всегда, Софья.
Станислав-Феликс Потоцкий-Щенсный избрал другой путь. Он уединился, предался мистицизму, подпал под влияние польских “иллюминатов” и в марте 1805 года скончался. С этого момента началась сумасшедшая жизнь в Тульчине. Мачеха в объятиях пасынка была царицей в толпе шулеров и сорвиголов, стекавшихся сюда чуть ли не из целой Европы».
Думаю, здесь тоже больше слухов, чем правды.
И снова дадим слово историку: «28 марта 1805 года Софья Потоцкая стала вдовой. Что творилось в этой женской душе? О чем ей думалось? Видно, нелегки были эти думы. В Уманском дворце день и ночь стоял угар лихого кутежа. Играли в “фараона”, проигрывались имения, драгоценности, надежды, сила, любовь. Страшнее всего, что Софья как-то не по-женски мудро и трезво поняла и призналась себе, что любовь Юрия она вскоре “проиграет”. Ей не удержать его, а вместе с ним “фараон” заберёт и её саму, графиню Потоцкую. Проиграв все, что оставил ей возлюбленный и несчастный супруг — имя, червонцы, землю, она снова станет нищей гречаночкой у ворот того самого турецкого гарема. И Софья, эта не по-женски мудрая головка, эта не по-женски сильная воля, приняла решение. Решение небывалое со времен Прекрасной Елены. Она порвала любовь, как расписку. Она поставила любимому условие: отдам долг, спасу от бесчестия, если уедешь… Юрий растратил наследство братьев. Он должен был уехать, и он уехал…»
В Петербурге Софья завела знакомства со многими влиятельными лицами, которые оказали ей всемерную помощь в устройстве её дел, особенно сенатор Н.Н. Новосельцев, с которыми у неё, по воспоминаниям современников, установилась интимная связь. Граф Уваров, Сперанский, Строганов, Чарторыйский, британский посол Гамильтон — вот далеко не полный перечень лиц, которым графиня Потоцкая якобы щедро дарила свои ласки. В «Записках» Александра Михайловича Тургенева сообщается, что, «будучи уже в преклонных летах, графиня Софья Потоцкая была предметом внимания даже Александра Павловича». Впрочем, всё это не больше чем слухи, которые всю жизнь сопровождали прекрасную фанариотку.
В Тульчине в это время полновластным хозяином оставался Юрий. Четыре года отсутствия Софьи там царили карты, пьянство и разврат. За это время он только проиграл более 13 миллионов отцовских рублей золотом. Софья, пытаясь изменить ситуацию, настаивала на поездке пасынка за границу на лечение. Но тот лечиться явно не желал. В своих письмах Юрий писал Софье о любви и просил одно и то же — выслать деньги. Софья выполняла его просьбы, безнадежно прося образумиться. Всё закончилось так, как и должно было закончиться. Не помог даже переезд в Париж. Туберкулез, ревматизм, алкоголизм и, наконец, венерическая болезнь уносят в 1809 году Юрия в могилу. Остались свидетельства, что куски тела разлагались и отпадали у него ещё при жизни, и помочь ему никто, увы, ничем не мог. Софья очень болезненно восприняла эту смерть.
В это время в доме Потоцких произошел неслыханный скандал. Сын Мечеслав похитил у матери все драгоценности и через лакея передал, чтобы Софья убиралась из Тульчина, обзывал её оскорбительными словами. Оскорбленная и униженная Софья с остальными детьми переехала в Умань в свой дворец на Дворцовой площади. Скандал получил самую широкую огласку. Александр I велел арестовать похитителя, и Мечеслав был посажен в Петропавловскую крепость, где, впрочем, ни в чем не знал нужды и по просьбе матери обеспечивался всем необходимым.
С 1810 года Софья Потоцкая вступает в последний период своей жизни и, как сказал один из её многочисленных биографов, «нравственно хорошеет». Она всё более озабочена искуплением грехов, благотворительной деятельностью, воспитанием детей. Бурная жизнь, полная увлечений и приключений, отходит в прошлое. «Баядерка от рождения», она становится под старость добродетельной матроной, старается забыть прежнюю жизнь и сохраняет преданную память только к Потемкину, которого до конца «жалела, как родного брата». Многочисленные крепостные считали её одновременно колдуньей и благодетельницей.
Весной 1811 года сильный пожар выжег Тульчин и Немиров. В ликвидации последствий этого бедствия Софья Потоцкая проявила завидную энергию. Она сама руководила новой застройкой, оплачивала поставки строительных материалов, выдавала продукты, помогала крестьянам деньгами, заслужив всеобщее признание, после чего местные крестьяне звали её только «матушкой».
В 1820 году в клане Потоцких происходит очередной скандал. Сын Мечеслав, посчитав, что пришло время взять в свои руки управление отошедшей к нему недвижимостью, поднял бунт против матери и изгнал её с дочерью Ольгой из тульчинского имения.
В ответ на это возмущенная Софья распространила манифест, в котором сообщила, что истинным отцом негодного сына является главарь бандитов, изнасиловавший её во время итальянского путешествия, и по этой причине Мечеслав не может быть наследником.
Сын в долгу не остался и в своем контрманифесте объявил мать известной всей Европе блудницей, указав, что ему, как сыну, отец отделил долю в имуществе. В ответ на это Софья пожаловалась императору Александру, он хотел было сослать скандалиста в Тобольск, но противостоящие стороны к этому времени сами погасили конфликт.
После этих событий Софья некоторое время прожила в Немирове, у сына Болеслава, затем перебралась в Умань, откуда — уже больная — вместе с дочерью Ольгой отправилась в Петербург на очередные имущественные споры с пасынками и за спасительным банковским кредитом.
Спустя ещё несколько лет Софья Витт-Потоцкая вместе с шестнадцатилетней Ольгой переехала в Петербург. К этому времени Софья была уже тяжело больна. По некоторым свидетельствам, у неё был рак матки. Ольга каждый день навещала мать в петербургской больнице. Софья составила завещание, в котором, прежде всего, учла интересы сына Александра, служившего штабс-ротмистром конного полка, и дочерей Софьи и Ольги. Исполнителем своей последней воли она назначила петербургского губернатора Милорадовича.
Узнав о тяжелой болезни матери, в столицу приехали старшие сыновья Софьи — Иван де Витт и Александр Потоцкий. Затем, по рекомендации немецких врачей, Софья едет в Берлин. Чувствуя, что силы окончательно покидают её, а жизнь с каждым днём уходит, она просит своих детей приехать к ней. Эта встреча была последней радостью в её жизни. Перед смертью Софья написала завещание, в котором разделила поровну своё состояние между всеми детьми, исключая Мечеслава, оставив 60 миллионов рублей деньгами и огромное имение. 12 ноября 1822 года блистательной Софьи Глявоне (Клаврон) — Челиче-Витт-Потоцкой не стало, она завещала похоронить себя в любимой Умани. Вместе со смертью некогда блистательной красавицы ушла в небытие целая эпоха.
Чтобы миновать неизбежную в то время волокиту на уровне первых лиц государств, дети умершей поступили достаточно смело. Тело Софьи было забальзамировано, после чего её нарядили в красивое платье, посадили в карету, вложив в одну руку букет, в другую веер и, таким образом, перевезли «спящую» пани через границу.
В Умани её искренне оплакивали все, ибо последние годы своей жизни Софья много занималась благотворительностью. Когда ночью гроб с телом женщины везли к месту её последнего упокоения, на расстоянии 10 верст при большом стечении народа по дороге были расставлены бочки со смолой, куда окунали факелы и зажигали, освещая дорогу. За гробом шли пятьдесят священников.
Тело Софьи Потоцкой положили в подземелье церкви, выстроенной около парка «Софиевка», где оно покоилось до 1838 года, после чего её дочь Ольга Нарышкина, унаследовавшая после матери местечко Тальное, перенесла её прах в крипту местной Троицкой церкви. В 1846 году храм перестроили из камня. После 1917 года он был переоборудован под хозяйственные цели, но гробниц в подземелье никто не трогал. До сегодняшнего дня там покоятся останки той, которую во второй половине XVIII столетия пять королевских дворов Европы признали самой красивой женщиной эпохи Просвещения.
Один из биографов прекрасной фанариотки сказал о её жизни так: «Жизнь Софьи Потоцкой, женщины невиданной, почти невозможной красоты, была подобна огню. Она горела, обогревала и обжигала, она манила, завораживала, вдохновляла, покоряла и оставляла пепел от сердец, посмевших прикоснуться к ней своей любовью». Наверное, лучше сказать уже невозможно!
ОТ КРЫМА ДО ОДЕССЫ
Вскоре после окончания Венского конгресса Иван Осипович де Витт отправляется в Париж, где до июня 1816 года служит в качестве генерала по особым поручениям при командующем русским оккупационным корпусом во Франции графе Воронцове. Круг обязанностей у Витта всё тот же — разведка и создание агентурной сети. За время службы во Франции граф сближается с Воронцовым. Там же, в Париже, де Витт присутствует на свадьбе своего командира и друга. 20 апреля 1819 года граф Воронцов вступил в брак с полуполькой графиней Елизаветой Ксаверьевной Браницкой, дочерью обер-гофмейстерши графини Александры Васильевны Энгельгардт, племянницы Потемкина.
Почти в это же время в Петербурге была сыграна другая свадьба. Любимец императора Александра и сводный брат Ивана Осиповича генерал-адъютант Станислав Потоцкий венчался браком с сестрой Елизаветы Ксаверьевны Екатериной Браницкой. Таким образом, отныне де Витт становился хоть и не кровным, но все же родственником семьи Воронцовых. Женитьба Воронцова на Браницкой тоже будет иметь самое непосредственное отношение к судьбе нашего героя в дальнейшем. Что же касается отношений Воронцова и де Витта, то дружба будет связывать их обоих до самой смерти Ивана Осиповича.
Во Франции де Витт первым забил тревогу по поводу того, что молодые гвардейские офицеры оказались весьма подвержены влиянию идей Французской революции и мирового масонства. Однако голос опытного разведчика тогда услышан не был. К информации де Витта отнеслись даже с некоторой брезгливостью. В офицерских кругах царили нравы ещё иных, рыцарских эпох, а потому слежка, подслушивание и информирование откровенно презирались. Что касается де Витта, то он придерживался совершенно иного мнения, исповедуя старое иезуитское: «Цель оправдывает средства». А потому, несмотря на упорное нежелание верховной власти видеть надвигающуюся угрозу, он на свой собственный страх и риск продолжает следить за масонскими связями вольнодумцев в мундирах.
Помимо огромной работы по обустройству и функционированию Южных военных поселений де Витт активно занимается и столь любимыми им тайными операциями. Старый недруг де Витта А. Ланжерон признает: «Витт очень полезен для такой (тайной. — В.Ш.) службы, но, вероятно, многие не захотели бы оказаться на его месте за любую цену». Но почему оговорка «не захотели»? Вариантов здесь может быть только два. Первый: господа дворяне не желали заниматься «неблагородными» тайными операциями. Второй: немногие вообще могли бы заниматься тайными операциями на столь высоком уровне, как де Витт. Впрочем, думается, что Ланжерон имел в виду первый вариант. Причина? Дело в том, что Ланжерон был одним из самых видных масонов Юга России. Безусловно, он прекрасно знал об антимасонской деятельности де Витта и о том, что граф прекрасно осведомлен тайной деятельности Ланжерона. Всё это, разумеется, не могло вызывать у Ланжерона положительных эмоций в отношении де Витта.
В этот период Иван Осипович имел непосредственное отношение к деятельности тайного общества греческих патриотов «Филики этерия» (Дружеского общества) на Юге России под началом генерал-майора Александра Ипсиланти. Самого генерала он знал ещё по заграничному походу 1814 года. Они вместе участвовали в сражениях при Бауцене и Дрездене, где Ипсиланти потерял правую руку. После войны Ипсиланти состоял адъютантом у Александра I, командовал бригадой в гусарской дивизии. Де Витт, сам наполовину грек, был с Ипсиланти в дружеских отношениях. Помимо всего прочего, думается, что де Витт присматривал за этеристами (члены гетерий, тайных обществ в Греции, ставивших своей целью борьбу против турецкого ига. — Ред.). Впрочем, так как ничего антигосударственного против России они не замышляли, то и отношение к ним было весьма лояльным. Петербург прекрасно знал о существовании «тайной» греческой организации, но полагал, что при возможном осложнении с турками «Филики этерия» может быть полезна. В силу этого де Витт оказывал «Филики этерия» определенную помощь. Нюансы этого сотрудничества нам неизвестны, но можно предположить, что через де Витта Ипсиланти поступали определенные финансовые средства, закупалось оружие. Кроме того, через своих агентов граф мог обеспечивать Ипсиланти информацией о состоянии турецких войск у границы.
В марте 1821 года Александр Ипсиланти, воспользовавшись смертью господаря Валахии и Молдавии Александра Суцо, с группой этеристов перешел через Прут и призвал народ дунайских княжеств к восстанию против турецкого ига. Предприятие с самого начала было обречено на провал. Румыны отнеслись к грекам без должного сочувствия. Кроме того, сам Ипсиланти не был ни полководцем, ни политиком. Мечтой его была (ни много ни мало!) корона короля Греции! В Яссах он окружил себя двором и целую неделю занимался раздачей титулов. Затем одобрил резню, устроенную одним из участников восстания, Василием Каравлием, во взятом им Галаце, вымогал деньги у местных богачей, арестовывая их и требуя выкупа. Когда же в своей прокламации Ипсиланти заявил, что «одна великая держава» обещала ему свою помощь, то этой ложью окончательно оттолкнул от себя императора Александра I. После этих событий всякая поддержка со стороны де Витта прекратилась. Несмотря на это, Ипсиланти уверял всех, что официальное заявление России — не более как дипломатический маневр. Наконец, в июне 1821 года после двух неудачных столкновений с турецкими войсками Ипсиланти бросил своих товарищей на произвол судьбы (все они потом погибли) и тайно бежал в Австрию. Там он был заключен в крепость Терезин. Спустя несколько лет, по ходатайству императора Николая I, Ипсиланти был выпущен на свободу и вскоре умер в Вене в 1828 году.
Необходимо отметить, что де Витт в это же время пролил свет на деятельность ещё одного весьма неприглядного общества — некоего «общества свиней». Это было особое закрытое сообщество. Дамы и господа там «врачевались всего на один вечер и не по выбору, а как случится», т. е. занимаясь свальным грехом. Друг друга они называли «сестрами-свиньями» и «братьями-свиньями». Отсюда и название общества.
Хотя никакой антигосударственной деятельности «свиньи» не осуществляли, де Витт всё же посчитал сам факт существования такой организации аморальным и антихристианским. Достаточно быстро граф установил через капитана Шервуда всех членов этого веселого сообщества. Николай I полностью поддержал де Витта. По решению императора «общество свиней» было немедленно разогнано. «Братья-свиньи» (а это были исключительно выходцы из Франции) были выдворены за пределы России, а их «сестер-свиней» вернули ротозеям-мужьям.
Высочайший уровень секретности этой работы де Витта признает пушкиновед Н. Эйдельман в своей книге «Пушкин и декабристы»: «В делах канцелярии Главного штаба сохранились некоторые документы, намекающие на тайную деятельность генерала». Дибич писал о нем: «Он человек чрезвычайно полезный в особенных обстоятельствах и способен к особенным должностям». 11 января 1823 года Дибич «по высочайшему повелению» предписывал киевскому губернатору «обратить должное внимание на изустное поручение, кое к вам имеет генерал-лейтенант граф Витт».
Пушкиновед признает, что ему удалось найти только следы тайной работы де Витта. Это естественно! В эпоху, когда не существовало мощных спецслужб с собственными секретными архивами, оставлять доказательства секретных операций в обычном армейском архиве было бы чистым безумием. Разумеется, де Витт это прекрасно понимал, именно потому поручения ему и давались исключительно «изустно», так же «изустно» он докладывал и о результатах выполненных поручений.
В это время судьба свела графа с генералом Киселевым. Они были знакомы и ранее, но теперь былое знакомство переросло в дружбу, а впоследствии они стали и родственниками. Дружба и сотрудничество де Витта с Киселевым продлится долгие годы, а потому нелишне будет остановиться на незаурядной личности генерала Киселева подробней.
Павел Дмитриевич Киселев родился в 1788 году в Москве в семье главноприсутствующего в оружейной палате действительного статского советника Дмитрия Киселева. Мать была из рода князей Урусовых. Воинскую службу Киселев начал юнкером в январе 1805 года. В конце 1806 года был произведен в корнеты Кавалергардского полка, принимал самое активное участие в кампаниях 1807 и 1812–1814 годов. В 1814 году был пожалован флигель-адъютантом и состоял при Александре I во время Венского конгресса. В 1817 году был произведен в генерал-майоры. Характеризуя Киселева, А.Ф. Кони говорил, что он был «настоящим слугою государства в лучшем смысле этого слова. Глубоко преданный своему монарху, он был не менее предан и Родине, будущему благу которой, прозреваемому светлым умом, он, несмотря на ранние общественные и служебные успехи, умел приносить в жертву своё самолюбие. Он был усерден, неподкупен — царю наперсник, но не раб». Карьера Киселева была стремительна. Из-за этого отношение к нему тоже было неоднозначным.
В феврале 1819 года Киселев был назначен начальником штаба 2-й армии.
Как мы уже говорили выше, гетман Потоцкий отправил своих дочерей Софью и Ольгу (младших сестер де Витта) в Санкт-Петербург, чтобы ввести их в высшее общество.
Сёстры, хотя и несколько уступали в красоте своей блистательной матери, были, по отзывам современников, весьма очаровательны, милы и умны. При этом характером сёстры сильно отличались друг от друга. Ольга отчасти унаследовала распущенность и страстность матери, в то время как Софья была известна своим целомудрием и слыла среди великосветских повес неприступной.
С семнадцатилетней Софьей встретился вскоре после окончания лицея Пушкин и сразу же пережил, по его словам, «безумную любовь». Однако Потоцкая не ответила молодому поэту взаимностью. Роман угас, едва успев начаться. Дело в том, что как раз в это время де Витт знакомит сводную сестру со своим другом генералом Павлом Киселевым. В глазах де Витта, да и самой Софьи, коллежский секретарь Пушкин не шёл ни в какое сравнение с любимцем императора, перед которым открывались самые блестящие перспективы.
В июле 1817 года Павел Дмитриевич Киселев нанёс первый официальный визит Потоцким. Вскоре молодой генерал посватался к старшей дочери хозяйки — Софье; после материнского согласия последовала помолвка, однако само венчание произошло несколько позднее. Большинство пушкинистов считают, что Потоцкая любила Киселева по-настоящему всю свою жизнь.
При этом к Пушкину Софья сохранила самое дружеское отношение. Во время одной из встреч романтичная Софья рассказала поэту семейное предание Потоцких, согласно которому некая красавица из их рода была похищена татарами. В неё влюбился крымский хан Гирей и сделал любимой женой в своём гареме. Когда же красавица умерла, он воздвиг в память о ней фонтан, назвав его «фонтаном слез». Отчасти семейное предание Потоцких, возможно, было связано и с невероятными приключениями матери Софьи.
Известный пушкинист М.О. Гершензон, не приводя, впрочем, никаких доказательств, в своё время полагал, что о фонтане Пушкину впервые рассказала княгиня М. А. Голицына (внучка Суворова). Однако это весьма сомнительно. Кому лучше знать семейные предания Потоцких — Голицыной или самой Потоцкой?
На Пушкина, как известно, легенда о «фонтане слез» произвела должное впечатление, однако замысла воплотить легенду в поэтические строфы тогда у него не возникло.
Генерал Киселев, несомненно, знал о том, что Пушкин неравнодушен к его невесте. Дружбе с поэтом данный факт, естественно, не способствовал. Кроме того, Киселев в то время не понимал всей величины пушкинского таланта.
Что касается Пушкина, то его отношение к Киселеву в разное время менялось. Если в молодости он разразился в адрес генерала достаточно ядовитой эпиграммой: «На генерала Киселева не положу своих надежд…», то в более зрелые годы именовал его не иначе, «как самым замечательным из наших государственных деятелей».
В августе 1820 года Пушкин решает посетить отдыхавшее в Гурзуфе семейство Раевских.
В Гурзуфе Пушкин провёл три недели. С кем мог встречаться поэт за это время? Никаких документальных свидетельств тому нет. Однако можно предположить, что во время «гурзуфского сидения» поэта могли иметь место две встречи, причем обе имеющие самое непосредственное отношение к нашему повествованию.
Дело в том, что как раз летом 1820 года в Крыму отдыхала недавняя безответная любовь Пушкина 17-летняя Софья Потоцкая. Она остановилась в своем любимом имении Массандра, некогда подаренном её матери Потемкиным. От Гурзуфа до Массандры рукой подать. Мог ли Пушкин отказать себе в удовольствии и не посетить Потоцкую, тем более что встреча с хорошим петербургским знакомым была весьма приятна и Софье? Ряд пушкинистов возможности встречи не отрицают. Если таковая действительно имела место, то, вне всяких сомнений, разговор между давними знакомыми снова заходил о «фонтане слез». На сей раз рассказ был воспринят Пушкиным совсем иначе, чем в Петербурге. Может быть, именно поэтому поэт посетил Бахчисарай и увидел знаменитый фонтан. Результатом этого посещения, как известно, стал шедевр пушкинской лирики — поэма «Бахчисарайский фонтан». Так кому посвятил поэт следующие строки поэмы:
Чью тень, о, други, видел я? Скажите мне, чей образ нежный Тогда преследовал меня Неотразимый, неизбежный? ……………………………….. Я помню столь же милый взгляд И красоту ещё земную; Все думы сердца к ней летят; О ней в изгнании тоскую…Из письма Пушкина брату Льву, написанного летом 1823 года: «… Я не желал бы её (поэму “Бахчисарайский фонтан”, — В.Ш.) напечатать потому, что много места относится к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру…»
Из письма Пушкина Дельвигу: «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К*** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larms (фонтан слез. — В.Ш.)».
При этом загадочная К*** значится в двух дошедших до нас черновиках этого письма. Загадка «К***» волнует пушкинистов уже много лет. Одни утверждают, что К*** — это Екатерина Николаевна Раевская, другие резонно сомневаются, что Пушкин с его чувством слова не мог написать: «К/атерина/ поэтически описывала…» Третьи предполагают, что К*** — это графиня Н.В. Кочубей, не имеющая никакого отношения ни к пребыванию Пушкина в Крыму, ни к Бахчисарайскому фонтану. Куда логичнее предположить, что таинственная К *** — это не кто иная, как Софья Киселева (Потоцкая). Так как письмо было написано в 1824 году, то Софья к этому времени уже три года была замужем за генералом Киселевым, и вполне естественно, что Пушкин обозначает её в письме не литерой «П» (Потоцкая), а литерой «К» (Киселева).
Известный пушкиновед Л. Гроссман был твёрдо убежден, что «Бахчисарайский фонтан» писался именно о Потоцкой и для Потоцкой.
Какова же была дальнейшая судьба Софьи Потоцкой? Выйдя замуж за Киселева, она несколько лет была счастлива в браке. Но потом начались неурядицы. У красавца-генерала всё время имелись многочисленные романы на стороне, в том числе якобы и с её сестрой Ольгой. Софья от этого будет сильно страдать, а потому уедет в Европу, где будет много путешествовать. Находясь во Франции, она выполнит одно тайное и весьма деликатное поручение — разумеется, по просьбе своего сводного брата. С мужем Софья так официально и не разведётся, хотя жить вместе они никогда не будут. Это, однако, не помешает продолжению дружбы Ивана де Витта с Киселевым. Умерла Софья Киселева (Потоцкая) в весьма преклонных годах в полном одиночестве в Париже в 1875 году.
Что касается другой сводной сестры де Витта Ольги, которая, по мнению пушкиноведов, «унаследовала распущенность и страстность матери», то она почти одновременно с Софьей выйдет замуж за генерал-адъютанта Льва Нарышкина, двоюродного брата генерал-губернатора Новороссии графа Воронцова. Однако это нисколько не помешает ей иметь многочисленных любовников.
В это время российская знать активно приобретает и обустраивает имения на южном берегу Крыма. После смерти Софьи Потоцкой (матери) в 1822 году её массандровская дача «Богоданная» перешла по наследству к младшей Ольге. При Ольге Нарышкиной уже в 1824 году в нижней Массандре начинает закладываться парк. Тогда же нижнюю часть Ореанды купил начальник Балаклавского батальона Феодосий Ревелиотти и начинал разводить здесь виноград. В середине 1824 года он продал их за 30 тысяч рублей камергеру Александру Кушелеву-Безбородко. Это имение, как значится в купчей, «между деревнями Аутка и Гаспра, именуемое Ореандою, состояло из диких садовых фруктовых деревьев, дровяного леса, хлебопашной земли, вокруг было обнесено плетнем».
Однако в 1828 году Ольга продает своё имение знаменитой графине Александре Васильевне Браницкой, племяннице Потемкина и матери Елизаветы Воронцовой.
Верхнюю Ореанду тем временем обустраивал Иван Осипович (среди краеведов Крыма его поместье так и именуется — «Ореанда-Витта»). В усадьбе генерала помимо небольшого дома были высажены кипарисовый парк и тисовые аллеи с красивыми ротондами, а также был прекрасный вид на живописную гору Хачла-Каясы. Ближайшим соседом генерала был фельдмаршал Дибич, тоже купивший землю в Верхней Ореанде.
Тем временем Иван Осипович де Витт продолжает заниматься не только обустройством своего крымского имени, но и развитием вверенных ему военных поселений. Из биографии генерала: «В короткий промежуток времени Витту удалось достичь того, что весь фураж и половина провианта стали получаться с поселенной земли. За быстрое достижение такого результата ему был пожалован орден Святого Владимира 2-й степени. В августе 1820 года император Александр вторично делал смотр Бугской дивизии, и 8 августа графу Витту был пожалован орден Святого Александра Невского и были объявлены Высочайшие благодарность и удовольствие. В октябре 1823 года дивизия Витта принимала участие в маневрах в присутствии Государя. После высочайшего смотра 17 октября Витт за “успехи в начальном устройстве военного поселения” был награжден орденом Святого Владимира 1-й степени и назначен командиром 3-го Резервного кавалерийского корпуса, в состав которого входили 3-я Уланская и 3-я Кирасирская дивизии».
Возможно, у читателя может сложиться мнение, что награды на графа сыпались как из рога изобилия. На самом деле это было не так. Император Александр всегда награждал за конкретные дела, а таковые, как мы видим, у де Витта действительно были. Генерал показал себя как прекрасный кавалерийский военачальник. Два высочайших смотра только что сформированной (и ещё недавно бунтовавшей!) дивизии получили наивысшую оценку. Кроме того, де Витт показал себя как прекрасный хозяйственник и администратор. Говоря современным языком, он минимизировал затраты на свою кавалерию и самостоятельно, не забираясь в карман к государству, решал вопросы обеспечения её фуражом и продуктами. О таком руководителе можно только мечтать! А потому согласимся, что и ордена и назначение на новую вышестоящую должность вполне закономерны.
При этом, доверяя де Витту, император всё же старался иметь на юге страны собственных независимых информаторов. Из письма генерала Киселева генералу Рудзевичу: «Князь Мещерской именным указом откомандирован к графу Витту для особых поручений. Гусь порядочный и который недаром к нам возвращается».
Рудзевич 15 января 1822 года отвечал: «Князь Мещерский попал в теплое место, и я согласен с Вами, что может быть, и поручено ему иметь за деяниями нашими секретный надзор».
Оба эти письма достаточно любопытны. Итак, князь Мещерский направлен из столицы в Южную армию, чтобы присматривать за тамошним генералитетом. На месте князя определяют порученцем к де Витту. Здесь могло быть два варианта. Мещерского специально определили именно к де Витту, чтобы он помогал в тайной работе генералу. Или же Витгенштейн с подачи своего ближайшего окружения оправил его к де Витту, чтобы уже тот держал «порядочного гуся» из столицы на коротком поводке. Как бы то ни было, но ясно, что обстановка в верхних эшелонах Южной армии была весьма непростая. Центр явно не доверял южанам и проверял их на благонадежность.
Отметим, что 3-й Резервный кавалерийский корпус составлял главный стратегический резерв направленной против Турции Южной армии, и назначение его командиром следует оценить как большое доверие императора к полководческим качествам де Витта. Однако помимо назначения генерала корпусным командиром никто с него не снимал и руководства поселенными делами, так что дел де Витту хватало с избытком.
Отметим ещё одну деталь в биографии нашего героя. В отличие от большинства других начальников, которых просто назначали на какие-либо уже существующие должности, у де Витта всё обстояло совершенно иначе. Ему почти всегда предлагали вначале создать то или иное соединение (бригаду, дивизию, корпус) практически на пустом месте, и только потом, уже после его создания, вступить в командование.
Однако и это не всё. В том же, 1823 году Александр I назначил де Витта управляющим недавно созданным в Одессе Ришельевским лицеем. Похоже, император считал, что как администратор и хозяйственник де Витт может решить любую поставленную ему задачу.
Из официального документа: «При этом лицей должен был изъят из ведения попечителя Харьковского университета и граф Витт по делам его должен был сноситься непосредственно с министром духовных дел и народного просвещения». Кроме того, ему же были переданы обязанности председателя правления лицея, до того исполнявшиеся одесским губернатором.
Управляющим Ришельевским лицеем де Витт пробыл целых семь лет. Историки по-разному оценивают его деятельность на этом посту. Одни утверждают, что при нём лицей дошел до крайней степени упадка, другие, наоборот, считают этот период наиболее знаменательным в истории лицея, именуя его не иначе как «пушкинским», так как именно в этот период Пушкин жил в Одессе и неоднократно бывал в городском лицее. Истина, думаю, как всегда, где-то посредине. Разумеется, что де Витт не мог ежедневно заниматься лицейскими делами, ведь он одновременно командовал целым кавалерийским корпусом, да ещё и поселенными войсками с селеньями, семьями и бесконечными хозяйственными делами.
Впрочем, с пребыванием де Витта в стенах Ришельевского лицея не всё так просто. Дело в том, что лицей создавался как закрытое масонское общество. Практически все преподаватели лицея являлись масонами (некоторые, причем, весьма влиятельными!). При этом программа лицея была построена так, чтобы из лицеистов готовить будущих адептов масонских лож. Поэтому «внезапное» назначение де Витта шефом масонского гнезда всего Юга России было далеко не случайным. Главной негласной задачей де Витта при этом назначении было искоренение масонства, как в Одессе, так и в лицее в частности.
Отметим, что у де Витта установились прекрасные личные отношения с директором Ришельевского лицея И.С. Орлаем. Сын последнего Михаил Орлай (кстати, хорошо знавший Пушкина по совместным занятиям музыкой в классе де Фергюсона) по окончании лицея избрал военную службу и всё время находился под опекой де Витта. Вначале генерал определил его в Украинский уланский полк, затем М. Орлай стал адъютантом командира 3-й Украинской уланской дивизии генерала Н.А. Столыпина, во время подавления польского восстания был под началом генерала в Киевском уланском полку, а после польского восстания в 1834 году стал адъютантом самого де Витта.
Биограф М. Воронцова О. Захарова в своей книге «Генерал-фельдмаршал светлейший князь М.С. Воронцов» пишет: «В отсутствие М. Воронцова в Одессе, как указывают современники, плелись против него интриги, центром которых было общество, собиравшееся в доме Л.А. Нарышкина. Многие знали, что негласно (!?) направляет эти интриги инспектор всей поселенческой кавалерии граф И.О. Витте (так в тексте. — В.Ш.)».
Увы, но в данном случае перед нами очередной «ушат грязи» на генерала-разведчика. До сих пор ни одно из огульных обвинений де Витта в его интригах против графа Воронцова (граф якобы мечтал занять кресло генерал-губернатора) документально не подтверждается. Зачем было де Витту интриговать против своего ближайшего друга, соратника и родственника? В опровержение вышесказанного приведем один факт. На протяжении достаточно долгого времени два раза в неделю М. Воронцов принимал посетителей в доме графа Потоцкого, где до постройки собственного дома проживал Иван Осипович. При этом генералы неизменно всегда вместе обедали и с удовольствием проводили время в обществе друг друга. Нюанс весьма примечательный и подчеркивающий весьма близкие доверительные отношения между бывшими сослуживцами и боевыми соратниками. При взаимной вражде такое тесное общение было вряд ли возможно.
В трудах одесского историка А. А. Скальковского есть упоминание, что болгары, «поселенные близ города на земле генерала де Витта, занимали изначально часть площади — будущей дачи начальника военных поселений края И. Витта, района будущей улицы Колонистской на Бугаевке».
Периодически, до самой своей смерти, де Витта посещала его мать Софья, совершавшая «инспекционные поездки» по детям. Так, летом 1918 года она вначале посетила сына в Вознесенске, а потом отправилась в Петербург к находившейся там дочери Софье. У генерала Киселева наезды тещи восторга не вызывали. Из письма Киселева генералу Рудзевичу от 20 августа 1818 года: «…Что делает граф Витт и где он? Мать его здесь кумит, и я принужденным нашелся быть у неё и браниться…» Надо понимать, что «прекрасная фанариотка» обладала достаточно твердым характером и имела свой взгляд на семейную жизнь, а потому и выясняла на повышенных тонах отношения с зятем.
Из письма Киселева генералу Рудзевичу: «За несколько часов перед отъездом в Москву получил письмо от графини Потоцкой, которым необходимо требует приезда нашего в Берлин, где она ныне находится в безнадежном состоянии. Я отправил по эстафете просьбу в Вену и ожидаю дней через 20 ответ, дабы отъехать за границу на 4 месяца». Киселев с женой так и не успели к постели умирающей. Софья Константиновна Потоцкая умерла, так и не дождавшись дочери.
А уже в феврале 1823 году в Умани был объявлен фамильный сбор Потоцких для раздела имения матери. На сборе присутствовал Иван де Витт, Киселев с супругой Софьей и Нарышкин с супругой Ольгой. Нюансы этого сбора наследников нам не известны. Ясно одно, что все обошлось достаточно мирно: имения и земли были поделены по справедливости.
Вскоре после возвращения де Витта, Киселевых и Нарышкиных из Умани во 2-й армии произошло событие, наделавшее много шума. Впервые в истории российской армии генерал вызвал генерала на дуэль и исход этой дуэли оказался трагическим. Де Витт не имел непосредственного отношения к этой дуэли. Однако он прекрасно знал всех участников данного происшествия и всю его подоплеку. Кроме того, один из участников этой трагедии, как мы знаем, приходился ему шурином, и сестра де Витта в результате дуэли едва не осталась вдовой. По этой причине всеми нюансами дуэли Иван Осипович весьма интересовался и сопереживал её участникам. В отечественной мемуаристике это весьма нерядовое событие представлено воспоминаниями Н.В. Басаргина. Вот что он писал: «В 1823 году случилось происшествие, породившее много толков и наделавшее много шуму в своё время. Это дуэль генерала Киселева с генералом Мордвиновым; я в это время был адъютантом первого и пользовался особенным его расположением».
Дело было во 2-й армии. Одесским пехотным полком командовал подполковник Ярошевицкий, «человек грубый, необразованный, злой». Офицеры полка, возненавидевшие своего командира, бросили между собой жребий, и тот, на кого пал жребий, штабс-капитан Рубановский, во время дивизионного смотра публично нанес Ярошевицкому грубое оскорбление. Это был бунт, событие исключительное — обычно, если между офицерами полка и командиром возникал конфликт, дело не доходило до публичных оскорблений, в крайнем случае офицеры могли всем полком подать в отставку, сказаться больными, и после такого афронта заботой старших начальников было или убрать полкового командира, или образумить офицеров. Назначили следствие. Рубановского сослали в Сибирь, Ярошевицкого убрали (нельзя же было оставить во главе полка человека, которого перед строем подчиненный «бил по роже»!). При этом выяснилось, что командир бригады генерал Мордвинов знал о заговоре в Одесском полку, но «вместо того, чтобы заранее принять какие-то меры, он, как надобно полагать, сам испугался и ушел ночевать из своей палатки (перед самым смотром войска стояли в лагере) в другую бригаду».
Генерал П.Д. Киселев, бывший начальником штаба армии, «объявил генералу Мордвинову, что он знает всё это и что, по долгу службы, несмотря на их знакомство, он будет советовать графу, чтобы удалили его от командования бригадой». Так и сделалось: Мордвинов лишился бригады и был назначен состоять при дивизионном командире в другой дивизии. Тем дело казалось оконченным. Но неприятели Киселева, а он имел их много, в том числе генерала Рудзевича (корпусного командира), настроили Мордвинова против Киселева, и тот полгода спустя пришел к нему требовать удовлетворения за нанесённое будто бы ему оскорбление отнятием бригады.
«В главной квартире никто не подозревал неудовольствия Мордвинова относительно Киселева, — продолжает Н.В. Басаргин. — Будучи адъютантом последнего, я часто замечал посланных от первого с письмами, но никак не думал, чтобы эти письма заключали в себе что-нибудь особенное.
В один день, когда у Киселева назначен был вечер, я прихожу к нему обедать вместе с Бурцовым и опять вижу человека Мордвинова, дожидающегося ответа на отданное уже письмо. Эти частые послания показались мне странными, и я заметил об этом Бурцову.
Пришедши в гостиную, где находилась супруга Киселева и собрались уже гости, мы не нашли там генерала, но вскоре были позваны с Бурцовым к нему в кабинет. Тут показал он нам последнее письмо Мордвинова, в котором он назначал ему местом для дуэли местечко Ладыжин, лежащее в 40 верстах от Тульчина, требовал, чтобы он приехал туда в тот же день, взял с собою пистолеты, но секундантов не брал, чтобы не подвергнуть кого-либо ответственности.
Можно представить себе, как поразило нас это письмо. Тут Киселев рассказал нам свои прежние переговоры с Мордвиновым и объявил нам, что он решился ехать в Ладыжин сейчас, после обеда, пригласив Бурцова ему сопутствовать и поручив мне, в том случае, если он не приедет к вечеру, как-нибудь объяснить его отсутствие.
Войдя с нами в гостиную, он был очень любезен и казался веселым, за обедом же между разговором очень кстати сказал Бурцову, что им обоим надобно съездить в селение Клебань, где находился учебный батальон, подкурить офицеров за маленькие неисправности по службе, на которые жаловался ему батальонный командир.
Встав из-за стола, простясь с гостями и сказав, что ожидает их к вечеру, он ушел в кабинет, привел в порядок некоторые собственные и служебные дела и потом, простившись с женою, отправился с Бурцовым в крытых дрожках. Жена его ничего не подозревала.
Наступил вечер, собрались гости, загремела музыка и начались танцы. Мне грустно, больно было смотреть на веселившихся и особенно на молодую его супругу, которая так горячо его любила и которая, ничего не зная, так беззаботно веселилась. Пробило полночь, он ещё не возвращался. Жена его начинала беспокоиться, подбегала беспрестанно ко мне с вопросами о нём и, наконец, стала уже видимо тревожиться. Гости, заметив её беспокойство, начали разъезжаться; я сам ушел и отправился к доктору Вольфу, всё рассказал ему и предложил ехать со мной в Ладыжин. Мы послали за лошадьми, сели в перекладную, но, чтобы несколько успокоить Киселеву, я заехал наперед к ней, очень хладнокровно спросил у неё ключ от кабинета, говоря, что генерал велел мне через нарочного привезти к нему некоторые бумаги. Это немного её успокоило, я взял в кабинете несколько белых листов бумаги и отправился с Вольфом.
Перед самым рассветом мы подъезжали уже к Ладыжину, было ещё темно, вдруг слышим стук экипажа и голос Киселева: “Ты ли, Басаргин?” И он, и мы остановились. “Поезжай скорее к Мордвинову, — сказал он Вольфу, — там Бурцов; ты же садись со мной, и поедем домой”, — прибавил он, обращаясь ко мне.
Дорогой он рассказал мне всё, что произошло в Ладыжине. Они приехали туда часу в шестом пополудни, остановились в корчме, и Бурцов отправился к Мордвинову, который уже дожидался их. Он застал его в полной генеральской форме, объявил о прибытии Киселева и предложил быть свидетелем дуэли. Мордвинов, знавший Бурцова, охотно согласился на это и спросил, как одет Киселев. “В сюртуке”, — отвечал Бурцов. “Он и тут хочет показать себя моим начальником, — возразил Мордвинов, — не мог одеться в полную форму, как бы следовало!”
Место поединка назначили за рекою Бугом, окружающей Ладыжин. Мордвинов переехал на пароме первый, потом Киселев и Бурцов. Они молча сошлись, отмерили 18 шагов, согласились сойтись на 8 и стрелять без очереди. Мордвинов попробовал пистолеты и выбрал один из них (пистолеты были кухенрейтерские и принадлежали Бурцову). Когда стали на места, он стал было говорить Киселеву: “Объясните мне, Павел Дмитриевич…”, но тот перебил его и возразил: “Теперь, кажется, не время объясняться, Иван Николаевич; мы не дети и стоим уже с пистолетами в руках. Если бы вы прежде пожелали от меня объяснений, я не отказался бы удовлетворить вас”. — “Ну, как вам угодно, — отвечал Мордвинов, — будем стреляться, пока один не падет из нас”.
Они сошлись на восемь шагов и стояли друг против друга, спустя пистолеты, выжидая каждый выстрел противника. “Что же вы не стреляете?” — сказал Мордвинов. “Ожидаю вашего выстрела”, — отвечал Киселев. “Вы теперь не начальник мой, — возразил тот, — и не можете заставить меня стрелять первым”. — “В таком случае, — сказал Киселев, — не лучше ли будет стрелять по команде. Пусть Бурцов командует, и по третьему разу мы оба выстрелим”. — “Согласен”, — отвечал Мордвинов.
Они выстрелили по третьей команде Бурцова. Мордвинов метил в голову, и пуля прошла около самого виска противника. Киселев целил в ноги и попал в живот. “Je suis blesse”, — сказал Мордвинов. Тогда Киселев и Бурцов подбежали к нему и, взяв под руки, довели до ближайшей корчмы. Пуля прошла навылет и повредила кишки. Сейчас послали в местечко за доктором и по приходе его осмотрели рану; она оказалась смертельною.
Мордвинов до самого конца был в памяти… Вольф застал его в живых, и он скончался часу в пятом утра…
Приехавши в Тульчин, Киселев сейчас передал должность свою дежурному генералу, донес о происшествии главнокомандующему, находившемуся в это время у себя в деревне, и написал государю. Дежурный генерал нарядил следствие и распорядился похоронами. Следствие было представлено по начальству императору Александру.
Киселев в ожидании высочайшего решения сначала жил в Тульчине, без всякого дела, проводя время в семейном кругу… и, наконец, получил от генерала Дибича, бывшего тогда начальником Главного штаба, письмо, в котором тот извещал его, что государь, получив официальное представление его дела, вполне оправдывает его поступок и делает одно только замечание, что гораздо бы лучше было, если бы поединок был за границей».
Разумеется, все симпатии Н.В. Басаргина (как и де Витта, да и подавляющего большинства генералитета) были на стороне Киселева. Однако в многочисленных тогдашних спорах об этой дуэли многие защищали и Мордвинова (в том числе и Пушкин), считая его поступок вызовом «честолюбивому карьеристу и выскочке» Киселеву.
ЯВЛЕНИЕ КАРОЛИНЫ
Настало время рассказать ещё об одной героине нашего повествования. Жизнь этой женщины до сих пор окружена покровом таинственности. Имя её неотделимо от пушкинской эпохи. Красавица, влюблявшая в себя великих поэтов и полководцев, она отличалась умом и расчётливостью, смелостью и предприимчивостью. Участница великосветских салонов, она была в то же время и талантливой разведчицей. Звали эту удивительную женщину Каролиной Собаньской. Если Иван де Витт — главный герой нашего повествования, то Каролина Собаньская — главная героиня, а потому присмотримся к ней поближе.
Прадедом Каролины Ржевусской со стороны отца был воевода подольский и гетман граф Вацлав Ржевусский, известный поэт и писатель; сын его (дед Каролины) Станислав-Фердинанд был австрийским фельдмаршалом. Одним из предков Каролины был печально знаменитый польский князь Иеремия Вишневецкий (1612–1651), прославившийся жестоким подавлением казацких восстаний. В числе её предков были представители других польских магнатских родов: Мнишеки, Любомирские, Радзивиллы.
Что касается отца нашей героини, то Адам Станиславович Ржевусский много лет являлся киевским губернским предводителем дворянства, имел чин тайного советника и к концу жизни стал сенатором. Не был чужд граф и масонству, являясь несколько лет великим мастером петербургской Великой ложи Астрея. Несмотря на знатность происхождения, род Ржевусских не мог похвастаться особым богатством. Матерью нашей героини была Юстиния Рдултовская. История происхождения Каролины Собаньской удивительно схожа с историей происхождения Ивана де Витта! На исходе XVII века некий польский шляхтич Адам Ржевусский женился на освобожденной из турецкого рабства гречанке Юстинии. Как не вспомнить здесь романтичную женитьбу майора Иосифа де Витта на юной Софье Клавон!
У графа Адама Ржевусского и Юстинии Рдултовской помимо Каролины-Розалии-Теклы было ещё три сына: Адам, впоследствии генерал от кавалерии и генерал-адъютант, Генрих — камер-юнкер, приятель Мицкевича, известный польский писатель и романист, автор нескольких исторических романов о быте крупного польского шляхетства, Эрнест — полковник казачьих войск, впоследствии бердичевский уездный предводитель дворянства, и три дочери: Эвелина, вышедшая замуж за Вацлава Ганьского, Паулина, вышедшая замуж за помещика и хлеботорговца Ризнича, и Александра, вышедшая замуж за помещика Монюшко.
Красота всех сестер Ржевусских была настолько ослепительна, что современники в один голос именовали её «неслыханной». Однако помимо красоты сестры обладали мужским складом ума, предприимчивостью, любовью к самым опасным авантюрам и врожденной страстью к тайным делам. Надо ли говорить, что пути сестер Ржевусских и де Витта обязательно должны были пересечься, ведь они были одной крови!
Графиня Каролина Ржевусская получила хорошее образование и светское воспитание, прожив в детстве некоторое время у тетки графини Розалии Ржевусской, имевшей блестящий салон в Вене. Анна Ахматова, которая относилась к Королине с большой неприязнью, всё же вынуждена была признать: «У Собаньской был прекрасный голос — она чудесно пела и имела прозвище — демон…» Отметим, что помимо прекрасного голоса Каролина прекрасно музицировала и увлекалась коллекционированием автографов знаменитостей.
Историк Роман Белоусов пишет: «Юную Каролину выдали замуж за Иеронима Собаньского, который был на тридцать с лишним лет старше. Отныне её стали называть “пани Иеронимова из Баланувки”. Скучная провинциальная жизнь и роль жены предводителя дворянства Ольгополевского повята её никак не устраивала. На Каролину большое влияние оказала её тётка Розалия. Биография тетушки Каролины сама по себе примечательна. Она была известной авантюристкой и даже пробыла несколько месяцев в тюрьме. Впоследствии стала женой знаменитого Вацлава Ржевусского, одержимого страстью к Востоку, прозванного “эмир Тадзь уль-Фехр” и воспетого Мицкевичем и Словацким. Некоторое время Лолина жила у этой тётки в Вене. Тогда салон графини Розалии, вспоминал современник, “слыл первым в Европе по уму, любезности и просвещению его посетителей”. Здесь Лолина многому научилась, играла для гостей на фортепьяно, постигала искусство красноречия, в чём потом не знала себе равных. Впрочем, этот дар она получила скорее в наследство от отца, имя которого вошло в поговорку: “С Радзивиллом пить, с Огиньским — есть, с Ржевусским — беседовать”.
В блестящем салоне графини Розалии, помимо искусства вести беседу, Каролина овладела умением слушать, ибо уши, внушала ей тётка, служат не только для того, чтобы выслушивать любовные клятвы. Так же, как уста женщины служат не только для поцелуев, а глаза не только, чтобы смотреть в лицо любимому. “На свете есть много вещей, достойных того, чтобы их видеть, слышать, говорить о них", — нашептывала “страшная тетка” (так прозвали её в семье за несносный характер и за мрачные легенды, окружавшие её имя). Молодой податливый ум быстро впитывал подобные наставления, не придавая ещё им большого значения».
По словам историка Л. Черейского, Каролина Собаньская была «одной из красивейших женщин своего времени, изящная и разносторонне образованная, тщеславная и ветреная…»
«…Она была высокого роста, её прекрасную фигуру с пышными плечами венчала головка, достойная Дианы, на божественной шее. О её необыкновенных огненных глазах, которые, раз увидев, невозможно было забыть, — вспоминал её современник Б.М. Маркевич. — Очи эти обжигали каким-то затаенным пламенем и, казалось, тайно сулили неземные радости».
Один из мемуаристов той эпохи вспоминает о Каролине, как об одной «из самых блестящих красавиц польского общества русского юга»… «Я помню её, — пишет Маркевич, — ещё в тридцатых годах в Киеве, в доме отца моего, — помню как теперь пунцовую бархатную току с страусовыми перьями, необыкновенно красиво шедшую к её высокому росту, пышным плечам и огненным глазам».
Историк Юрий Дружников пишет: «Поразительно, что портреты графини Каролины Собаньской — а они, по-видимому, существовали — считаются исчезнувшими. Это можно понять: поместья в России, замки польских магнатов разворовывались, горели в огне войн и революций. В специальной литературе имеется ссылка на фотографию с портрета Собаньской, сделанного А.В. Ваньковичем. “К сожалению, — пишет Р. Жуйкова, — местонахождения портрета и фотографии с портрета не известны”. Полтора десятка разных женских профилей, нарисованных Пушкиным на полях рукописей, называют в разных источниках профилями Собаньской. Впрочем, другие авторы соотносят эти же рисунки с иными разными подругами Пушкина. Между прочим, портрет её сестры Евы (Эвелины), который мы видели в парижском музее, даже отдаленно ничем не сходен с рисунками поэта.
Поиски изображения пани Каролины привели нас в Варшаву. Случайная удача и помощь польской коллеги Алиции Володзько: в Архиве фотодокументов варшавского Музея литературы им. Адама Мицкевича нашлась фотография с изумительного портрета немолодой женщины в роскошной раме. В музее нет сведений ни об оригинале, с которого сделано фото, ни о художнике, но имеется запись, что это Каролина Собаньская. На портрете ей лет сорок. Посадка головы, прямые нос и лоб, волосы удивительно похожи на рисунки, сделанные Пушкиным».
Красивая, хотя с несколько огрубевшими чертами лица в зрелых годах, прекрасно сложенная, обладавшая пленительным голосом, веселая, Каролина всегда была окружена самыми разнообразными поклонниками. Ещё юной девушкой, по настоянию отца, пытавшегося за счёт дочери поправить свои финансовые дела, Каролина была выдана замуж за пятидесятилетнего подольского помещика Иеронима Собаньского и имела от него дочь, но жила она с ним недолго. Родив дочь Кристину и сославшись на временное нездоровье, Каролина сумела получить от Подольской римско-католической консистории в 1816 году разрешение, впредь до выздоровления, жить отдельно от мужа, чем и не преминула воспользоваться. Впрочем, Иероним Собаньский не слишком горевал о бегстве своей красавицы жены. Его к тому времени уже увлекали новые романы. В 1825 году, после смерти своего отца, который был яростно против её ухода от Собаньского, Каролина добилась и официального развода. Причиной своего развода с нелюбимым мужем Собаньская открыто назвала новую страстную любовь.
Объектом этой страстной любви был не кто иной, как Иван де Витт. Мы не знаем обстоятельств знакомства генерала и молодой красавицы. Можно предположить, что произошло это вскоре после назначения графа начальником военных поселений Юга России в 1819 году. Вполне возможно, что Иван и Каролина встретились в Одессе, где генерал часто бывал по делам службы, а Каролина из-за коммерческих дел своего мужа хлеботорговца. К этому времени Иван де Витт, как мы уже знаем, давно не жил со своей бывшей женой Изабеллой и фактически был свободным мужчиной. Казалось бы, встретились два одиноких человека и полюбили друг друга, ну и что? Но нет, историки нашли в этом событии массу негатива!
Вот типичное повествование о любви Каролины Собаньской и Ивана де Витта: «Красавица сошлась со стариком-генералом графом Яном Виттом, начальником военных поселений Новороссийского края — карьеристом и доносчиком, расточительным бонвиваном, пополнявшим свои средства самым беззастенчивым казнокрадством. С ним она сожительствовала около двадцати лет. Фактически Собаньская находилась на содержании у графа Витта, что не мешало ей иметь множество любовников».
Во-первых, почему де Витта упорно все время называют стариком? В 1819 году, когда генерал влюбился в Каролину, ему было всего 38, а ей 25. Разница в возрасте у них была всего 13 лет, какой уж тут старик! Увы, до сих пор все, что касается любви Ивана и Каролины, вызывает у историков раздражение, отсюда и нескончаемой поток бездоказательной грязи. Де Витт у них всегда исключительно карьерист и доносчик, расточительный бонвиван, беззастенчивый казнокрад.
Вот, к примеру, пушкиновед М. Яшин пишет: «Витт, делец, перебежчик, авантюрист, дипломатический интриган, отличался тонкостью ума и проницательностью. Внешне тактичный и весёлый, он умел лавировать среди сильных мира сего и извлекать пользу из малейшей необдуманности своих высоких покровителей. Полицейская хитрость и провокаторская ловкость помогали ему быть в курсе всех событий — и далеко не ради защиты интересов русской монархии». Словом, просто гад отпетый…
Собаньскую пушкиноведы тоже не жалуют. Чаще всего говорить про неё вообще избегают. А ежели упомянут — ничего хорошего не услышишь. Либерал Ю.М. Лотман пишет: «Красавица из образованной семьи, но любовница и политический агент генерала Витта, личности в высшей степени непривлекательной».
При этом Каролина жила с де Виттом вначале в гражданском браке, потом, после венчания, в законном. Но при всём старании историков у них нет ни одного документального свидетельства о «множестве любовников» Каролины Собаньской. То, что Каролина при огромном количестве влюблённых в неё мужчин держалась с ними весьма достойно и не позволяла никаких вольностей, оставаясь верной де Витту, характеризует её не как «ветреную особу», а как волне порядочную и серьезную женщину, нашедшую настоящую любовь.
После бегства бывшего мужа Каролины Иеронима Собаньского с небезызвестной Амалией Ризнич в Италию муж последней, хлеботорговец Иван Ризнич, нашёл сердечное участие в семье Ивана и Каролины. Благодарный Ризнич давал в честь Каролины пышные обеды, и его дом превратился в своеобразный филиал её салона. Разумеется, никакого романа между Ризничем и Каролиной не было и быть не могло. Пройдет немного времени — и Каролина и Иван Осипович помогут устроить личную жизнь другу своей семьи. Что же касается де Витта, то он откровенно не жалел денег на свою избранницу, а потому на зависть всем дамам местного света Каролина всегда была одета лучше всех. Современники не без основания звали её одесской Клеопатрой. Де Витт преподнёс своей любимой женщине поистине царский подарок — 15 тыс. десятин земли. Ныне эта местность является известным одесским курортом и по-прежнему носит имя своей прекрасной владетельницы — Каролина-Бугаз.
До сих пор самым авторитетным историческим документом светской жизни Одессы в 20-х годах XIX века являются воспоминания чиновника канцелярии графа Воронцова Ф. Вигеля. Заранее прошу прощения у читателей за весьма пространную цитату, но она как нельзя лучше дает представление о нравах одесского высшего света той эпохи. При этом весьма любопытны характеристики, данные Вигелем Каролине Собаньской, де Витту, его сводным сестрам и другим участникам тех событий. Однако, читая воспоминания Ф. Вигеля, надо понимать, что писались они достаточно желчным, завистливым и откровенно завидовавшем богатству окружавших его людей человеком.
Итак, предоставляем слово Ф. Вигелю: «Исключая двух многоречивых графов (Палена и Лаюкерона), было тогда ещё в Одессе два высокочиновных графа. Графа Северина Потоцкого и графа Витта знал я уже за четыре года перед, изобразил их, но тут только с ними познакомился. Все вместе составляли не только сиятельную, но, по мнению моему, в разных родах блестящую четверку. Все ко мне казались отменно благосклонны, только Пален и Ланжерон с некоторой стороны не совсем баловали меня: каждый из них по одному только разу удостоил меня своим посещением. Граф же Потоцкий, погулявши пешком, часто заходил ко мне отдохнуть и побеседовать. Витт делал то же, но только реже.
Причиною особого ко мне благоволения Витта была незаконная связь его с одною женщиною и ею мне оказываемая приязнь. Каролина Адамовна Собаньская, урожденная графиня Ржевусская, разводная жена, составила с ним узы, кои бы легко могли быть извиняемы, если хотя бы немного прикрыты тайной. Сколько раз видели мы любовников, пренебрегающих законами света, которые покидают его и живут единственно друг для друга. Тут ничего этого не было. Напротив, как бы гордясь своими слабостями, чета сия выставляла их напоказ целому миру. Сожитие двух особ равного состояния предполагает ещё взаимность чувств: Витт был богат, расточителен и располагал огромными казенными суммами; Собаньская никакой почти собственности не имела, а наряжалась едва ли не лучше всех и жила чрезвычайно роскошно, следственно, не гнушалась названием наёмной наложницы, которое иные ей давали. Давно уже известно, что у полек нет сердца, бывает только тщеславный или сребролюбивый расчет да чувственность. С помощию первого завлекая могучих и богатых, приобретают они средства к удовлетворению последней. Никаких нежных чувств они не питают, ничто их не останавливает; сами матери совесть, стыд истребляют в них с малолетства и научают их только искусству обольщать.
Так сужу я ныне, и мне кажется это довольно гадко; но тогда, ослепленный привлекательностью Собаньской, я о том не помышлял. Ей было уже лет под сорок, и она имела черты лица грубые; но какая стройность, что за голос и что за манеры! Две или три порядочные женщины ездили к ней и принимали у себя, не включая в то число графиню Воронцову, которая приглашала её на свои вечера и балы единственно для того, чтобы не допустить явной ссоры между мужем и Виттом; Ольга же Нарышкина-Потоцкая, хотя по матери и родная сестра Витту, не хотела иметь с ней знакомства; все прочие также чуждались её. В этом унизительном положении какую твердость умела она показывать и как высоко подыматься даже над преследующими её женщинами!
Мне случалось видеть в гостиных, как, не обращая внимания на строгие взгляды и глухо шумящий женский ропот негодования, с поднятой головой она бодро шла мимо всех прямо не к последнему месту, на которое садилась, ну, право, как бы королева на трон. Много в этом случае помогали ей необыкновенная смелость (ныне её назвал бы я наглостию) и высокое светское образование…
…Имея от Витта обещание жениться на ней, она заблаговременно хотела пользоваться правами супруги; он же просил о разводе с законной женой, которая тому противилась, и с её же согласия тайно старался длить тяжбу по этому делу. У Собаньской было много ума, ловкости, хитрости женской и, по-видимому, самый верный расчет; но был ли в ней рассудок? Вся жизнь её прежде и после доказывала противное. Блестящая сторона её поразила мой ум, но отнюдь не проникла в сердце; а как к удивлению, которое производят в нас женщины, всегда примешивается несколько нежности, то и сочтено это страстию; дамы жалели обо мне, а я внутренне тем забавлялся. Я так много распространился об этой женщине, во-первых, потому, что она была существо особого рода, и потому ещё, что в доме её находил большую отраду. Из благодарности питал я даже к ней нечто похожее на уважение; но когда несколько лет спустя узнал я, что Витт употреблял её и сериозным образом, что она служила секретарем сему в речах столь умному, но безграмотному человеку и писала тайные его доносы, что потом из барышей и поступила она в число жандармских агентов, то почувствовал необоримое от неё отвращение. О недоказанных преступлениях, в которых её подозревали, не буду и говорить. Сколько мерзостей скрывалось под щеголеватыми её формами!
…Жаль мне, что я обещал читателей моих познакомить с двумя курьезными созданиями, Кирико и Спада; но как быть, надо выполнить данное слово. Находившийся долго в Бухаресте генеральным консулом действительный статский советник Лука Григорьевич Кирико, армяно-католик, был просто человек необразованный и корыстолюбивый. Жена же его, смолоду красотка, всегда в обществе изумляла его совершенным неведением приличий, какою-то простодушною, детски-откровенною неблагопристойностию в речах и действиях. Она мыслила вслух, никогда не смеялась, зато всех морила со смеху своими рассказами. Худенькая, живая, огненная, беда, бывало, если кто её раздразнит; несмотря на то, мистификациям с ней конца не было. Из анекдотов об ней составилась бы книжица, но кто бы взялся её написать и какая цензура пропустила бы ее? Я позволю себе привести здесь два или три примера её наивного бесчинства. Описывая счастливую жизнь, которую вела она среди валахских бояр, говорила она мне, как и многим другим: “Все они были от меня без памяти, а как эти люди не умеют изъясняться в любви иначе как подарками, то и засыпали меня жемчугом, алмазами, шалями. Как же мне было не чувствовать к ним благодарности? Иным скрепя сердце оказывала ее; с другими же, которые мне более нравились, признаюсь, предавалась ей с восторгом”. Раз поутру у Собаньской сидели мы с Паленом; вдруг входит мадам Кирико, объявляет, что намерена провести тут целый день, и для того привезла с собою рукоделье. Живость разговора не позволила сперва заметить, в чем оно состояло; когда же Собаньская на столе увидела малиновое бархатное мужское исподнее платье, то почти с ужасом вскрикнула: что это такое, моя милая? “Да так, — отвечала она, — вы знаете, какой мерзкой скряга у меня муж; с трудом могла у него выпросить эту вещь; хочу её здесь распороть и выкроить из неё шпинцеры для дочерей”. С трудом могли её уверить, что это уже слишком бесцеремонно. Из этого можно посудить о прочих поступках сей нарядной, даже превосходительной шутихи, которая, впрочем, кое-как выучилась по-французски и давала у себя иногда вечера. Две миленькие скромные дочки её, Констанция и Валерия, перестали уже краснеть от её слов, а показывали вид, будто их не слышат. Вообще служила она публичным увеселением, но Собаньская как-то особенно умела ею овладеть.
…Тот, которого ставили ей в пару, был совсем иных свойств, чопорный, осторожный, размеряющий слова свои. Португальский жидок Спада мальчиком привезен был во Францию, крещен и воспитан у капуцинов, которые и постригли его монахом своего ордена. Во время революции все монастыри были уничтожены, и он явился в Россию светским человеком и эмигрантом. Он одарен был большою памятью, знал числа всех важных происшествий в мире, имена всех владетельных государей в Европе, предков их и родословную их фамилий; знал также наизусть множество стихов из французских классических сочинений. Хронологические таблицы не суть ещё история, и вытверженные стихи не доказывают ещё больших познаний в литературе, но и в тогдашнее время, и особенно в тогдашнем большом свете, всё это принято за ученость. Ему посчастливилось; за высокую цену в знатных домах находился он, то домашним секретарем, то чтецом, то библиотекарем, а более всего собеседником. Долее всего оставался он у князя Белосельского, которого дурные французские стихи он переписывал и выслушивал их с подобострастием. Разделяя мнения петербургского аристократического общества, как все челядинцы домов, его составляющих, смотрел он с презрением на просвещенных, независимых и даже богатых людей, к тому кругу не принадлежащих. По мере как науки и истинное просвещение начали проникать и в высший круг, ценность Спады, хотя и не плата ему, стала ниспадать. Под конец находился он при графе Кочубее, не знаю, в каком качестве, и отправился с ним в Крым и в Одессу. Кажется, наконец, надоел он всему семейству, ибо нашли средство благотворным образом освободиться от него. Для него создали в Одессе место цензора иностранной литературы, с довольно хорошим содержанием. Тут всё-таки мог он подышать аристократическом воздухом: было довольно графов и князей с европейским образованием. Он не чуждался также иностранных негоциантов, только самых богатых. Право дурачить его признавал он единственно в людях и женщинах, им знатными признаваемых, и некоторые из них пользовались им бесчеловечно. Малого роста, худенький, стянутый, всегда опрятно одетый фертик, он мог бы казаться молодым, если б глубокие морщины на лице и лысина во все пространство головы не обнаруживали его лет; к тому же и дыхание его было не весьма свежее. А он был чрезвычайно влюбчив и между тем по этой части довольно хвастлив. Мне случилось подслушать, как он Собаньской рассказывал сцену свою с графиней Кочубей. Увлеченный неодолимою страстию, один раз он пал к её ногам, когда никого не было в комнате; вдруг отворяется дверь, входит сам Кочубей, останавливается, с хладнокровием государственного человека говорит: “Меня это не удивляет, я давно того ожидал”, — и выходит вон. “Что ты сделал, — воскликнула графиня, — удались, несчастный, ты нас обоих губишь”. Если это была и правда, то уже наверно наперед приготовленная фарса. Его взяла с собой Воронцова, когда верст за сорок вместе с Ольгой Нарышкиной и Киселевой, сестрой её, она поехала навстречу мужу; его посадили в особую двухместную карету с весьма некрасивой горничною Ольги. По прибытии на место свидания, в ожидании, остановились они в довольно тесном помещении, куда горничная часто входила с видом смущенным, даже отчаянным. Её спросили о причине её горя, а она, указывая на Спаду, сказала: “Зачем вы меня сгубили, зачем так долго оставили наедине вот с этим известным соблазнителем?” С ним приняли вид грозный, укоризненный и стали называть человеком, во зло употребляющим доверенность своих знакомых. Тщетно клялся он и божился, почти плакал, уверяя, что во всю дорогу даже не глядел на нее. “Нет, нет, — отвечали ему, — она шляхтянка, следовательно, дворянка, и вас будут уметь заставить загладить ваш проступок и женитьбой возвратить честь вашей жертве”. Несчастный вопил, что эта мерзавка, конечно, влюбилась в него, к тому же хочет сделать выгодную партию. Несколько дней потом трепетал он при мысли сего совсем не аристократического союза.
Ольга Нарышкина, безжалостная, бессердечная, как все Потоцкие, поступала с ним иногда хуже. Прогуливаясь пешком, она по-приятельски заходила навестить его в опрятной, с некоторым кокетством убранной его квартирке. Желая будто ближе посмотреть на картинки, в ней развешанные, она с грязными ногами лазила на канапе, на кресла и, как бы ненарочно, раздирала материи, их покрывающие.
Забавные сии два существа, Кирико и Спада, ненавидели друг друга. Он с ужасом смотрел на неё, как на дикую женщину, она же видела в нём подлого шута, а Собаньская старалась приглашать их в одно время. Благодаря Палену, находился я в самом веселом расположении духа, и оттого сии карикатурные лица доставляли мне иногда минуты блаженства; во дни скорби я уверен, что без отвращения не мог бы я смотреть на них.
Из двух дам, о коих говорил я, описывая первое пребывание моё в Одессе, упомянул я лишь об одной, об Ольге Нарышкиной, о графине же Эделинг не сказал ни слова. Ту и другую встречал я только на вечерах у Пущиной. Последняя из братолюбия почитала обязанностию на меня коситься и мало со мною говорить. Александр Стурдза продолжал ото всей души ненавидеть меня за бессарабские дела.
Что касается до мужа Ольги, Льва Нарышкина, то он вел самую странную жизнь, то есть скучал ею, никуда не ездил и две трети дня проводил во сне. Она также мало показывалась, но, дабы не отстать от привычки властвовать над властями, в ожидании Воронцова, задумала пленить Палена и, к несчастию, в том успела. Из любви и уважения к нему никто не позволял себе говорить о сем маленьком его сумасбродстве.
…Владычество Ольги над Паленом не простиралось так далеко, чтобы поссорить его со мною, Я продолжал пользоваться правом один сидеть с ним в ложе. Никогда ещё не видали в Одессе столь славной итальянской труппы, как в это время, и никогда после подобной ей не бывало. Примадонна Амати была хороша, очень хороша, да и только. Двадцатилетняя же Морикони была чудесна, очаровательна и красотой лица, и стройностию тела, и искусством играть и петь, а паче всего голосом контральто, который, я уверен, с трудом бы найти и в самой Италии. Мужественная красота Дезиро совершенно ответствовала его голосу, густому басу, вместе с тем нежному и гибкому. Тенора Молинелли я только слушал, а не глядел на него; как можно было сочетать столь прелестный голос с таким гадким лицом, несносной игрой и подлой фигурой! Всё, что было для подставки, — было также весьма не худо. Россини был тогда во всём своем могуществе, соперников у него не было и, казалось, никогда не будет: оперы его, переведённые на все языки, игрались на всех театрах; в Одессе других тогда знать не хотели. Из бесчисленного их множества я назову только те, кои более других меня восхищали: Семирамиду, Танкреда, Отелло. После жестоких нервных страданий в продолжение лета 1827 года брал я в Керчи ванны из морской воды; тем много успокоились мои бедные нервы, и оставшееся в них легкое раздражение умножало только мои музыкальные наслаждения. Можно посудить, какие удовольствия доставлял мне тогда одесский театр.
Шумных удовольствий не было, и потому новый, 1828 год начался весьма тихо, может быть, приятно для тех, кои встретили его в кругу семейств своих и друзей; я же всю эту ночь провел в глубоком сне. Одна Ольга Нарышкина умела начать его забавным образом. Она созвала к себе на вечер всё общество своё. Все были костюмированы и замаскированы, и, между прочим, бедную Казначееву, толстую и кривобокую, нарядила она тирольским мальчиком. Муж, по обыкновению своему, в десять часов залег спать; но по условию между им и женою в полночь вся гурьба с шумом вошла в его спальню и заставила его встать с постели. Будто раздосадованный, будто спросонья, будто никого не узнавая, принялся он всех бранить; более всех досталось Казначеевой… На другой день рассказы об этой проделке занимали весь город.
Мог ли я ожидать, что эта знаменитая Ольга будет причиною поспешного моего отъезда из Одессы? Разговаривая с Паленом, раз заметил я ему, что ничего не нахожу в ней особенно привлекательного. “Это оттого, — сказал он с жаром, — что она не удостаивает вас своего внимания: займись она вами полчаса — и вы бы были у ног её”. Мне бы следовало замолчать, а я спросил: “Да полно, вы не влюблены в неё, граф?” — “Оно, может быть, и так, — отвечал он, — но только слишком нескромно спрашивать меня о том”. Он повернулся ко мне спиной и вдруг охладел ко мне. В целой Одессе я один не знал о его слабости; ибо никто мне о том не говорил, и я их вместе не видел. Это было в первой половине генваря».
В феврале 1825 года в Одессе появляется польский поэт Адам Мицкевич, сын Барбары Одаевской. Он сразу же безоговорочно влюбляется в Каролину Собаньскую. В стихах Мицкевич именует Каролину «ветреной красавицей с жемчужными зубками меж кораллов». Исследователь творчества Мицкевича пишет: «В его (Мицкевича. — В.Ш.) чувстве к ней (Каролине. — В.Ш.) ощущается то же любовное опьянение, судорожное и мучительное, о котором говорил Пушкин. Польский поэт скрывал имя Каролины под вымышленными инициалами DD и посвящал ей страстные и меланхолические элегии: “О, если б ты лишь день в душе моей была».
Мицкевич воспел Каролину в целом ряде стихотворений, отразивших всю гамму его чувств к ней. Здесь мы видим и робкую влюбленность (сонет «С собой говорю я, с другими немею»), и бурную страсть, и глубокую, отравленную сомнением любовь (элегия к Д.Д. «О, если б ты лишь день в душе моей была»), и беспечность («Когда в час весёлый откроешь ты губки», «Сонеты к Д. Д.», «Визиты. К делателям визитов»), и наконец, разочарование, презрение (сонет «Прощание». К Д. Д.).
Когда же Иван Осипович и Королина решают отправиться в своё именье в Ореанду, с ними напросился и Адам Мицкевич. Вместе с ними поехали брат Каролины Генрик Ржевусский и секретный сотрудник и личный друг де Витта А. К. Бошняк, которого представили Мицкевичу как натуралиста-любителя.
Александр Карлович Бошняк был исключительно талантливым человеком и настоящим патриотом России. Увы, имя его оболгано историками декабристского движения. В юности Бошняк числился в лейб-гвардии Конном полку одновременно с де Виттом и был с ним в дружеских отношениях. Однако затем он почему-то отказался от военной карьеры и поступил в Московский университет, затем служил в коллегии иностранных дел и в Московском архиве. В 1812 году состоял в Вятском ополчении, участвовал в боях. Затем перешёл в министерство внутренних дел, трудился в главном управлении мануфактур, являлся предводителем дворянства в Костромской губернии. С 1820 года Бошняк жил в Херсонской губернии, где состоял чиновником для особых поручений при де Витте. Имел классный чин коллежского советника, серьёзно увлекался литературой и ботаникой. Во время поездки Бошняк должен был приглядеться к Мицкевичу, узнать его политические взгляды и оценить степень его враждебности к России. Брат Собаньской Генрик Ржевусский, нашумевший когда-то польский романист, был на восемь лет старше Адама Мицкевича, с которым пребывал в дружбе, несмотря на разницу в положении: Ржевусский — богатый аристократ, а Мицкевич — провинциальный учитель. Польские историки считают, что Мицкевич оказал большое влияние на становлении Генрика как писателя. В то же время польский историк Анджей Слиш считал, что баллада Мицкевича «Слежка», в пушкинском переводе «Воевода», написана по сюжету, подаренному ему Ржевусским.
Днем Мицкевич вместе с Генриком бродили в горах. Каролина совершала недальние прогулки верхом на лошади. Де Витт и Бошняк занимались хозяйственными делами в ещё строящемся поместье. Вечером все вместе ужинали.
Биографы Мицкевича связывают все знаменитые крымские сонеты с именем Собаньской, особенно неоконченный сонет «Ястреб»:
Вспомни же и мою и свою собственную историю. Ведь и ты на море жизни видела страшные призраки, А меня далеко загнал вихрь, дождь вымочил крылья. Зачем же эти милые слова, изменчивые надежды? Сама в опасности, ты расставляешь сети другим…В Крыму Мицкевич навестил польского поэта Густава Олизара, который жил здесь отшельником. Олизар был влюблен в Марию Раевскую. Он и Пушкин в своё время были соперниками за её внимание. Когда Раевская отвергла Олизара, он поселился у подножия Аю-Дага. Один из биографов Мицкевича пишет: «Спустя некоторое время, за обедом у генерала Витта Мицкевич увидел натуралиста Бошняка в полковничьем мундире. Но Мицкевич, вероятно, ничего особенного не заметил или не хотел заметить, и даже посвятил своим милым спутникам сборник “Крымских сонетов”. Мицкевич ревновал Каролину, как мальчик. А когда она с легкостью изменила ему, поэтически проклял:
Чужой судьбою ты играешь из-за слова. Не купишь музы ты! Когда стихом своим Хотел тебя венчать я как венком лавровым, То стих мой каменел, став нём и недвижим.Утешением польского поэта могли стать другие Каролины, на которых ему больше везло. На протяжении всей своей жизни он любил трёх Каролин».
На самом деле вряд ли Бошняк мог заявиться на обед в полковничьем мундире, так как давно уже не служил в армии и никогда не был полковником (в это время он — коллежский советник), к тому же мундир у чиновников был совершенно иной, чем у офицеров. Трудно предположить, что Мицкевич мог «ревновать Каролину, как мальчик». К кому он её ревновал? К её фактическому мужу? Это совершенно глупо. К кому-то еще? Но Каролина не давала ни поэту, ни кому-нибудь иному никакой надежды. То что Мицкевич был влюблен, не вызывает сомнений, как не вызывает сомнений и то, что был он влюблен безответно, о чем, собственно, и пишет в своих стихах.
В ноябре 1825 года Мицкевич, так и оставшись для Каролины только милым и интересным собеседником, уехал из Одессы. Польские биографы поэта отмечают, что с Каролиной Адам расстался «с чувством, близким к негодованию, но не раз встречался он потом с нею».
Отдельный разговор — о младшем брате Собаньской Адаме Ржевусском. Свое образование он получил в Вене, где окончил курс в инженерной академии. Вернувшись в Россию в 1821 году, он, по настоянию де Витта, поступил юнкером в 1-й Украинский уланский полк, входивший в состав корпуса генерала. При этом, однако, большую часть времени он исполнял должность адъютанта у своего покровителя. Де Витт активно занимался карьерой младшего брата своей любимой женщины. На долгие годы Адам Ржевусский становится надежным и верным другом Ивану Осиповичу. 10 ноября того же года Адам был уже произведен в корнеты, а в апреле 1826 года — в поручики, с официальным назначением к командиру 3-го резервного кавалерийского корпуса де Витту. Чтобы обеспечить родственнику более хороший старт в карьере, спустя несколько месяцев генерал переводит своего адъютанта в лейб-гвардии Уланский полк, хотя тот по-прежнему фактически оставался его адъютантом.
Наши отечественные историки, как и многие современники Каролины, откровенно её не любят. В чем же провинилась Каролина Собаньская перед историками?
Первая её вина состоит в том, что она являлась женой Ивана де Витта, с которым у наших историков (и в первую очередь у историков декабристского движения) были свои счеты. При этом Каролину почему-то упорно именуют «любовницей де Витта». Хотя, как мы уже говорили, с самого начала их отношений Каролина являлась гражданской женой генерала, а потом и женой вполне законной. Вторая вина Каролины — это её участие в событиях, связанных с польским восстанием 1831 года. Наконец, третья вина — это её отношения с Пушкиным, который был влюблен в красавицу, но Каролина не ответила поэту взаимностью. Некоторых пушкинистов этот факт очень обижает. Впрочем, отношения поэта и Каролины, думается, были на самом деле несколько сложнее, чем о них принято писать.
ПОЭТ И КРАСАВИЦА
Отношения Пушкина и Собаньской — одна из вечно интригующих тем отечественной истории, к которой и историки, и литераторы возвращаются снова и снова. Что касается Пушкина, то, согласно одним предположениям, он познакомился с Каролиной Собаньской ещё в Петербурге, сразу попав под обаяние её красоты и ума. Вполне возможно, что первая встреча Пушкина и Собаньской произошла не в Петербурге, а в феврале 1821 года в Киеве, куда поэт ездил с Раевскими из Каменки на помолвку Екатерины Николаевны Раевской с Михаилом Федоровичем Орловым.
Пушкин не избёг общей участи и был, можно сказать, ошеломлен блистательной Собаньской. Встреча эта запомнилась ему на всю жизнь. Вернувшись в Кишинев, Пушкин недолго там усидел. В начале мая вновь поехал он на месяц в Одессу. Анненков говорит: «Недаром отпрашивался Пушкин у добродушного Инзова и в Одессу так часто. Там были у него любовные связи, не уступавшие кишиневским, но никогда не заслонявшие их». Не ради ли Собаньской ездил Пушкин в Одессу?
Однако ещё до этого, ещё одна встреча Пушкина и Каролины вполне могла произойти в Крыму в 1820 году, во время знаменитой поездки поэта с Раевскими. Точно известно, что, как и Пушкин, Собаньская проводила лето 1820 года в Крыму.
В 1989 году пушкиновед В. Фридкин, выступая на вечере в Государственном музее им. А.С. Пушкина, сообщил о своей расшифровке одного неразобранного слова в черновике письма Пушкина к Собаньской. До сих пор соответствующее место воспроизводилось следующим образом: «Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет лишь только мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму. Там я смогу совершать паломничества, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, мельком вас видеть». При этом не прочитанному, а лишь предположительно проставленному слову «Крыму» были даны варианты: Молдавия, Волынь и Одесса, то есть перечислены места, где могла жить Собаньская. Неразобранное ранее слово было прочитано В. Фридкиным как «Ореанда», что являлось местом расположения дачи Ивана Осиповича в Крыму. Но почему именно Ореанда? Почему Пушкин мечтает приобрести «клочок» земли именно в Ореанде? Думается, указание именно данного имения не случайно. Вполне возможно, что во время своего пребывания в Крыму Пушкин всё же побывал в Ореанде, где встречался с Собаньской. Но тогда сразу же возникает следующий вопрос: поэт встречался только с одной Собаньской или же с ней и с де Виттом, и если он все же встречался с одной Каролиной, то знал ли об этом генерал?
Спустя девять лет Пушкин напишет Собаньской письмо, в котором недвусмысленно напомнит ей о Крыме. А вот мнение на сей счёт пушкиноведа В. Аринина: «Можно предположить, что “утаенной любовью” поэта, над загадкой которой столько лет бьются пушкиноведы, является именно Каролина Собаньская. В письме, кстати, упоминается Крым, а специалисты связывают “утаенную любовь” поэта чаще всего с Крымом, но, разумеется, это только версия…»
Но и это не всё! В стихотворении, которое Пушкин посвятит Каролине после своей крымской поездки, весьма прозрачно угадывается описание севастопольского мыса Фиолент, на котором расположены посещенный поэтом Георгиевский монастырь и развалины храма богини Дианы. Что касается образа Дианы, то он, как никакой иной, подходит к Собаньской. Для современников она была настоящей Дианой: богиней красоты и коварства, авантюрности и интриги, дерзкой и удачливой охотницей за приключениями.
«Утаенная любовь», как известно, рождает тайные воспоминания, а потому вспомним ещё раз строки «Бахчисарайского фонтана»:
…Приду на склон приморских гор, Воспоминаний тайных полный, И вновь таврические волны Обрадуют мой жадный взор…Пушкиноведам известно ещё и о поездке поэта в Одессу в июле 1823 года и об окончательном его переезде в Одессу в начале августа. Скорее всего, сегодня бы всех нас не слишком интересовало начало золотого века Одессы, если бы… не Александр Пушкин. Это он, попав туда, влюбился во всех красивых женщин, в том числе и в Каролину Собаньскую, это он озарил Одессу своим гением.
Есть любопытное черновое письмо поэта к Александру Раевскому, датируемое октябрем 1823 года. Ряд исследователей считают, что оно посвящено Собаньской, которая, впрочем, обозначена там как «М. S.» (возможная расшифровка инициалов — Madame Sobanska). Тест письма следующий: «Отвечаю на вашу приписку, так как она более занимает [вас] ваше тщеславие. Г<оспожа> С<обаньская> ещё не вернулась в Одессу, поэтому я и не мог ещё воспользоваться вашим письмом [и] во-вторых, так как моя страсть очень уменьшилась, и так как, тем временем, я влюбился в другую — я раздумал, и подобно Ларе Ганскому, который сидит на моем диване, я решил более не вмешиваться в это дело — то есть я не покажу вашего [письма] послания Г-же С<обаньской>, как я сначала намеревался, [оставив] скрыв от неё только то, что придавало вам интерес характера [Байронического] Мельмотического, — и вот что я намерен сделать: из вашего письма будут сделаны только выдержки, с подобающими исключениями; зато я приготовил на него пространный, прекрасный ответ, в котором беру столько же перевеса над вами, столько вы взяли надо мной в вашем письме; я начинаю его, говоря вам: “Вы меня не обманете, любезный Иов; я вижу ваше тщеславие и ваше слабое место под вашим напускным цинизмом” и т. д., остальное — в том же роде. Думаете ли вы, что это произведёт эффект? Но так как вы — мой постоянный учитель в делах нравственности, я прошу у вас [смиренно] позволения на все это и в особенности — ваших советов; но торопитесь, так как скоро приедут <on arrive>. Я имел о вас известия [ваш брат], мне передавали, что Атала Ганская сделала из вас фата и человека скучного, но последнее письмо ваше далеко не скучно. Я желал бы, чтобы моё могло хоть на минуту развлечь вас в ваших горестях…»
По-видимому, Раевский, как и Пушкин, был тоже неравнодушен к Собаньской. Намеки на соперничество Пушкина и Раевского имеются и в позднейшем петербургском письме Пушкина, в словах о некоем ученичестве Пушкина у «демона», то есть Раевского.
В июле 1823 года, согласно биографии поэта, в Одессе Пушкин знакомится с бывающим там наездами из Вознесенска де Виттом. Впрочем, как мы уже говорили, поэт и генерал вполне могли познакомиться и раньше, в 1820 году, во время поездки Пушкина в Крым.
Отношения генерала с молодым поэтом были, скорее всего, неплохие. В своих воспоминаниях Ф. Вигель пишет о том, что они с Пушкиным свободно пользовались книгами из большой и хорошо подобранной библиотеки де Витта. Об этом пишет и сам Пушкин. Фраза из черновика Пушкина: «Мы читаем с ним (с Вигелем. — В.Ш.) романы, которые мне дает де Витт» (Рукою Пушкина. М.-Л., Academia, 1935). Согласитесь, что допустить к своему любимому детищу генерал мог только людей, к которым испытывал добрые чувства и доверие.
Тогда же, в июле 1823 года, в Одессе поэт знакомится с Львом Нарышкиным и его супругой Ольгой Потоцкой. Одновременно он знакомится и с находящимся в Одессе Вацлавом Ганским и его женой Эвелиной (Ржевусской), сестрой Каролины. Чуть позднее начинается знаменитый роман Пушкина с Амалией Ризнич.
В том же ноябре Вяземский пишет А.И. Тургеневу в Петербург: «Одесский Пушкин прислал мне свой “Бахчисарайский фонтан” для напечатания. Есть прелести. Есть ли в Петербурге “Путешествие в Тавриду” Апостола-Муравьева, о котором он говорит в “Ольвии”? Узнай и доставь тотчас. Да расспроси, не упоминается ли где-нибудь о предании похищенной Потоцкой татарским ханом и наведи меня на след. Спроси хоть у сенатора Северина Потоцкого или у архивиста Булгарина. Пушкин просит меня составить предисловие к своей поэме».
Тогда же А.И. Тургенев пишет ответ Вяземскому в Москву: «Я получил от Вигеля премилое письмо о Пушкине (не сохранилось) и стихи его, из коих две пиесы тебе посылаю, третью… и ты не прислал ко мне “Бахчисарайского ключа”! Пожалуйста, пришли, если не скоро ещё напечатаешь. Книгу Мур(авьева) посылаю. О романе графини Пот(оцкой) справиться не у кого: графа Север(ина) здесь нет (…) да и происшествие, о котором пишешь, не графини Потоцкой, а другой, которой имя не пришло мне на память. Желал бы прочесть тебе письмо Вигеля, в котором есть и отрывки послания к нему Пушкина. Вчера, кстати, писал я снова к графу Воронцову и просил за Пушкина. Хоть ему и веселее в Одессе, но жить труднее, ибо все дорого, а квартиры и стола нет, как у Инзова. Авось, будет. Он написал другую пиесу:“Мой демон” (“Демон”). Её хвалят более всех других его произведений (…) Если не пришлешь “Бахчисарайского ключа”, то никогда ничего присылать не буду».
Вскоре Пушкин, как известно, перебирается в Одессу, где становится чиновником при канцелярии генерал-губернатора Новороссии графа Воронцова. Принят поэт Воронцовым был хорошо и стал желанным гостем в его доме.
Почти одновременно с романом де Витта и Собаньской в доме Воронцовых начался ещё один — между Пушкиным и графиней Воронцовой. Вообще любовные отношения в высшем свете Одессы того периода были крайне сложны и запутанны. У той же Воронцовой параллельно роману с Пушкиным был длительный роман с близким другом поэта генералом А.Н. Раевским (бывшим адъютантом её мужа). При этом ни Пушкин, ни Раевский ничего не знали об отношениях друг друга с Воронцовой.
Что касается поэта, то помимо романа с графиней он был влюблен в жену богатого одесского хлеботорговца Амалию Ризнич. Но и здесь Пушкин был не один! У Амалии одновременно был роман с хлеботорговцем Собаньским, жена которого Каролина состояла в любовной связи с де Виттом! Что и говорить, скучать в Одессе не приходилось никому!
Амалия Ризнич вообще слыла любительницей игры в карты и была душой местного общества, в особенности мужской его половины. Муж красавицы при этом оставался в стороне. Пушкин влюбился в Амалию мгновенно, но у него тут же появился соперник — муж Каролины Исидор Собаньский, который, в отличие от поэта, был богат.
Прекрасная же Амалия, страдавшая чахоткой, после рождения второго ребенка почувствовала резкое ухудшение здоровья, вследствие чего Ризнич отправил её лечиться в Италию. Образ жизни Ризнич рано свёл её в могилу: она много пила, курила, ездила верхом, ночи напролет играла в вист и без устали танцевала. В возрасте 22 лет, 19 июня 1825 года, она умерла. О смерти Амалии Ризнич Пушкин узнал в Михайловском, в 1826 году. Он отозвался на эту смерть со странным равнодушием, удивившим его самого:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть, И равнодушно ей внимал я……В январе 1824 года до Воронцова и де Витта доходят сведения о новых крамольных пушкинских стихах. Военный генерал-полицмейстер 1-й армии генерал-майор И.Н. Скобелев пишет главнокомандующему 1-й армии по поводу приписываемого Пушкину стихотворения «Мысль о свободе»: «Не лучше ли бы было оному Пушкину, который изрядные дарования свои употребил в явное зло, запретить издавать развратные стихотворения? Не соблазн ли они для людей, к воспитанию коих приобщено спасительное попечение (…) Я не имею у себя стихов сказанного вертопраха, которые повсюду ходят под именем: Мысль о свободе. Но, судя по выражениям, ко мне дошедшим (также повсюду читающимся), они должны быть весьма дерзки (…) Если б сочинитель вредных пасквилей немедленно, в награду, лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше. На что снисхождение к человеку, над коим общий глас благомыслящих граждан делает строгий приговор? Один пример больше бы сформировал пользы; но, сколько же, напротив, водворится вреда — неуместною к негодяям нежностью».
Между тем Пушкин продолжает общаться с Собаньской. Он читает с ней вслух романы, сопровождает в прогулках к морю и в костел. Случай, когда Каролина за него опустила пальцы в кропильницу и затем коснулась знаком креста его лба («крещение»), Пушкин с умилением вспоминал и через семь лет.
Вероятно, подобным времяпрепровождением отношения Пушкина с Собаньской и ограничивались. Красавица допускала поэта только до роли своего верного пажа, но не более того. Сердце её к этому времени уже было занято Иваном Осиповичем. Знал ли об этом Пушкин? Он просто не мог об этом не знать. На что же он тогда рассчитывал? Кто знает, душа поэта недоступна пониманию смертных…
По-видимому, все время пребывания Пушкина в Одессе, за небольшими отлучками, Собаньская жила в городе. Именно там в июле 1824 года с ней познакомился только что приехавший в Одессу граф М. Бутурлин.
Пушкиновед М. Яшин так писал об отношениях поэта и красавицы: «Но напрасны были усилия Пушкина и его друзей покорить сердце Собаньской. Не для них она жила в Одессе. Не Раевского называл Пушкин в элегии “соперник вечный мой”. Так же, как и в романе Бенжамена Констана “Адольф”, у одесской “Эллеоноры” был свой граф…» Этим графом был, разумеется, Иван де Витт.
В те дни Пушкин написал Каролине стихи, где молил о любви, прося её оставить «блестящий душный круг», и утверждал, что он её единственный искренний и надежный друг:
Когда твои младые лета Позорит шумная молва, И ты по приговору света На честь утратила права; Один, среди толпы холодной, Твои страданья я делю И за тебя мольбой бесплодной Кумир бесчувственный молю… …Не пей мучительной отравы, Оставь блестящий, душный круг, Оставь безумные забавы: Тебе один остался друг.Об отношениях Пушкина с Собаньской мы знаем очень мало. Это и понятно: получив отставку по всем пунктам, о чём знало всё местное общество, поэт не был склонен вдаваться в подробности неудачного для него романа. Каролина, со своей стороны, как фактически замужняя женщина, тоже не была заинтересована в рекламе своих отношений с поэтом.
Летом 1824 года отношения Пушкина и графа Воронцова стали быстро ухудшаться. Из письма М.С. Воронцова П.Д. Киселеву: «С Пушкиным я говорю не более четырех слов в две недели, он боится меня, так как знает прекрасно, что при первых дурных слухах о нем, я отправлю его отсюда, и что тогда уже никто не пожелает взять его на свою обузу… Он теперь очень благоразумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал бы его и лично был бы в восторге от этого, так как я не люблю его манер и не такой уже поклонник его таланта…» Что касается оценки пушкинского таланта, то его непонимание особой чести графу не делает, а что касается того, что Пушкин боялся Воронцова, здесь, думается, граф принимал желаемое за действительное, ибо роман поэта с его женой был в самом разгаре.
Безусловно, что Пушкин и граф де Витт встречались в доме Воронцова. Каковы были их личные отношения? Думается, что особой близости между поэтом и разведчиком не было, в противном случае на сей счёт остались бы хоть какие-то воспоминания. Если Пушкин и знал о том, что де Витт специалист по тайным операциям, то особых антипатий у поэта это вызвать не могло, ибо вся разведывательная деятельность де Витта на тот момент производилась лишь в отношении внешних врагов. Кроме того, присутствие в доме Воронцовых сестры де Витта Софьи, к которой Пушкин питал самые нежные чувства, не могло не вызвать у него в отношении генерала и определенной симпатии. Во всяком случае, нигде нет упоминания об обратном. Что касается де Витта, то его отношение к молодому поэту, думается, в определённой мере определялось благосклонностью к Пушкину графа Воронцова.
Как относился Иван Осипович к поэзии Пушкина? Никаких документальных свидетельств тому не осталось. Однако отметим, что в своё время фельдмаршал граф Дибич дал следующую характеристику интеллекта де Витта: «Так как он (де Витт. — В.Ш.) знаком с литературой трёх первых языков в Европе и пользуется большой начитанностью, то беседа с ним бывает всегда чрезвычайно занимательна». Честно говоря, немного известно характеристик полководцев минувшего, где конкретно бы говорилось об их литературной эрудиции и начитанности. Де Витт этим обладал! А поэтому весьма логично будет предположить, что граф был прекрасно знаком с творчеством молодого поэта, ценил его и признавал несомненный талант. Вполне вероятно, что между Пушкиным и де Виттом неоднократно происходили достаточно интересные беседы на литературные темы.
Однако вскоре Пушкин всё же становится объектом самого пристального внимания со стороны де Витта. Чем же было вызвано это внимание? На это у генерал-лейтенанта могли быть как минимум три причины. Во-первых, Воронцов мог просто попросить опытного друга-разведчика посмотреть своего непокорного чиновника на предмет какого-нибудь компромата. Во-вторых, Пушкин оказывал повышенные знаки внимания Собаньской, а это в какой-то момент могло не понравиться де Витту. И, наконец, у генерал-лейтенанта могла быть причина многим важнее первых двух.
Дело в том, что в это время Пушкина стали усиленно зазывать к себе местные поляки, большинство которых состояло к тому времени в тайных националистических обществах.
Польская диаспора была в Одессе весьма представительна, причём на самом высоком уровне. Феликс де Рибас, брат основателя Одессы Иосифа де Рибаса, привлёк в город семьи Потоцких, Собаньских, Ржевусских, Маньковских. Кстати, память о первых негоциантах хранит в себе ещё одно одесское название — Сабанские казармы (и переулок). Это потом уже они стали казармами, а вначале здесь хранили зерно и другие товары для торговли.
В книге своих воспоминаний Александр де Рибас возвращается к одесским полякам, рассказывая о первой ёлке в Одессе в начале XIX века. Она была привезена из Умани как подарок графа Потоцкого молодой Нарышкиной. Конечно, состоялся бал. Особенно блестяще было представлено на вечере Нарышкиной высшее польское общество. Граф и графиня Ржевусские, Потоцкие, Собаньские, Пржздецкие, Бржозовские. Роскошные наряды, прически Леонарда, пудра и бриллианты…
Из воспоминаний К.П. Зеленецкой: «В Одессе… Пушкин… вместе с польскими помещиками, которые, как сказывали нам, умели приласкать его к себе, хотя, по словам людей, в то время близких к нему, он не любил польского языка…»
Факт заинтересованности поляков знаменитым российским поэтом не мог не стать известным де Витту, который, как мы уже знаем, специализировался прежде всего на тайных польских делах. Но зачем мог понадобиться польским заговорщикам Пушкин? Видимо, для того, чтобы, внушив ему идеи польской независимости, иметь через поэта воздействие на просвещенную общественность России в преддверии готовящегося восстания. В этом нет ничего удивительного, подобное практиковалось всегда и везде. Что касается Пушкина, то склонить его на свою сторону полякам не удалось. Польского языка и, следовательно, польских националистических идей поэт не принял. Очевидно, что для генерала-разведчика история с попыткой поляков склонить на свою сторону видного деятеля российской культуры даром не прошла. Пройдет совсем немного времени, и он, в свою очередь, организует поистине гениальную операцию по привлечению к работе на Россию самых выдающихся деятелей культуры Европы…
Но как развивались события в Одессе дальше? Хорошо известно, что Воронцов вскоре от кого-то узнал о близких отношениях Пушкина со своей женой. Почти сразу же после этого поэт был выслан из Одессы в далекое Михайловское.
Вот весьма многозначительное воспоминание Ф.Ф. Вигеля о том, как правитель канцелярии генерал-губернатора Козначеев пытался замолвить слово о Пушкине: «Воронцов побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: “Если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятельских отношениях, не упоминайте мне об этом мерзавце”, — а через пять минут прибавил: “а также о его достойном друге Раевском”. Во всём этом было так много злого и низкого, что оно само собой не могло родиться в голове Воронцова…»
Но кто был тот, кто доказательно известил графа о поведении его супруги? История об этом умалчивает. Однако вполне логично предположить, что таковым был не кто иной, как верный друг графа Иван де Витт. Начав наблюдение за Пушкиным, в связи с его польскими знакомствами, он вполне мог случайно обнаружить его тайные встречи с графиней. Заодно был выявлен и параллельный роман графини с генералом Раевским. Это обстоятельство подтверждает тот факт, что отношения Пушкина и Воронцовой не стали достоянием высшего света. Граф предпочел сохранить эту историю в тайне. Пушкин на сей счёт тоже особо не распространялся. А то, что де Витт умел хранить чужие секреты, говорить и вовсе не приходится. Кроме того, как мы уже говорили выше, сводный брат де Витта Станислав Потоцкий был женат на сестре Елизаветы Ксаверьевны Екатерине, а потому и для де Витта вся эта любовная интрига тоже была сугубо семейным делом. История романа Пушкина с Воронцовой стала широко известна лишь много лет спустя.
Итак, первое личное пересечение судеб де Витта и Пушкина произошло в Одессе, но оно было далеко не последним!
В истории пребывания Пушкина в Одессе есть и ещё одна тайна. По некоторым глухим воспоминаниям современников, якобы обидевшийся на Воронцова Пушкин в июне — июле 1824 года вынашивал план побега из Одессы в Константинополь. При этом он хотел прибегнуть к услугам некого корсара Морали, который был весьма тёмной личностью и мог иметь отношение к турецкой разведке. Отставной капитан-лейтенант, бывший таможенник, а затем чиновник Южной армии по делам контрразведки (т. е. фактический подчиненный де Витта) Степан Достанич в письме от 24 марта 1822 из Одессы на имя начальника штаба армии генерала Киселева писал: «На арапа по фамилии Морали имеют подозрение, что он извещает в Константинополь об некоторых делах, происходящих в Одессе, но ежели угодно Вашему Превосходительству мне позволить открывать подобных людей подозрительных, я употреблю себя на это, с тем только, чтоб о сем известить графа Ланжерона, чтоб он мне содействовал, но не обнаруживал моё занятие и тогда я могу иметь успех».
Пушкиноведы считают, что мечты о бегстве нашли своё отражение в первой главе «Евгения Онегина»:
Придет ли час моей свободы? Пора, пора! — взываю к ней; Брожу над морем, жду погоды, Маню ветрила кораблей. ………………………………… Пора покинуть скучный берег Мне неприязненной (?) стихии…Тема бегства сквозит и в другом пушкинском произведении — стихотворении «К морю», написанном именно в летние месяцы 1824 года:
Не удалось навек оставить Мне скучный, неподвижный берег, Тебя восторгами поздравить И по хребтам твоим направить Мой поэтический побег!Считается, что к этой мальчишеской затее сочувственно относилась не только верный друг поэта В.Ф. Вяземская (жена поэта П.А. Вяземского), но и супруга графа Воронцова. Из письма московского почт-директора А.Я. Булгакова своему брату К.Я.Булгакову: «Вяземская хотела способствовать его (Пушкина. — В.Ш.) бегству, искала для него денег, старалась устроить ему посадку на корабль. Но Воронцов успел предупредить исполнение намерения поэта». Сам М.С. Воронцов тогда же писал самому А.Я. Булгакову так: «…Мы считаем, по меньшей мере, неприличным, её (В.Ф. Вяземской. — В.Ш.) затеи поддерживать попытки бегства этим сумасшедшим и шалопаем Пушкиным…»
Вне сомнений, что разработкой и слежением за «отставным корсаром» занимался и де Витт, а это значит, что Пушкин мог попасть в поле его внимания и с этой стороны.
Одновременно с этим развивался и скандальный роман Пушкина с графиней Елизаветой Воронцовой. Разумеется, что слишком импульсивные и публичные действия поэта вызвали законное неудовольствие супруга графини.
К этому времени Александр I одобряет проект письма Нессельроде к Воронцову о высылке Пушкина из Одессы. А затем в Одессу приходит и высочайшее повеление «находящегося в ведомстве государственной Коллегии иностранных дел коллежского секретаря Пушкина уволить вовсе от службы».
Уже 30 июля 1824 года Пушкин был отправлен из Одессы в Михайловское. Знал ли Пушкин о возможной роли де Витта в решении Воронцова о его высылке из Одессы? Ответ на этот вопрос, наверное, навсегда так и останется без ответа. Хотя можно предположить, что не знал, ибо впоследствии поэт нигде и никогда негативно не упоминает имя де Витта.
Итак, в декабре 1829 — феврале 1830 года в Петербурге происходит несколько встреч Пушкина с Собаньской. Это их последние встречи. Вяземский писал по этому поводу своей жене: «Собаньска умна, но слишком величава. Спроси у Пушкина, всегда ли она такова или только со мною и для первого приема».
К тому времени Собаньская уже знала, что Пушкин — знаменитый русский поэт, и попросила его написать ей в альбом стихи. Так появился один из шедевров пушкинской лирики — «Что в имени тебе моём?». Первая строка знаменитого мадригала весьма значима. Поэт спрашивает у красавицы, что значит для неё его имя, хотя ответ знает уже заранее…
Что в имени тебе моём? Оно умрет, как шум печальный Волны, плеснувшей в берег дальний, Как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке Оставит мертвый след, подобный Узору надписи надгробной На непонятном языке. Что в нем? В волненьях новых и мятежных, Твоей душе не даст оно Воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине Произнеси его тоскуя; Скажи: есть память обо мне, Есть в мире сердце, где живу я…Впоследствии композитор А.А. Алябьев (автор знаменитого «Соловья») положил стихотворение Пушкина «Что в имени тебе моём» на музыку. С той поры письмо Пушкина Собаньской стало популярным романсом.
В 1828 году Собаньская вместе с де Виттом появляется в Петербурге. 16 мая Пушкин читает своего «Бориса Годунова» у графини Лаваль, после чего воскликнул знаменитое: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Точный состав приглашенных на это мероприятие гостей неизвестен. Известно лишь, что гостей было довольно много и на читке присутствовали А. Грибоедов, А. Мицкевич. Теоретически у Лаваль вполне могли быть и де Витт с Собаньской: как-никак они оба хорошо знали и Пушкина и Мицкевича. Кроме этого есть и ещё одна причина, по которой находившиеся в тот момент в Петербурге де Витт и Каролина могли быть приглашены на читку драмы. Дело в том, что в набросках предисловия к «Борису Годунову» Пушкин дает следующую характеристику Марине Мнишек: «…это была странная красавица. У неё была только одна страсть: честолюбие, но до такой степени сильное и бешеное, что трудно себе представить. Посмотрите, как она, вкусив царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отдается одному проходимцу за другим… Посмотрите, как она смело переносит войну, нищету, позор, в то же время ведёт переговоры с польским королем, как коронованная особа, с равным себе и жалко кончает своё столь бурное и необычайное существование… Она волнует меня, как страсть. Она ужас до чего полька, как говорила кузина госпожи Любомирской». Но ведь «кузина госпожи Любомирской» не кто иная, как Каролина Собаньская. Так не с неё ли и писал в «Годунове» образ Марины Мнишек Пушкин (напомним, что Каролина состояла в родстве с родом Мнишеков), соединив воедино в нём всю свою страсть, горечь и обиду безответной любви? Поэтому прочтение драмы в присутствии Собаньской могло иметь для автора и свой подтекст. Иносказательно поэт сообщал прообразу своей героини, что не только разгадал её душу, но и запечатлел её на века в своем произведении.
Приехав в Петербург, граф де Витт устраивает своей возлюбленной салон. Каролина принимает гостей, музицирует, по технике игры не уступая знаменитой пианистке Шимановской, которая гастролирует в городе. Возможно, вспоминая ноктюрны в исполнении Собаньской, Пушкин в одном из стихотворений заметит: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает».
Некоторые пушкиноведы считают, что вообще не стоило бы придавать слишком большого значения одесскому увлечению Пушкина Собаньской, если бы не письма, найденные во французских черновиках и написанные 9 лет спустя, 2 января 1830 года, когда Каролина вместе с де Виттом в очередной раз посетила Петербург. Эти письма однозначно показывают, что Каролина не была мимолетным увлечением поэта. К Собаньской Пушкин питал искренние и весьма глубокие чувства, а будучи отвергнутым, жестоко страдал.
В период этих встреч Пушкиным были написаны два письма к Собаньской. По признанию поэта, писал он Каролине потому, что ирония её не позволяет ему объясниться с ней при их свиданиях. Поводом к написанию первого из двух сохранившихся писем Александра Сергеевича к Королине было получение от неё записки, где она откладывала их встречу на один день.
Записка Собаньской не содержит никакой любовной лирики. Это вежливая записка другу, но никак не любовнику: «Прошлый раз я забыла, что отложила удовольствие видеть вас на воскресенье. Я забыла, что надо было начать свой день с мессы и продолжать его визитами и деловыми поездками. Я очень жалею об этом, так как это задержит до завтра удовольствие видеть и слышать вас. Надеюсь, что вы не забудете о вечере понедельника и простите мою назойливость, приняв во внимание чувство восхищения, которое я к вам питаю. К.С. Воскресенье утром». Слова Каролины о её «назойливости» и «чувстве восхищения» — лишь светский тон. При этом, читая записку, создается впечатление, что Собаньская совершенно уверена в том, что Пушкин придет, когда угодно, лишь только она его позовет.
В ответ Пушкин пишет: «…Вы смеетесь над моим нетерпением, вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания; итак, я увижу вас только завтра — пусть так. Между тем я могу думать только о вас… А вы, между тем, по-прежнему прекрасны, так же, как и в день переправы или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение я чувствую до сих пор — прохладное, влажное. Оно обратило меня в католика. Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина. Ваша душа некоторое время ещё продержится среди стольких опавших прелестей — а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя душа, её боязливая рабыня, не встретит её в беспредельной вечности».
После этого Пушкин уже изливает свои чувства к Каролине в черновом письме. Каролина никогда не прочтет этого письма. Впрочем, для поэта, скорее всего, уже и неважно, ему просто было необходимо высказаться до конца.
Пушкин с тоской говорит об её насмешливости, столь характерной для Собаньской и столь нравящейся незаинтересованным людям, с отчаянием отзывается на её слова, что блаженство могло быть семь лет назад.
Собаньская как бы воплощала лаконично выраженный Пушкиным образ «кокетки богомольной». Её письма к приятельницам, к Бенкендорфу полны ханжества. Даже в коротенькой записке к Пушкину упоминается обедня (месса), которая ломает её планы на день. Пушкин в своем письме вспоминает, как она его «обратила в католичество». Выражаясь её языком, говорит он о «душах, ищущих друг друга в беспредельной вечности», но не выдерживает.
Из черновика письма поэта к Каролине: «Сегодня — девятая годовщина дня, когда я увидел вас в первый раз… Этот день был решающим в моей жизни. Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что моё существование неразрывно связано с вашим; я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами, всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство; вдали от вас меня лишь грызет мысль о счастье, которым я не умел насытиться. Рано или поздно мне придется всё бросить и пасть к вашим ногам».
Заметим, что эти строки писались незадолго до женитьбы на Гончаровой, которой Пушкин, казалось, был тогда полностью поглощен. Неотправленное письмо представляется мне отчаянной попыткой разбудить сердце красавицы. Нам неизвестно, имело ли место личное объяснение Пушкина с Собаньской; вполне возможно, что имело. Именно поэтому поэт и не отправил письмо, необходимость в котором отпала сама собой. При встрече Каролина, судя по всему, в очередной раз уведомила Пушкина, что не питает к нему никаких чувств, а любит только де Витта.
Интересно узнать: а как относился к ухаживаниям поэта за красавицей сам де Витт? Увы, никаких документальных свидетельств тому не сохранилось. Однако острый на язык Пушкин нигде ни разу не позволил себе плохо отозваться о де Витте. А это может служить косвенным доказательством того, что никаких недоразумений между ними не возникало. Думается, что генерал ухаживания поэта за своей супругой всерьез не воспринимал, опасным соперником не считал, так как был уверен в верности Каролины, а потому и не препятствовал её общению с Пушкиным, видя в этом лишь разнообразие её времяпровождения.
В течение февраля, по-видимому, окончательно стала ясной невозможность близости между Пушкиным и Собаньской. 4 марта Пушкин стремительно уехал из Петербурга в Москву — свататься к Наталье Гончаровой. В сватовстве поэта решающую роль, возможно, сыграло сознание необходимости жениться. На смену рассеянной жизни пришло желание создать семью. Возможно, в чём-то этот шаг был ускорен и обидой на Каролину.
Вот как видится таинственная связь Пушкина с Собаньской современному пушкиноведу В. Аринину: «Конечно, Пушкин не предполагал, что она (Собаньская. — В.Ш.) являлась агентом Третьего отделения и вела слежку за ним. Но нечто тёмное, двойное он чувствовал в ней, и это влекло её к нему. “Демоническая женщина вызывала в нём демонические чувства”. Встречи с сатаною гению не избежать. Так было у Байрона, так было у Гете, так и у Пушкина. Но все же Пушкин, знавший моменты прельщения и падения, в конечном счете отверг сатану…»
Думается, что все же В. Аринин перегибает палку относительно связи Собаньской с некими темными силами, но то, что эта женщина действительно была роковой для многих мужских сердец, никакому сомнению не подлежит.
Уже через неделю после помолвки Пушкин пишет в своем дневнике не слишком радостно: «Участь моя решена. Я женюсь». Письма его к друзьям о предстоящем браке тоже грустны.
«Милый мой, — пишет он Плетневу 31 августа 1830 года, — расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет игрока. Дела будущей тёщи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и её матери — отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения — словом, если я и не несчастлив, по крайней мере, не счастлив… Чорт меня догадал бредить о счастьи, как будто я для него создан».
А за неделю до свадьбы поэт вновь писал приятелю своей юности Кривцову: «… я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностию».
В последних письмах Пушкина к Собаньской обращает на себя внимание одна любопытная деталь: поэт признает наличие некого демонизма у Каролины: «Вы — демон, то есть тот, кто сомневается и отрицает, как говорится в Писании». Пушкиновед Л. Краваль, которой удалось найти изображения Собаньской в многочисленных женских портретах в черновиках поэта, отмечала: «В рукописях Пушкина 1821–1823 годов встречается множество портретов одной и той же красивой брюнетки, зрелого возраста, с печатью демонизма в лице, с резкими сильными чертами греческого очерка, с миндалевидными глазами, с огненным взглядом (варианты: пронзительным, злобным, мрачным), с подбородком ведьмы, с маленьким красивым ртом, ограниченным скобочками-морщинками, с верхней губкой особенно изящного, стрельчатого рисунка и нижней — по-польски втянутой, вампической…»
И далее: «Особенно часто это лицо мелькает на “адских” рисунках Пушкина, например в виньетке, изображающей бал у Сатаны (1821 г.). Именно такой воспринимал красавицу Каролину поэт. И, может быть, память о ней вызвала у него осенью 1830 года образ Лауры, “милого демона”, в объятья которого устремляется изгнанник Дон Гуан, едва оказавшись в Мадриде. Поразительно, что именно к Лауре обращены в “Каменном госте” слова о мимолетности женской красоты, напоминающие нам письма поэта к Собаньской:
Но когда Пора пройдет, когда твои глаза Впадут и веки, сморщаясь, почернеют И седина в косе твоей мелькнет, И будут называть тебя старухой, Тогда — что скажешь ты?Такой горький миг Каролине Собаньской пришлось пережить».
Исследовательница творчества поэта Т.Г. Цябловская связала слова «Я вас любил так искренно, так нежно» со словами письма Пушкина к Собаньской, где автор говорит о своей привязанности, «очень нежной и очень искренней». Немного позднее поэт вписал это стихотворение в альбом Анне Олениной.
Я вас любил: любовь ещё, быть может, В моей душе угасла не совсем… Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим.Подводя итог отношениям Каролины Собаньской и Пушкина, согласимся, что они никогда не были ни простыми, ни взаимными для поэта. Красавица так и осталась для него неприступной крепостью. Однако переживаемая Пушкиным страсть, его терзания и мечты воплотились в ряд поэтических шедевров, которые навечно остались в классике отечественной поэзии.
ЦАРСТВЕННЫЙ МИСТИК
Тайная операция, о которой пойдет речь, возможно, самое загадочное, что было в жизни нашего героя. Вот уже почти два столетия историки ожесточенно спорят о событиях тех далеких дней. Нет числа всевозможным версиям и гипотезам, а потому и мы вправе выдвинуть собственную версию, на наш взгляд, вполне реальную и логичную.
Разумеется, что и сегодня нельзя однозначно трактовать то, что произошло или могло произойти в далёкие осенние дни 1825 года. Однако если эти события всё же имели место, то участие в них генерала Ивана де Витта никаких сомнений вызвать не может. Без него подобное просто не могло произойти. Кроме того, событие, о котором пойдет речь в этой главе, самым непосредственным образом связано с Георгиевским монастырем на мысе Фиолент…
Итак, мы начинаем расследование тайны смерти императора Александра I, одного из самых загадочных и непонятных российских самодержцев.
По складу своей натуры император Александр изначально не был предназначен для великой миссии — быть главою огромного и сложного государства. Он, как отмечают многие его биографы, внутренне тяготился своей судьбой. Восхождение на трон — при молчаливом согласии на убийство отца, великие события и кровопролитнейшие войны, охватившие тогда Европу, потрясли его, и после 1814 года он всё более впадал в крайнюю религиозность и мистицизм.
По воспоминаниям современников, император Александр начал разговоры о своем возможном оставлении престола уже вскоре после победы в Наполеоновских войнах. Так, в 1817 году, находясь в Киеве, он внезапно заявил: «Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в минуту опасности первый идти ей навстречу. Он должен оставаться на своем посту только до тех пор, пока его физические силы ему это позволяют. По прошествии этого срока он должен удалиться!»
Высказывание императора было настолько необычным, что привело всех присутствующих в полное недоумение.
Известный военный историк А. Керсновский пишет: «В характере Государя по окончании заграничного похода стала наблюдаться разительная перемена. Прежняя застенчивость и нерешительность сменились твёрдостью и резкостью, усилилась подозрительность и недоверие к окружающим. Ему нужны были уже не советники, а лишь слепые исполнители. Мистицизм (всегда бывший у него сильно развитым) окончательно завладел им. Он пришел к заключению, что Промысел Божий предначертал ему осуществить на земле братство народов посредством братства их монархов — некую всемирную теократическую монархию, “монархический интернационал”. Религиозность Государя носила в те времена характер интерконфессиональный. Он мечтал о “едином народе христианском”, думал реформировать христианство, переделывал Библию. Идеи эти привели к заключению Священного союза».
Спустя два года Александр I, будучи в гостях у своего младшего брата Николая, сообщил ему, что через некоторое не слишком продолжительное время тому придется принять российский трон.
В том же 1819 году в Варшаве император сказал своему брату, наместнику Царства Польского Константину:
— Я устал и более не в силах сносить тягость правления, а потому хочу уйти в отставку!
Пораженный Константин мог лишь вымолвить:
— Тогда я буду просить у тебя место камердинера!
Братья обнялись.
— Когда придет время мне уходить, то я тебе дам знать! — сказал император брату на прощание.
В 1822 году Александр и Константин принимают тайное решение о том, что Константин отрекается от всех прав на престол в пользу младшего брата Николая. Александр, совместно с митрополитом Филаретом (Дроздовым), составляет Манифест о назначении престолонаследником Николая и отдает его на хранение в московский Успенский собор.
В том же году в разговоре с князем Васильчиковым император неожиданно заявил, что корона его гнетёт, и он был бы самым счастливым человеком, если бы избавился от нее.
Воспоминания близких ему лиц передают одну и ту же мысль: он очень устал он того груза ответственности, который лёг на его плечи, а потому, когда исполнится двадцать пять лет его царствованию, ему, как и всякому солдату-ветерану, положена отставка.
Весной 1825 года в Петербург приехал принц Оранский, и в доверительной беседе Александр I рассказал ему о том, что принял решение в самое ближайшее время покинуть престол и удалиться в частную жизнь.
Что же могло подвигнуть Александра I к мысли об уходе с императорского престола?
Вспомним, что ещё в детстве стараниями его бабки Екатерины II он получил прекрасное образование и был склонен к либеральным идеям правления. Увы, действительность оказалась куда более суровой, чем красивые книжки, — в 1801 году ему пришлось принять (вольно или невольно) участие в убийстве собственного отца. Это, безусловно, тяготило его всю оставшуюся жизнь. Затем была долгая эпоха Наполеоновских войн с тяжелейшими поражениями, кровопролитными победами и непрерывными интригами, завершившаяся войной 1812 года, заграничным походом и полным перекраиванием европейской политической карты. Ко всему этому следует добавить и особенности психики Александра. Люди, хорошо знавшие его, в один голос отмечают большую впечатлительность императора, его склонность к мистике и таинственности, а в последние годы правления и повышенную религиозность. Даже во внешнем поведении Александра было нечто, что выглядело весьма необычно. После окончания Венского конгресса он явно избегал бывать в Петербурге, предпочитая колесить по всей России. Что-то угнетало монарха, не давало ему покоя. Он словно стремился убежать сам от себя.
Итак, решение оставить престол и уйти у Александра вызревало достаточно долго. А потому можно с большой долей уверенности предположить, что он к своему уходу начал готовится загодя. Добровольное отречение от престола — событие в мировой истории исключительное. Подобные примеры можно посчитать по пальцам. И это даже не потому, что жажда власти была у правителей почти всегда превыше всех иных страстей. Увы, но эта же история говорит нам, что в большинстве случаев монарх, добровольно оставивший престол, всё равно становился жертвой каких-то политических интриг. Причем, будучи уже совершенно беззащитен, он всегда обречен на смерть. Достаточно вспомнить знаменитого римского императора Диоклетиана, который, устав от власти, отдал трон преемнику, а сам уехал в именье выращивать капусту. Итог отставного императора был печален — его вскорости умертвили. Что касается Александра, то, оставляя трон своему младшему брату, он вряд ли мог бояться каких-то преследований с его стороны в отношении себя. Опасность в отставке Александра крылась вовсе не для него, а для всей династии Романовых. Ведь если император может уйти с престола сам, значит, его вполне можно убрать с этого престола и силой. Добровольный уход создает прецедент: трон не является пожизненным атрибутом монарха. А потому в свете им же провозглашенных постулатов незыблемости монархического строя Европы, узаконенных на Венском конгрессе в виде «Священного союза» европейских монархий, Александр просто не смел открыто и свободно уйти с престола. Положение его было весьма и весьма непростое. С одной стороны, император не мог уже оставаться на своем посту ни морально, ни физически. С другой — он не мог его и покинуть, не подставив тем самым под удар не только свою династию, но и весь институт монархии в России.
Всё это усугублялось ещё и тем, что Александр чувствовал дыхание революции и готовность масонских кругов воспользоваться его малейшей оплошностью для захвата власти в России. Ситуация была почти безвыходная, но Александр все же нашёл выход, причем такой, которого никто не мог и предположить. Он решает инсценировать собственную смерть, а затем исчезнуть. Дело это было весьма непростое и опасное. (Русская история знала множество проходимцев, которые всегда были готовы воспользоваться тёмными моментами в жизни и смерти тех или иных представителей правящей фамилии: первый и второй Лжедмитрий, княжна Тараканова и Лжепетр, Пугачев, — лишь наиболее известные из этого перечня.) А потому операцию по исчезновению надо было готовить очень скрупулезно и тайно, чтобы ни у кого не было и тени сомнения в смерти царствующего монарха.
В то же время Александр I активно готовил страну к разгрому тайных политических обществ. В письме к княгине С. С. Мещерской император упоминает о «средствах против власти зла, растущего с быстротой, и о скрытых средствах, которыми пользуется сатанинский гений (т. е. масонство)». Мы видим, что Александр I знал о существовании масонско-дворянского заговора и готовился к борьбе, а не сидел сложа руки, считая себя основным виновником расцвета революционно-либеральных идей, как полагают некоторые историки. При этом сам расправляться с масонами Александр не хотел, считая, что с него хватит и убийства собственного отца. Этим делом, по его мнению, должен заняться младший брат Николай. Сам же Александр, инсценируя собственную смерть, просто исчезнет. Чтобы осуществить план оставления престола, Александру нужны были помощники. Разумеется, таковые нашлись. Однако в силу тайности операции их круг был весьма ограничен и в него вошли только те, кому Александр мог полностью доверять, на чью преданность и молчание он мог целиком положиться.
Первым и главным советчиком и помощником в весьма непростом и рискованном предприятии, безусловно, стал князь А.Н. Голицын.
Князь Александр Николаевич Голицын с детства числился в пажах у императрицы Екатерины II, был самым ближайшим другом детства великого князя Александра, а затем и его камер-пажом. В день коронации Павла I был произведён в камергеры, однако вскоре навлек на себя неудовольствие своенравного императора и был уволен в отставку. Однако на этом его близкие отношения с Александром не прекратились — великий князь и бывший камергер в это время состояли в секретной переписке. Свидетельства об участии князя Голицына в заговоре против императора Павла отсутствуют, однако, учитывая его предельно близкие отношения с Александром, вероятно, что он был в курсе заговора.
После вступления на престол Александра I князь Александр Голицын назначается обер-прокурором в Сенат, затем обер-прокурором Синода, при этом он — статс-секретарь императора и действительный тайный советник. В 1808 году участвовал в переговорах Александра с Наполеоном в Эрфурте. Голицын являлся председателем Библейского общества. Как и император, очень серьёзно увлекался мистицизмом и способствовал распространению книг данной тематики в России, любил всевозможные тайны и участие в тайных делах. Открыто враждовал из-за влияния на императора с Аракчеевым. Несколько лет возглавлял Министерство просвещения, где внедрял научный подход к вопросам веры и проводил политику широкой веротерпимости. В последние годы правления Александра I возглавлял придворное ведомство. Был посвящен во многие тайны семьи Романовых и свято их хранил. Голицыным был написан секретный Манифест об изменении порядка престолонаследия, отказе от претензий на престол Константина и передаче власти Николаю. В светском обществе князь Голицын пользовался репутацией человека благочестивого и почти святого. Никогда не был женат.
Помимо Голицына в инсценировку смерти Александра были посвящены его братья Константин и Николай, мать императора — вдовствующая императрица Мария Федоровна, жена императрица Елизавета Алексеевна, начальник Главного штаба генерал Дибич, генерал-адъютант князь Волконский, лейб-медики Виллие и Тарасов, опытнейший разведчик граф Чернышев и ещё несколько человек, среди которых были граф Воронцов и граф де Витт.
Касательно двух последних необходимо сказать, что участие Воронцова было необходимо, так как он являлся генерал-губернатором Новороссии, а исчезнуть император решил именно в его владениях — чтобы быть подальше от Петербурга. Граф де Витт был ему необходим не только как проверенный и умеющий держать язык за зубами человек, но и как признанный мастер тайных операций. Именно на него, скорее всего, было возложено решение самых опасных и деликатных вопросов этого дела.
Что касается руководства Второй (Южной) армии, то оно, по-видимому, к участию в операции не привлекалось. Засоренность командного состава масонами была к тому времени уже ни для кого не секретом.
К лету 1825 года к проведению операции всё было готово. Учитывая резко возросшую активность офицерских масонских кругов, Александр решает более не оттягивать дела, а как можно быстрее исчезнуть, чтобы вступивший на престол молодой и энергичный Николай мог своевременно предупредить грозящую России прозападную революцию.
Местом проведения операции «Исчезновение» избирается Таганрог. В 1818 году Александр там уже был, а потому он решил, что этот маленький и удаленный от больших населенных пунктов городишко как нельзя лучше подходит для осуществления его замысла.
Чтобы отъезд императора не вызывал лишних разговоров, было объявлено, что поездка на юг рекомендована лейб-медиками императрице Елизавете Алексеевне.
Что касается императорской четы, то известно, что супруги давно уже не проживали вместе, а лишь сохраняли видимость брачных отношений в интересах имиджа власти. У каждого была своя личная жизнь. При таких обстоятельствах «смерть» Александра могла вполне устроить его супругу, так как после этого она становилась вдовствующей императрицей и могла распоряжаться собой, как заблагорассудится.
Примечательно, что на юг императорская чета ехала раздельно. Александр выехал в Таганрог на два дня раньше супруги. С ним ехал начальник Главного штаба генерал-адъютанта барон Дибич. Он должен будет начать инспекцию 2-й армии и тем самым отвлечь внимание местных масонов от происходящих событий.
Перед самым отъездом Александр долго совещается с князем Голицыным. Полагают, что речь на этой встречи шла о том, как лучше сохранить в тайне акт о престолонаследии. Именно Голицыну император поручил сохранение документа в последний отрезок времени, предшествующий его оглашению. Именно Голицын должен был огласить его, точно в тот момент, когда получит известие, что вся операция прошла успешно. При этом он, в свою очередь, должен был вслед за Александром отправиться в Крым, где планировалось последнее, наиболее важное совещание всех участников операции перед её осуществлением. Прощаясь с Голицыным, император уже в присутствии посторонних лиц (именно поэтому эта фраза и стала достоянием истории) сказал:
— Положимся на Бога! Он устроит всё лучше нас, слабых смертных!
1 сентября 1825 года Александр I покидает Петербург. Оставляя столицу, он заезжает (вместе с Голицыным и без свиты) в Александро-Невскую лавру. Понять Александра можно. Он решился на небывалое дело и хочет просить если не благословения, то хотя бы снисхождения. Он долго стоял у могил своих дочерей… Выезжая из города, Александр отстегнул свою саблю, сказав:
— Она мне больше не нужна!
И велел отменить все ранее запланированные военные смотры по пути следования. В Таганрог император прибыл 13 сентября. Елизавета приехала десятью днями позже. Неожиданно больная императрица почувствовала себя здоровой. Позднее очевидцы последних дней совместной жизни Александра и Елизаветы отметят, что они были как никогда дружны. Это вполне объяснимо. Долгая и совсем непростая совместная жизнь императора и императрицы подошла к концу. Каждый из них уже избрал свой путь. Кроме того, несмотря на все семейные проблемы, император и императрица оставались друзьями, с пониманием относились друг к другу, а потому в преддверии своего расставания старались уделить друг другу больше внимания.
В это время активно готовится к исчезновению Александра генерал де Витт. Его участок работы — один из самых ответственных. Генерал должен во время осуществить подмену императора на двойника. Этот двойник историкам хорошо известен. Его звали Масков. Он состоял фельдъегерем при императоре. О поразительном внешнем сходстве Александра с Масковым всем было давно и хорошо известно. В своё время император не раз устраивал, используя свою схожесть Маскова, розыгрыши, приводя в восторг окружающих. Теперь же Масков должен умереть во имя того, чтобы жил Александр. Думается, что это предстоящее убийство очень тяготило императора. Однако иного выхода, чтобы уйти с политической сцены, у него просто не было. Убрать Маскова должен был де Витт.
Незадолго до этого Иван Осипович вместе со своим старым соратником генерал-адъютантом Чернышевым производят арест предводителя масонов 2-й армии Пестеля. Это, по мнению участников операции, должно на время парализовать действия заговорщиков и обеспечить спокойный приход к власти Николая Павловича.
Пробыв некоторое время в Таганроге, Александр внезапно объявляет о своем отъезде в Крым к Воронцову. Наступает время начала операции. С императором едут генерал-адъютант Дибич, лейб-медики Виллие и Тарасов.
От будущего императора Николая I операцию, вполне возможно, обеспечивал его любимый и самый преданный адъютант Василий Перовский, с которым де Витт вместе сражался против тайных врагов России на Венском конгрессе.
Вскоре Александр I прибывает в Алупкинский дворец Воронцова. Там, судя по всему, собираются все участники предстоящей операции. Туда же прибывает из Петербурга и Голицын. Присутствует на этом совещании и де Витт. Каждый докладывает о готовности за порученный ему участок работы. После совещания (время дорого) участники операции сразу же разъезжаются. Голицын спешит в Петербург, де Витт отправляется на одну из почтовых станций, где он должен встретить одного весьма важного для осуществления операции человека, Дибич пока остался с императором. Вместе они отправились в Балаклаву, где отобедали у грека Равальота. После этого Дибич спешно отправился на север в штаб 2-й армии, чтобы начать свою инспекцию и отвлечь внимание масонов от того, что будет происходить вокруг императора.
Здесь мы подходим, быть может, к самой большой тайне, связанной с исчезновением Александра I. Биограф императора Н.К. Шильдер описывает дальнейшие действия императора так: «Из Балаклавы император Александр проследовал в коляске до места, откуда идет дорога в Георгиевский монастырь. Там он опять сел на лошадь, в мундире, без шинели, отпустил свиту в Севастополь и, взяв с собою фельдъегеря Годефроа, направился в монастырь в сопровождении только одного татарина. Это было 27-го октября (8-го ноября) в 6 часов пополудни. День был теплый и прекрасный, но к вечеру подул северо-восточный ветер и настал чувствительный холод. Не подлежит сомнению, что император Александр простудился во время этой неосторожной и несвоевременной поездки в Георгиевский монастырь, и таким образом утомительные переезды 27-го октября послужили исходной точкой его вскоре смертельного недуга».
Обратим внимание на очень важную особенность: перед отъездом в монастырь император отсылает всю свиту и едет, по существу, в полном одиночестве. Почему? Скорее всего, потому, что свидетели там ему не нужны.
В это время генерал де Витт встречает двойника императора фельдъегеря Маскова. Известно, что Масков был найден за несколько лет до описываемых событий. Современники отмечают его удивительную внешнюю схожесть с Александром I. Затем мужчину определяют императорским фельдъегерем. Думается, поиск двойника, а затем его назначение фельдъегерем было совсем не случайным. Операция «Исчезновение» готовилась уже давно, а потому и главные её участники подбирались заранее. Вполне возможно, что Александра уже не раз подменяли на Маскова. Это необходимо было хотя бы по двум причинам: во-первых, надо было удостоверится, что Масков действительно способен играть роль императора; во-вторых, Масков должен был привыкнуть к тому, что ему в любой момент могут приказать «подменить» Александра I. Кто готовил Маскова? Вполне возможно, что отыскал его в своё время именно де Витт, а контроль за фельдъегерем и его обучение осуществлял князь Голицын.
Согласно официальной версии, события развивались следующим образом. Возвращавшийся из Георгиевского монастыря в Таганрог больной император случайно встретил Маскова на подъезде к городу. Фельдъегерь передает Александру какие-то бумаги. После чего сразу же выпадает из своей коляски на дорогу, ударяется головой о землю и тут же умирает. При этом смерть Маскова видят всего два человека: Александр и его врач Тарасов. Куда затем делось тело фельдъегеря, никому не известно. В Таганроге, по крайней мере, его никто не видел. К тому же начавшие вскоре происходить там события заставили всех надолго забыть о фельдъегере Маскове.
На самом деле, думается, всё было совершенно иначе. Не было никакой «случайной» встречи на подъезде к Таганрогу, как не было и никакого падения фельдъегеря из коляски. Однако всё по порядку.
Дореволюционный историк В. Барятинский, автор исследования об исчезновении императора Александра, отмечает, что биограф императора Шильдер, дойдя в своём труде до момента приезда Александра в Георгиевский монастырь, начинает путаться:
«С описания этой поездки Александра в Георгиевский монастырь, Шильдер, колеблясь между официальным изложением истории и своим собственным убеждением, начинает, что называется, путаться или опять-таки “лавировать между Сциллой и Харибдой”».
Что делал Александр в монастыре? Что он делал после его посещения?
Именно в Георгиевском монастыре произошло, по-видимому, самое главное событие всей операции. Именно там император поменял свой мундир на монашескую рясу. Там он в срочном порядке принял постриг под именем отца Федора. Из монастыря он уже никуда не уезжал, оставаясь там ровно столько, сколько надо было для его безопасности.
Почему для исчезновения был избран именно Георгиевский монастырь? Разумеется, на нём остановились не случайно. Монастырь был расположен в весьма малолюдном месте на берегу моря, что было тоже немаловажно по соображениям сохранения тайны. Неподалеку находилась резиденция Воронцова, и тот весьма легко контролировал всю ситуацию. Рядом Крымские горы, где легко скрыться в случае необходимости. Местные жители — почти одни крымские татары, весьма далекие от российских дел. Сам монастырь был достаточно малолюден, а размещение его келий на террасах обрывистого мыса Фиолент давало возможность оставаться инкогнито даже местным монахам. К тому же, не будем забывать, Георгиевский монастырь был старейшей православной обителью на территорией России. Именно на эту землю вступил в своё время святой Андрей Первозванный, а спустя столетия явился образ Георгия Победоносца, под знаменем которого Александр освободил Европу от наполеоновского нашествия.
Александру I очень понравился Крым. На пути из Ялты в имение графа Воронцова в Алупке император остановился в местечке с прелестным названием Ореанда, где «обедал со многими приглашенными в простой хижине». Ореанда очаровала Александра I, он сразу же принял решение приобрести для себя большой участок земли и, поскольку уже давно задумал удалиться от дел, поселиться здесь, в Крыму.
М.С. Воронцов почти сразу приобретает Ореанду у А. Кушелева-Безбородко за 50 тысяч рублей. Таким образом, Ореанда становится первым царским имением на южном берегу Крыма. Окончательное оформление покупки было произведено уже после загадочной смерти Александра I, когда имение перешло к Николаю I.
Ещё дореволюционные историки обратили внимание на тот факт, что в точности установить, что же делал император после отъезда из Георгиевского монастыря, не представляется возможным. Существует как минимум три версии, причем ни одна из них не подтверждена документально.
Вот официальные воспоминания посвященного в тайну императора его личного врача Д. К. Тарасова о возвращении Александра I из Георгиевского монастыря: «Наступила темнота, и холодный ветер усиливался, становился порывистым, а Государь всё не возвращался. Все ожидавшие его местные начальники и свита начали беспокоиться, не зная, чему приписать такое замедление в приезде императора. Адмирал Грейг (командующий Черноморским флотом. — В.Ш.) приказал полицмейстеру поспешить с факелами навстречу к императору, чтобы освещать ему дорогу. Наконец, ровно в 8 часов прибыл государь. Приняв адмирала Грейга и коменданта в зале, Александр отправился прямо в кабинет, приказав поскорее подать себе чаю, от обеда же отказался…»
На самом деле всё обстояло совсем иначе. Вместо императора из Георгиевского монастыря выезжает одетый в его мундир фельдъегерь Масков, загодя доставленный туда де Виттом. Именно поэтому и произошла весьма значительная заминка с отъездом из монастыря «Лжеалександра».
Что касается Маскова, то его загодя отправили из Петербурга, якобы в Таганрог, однако в дороге ему сообщают, что император находится в Крыму. Масков поворачивает в Крым и попадает в руки де Витта. Скорее всего, бедный фельдъегерь совершенно не догадывался об уготованной ему роли. Иван Осипович тайно привозит Маскова в монастырь, и Александр велит ему переодеться в императорскую одежду. Для чего это делается, фельдъегерю знать не положено. Ему приказано принять участие в маскараде, и он это приказание исполняет.
При этом сопровождающие Александра-Маскова теперь делают всё, чтобы выехавший из Георгиевского монастыря «император» близко не общался с теми, кто хорошо знал императора раньше. Именно поэтому «император» столь упорно отказывается от общих обедов и встречается с адмиралом Грейгом и другими должностными лицами только в ночное время. Одновременно распространяется слух, что император болен, а потому некоторые изменения его облика теперь можно вполне списать на счёт болезни.
Последующие посещения «императором» ханского дворца в Бахчисарае, Успенского монастыря, церквей, казарм в Евпатории особой опасности не представляли. Из встречавших там «Александра» до этого мало кто видел, а если и видел, то с того времени прошло уже достаточно много времени, да и внешнее сходство с настоящим императором было поразительным. Кроме того, рядом всегда находились надежные люди во главе с генералом де Виттом, готовые в любой момент принять необходимые меры. При этом все эти поездки «император» совершает в сопровождении минимума людей и везде упорно избегает встреч с местными начальниками.
Наконец переодетый Масков едет в закрытой коляске в Таганрог. Теперь в дело включаются лейб-медики, начавшие усиленно потчевать фельдъегеря только им известными снадобьями. С каждым днем в продолжение этой поездки Маскову становится всё хуже. Вскоре его уже схватывают «сильные пароксизмы».
Все участники операции встречаются в селении Орехово перед самым Таганрогом. Именно там якобы происходит случайная смерть Маскова-фельдъегеря, в то время как уже смертельно больной Масков-«император» лежит в коляске. Здесь встречаются императорские лейб-медики, де Витт и прибывший из штаба 2-й армии Дибич. Обсуждаются последующие шаги операции.
Однако в Орехове едва не произошла накладка. Неожиданно для всех туда приехали екатеринославский губернатор и архиепископ Феофил, незадолго до этого подравшиеся между собой. Оба приехали жаловаться друг на друга императору. Драка губернатора и архиепископа имела большой резонанс, а потому отказать скандалистам в приеме было никак нельзя. Это могло вызвать нежелательные подозрения. Посовещавшись, заговорщики решили встречу с «императором» провести. Однако «император» ввиду плохого самочувствия принимал двух недругов лежа и за него большей частью говорил Дибич, который заставил подравшихся быстро помириться, после чего отпустил обоих с миром.
Здесь же, в Орехове, генерал де Витт отделяется от основной группы. Согласно заранее продуманному плану, он должен прибыть в Таганрог несколько позднее «императора», чтобы попасть к нему на прием и документально засвидетельствовать, что принимающий его Александр I является самим собой.
В Таганроге закрытую коляску уже встречают князь Волконский и главный лейб-медик Виллие. Жить «императору» остается ровно две недели. Однако отныне доступ к нему ограничен. Его посещают лишь участники операции, среди них врачи и императрица Елизавета Алексеевна, которая тоже играет уготованную ей роль. К сохранившимся воспоминаниям о последних днях жизни императора Александра в Таганроге, написанных Тарасовым и Волконским, следует относиться осторожно, так как это не что иное, как специально изготовленные фальшивки для широкой публики.
Единственным человеком, кого принимает смертельно больной император, становится генерал-лейтенант Иван де Витт, прибывший с сообщением о заговоре в Южной армии. На самом деле вопрос о готовящемся масонском заговоре, скорее всего, был уже обсужден во дворце Воронцова или в Георгиевском монастыре. Там Александр велел де Витту ввиду важности и срочности этого дела обратиться с докладом напрямую к своему брату Николаю, не дожидаясь восшествия того на престол. Все понимают, что период междуцарствования — самый опасный для властей и заманчивый для заговорщиков. К тому же отныне Александр никогда уже не сможет вернуться обратно на трон. Все пути отступления для него отрезаны.
Обозначив для посторонних своё общение с ещё живым императором и получив от него «официальное» разрешение на предупредительные действия против заговорщиков, граф сразу спешит в Петербург к Николаю со списками заговорщиков. Помимо этого де Витт информирует Николая, что операция «Исчезновение» развивается в полном соответствии с планом.
Двойник с самого начала своей деятельности в качестве личного императорского фельдъегеря был уже обречен на смерть. Разумеется, Маскова по-человечески жалко. Этот ничего не понимавший человек был, вероятно, очень горд своей схожестью с Александром I. Масков был обречен на смерть во имя высших государственных целей. Испытывая жалость к судьбе этого несчастного человека, мы в то же время должны понимать, что во все времена, когда речь шла о высших интересах, судьба простого человека, случайно оказавшегося втянутым в орбиту смертельных политических интриг, ни для кого ровным счетом ничего не значила.
Официально считается, что Александр I прожил в Таганроге после возвращения из Крыма ровно две недели. Сколько прожил на самом деле «император» Масков, никто не знает. Вероятно, что несколько меньше, ибо участникам операции надо было иметь несколько дней «форы», прежде чем объявить о смерти императора.
Историками давно замечено, что в описании смерти императора Александра нет единства. Одни пишут, что он скончался спокойно, другие — в мученьях. Одни пишут, что император умирал в полном сознании, другие, наоборот, — без сознания. Нет единства и в том, кто же присутствовал при смерти Александра. Согласно воспоминаниям Тарасова, — только врачи и императрица. Однако на весьма распространенной гравюре у смертного одра Александра изображены целых двенадцать человек. Никакого вразумительного объяснения этому нет, что весьма странно. Объяснение напрашивается лишь одно: никакой смерти императора не было вообще (произошедшая смерть фельдъегеря Маскова никого, разумеется, особо не интересовала и не волновала), а потому участники операции впоследствии и сочиняли обстоятельства кончины «императора Александра Павловича» каждый на свой лад. То, что они не договорились на этот счет, тоже вполне объяснимо. Вначале всем было просто не до этого.
Организация исчезновения Александра, тревожный период межцарствования, отречение от престола великого князя Константина, восшествие на престол Николая и, наконец, подавление восстания декабристов — всё это, разумеется, отвлекло внимание участников операции, которые принимали самое непосредственное участие во всех этих событиях. Когда же все это минуло, то участники таганрогских событий уже никогда не собирались вместе. Видимо, острой необходимости в этом тоже теперь не было. Власть к этому времени уже была в крепких руках Николая I, и обстоятельства смерти императора Александра сами собой отошли в область истории.
Впрочем, многие факты уже тогда вызывали недоумение. Так, бесследно исчезли последние страницы дневника, который вела в Таганроге императрица Елизавета. Впечатление такое, что кто-то специально вырвал и уничтожил их. Но кто, когда и почему?
Известно о том, что, вступив на престол, Николай I уничтожил много документов своего старшего брата, относившихся к последним месяцам его правления. Кроме того, Николай сжег личный дневник своей матери. Видимо, именно Мария Федоровна являлась передаточной инстанцией между ними. Историки в связи с этим отмечают одну фразу, сказанную некогда Александром Константину:
«Когда мне придет время абдикировать, то я дам тебе знать, а ты мысли свои напиши к матушке!»
Есть немало свидетельств, что тело покойного императора стало столь неузнаваемо, что узнать его было просто невозможно. Что касается императрицы Елизаветы, то она не сопровождала (как это следовало сделать по этикету) покойного супруга в столицу, а осталась отдыхать на юге. И в самом деле, зачем императрице сопровождать труп какого-то фельдъегеря!
В Петербурге гроб, несмотря на бальзамирование тела, так ни разу на людях и не вскрывали. Такую команду дал Николай I. Несколько странно вела себя и мать покойного императора, Мария Федоровна. Приезжая в Казанский собор, где стоял гроб, она всякий раз совершенно спокойно говорила:
— Да, это точно мой старший сын Александр!
Для матери, потерявшей своего первенца, такое поведение выглядело весьма странным.
13 марта 1826 года разыгрался последний акт таганрогского спектакля: «В одиннадцать часов, во время сильной метели, погребальное шествие направилось из Казанского собора в Петропавловскую крепость… В тот же день происходили отпевание и погребение. Во втором часу пополудни пушечные залпы возвестили миру, что великий монарх снизошел в землю на вечное успокоение».
Исследователь таинственной смерти императора Александра князь В. Барятинский подводит своеобразный итог всей таганрогской инсценировки такой фразой: «Где-то за тридевять земель в Таганроге в небольшом доме при микроскопическом составе свиты и прислуги, большинство которой даже не жило во дворце, при маломальской осмотрительности и осторожности вся эта мистическая драма могла быть разыграна без сучка, без задоринки, не возбуждая ни в ком не малейшего подозрения; но, по-видимому, разыграна она была не особенно удачно: кто-то не справился со своей задачей и проговорился, или что-то вышло не совсем гладко; возникли подозрения, и тревожный слух разнесся по всей России».
Как и где жил в последующие годы бывший император Александр, в точности никто не знает. Вполне возможно, что именно он и был сибирским отшельником Федором Кузьмичом, в котором многие современники видели Александра I; или, наоборот, Федор Кузьмич был всего лишь очередной отвлекающей фигурой, а настоящий Александр I спокойно доживал своей век в Георгиевском монастыре.
Любопытно, что император Николай I не оставил вниманием семейство Маскова в течение всего своего долгого царствования. Жене и дочерям Маскова выплачивалось полное денежное содержание. Все долги, которые делало семейство Масковых, император выплачивал. Дочери «павшего за Отечество» фельдъегеря были определены за казенный счёт на учебу в мещанское училище благородных девиц. Свою вину за вынужденное убийство несчастного человека Романовы прекрасно сознавали и хоть как-то старались загладить. Тем не менее в семье Масковых долгое время хранилось предание, что в Петропавловской крепости вместо императора Александра I похоронен глава их семейства.
Также известно, что в семьях доктора Тарасова и графа Остен-Сакена панихиды по усопшему Александру I с 1825 года не служились. Первая панихида по Александру в этих семьях была отслужена лишь в 1864 году, т. е. после смерти старца Федора Кузьмича. Многие очевидцы свидетельствовали, что некоторые близкие к царю люди, в том числе В.П. Кочубей, отказались признать в усопшем Александра I. Была смущена и его мать, Мария Федоровна. Специальная комиссия под председательством великого князя Николая Михайловича установила, что Николай I и Федор Кузьмич были в постоянной переписке. Она велась шифром, ключ к которому был обнаружен в фамильном хранилище Романовых. Этот факт был доложен Николаю II.
Данные о сличении почерков императора и старца также противоречивы. Вопреки мнению великого князя Николая Михайловича, тождество почерков признал занимавшийся этим вопросом известный юрист А.Ф. Кони, а также генерал Дубровин, хорошо знавший почерк Александра I. Причем А.Ф. Кони был совершенно категоричен: «Письма императора и записки странника писаны рукой одного и того же человека». Любопытно, что Николай I позднее уничтожил дневник Елизаветы Алексеевны, переписка Федора Кузьмича с Остен-Сакеном исчезла.
Заслуживает внимания недавняя публикация документа барона Н.Н. Врангеля, писателя и публициста, который представил свидетельство сына известного психиатра И.М. Балинского — И.И. Балинского. Это записка, в которой И.И. Балинский передает рассказ швейцара Е. Лаврентьева, служившего в клинике его отца. До этого Лаврентьев долгие годы состоял при усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе. Он-то и рассказал, как однажды ночью, в 1864 году, в присутствии Александра II и министра двора графа Адальберга была вскрыта гробница Александра I, оказавшаяся пустой, и в неё был помещен гроб, в котором лежал длиннобородый старец. Всем присутствовавшим при этой церемонии было приказано хранить тайну. Служители получили щедрое вознаграждение, а затем были разосланы в разные концы России. Кстати, эта версия, идущая из семьи Балинских, была хорошо известна в русских эмигрантских кругах. Вместе с тем имеются известия, что при последующих вскрытиях гробницы Александра I (в XX веке) обнаруживалось, что она пуста.
По данным генерал-адъютанта князя Л.А. Барятинского, Александр II, будучи наследником престола, встречался со старцем. Николай II в качестве наследника престола побывал на могиле старца, как, впрочем, и другие великие князья, посещавшие Сибирь. Известен интерес к этой проблеме и Александра III.
По свидетельству Л.Д. Любимова, великий князь Дмитрий Павлович (который был близок с биографом Александра I великим князем Николаем Михайловичем) сообщил автору в Париже, что около 1914–1915 годов Николай Михайлович в большом волнении признал, что на основании точных данных он пришел к выводу о тождестве императора и старца. Также Любимов сообщил, что в своё время Дмитрий Павлович поинтересовался мнением Николая II по этому делу и император не отрицал реальности существующей легенды.
Интересно следующее высказывание пушкиноведа Н. Эйдельмана: «Любопытно, что даже такой осведомленный и влиятельный царедворец, как де Витт, до конца дней был уверен, будто Александр I погиб насильственной смертью…»
Однако вернемся к событиям, предшествующим кончине царя. Почему де Витт распускал такой слух? Думается, для того, чтобы этим слухом пресечь возможные слухи о том, что император жив и где-то скрывается. Не секрет, что когда слухов много, то люди начинают сомневаться в их реальности!
Что касается генерала де Витта, то он свою задачу исполнил, как и подобает настоящему профессионалу, точно и тайно. Во всяком случае, никаких нареканий за операцию он не имел, зато сразу же по восшествии на престол Николая I де Витт был удостоен высочайшего благоволения. Официально это виделось, как благодарность за участие в раскрытии декабристского заговора, но так ли было на самом деле?
В жизни Ивана де Витта было совершено немало невероятных тайных операций, однако операция по исчезновению императора Александра I была самой секретной.
ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ
В 1823 году де Витт назначается командиром 3-го резервного кавалерийского корпуса во 2-й (Южной) армии. Однако корпус этот не простой, а поселенный, и Иван де Витт сохраняет всю полноту своей власти начальника всех поселений Юга России.
Резервный кавалерийский корпус комплектовался за счёт украинцев и поляков. Иван Осипович прекрасно знал театр предполагаемых военных действий, национальные особенности и язык своих подчиненных. Кроме того, корпус, который принадлежал к резервным частям, был кадрирован, то есть имел далеко не полный численный состав. Поэтому у графа имелось достаточно свободного времени для ведения как разведывательной работы в Польше и Турции, так и контрразведывательной — в собственной армии.
Это было время, когда по всей армии крепло и организационно оформлялось оппозиционное режиму офицерское движение. Особенно сильно было влияние заговорщиков-масонов в столичной гвардии и в Южной армии. И если в первом случае это в большой мере объяснялось жаждой славы и острых ощущений у скучающих от безделья гвардейцев, большинство из которых состояли в многочисленных масонских ложах, то на юге противоправительственные кадры формировались в значительной мере из офицеров-поляков, ненавидевших как российского императора, так и саму Россию.
«Масоны и декабристы, — писал Н. Бердяев, — подготовляют появление русской интеллигенции XIX в., которую на западе плохо понимают, смешивая с тем, что там называют intelectuels. Но сами масоны и декабристы, родовитые русский дворяне, не были ещё типичными интеллигентами и имели лишь некоторые черты, предваряющие явление интеллигенции».
Французский посол в Петербурге Ланжероне в депеше от 11 апреля 1820 года доносил в Париж: «…вся молодежь, и главным образом офицерская, насыщена и пропитана либеральными доктринами. Больше всего её пленяют самые крайние теории: в Гвардии нет офицера, который бы не читал и не перечитывал бы труды Бенжамена Костана и не верил бы, что он их понимает».
«В гвардии, — сообщал 29 августа 1822 года заместитель французского посла граф Буальконт, — сумасбродство и злословие дошли до того, что один генерал недавно нам сказал: иногда думается, что только не хватает главаря, чтобы начался мятеж. В прошлом месяце в гвардии открыто распевалась пародия на известный мотив “Я долго скитался по свету”, которая содержала в себе самые преступные выпады по адресу Его Величества лично, и на Его поездки и конгрессы: эта пародия распевалась многими офицерами. Затем, то, что произошло в собрании молодых гвардейских офицеров, показывает так ярко дух, царящий среди них, что нельзя об этом не донести. Возбужденные предшествовавшими горячими и невоздержанными спорами относительно политических событий, присутствовавшие на этом собрании 50 офицеров закончили его тем, что, вставши из-за стола, проходили по очереди мимо портрета Императора и отпускали по его адресу ругательства. Я имел случай видеть список русских масонов, составленный пять лет назад: в нём было около 10 000 имен, принадлежащих к 10–12 ложам С. Петербурга… в громадном большинстве это были офицеры».
Из существовавших в то время масонских лож в России именно Кишиневская, основу которой составляли офицеры 2-й армии, являлась наиболее антигосударственной. Впоследствии это признает и Пушкин в своем письме Жуковскому от 20 января 1826 года: «Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи».
Движение декабристов традиционно представляется у нас как подвиг героев-романтиков во имя демократизации государства. На самом деле всё было намного сложнее и не столь однозначно. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать декабристский программный документ «Русская Правда». Чего же желали добиться для народа его авторы?
Прежде всего, низложения и физического уничтожения всей императорской фамилии, включая женщин и детей. В 1825 году в Петербурге это сделать, как известно, не удалось, зато вполне получилось в 1918 году в Екатеринбурге.
На смену императору должен был прийти диктатор-масон, опирающийся на временное прозападное правительство. Предусматривалось расчленение России. В первую очередь должны были отделиться Польша и Литва. Такое условие поставили участвующие в заговоре офицеры-поляки. Затем подлежала отделению и Финляндия. Не исключалось последующее отделение Украины и Кавказа.
П.И. Пестель намеревался, в случае прихода к власти, забрать у России её западные губернии, Украину и Кавказ, а поэт К.Ф. Рылеев считал полезным вообще расчленить Россию на 50 (по числу губерний) самостоятельных государств, т. е. берите независимости столько, сколько проглотите! Не напоминают ли эти планы события дней не столь давних?
В случае победы декабристов к власти в России должна была прийти военная хунта, находящаяся в полном идейном и организационном подчинении у западных масонских лож со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чего стоят только планы декабристов о создании стотысячного жандармского корпуса в России! А ведь при Николае I он не насчитывал и пяти сотен человек! Инакомыслие, по мнению руководителей декабризма, должно было быть вырвано по всей России с корнем, а непокорных ждали кровавые массовые репрессии! Планировались и специальные лагеря для «перевоспитания» инакомыслящих, т. е. самые настоящие концлагеря. Царская фамилия подлежала полному физическому уничтожению.
На роль всероссийского диктатора планировался командир Вятского пехотного полка П.И. Пестель (он же автор «Русской Правды») из саксонских немцев, отличавшийся личной храбростью, крайней жестокостью в обращении с нижними чинами и явными бонапартовскими замашками. Именно Пестель возглавлял масонов Южной армии, кроме того, у него были особые отношения с де Виттом.
Вот как выглядит в изображении Д.С. Мережковского П.И. Пестель: «…Ему лет за тридцать. Как у людей, ведущих сидячую жизнь, нездоровая, бледно-желтая одутловатость в лице; черные, жидкие с начинающей лысиной, волосы; виски по-военному наперед зачесаны: тщательно выбрит; крутой, гладкий, точно из слоновой кости точеный лоб; взгляд черных, без блеска, широко расставленных и глубоко сидящих глаз такой тяжелый, пристальный, что, кажется, чуть-чуть косит; и во всём облике что-то тяжёлое, застывшее, недвижное, как будто окаменелое».
А вот как излагает Д.С. Мережковский взгляды П.И. Пестеля: «Соединение Северного Общества с Южным на условиях таковых предлагается нашею Управою. Первое: признать одного верховного правителя и диктатора обеих управ; второе: обязать совершенным и безусловным повиновением оному; третье: оставя дальний путь просвещения и медленного на общее мнение действия, сделать постановления более самовластные, чем ничтожные правила, в наших уставах изложенные (понеже сделаны были сии только для робких душ, на первый раз), и, приняв конституцию Южного Общества, подтвердить клятвою, что иной в России не будет… Главное и первоначальное действие — открытие революции посредством возмущения в войсках и упразднения престола, — ответил Пестель, начиная, как всегда, в раздражении, выговаривать слова слишком отчетливо: раздражало его то, что перебивают и не дают говорить. — Должно заставить Синод и Сенат объявить временное правление с властью неограниченною… Всякое различие состояний и званий прекращается; все титулы, и самое имя дворянина истребляется; купеческое и мещанское сословия упраздняются; все народности от права отдельных племен отрекаются, и даже имена оных, кроме единого, всероссийского, уничтожаются… Когда же все различия состояний, имуществ и племен уничтожатся, то граждане по волостям распределятся, дабы существование, образование и управление дать всему единообразное — и все во всём равны да будут совершенным равенством… Цензура печати строжайшая; тайная полиция со шпионами из людей непорочной добродетели; свобода совести сомнительная: православная церковь объявлялась господствующей, а два миллиона русских и польских евреев изгоняются из России, дабы основать иудейское царство на берегах Малой Азии. Мундир… завести для всех россиян одинаковый, с двумя параллельными шнурами в знак равенства!»
На самом деле настоящее имя Павла Пестеля — Пауль. Вообще-то саксонец Пауль Пестель должен быть столь же дорог России, как Карл Радек, Лев Бронштейн и прочие революционеры всемирного масштаба. Как «истинный русак», Пестель счёл за лучшее сменить имя Пауль на Павел и при каждом удобном случае любил заявлять, что он не любит чужестранных слов. Демонстрируя свою русскость, он изобретал собственные слова: революция — превращение, тиранство — зловластье, республика — народоправление. Это напоминает шишковские: микроскоп — лупоглаз, клизма — задослаб, но если романтик Шишков лишь наивно заблуждался, то у прагматичного Павла-Пауля это было программой его будущей личной диктатуры. Говоря о необходимости цареубийства, Пестель говорил декабристу Поджио, что дело не кончится убийством тринадцати наиболее видных представителей царской семьи! Пестель был способен на предательство. Пушкин, вспоминая о встрече с Пестелем, писал, что он предал «Этерию» (тайную организацию, руководившую восстанием греков). Передавая этот факт в своей книге «Декабристы», М. Цейтлин пишет: «Пестель никогда не стеснялся в средствах к достижению цели». Так, вздумав однажды убрать из своего полка какого-то неугодного ему офицера, он не постеснялся донести Киселеву, что этот офицер «карбонарий». «Макиавелли!» — назвал его в своём ответном письме Киселев.
Действуя в лучших масонских традициях, лидеры декабризма требовали от своих подчиненных всяческого проникновения в руководство государственными структурами, чтобы потом уже сверху парализовать деятельность этих структур. Именно поэтому столь рьяно, к примеру, стремился стать председателем петербургской палаты уголовного суда К.Ф. Рылеев и надворным судьей в Москве — И.И. Пущин…
Петербургские декабристы-гвардейцы в отличие от своих южных коллег были всё же более либеральны. Зато «Южное общество» во главе с Пестелем представляло собой наиболее радикальное крыло декабризма.
Наряду с крикунами-цареубийцами — А.И. Якубовичем, М.С. Луниным и П.Г. Каховским — декабрист Н.Н. Оржицкий «выражал желание особым способом расправиться с царствующим домом» — во избежании излишних затрат на многие виселицы возвести одну «экономическую виселицу», достаточно высокую, на которой повесить царя и великих князей «одного к ногам другого» (вариантом этого предложения было — повесить царя и всех великих князей указанным способом на высокой корабельней мачте). Что и говорить, с большой фантазией были ребята!
Все вожди декабризма являлись на тот момент так называемой золотой молодежью, бунтующими барами, как назвал их Ф. Достоевский, увлеченными масонскими идеями. Отец Пестеля был генерал-губернатором Сибири; отец Муравьёвых — помощником министра и воспитатель царя Александра I; отец Коновницына — военный министр; отец Муравьева-Апостола — посланник в Мадриде; дед Чернышева — фельдмаршал и один из виднейших советников Екатерины II. Молодой граф Бобринский — внук Екатерины. Рылеев сам был весьма небедным чиновником богатейшей Русско-американской компании, своеобразного государства в государстве.
На словах бунтующие баре желали устроить республику, однако на деле были категорически против отмены крепостного права, вернее, против того способа, который хотел применить Александр I. Император мечтал освободить крестьян с землей, декабристы по-английски — без земли. Декабрист Н. Тургенев в своей книге «Россия и русские» признался: «Прибавлю, что в данном случае, как и во многих других, я был очень опечален и поражен полным отсутствием среди добрых предначертаний, предложенных в статьях устава общества, главного, на мой взгляд, вопроса: освобождения крестьян». Никто из декабристов своих крестьян не освободил. Они только говорили об освобождении. Что ж, лозунги — это лозунги, но как же обделить самого себя?
Поэтому реально говорить о том, что декабристы хотели освободить крестьян, — это глупость. Если они и мечтали о чем-то, то исключительно о перераспределении богатств от старых хозяев к новым.
Кстати, тот же декабрист Н. Тургенев, много говоривший о любви к народу и необходимости «отмены рабства», преспокойно выгодно продал свих крестьян. Так же, кстати, поступил и первый «демократ» А. Герцен, который, продав своих крепостных крестьян, в своё удовольствие прожил жизнь в Париже, поливая грязью Россию.
При этом, как это ни покажется странным, реальными противниками крепостного права были вовсе не декабристы, а люди из ближайшего окружения будущего императора Николая Павловича и близкие друзья графа де Витта: граф Михаил Воронцов и генерал Павел Киселев. Что касается последнего, то уже в царствование Николая I, а потом и Александра II, он являлся главным специалистом по крестьянскому вопросу в России.
Весьма оригинально думал П. Пестель решить в России еврейский вопрос. Он предполагал, ни много ни мало, вооружить всех евреев и отправить на завоевание Палестины. А так как евреям одним с турками не справиться, то в помощь евреям должна была выступить русская армия. Не правда ли, весьма мило? Можно только представить, что бы произошло, случись эта авантюра на самом деле… Идеалом Пестеля, как известно, были английские помещики, сгонявшие крестьян со своей земли и организующие на ней образцовые хозяйства фермеров-арендаторов. Думается, это крестьянам вряд ли бы понравилось. Последовал бы неминуемый крестьянский бунт, в ответ начались репрессии и беспощадная гражданская война. Так что прекрасные перспективы для России в случае «воцарения» П. Пестеля вряд ли предвиделись.
Декабрист Е. Якушкин весьма откровенно писал о своем подельнике П. Пестеле: «На средства не был разборчив; солдаты его не любили; всякий раз, когда император или великие князья назначали смотр, он жестоко наказывал солдат. При учреждении военных поселений он хотел перейти туда на службу и обещал, что скоро у него возмутятся». Цитата Якушкина весьма примечательна, и вовсе не тем, что Пестель был настоящим зверем для своих солдат, — это понятно и без Якушкина. А вот пассаж о желании Пестеля перейти в военные поселения и поднять поселенцев на мятеж весьма примечателен. В этом переводе для Пестеля действительно был резон: гораздо лучше поднять на мятеж целый кавалерийский корпус, чем один Вятский пехотный полк. При этом направление деятельности Пестеля здесь совершенно понятно: сначала постараться прибрать все нити административной власти Южных военных поселений в свои руки, затем, интригуя, вызвать недовольство поселенцев и дискредитировать в их глазах генерала де Витта. А затем уже поднимать военные поселения на мятеж, который, в случае примыкания к ним хотя бы части полков 2-й армии, уже становился всероссийским!
По существу, к концу царствования императора Александра I Россия находилась в преддверии масонского переворота с перспективой гражданской войны и последующего всеобщего кровавого террора. Именно это происходило во время масонской революции во Франции, именно так все будет происходить спустя десятилетия и у нас в России…
Оценивая участие Ивана Осиповича де Витта в раскрытии декабристского заговора, необходимо оговориться, что в данном случае он действовал уже не только как разведчик, но и как контрразведчик. В начале XIX века обе профессии были ещё неразделимы, а потому большинство разведчиков одновременно занимались и вопросами контрразведки.
Скорее всего, на декабристский заговор де Витт вышел через своих польских агентов. Как известно, помимо «Южного общества» как такового к декабристскому движению примыкало и так называемое общество «Соединенных славян», где решающую роль играли польские и украинские националисты. К моменту начала восстания обе организации готовились объединиться. Довольно быстро де Витт установил, что все нити заговора в Южной армии тянутся к полковнику Пестелю. Однако для проникновения внутрь организации заговорщиков нужны были не случайные, а хорошо подготовленные, умелые и, самое главное, преданные агенты.
Именно поэтому вскоре де Виттом был завербован капитан Вятского полка А.И. Майборода и личный друг и ближайший соратник генерала коллежский советник А. К. Бошняк.
Что касается Майбороды, то это был вполне заурядный служака, обуреваемый затаенной ненавистью к баловню судьбы Пестелю. По замыслу де Витта, именно Майборода и должен был войти к нему в доверие. Это облегчалось тем, что Майборода был командиром гренадерской роты и пользовался особым расположением своего полкового командира, т. е. Пестеля.
Бошняк же должен был информировать де Витта обо всем происходящем в среде рядовых заговорщиков. О внедрении в ряды декабристов А.К. Бошняка весьма подробно вспоминал в своих мемуарах декабрист князь С.Г. Волконский: «В половине 1824 года граф Витт через избранного им агента-помещика, жившего близь Елизаветграда Херсонской губернии Бошняка, человека умного и ловкого, и принявшего вид передового лица по политическим мнениям, вошел в сношение с тайным обществом. Витт, как хитрый человек, догадывался во многом о существовании этого общества, но открытием тайного общества в видах предательства, хотел выслужиться перед Государем и тем восстановить доверие Государя к себе, колеблющееся, впоследствии происков Аракчеева, который имел данные о его денежных злоупотреблениях в расходах по Южному военному поселению, которого он был начальником. По внушениям Витта, Бошняк сблизился с офицером Генштаба Лихаревым, молодым человеком пылким и неосторожным. Зная его постоянную и даже родственную связь с Василием Львовичем Давыдовым (один из руководителей Южного общества. — В.Ш.), он по чутью полагал или, лучше сказать, несомненно заключил, что он также принадлежит к тайному обществу. Лихарев попался в ловушку и, обвороженный… принял его (Бошняка. — В.Ш.) в члены общества».
О «злоупотреблениях» генерала де Витта в деле руководства Южными военными поселениями мы ещё поговорим в своё время. Пока же нас интересует деятельность агента Бошняка.
Итак, войдя в доверие к В.Н. Лихареву, А.К. Бошняк собрал необходимую первичную информацию, из которой сразу стали ясны огромные масштабы заговора. После этого Бошняк предпринял попытку ввести в тайное общество самого де Витта. Для этого он объявил Лихареву, что генерал де Витт вполне разделяет убеждения декабристов и готов примкнуть к заговорщикам. Лихарев на приманку клюнул. Ещё бы! Заполучить в свои ряды командира трёх кавалерийских дивизий! К тому же можно было не сомневаться, что недовольные своей жизнью поселенцы поддержат восстание. О предложении Бошняка Лихарев доложил руководству Южного общества. Мнения руководителей разделились. Если Давыдов был за привлечение де Витта к заговору, то поляк А.П. Юшневский (лидер польских националистов среди декабристов) был категорически против, так как кое-что знал о тайной деятельности де Витта в Польше. Пестель колебался. Ряд историков считает, что он имел свои виды на де Витта, но и побаивался его. Думается, отношение Пестеля к де Витту было более сложным, и вот почему.
Дело в том, что де Витта с Пестелем связывали весьма непростые личные отношения. Летом 1821 года Пестель активно ухаживал за приемной дочерью де Витта Изабеллой. При этом их отношения зашли весьма далеко: Пестель сообщил родителям о желании вступить в брак и даже познакомил с ними невесту. Некоторые историки, в том числе и автор книги «Пестель» Оксана Киянская, считают Изабеллу родной дочерью де Витта. Это ошибка. Своих детей у генерала никогда не было. Изабелла была дочерью Юзефы Любомирской от её первого брака с Валевским и, таким образом, приходилась родной племянницей некоронованной жене Наполеона Марии Валевской! Что же касается де Витта, то он являлся всего лишь её отчимом.
Судя по ряду поступков Пестеля-сына, к советам отца он прислушивался. Сохранились свидетельства о его сложных отношениях с генерал-лейтенантом де Виттом, по мнению Ю.М. Лотмана, — одной из самых грязных личностей в истории русского политического сыска: «Шпион не столько по службе, сколько из призвания, Витт лелеял далеко идущие честолюбивые планы. По собственной инициативе он начал слежку за рядом декабристов: А.Н. и Н.Н. Раевскими, М.Ф. Орловым и др. Особенно сложные отношения связывали его с П. Пестелем. Пестель прощупывал возможность использовать военные поселения в целях тайного общества. Он ясно видел и авантюризм, и грязное честолюбие Витта, но и сам Пестель, за что его упрекали декабристы, был склонен отделять способы борьбы за цели общества от строгих моральных правил. Он был готов использовать Витта, так же как позже надеялся сделать из растратчика Майбороды послушное орудие тайных обществ. Недоверчивый Александр I долго задерживал служебное продвижение Пестеля, не давая ему в руки самостоятельной воинской единицы. А без этого любые планы восстания теряли основу. Пестель решился использовать Витта: жениться на его дочери — старой деве и получить в свои руки военные поселения юга. В этом случае весь план южного восстания опирался бы на бунт поселенцев, “взрывоопасность” которых Пестель полностью оценил. Встречная “игра” Витта состояла в том, чтобы проникнуть в самый центр заговора, существование которого он ощущал интуицией шпиона. Получив сведения о заговоре в Южной армии, он намеревался использовать этот козырь в сложном авантюрном плане — в зависимости от обстоятельств продать Пестеля Александру или Александра Пестелю…. Судьба решила по-своему: Александр, наконец, вручил Пестелю полк, и обращение декабристов к Витту сделалось ненужным».
Позднейшие историки утверждали, будто Пестель собирался жениться не по любви, а по расчёту. Его невеста была немолодой и некрасивой, и только высокая должность её приемного отца заставила 28-летнего офицера сделать предложение. Предполагалось также, что заговорщик хотел с помощью будущей жены упрочить своё положение в армии, а конкретнее — в военных поселениях. Поселенные солдаты, недовольные своим положением, были бы верными союзниками в случае начала революции. Но в конце 1821 года Павел Пестель стал полковником, получил под команду пехотный полк — и посчитал, что карьера и так складывается неплохо. И отказался от женитьбы.
Документами это мнение никак не подтверждается. Сколько лет было невесте в момент столь неудачного сватовства, мы не знаем. Относительно того, была Изабелла красивой или нет, точных сведений нет, за исключением письма отца Пестеля, где тот признает её красоту.
Относительно романа с Изабеллой де Витт Павла Пестеля подозревали в корыстных намерениях все: и его товарищи по заговору, и начальники, и следователи, и историки. В данном случае корысти быть просто не могло: семейственность в армии никогда особо не поощрялась, и Пестель не мог надеяться на получение какой-нибудь мало-мальски значимой должности у де Витта. Разумеется, полностью такого варианта исключать нельзя, зная амбициозность Пестеля и его наполеоновские планы относительно захвата власти в России.
Возможно, что причина, по которой брак расстроился, была другой: невеста и её родственники были категорически отвергнуты родителями жениха. Познакомившись с Изабеллой и её семьей, Иван Пестель написал сыну: «Я увидал, что эта особа довольно красива, но которая должна была быть прежде ещё более красивой. Её поведение показалось мне робким, но очень осторожным, и даже более осторожным, чем я желал бы в особе её возраста. Её мать — совершенная дура, которая постоянно болтает и говорит то, что ей взбредет в голову, не размышляя много. Она мне совсем не понравилась: муж её, граф Витт, низкий интриган». И добавил в другом письме: «Я во многих отношениях держусь мнения совершенно противоположного твоему. Образ жизни нашей семьи не имеет никакого отношения к твоей женитьбе».
Разумеется, оценки матери и дочери де Витт, данные Иваном Пестелем, достаточно субъективны. Что же не устраивало Пестеля-старшего? Он отмечает, что невеста сына красива, но не так, как хотелось бы отцу (это, согласитесь, уже самодурство!). Пестеля-отца не устраивает «робость», т. е. скромность невесты, её осторожность, т. е. тактичность. Странно, что отец желал видеть рядом с сыном бой-бабу или прожженную светскую львицу, а не скромную девушку. Относительно ума матери невесты, может быть, Иван Пестель и прав. Юзефа Любомирская, возможно, не блистала интеллектом, и именно поэтому её в своё время использовал в интересах русской разведки де Витт. Но какое отношение имеет интеллект тёщи для зятя и тем более для свекра? Это уже придирки. Пестель-отец нелицеприятно отзывается о де Витте. Этот отзыв тоже весьма субъективен, учитывая мрачную славу самого Ивана Пестеля, отличившегося в период своего губернаторства в Сибири не только фантастическим взяточничеством, но и поистине чудовищной жестокостью, пытая и казня всех, кто был ему неугоден, за что, собственно, и был снят с должности. Разумеется, такой человек не мог проникнуться любовью к тому, кто занимался тайным сыском.
К тому же Пестель-старший не мог не знать, что сам де Витт со своей женой к этому времени уже фактически не жил, а это значит, что женитьба сына на приёмной дочери отвергнутой матери никакой особой пользы Павлу Пестелю принести не могла.
Однако думается, что инициатива разрыва в данном случае принадлежала не Павлу Пестелю. Если бы это обстояло именно так, тогда, согласно традициям эпохи, следовало ждать дуэли между ним и де Виттом. Несмотря на его фактический разрыв с матерью Изабеллы и отсутствие прямого родства с ней, объявление о женитьбе и последующий отказ были слишком большим оскорблением. Между тем отношения между Пестелем и де Виттом остались после этой истории вполне доброжелательными. Скорее всего, на разрыв решилась сама Изабелла, каким-то образом узнавшая о негативном отношении к себе родителей жениха. Гордая полячка, она, конечно же, не смогла примириться с этим. В общем, Пестель-отец был доволен исходом дела. Как этот разрыв пережил его сын, мы не знаем.
У историков нет достоверных сведений о том, были ли в жизни Павла Пестеля другие любовные связи и насколько глубоко они затронули его душу. «Есть один существенный пункт, который тебе всегда будет мешать иметь прочные связи: это твое полное отвращение к какому бы то ни было стеснению. С таким нежеланием стеснять себя довольно трудно быть нежным мужем и любящим отцом. Если хочешь, чтобы другие делали для тебя что-нибудь, надо также со своей стороны доказать готовность сделать столько же для них. Жизнь есть постоянная смена взаимных действий и потребностей», — писал ему отец как раз в разгар истории с Изабеллой де Витт. Наверное, это мнение было справедливым. Как справедливыми были и слова самого Павла Пестеля о том, что в жизни он имеет, в сущности, только одну прочную сердечную привязанность — к своим родителям.
Скорее всего, в 1824 году Пестель поддерживал неплохие отношения с де Виттом, да и тот благоволил к полковнику. В этой связи не исключено, что Пестель полагал, что в решающую минуту он сможет положиться на конный корпус своего несостоявшегося тестя. В конце концов заговорщиками было принято компромиссное решение: услуги де Витта не отвергать, но в то же время ни к каким секретам пока не допускать.
Ивана Осиповича этот вопрос внешне удовлетворил. На деле же он не оставил попыток проникнуть ещё глубже в тайное общество, причем теперь решил осуществить это через свои польские связи.
Из воспоминаний графа Сапеги: «Мы часто беседовали с графом де Виттом в его комнате, мы сошлись довольно близко. Он рассказал мне однажды о существующих в России и Польше тайных обществах, о готовящейся в России революции, которая помогла бы Польше добиться независимости. “Я слишком много обязан императору Александру, чтобы не быть верным ему. Но я решил, при первом известии об его кончине, выступить с моим корпусом на Киев и завладеть тамошним арсеналом!” — говорил он мне.
Я не понимал в то время цели подобных бесед. Узнав впоследствии, что это он обнаружил все заговоры и их членов, я понял, что это говорилось с целью разузнать кое-какие подробности и удостоверится, не принадлежу ли я к тайному обществу».
Историк В. Яхно относительно совместной деятельности де Витта и его агента Бошняка против декабристов пишет следующее: «Александр Карлович Бошняк родился 15 августа 1786 г. в имении Ушаково Нерехтского уезда Костромской губернии. Он учился в Московском университетском пансионе, служил в московском же архиве Коллегии иностранных дел. Дважды, в 1807 и 1812 гг., записывался в ополчение, но воинской славой себя не покрыл, равно как и большой карьеры в гражданской службе не сделал. Выйдя в отставку, Бошняк жил в своем костромском имении, заполняя досуги занятиями ботаникой, до которой был великий охотник. Он даже вступил в Московское общество испытателей природы и стал его деятельным членом.
На Херсонщину Бошняк перебрался в 1820 г. после того, как ему от дальних родственников досталось в наследство имение Катериновка. В недалеком соседстве, под Ново-Миргородом, при местечке Златополе, находилось другое имение — принадлежавшее брату отчима Александра Карловича, генералу Николаю Петровичу Высоцкому. Именно там, в гостях у Высоцкого, Бошняк был представлен Витту, и Александр Карлович показался графу вполне подходящим для той роли, которую он собирался ему предложить: умный, наблюдательный, образованный, Бошняк умел нравиться и “находить общий язык” с самыми разными людьми. В круг его знакомств входили несколько офицеров и помещиков, слывших либералами, — они-то и интересовали Витта. У командующего поселениями и новым херсонским помещиком состоялись несколько встреч, разговоров тет-а-тет, после которых в апреле 1825 г. граф предложил ему “послужить на благо Отечества” — Бошняк легко согласился.
Прежде всего, Витт поделился со своим агентом подозрениями в отношении семейства Давыдовых, которым принадлежало имение Каменка в Киевской губернии — графу доносили о том, что туда съезжаются лица, “находившиеся на подозрении”, но проникнуть в тайну этих посещений его людям пока не удавалось. Заручившись согласием Бошняка, Витт рекомендовал ему сблизиться с Лихаревым, офицером Генерального штаба, служившим в военных поселениях, с которым Бошняк был знаком уже года два — по своей жене Лихарев приходился генералу Высоцкому какой-то отдаленной родней и бывал в Златополе на правах близкого человека. О Лихареве графу сообщали много любопытного: молодой человек отличался пылким темпераментом и в его разговорах при случайных свидетелях частенько проскальзывали иронические высказывания в адрес власти, многозначительные намеки, “опасные словечки”. С него и решили начать. В Златополе Лихарев квартировал в доме купца Гека, и в июне 1825 г. Бошняк нагрянул к нему в гости. За ужином он основательно подпоил Лихарева и повел с ним “доверительные разговоры”, выдавая себя за убежденного противника существовавших порядков. Шервуд соглашался со всем, что говорил ему Лихарев, охотно поддержавший тему разговора. А сказать тому было что! Вскоре в своем донесении Бошняк сообщал: во время вечерней беседы ему удалось узнать, что тайное общество, о существовании которого имелись лишь подозрения, действует на самом деле. Организация делится на пять частей, называемых “вентами”. Со слов Лихарева выходило, что та “вента”, к которой принадлежал он сам, во 2-й армии располагала силами 13 пехотных полков и 5 рот артиллерии, всё командование которых примкнуло к заговору. Лихарев назвал полковника Пестеля “душой заговора” и сочинителем конституции. Без особенного усилия со стороны Бошняка собеседник поведал о своем знакомстве с Давыдовым, сообщив, что Василий Львович Давыдов возил бумаги их “венты” в Петербург для совещания с тамошними заговорщиками. Лишь наговорив так много лишнего, Лихарев спохватился, начал грозить Бошняку смертью от яда или кинжала, если тот не сумеет сохранить тайну. Александр Карлович в ответ огорошил его, сказав, что открывать ничего и не требуется, потому что об этом обществе он уже слышал от графа Витта. И Бошняк рассказал пораженному новостью Лихареву о состоявшемся недавно доверительном разговоре с графом, в ходе которого тот якобы выразил желание войти в состав тайного общества, “о котором давно знал, но хранил молчание”. По словам агента Витта, граф готов был предоставить в распоряжение заговорщиков все подчиненные ему войска, самого же Бошняка прислал для переговоров, попросив свести с В.Л. Давыдовым.
Через несколько дней Александр Карлович приехал в Каменку к Давыдову, имея рекомендательное письмо от Лихарева, и, не откладывая дел в долгий ящик, при первом же конфиденциальном разговоре с хозяином имения повторил ему всё то, что прежде говорил Лихареву: секрета заговора более не существует — о нём известно графу Витту; он же, Бошняк, эмиссар графа, уполномоченный сообщить заговорщикам о его желании немедленно войти в члены их общества. Если его примут, граф брался поднять против правительства подчиненные ему поселения и бросить в бой 50 тыс. штыков и сабель. Причину, по которой граф собирался перейти на сторону заговорщиков, Бошняк называл вполне убедительную: по его словам, командуя южными военными поселениями, граф растратил значительные суммы денег и теперь пребывал в состоянии крайней тревоги, опасаясь, что эти “финансовые операции” станут известны командующему отдельным корпусом военных поселений графу Аракчееву, самолюбие которого было задето успехами там Витта и который всячески поэтому интриговал против графа при дворе. Первая же ревизия давала в руки Аракчеева факты, достаточные для уничтожения карьеры Витта, причем непременно с последующим над ним судом. “Таким образом, — втолковывал Бошняк Давыдову, — деваться графу некуда, вся надежда только на победу нашего дела. Польза же от такого человека может выйти немалая”.
За первой встречей последовали другие, и хотя Давыдов держался настороженно, всё же Бошняку удалось выведать, что заговорщики совсем не готовы к немедленному выступлению. Они никак не могли договориться о государственном устройстве России в случае успеха их дела. Одни считали, что нужно будет ввести конституционную монархию, другие — республику, но не могли решить, какую именно: демократическую, аристократическую или правительственную? Как поступить с членами императорской фамилии? Что делать с дворянством? Дата восстания назначена не была, решили только, что в случае провала и начала арестов все должны выступить сразу же, без дополнительных распоряжений.
Ведя “переговоры” с Давыдовым, Бошняк продолжал “разрабатывать” Лихарева и постепенно узнал, что тот уже три года состоит в тайном обществе, допущен до многих тайн, даже ездил несколько раз к Пестелю, с которым поддерживал, кроме того, и тайную переписку. Лихарев назвал ему имена Рылеева, Бестужева, Муравьева, которые вкупе с Пестелем фактически составляли ареопаг руководителей заговора.
О предложениях Витта, сделанных через Бошняка, Давыдов уведомил “Тульчинскую думу Общества”, фактически являвшуюся штабом заговора на юге России. Причину измены присяге графа “думцы” сочли достаточно веской, но, все же, зная о ловкости Витта по части секретного сыска, опасались прямо ввести его в свои ряды. Лично Пестель в своем письме рекомендовал Давыдову поступать по его собственному усмотрению, а “Дума” приказала: не говоря ни “да” ни “нет”, тянуть время, обещать, что заявление Витта будет рассмотрено, но окончательное решение состоится в 1826 г. во время зимней ярмарки “Киевские контракты”. Именно тогда планировался съезд руководителей заговора, а до этого решено было проверить искренность Витта, установив за ним постоянную слежку. Лучше всего для этой роли, по мнению заговорщиков, подходил Бошняк, которому граф доверял. Для проверки “чистоты намерений” Витта от него потребовали сведений об агентах правительства, от которых он узнал о существовании тайных обществ. Пожелание было немедленно исполнено: явившись в Каменку с очередным визитом, Бошняк, напустив на себя загадочный вид, сообщил Давыдову “страшную тайну” — граф Витт назвал имена офицера свиты Корниловича и полковника Абрамова, но кроме них говорил и о других. Запугивая Давыдова, Бошняк уверял его, что общество буквально обложено шпионами — в полку Пестеля не один, а несколько офицеров ведут наблюдения, подробно сообщая о его действиях. Впрочем, заговорщики не стали слепо доверять Бошняку, стараясь, на всякий случай, держать его на расстоянии. Но, как это ни парадоксально, именно то обстоятельство, что заговорщики подозревали в Бошняке “двойного агента”, помогло ему получить важнейшие сведения! Так, к Александру Карловичу обратился капитан Майборода, командир 1-й гренадерской роты Вятского полка, которым командовал полковник Пестель, сообщив о своей готовности предоставить в распоряжение правительства все известное ему о тайном обществе и заговорщиках, к числу которых принадлежал».
Думается, что де Витту, с его талантом разведчика, всё же удалось бы лично проникнуть в ряды заговорщиков, но этому помешал нелепый случай.
Чтобы лучше понять последующие события, необходимо заметить, что в начале XIX века регулярная разведывательная и контрразведывательная служба в армии ещё только зарождалась, и многие, кажущиеся нам сегодня элементарными, законы её функционирования тогда были неизвестны. Кроме того, дворянская солидарность, многочисленные родственные и дружеские связи высшего офицерства также накладывали свой особенный отпечаток, вследствие чего генералитет и старшее офицерство считало себя вправе доверять своим близким зачастую информацию самого конфиденциального характера.
Пушкиновед Н.Я. Эйдельман пишет: «Декабрист Николай Лорер поместил в свои воспоминания следующий эпизод: “Раз Пестель мне рассказал, что, бывши адъютантом у графа Витгенштейна, стояли они с корпусом в Митаве, где Пестель познакомился с 80-летним Паленом, участвовавшим, как известно, в убийстве Павла I. Полюбив Пестеля, старик бывал с ним откровенен и, заметя у него ещё тогда зародыш революционных идей, однажды ему сказал: “Слушайте, молодой человек! Если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что, если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем! У меня есть опыт, и я знаю свет и людей”.
Руководитель дворцового переворота 11 марта 1801 года, окончившегося гибелью Павла I, генерал Петр Алексеевич Пален, как известно, был удален Александром I в отставку и поселился в своем имении близ Митавы. Как раз в Митаву прибыл в начале 1817 года и Павел Пестель, молодой кавалергардский штаб-ротмистр, адъютант Витгенштейна и один из основателей, “старейшина”, первого декабристского тайного общества “Союз спасения”. Пробыв в Курляндии более года (до весны 1818 года), Пестель создал в Митаве отрасль декабристского Союза спасения, куда принял четырех членов и, несомненно, вёл деятельность, подчиненную задачам тайного союза. Встреча 24-летнего Пестеля с 72-летним генералом Паленом, часто наезжавшим в соседний с его имением город, была естественной, и столь же естественно было начаться разговору о способах достижения тайной цели».
Один из историков-апологетов декабризма пишет: «Добавим и такое с виду второстепенное, но облегчавшее сближение обстоятельство, как известная степень гвардейского землячества у кавалергарда Пестеля и Палена, начинавшего службу в конной гвардии: поскольку кавалергарды были сформированы из нескольких эскадронов конногвардейского полка, существовала известная преемственность, особая близость двух гвардейских частей; наконец, несомненное обилие общих знакомых, связи петербургские и курляндские — всё это позволяло говорить откровенно».
Заметим, что и граф де Витт начинал свою службу в кавалергардах, что, однако, не помешало ему стать честным и последовательным защитником государства и престола. А потому скажем честно, что вовсе не кавалергардское прошлое, а преступное революционное настоящее объединило и Палена и Пестеля. Первый лично совершил цареубийство, задавив законного монарха шарфом, второй пока ещё только мечтал об этом…
В 1824 году видный деятель декабристского движения генерал-майор князь С. Г. Волконский (адепт шотландской масонской ложи «Сфинкс»), находясь на лечении на Кавказских Минеральных Водах, встретил там жену генерала П.Д. Киселева Софью (младшую сестру де Витта). (П.Д. Киселев являлся начальником штаба Южной армии. Однако из-за того, что командующей армией престарелый генерал Витгенштейн обыденными делами армии почти не занимался, а безвыездно жил в своем имении, армией фактически руководил Киселев.)
Софья Киселева, обрадованная встречей со старым петербургским знакомым, между делом рассказала Волконскому, что по пути на Воды она заезжала вместе с мужем в Елизаветград, где размещался штаб резервного кавалерийского корпуса де Витта. Там, во время одной из бесед, её брат рассказал мужу кое-что об опасности масонов-заговорщиков в Южной армии.
С.Г. Волконский знал де Витта давно и хорошо. В 1813 году они оба, будучи командирами отрядов, совместно сражались с саксонцами под Калишем, за что получили Георгиевские кресты. Как член руководства «Южного союза», Волконский знал и о попытках де Витта проникнуть внутрь движения. Князь сразу же понял всю важность полученной информации. Однако женские разговоры — это ещё не доказательство, а поэтому Волконский мгновенно прерывает своё лечение и едет в армию, однако при этом, как бы случайно, заезжает в имение Киселева Бурки, где в то время находился генерал. Благо, повод для того был, так как 19-я дивизия, где служил Волконский, квартировала как раз недалеко от Бурок. Киселев гостю-сослуживцу был рад. Во время товарищеского ужина, по словам Волконского, он сказал ему следующее:
— Сергей! У тебя и твоих друзей бродит ум! Это приведёт вас в Сибирь! Помни, что у тебя беременная жена! Уклонись от этих бредней, которых столица в Каменке! Послушай меня!
На слова Киселева Волконский сослался своим полным неведением о предмете разговора. Слушаться генерала он, естественно, не собирался. Что же касается де Витта, то на его счёт Волконский получил исчерпывающие доказательства, что разговор о тайном обществе, причем с оглашением конкретных фамилий, между Киселевым и де Виттом действительно имел место. Это значило, что де Витт желает проникнуть в тайную организацию с явно враждебными целями. О своем открытии Волконский сразу же оповестил руководство заговора. Известно, что в начале 1825 года на балу у Воронцова в Одессе он во всеуслышание заявил о том, что де Витт — шпион Александра I, его следует всем опасаться и впредь не иметь с ним никаких дел.
Однако заговорщики, в свою очередь, допустили непростительную ошибку. Обезопасить себя от де Витта они сумели, но так и не смогли — от его агентов. И Майборода, и Бошняк продолжали весьма активно и успешно действовать, не вызывая никаких подозрений среди заговорщиков. О том, что Майборода и Бошняк были агентами де Витта, тот же Волконский узнал только во время следствия по делу о восстании декабристов.
Поняв, что его деятельность заговорщиками раскрыта, де Витт прекращает попытки установления личных контактов, зато в придачу к двум своим уже действующим агентам вербует третьего. Им стал поручик 3-го Украинского полка И. Шервуд, который почти сразу начал поставлять Витту весьма ценную информацию.
Расследование подрывной деятельности Южного общества было в то время не единственным направлением разведывательного-контрразведывательной деятельности де Витта. Он не прекращает заниматься внедрением своей агентуры в ряды польской аристократии, налаживает разведывательную сеть в Турции, в Молдавском и Валахском княжествах, то есть на всех возможных театрах военных действий Южной армии.
От И. Шервуда де Витт получает информацию о некоем тайном обществе греков в Харькове во главе с графом Н. Булгари. Затем выяснилось, что это тайное общество имеет своею целью освобождение Греции от турецкого ига. Задачи общества вполне соответствовали интересам России на Балканах, а его члены могли оказаться полезными в налаживании агентурной сети на греческой территории в случае войны с Турцией. Поэтому никаких репрессивных мер к данному обществу принято не было, хотя отныне де Витт и держал харьковских греков под своим наблюдением.
Выше мы уже упоминали о некоем противостоянии И.О. де Витта и всесильного А.А. Аракчеева. По словам С.Г. Волконского, это произошло из-за хозяйственных злоупотреблений де Витта, на слух о которых опальный декабрист ссылается в своих мемуарах. Примем во внимание, что ненавидеть де Витта после своего ареста Волконский имел все основания, а потому вовсе неудивительно, что он прибег к непроверенным слухам, чтобы хоть как-то опорочить в глазах потомков своего врага.
На самом же деле столкновение с Аракчеевым и, как следствие того, охлаждение отношений с императором Александром I имело совершенно иные основания. Причем Волконский не мог о них не знать!
Дело в том, что в одном из южных военных поселений жили старообрядцы. Готовые безропотно нести все тяготы воинской повинности, они наотрез отказались брить бороды. Де Витт, вполне понимая и разделяя их мотивацию, несколько раз слал в Петербург письма, прося пойти навстречу верующим и разрешить им в порядке исключения носить бороды. За это генерал получил «неудовольствие» императора и нагоняй от всесильного Аракчеева. Граф де Витт был публично назван «опасным либералом». Тогда это означало почти опалу и отставку. Казалось бы, одного этого было бы достаточно, чтобы толкнуть генерала в стан декабристов, но ничего этого не произошло. Де Витт оказался верен присяге и престолу. Замять дело и оградить де Витта от мести Аракчеева помог давний соратник де Витта генерал-адъютант А.И. Чернышев, пользовавшийся большим авторитетом, как при дворе, так и при императоре.
Из воспоминаний князя Л. Сапеги: «Генерал Витт рассказывал мне об этой страшной экзекуции над старообрядцами с отвращением. Он не был злым человеком, но выполнил полученный приказ…»
Что же касается либеральности графа, то современники единодушно отмечали присущую де Витту гуманность к людям, причем не только к своим, но и к потенциальным противникам.
А вот воспоминания князя Л. Сапеги о событиях 1813 года, когда де Витт в рядах российской армии вступил на польскую землю: «Мы жили спокойно в Кракове, когда из Варшавы приехал официалист моей матери с письмом от неё. Со слов известной особы она предупреждала меня, что русские войска намереваются ночью ворваться в Краков, для того чтобы увезти меня и ещё несколько человек. Впоследствии я узнал, что об этом сообщил моей матери генерал Витт, который относился дружески к ней и ко мне, и при содействии которого моя мать спасла, таким образом, несколько человек».
Тем временем Иван Осипович, собрав всю необходимую информацию о целях тайного Южного общества и о его членах, добивается аудиенции у императора и докладывает ему о тревожной обстановке во 2-й армии. Но, к удивлению де Витта, доклад был встречен Александром достаточно спокойно. Возможно, что к этому времени император уже принял решение устраниться от подавления вооруженного мятежа (которое он считал неизбежным), а заодно и от управления империей. Возможно, именно во время этого приезда в Таганрог де Витт был посвящен в детали будущей операции по исчезновению, причем не только посвящен, но и получил конкретные поручения.
— Я не имею морального права их преследовать! Однако общение с заговорщиками продолжайте и держите меня в курсе этого дела! — сказал император несколько обескураженному генерал-лейтенанту, имея в виду своё давнее участие в убийстве собственного отца.
Историк Н. Эйдельман в своей статье «Не ему их судить» пишет: «18 октября 1825 г. в Таганрог явился начальник южных военных поселений граф Витт, доставивший царю последние данные о большом заговоре, полученные от провокатора Бошняка.
Хотя доклад Витта был устным, мы легко можем установить, что он рассказал императору, ибо позже сведения, добытые Бошняком, фигурировали и на процессе декабристов. Наряду с реальными фактами, конкретными именами старших офицеров и генералов-декабристов Бошняк собрал разные домыслы — отзвук преувеличенных представлений, свойственных некоторым заговорщикам, о силах тайного союза. К тому же в интересах нечистого на руку и циничного генерала Витта было завысить революционные силы и тем раздуть свои заслуги. Так или иначе, но 18 октября 1825 г. царю было доложено, что существует пять “вент” (отраслей) тайного общества, что заговорщики контролируют 13 полков, 5 артиллерийских рот и какую-то часть флота, что они рассчитывают на видных военачальников — Ермолова, Сенявина, Киселева. Царю, очевидно, дословно было передано записанное провокатором восклицание декабриста Лихарева: “Ах! Если бы Вы знали, кто между нами находится, Вы не захотели бы мне поверить”.
Сейчас мы знаем, что некоторые высшие сановники в лучшем случае пассивно симпатизировали заговору и готовы были соучаствовать только после победы восстания. Однако важно понять, что осенью 1825 г. Александр I, особенно боявшийся заговора “лиц поважнее”, помнивший, как подобные лица свергли Павла I, представлял угрозу большей, чем она была. К тому же генерал де Витт уже знал, что южные декабристы догадались о провокации, и это, несомненно, должно было толкнуть их к решительным действиям… Позже Витт, очевидно, смешивая правду с ложью, сообщал некоторые подробности той, последней его беседы с Александром I своему адъютанту Ксаверию Браницкому (в будущем известному деятелю польской эмиграции).
Согласно Браницкому, царю в тот день, между прочим, были доложены явно преувеличенные данные о связях с заговорщиками таких важных сановников, как граф Михаил Воронцов и генерал Павел Киселев; Александр I говорил о необходимости хотя бы кратковременного ареста руководителей тайных обществ; о том, что он желает в будущем реформировать Россию главным образом путем… расширения системы военных поселений (через которые должна быть “пропущена” большая часть крестьянства и таким путем освобождена от крепостной зависимости)… Едва были осмыслены “новости Витта”, как в начале ноября пришел очередной донос Шервуда: член Южного общества Вадковский проговорился о планах декабристов выступить в скором времени, сразу после цареубийства…»
Много лет спустя в архиве императора был обнаружен этот первый доклад де Витта Александру I на французском языке от 13 августа 1825 года. В отличие от рассказа Браницкого, там нет упоминаний ни графа Воронцова, ни генерала Киселева…
После беседы с императором де Витт продолжает действовать ещё более энергично. Вскоре он уже выходит и на членов «Северного общества», заговорщиков в Петербурге и их польских союзников. Ситуация кажется де Витту крайне опасной. Поэтому вскоре по его инициативе был арестован руководитель «Южного общества» полковник П. Пестель, которого бдительный генерал давно и не без оснований считал одним из главных смутьянов. На квартире у Пестеля была обнаружена и приобщена к делу написанная его рукой революционная программа «Русская Правда». Для ареста Пестеля во 2-ю армию был командирован старый соратник де Витта по разведывательной деятельности во Франции и Польше генерал-адъютант А.И. Чернышев. Руководитель Южного общества был арестован.
Один из биографов генерала де Витта пишет: «Открыв существование во 2-й армии тайного общества, Витт 18 октября 1825 года приехал в Таганрог и лично доложил государю свои сведения. Известно, что знаменитый агент Шервуд, получивший впоследствии от Николая Первого к своей фамилии приставку “Верный” за раскрытие декабристского заговора, был подчиненным Витта и действовал по его указаниям. Болезнь Витта, а затем исчезновение самого императора Александра Первого пресекли его деятельность в этом направлении…»
Видя, что дни Александра на троне сочтены, а восстание может вот-вот начаться, де Витт спешит в Петербург. Там он добивается приема у великого князя Николая Павловича и посвящает его в детали предстоящего восстания. Эту услугу графа будущий император не забудет никогда. Не удовлетворяясь этим, де Витт извещает о грядущем мятеже великого князя Константина. Историкам это документально известно по письму Константина барону Дибичу от 14 /15 декабря 1826 года.
Историк Н. Эйдельман в своем труде «Пушкин и декабристы» пишет: «В 1825 году Витт, с помощью Собаньской и Бошняка получает важные сведения о южных декабристах и представляет их верховным властям. Однако зимой и весной 1826 года Витт, как это видно по его переписке, сидя на юге, сильно взволнован: Бошняк находится в Петербурге уже несколько месяцев, давая необходимые показания против Лихарева, Давыдова и других декабристов; враг Витта Аракчеев явно не играет особой роли при новом дворе. Ситуация для карьеры генерала-интригана кажется очень благоприятной, он рвется с юга в Петербург, но пока его не призывают. В начале 1826 года Витт просится в отпуск в столицу, но получает через Дибича отказ: “ Буде же, ваше сиятельство, имеете сообщить что-либо особенно важное и лично его величеству, то в таком случае можете донести об оном государю-императору в собственные руки в особом пакете на моё имя”. Тогда Витт ответил любопытной демонстрацией своих особых заслуг: “…Всемилостивейший государь! Позвольте мне ещё присовокупить, что блаженной памяти покойный государь удостаивал меня вполне своего доверия; ещё с 1809 года и до последней минуты своей жизни возлагал на меня поручения особенной важности, поручения, большей частью никому, кроме его величества и меня, не известные; что по сим поручениям я имел счастье доносить прямо его императорскому величеству, и что ни от кого, кроме как лично от самого покойного государя, об известных ему предметах я не получал ни наставлений, ни разрешений, и потому ежегодно по одному или по два раза, смотря по обстоятельствам, приезжал я в столицу или в место пребывания его императорского величества и, доложа ему лично о нужном, принимал словесные государя приказания. Поелику сии поручения касались разнообразных предметов и часто требуют пространных объяснений, то, желая очистить себя совершенно по всему до меня возложенному, и осмеливаюсь я всеподданнейше испрашивать счастия лично быть допущенну к вашему императорскому величеству”».
Верный помощник Александр Бошняк также не упускает случая подыграть шефу. 25 марта 1826 года он сообщал следственному комитету: «Почитаю нужным прибавить, что я сообщил здесь только те сведения, которые получил чрез Лихарева и Давыдова; что, вероятно, граф Витт имел и других, кроме меня, агентов и, может быть, снабжен по предмету открытого мною заговора и ещё некоторыми добавочными сведениями».
Витт действует и через своего родственника Киселева (которого, впрочем, по некоторым сведениям, так же готов был предать, как и погубленных прежде декабристов).
Наконец, желание генерала-шпиона сбылось: получен долгожданный вызов в столицу, и от его ловкости зависит дальнейшая фортуна. Витт прибывает в столицу между 23 и 25 мая 1826 года, а 14 июня извещает П.Д. Киселева: «Зная, сколько вы принимаете участия во всём, что до меня касается, я с удовольствием сообщаю вам, дорогой Киселев, что польщен добротой ко мне его величества, что он много работает со мною и что он прекрасно видит положение вещей. Он очарован состоянием моих поселений и много занимается ими…»
В архивах сохранились разнообразные следы той работы — бурной активности Витта, обращенной на самые разные предметы.
Для начала на нового императора обрушиваются одиннадцать заранее подготовленных докладных записок Витта. Из них шесть касались специальных, чисто военных предметов (в основном военных поселений), остальные же относились к более общим вопросам.
Вот как характеризует сам де Витт типичного представителя декабристского круга: «Он есть невежда, исполненный самоуверенности и самолюбия, мечтающий присвоенными звуками языка иноземного изумлять слушателей или выученными отрывками стихов, им выкраденными, каламбурами, стяжать удивление модного света; одним словом, так называемый благовоспитанный человек есть полуиноземец, не имеющий никакого основательного сведения, но только немногие поверхностные познания, которые умеет он употреблять с успехом для ослепления больших против него невежд, космополит, изучавший нравственности в Дидероте, религии в Вольтере, мечтающий о переворотах и свободе, не способный ни к какому занятию, ни к какой службе».
Эта записка, как и другие, была, в общем, принята наверху весьма одобрительно. Даты прохождения записок Витта хорошо видны по сопроводительным пометам: между 15 июня и 4 июля 1826 года.
Что ж, скажу я вам, несмотря на все отчаянные стенания Н. Эйдельмана, даже он, сам того не желая, признает превосходную работу профессионала-контразведчика!
Пушкиновед Н. Эйдельман пишет: «“Император поручил мне три больших дела”, — хвалился Витт “бофреру” Киселеву 4 мая 1823 года. Одной из этих работ было главное управление Ришельевским лицеем в Одессе, возможным рассадником вольномыслия на юге; почти совершенно развалив это учебное заведение (в котором хозяйничали адъютанты генерала и горничная его возлюбленной Каролины Собаньской), Витт, тем не менее, благодаря этой должности осуществлял секретное наблюдение за польскими профессорами, что внезапно привело и к “находкам”, касающимся декабристов. Втереться в доверие к оппозиционным и революционным кругам генералу помогла уже отмеченная постоянная его вражда с Аракчеевым. Пушкину, не знавшему, конечно, о тайной деятельности Витта, могла, между прочим, импонировать и его неприязнь к Воронцову: рассчитывая без успеха на пост новороссийского генерал-губернатора, Витт, как свидетельствуют современники, имел от царя секретные инструкции — наблюдать за “склонным к либерализму” Воронцовым…»
Известно, что Н. Эйдельман — страстный поклонник масонов-декабристов, и де Витта, по этой причине, он ненавидит со всей страстью, как только может ненавидеть историческую личность профессиональный историк. Но, даже несмотря на всю желчь, Эйдельман вынужден признать, что, занимаясь Ришельевским лицеем, де Витт свёл на нет деятельность тамошних масонов (оставим на совести историка его пассаж относительно неких адъютантов и горничной Собаньской, которые «хозяйничали» в лицее). Признает Н. Эйдельман и успешную деятельность де Витта в отношении местных польских националистов, через которых генерал и вышел на офицерский заговор в Южной армии. Странно, однако, что участие в раскрытии декабристского заговора Н. Эйдельман увязывает с непростыми отношениями де Витта с Аракчеевым. И де Витт, и Аракчеев при всей их несовместимости были абсолютно преданны России и императору. Именно этим в своё время и было определено их назначение на командование военными поселениями. Не выдерживает критики и утверждение, что Пушкину де Витт был симпатичен из-за его неприязни к Воронцову. Никакой неприязни между де Виттом и Воронцовым не было! Наоборот, они вместе воевали, были родственниками и дружили между собой, так же как дружили их жены. Нет ни одного факта, который бы указывал на вражду генерал-губернатора Новороссии и начальника военных поселений Юга России.
Когда же вскоре, как и предсказывал де Витт, грянуло восстание декабристов, то генерал весьма энергично действовал во 2-й армии. Благодаря его усилиям удалось выявить и изолировать вовлеченных в заговор офицеров, стремившихся привести своих солдат на помощь восставшему Черниговскому полку. Как считают польские историки, именно деятельность де Витта, сумевшего предусмотрительно арестовать всех замешанных в заговоре польских офицеров, не дала распространиться мятежу на Польшу и не вызвала столь ожидаемого там всей Европой всеобщего антирусского восстания. Во время следствия и суда над декабристами де Витт находился в Петербурге, где через своих осведомителей способствовал выяснению многих обстоятельств дела. Он не являлся официальным членом следственной комиссии, но активно помогал следствию и состоял при члене комиссии генерале А.И. Чернышеве.
В период следствия А.К. Бошняк и И.О. де Витт составляют обобщенный доклад об антигосударственной деятельности Южного общества под названием: «Записка о сношениях моих с некоторыми из заговорщиков, в исполнение настоятельных требований генерал-лейтенанта графа Витта, об открытии посредством оных обширного заговора, как в полуденном, так и в некоторых других краях России ветви свои простиравшего, и, наконец, об удостоении меня (текст писал А.К. Бошняк. — В.Ш.) через графа Витта словесного повеления блаженныя памяти императора Александра Павловича о продолжении и усилении сношений моих с заговорщиками. СПБ. марта 25 дня 1826 года».
Историк С. Макаренко в своё время расследовала малоизвестную страницу в жизни Каролины Собаньской, то ли о её романе с Кондратием Рылеевым, то ли о блестяще проведенной контрреволюционной операции. Думается, что второе более правдоподобно. Как и все остальные, Рылеев был без ума от Сабаньской и, по- видимому, рассказал ей много весьма любопытного.
«Мое замешательство, — признавался в исповеди относительно Собаньской К. Рылеев, — увеличилось ещё более неожиданностью моих впечатлений, видя в первый раз в жизни столько привлекательного в этой необыкновенной женщине».
Считается, что именно Собаньской Рылеев посвятил следующие строки:
Я не хочу любви твоей, Я не могу её присвоить; Я отвечать не в силах ей, Моя душа твоей не стоит… («KN.N.»)В истории романа К. Собаньской и К. Рылеева много неясностей. Да и был ли интерес с её стороны вообще? Точной информации об этих событиях у нас нет, но, скорее всего, Рылеев, как завзятый масон и революционер, попал в оперативную разработку де Витта, а Каролина выполняла его задание. Думается, что Каролина на самом деле была неплохая контрразведчица. Но нельзя на неё вешать всех собак, как это делает большинство наших пушкиноведов, в том числе и Анна Ахматова.
Биограф К. Собаньской Л. Владимирова пишет об этом достаточно откровенно: «“Существо, занимавшееся предательством друзей”, — пишет Анна Андреевна. При этом не называет ни одного имени. Осведомленный Вигель, ярый недоброжелатель Собаньской, зоил и насмешник, — ни одного имени. Если бы Собаньская писала доносы на Мицкевича, его не выпустили бы из страны, а он, покуда мы здесь ведем дебаты о графине, уже пакует чемоданы и вскоре отбудет в чужие края на корабле, носящем имя “Николай I”. Если бы Собаньская писала доносы на Пушкина, Александра Сергеевича не взяли бы на службу с годовым жалованием в 5000 рублей (“Мы должны заправить его кастрюлю”, — скажет царь по-французски), не произвели бы в очередной чин и не пожаловали бы в камер-юнкеры».
Историки декабристского движения давно уже приглядываются к личности де Витта, понимая всю важность этой фигуры в деле разгрома восстания. При этом отношение у них к генералу более чем негативное, а потому, кроме отборной ругани в его адрес, они, как правило, ничего толком не говорят. Вот как высказывается о де Витте, к примеру, исследователь декабристского движения Ю. Лотман: «Генерал-лейтенант Витт — одна из самых грязных личностей в истории русского политического сыска. Шпион не столько по службе, сколько по призванию». Ругань руганью, но даже этот поборник российского масонства признает высочайший профессионализм генерала! Мы можем по-разному относиться к участию генерала де Витта в деле декабристов. Кто-то усмотрит в этом низость и коварство, кто-то, наоборот, проявление истинного патриотизма. Однако совершенно ясно одно: де Витт во все времена был истовым и преданным слугой не только России, но и престола, не за страх, а за совесть стремясь оградить державу и государя от всех напастей, в том числе и от масонских.
Надо ли говорить, что, взойдя на престол, император Николай I весьма высоко оценил деятельность генерала де Витта. Есть версия, что изначально на должность шефа образуемого корпуса жандармов он предполагал назначить именно де Витта, и лишь после отказа последнего надеть голубой мундир предложил это место графу А.Х. Бенкендорфу. Впрочем, может, всё было совсем не так, ведь де Витт всё же больше специализировался не на внутренних делах, а на внешней военной разведке.
Впрочем, император дал особое разрешение Ивану Осиповичу иметь собственных агентов для слежки за подозрительными лицами. Этот факт говорит о многом. Не являясь официально генералом корпуса жандармов, де Витт тем не менее получил право создать свою собственную независимую агентуру. Естественно, что Витт не был бы самим собой, если бы таковым разрешением не воспользоваться. Агентов у де Витта было немного, ведь ему не было никакой нужды опутывать тайной сетью всю страну, как об этом мечтал П. Пестель.
Задолго до декабрьских событий 1825 года Александр I, зная, что его брат Константин не имеет прав на престол из-за своего неравного брака с польской графиней, издал 16 августа 1823 года манифест об отречении Константина и назначении наследником престола Николая. Однако он не пожелал огласить манифест и повелел московскому архиепископу Филарету хранить манифест в Успенском соборе. Копии манифеста также отданы были на секретное хранение в Государственный Совет, Сенат и Синод. Для чего было необходимо делать тайну из такого совершенно не секретного дела? Возможно, для того, чтобы не подставить Николая под пули заговорщиков-масонов. Самое же странное было то, что о содержании манифеста ничего не знал сам наследник русского престола — великий князь Николай Павлович. Это можно объяснить боязнью Александра возможного покушения на единственно реального преемника. Сам Николай мог только догадываться о том, что ему, возможно, придется царствовать. Однажды, обедая у него, Александр сказал, что он думает отречься от престола и что царствовать придется Николаю, так как Константин не может быть царем из-за женитьбы на графине Лович. Таким образом, информацию до Николая старший брат довел, однако, боясь утечки информации, о манифесте не сказал ни слова.
После событий в Таганроге Дибич, адъютант Александра I, отправил сообщение о смерти императора его матери, императрице Марии Федоровне, и брату Константину в Варшаву. Константин же, узнав о смерти старшего брата и зная о его завещании, немедленно принял присягу младшему брату Николаю, и в Варшаве стали считать императором Николая. В это же время в Петербурге Николай, не имея на руках завещания, присягнул Константину.
Историк Б. Башилов впишет: «Весьма показательно, что первым присягу Константину принес корпус военных поселений. Он оправдал возлагавшиеся на него Императором Александром надежды. 3 декабря Великий Князь Николай Павлович писал Императору Константину: “Донесение о выполнении присяги поступило сначала от Корпуса военных поселений…” И в следующем письме: “Граф Аракчеев, — писал 3 декабря своему брату Константину, — вступил в исправление своих обязанностей: он и его Корпус также выполнили свой долг. Ваш покорный Николай”. Таким образом, в те тревожные дни, наполненные растерянностью, сомнениями, ложными слухами и паникой, в дни предшествовавшие бунту декабристов, поселенные войска во главе с Аракчеевым (и де Витом на Юге России. — В.Ш.) первыми в России принесли присягу, подведя этим под колеблющееся здание монархии прочную базу, находившейся в крепких руках, спокойной, надежной и прекрасно дисциплинированной воинской силы. И уже только этим, кроме всего остального, поселенные войска блестяще оправдали своё существование и вызвавший их к жизни замысел Императора Александра I.
На Сенатскую площадь 24 декабря ничего не понимающих солдат мятежники выводили обманом, причем самым низким и подлым. Капитан А. Бестужев сказал гренадерам гвардии: “Нас обманывают, Константин меня к вам прислал. Если вы верите в Бога, вы откажетесь присягать другому царю, нежели тому, которому вы поклялись в верности двадцать дней тому назад”. Лейтенант Арбузов объявил гвардейским морякам: “Целая армия стоит в окрестностях столицы и нас уничтожит, если мы присягнем Николаю”. Совершенно сбитые столку солдаты кричали: “Ура Константину и его жене Конституции!”».
Историк Б. Башилов пишет: «“Пречестные русские малые”, которым всё равно, ехать ли на греческое восстание или стрелять в главу собственного государства во имя осуществления сумбурных революционных планов, за редким исключением обычно очень жидки, когда приходит час расплаты. Таким именно оказался убийца Каховский, в своих письмах из крепости к Императору Николаю I свою вину перекладывавший на общество заговорщиков: “…Намерения мои были чисты, но в способах, я вижу, заблуждался. Не смею Вас просить простить моё заблуждение, я и так растерзан Вашим ко мне милосердием: я не изменял и обществу, но общество (общество декабристов. — Б.Б.) само своим безумием изменило себе”.
Что касается самого главного вожака декабристов — Пестеля, то он заранее отрекся от всего того героизма, который приписывается и ему, и всем заговорщикам, ибо он зачеркнул всю свою прошлую деятельность покаянным словом в письме генералу Левашеву: “Все узы и планы, которые меня связывали с Тайным Обществом, разорваны навсегда. Буду ли я жив или мёртв, я от них отделён навсегда… Я не могу оправдаться перед Его Величеством. Я прошу лишь пощады… Пусть он соблаговолит проявить в мою пользу самое прекрасное право его царственного венца и — Бог мне свидетель, что моё существование будет посвящено возрождению и безграничной привязанности к Его священной персоне и Его Августейшей семье”.
Восстание Черниговского полка произошло вскоре после попытки мятежа в Петербурге 14 (26) декабря 1825 года. Началось оно 29 декабря 1825 года и так же бесславно завершилось 3 января 1826 года (10–15 января 1826 года). Черниговский полк до участия в мятеже имел хорошую боевую историю. За 1812 год был награжден Георгиевским знаменем.
Мятеж был организован Южным обществом, хотя, расквартированный в Киевской губернии Черниговский полк входил в состав 1-й армии. Сразу же после известия о восстании в Петербурге командир полка по представленным ему де Виттом данным распорядился арестовать связанного с мятежниками-масонами подполковника С. Муравьева-Апостола. Спасая себя, С. Муравьев-Апостол и решился на вооруженный мятеж. При этом начал он с попытки зверского убийства собственного командира».
Из мемуаров декабриста И. Горбачевского: «Командир Черниговского полка, увидя ещё двух новоприезжих и, может быть, подозревая их в каком-нибудь замысле, начал также им делать выговоры и упреки за отлучку от своих мест и требовал, чтобы они немедленно отправились в свои роты. Барон Соловьев отвечал ему, что он первый решительно не будет повиноваться его приказанию. Щепилло повторил то же. Невзирая на положительность отказа и на решительный тон, которым он был произнесен, Гебель требовал повиновения ещё с большею настойчивостью. Это произвело ужасный спор, во время которого Муравьев дал знак офицерам, чтобы они приступили к убийствию, и к сему знаку прибавил он тихим, но внятным для них голосом:
— Убить его.
Гебель, разгоряченный спором, хотя не заметил знака и не слыхал рокового приговора, но видя невозможность восторжествовать над упорством своих офицеров, а может быть, опасаясь неприятных следствий, смягчил строгий голос командира и хотел восстановить дисциплину ласковыми словами. Однако его усилия были тщетны; всё было кончено, и намерение начать действовать твёрдо было принято. Через несколько минут Кузьмин вышел в другую комнату, отделенную от первой большими проходными сенями, с тем, чтобы все приготовить к восстанию и объявить солдатам своей роты о предпринимаемом действии. Щепилло, Соловьев и Сухинов вышли вслед за ним с тою же целью. Успех был неимоверный: солдаты изъявили готовность во всём повиноваться своим офицерам. Ободренные столь счастливым началом, офицеры Черниговского полка немедленно хотели приступить к освобождению Муравьева. Щепилло и Соловьев вышли из кухни…
Щепилло отвечал Гебелю на его выговоры сильным ударом штыка в брюхо. Почувствовав тяжелую рану, командир Черниговского полка хотел выскочить вон из комнаты, но в дверях его встретил Соловьев и, ухватив обеими руками за волосы, повалил на землю. Кузьмин и Щепилло бросились на упавшего Гебеля и начали его колоть и бить. Соловьев, оставя Гебеля в руках своих товарищей, спешил освободить арестованных Муравьевых, которые, пользуясь отсутствием полкового командира и жандарма и, заметя движение офицеров и шум, происходивший в сенях, выбили окошко и выскочили из комнаты. Часовой, не зная ничего, хотел было воспрепятствовать мнимому побегу, но прибежавший на его крик ефрейтор заставил его молчать пощечиною. Соловьев вбежал в комнату и не нашёл в оной Муравьевых (Сергея и брата его Матвея), бросился к выбитому окошку, из коего к крайнему удивлению увидел С. Муравьева на дворе, наносившего тяжелые удары ружейным прикладом по голове Гебелю, который после побоев Щепилло и Кузьмина собрал последние силы и, поднявшись на ноги, вынес их, так сказать, на своих плечах из сеней и был остановлен в дверях С. Муравьевым. Вид окровавленного Гебеля, прислонившегося к стене и закрывающего голову руками, в надежде тем защитить себя от наносимых ему ударов, заставил Соловьева содрогнуться. Он немедленно выскочил в окно и, желая как можно скорее кончить сию отвратительную сцену, схватил ружье и сильным ударом штыка в живот повергнул Гебеля на землю. Обратясь потом к С. Муравьеву, начал его просить, чтобы он прекратил бесполезные жестокости над человеком, лишенным возможности не только им вредить, но даже защищать свою собственную жизнь. Сии просьбы имели своё действие. С. Муравьев оставил Гебеля и только в это время почувствовал, что ознобил себе пальцы от прикосновения ружейного ствола. Едва С. Муравьев оставил полумертвого Гебеля, как сей несчастный пришел в себя, приподнялся на ноги и в беспамятстве пошел, шатаясь, сам не зная куда. К несчастью, он попал на глаза к Кузьмину, который подбежал к нему, ударом по шее сшиб его с ног и, в исступлении, нанес ему ещё восемь тяжелых ран; удары были так сильны, что за каждым разом Кузьмин должен был употреблять силу, чтобы выдернуть свою шпагу из костей Гебеля. Может быть, Кузьмин прекратил бы страдания Гебеля, если бы не подбежал к нему Соловьев и не уговорил оставить изувеченного человека, представляя его совершенно им безвредным и едва дышущим. Кузьмин удалился, но жизнь не оставила Гебеля. Ослабленный истечением крови, с разбитою головою, покрытый ранами, он снова собрал силы, поднялся на ноги и, шатаясь, вышел за ворота, сделал там несколько шагов и упал без чувств посреди улицы. Один рядовой роты Кузьмина остановил ехавшего по улице крестьянина, положил Гебеля на сани и повез его в дом управителя. С. Муравьев, узнав об этом, впал в некоторый род неистовства; требовал, чтобы офицеры отыскали Гебеля и непременно лишили его жизни, а сам побежал по переулку с намерением перехватить сани, на которых солдат вез своего полкового командира. Не догнав его, С. Муравьев поручил Сухинову непременно остановить Гебеля, вывезти его за деревню и бросить в снег. Видя ярость и бешенство С. Муравьева, Сухинов притворился согласным исполнить его приказание и побежал вслед за санями, но, возвратившись, объявил Муравьеву, что солдат отдал уже Гебеля управителю, и что сей последний собрал к себе множество вооруженных крестьян».
На первый взгляд поразительно, что после всех понесенных ран Гебель все же выжил.
Как бы то ни было, но 29 декабря офицеры полка Кузьмин, Соловьев, Сухинов и Щепилло освободили Муравьева-Апостола в селе Трилессы и на другой день, 30 декабря, вступили в город Васильков, где захватили всё оружие и полковую казну. 31 декабря перед строем был оглашен «Православный катехизис» — прокламация восставших, составленная С. Муравьевым-Апостолом и М. Бестужевым-Рюминым.
Однако далеко не все солдаты-черниговцы выказали желание участвовать в антигосударственном мятеже. 1-я гренадерская рота и почти вся 1-я мушкетерская рота полка вообще отказались участвовать в мятеже. С. Муравьеву-Апостолу не оставалось ничего, как отпустить их. Помимо этих рот от участия в мятеже отказались и сотни солдат других рот. Всего в мятеже приняло участие 970 солдат шести рот при штатной численности пехотного полка того времени в 4 тысячи человек! Поэтому говорить о «восстании Черниговского полка» вообще с военной точки зрения некорректно, можно говорить об участии в мятеже лишь части Черниговского полка. При этом, как и в Петербурге, подавляющее большинство солдат вообще не представляло себе, против кого и зачем их ведут.
Прочитанный им мятежными офицерами «катехизис», призывающий убить царя, вообще поверг солдат в ступор. После этого многие стали просто разбегаться, а другие, поняв, что офицеры от них полностью зависят, пустились во все тяжкие. Кстати, первые грабежи (грабеж квартиры собственного полкового командира и попытка изнасилования его жены) имели место уже в первый день мятежа. Это показывает, что ни С. Муравьев-Апостол, ни его подручные с самого начала не контролировали обстановку.
Уже в Василькове началась грызня между решительно настроенными «объединенными славянами» и трусоватыми членами Южного общества. М.В. Нечкина пишет: «“Славяне” стояли за немедленное, быстрое, решительное действие и за привлечение на сторону военного восстания крестьян. Муравьев-Апостол и его сторонники придерживались выжидательной тактики. С. Муравьев медлил, потому что ждал присоединения других восставших полков под командованием членов Южного общества».
Позднее историки подсчитают, что солдаты, которых вёл С. Муравьев-Апостол, только за сутки в Василькове выпили 184 ведра вина и водки. Перепившись, солдаты начали срывать с офицеров эполеты, грабить мещан и евреев. Глумясь, вытащили из гроба столетнего старика, плясали с трупом посреди толпы перепившихся собратьев-революционеров. Беспрерывное пьянство продолжалось с первого и до последнего дня мятежа Черниговского полка. Те, кто был потрезвее, начали понемногу разбегаться, вначале солдаты, а за ними и офицеры. Следовательно, иного выхода у С. Муравьева-Апостола и его подельников, как поить солдат, просто не было. Протрезвев, всё воинство разбежались бы. Из Василькова повстанцы двинулись на Житомир, стремясь соединиться с частями, где служили члены Общества соединенных славян, но, избегая столкновения с превосходящими силами правительственных войск, повернули на Белую Церковь.
В селе Мотовиловка, куда привел солдат Черниговского полка С. Муравьев-Апостол, у мятежников начался полный разброд. К этому времени стало совершенно ясно, что мечты о присоединении к ним других полков уже не осуществятся. Солдаты сразу же принялись грабить крестьян, продолжилось повальное пьянство. Роты Черниговского полка фактически вышли из повиновения. Вчерашний регулярный полк стремительно превращался в неуправляемую банду мародеров.
Чтобы сохранить власть, С.И. Муравьев-Апостол двинул полк дальше, толком и сам не зная куда. Следом за бредущими полупьяными солдатами ехали сани с награбленным добром. А потому вовсе не случайно, когда встретившийся у деревни Устимовки 3 января 1826 года отряд генерала Гейсмара дал залп картечи, вся солдатская ватага разбежалась во все стороны. При этом разъяренные черниговцы сами похватали толкнувших их на мятеж офицеров и, отлупив, передали в руки властям.
После мятежа Черниговский полк был полностью переформирован. 1-я гренадерская рота, как единственная оставшаяся на стороне правительства при мятеже, в полном составе была переведена в гвардию. В ходе Русско-турецкой войны черниговцы реабилитировали себя, отличившись во многих сражениях и заслужив почетные знаки на шапках, тогда же реабилитированный полк был за боевые отличия переименован в пехотный фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк. Любопытно, что спустя несколько лет А. Пушкин планировал создать повесть о мятеже Черниговского полка, написав даже небольшой пролог о некоем прапорщике, едущем «в местечко В.» (Васильков) в мае 1825 года. Этот текст известен как «Записки молодого человека».
Мы уделили достаточно много место мятежу Черниговского полка в силу его близости к Южной армии. А также в силу того, что в нём принимали участие масоны Южного общества. При этом отметим, что наряду с вооруженными мятежами в Петербурге (гвардия) и под Киевом (1-я армия), во 2-й армии, несмотря на обилие активных декабристов во главе с их идеологом Пестелем, никакого мятежа так и не произошло. Причиной тому была исключительно грамотная деятельность генерала де Витта! Именно он инициировал арест Пестеля, который полностью парализовал мятежников 2-й армии.
Известный историк декабристского движения М.В. Нечкина так описывает обстоятельства ареста несостоявшегося зятя де Витта полковника Павла (Пауля) Пестеля: «Южное общество и соединившееся с ним Славянское общество напряженно ожидали восстания. Южные декабристы узнали о смертельной болезни императора Александра I раньше, чем в Петербурге. Фельдъегери из Таганрога в Варшаву проезжали через южную станцию Умань и сообщили декабристу Волконскому, что император при смерти. Кроме того, южане раньше узнали и о доносах на тайное общество, поданных покойному императору. Было ясно, что в сложившейся обстановке междуцарствия обязательно произойдет выступление тайного общества. По принятому ещё ранее решению, первым должен был выступать Петербург. И лишь после сигнала из Петербурга, при известии, что восстание в столице не разбито, а имеет хотя бы первый успех, должны были выступить южные войска. В обстановке междуцарствия Пестель и его товарищи напряженно ждали вестей с севера. Но вести не приходили. Было решено, что Пестель и Барятинский при первом известии о столичном восстании выедут в Петербург и восстание на юге пойдет под руководством Сергея Муравьева-Апостола. Сведения о доносах заставляли предполагать возможность арестов. Сергей Муравьев-Апостол стоял на той точке зрения, что начало арестов само по себе является сигналом к восстанию. “Если хотя бы один член будет взят, я начинаю дело”, — писал Сергей Муравьев-Апостол Пестелю.
Ожидая событий, Постель позаботился о сохранности “Русской Правды”: её укрыли в местечке Немирове, у майора Мартынова, затем в Кирнасовке, у братьев Бобрищевых-Пушкиных и Заикина. Конституционный проект должен был понадобиться: его, по планам декабристов, надо было публиковать во всеобщее сведение в начале восстания, и поэтому надо было сохранить его любой ценой.
В этот напряженный момент “Русскую Правду” приходилось не только скрывать от правительства, но и беречь от представителей правого течения. Охладевший к обществу Юшневский настойчиво требовал уничтожения “Русской Правды”. “Я важную вещь имею вам сообщить, — говорил спешно прискакавший от него в Кирнасовку доктор Вольф, — скорее велите сжечь бумаги Пестеля”. Но Бобрищевы-Пушкины решили, что “крайней опасности ещё нет”, и отказались уничтожить рукопись; однако для успокоения Юшневского и его сторонников распустили слух, что уже сожгли “Русскую Правду”. Ночью они зарыли её недалеко от Кирнасовки “под берег придорожной канавы”. Она была вырыта лишь в 1826 г. во время следствия над декабристами.
Но весть о столичном восстании всё не приходила. Напряженность ожидания возрастала. И именно в этот момент в жизни Южного тайного общества произошло неожиданное событие, подорвавшее его планы. Начальство вытребовало Пестеля из Линцов в Тульчин, где находился штаб II армии. Хотя приказ предписывал явку в Тульчин всем полковым командирам. Пестель и друг его Лорер, не покидавший его в те дни, чувствовали что-то недоброе. “Чуя приближающуюся грозу, но не быв уверены совершенно в нашей гибели, мы долго доискивались в этот вечер какой-нибудь задней мысли, дурно скрытого намека в приказе по корпусу, но ничего не нашли особенного, разве то, что имя Пестеля было повторено в нём 3 раза”, — пишет в своих “Записках” декабрист Лорер. Пестель решил не ехать и сказал бригадному командиру: “Я не еду, я болен… Скажите Киселеву, что я очень нездоров и не могу явиться” (Пестель действительно был нездоров в тот момент). В эту тревожную ночь на 13 декабря Пестель то принимал, то вновь отбрасывал какое-то решение. В нём шла глухая внутренняя борьба. Только Лорер ушёл от Пестеля, узнав о его решении не ехать в Тульчин, как к нему спешно — уже ночью — прибежал “пестелев человек” с известием, что полковник опять передумал и в Тульчин едет. “Не постигая таких быстрых перемен, я наскоро оделся и побежал к полковнику… Он был уже одет подорожному, и коляска его стояла у крыльца… “Я еду… Что будет, то будет”, — встретил он меня…” Решив ехать, Пестель взял с собой яд. В протоколе следственного комитета записано: “Яд взял он с собой для того, чтобы, приняв оный, спасти себя насильственной смертью от пытки, которой опасался”. Видимо, Пестель обдумывал вопрос о сигнале к восстанию. Отказ ехать в Тульчин был бы открытым вызовом штабу, был бы равносилен даче сигнала. Но было ещё рано. Во-первых, предположения об аресте могли оказаться неосновательными. Во-вторых, вестей из Петербурга ещё не приходило. Пестель предупредил Лорера, что, может быть, пришлет ему с дороги записку, и попрощался с ним. “..Мы обнялись, я проводил его до коляски и, встревоженный, возвратился в комнату… Свечи ещё горели… Кругом была мёртвая тишина. Только гул колес отъехавшего экипажа дрожал в воздухе”.
13 декабря при въезде на Тульчинскую заставу Пестелю передали приказ дежурного генерала II армии Байкова немедленно явиться к нему. Пестель повиновался. Байков объявил его арестованным и поместил у себя на квартире, приставив караул. По случаю болезни к нему допустили доктора Шлегеля — члена тайного общества. На квартире Байкова виделся с ним и Волконский. “Не падайте духом”,— сказал он Пестелю по-французски (Байков не понимал французского языка). “Будь спокоен, я ни в чем не сознаюсь, хотя бы в кусочки меня изорвали, — спасайте только “Русскую Правду”,— отвечал ему Пестель”. Пестеля не сразу отвезли в Петербург, он оставался на юге под арестом до 26 декабря — 14 дней. Всё это время на вопросы следствия он отвечал полным отрицанием, утверждая свою непричастность к какому бы то ни было тайному обществу».
Затем, однако, Пестель передумал и сдал всех своих подельников. Степени его предательства до сих пор поражаются даже истовые поборники декабризма, стараясь приписать Пестелю «возвышенные» порывы души и «особую» дворянскую честность. Впрочем, масону Паулю это не помогло, и его ждала вполне заслуженная виселица.
Почему Пестель не отдал приказа о начале выступления? Ведь на первый взгляд кажется, что он мог это сделать. На самом деле Пестель ничего не мог сделать только потому, что к декабрю 1825 года был уже полностью разоблачен де Виттом и прекрасно понимал, что каждый его шаг контролируется.
Участники вооруженного мятежа понесли поразительно мягкое наказание. Приговор суда был сильно смягчен императором Николаем. Только пять главарей были повешены. Всем остальным смертную казнь заменили каторгой и пожизненным поселением. Наказание понесли, разумеется, только сами мятежники. Никто из членов семей декабристов не был наказан. Родственники мятежников были оставлены в тех же должностях, что и до восстания. Дети декабристов, находившихся на каторге и поселении, занимали высокие посты в государстве, некоторые из них находились при дворе.
Историк Б. Башилов справедливо отмечает: «Казнь декабристов всегда выставлялась революционной пропагандой как незаконная и жестокая расправа Императора Николая Первого над милыми образованными людьми, желавших блага Родине, угнетаемой суровым тираном. Всё это, конечно, такая нелепая чушь, которую стыдно даже повторять. Декабристы, в большинстве военные, совершили тягчайшее преступление, которое может только совершить военный. Они подняли вооруженное восстание против законного правительства своей страны. Они нарушили гражданскую и воинскую присягу. При всем своем фантазерстве декабристы знали, на что они идут, и изображать их невинными агнцами нет никакого основания. Во времена декабристов во всех без исключения странах Европы ещё хорошо помнивших безумства революционной черни, во время французской революции и в эпоху наполеоновских войн сурово расправлялись с бунтовщиками. Декабристы, конечно, были государственными преступниками, и с ними поступили так, как и должны были поступить согласно существующим законам. Тем не менее, в сознании целого ряда поколений казнь декабристов воспринималась, как жесточайшая расправа, которая будто бы могла произойти только в драконовское царствование Николая Первого».
Иностранный дипломат Сен-Приест писал, что, подавив восстание декабристов, Николай спас не только Россию, но и Европу, ещё не изжившую страшные последствия французской революции. «Революция здесь была бы ужасна. Вопрос не в замене одного Императора другим, но переворот всего социального строя, от которого вся Европа покрылась бы развалинами».
Ну а как отнеслись современники к мятежникам-масонам? Поэт Ф. Тютчев писал о них исчерпывающе:
…Народ, чуждаясь вероломства, Забудет ваши имена…Крестьяне, кстати, тоже не думали о мятеже ничего хорошего. Историк М. Цейтлин пишет, «что это дворяне помещики бунтовали против батюшки Царя, потому что он хочет дать им свободу». И крестьяне не ошибались, ибо всё обстояло действительно так!
Что касается А. Пушкина, то он уже через два месяца после мятежа писал А. Дельвигу: «…Никогда не проповедовал ни возмущения, ни революции» и желал бы «искренне и честно помириться с правительством». Совершенно не случайно именно в это же время Пушкин принимается за написание своей знаменитой поэмы «Полтава», которая была окончена в 1828 году. Эта поэма и сегодня вызывает среди пушкиноведов немало догадок и, казалось бы, самых неожиданных версий. Так, согласно исследователю жизни и творчества поэта П.Е. Щеголеву, в «Полтаве» Пушкин весьма прозрачно зашифровал события 1825 года. Если дело обстояло действительно так, то из этого следует, что к 1828 году позиция Пушкина была уже не продекабристской, а, наоборот, антидекабристской.
После мятежа масонов-декабристов Николаю I был представлен ряд соображений по недопущению впредь подобных выступлений. Среди них записка «О народном просвещении в России» (автор — попечитель Харьковского учебного округа А.А. Перовский); «Исследование коренных причин происшедшим заговорам и бунтам против престола и царства» (автор — тайный советник К.И. Арсеньев), донесение «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного» (автор — Ф.Ф. Булгарин). Аналогичное задание получил, кстати, и А.С. Пушкин. Не остался в стороне от этого дела и Иван Осипович де Витт. Его перу принадлежит «Записка о недостатках нынешнего воспитания российского дворянства и средствах обратить оное совершенно на пользу императорской военной и гражданской службы».
Новый император с большим вниманием ознакомился со всеми поданными ему записками. Впоследствии многое из предложенного в них было им учтено при организации обучения и воспитания молодых дворян. Так, в ответном письме к Пушкину от 23 декабря 1826 года граф Бенкендорф писал: «…государь император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании», но «при сём заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенства, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание».
В августе 1826 года де Витт был награжден орденом Святого Александра Невского с алмазами «за труды по вверенным военным поселениям и за доставление значительной выгоды устройством 3-й кирасирской дивизии, равно как и за отличное исполнение возложенных императором Александром I особенных поручений». Под особыми поручениями подразумевалась деятельность генерала по разоблачению масонского заговора в армии.
СПАСЕНИЕ ПОЭТА
К 1826 году взаимоотношения А.С. Пушкина и И.О. де Витта выходят на совершенно иной — государственный уровень. Нам хорошо известно, что в сентябре 1825 года из Одессы поэта высылают в Михайловское. В декабре 1825 года происходят известные события на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, а вскоре после этого восстаёт часть Черниговского полка в Южной армии. Оба мятежа были быстро подавлены, началось следствие, и у нового императора Николая I возникли вполне обоснованные серьёзные сомнения относительно того, всех ли сторонников мятежа удалось арестовать. Для выяснения этого немаловажного вопроса им была организованна операция по проверке лояльности ряда лиц, в чьей верности престолу император по каким-либо причинам сомневался. Разумеется, что в список таких лиц одним из первых попал А.С. Пушкин. Причины попадания вполне понятны.
Во-первых, поэт к тому времени был довольно известным и к его мнению прислушивались, а значит, он мог оказывать влияние на мнение общественности.
Во-вторых, Пушкин был лично знаком с большинством руководителей мятежа, а с некоторыми его связывала дружба. Поэт был хорошо знаком со всеми осужденными: П.И. Пестелем, К.Ф. Рылеевым, С.И. Муравьевым-Апостолом, М.П. Бестужевым-Рюминым и П.Г. Каховским. Из тридцати одного осужденного по первому разряду к смертной казни с отсечением головы (заменено каторжными работами) Пушкин был знаком с одиннадцатью: князем С.П. Трубецким, В.К. Кюхельбекером, А.И. Якубовичем, В Л. Давыдовым, А.П. Юшневским, А.А. Бестужевым, Н.М. Муравьевым, И.И. Пущиным, князем С.Г. Волконским, И.Д. Якушкиным, Н.И. Тургеневым. Из семнадцати осужденных по второму разряду к «политической смерти» и ссылке в вечную каторжную работу Пушкин был знаком с двумя: М.С. Луниным и Н.В. Басаргиным. Из шестнадцати осужденных по четвертому разряду в каторжную работу на 15 лет Пушкин был знаком с П.А. Мухановым.
Наконец, в-третьих, поэт на тот момент пребывал в домашней ссылке, то есть находился в опале, что вполне могло сказаться на его отрицательном отношении к власти.
При этом операцию по выяснению лояльности Пушкина к престолу, его непричастности к событиям 14 декабря следовало провести быстро и профессионально. Соответствующей службы и специалистов на тот момент у Николая I в столице не имелось. Больше того — в то время во всей Российской империи существовала лишь одна тайная служба, которая на деле доказала свою высокую эффективность и профессионализм. Это была тайная служба Южной армии под началом де Витта. Кроме того, граф прекрасно знал обо всех нюансах поведения Пушкина в Одессе, был в курсе его дел и лично знал поэта. Поэтому, несмотря на то что находящееся в Псковской губернии Михайловское никоим образом не относилось к территории дислокации Южной армии, дело по проверки Пушкина было поручено именно де Витту.
Здесь мы с вами подходим к моменту биографии А.С. Пушкина, который не слишком любим нашими пушкиноведами. И понятно почему! Фигура де Витта в отечественной декабристике и близкой к ней пушкинистике есть фигура сугубо отрицательная и даже, если хотите, традиционно отвратительная. На протяжении последнего столетия либеральные историки вылили на генерала столько помоев, что говорить о нём хоть что-то положительное считалось прямым оскорблением светлой памяти «мучеников 14 декабря» и было по этой причине просто немыслимо! А так как личные взаимоотношения де Витта с Пушкиным (как в Одессе, так и последующее время) резко выбивались из общего контекста навязанного всем образа де Витта, то о них предпочитали просто помалкивать.
Однако вернемся к событиям середины 1826 года. Итак, в Петербурге к этому времени уже заканчивается следствие по делу декабристов. Все участники мятежа давно арестованы и дали исчерпывающие показания друг на друга. Теперь следственная комиссия искала периферийные ответвления заговора, а также, возможно, ускользнувших из их рук отдельных участников, единомышленников и просто сочувствующих заговору.
В конце мая Пушкин пишет некое прошение Николаю I. Само прошение не найдено. А потому, говоря о нем, пушкиноведы имеют при этом в виду ссылку на письмо Пушкина Вяземскому: «Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь» — и слова из письма Катенина к Пушкину: «Ты хочешь при свидании здесь прочесть мне Годунова; это ещё усиливает моё желание видеть тебя возвратившегося в столицу». И слова Пушкина, и слова Катенина свидетельствуют о том, что поэт решил уже в это время (конец мая) писать прошение на высочайшее имя, написал же он его «тотчас по окончанию следствия», т. е. никак не ранее Манифеста об окончании следствия над декабристами от 1 июня, опубликованного 2 июня и полученного в Пскове, вероятно, 5–6 июня. Что подразумевал под «свободой» Пушкин? Одно из двух: или разрешение покинуть Михайловское и вернуться в столицу, или же (что менее вероятно) получить свободу, чтобы покинуть Россию.
3 июля император преобразовал Особую канцелярию при Министерстве внутренних дел, которая показала свою беспомощность в деле предупреждения мятежа, в III Отделение собственной Е.И.В. Канцелярии. Теперь император замкнул главную секретную службу государства лично на себя. Этим он не только повысил её статус, но и значительно расширил возможности деятельности. Во главе нового ведомства был поставлен герой 1812 года боевой генерал А. Бенкендорф. Однако для того чтобы ведомство Бенкендорфа заработало в полную силу, надо было ещё некоторое время.
11 июля по ходатайству графа Воронцова следует «высочайшее повеление» о «переводе» Пушкина на жительство в Псковскую губернию, с тем чтобы он «находился под надзором местного начальства».
К этому времени относится и достаточно интересное для нас письмо П. Вяземской мужу в Москву: «Я говорила с Виттом о Кюхельбекере, он как будто склонен сделать всё от него зависящее, чтобы поместить его. Пушкин взял у меня твоё письмо, чтобы составить требуемую Виттом записку; завтра я ему её передам и повторю свою просьбу; мы не знаем ни чина, какой он имеет, ни чина, какой он желает; мы постараемся устроить всё к лучшему (…) Я даю твои письма Пушкину, который всегда хохочет как сумасшедший. Я начинаю питать к нему дружескую любовь. Не пугайся. Я считаю его хорошим, но озлобленным своими несчастиями…»
Итак, де Витт по просьбе П. Вяземской берется ходатайствовать о судьбе причастного к мятежу Кюхельбекера. Отметим, что в это время большинство государственных деятелей всех рангов стремилось отречься от всех знакомых, причастных к декабрьским событиям 1825 года, чтобы не компрометировать себя. Иван Осипович же поступает совершенно наоборот. Еще не окончено следствие, а он уже пытается пристроить пушкинского друга на государственную службу. Мало того, де Витт ещё хочет выхлопотать ему более высокий чин! Согласитесь, что сам по себе это поступок, заслуживающий уважения. При этом самое активное участие в деле помощи Кюхле в карьере принимает и А. Пушкин. Он и отвечает на записку де Витта. Пушкин и де Витт объединяют свои усилия в борьбе за Кюхельбекера. Таким образом, мы можем говорить как о факте деловой переписи между поэтом и генералом, так и о вполне доверительных отношениях между ними. В противном случае они просто не смогли бы сотрудничать в столь деликатном и небезопасном деле.
В своей книге «Пушкин и декабристы» историк Н. Эйдельман сетует: «Как известно, Пушкин ещё незадолго до отъезда на север в 1824 году хлопотал об устройстве в ведомство Витта, наверное, самого неподходящего для этого ведомства человека в России — Вильгельма Кюхельбекера…» Вот ведь глупый Пушкин и друг его Кюхля, ни черта не понимали, кто такой де Витт, хотя и знали его лично, а Н. Эйдельман, хотя и не был лично знаком с генералом, но знает о нём всё!
13 июля на кронверке Петропавловской крепости состоялась церемония разжалования осужденных декабристов и казнь П.И. Пестеля, К.Ф. Рылеева, П.Г. Каховского, М.П. Бестужева-Рюмина и С.И. Муравьева-Апостола. Спустя два дня в «Русском инвалиде» опубликован манифест от 13 июля по поводу окончания действий Верховного уголовного суда. В манифесте сказано: «…Преступники восприняли достойную их казнь».
После этого доходит очередь и до Пушкина. Поэт был слишком заметной фигурой в России, а потому не проверить его на лояльность просто не могли. При этом ввиду того, что Бенкендорф со своими подчиненными были в тот момент перегружены другими делами, проверка Пушкина была поручена де Витту. Думается, что причиной привлечения генерала к проверке поэта имело и ещё одно немаловажное обстоятельство. Витт, как никто другой, был осведомлен о связях Пушкина во время пребывания того на юге. Кроме этого, как мы уже знаем, именно де Витт в своё время выявил роман Пушкина с графиней Воронцовой, после чего поэт и был выслан в деревню. Исходя из этого, назначение генерала для проверки Пушкина выглядит закономерным. Кому, как не Витту, по силу в кратчайший срок и не привлекая особого внимания разобраться с настроениями известного поэта? При этом вряд ли Николай I знал об истинных личных отношениях между генералом и поэтом и их переписке. Таким образом, Пушкин был поручен секретной службе де Витта, хотя формально в тот момент и находился в Псковской губернии, которая территориально не имела к спецслужбе Южной армии никакого отношения.
О том, как де Витт справился с ответственным поручением, данным ему императором, пишет историк Н. Эйдельман: «В числе работ, которыми генерал (имеется в виду де Витт. — ВШ.) и царь были заняты в июне — июле 1826 года, — поощрение выдающегося сыщика Бошняка. Последний просил дать ему два гражданских чина сразу; сошлись на одном чине и наградных деньгах. “Бошняк, — докладывал царю дежурный генерал, — желает получить денежное воспомоществование, быть приняту в службу коллежским советником в иностранной коллегии, с тем, чтобы находиться при генерал-лейтенанте Витте”. 15 июля 1826 года, через день после казни декабристов, царь одобрил записку и велел выдать Бошняку “из кабинета единовременно в воспомоществование три тысячи рублей ассигнациями”.
Четыре дня спустя Бошняк уже пускается в путь, в Псковскую губернию к Пушкину: важный экзамен, проверка на первом царёвом деле!
Конечно, сведения, переданные Николаю I, были тут же сообщены де Витту: во-первых, как мы уже знаем, именно в июне и начале июля генерал-лейтенант постоянно работает с императором (письмо Киселеву от 14 июня!), во-вторых, важным элементом этой работы, конечно, были те особенные задания по части сыска, которые де Витт успешно выполнял на юге России. Павел Пущин, как “человек с юга”, относился к сфере его компетенции; Пушкин до лета 1824 года тоже находился “под тенью Витта». Сведения о А. Пушкине, добытые у П. Пущина, таким образом, были темой, о которой верховная власть сочла нужным посоветоваться с генералом. Поскольку в задание Бошняка — как видно из отчета — не входила проверка благонадежности П. Пущина, ясно, что власть была напугана и рассержена только перехваченной информацией о Пушкине: агитация среди народа в роковые дни суда и казни! К тому же именно новые, только что “выпущенные” Пушкиным песни — вот чего искали в “плетневской истории” и вот что “нашли” сейчас… Царь даёт устное распоряжение де Витту и Дибичу. Генерал объясняет задачу Бошняку (человеку, которому “вовсе не нравится” поэзия Пушкина, но “принужденному восхвалять…”!). Бошняк отправляется в канцелярию дежурного генерала Главного штаба, где Дибич уже приготовил ему прогонные; при этом открытый лист № 1273 вручается фельдъегерю Блинкову.
Помимо этого Бошняку было дано приказание заняться и другими делами, как-то: тайно произвести наблюдения в тех губерниях, через которые будет проезжать, и доложить о настроениях, злоупотреблениях и т. п. В этом отношении командировка Бошняка довольно типична: летом 1826 года не в одну губернию отправляются подобные более или менее засекреченные гонцы. Только по материалам Главного штаба видно, что была произведена проверка Нижегородской, Казанской, Симбирской, Саратовской, Пензенской губерний; специальные чиновники исследуют Курскую, Архангельскую губернии… Общая обстановка тревоги, ожидания, паники порождает поток разнообразных доносов и “открытий”.
Фельдъегерь Блинков с открытым листом дожидался на станции Бежаницы, а Бошняк с 20 по 24 июля, ловко прикидываясь странствующим ботаником, расспрашивает о поведении Пушкина, опасных стихах, песнях, разговорах разных обитателей Псковской губернии: хозяина Новоржевской гостиницы Катосова, уездного судью Толстого, смотрителя по винной части Трояновского, уездного заседателя Чихачева, помещика Львова, отставного генерала Павла Сергеевича Пущина и его семейство, крестьянина Ивана Столарева. Беседует за крепкой наливкой со знаменитым святогорским игуменом Ионой, расспрашивает некоего крестьянина деревни Губиной, по соседству с Михайловским (Пушкин же, напомним, в эти дни играет в карты и показывается лекарю в Пскове, а затем, не торопясь и ни о чём не подозревая, возвращается в Михайловское).
Опытный агент Бошняк собирает множество сведений о поэте, из которых самым опасным с правительственной точки зрения было свидетельство о том, что поэт “иногда ездит верхом и, достигнув цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу”.
Тем не менее серьезных улик не имеется, и 25 июля в 8 часов утра Бошняк отправляет фельдъегеря Блинкова обратно в столицу сдавать невостребованный открытый лист № 1273. Агент, как видно из публикации Модзалевского и Шилова, приступает ко второй части задания, и раздел “В” его отчета содержит впечатляющие подробности о разных колоритных мошенничествах (например о том, что в Лифляндской губернии жители “перестали умирать”, ибо документы умерших переходят к заинтересованным лицам, которые, прикрываясь “мертвыми душами”, могут убегать, совершать преступления и т. п.). На страницах чернового отчёта — жестокие убийства крестьян помещиками, слабость и нерешительность псковского губернатора Адеркаса (“добрый человек, но слишком беден!”), волнения крестьян Гжатского уезда, проделки новоржевского помещика отставного поручика Голубцова. Исколесив за две недели четыре губернии, Бошняк доставляет свой отчёт в Москву, куда на коронационные торжества, вслед за царем, прибывают Дибич, де Витт и другие управляющие персоны. Прежде чем подать высокому начальству окончательный текст отчета, Бошняк свои повседневные дневниковые записи (на французском языке) превратил в черновой вариант рапорта, закончив эту работу в Москве 1 августа 1826 года. Черновик отчета (а также предшествующие ему записи) Бошняку тоже приказано было сдать, дабы кто-нибудь не узнал чего-нибудь. Девяносто лет спустя черновые бумаги были впервые обнаружены в архиве III Отделения, и, как уже известно, затем опубликованы А.А. Шиловым и Б.Л. Модзалевским».
А вот как обстояло дело о поездке А. Бошняка к Пушкину на самом деле. 15 июля последовало устное распоряжение царя И.О. де Витту о поездке его агента Бошняка в Псковскую губернию. Распоряжение было передано де Виттом коллежскому советнику Бошняку одновременно с выдачей командировочных денег.
16 июля в «Русском инвалиде» помещены: царский указ от 13 июля о публикации постановлений по делу «злоумышленников», доклад Верховного уголовного суда Николаю I с «росписью государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осужденным к разным казням и наказаниям», указ Верховному уголовному суду от 10 июля о «пощадах» (смягчении наказаний), выписка из протокола Верховного уголовного суда от 11 июля о замене четвертования повешением. Спустя день в «Северной пчеле» были напечатаны манифест от 13 июля по поводу окончания действия Верховного уголовного суда и сообщение о казни.
В тот же день, 17 июля, А.С. Пушкин с Н.М. Языковым уезжают в Псков. По прибытии Пушкин был освидетельствован на состояние здоровья во врачебной управе в связи с предложением псковского губернатора. Сохранилось свидетельство за подписью В. Всеволодова в том, «что он (Пушкин) действительно имеет на нижних оконечностях, а в особенности на правой голени, повсеместное расширение кровевозвратных жил».
19 июля псковский губернатор Б. Адеркаса подал на имя прибалтийского генерал-губернатора маркиза Ф.О. Паулуччи рапорт с приложением прошения А.С. Пушкина на высочайшее имя, медицинского свидетельства о болезни поэта и подписки его о непринадлежности к тайным обществам.
Именно в это время И.О. де Витту и поступает личное указание императора Николая осуществить проверку поэта А.С. Пушкина на лояльность. Разумеется, что сам генерал не мог лично отправиться в Псковскую губернию и заниматься изучением поведения поэта. Во-первых, он был бы там слишком заметен, а во-вторых, у него были и неотложные дела в Южной армии, где тоже не всё было спокойно. Поэтому де Витт вполне логично отправляет в Псков своего агента. Причем самого лучшего — А.К. Бошняка.
Это был настоящий профессионал, интеллектуал, возможно, один из лучших секретных агентов за всю её историю. А. К. Бошняк являлся помещиком Херсонской губернии, был однокашником поэта В.А. Жуковского, в своё время был избран уездным предводителем дворянства. Человек он был, по отзыву декабриста С.Г. Волконского, «умный и ловкий, принявший вид передового лица по политическим мнениям». Александр Карлович Бошняк официально состоял в ведомстве Коллегии иностранных дел и являлся родственником коменданта Саратова И.К. Бошняка, храбро защищавшего в своё время город от Пугачева.
Из рапорта А.К. Бошняка: «Целью моего отправления в Псковскую губернию было сколь возможно тайное и обстоятельное исследование поведения известного стихотворца Пушкина…»
Итак, над поэтом нависла угроза, причем гораздо более страшная, чем недавняя высылка из Одессы в деревню. Одно дело — наказание за любовный роман с супругой наместника и совсем иное — обвинение в связях с государственными изменниками.
19 июля из Петербурга в Новоржев отбыл секретный агент при начальнике херсонских военных поселений А.К. Бошняк с фельдъегерем Блинковым. На основании словесного приказания графа де Витта он имел цель произвести «возможно, тайное и обстоятельное исследование поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению и вольности крестьян», и арестовать его и отправить, «куда следует, буде он оказался действительно виновным». Для ареста Пушкина Бошняк имел открытый лист, выданный под его расписку из канцелярии дежурств Е.И.В. за № 1273 на имя фельдъегеря Блинкова. Открытый лист на арест — это почти неограниченные полномочия. С этого момента судьба Пушкина была всецело в руках де Витта и Бошняка.
20 июля А.К. Бошняк с фельдъегерем Блинковым приехали в Порхов. Оставив здесь Блинкова на случай ареста Пушкина (официальная версия), Бошняк в одиночку отправляется в Новоржев и вечером приезжает на станцию Ашева, что в 74 верстах от Порхова и в 84 верстах от Михайловского. Там он получает первую информацию о Пушкине, о котором удается узнать только то, что поэт живет в данный момент в некотором расстоянии от Новоржева.
Тем временем в Москве происходят события, которые могли самым негативным образом сказаться на судьбе Пушкина. В тот же день, 20 июля, кандидат Московского университета А.Ф. Леопольдов, получив от Л.А. Молчанова стихи из пушкинской элегии «Андрей Шенье», делает на них надпись: «На 14-ое декабря» и перед отъездом своим в Саратовскую губернию, по просьбе В.Г. Коноплева, секретного агента генерала И.Н. Скобелева, списывает ему эти стихи. В результате доклада А.Ф. Леопольдова перед властью оказалось налицо прямое доказательство не только полного сочувствия Пушкина декабрьскому мятежу, но и пропаганда им памяти мятежников. Донос Леопольдова — это почти приговор. Судьба поэта повисла на волоске… Теперь спасти его могло разве что чудо.
Тем временем Бошняк приезжает из Ашевы в Новоржев и начинает там свою работу по выявлению настроения опального Пушкина. Остановившись в гостинице, Бошняк узнает от её хозяина Катосова, что Пушкин был на ярмарке в Святых Горах, что он «скромен и осторожен, о правительстве не говорит, и вообще никаких слухов об нём по народу не ходит», что никаких возмутительных песен не сочинял. В гостинице Бошняк знакомится с уездным заседателем Чихачевым, знакомым, по его словам, с Пушкиным. По свидетельству Чихачева, Пушкин ведёт себя скромно.
А в это время следует ещё один удар по Пушкину, да какой!
21 июля из Варшавы поступает «всеподданнейший рапорт великого князя Константина Павловича» о составе бумаг прибывшего из-за границы П.Я. Чаадаева. Великий князь сообщает, что среди них «заслуживают особого внимания стихи под названием: “Смерть” (“Кинжал”), в коих упоминается о Занте». «Кинжал» — это, по сути, гимн готовящемуся к цареубийству Каховскому, тем более что об этом просигнализировал сам старший брат императора! Думается, что к этому времени вопрос об аресте Пушкина был в принципе делом решённым. Чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе, оставалось подождать только заключения Бошняка.
А Бошняк тем временем присутствует в Новоржеве на обеде у уездного судьи Д.Н. Толстого. При этом он выдает себя за путешествующего ботаника. Легенда выглядела вполне натурально, так как Бошняк действительно серьёзно занимался этой наукой и даже был автором нескольких книг по ботанике. За обедом Бошняк расспрашивает о Пушкине хозяина и его гостей — смотрителя по винной части Трояновского и губернского предводителя дворянства А.И. Львова. Все они отзываются, что Пушкин живет скромно.
Затем Бошняк переезжает из Новоржева в имение П.С. Пущина село Жадрицы, «от которого вышли все слухи о Пушкине, сделавшиеся причиною» посылки Бошняка. Целый день он гостит у Пущиных. Путешествующего «ботаника» принимают Пущин, его жена и сестра. В ходе бесед Бошняк узнает, что хозяева «иногда видали Пушкина в русской рубашке», что он «дружески обходится с крестьянами, и брал за руку знакомых, здоровался с ними»; что «иногда ездит верхом и, достигнув цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу»; что «никаких новых стихов его или песен (им) известно не было», что «Пушкин ни с кем не знаком и ни к кому не ездит, кроме Осиповой»; что «ведёт себя несравненно осторожнее противу прежнего». Не удовлетворившись этими сведениями, основанными «не наличном свидетельстве, а на рассказах, столь обыкновенных в деревнях и уездных городках», Бошняк направляется в Святогорский монастырь.
Именно в этот день Пушкин узнаёт о казни декабристов. Можно представить его состояние! Именно в этот тяжелейший момент своей жизни он рисует в черновике виселицу с пятью повешенными и размашисто пишет рядом: «И я бы мог…»
В ночь на 24-е Бошняк прибывает в Святые Горы из Жадриц. Остановившись в монастырской слободе у «богатейшего в оной крестьянина — Ивана Никитина Столярова», Бошняк у него узнает, что «Пушкин обыкновенно приходит в монастырь по воскресеньям»; что он «отлично добрый господин, который награждает деньгами за услуги даже собственных своих людей; ведёт себя весьма просто и никогда не обижает». Утром Бошняк отправляется в монастырь и расспрашивает о Пушкине у игумена Ионы. Последний говорит, что поэт иногда приходит к нему и пьет с ним наливку; что, кроме монастыря и Осиповой, Пушкин «нигде не бывает, но иногда ездит и в Псков», что «никакой песни им в народ не выпущено»; на вопрос Бошняка, «не возмущает ли Пушкин крестьян», Иона отвечает: «Он ни во что не мешается и живет, как красная девка». В 2 часа дня — отъезд Бошняка на станцию Бежанина, что в 66 верстах от Святых Гор. Дорога туда проходила через деревню Губино, всего в 15 верстах от Михайловского. Здесь у крестьянина Бошняк узнает, что «Пушкин нигде в окружных деревнях не бывает, что он живет весьма уединенно и губинским крестьянам, ближайшим его соседям, едва известен».
А Пушкин тем временем на самом деле полон сочувствия к друзьям-декабристам. Именно в эти дни он начинает писать своего знаменитого впоследствии «Пророка» («Духовной жаждою томим»). Тогда же Пушкин пишет сразу три (!) антиправительственных стихотворения о казненных декабристах под общим названием «Пророк» (эти стихи не сохранились). Предание донесло лишь одно четверостишие в безусловно искаженном виде: «Восстань, восстань, пророк России…».
25 июля Пушкин узнает о смерти ещё недавно любимой им в Одессе Амалии Ризнич и приезжает из Пскова в Михайловское. В этот же день в 8 часов утра из Бежаниц Бошняк отпускает обратно в Петербург фельдъегеря Блинкова, так как принял решение, что для ареста Пушкина никаких оснований не имеется.
30 июля маркиз Паулуччи пишет из Риги министру иностранных дел Нессельроде с препровождением прошения Пушкина Николаю I с просьбой «повергнуть оное на всемилостивейшее воззрение», так как Пушкин «ведёт себя хорошо», что видно «из представленных ко мне ведомостей». Однако Паулуччи полагает «мнением не позволять Пушкину выезда за границу». Вполне возможно, что Пушкин чувствует, что тучи над ним сгущаются, и пытается выехать за границу до своего возможного ареста. Об итогах проверки Бошняка он в тот момент, разумеется, ничего не знает.
На следующий день Вяземский и О.С. Пушкина (сестра поэта) пишут Пушкину. Вяземский начинает письмо своим стихотворением «Море». Спрашивает о занятиях и здоровье Пушкина. Высказывает мнение о письме Пушкина к Николаю I: «сухо, холодно». Советует написать другое и дать обещание писать только для печати и сдержать слово. Ждёт отрывок из записок Пушкина о Карамзине. Отказывается сам писать о Карамзине. Говорит о значении его для России; о Жуковском и братьях Тургеневых. Просит прислать стихи и «Бориса Годунова».
1 августа прибывший в Москву А.К. Бошняк составляет рапорт графу И.О. де Витту об итогах своей поездки в Псковскую губернию с 19 по 24 июля для сбора сведений о поведении Пушкина. В рапорте он отвергает все подозрения в нелояльности поэта и утверждает, что для ареста Пушкина нет никаких оснований.
10—15 августа в своей записке Скобелеву Бенкендорф выражал сожаление, что не мог быть у него «по причине крайнего недостатка времени и предстоящих манёвров». Манёвры происходили в присутствии Николая I и великого князя Константина Павловича в окрестностях Москвы. Несостоявшаяся встреча Скобелева с императором на руку Пушкину, так как во время её генерал мог убедить Николая в приверженности поэта декабристам. Возможно, что сам отказ Бенкендорфа от встречи со Скобелевым следует понимать как шаг политический. Получив информацию от де Витта о лояльности Пушкина и всецело доверяя ей, Бенкендорф демонстративно показывал, что он игнорирует информацию, поступившую на поэта Скобелеву, и считает вопрос по Пушкину зарытым. В те дня авторитет де Витта, как человека, открывшего заговор масонов-декабристов, и руководителя на тот момент сильнейшей секретной службы государства, был так высок, что игнорировать его мнение Бенкендорф просто не мог.
Затем следует соответствующий доклад Бенкендорфа императору. Николай I желает лично ознакомиться с рапортом Бошняка, который представляет ему генерал де Витт. Император читает отчёт Бошняка с комментариями де Витта. Бумаги доказательно утверждают, что Пушкин лоялен императору и его внутренней политике. Именно после этого Николай I и принимает решение вызвать Пушкина в Москву для личной беседы.
31 августа барон Дибич пишет псковскому губернатору Адеркасу: «По высочайшему государя императора повелению… прошу покорнейше ваше превосходительство находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10 класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с ним нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря…»
4 сентября Пушкин, прибыв в Псков к губернатору, пишет П.А. Осиповой: «Я предполагаю, что мой неожиданный отъезд с фельдъегерем поразил вас так же, как и меня… Вот факт: у нас ничего не делается без фельдъегеря. Мне дают его для безопасности. После любезнейшего письма барона Дибича зависит только от меня очень этим возгордиться. Я еду прямо в Москву…»
В тот же день Адеркас доносит в рапорте Дибичу, что Пушкин выехал из Пскова в Москву.
Дальнейшее известно: Пушкин был принят императором, и не только прощен по всем пунктам, но и освобождён на будущее от всякой цензуры.
— Отныне я твой цензор! — сказал поэту Николай I.
На этом период опал и неудач в жизни Пушкина закончился, наступило время его официального признания как первого поэта России.
Нас же теперь интересует один немаловажный вопрос: инструктировал ли де Витт пред отправлением в командировку Бошняка, чтобы тот объективно подошёл к информации об опальном поэте, или дал негласное указание сделать всё возможное, чтобы спасти Пушкина от Сибири? О личном расположении генерала к поэту, мы уже говорили, как и о том, что между ними как раз в тот момент существовала и личная переписка. Но и это не всё.
Вполне возможно, что разгадка тайны поездки Бошняка состоит в следующем. Приведём воспоминание современника: «Живя в Михайловском, он (Пушкин) был в переписке с самим Ризничем, как сказывали нам люди, близкие к последнему».
Итак, Пушкин, прибыв в Михайловское, вступает в переписку с Ризничем. Но ведь Ризнич — это ближайший друг де Витта! Именно в это время генерал хлопочет о присвоении дворянства и о награждении Ризнича орденом. Случайны ли эти совпадения? Не был ли Пушкин через того же Ризнича проинформирован Виттом о внимании нового императора к его персоне, и о том, как себя следует вести (хотя бы внешне) в новых обстоятельствах. Сам генерал (опытнейший разведчик!), разумеется, об этом никогда бы напрямую не написал, а вот через Ризнича — вполне вероятно. Если всё обстояло именно так, то перед нами ещё одна блестящая многоходовая комбинация Ивана де Витта, целью которой являлось спасение для России величайшего из её поэтов.
Странно, но никто и никогда даже не пытался разобраться во взаимоотношениях Пушкина и де Витта. Думается, только потому, что над Виттом до сих пор витает сомнительный ореол главного предателя декабристов, а Пушкин всегда считался официально у нас другом «мучеников 14 декабря». На этом основании дружбу или хотя бы приятельские отношения этих двух людей пушкинисты считают невозможными. И зря!
Анализ поездки Бошняка в Псковскую губернию говорит о том, что если бы он имел задачу очернения поэта в глазах нового императора, то это он мог сделать довольно легко, так как все основания для того, чтобы считать Пушкина нелояльным режиму, уже имелись. За то, что Бошняк изначально был настроен оправдать поэта, говорит и удаление Бошняком от участия в поездках по губернии сопровождавшего его фельдъегеря. Лишние уши и глаза были Бошняку ни к чему! Разговоры Бошняка с местными помещиками, которые толком и не знали Пушкина, — больше для отвода глаз и отчетности. Что могли сказать окрестные помещики — да ничего! А вот внезапный обыск в доме поэта мог выявить столько компрометирующего материала, что Пушкина ждала бы, несомненно, Сибирь.
Но никакого обыска произведено не было. Почему? Боялись потревожить поэта? Вряд ли, в ту пору трясли куда более высокопоставленных особ, ведь на карту была поставлена безопасность государства. Значит, кто-то определил порядок действий Бошняка и в этом определении был исключен обыск — самый действенный метод получения искомой информации. Кто мог дать такое указание Бошняку? Только его непосредственный начальник де Витт! Вполне вероятно, Бошняк имел прямое устное указание де Витта сберечь поэта. Знал ли Пушкин о роли графа в том, что император Николай после доклада переменил к нему отношение? Думается, что узнал, хотя и не сразу. Лишним доказательством этому служит тот факт, что за всю свою жизнь великий поэт ни разу не обмолвился плохим словом о генерале де Витте, в то время как многие, казалось бы, более лояльные к тому же декабристскому движению деятели, удостаивались его весьма нелицеприятных эпиграмм. Вспомним, что Каролина Собаньская демонстративно предпочла поэту генерала? Уже одно это могло подвигнуть Пушкина на самые злоречивые эпиграммы.
Но ничего подобного не произошло. Почему? Да потому, что Пушкин, скорее всего, прекрасно понимал, кому именно он обязан благосклонностью императора и никогда об этом не забывал, хотя, зная о неоднозначном отношении в обществе к личности де Витта, особо не распространялся о том, какие личные отношения связывали их между собой.
Н. Эйдельман в своей книге «Пушкин и декабристы» пишет: «Сведения о начале шпионской карьеры Бошняка противоречивы. Потомки утверждали, будто он был “бесхарактерной жертвой хитрого Витта”; согласно хвастливым рассказам самого генерала, воспроизведенным много лет спустя Ксаверием Браницким, Витт завербовал Бошняка, действительно “склонявшегося к вольнодумству”, угрозой ареста, расправы… Для более полной характеристики тех лиц, что летом 1826-го устремляются на Пушкина, отметим существование версии, будто и сам генерал Витт работал “надвое”: согласно Браницкому, Витт утверждал, что “вначале собирался примкнуть к заговору, полагая, что дело шло о свержении всесильного Аракчеева, отвратительного великого визиря Руси”. Однако затем Витт будто бы догадался об истинной сущности заговора, и “все колебания показались преступными”. Это удивительным образом совпадает с замечанием Мицкевича, что “граф не спешил предупредить правительство. С одной стороны, он хорошо знал генерала Аракчеева, в ту пору облечённого императором всей полнотой власти. С другой стороны, хотел выяснить, каковы планы заговорщиков и средства, которыми они располагали. Но донос Шервуда заставил Витта послать рапорт в Петербург”. С этим согласуется и любопытная версия декабриста Сергея Волконского, который писал о превращении Бошняка в тайного агента: “При его образованности, уме и жажде деятельности помещичий быт представлял ему круг слишком тесный. Он хотел вырваться на обширное поприще и ошибся”. Возможно, в самом начале и наблюдались какие-то сомнения Бошняка, однако летом 1825 года он уже верой, правдой и охотой служит могущественному генералу».
Относительно истории секретной поездки Бошняка к Пушкину существует воспоминание племянника А. Бошняка (тоже Александра): «Дядя <…> признавался моему отцу, что поэзия входившего тогда в славу Пушкина ему вовсе не нравится, но что он принужден восхвалять его, так как кругом его расточаются похвалы явившемуся поэту». Эти воспоминания говорят о том, что агент де Витта, собирая информацию о Пушкине, руководствовался исключительно указаниями своего шефа, а не личными эмоциями.
По представлению графа де Витта в августе 1826 года А. Бошняка наградили орденом Святой Анны II степени с алмазами. В последующие годы он продолжил службу чиновником для особых поручений в Елисаветграде при де Витте, получая 5 тыс. рублей жалованья в год.
В свете всего вышесказанного профессиональные пушкиноведы и все любящие и ценящие великого поэта должны были бы чтить память о человеке, сохранившего для нас Пушкина. Увы, этого так и не произошло. Вот как, к примеру, характеризует И.О. де Витта М. Яшин: «Витт, делец (?!), перебежчик (?!), авантюрист (?!), дипломатический интриган (?!), отличался тонкостью ума и проницательностью. Внешне тактичный и весёлый, он умел лавировать среди сильных мира сего и извлекать пользу из малейшей необдуманности своих высоких покровителей. Полицейская хитрость и провокаторская ловкость помогали ему быть в курсе всех событий — и далеко не ради защиты интересов русской монархии». Тогда ради чего? — хочется спросить маститого пушкиноведа.
А меж тем уже одного спасения первого поэта России было более чем достаточно, чтобы имя генерала Ивана де Витта было записано в скрижали отечественной истории золотыми буквами.
Заканчивая весьма сложную тему Пушкин — Собаньская — де Витт — декабристы, приведём типичный современный «исторический» опус, в котором всё сваливается в одну кучу. Надуманность, тенденциозность, ничем не подтвержденные оскорбления и ярлыки — все это присутствует в избытке.
Не будем называть автора этого исторического изыска о Каролине Собаньской и де Витте, но сочинение достойно того, чтобы его процитировать, ибо вобрало в себя всю традиционно пропагандируемую нашими историками мерзость о Каролине и Иване: «Фактически расставшись со своим первым мужем (мы уже писали, что рассталась с мужем Каролина вполне законно. — В.Ш.), Собаньска вела в Одессе неслыханный в ту пору образ жизни (?!). С 1821 года она открыто сожительствовала с начальником Южных военных поселений генерал-лейтенантом И.О. Виттом, афишируя свой адюльтер (она не была содержанкой, а гражданской, а потом, после венчания в 1831 году, и законной женой. Именно так, кстати, жил с графиней Лович и великий князь Константин, но никто его и его жену не обвиняет в аморальности! — В.Ш.). Такое поведение считалось скандальным (почему именно? кем? — В.Ш.), однако оно вписывалось в романтический образ демонической красавицы (опять надуманное сравнение с дьяволом! — В.Ш.). На самом же деле Собаньска была не только любовницей, но и агентом Витта (К. Собаньская никогда не была штатным агентом, но как умная и преданная жена, она по мере сил помогала мужу в его делах, причём весьма успешно. История знает массу примеров, когда жены весьма деятельно участвовали в делах своих супругов. — В.Ш.). Генерал-лейтенант Витт — одна из самых грязных личностей в истории русского политического сыска (здесь уже просто площадная брань и брызги желчи! — В.Ш.). Шпион не столько по службе, сколько из призвания (шпионами, в таком случае, следует называть всех наших разведчиков и контрразведчиков, сотрудников КГБ и ФСБ! — ВШ.), Витт лелеял далеко идущие честолюбивые планы (какие же именно? — В.Ш.). По собственной инициативе он начал слежку за рядом декабристов: А.Н. и Н.Н. Раевскими, М.Ф. Орловым и др. (молодец, кто-то же должен был защищать интересы государства от масонского отребья! — В.Ш.). Особенно сложные отношения связывали его с П. Пестелем. Пестель прощупывал возможность использовать военные поселения в целях тайного общества. Он ясно видел и авантюризм, и грязное честолюбие (в чем же оно конкретно проявлялось? — В.Ш.) Витта, но и сам Пестель — за что его упрекали декабристы — был склонен отделять способы борьбы за цели общества от строгих моральных правил. Он был готов использовать Витта, так же как позже надеялся сделать из растратчика И. Майбороды (!?) послушное орудие тайных обществ. Недоверчивый Александр I долго задерживал служебное продвижение Пестеля, не давая ему в руки самостоятельной воинской единицы (это неправда, Пестель сделал блестящую карьеру, не вылезая из штаба Витгенштейна — В.Ш.). А без этого любые планы восстания теряли основу. Пестель решился использовать Витта: жениться на его дочери — старой деве (опять ложь, приемная дочь де Витта была молода, богата и красива! — В.Ш.) и получить в свои руки военные поселения юга (это каким же образом? — В.Ш.). В этом случае весь план южного восстания опирался бы на бунт поселенцев, “взрывоопасность” которых Пестель полностью оценил. Встречная “игра” Витта состояла в том, чтобы проникнуть в самый центр заговора, существование которого он ощущал интуицией шпиона (правильнее: профессионализмом талантливого разведчика, стоящего на защите государственных интересов — В.Ш.). Получив сведения о заговоре в Южной армии, он намеревался использовать этот козырь в сложном авантюрном плане (что же это за тайный план, о котором до сих пор никто ничего не знает! — В.Ш.) — в зависимости от обстоятельств продать Пестеля Александру или Александра Пестелю (где хоть какое-то документальное подтверждение этой выдумке? — В.Ш.). И Александр I, и Пестель презирали Витта (документ или свидетельство! — В.Ш.) и с отвращением (документ! — В.Ш.) прибегали к его помощи. Но оба приносили свою брезгливость в жертву ведущейся ими политической игре (документ! — В.Ш.). Судьба решила по-своему: Александр, наконец, вручил Пестелю полк, и обращение декабристов к Витту сделалось ненужным (ситуация была намного более сложной. — В.Ш.). Широко идущие планы Витта (кто хоть раз видел эти планы? — В.Ш.) не ограничивались связями с Пестелем. В кругу его специальных интересов оказались и Пушкин, и Мицкевич (Пушкина Витт фактически спас для России, а за Мицкевичем приглядывал совершенно правильно, так как тот был одним из самых ярых врагов России! — В.Ш.). Но, если Пестеля он собирался заманить перспективой получить “в приданое” военные поселения (каким это образом? Документ! — В.Ш.), то приманка для Пушкина и Мицкевича нужна была иная — здесь орудием Витта стала Каролина Собаньска (это уже откровенная грязь — В.Ш.). Оба поэта испытали мучительное чувство к прекрасной авантюристке. Пушкин на юге пережил тяжелую подлинную страсть, и впоследствии его несколько раз настигали кратковременные пароксизмы этого увлечения (поэта жаль, но Собаньская его никогда не любила. — В.Ш.)».
Читая наших пушкиноведов, невольно приходишь к мысли, что немалая часть из них испытывает какое-то ненормально патологическое влечение к интимным делам великого поэта. Они десятилетиями смакуют подробности его романов, с придыханием описывают степень сексуальности той или иной дамы, на которую обратил внимание Пушкин. Но самое гнусное состоит в том, что отношение пушкиноведов к женщинам пушкинского круга во многом определяется именно тем, пустила ли та или иная особа в свою постель поэта или нет. Ежели пустила, то они пишут о ней в восторженных тонах — какая, мол, умница, уступила-таки гению! Если же роман сложился неудачно и поэт был отвергнут, пушкиноведы находят массу причин, чтобы опорочить в глазах потомков строптивицу. Всё это можно назвать историческим сводничеством. Поэтому нет ничего удивительного, что к Каролине Собаньской большинство исследователей (к счастью, не все!) испытывают неприкрытую ненависть. Почему-то особой ненавистью к Каролине пылала на склоне лет Анна Ахматова. Каролина для Ахматовой не просто плохая и никчемная дама, она для неё «порождение дьявола»! Еще бы, столько лет кружить голову Пушкину, напрочь отвергать его притязания и даже заставить поэта унижаться перед собой в письмах и стихах! Кстати, анализируя отношения Пушкина и Собаньской, можно сказать, что Каролина всегда вела себя по отношению к поэту весьма дружелюбно, но никогда не давала повода для более близких отношений. Это говорит о том, что никакой «ветреной и любвеобильной дамой» (любимые ярлыки) Каролина не была, но позволяла себе иногда, в силу традиций общества, легкий флорит, но не более того. А кто из красивых женщин вообще себя ведёт иначе? О том, что Каролина не любит поэта, и никогда не любила, Александр Сергеевич прекрасно знал.
Ненависть к Собаньской была автоматически перенесена пушкиноведами и на де Витта. Вообще-то, честно говоря, перед ними и историками декабризма у де Витта имеются две «страшные» вины, которым нет, и не может быть, по их мнению, прощения.
Перед пушкиноведами генерал виноват тем, что Собаньская предпочла его Пушкину. В этом апологеты поэта видят величайшую несправедливость по отношению к Александру Сергеевичу! По их мнению, Каролина просто не имела права отказать поэту! Увы, при всем восхищении талантом нашего отечественного гения, сердцу, как говорится, не прикажешь!
Историкам декабризма де Витт ненавистен уже тем, что остался верен присяге, престолу и России, за то, что не был масоном. Ну извините, не всем же ненавидеть своё Отечество и мечтать залить его кровью сограждан! Сотрудники спецслужб были всегда, и всегда они стояли на страже интересов своего государства. Кстати, такое положение дел существует в нашем государстве и сегодня, но это же не значит, что все сотрудники ФСБ, МВД, ГРУ и СВР являются «грязными личностями русского политического сыска»! Увы, не только трагическая история нашего государства, но и сегодняшнее время показывает, что именно от профессионализма и эффективности работы сотрудников данных структур во многом зависит сохранение российской государственности и безопасность жизни её граждан.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ДИВЕРСИЯ
В 1828 году началась Русско-турецкая война (1828–1829), и, конечно же, де Витту была отведена определённая роль. Снова предоставим слово биографу генерала: «В 1829 году, направляясь в Яссы для осмотра подведомственных ему резервных кавалерийских частей и решив совершить часть пути от Одессы морем, Витт случайно, бурей, был занесён в Константинополь, а затем и в Варну, осажденную нашими войсками. Присоединившись здесь к армии, Витт сообщил ценные сведения, полученные во время пребывания в Константинополе, о состоянии Турции и её намерениях и принял участие в ряде военных действий. 21 апреля 1829 года Витт был произведён в генералы от кавалерии… получил особую высочайшую признательность и был причислен к генералам, состоящим при особе его величества».
В рассказе биографа что ни фраза, то загадка! Прежде всего, зачем Ивану Осиповичу понадобилось плыть морем? Ведь стоит только глянуть на карту, как сразу станет ясно, что плыть из Одессы в Яссы на судне — это полная нелепость. Между этими городами и моря-то нет, зато есть обычная дорога! Из этого следует, что история с Яссами — это всего лишь наскоро сочиненная легенда, рассчитанная на обывателя. Далее ещё интересней! Вначале генерала заносит бурей в столицу враждебного государства, а затем следующая буря относит его к Варне, где в тот момент находился российский император! Воистину чудо! Да и куда смотрели турки, когда у них по столице разгуливал генерал вражеской армии? Дальше уж совсем невероятно!
В перерывах между бурями Иван де Витт внезапно становится обладателем каких-то важнейших сведений. Неужели, случайно спрятавшись в Босфоре от шторма, де Витт тут же стал обладателем секретнейшей информации? Или турки, сообщив вражескому генералу свои секреты, тут же отпустили его домой? И, наконец, обилие высших наград, буквально обрушенных на де Витта Николаем I, уж никак не вяжется с наивной историей о заплутавшем в море горе-генерале.
На самом деле всё обстояло, конечно же, совсем не так. Ещё перед войной де Витт, неоднократно бывая в Одессе, занимался там восстановлением своей старой агентурной сети в Турции, которую он в своё время создавал, находясь ещё на службе у Наполеона.
В апреле 1828 года Южная армия под началом генерала П.Х. Витгенштейна перешла границу. В течение двух недель были заняты Молдавия и Валахия. Затем началась осада Силистрии и Браила. Вскоре пали крепости Исакчи, Мачин, Тульчи. Войска подошли к предгорью Балкан. Для дальнейшего продвижения крайне необходимо было взять Шумлу или Варну, защищавшие дороги через Балканы на Константинополь. В конце концов было решено остановиться на взятии Варны, так как при этом можно было рассчитывать на помощь Черноморского флота.
Варна была весьма непростым орешком. Её укрепления состояли из двенадцати вполне современных бастионов с сильной артиллерией. Гарнизон под началом Мехмет-паши насчитывал более двенадцати тысяч человек. Кроме этого восточная сторона крепости была прикрыта топким болотом, а южная — мелководным морем, из-за чего корабли не могли подойти к крепости ближе, чем на 5–6 кабельтов.
Осада крепости шла с переменным успехом и явно затягивалась. Мешая осадным работам, турки совершали частые вылазки. Массовые болезни не позволяли сосредоточить у Варны крупные силы. Воспользовавшись этим, турки перебросили в Варну дополнительно целый корпус. Дело шло к тому, что осаду Варны придётся вообще снимать, а это грозило изменить весь ход войны. Ввиду важности взятия крепости под Варну прибыл сам император Николай, но это мало что изменило. Генерал-лейтенант де Витт, который также находился под Варной, вызвался добыть сведения о слабых сторонах обороны крепости. Император не слишком поверил в успех затеянного де Виттом предприятия, но иного выхода у него было.
Вскоре осуществилась смелая операция по добыче секретной информации — непосредственно из турецкой столицы. Почему генерал-лейтенант решил лично возглавить операцию? Возможно, здесь действовал фактор времени или де Витт не слишком доверял посредникам. Вполне возможно, что давние константинопольские агенты генерала доверяли лично ему. Заметим, что после ранения командующих осадой крепости князя А. Меншикова и графа В. Петровского во главе осадных войск был поставлен граф М. Воронцов. Вполне возможно, что именно с его подачи де Витт и решился на свою неслыханную по дерзости операцию.
Для проведения операции было спешно подготовлено специальное судно. Скорее всего, это была какая-нибудь неприметная рыбацкая фелука с командой из греков. В неё загрузили сети, различные товары, а в глубине трюма спрятали золото. Иван де Витт, который мог вполне сойти за грека (к тому же он превосходно знал греческий язык), переоделся в мелкого купца. Под видом укрытия от надвигающегося шторма фелука проникла на внутренний рейд Константинополя. По условному сигналу на неё прибыли действовавшие в неприятельской столице агенты. Ввиду секретности дела их, скорее всего, опрашивал сам де Витт. Здесь, естественно, помогло знание турецкого языка. Отчитавшись и получив вознаграждение, агенты убыли шлюпкой на берег, а фелука, снявшись с якоря, вышла в море, взяв курс на Варну. По тому, как была организована и проведена эта операция, сколь важными сведениями она обеспечила русское командование, можно судить об уровне профессионализме де Витта!
Что же привез императору Николаю из Константинополя генерал-лейтенант де Витт? Подробнейшее описание фортов и размещенной на них артиллерии с секторами стрельбы, фарватеры подходов к крепости сквозь прибрежное мелководье, состояние всех крепостных припасов на момент начала осады, из чего вполне можно было рассчитывать текущее состояние припасов в осажденной крепости. Надо ли говорить, как обрадовался добытой информации император! Результаты разведывательной деятельности де Витта не замедлили сказаться.
Уже через несколько дней после его возвращения флотилия русских гребных судов, пройдя секретными фарватерами, уничтожила полтора десятка турецких судов, как тогда говорили, «вырезала». А затем по тем же фарватерам стали подходить к крепости и линейные корабли, ведя её ожесточенный обстрел. С учетом расстановки крепостной артиллерии и фортов начались вестись и осадные работы. Положение осажденных сразу резко ухудшилось.
А когда к крепости подошёл гвардейский корпус, а бригада генерала Головина прошла тайными тропами (планы которых тоже были добыты неутомимым де Виттом) по, казалось бы, непроходимому болоту и вышла к наименее укрепленной южной стороне крепости, положение Мехмет-паши стало просто критическим. В тех же болотах был разбит и сильный турецкий отряд с обозом, пытавшийся прорваться по тайным тропам к крепости.
Затем был штурм с ударом по наиболее слабому приморскому бастиону и демонстративным наступлением на западный фас крепости. Штурм окончательно измотал турок, и 29 сентября 1828 года они сдались.
Присвоение де Витту Николаем I за взятие Варны в 1829 году чина генерала от кавалерии вызвало массовое недовольство в российском генералитете. А в сентябре того же года де Витту были пожалованы императорские вензеля на эполеты «за успешное формирование резервов и своевременное усиление ими действующей армии во всё продолжение благополучно оконченной с Портой Оттоманской войны и за отличное состояние, в каковом найдены при смотре поселенные войска».
Обойденные императорской милостью генералы никак не могли взять в толк, что такого сделал де Витт, чтобы получить высший генеральский чин. Обстоятельства разведывательной операции и генерал, и император держали в секрете, а потому относительно услуги, оказанной де Виттом, ходили самые невероятные слухи. О генерале стали распускаться всевозможные сплетни, его именовали не иначе как интриганом и императорским осведомителем. Иван Осипович о многом знал, о многом догадывался, но оправдываться не пытался. Таков уж удел разведчика: зная всё обо всех, он порой не может сказать и слова в собственное оправдание, накрепко связанный негласными правилами своей профессии.
Вместе с армией де Витт участвовал затем во взятии Силистрии, в сражении под Шумлой, где турки снова были разбиты. Затем был трудный поход к Андрианополю и к побережью Эгейского моря, который де Витт проделал в авангарде, командуя конным отрядом. Многочисленные мелкие, но яростные стычки. Наконец, в подзорные трубы стали уже видны стены Константинополя. Однако не всё было так просто. Дело в том, что командующий армией генерал Дибич действовал с большим риском, спустившись с гор в самом сердце Турции и имея под началом всего 20 тыс. солдат. Правда, это были русские солдаты, но обстановка всё равно была опасной. У неприятеля прямо в их столице находилась большая армия, ещё одна, почти в 100 тыс. человек, под началом скутарийского паши уже вышла из Филиппополя и двигалась во фланг русским войскам форсированными переходами.
Надо было торопиться с мирными переговорами, пока все преимущества были на нашей стороне. И здесь снова помогла константинопольская агентура де Витта. По его распоряжению агенты устремились на многочисленные базары и начали распространять слухи о 100-тысячной русской армии, что стоит у ворот Константинополя и ждёт ещё такую же в помощь, а также о том, что скутарийский паша уже разбит и остатки его воинства спасаются бегством. В Константинополе началась паника, вот-вот грозящая, по турецкому обыкновению, перерасти в бунт. Между тем у константинопольских стен показались казачьи дозоры. Султан Махмуд потерял голову и велел министрам срочно подписывать мир с Россией. Когда турецкое правительство осознало, какую ошибку оно допустило, было уже поздно — договор был подписан на самых выгодных для России условиях.
Разумеется, деятельность де Витта как разведчика была поистине гениальна по дерзости замысла, чёткости исполнения и блестящим результатам. Однако его деятельность этим в войну не ограничилась. Решением императора ещё до начала войны с Турцией де Витт был назначен командующим резервов Южной армии и ответственным за её продовольственное снабжение. Вопрос этот был далеко не второстепенный. Правомерен вопрос: почему именно де Витт был назначен на столь важные должности, ведь снабженческого опыта, причем в таких больших масштабах, у него не было? Ответ достаточно прост: поскольку генерал являлся начальником Южных военных поселений, в его распоряжении имелись войска, которые можно было использовать как резервные в случае необходимости, и склады с военными припасами. Совмещать деятельность снабженческую и разведывательную было непросто. Тем не менее он прекрасно справился и с ролью снабженца действующей армии.
Работая над книгой, я просмотрел всю доступную литературу о войне 1828–1829 годов и не нашёл ни одного упоминания о том, что солдаты в эту кампанию голодали, что кто-то что-то воровал и т. п. Из этого можно сделать вывод, что в целом снабжение армии было поставлено неплохо и де Витт вполне справился со своими обязанностями. При этом к себе в помощь он привлек настоящего профессионала своего дела — «негоцианта коммерции советника» Ивана Ризнича, бывшего мужа знаменитой пушкинской музы Амалии.
2 марта 1827 года В.И. Туманский писал из Одессы А.С. Пушкину: «Одна из наших новостей, могущая тебя интересовать, есть женитьба Ризнича на сестре Собаньской, Виттовой любовницы. В приданое за неё получил Ризнич в будущем 6000 черв., а в настоящем Владимирский крест за услуги, оказанные Одесскому Лицею. Надобно знать, что он в Лицее никогда ничего не делал. Новая м-м Ризнич, вероятно, не заслужит ни твоих, ни моих стихов по смерти: это малютка с большим ртом и с Польскими ухватками. Дом их доселе не открывался для нашей братьи».
Более чем вероятно, что крест для И. Ризнича выхлопотал граф де Витт, но по другим основаниям, а не за заслуги по Ришельевскому лицею, членом правления которого, как видно из его формулярного списка, Ризнич был назначен только в конце января 1827 года.
В это время ввиду возможной близкой войны с Турцией П.Д. Киселев занимался подготовкой и разработкой плана будущих военных действий. При этом было обращено внимание на то, что морских перевозочных средств, заключавшихся в судах нашей Черноморской флотилии и коммерческих, совершенно недостаточно, и Киселев немедленно привлек к этому делу Ризнича.
Как мы уже знаем, муж Каролины Собаньской покинул её и Одессу вместе с супругой негоцианта Ризнича Амалией. Что касается де Витта, то, живя вместе с Каролиной, он был весьма дружен с покинутым женой Ризничем. Как-никак сбежавшая любовная пара состояла из бывшего мужа Собаньской и бывшей жены Ризнича! Напомним, что А.С. Пушкин, находясь в Одессе, был одновременно влюблен и в Каролину, и в Амалию. Здесь перед нами даже не заурядный любовный треугольник, а многоугольник, разобраться в котором так и не смогли до конца ни современники, ни историки.
Владимирский крест Ризнич получил в 1827 году вовсе не за красивые глаза и не за снабжение булками одесских лицеистов, а за подготовку коммерческого флота к грядущим военным перевозкам. Затем была не менее успешная деятельность Ризнича по снабжению воюющей Южной армии продовольствием, где он трудился под руководством де Витта. Заслуги Ризнича в войну также не остались незамеченными. Правительствующий Сенат уже в июне 1828 года дал знать графу М.С. Воронцову, что император, согласно именному указу «по засвидетельствованиям управлявшего Новороссийскими губерниями и Бессарабскою областью тайного советника графа Палена и Вашему об отличном усердии и деятельности Одесского негоцианта коммерции советника Ризнича, оказанных им при экстренной закупке в Одессе значительного количества хлебных запасов для продовольствия войск 2-й армии, всемилостивейше пожаловать соизволи его, Ризнича, в надворные советники». Это время является кульминационным пунктом успехов Ризнича. Уже в следующем году являются какие-то неясные намеки на обострение его отношений с графом М.С. Воронцовым, на какие-то распускаемые о нём клеветнические слухи, «имеющие целью повредить его репутации в общественном мнении»…
В 1832 году коммерсант полностью разорился, не выдержав конкуренции с тогдашней «черноморской мафией». Но де Витт и его давний сотоварищ и бывший свояк генерал Киселев не дали Ризничу пропасть. При содействии последнего или, вероятнее, по протекции лиц, упоминаемых в этом письме (в том числе и де Витта), Ризнич вскоре устроился на государственную службу и в 1834 году был назначен чиновником особых поручений при киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе, которым тогда являлся генерал-адъютант граф Левашов. Пользовался Ризнич и расположением Воронцова.
В 1838 году Ризнич был причислен к русскому дворянству, и его род был внесен в 4-ю часть родословных дворянских родов Киевской губернии. В 1839 году по представлению генерал-губернатора Д.Г. Бибикова И.Ризнич был назначен директором Киевской конторы Государственного коммерческого банка и произведён в коллежские советники. В 1843 году он получил орден Святого Станислава 2-й степени, а в 1848 году стал старшим (от правительства) директором Киевской конторы банка. Дружба де Витта и Ризнича имела весьма интересные нюансы. Дело в том, что после бегства в Италию Амалии Ризнич и мужа Каролины Собаньской последняя приняла самое живое участие в судьбе покинутого женой Ризнича. Она познакомила Ризнича со своей сестрой Паулиной Ржевусской. Между Ризничем и Паулиной завязался роман, который завершился вполне счастливым браком.
Едва окончилась Русско-турецкая война 1828–1829 годов, как Иван Осипович стал проситься направить его начальником штаба к великому князю Константину в Польшу. О причинах этой просьбы мы можем только догадываться. Возможно, это было связано с наследственными делами, возможно, де Витт просто скучал по родине. Но не тут-то было! Правитель Царства Польского великий князь Константин Павлович не желал видеть рядом с собой весьма нелюбимого им де Витта, отдав предпочтение ничего не понимающему во внутренних польских делах греку Д.Д. Куруте.
Известны весьма нелицеприятные высказывания великого князя Константина об Иване Осиповиче. Всё дело в том, что великий князь не мог простить де Витту июня 1812 года, когда тот прибыл из Польши в ставку 1-й армии, после чего они вдвоем с Барклаем-де-Толли, не позвав Константина, бывшего в ту пору командиром гвардейского корпуса, заперлись и совещались. Разумеется, Константин что-то слышал о разведывательных делах де Витта, но, будучи человеком прямым по характеру и весьма недалеким по уму, не понимал в принципе сам род деятельности этого таинственного человека, а потому и не желал видеть его рядом с собой. Как показали последовавшие вскоре события, если бы в Варшаве находился рядом с Константином не малоинициативный и ленивый Курута, а всезнающий и энергичный де Витт, возможно, дело бы никогда и не дошло до большой крови. И история России и Польши была бы несколько иной, чем сегодня.
Но, к сожалению, всё вышло иначе. После отказа великого князя Константина взять де Витта к себе император Николай назначает генерала от кавалерии де Витта состоять при своей особе. Должность эта открывала перед разведчиком большие возможности.
ПОЛЬСКИЙ МЯТЕЖ
В 1829 году Бугская уланская дивизия образовала военное поселение в Херсонской губернии. Это поселение стало на долгое время одной из главных забот де Витта. Оно требовало на первых порах больших забот, и де Витт с головой уходит в хозяйственные дела.
К 1830 году резко обострились отношения между Россией, Пруссией и Австрией, с одной стороны, и Францией — с другой. Париж обвинялся в распространении революционных идей и подстрекательстве национальных меньшинств к восстаниям. Союзники заключили между собой тройственный антифранцузский союз. Император Николай I провел внеочередной рекрутский набор и велел своему брату Константину отмобилизовать армию, расположенную в Польше.
Император отправился в поездку по западным губерниям, чтобы лично убедиться в боеспособности армии.
Из воспоминаний А.Х. Бенкендорфа (1830): «Государь сделал смотр одной дивизии литовского корпуса и продолжал свой путь, через Старый Константинов, в Елисаветград, где были собраны кирасирская и уланская дивизии поселенных войск, состоявших под начальством графа Витта. Здесь же Галиль-паша, возвращавшийся в Константинополь по исполнении своей миссии, ожидал Государя и присутствовал при учении этой конницы, одинаково превосходной как по выправке всадников, так и по красоте лошадей. Оттуда Государь поехал в Александрию близ Белой Церкви, летнее пребывание старушки графини Браницкой, которая сделала августейшему своему гостю прием, вполне соответствовавший её несметным богатствам. Государь жил в отдельном большом доме, убранном как дворец. Меня поместили в щегольском павильоне, а обед подавали в великолепной зале посреди сада, наполненной драгоценнейшими статуями и бронзами. Сады, парк и всё остальное отличалось той же роскошью. В окрестностях Александрии было собрано и осмотрено до 30 резервных эскадронов из дивизий, участвовавших в турецкой войне. Потом мы поехали в Козелец для осмотра 2-й драгунской дивизии. Полки её оказались в отличном состоянии; Государь маневрировал с драгунами и в пешем и в конном строю, что составляет истинное их назначение. Этот род войска был пересоздан Императором Николаем, постоянно старавшимся возвратить ему прежнюю его важность. Из Козельца мы перенеслись в Киев, где массы народа ждали Государя у ворота Печерской лавры и провожали до Соборной церкви».
Итак, кавалерия де Витта, подвергшись проверке на самом высшем уровне, показала себя на должной высоте. Сам генерал заслужил высочайшее благоволение. Кто тогда знал, что очень скоро де Витту придется вести свои полки в бой.
Тем временем начала быстро ухудшаться и внутренняя ситуация в Польше. Французские эмиссары старались вовсю, понимая, что их страну может спасти от вторжения лишь массовое восстание в Польше, которое бы отвлекло на себя русскую армию. Деятельность эмиссаров нашла благодатную почву. Польские офицеры, большую часть которых составляли ещё наполеоновские ветераны, давно и сами замышляли антирусский мятеж. В 1825 году, ввиду скоротечности событий и быстрого разгрома декабристов, им не удалось примкнуть к русским масонам, и теперь они готовились выступить самостоятельно. Когда же им было дано заверение во французской помощи, то вопрос о начале восстания можно было считать уже решённым.
Необходимо отметить, что в преддверии польского мятежа к Собаньской власти относились с определенной осторожностью, несмотря на её близость к де Витту. Полковник Родзянко писал в своем донесении: «Сказывают, что в Одессе проживает г-жа Собаньская, урожденная Ржевуцкая, близкая знакомая графа Витта. Дама сия живет довольно открыто, на даче её, говорят, съезжается большое количество поляков, в том числе брат её Генрик Ржевуцкий, и тут бывают различные суждения и довольно, говорят, вольные».
Понять полицию было можно, ведь ситуация в Польше сложилась весьма непростая.
Из мемуаров князя Л. Сапеги: «В Вильне арестовали много самой талантливой молодежи за организацию общества, поставившего себе целью единственно самообразование и изучение польской истории и литературы. И это было истолковано как политическое преступление».
Таких «самообразовательных обществ», идейно готовящих будущих повстанцев, было немало. Часть из них удалось разгромить, но часть всё же уцелела.
Не теряли даром времени и поляки, проживавшие в Петербурге. Среди них наибольшим авторитетом пользовались: министр-статс-секретарь генерал Грабовский, граф Туркулл, князья Любомирский и Любецкий, готовящие благожелательное отношение к польским мятежникам со стороны высшего российского общества.
Разумеется, в такое смутное время не сидел без дела и Иван Осипович де Витт. Агенты у генерала были надёжные, а потому вскоре он мог уже обстоятельно доложить правителю Польши великому князю Константину Павловичу об истинном положении дел в его владениях. К большому огорчению де Витта, великий князь воспринял доложенную ему информацию весьма негативно, усмотрев в том происки де Витта против своего любимца — начальника штаба генерала Куруты. Своевременный доклад был расценен как заурядный донос.
— Пока я правлю Польшей, здесь никогда не будет никакого восстания! Поляки меня любят! — самоуверенно заявил Константин.
— Ваше высочество, — осторожно заметил де Витт, — вы не знаете так хорошо поляков, как знаю их я. Надо лишь провести кое-какие предупредительные меры, арестовать главных зачинщиков, имена которых мне давно известны, и спокойствие в Царстве Польском будет восстановлено!
— Уберите от меня ваши подлые списки на достойных людей! — швырнул поданную бумагу в лицо генералу великий князь. — Я тоже хорошо знаю, что вы известный интриган и шпион. Не суйте больше нос не в свои дела! Польша и польские дела находятся только в моей компетенции!
Последняя фраза великого князя означала предупреждение, чтобы де Витт не вздумал лезть со своими домыслами через голову великого князя к императору.
Великий князь Константин написал письмо брату, императору Николаю, и просил не верить всем донесениям де Витта о ситуации в Польше. В выражениях великий князь не стеснялся: «Граф Витт есть такого рода человек, который не терпит чего другого, недостоин даже, чтобы быть терпиму в службе, и моё мнение есть, что за ним надобно иметь весьма большое и крепкое наблюдение».
Константин призывал брата осуществлять тайное слежение за руководителем тайной службы! К чести императора Николая, ругательное письмо старшего брата он оставил без последствий, однако от польских дел де Витт был отстранён.
Итак, Иван Осипович отошёл от активного участия в противодействии грядущему мятежу. Ему оставалось лишь на свой страх и риск собирать информацию о будущих мятежниках, ибо генерал твёрдо знал, что пройдет совсем немного времени и эта информация будет востребована. Часть необходимой информации де Витт получал от своего сводного брата Станислава Потоцкого, который к этому времени числился дежурным генералом Главного штаба польской армии и жил со своей женой Екатериной Браницкой-Потоцкой в Варшаве.
Великий князь Константин тем временем своим упрямством неумолимо приближал Польшу и Россию к кровопролитию.
В 1831 году внезапно для всех, но не для Витта, вспыхнуло польское восстание, возглавленное и осуществленное польскими генералами, столь любовно взлелеянными великим князем. Сам Константин с начальником штаба Курутой, бросив на произвол судьбы остатки варшавского гарнизона, бежали из объятой восстанием польской столицы. Мятеж в полном составе поддержали так называемые польские национальные части, которые особенно нравились великому князю Константину и которые комплектовались исключительно поляками. Все русские полки остались верны присяге и пробивались из Польши на восток с огромными потерями. Раненых и отставших поляки безжалостно добивали. Убивали не только русских солдат и офицеров, а вообще всех русских, не исключая женщин и детей. При этом убийствами руководили те самые аристократы, которых так долго привечали и великий князь, и император. Сегодня о резне, устроенной в Варшаве русскому населению, отечественные и польские историки предпочитают не вспоминать, но ведь это было!
Историк А. Керсновский пишет: «Присоединенное к России на Венском конгрессе Варшавское герцогство составило с литовскими областями так называемое Царство Польское, имевшее своё автономное устройство, свою армию, администрацию, денежную систему и конституцию. Однако всего этого польским патриотам казалось мало, и они чаяли полного отделения от России. Конспиративные общества стали возникать особенно с половины 20-х годов.
Русское правительство, как мы знаем, относилось к полякам с чрезвычайным благодушием и снисходительностью — вплоть до того, что скомпрометированные в деле декабристов офицеры польских войск и члены нелегальных польских обществ были выпущены из-под стражи. В 1828 году Император Николай короновался в Варшаве польским королем, причем вопреки пессимистам, опасавшимся покушения на жизнь Государя, торжества эти прошли вполне благополучно. Однако огонь под пеплом тлел — общий революционный порыв Европы 1830 года увлек и Польшу.
Поводом к восстанию послужило повеление Императора Николая Павловича польской армии готовиться к походу на Бельгию совместно с русскими войсками. 17 ноября 1830 года руководимая офицерами и воспитанниками военно-учебных заведений толпа ворвалась в Бельведерский дворец с намерением убить цесаревича Константина Павловича, которому удалось, однако, спастись. Сейм объявил династию Романовых низложенной и провозгласил главой правительства Чарторыйского, а главнокомандующим с диктаторскими полномочиями — генерала Хлопицкого. Однако Хлопицкий отклонил от себя эту честь и настоял на назначении князя Радзивилла, оставшись при нём советником — фактически же главнокомандующим.
Полагая, что «всякая пролитая капля крови только испортит дело», великий князь Константин отпустил остававшиеся ему верными польские войска — и эти превосходные полки усилили армию мятежников. Крепости Модлин и Замостье были переданы полякам, и цесаревич с гвардейским отрядом отошел в русские пределы».
А.С. Пушкин встретил известие о восстании в Польше с тревогой и негодованием: «Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены… Начинающаяся война будет войной до истребления — или, по крайней мере, должна быть таковой».
Во время устроенной поляками резни в Варшаве великий князь Константин едва избежал смерти и бежал с женой из своего загородного Бельведерского дворца на границу, в городок Брестовице, бросив на произвол судьбы русские полки. Последние с большими потерями пробивались на восток — кто как мог. Постепенно к Брестовице начали стягиваться российские войска.
Из воспоминаний княгини Голицыной: «Во время нашего пребывания в Брестовице Великий Князь принял генералов: Палена, Муравьева, де Витта и, наконец, фельдмаршала Дибича, который был встречен радостными кликами. Он произвел смотр несчастному полку гвардейской пехоты Его Высочества, построенному прямо на снегу во дворе. Раздались крики “ура”, и сердце моё забилось, я давно уже их не слыхала, в ушах моих всё ещё звучали совсем иные крики той мятежной ночи. Великий Князь, одетый в парадный мундир, подошёл к фельдмаршалу и отдал ему рапорт. Фельдмаршал шагнул к Августейшему страдальцу, поцеловал его в плечо и на несколько мгновений припал к груди Великого Князя. Эта сцена растрогала всех нас… Я была приглашена к обеду, и княгине снова вздумалось пускать в меня стрелы. Генерал де Витт также обедал в тот день. Вполне понятно, что единственным предметом разговора был план взятия Варшавы. Полушутя, полусерьёзно говорили про то, как покорить город голодом, и Великий Князь всё обращался ко мне. Де Витт предлагал брать город по частям, сначала одну улицу, потом другую. Это не нравилось княгине, но генерал утверждал, будто таким образом город можно сберечь. Великий Князь всё возвращался к тому, чтобы отрезать город от съестных припасов, и объяснял мне, что такой способ действий лучше. Подхватив его слова, обращенные ко мне, я сказала: “Лечить Варшаву гомеопатическим способом”. Я вовсе не думала, что эти немногие слова, гораздо менее резкие, чем все предложенное перед этим, будут замечены и на свой лад истолкованы княгинею. Она вспыхнула, но Великий Князь, продолжая разговор, завел речь про нового главнокомандующего польскими войсками кн. М. Радзивилла. Я сказала, что такой начальник нам вовсе не страшен… Когда встали из-за стола, я воспользовалась удобною минутою, чтобы поблагодарить Великого Князя за все его милости и за провожатого, которого он изволил мне дать. Княгиня наконец-то почувствовала, что огорчила меня, и смягчилась. Великий Князь задержался лишь на несколько минут и удалился с ген. де Виттом».
Что ж, наконец-то великий князь Константин понял, что де Витт — именно тот специалист по польским делам, который был ему нужен. Увы, прозрение к великому князю пришло слишком поздно. Думается, в те дни он полностью изменил мнение о генерале-разведчике. Что касается де Витта, то он, скорее всего, не стал напоминать великому князю о прошлых обидах. Теперь надо было спасать то, что ещё можно было спасти.
Вот что пишет о польской армии, с которой предстояло сражаться российским солдатам и офицерам, известный военный историк А. Керсновский: «Александр I восстановил торжественным манифестом 9 мая 1815 года Польское королевство на началах полной автономии, со своим Сеймом, законодательством, монетной системой и вооруженными силами. Введены были польские ордена Белого Орла и Святого Станислава. Государь принял титул короля польского. Наместником же в Варшаву и главнокомандующим польской армией был назначен цесаревич Константин Павлович. Ядро этой новоучрежденной польской армии составили польские легионы наполеоновских войск. Поляки приняли эту царскую милость как нечто совершенно должное, и похвалялись перед русскими, что вот возвращаются в отчизну с распущенными знаменами и барабанным боем, ничуть не побежденные “москалями”. Польская армия составила 3 пехотные и 3 кавалерийские дивизии в 4 полка, строевым составом в 35 000 сабель и штыков. Пехотные полки были линейные и егерские, кавалерийские — уланские и конноегерские. Командный состав, командный язык — всё было польское, уставы русские, но переведенные на польский. Вообще это была иностранная армия, подчиненная русскому главнокомандующему…
…Курута, сын константинопольского грека, воспитывался вместе с цесаревичем (которого Екатерина с рождения прочила в греческие императоры). Большой формалист, кабинетный деятель и феноменальный неряха, это был добрейший человек. Гневаясь на кого-либо из подчиненных, цесаревич сплошь да рядом отдавал ему приказания исключить со службы, посадить под арест такого-то. “Цицас, Ваше Величество”, — неизменно отвечал Курута, а когда припадок гнева великого князя проходил, докладывал своё мнение о замене ареста или исключения со службы выговором без занесения оного в формуляр. Цесаревич неизменно с ним соглашался.
Александр I стремился на каждом шагу доказать полякам своё благоволение, венчавшись польской короной в 1817 году и лично открыв Сейм в 1818 году. Однако поляки, сами лишенные чувства великодушия, неспособны понимать это чувство в других. Милость эту они истолковывали как заигрывание с ними, как признак слабости России, тем более что Император Александр для привлечения сердец своих польских подданных применил уже известный нам по Парижу способ, подчеркнуто пренебрежительно относясь к русским».
После полного провала в политике великого князя Константина в Польше доверие к де Витту отныне столь велико, что ему доверяют возглавить авангард всей русской армии. Должность почётная, но и весьма ответственная. Кто ещё, как не Иван Осипович, знает Польшу и польских повстанцев-генералов! Он был профессионалом до мозга костей, он защищал Россию и престол, а потому, как всегда, был готов бороться с врагами Отечества до полного их истребления. Впрочем, император на первых порах сомневался в воинских талантах де Витта, который впервые получил под команду целый корпус. «Один только Витт, отдельный командир, пугает меня, чтобы не натворил глупости», — писал Дибичу царь. Однако после первых успехов де Витта былое недоверие к нему было навсегда забыто.
По разработанному плану против мятежных поляков направлялись: гвардия, Гренадерский корпус из Новгородских военных поселений, 1-й и 2-й корпуса из состава 1-й армии, 6-й корпус — (бывший Литовский), а также 3-й и 5-й резервные кавалерийские корпуса де Витта из Южной России. Однако для сбора всех этих войск требовалось время.
К декабрю 1830 года у Бреста и Белостока находился один лишь передовой 6-й корпус барона Розена. На марше — Гренадерский корпус князя Шаховского и 1-й Гренадерский графа Палена 1-го с резервной кавалерией южных поселений под началом де Витта. Главнокомандующим был назначен фельдмаршал граф И.И. Дибич-Забалканский, начальником штаба — К.Ф. Толь.
Польская армия, доведенная до 130 тыс., занимала позиции от Ковны и Бреста к Варшаве. Весь командный состав её прошел прекрасную школу наполеоновской армии. По существу, русской армии предстояло доиграть последнюю кампанию бесконечной наполеоновской эпопеи. Легкой победы над поляками не предвиделось.
24 и 25 января 1831 года русские войска перешли границу Царства Польского одиннадцатью колоннами — с расчетом, однако, быть в состоянии сосредоточить в главных силах 80 тыс. бойцов в 20-часовой срок.
Главные свои силы русской армии — 1-й, 6-й пехотный и 3-й резервный кавалерийский корпуса де Витта — И.И. Дибич-Забалканский двинул в район между Бугом и Царевом, поручив 5-му резервному кавалерийскому корпусу барона Крейца, из состава поселенной кавалерии де Витта, демонстрацию на Люблин.
В первых числах февраля наш авангард вошёл в соприкосновение с польской армией, отступавшей к Висле. 2 февраля произошло неудачное кавалерийское дело у Сточека, после чего те же кавалерийские полки рассчитались с поляками при Вавре. В последнем сражении отличился де Витт со своими уланскими полками.
Из записок генерал-майора Д. Давыдова, бившего поляков во главе кавалерийской бригады в составе авангарда де Витта: «Тяжкий для России 1831 год, близкий родственник 1812-му, снова вызывает Давыдова на поле брани. Низкопоклонная, невежественная шляхта, искони подстрекаемая и руководимая женщинами, осмеливается требовать у России того, что сам Наполеон не мог! Давыдов скачет в Польшу…»
Восставшие не удовлетворились захватом Польши и активно готовились к вторжению в Литву. В случае покорения Литвы следующей должна была пасть перед поляками Украина. Для восстановления порядка в Царстве Польском Николаю I пришлось начинать полномасштабную войну, стянув туда войска со всей России. Мятеж в Польше приободрил, разгромленных шестью годами раньше, но так до конца не уничтоженных российских масонов, которые принялись мутить молодежь. В отчёте за 1831 год Бенкендорф был вынужден признать: «Дух мятежа, распространившийся в Царстве Польском и в присоединенных от Польши губерниях, имел вообще вредное влияние и на расположение умов внутри государства. Вредные толки либерального класса людей, особливо молодежи, неоднократно обращали внимание высшего наблюдения. В Москве обнаружились даже и преступные замыслы… Нет сомнения, что при дальнейших неудачах в укрощении мятежа в Царстве Польском дух своевольства пустил бы в отечестве нашем сильные отрасли».
Имея разветвленную агентуру и зная все хитросплетения интриг польской знати, де Витт сразу же развернул активную деятельность по дискредитации лучшего из польских военачальников — генерала В. Хшановского, командовавшего польской армией. В. Хшановского необходимо было сместить с должности командующего мятежными войсками, ибо его способности могли затянуть ход боевых действий на длительное время. Причем сделать это надо было руками самих поляков.
Для начала де Витт через свою агентуру спровоцировал скандал между Хшановским и влиятельным дивизионным командиром Скажиньским. Когда скандал достиг апогея, на его фоне началась главная интрига по проталкиванию на пост командующего старого недруга Хшановского — бесталанного и амбициозного генерала И. Прондзиньского. Чтобы поднять «авторитет» последнего, на одном из участков фронта, где воевал корпус генерала, русские войска даже сдали почти без боя несколько позиций. Хитрая подставка была раздута приверженцами Прондзиньского и агентами де Витта как большой успех, и шансы генерала на вожделенный пост командующего резко возросли. Правды ради необходимо отметить и тот факт, что деятельности де Витта немало помогали и склоки среди польского руководства, которые зачастую следовало лишь слегка подогревать.
Общими усилиями виттовской агентуры и недругами Хшановского в польском руководстве был организован преднамеренный отход польских войск в Замостье и обнажен фронт перед русскими войсками. «Неудача» Хшановского, как и «успех» Прондзиньского, были раздуты на всю Польшу как позорное поражение первого и выдающаяся победа второго. В результате этого талантливый Хшановский был вынужден оставить пост командующего. На его место был назначен бездарный Прондзиньский. Цель интриги была, таким образом, достигнута. Теперь польские войска уже не могли рассчитывать ни на малейший успех, отныне разгром их был предрешён в самое короткое время. Но и на этом де Витт не успокоился. Чтобы Прондзиньский не чувствовал себя слишком уверенным, он принял участие в новой интриге, где главным лицом был уже новый кандидат в командующие, ещё более никчемный генерал Я. Скшинецкий.
Во всех этих многосложных делах главным помощником де Витта был А.К. Бошняк. Польский поход подорвал здоровье этого талантливого разведчика, и в самом конце войны Бошняк тяжело заболел и вскоре умер в местечке Бара. Впрочем, существует и другая версия смерти Бошняка. Согласно ей, он был выслежен агентами польской разведки, схвачен во время одной из поездок и замучен до смерти. Так оборвалась жизнь одного из талантливейших оперативных сотрудников русской разведки XIX века.
Кроме весьма напряженной разведывательной работы де Витт успевает непосредственно участвовать практически во всех важнейших боевых операциях польской войны. Да не просто участвовать, а командовать авангардом всей русской армии!
Так, командуя авангардом армии, генерал де Витт, в сражении при местечке Куре, разбивает корпус своего старого знакомца Лубинского, причем захватывает всю его артиллерию и много пленных.
Затем обе армии встретились у Грохова. Гроховская позиция поляков была очень выгодная. Многочисленные речки, канавы с водой, ямы и болота ещё более затрудняли её атаку. Тактическим ключом являлась Ольховая роща, у которой и разыгрались главные события. Три первых наших атаки, веденные длинными линиями до 20 батальонов, были отражены, и Хлопицкий лично водил войска в яростные контратаки. Дело решила подоспевшая 3-я гренадерская дивизия, поведенная в атаку лично Дибичем. Выбив поляков из Ольховой рощи, фельдмаршал решил нанести им окончательный удар кавалерией. Историк А. Керсновский пишет: «Однако кавалерийские начальники атаковали порознь вместо общей атаки и, несмотря на беспримерный героизм этих блестящих атак, они дали очень скромные результаты (тем более что местность совершенно не благоприятствовала коннице)». Последнее и объяснило не слишком большой успех действий кавалерии. Однако победа осталась всё же на нашей стороне. Самое активное участие в битве при Горохове принимал де Витт, лично водивший своих улан в атаки. Очевидцы сражения оценивают атаки нашей легкой кавалерии как блестящие, и не их вина, что им пришлось скакать по оврагам и густому лесу. Свой долг они выполнили с честью. За Гороховское сражение де Витт получает золотую саблю с надписью «За храбрость».
Спустя несколько дней после битвы у Грохова новый польский главнокомандующий генерал Ян Скржинецкий, назначенный после Грохова на место Радзивилла, приказал действовавшему у Люблина генералу Дворницкому произвести атаку на Волынь. Нападению этому вначале сопутствовала удача. Однако торжествовали поляки недолго. Парируя наступление поляков, Дибич двинул на Холмщину на усиление 5-го кавалерийского корпуса ещё 3-й — под началом де Витта — и Литовскую гренадерскую бригаду под общим командованием генерала К.Ф. Толя. Потерпев поражение в нескольких кавалерийских сражениях, поляки вынуждены были ретироваться в Замостье.
После этого Дибич решил овладеть Варшавой и в первых числах марта сосредоточил армию у Тырчина, где наметил переправу через Вислу.
Ян Скржинецкий, которому к этому времени удалось несколько поднять дух своей армии, упавший после Грохова, решил во что бы то ни стало воспрепятствовать нашему форсированию Вислы.
Но разгрому поляков помешала вспышка холеры в русской армии. Холера косила людей тысячами. 30 мая умер фельдмаршал Дибич, а 17 июня — великий князь Константин Павлович. В командование армией временно вступил К.Ф. Толь.
Тем временем генерал Скржинецкий немного привел свои войска в порядок. 13 июня в русскую армию прибыл фельдмаршал граф Паскевич-Эриванский. Он решил переправиться через Вислу близ прусской границы и оттуда идти прямо на Варшаву. 1 июля были наведены мосты, и началась переправа.
Скржинецкий пытался отвлечь Паскевича от переправы, но потерпел сокрушительное поражение от отряда генерала Головина.
Русская армия неудержимо наступала. Варшава была охвачена паникой. Генерал Скржинецкий был заменен генералом Дембиньским. 3 августа произошёл переворот, президентом погибавшей Речи Посполитой был назначен Круковецкий, и Сейм подчинил главнокомандующего правительству. Не желая этого подчинения, генерал Дембинский подал в отставку и был замещен генералом Малаховским.
На подступах к Варшаве де Витт снова отличился. Известный военный историк Д.М. Бантыш-Каменский пишет: «4-го августа граф Эриванский (Паскевич. — В.Ш.) продолжал движение к Блони и когда партии наши показались за этим местечком, мятежники оставили позицию свою на Утрате и отошли к самой Варшаве. На другой день фельдмаршал (Паскевич. — В.Ш.) отправил графа Витта со всею кавалерией для усиленной рекогносцровки. При селении Бронише открыл двухтысячный неприятельский отряд. Граф Витт разбил его и поляки потеряли при сём случае два орудия, до 500 убитыми и пленными: 37 штаб и обер-офицеров и 1332 нижних чина вместе с начальником отряда полковником Голуа».
Что касается генерала де Витта, то за Варшаву он был удостоен ордена Святого Георгия 2-й степени. Во время битвы за Варшаву де Витт во главе своих полков первым на плечах противника ворвался в город. В представлении на награду значилось: «За отличное мужество и неустрашимость, оказанные в продолжение войны против Польских мятежников, и в особенности при штурме и взятии Варшавских укреплений, где, командуя правым флангом действующих войск, быстрыми кавалерийскими атаками и благоразумными распоряжениями, подавая собою пример личной храбрости, много способствовал к успешному окончанию дела».
На взятие Варшавы первым отозвался Пушкин:
Сбылось — и в день Бородина, Вновь наши вторглись знамена В проломы падшей вновь Варшавы; И Польша, как бегущий полк, Во прах бросает стяг кровавый — И бунт раздавленный умолк.Пушкин же первым отозвался и на окончание войны с поляками:
Уж Польша вас не поведёт — Через её шагнете кости!Любопытно, что во время Польской кампании де Витт ещё раз тесно соприкасается с семьей А.С. Пушкина. Дело в том, что младший брат поэта Лев служил в эту кампанию в его отряде, будучи поручиком Финляндского драгунского полка. Храбрость боевого офицера не ускользнула от внимания генерала, и по ходатайству де Витта Лев Пушкин был произведен в капитаны «за отличие».
Начиная войну, поляки весьма надеялись на помощь, обещанную им французами. Но Париж, использовав поляков в своих интересах, напрочь забыл о них. Теперь мятежники были предоставлены сами себе и обречены на поражение. Однако они не только сопротивлялись, но даже пытались вести собственную контрразведывательную деятельность против руководителей российской разведки. Разумеется, не остался без внимания польских шпионов и И.О. де Витт. Полякам надо было как можно быстрее спровадить своего коварного противника в отставку. Это делалось весьма проверенным способом: в армии и в обществе распускался слух о трусости или предательстве того или иного военачальника, и тот в конце концов должен был оставить свой пост. Именно так в своё время, в 1812 году, ушел из армии Барклай-де-Толли. Именно так расправился де Витт с генералом Хшановским. Теперь он сам попал в такую же ситуацию.
Дело дошло до того, что из Петербурга пришел запрос о поведении де Витта в бою. Вот ответ начальника Главного штаба действующей армии генерал-адъютанта барона К.Ф. Толя: «Весьма способен быть начальником Главного штаба армии, распорядителен и благоразумен во всех своих действиях. Хитрый человек; но отдельно командовать корпусом не может, ибо несмел и нерешителен — многие на счёт его отзывались, якобы он трус. Сие несправедливо, ибо в Прагском сражении и в действиях при Шиманове и других видел я его в жесточайшем огне, хотя с некоторой суетливостью».
Думается, в письме барона Толя расставлены все точки над «и». Опытный Толь считает, что де Витт не может быть крупным полководцем, зато твёрдо знает, что он прирожденный начальник штаба и отличный руководитель тайной разведки (т. е. «хитрый человек»). Что касается личной храбрости, то таковая у генерала Витта, по мнению Толя, безусловно, наличествует.
Свое мнение о поведении де Витта в бою затребовали и от самого командующего действующей армией фельдмаршала графа Дибича. О чем это говорит? Только о том, что пропольские элементы в Петербурге развернули против де Витта весьма нешуточную кампанию по его дискредитации. Доброе имя российского разведчика было под угрозой. Однако и начальник штаба армии, и её командующий своего подчиненного защитили. У нас имеется характеристика, данная фельдмаршалом Дибичем де Витту: «Он (де Витт. — В.Ш.) человек чрезвычайно полезный. Недоброжелатели распустили о нём слухи, будто бы он под неприятельскими ядрами и пулями не оказывает хладнокровия и необходимой храбрости; я обязан опровергнуть эти слухи, потому что сам был свидетелем, как под Силистией (речь идет о войне с Турцией 1828–1829 годов. — В.Ш.) при мне под ядрами хладнокровно разговаривал со мной, будучи угрожаем опасностью, сделаться жертвой неуместной своей храбрости…»
Происки врагов, таким образом, окончились ничем, и де Витт остался в своей должности. За участие в польской кампании два из полков де Витта, 8-й уланский Вознесенский и 10-й уланский Одесский, получили почетные знаки отличия на шапки. За «особые заслуги» при подавлении мятежа Иван Осипович был награжден золотой саблей «за храбрость» с алмазами, назначен шефом уланского Украинского полка, а год спустя удостоен ордена «Военное Достоинство» 1-й степени.
Что касается адъютанта де Витта Адама Ржевусского, то он с началом мятежа, несмотря на польское происхождение, остался верен императору и вместе с де Виттом принимал самое деятельное участие в боевых действиях. Прикомандированный к главнокомандующему русской армией графу Дибичу-Забалканскому, он весьма удачно исполнял возлагавшиеся на него поручения, часто довольно опасные. В мае 1831 года был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость», а за отличие в Гроховском и других сражениях получил орден Святой Анны 2-й степени. В феврале 1831 года граф Ржевусский был произведен в ротмистры и, по окончании польской кампании, продолжал числиться в лейб-гвардии Уланском полку, по-прежнему оставаясь адъютантом при де Витте.
Что касается Александра Бошняка, то он, как и Ржевусский, во время Польской кампании состоял при де Витте, выполняя секретные разведывательные поручения. При отступлении в 1831 году наших войск Бошняк погиб в городке Бари. По одной из версий, он скончался от горячки, по другой — с ним свели счёты масоны, единомышленники декабристов, по ещё одной версии, Бошняк был разоблачен и казнен поляками. Правду о смерти доблестного разведчика мы, наверное, уже никогда не узнаем.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР ВАРШАВЫ
Император Николай назначает Ивана Осиповича де Витта военным генерал-губернатором Варшавы и одновременно председателем уголовного суда над польскими мятежниками. И это не было случайностью! Ведь де Витт, как никто иной, знал всю подоплеку мятежа. Еще продолжала существовать и действовать его старая, испытанная временем агентура. Весь польский генералитет, который явился в 1831 году инициатором восстания, Витт знал до пятого колена. Что-то скрыть и утаить от него, а тем более обмануть, было просто невозможно. Будучи же ещё и председателем уголовного суда над мятежниками, де Витт мог выявить тайные нити, ведущие из Варшавы на Запад. Надо ли говорить, что генерал взялся за эту работу с желанием. Всем, кто ещё тешил себя робкой надеждой, что удастся сохранить хотя бы некоторые тайные группы, пришлось горько разочароваться: их переарестовали в несколько дней. «Хитрый Витт как сквозь землю зрит!» — говорили тогда в Польше. Наверное, так оно и было, ибо генерал призвал к себе на помощь весь свой опыт и знания.
Деятельность де Витта на посту варшавского генерал-губернатора была столь плодотворной, что уже спустя год Николай I награждает генерала за особые заслуги перед империей её высшей наградой — орденом Андрея Первозванного. Такой наградой отмечались подвиги, имевшие для России особое значение.
И снова пересечение (в какой уже раз!) генеральской судьбы с семьей Пушкиных. На этот раз подчиненным де Витта в его канцелярии был Николай Павлищев, муж младшей сестры поэта Ольги. Чета Павлищевых проживала в Варшаве на улице Медовой, и супруги были частыми гостями в доме Ивана Осиповича де Витта, где их встречала красивая хозяйка, которая была знакома Ольге Павлищевой-Пушкиной ещё по Петербургу.
В этот период Иван Осипович решает обвенчаться с Каролиной. Дело в том, что во время восстания муж Собаньской, состоявший в одном из тайных польских обществ, примкнул к повстанцам и в одном из боёв был убит. Таким образом, проблема с разводом решилась сама собой. Каролина стала наследницей всех поместий мужа, его торговли хлебом, и могла теперь распоряжаться собой по собственному усмотрению. А потому, когда де Витт сделал ей в письме предложение, она ответила ему согласием.
Едва Варшава была освобождена от мятежников, Каролина выехала из Одессы в Варшаву, чтобы быть рядом с де Виттом. Перед отъездом из Одессы она послала письмо генералу Бенкендорфу, в котором обрисовала причины, заставившие её выехать в Варшаву. Разумеется, в письме Каролина заверила генерала в своей преданности России и императору. Это было обязательным условием для получения разрешения на посещение Варшавы. К сожалению, почта была перехвачена мятежниками в Подолии, и содержание письма К. Собаньской стало известно в высших польских кругах. Это дало повод для обвинения Собаньской в измене.
Польские источники говорят, что в письме якобы была некая собранная Собаньской информация, прочитав которую, мятежники почувствовали «ненависть и месть». Так как текст письма был впоследствии утерян, что-либо конкретно утверждать сложно. Вероятно, особо ценной информацией находящаяся вдалеке от восстания Каролина вряд ли могла обладать. Для того чтобы вызвать к себе ненависть кругов, близких к мятежу, достаточно было и простого заверения в преданности Николаю I.
Но спутница жизни Ивана де Витта была женщиной неробкого десятка. В эти тревожные дни, когда восстание распространилось на Волынь, Подолию и докатилось до Киевской губернии, Каролина решила по пути в Варшаву навестить могилу матери в городке Потребит, находившемся ещё под властью мятежников.
Историк Р. Белоусов пишет: «Всюду на дорогах были сторожевые контрольные посты повстанцев. То и дело раздавалось: “Стой! Кто идет?” Услышав ответ: “Маршалкова ольгополевского повята”, её беспрепятственно пропускали. Тогда она убедилась, что фамилия Собаньских — лучший мандат для патриотов. Каролина улыбалась молодым полякам в свитках с барашковыми воротниками, в кунтушах навыпуск, а внутри её душила ненависть к этим безродным ляхам. Лишь один-единственный раз её подвергли досмотру на постоялом дворе между Балтой и Ольгополем. Но и то быстро отпустили, извинившись перед ясновельможной пани.
Вернувшись, она рассказала Витту о своих приключениях и пережитых чувствах. “Даже называть теперь себя полькой омерзительно”, — призналась она.
Витт спешил в только что оставленную повстанцами польскую столицу, где ему предстояло в качестве военного губернатора и председателя уголовного суда вершить расправу над пленными патриотами. Те же, кто сумел перейти границу — около ста тысяч офицеров и солдат, — стали изгнанниками, превратились в скитальцев. Больше всего эмигрантов скопилось в Дрездене. Город буквально был наводнен ими. Не все мирились с поражением, многие жили надеждой, вынашивали замыслы новых выступлений. В этом смысле Дрезден был, с точки зрения царских властей, опасным гнездом, откуда можно было ожидать в любой момент перелета “журавлей” — эмиссаров эмигрантского центра для организации партизанских действий. Витт располагал на этот счёт кое-какими данными, однако явно недостаточными. Самое лучшее опередить противника. Настало время посвятить Каролину в его замысел, решил Витт.
Операция будет состоять из двух частей, начал он. Выполнить первую сравнительно легко. Для этого потребуется разыграть из себя патриотку, хотя это ей и не по душе. Такую, чтобы ни у кого не осталось сомнения на сей счёт. Даже у тех, кто знает о её перехваченном письме.
Вторая часть посложнее: проникнуть в среду эмигрантов, выведать их планы, намеченные сроки выступлений и имена исполнителей.
Каролина поняла, что придется ехать в Дрезден. Понимала и то, как это опасно. Участь Бошняка, казненного повстанцами, отнюдь не прельщала её. Как и судьба тех царских шпионов, над которыми в августе учинила самосуд разъяренная варшавская толпа, ворвавшись в тюрьму и повесив их на фонарях.
“Меня там просто-напросто прихлопнут эти ваши патриоты”, — поправляя кружева на платье, с деланым спокойствием произнесла Каролина.
В успехе она может не сомневаться, успокоил её Витт, лишь бы удалась первая половина спектакля. Чем убедительнее сыграет она в ней, тем легче и безопаснее сможет действовать во второй.
Ни один человек, заверил Витт, не будет посвящен в операцию, кроме него самого и наместника Паскевича.
Вскоре по Варшаве начали распространяться слухи о том, что за спиной царского сатрапа Витта действует чудо-женщина. Она спешит к каждому, кого генерал собирается покарать. Будто бы посещает казематы, присутствует на допросах. И часто одно её слово смягчает участь несчастных. По секрету передавали, что она даже помогла кое-кому бежать, причем вывезла в собственной карете за заставу…
Склонная к романтическим преувеличениям, Варшава быстро уверовала в слухи и готова была молиться за избавительницу. Нашлись и те, кто подтвердил, что им удалось избежать каторги благодаря вмешательству Каролины Собаньской. Витт освободил якобы по просьбе Собаньской двух-трех заключенных, а одному она помогла “бежать”. Этого было достаточно, чтобы слух проник в среду эмигрантов. В числе свидетелей оказался, например, Михаил Будзыньский, связанный с галицийским подпольем. Где только было можно, он с восхищением рассказывал о Собаньской, которая помогла ему спастись и “избавила многих несчастных офицеров польского войска от Сибири и рудников”.
Приведу ещё одно свидетельство из воспоминаний Богуславы Маньковской, дочери знаменитого генерала Домбровского. «Когда ни у кого не было надежд, — писала она, — над несчастными жертвами кружил ангел спасения и утешения в лице Каролины Собаньской… Пользуясь влиянием, которое имела на генерала, она каждый час своего дня заполняла каким-либо христианским поступком, ходила по цитаделям и тюрьмам, чтобы освободить или выкрасть пленных…
По её тайному указанию узников приводили в личный кабинет Витта, где в удобный момент пани Собаньская появлялась из-за скрытых портьерой дверей, и одного слова, а то и взгляда этой чародейки было достаточно, чтобы сменить приговор на более мягкий.
Как видим, авантюристка хорошо поработала на легенду. Граф де Витт, как обычно, направлял её и усердно помогал. Теперь и самый недоверчивый поверил бы в превращение Каролины. Все забыли, что она много лет связана с царским генералом и никогда не числилась в патриотках. А как же её перехваченное донесение? Его объявили подложным и предали забвению.
Словом, первая половина спектакля прошла вполне успешно. Почва была подготовлена, можно отправляться в Дрезден. Тем более что повод для поездки был. Её дочь, которую в своё время Каролина выкрала у бывшего мужа (причем так искусно, что даже его восхитила своей ловкостью), находилась в Дрездене и собиралась замуж за молодого князя Сапегу.
В Дрездене Каролину встретили чуть ли не как национальную героиню. Одни видели в ней вторую Клаудиу Потоцкую, ангела доброты, ниспосланного для утешения и поддержки изгнанных с родины соотечественников. Во время восстания графиня Потоцкая стала сестрой милосердия, а после в Дрездене ею был основан комитет помощи польским эмигрантам. Другие сравнивали Собаньскую с не менее знаменитой Эмилией Платер — отважной кавалерист-девицей, воспетой Мицкевичем.
Всего несколько недель пробыла Каролина в Дрездене. За это время успела войти в среду эмигрантов. Она стала посещать их собрания, и вскоре её стали принимать за свою. С поразительным цинизмом говорила она о том, что исключительно ради намеченной цели общалась с поляками, внушавшими ей отвращение. Ей удалось приблизить тех, нагло повествовала она, общение с которыми вызывало у неё омерзение. Наиболее ценным знакомым стал Исидор Красинский, в прошлом командир уланского гвардейского полка, а затем глава польского комитета в Дрездене, тесно связанный с князем Чарторыйским, одним из лидеров эмиграции. Этот Красинский, по её словам, хотя и красавец, был ограниченным и честолюбивым. Ей ничего не стоило войти к нему в доверие. “Я узнала заговоры, которые замышлялись, — признавалась она, — тесную связь, поддерживавшуюся с Россией, макиавеллистическую систему, которую хотели проводить”. Ей открыли “мир ужасов”, она увидела, “сколь связи, которые были пущены в ход, могли оказаться мрачными”.
Собаньская послала Витту несколько сообщений, которые “помогли ему делать важные разоблачения”. Витт докладывал о полученных им ценных агентурных сведениях наместнику и использовал их в своих донесениях в Петербург.
На совести Собаньской не одна человеческая жизнь. В том числе провал партизанской экспедиции полковника Заливского и гибель многих её участников; раскрытие подпольной сети патриотов в Кракове и Галиции; захват эмиссаров, перебрасываемых в Польшу для организации партизанских отрядов.
Казалось, услуги, оказанные Собаньской, должны были быть щедро оплачены. Ни прозорливый Витт, ни она сама не могли предугадать, а тем более знать, как будут реагировать в Петербурге, когда узнают о похождениях Собаньской. Ведь ни одна душа, кроме двух лиц, не догадывалась о подлинных целях её метаморфозы и пребывания в Дрездене.
Между тем известие о превращении Собаньской произвело весьма неблагоприятное впечатление, пало тенью на Витта, вызвав недовольство в высших сферах.
Всем казалось, что опала Витта близка. Недруги генерала злорадствовали, подливая масло в огонь. Старый ловелас совсем-де подпал под башмак своей содержанки, во вред отечеству исполняет каждую её прихоть, танцует под дудку этой обольстительницы, возомнившей себя новоявленной Юдифью, спасающей соотечественников».
Пока Каролина находилась в Дрездене, следуя, как сама она определила свою миссию, «по извилистым и темным тропинкам, образованным духом зла», между Варшавой и Петербургом шла по поводу неё переписка. Частью её мы располагаем, она проливает свет на те интриги, которые вели между собой царские клевреты. Началось все с того, что наместник И.Ф. Паскевич предложил царю назначить Витта вице-председателем временного правительства в Польше.
Казалось, что все устроилось, но император Николай неожиданно для наместника ответил резким отказом: «Назначить Витта председателем никак не могу, ибо, женившись на Собаньской, он поставил себя в самое невыгодное положение, и я долго оставить его в Варшаве никак не могу. Она самая большая и ловкая интриганка и полька, которая под личиной любезности и ловкости всякого уловит в свои сети, а Витта будет за нос водить в смысле видов своей родни. И выйдет противное порядку и цели, которую иметь мы должны, — т. е. уничтожение происков и протекции».
Паскевич успокаивал императора Николая, что «явный» брак де Витта с Собаньской не состоится, так как слух о смерти графини де Витт оказался ложным, и они остаются теперь в прежнем положении, то есть что они тайно обвенчаны. Главное же, чем наместник Польши утешал монарха, было то, что он сообщал ему о полезной деятельности пресловутой польки. «Преданность её законному правительству не подлежит сомнению; она дала в сем отношении много залогов»… «Напротив того, родственные связи госпожи Собаньской с поляками по сие время были весьма полезны. Наблюдения её, известия, которые она доставляет графу Витту, и даже самый пример целого польского семейства, совершенно законному правительству преданного, имеют здесь видное влияние». Веским аргументом был довод насчет преданности её семьи. Не один год верой и правдой служили престолу её отец и братья.
Враждебная Собаньской информация упорно продолжалась. Вот что писал 19 октября 1832 года управляющий III Отделением А.Н. Мордвинов шефу жандармов Бенкендорфу: «…Но частные известия из Варшавы поистине отвратительны. Поляки и польки совсем завладели управлением. Образовалось что-то вроде женского общества под председательством г-жи Собаньской, продолжающей иметь большую силу над графом Виттом. Благодаря этому главные места предоставляются полякам, и именно тем, которые наиболее участвовали в мятеже. Остальных не призывают к делу, и они жалуются, что оставлены в покое. Новости эти не с ветру, а верны вполне. Очень печально, а кто виноват? Один человек. Смените его кем-либо другим, кто смыслит в делах управления и умеет держать себя самостоятельно, и всё пойдет гораздо лучше, и нам нечего будет так тревожиться насчет Польши…»
Николай вроде бы прислушался к словам наместника, но именно в это время он получил сообщение по поводу Собаньской из Дрездена от тамошнего российского посланника Шредера. Не зная истинную причину появления там польки, обманутый её активным общением с соотечественниками-эмигрантами, он поспешил об этом оповестить Петербург.
Разгневанный Николай переслал депешу посла наместнику в Варшаву, сопроводив её припиской о том, что его мнение насчет Собаньской подтверждается. «Посылаю тебе оригиналом, — писал Николай Паскевичу, — записку, мною полученную из Дрездена от нашего посланника, самого почтенного, надежного и в особенности осторожного человека; ты увидишь, что моё мнение на счёт Собаньской подтверждается. Долго ли граф Витт даст себя дурачить этой бабой, которая ищет одних своих польских выгод под личной преданностью, и столь же верна г. Витту как любовница, как России, быв ей подданная? Весьма хорошо бы было открыть глаза графу Витту на её счет, а ей велеть возвратиться в своё поместье на Подолию».
Паскевич принужден был приказать Собаньской покинуть Варшаву. Удар был неожиданный, а главное, несправедливый. Для Каролины наступил трудный период. Она оказалась на краю пропасти. Дело в том, что именно в это время до Николая доходит информация о том, что де Витт не просто живет с Собаньской, но теперь собирается взять её в жены. Весть о том, что его любимец избрал себе в жены подозреваемую в помощи мятежникам польку, да ещё жену убитого мятежника, вызвала самую негативную реакцию Николая I. Император категорически отказал де Витту в разводе с Юзефой Любомирской, с которой де Витт уже не общался много лет. Кроме того, несмотря на просьбы Паскевича, император отказал де Витту в назначении его на должность генерал-губернатора Варшавы, которая была по рангу значительно выше должности военного губернатора Варшавы. На тот момент лучшей кандидатуры на должность генерал-губернатора в российской армии не было. Это прекрасно понимал Паскевич, но ничего поделать не мог. К чести де Витта, в этот столь сложный для него момент жизни от Каролины он не отступился.
Взвесив ситуацию и обсудив её с Иваном Осиповичем, Каролина пишет письмо главному шефу корпуса жандармов Бенкендорфу, в котором излагает свои обиды. Всё же Каролине пришлось подчиниться распоряжению Николая I и покинуть Варшаву. Ей надлежало следовать в своё имение Ронбаны-мост, заброшенную украинскую деревеньку. По дороге Каролина остановилась у сестры в Минске, где надеялась дождаться ответа на своё письмо Бенкендорфу.
Письмо Собаньской поразительно по своей откровенности. В секретном архиве III Отделения сохранилось письмо. На письме имеется пометка: «4 декабря 1832 г. граф (то есть Бенкендорф) ей отвечал». Письмо Собаньской написано хорошим французским языком, хорошо продумано и отделано риторически.
Вот полный текст письма Собаньской к Бенкендорфу: «Мой генерал, его сиятельство наместник только что прислал мне распоряжение, полученное им от его величества относительно моего отъезда из Варшавы; я повинуюсь ему безропотно, как я бы это сделала по отношению к воле самого провидения.
Да будет мне всё же дозволено, генерал, раскрыть вам сердце по этому поводу и сказать вам, до какой степени я преисполнена страданий, не столько даже от распоряжения, которое его величеству угодно было в отношении меня вынести, сколько от ужасной мысли, что мои правила, мой характер и моя любовь к моему повелителю были так жестоко судимы, так недостойно искажены. Взываю к вам, генерал, к вам, с которым я говорила так откровенно, которому я писала так искренно до ужасов, волновавших страну, и во время них. Благоволите окинуть взором прошлое; это уже даст возможность меня оправдать. Смею сказать, что никогда женщине не приходилось проявить больше преданности, больше рвения, больше деятельности в служении своему монарху, чем проявленные мною часто с риском погубить себя, ибо вы не можете не знать, генерал, что письмо, которое я писала вам из Одессы, было перехвачено повстанцами Подолии, и вселило в сердца всех, ознакомившихся с ним, ненависть и месть против меня.
Взгляды, всегда исповедывавшиеся моей семьей, опасность, которой подверглась моя мать во время восстания в Киевской губернии, поведение моих братьев, узы, соединяющие меня в течение 13 лет с человеком, самые дорогие интересы которого сосредоточены вокруг интересов его государя, глубокое презрение, испытываемое мною к стране, к которой я имею несчастье принадлежать, все, наконец, я смела думать, должно было меня поставить выше подозрений, жертвой которых я теперь оказалась.
Я не буду вам говорить о прошлом, генерал, мне нужно остановить ваше внимание на настоящем моменте. Когда я приехала в Варшаву в прошлом году, только что был разрешен большой вопрос. Война была блестяще закончена, и якобинцы были приведены к молчанию, к бездействию. Это был перелом, счастливо начатый, но он не был завершен, он был только отсрочен (я говорю о Европе). Полька по имени, я естественно была объектом, на который здесь возлагались надежды тех, кто, преступные в намерениях и презренные по характеру, хотели спасти себя ценой отречения от своих взглядов и предательства тех, кто их разделял. Я увидела в этом обстоятельстве нить, которая могла вывести из лабиринта, из которого ещё не было найдено выхода. Я поговорила об этом с Виттом, который предложил мне не пренебрегать этой возможностью и использовать её, чтобы следовать по извилистым и темным тропинкам, образованным духом зла. Вам известно, генерал, что у меня в мире больше нет ни имени, ни существования; жизнь моя смята, она кончена, если говорить о свете. Все интересы моей жизни связаны, значит, только с Виттом, а его интересами всегда является слава его страны и его государя. Это соображение, властвовавшее надо мной, заставило меня быть полезной ему; не значило ли это быть полезной моему государю, которого моё сердце чтит как властителя и любит как отца, следящего за всеми нашими судьбами. Витт вам расскажет о всех сделанных нами открытиях. В это время решена была моя поездка в Дрезден, и Витт дал мне указания, какие сведения я должна была привезти оттуда. Все это происходило между мною и им — мог ли он запятнать моё имя, запятнать привязанность, которую он ко мне испытывал, до того, чтобы сообщить г-ну Шредеру о поручении, которое он мне доверил. Он счел, однако, нужным добавить в рекомендательном письме, которое он мне к нему дал, что он отвечает за мои убеждения. Я понимаю, что г-н Шредер, не уловив смысла этой фразы, был введён в заблуждение тем, что он видел, и, хотя я должна сказать, что есть преувеличение в том, что он утверждает, я должна ему, однако, отдать справедливость, что, не зная о наших отношениях с Виттом, он должен был выполнить, как он это и сделал, долг, предписываемый ему его должностью.
Г-н Шредер жаловался в своих депешах наместнику, что ему не удалось проникнуть в то, что от него хотели здесь узнать. Я могла, может быть, преодолеть это затруднение, и я попыталась это сделать. Предполагая, что я по своему положению и по своим связям выше подозрений, я думала, что могу действовать так, как я это понимала. Я увидела, таким образом, поляков; я принимала даже некоторых из них, внушавших мне отвращение при моем характере. Мне всё же не удалось приблизить тех, общение с которыми производило на меня впечатление слюны бешеной собаки. Я никогда не сумела побороть этого отвращения, и, сознаюсь, пренебрегала может быть важными открытиями, чтобы не подвергать себя встречам с существами, которые вызывали во мне омерзение. Витт прочитал его сиятельству наместнику письма, которые я ему писала; он посылал копии с них в своих донесениях; они помогали ему делать важные разоблачения.
Моё общество составляли семья Сапега, в которую должна была вступить моя дочь (её брак с одним из молодых людей был решен её отцом с 1829 г.), Потоцкий, сын генерала, убитого 29 ноября, князь Любомирский и некий Красинский, подданный короля прусского. Этот последний, имевший раньше в Закрошиме портфель министра иностранных дел, стоявший во главе польского комитета в Дрездене, находившийся в постоянных отношениях с кн. Чарторыжским и всеми польскими агентами, был ценным знакомым. Так как он был ограничен и честолюбив, я легко могла захватить его доверие. Я узнала заговоры, которые замышлялись, тайную связь, поддерживавшуюся с Россией, макиавеллистическую систему, которую хотели проводить. Словом, мир ужасов открылся мне, и я увидела, сколь связи, которые были пущены в ход, могли оказаться мрачными. Все эти данные были, однако, неопределенными, так как признания были неполными; лишь врасплох удавалось мне узнавать то, что мне хотелось. Пытаясь захватить и углубить сведения, я поддавалась также потребности дать узнать и полюбить страну, которую я возлюбила, монарха, которого я чтила.
Доказательством этому служит, что не было ни одного поляка, переступившего порог моего дома, который не выказал бы своего повиновения, пока я находилась в Дрездене. Наименее расположенные к раскаянию кончили тем, что признали свои заблуждения и милосердие, которое благоволило простить столь большие преступления. Этот факт неоспорим, и г-н Шредер не сможет отрицать его. Единственным устоявшим был Александр Потоцкий; интерес, который я по многим причинам к нему проявляла, побуждал меня его часто видеть; впрочем, г-н Шредер сам побудил меня говорить с ним и предложить ему обратиться к великодушию его величества государя. Вот моя история, генерал, во всей своей достоверности. И вот я поражена в самое сердце! Я не чувствую унижения, я не жалуюсь на то, что должна уехать, страдающая душой и телом. Я падаю лишь под бременем мысли, что гнев его величества хоть на минуту остановился на той, второй религии, которой на этой земле были преданность и любовь к монарху!
Я не знаю, генерал, применения, которое вы сделаете из моего письма; смею надеяться, что ваша честность и справедливость побудят вас повергнуть его содержание к стопам его величества. Я ничего не прошу, мне нечего желать, так как, повторяю ещё раз, всё для меня на этой земле окончено. Но, да будет мне, по крайней мере, дозволено просить не быть неправильно судимой там, где моё сердце выполняет дорогой и священный долг.
Не зная, в какую сторону обратить шаги мои, я начала с того, что отправилась к одной из моих сестер в Минскую губернию. Здесь я ожидаю ответа, который вашему превосходительству будет угодно мне дать. Смею просить его от вас, как от человека чести, человека слишком справедливого, слишком религиозного, чтобы мне в нём отказать. Я более чем несправедливо обвинена, и это несчастие не в первый раз со мной случается. Высказав и доказав этот факт, я думаю, что могу молить об ответе. Будет ли он хорошим или плохим, благоволите, генерал, его мне без промедления сообщить.
Вы знаете, что я порвала все связи и что я дорожу в мире лишь Виттом. Мои привязанности, моё благополучие, моё существование, — всё в нём, всё зависит от него. Если пребывание в Варшаве мне воспрещено, да побудит вас милосердие сообщить мне об этом положительно, чтобы я могла позаботиться обеспечить себе приют. Расстроенное здоровье и положение, грозящее стать неисправимым, делают это убежище необходимым. Я вас прошу об этом ответе, генерал, во имя чести, во имя религии!
Имею честь пребывать с чувством глубочайшего уважения, генерал, вашего превосходительства смиреннейшей и покорнейшей слугою. К. Собаньская, рожденная графиня Ржевусская».
Реакция Бенкендорфа на письмо Собаньской мне неизвестна. Можно лишь предположить, что генерал поставил о нём в известность Николая I.
Подводя итог весьма интересному письму Собаньской, можно сказать, что, заверив российскую власть в своей безусловной преданности, она ровным счётом ничего не добилась. Зато некоторые пушкиноведы оказались проницательнее и навеки провозгласили Собаньскую агентом царизма. Один из них, профессор физики В.М. Фридкин, сравнительно недавно сделал новое открытие: «Выполняя поручения Витта, Собаньская легко проникает в польскую революционную среду, предавая активных участников революционного движения». Анна Ахматова обвиняла Собаньскую всего лишь в слежке за Пушкиным (кстати, совершенно бездоказательно), друг поляков и враг русских Фридкин пошел дальше. Почему при этом он произвёл бывших наполеоновских генералов и полковников в революционеры, непонятно.
И.О. де Витт, так и не получив никакой должности в Польше, вернулся в Петербург. Несколько поостывший Николай I предложил генералу должность инспектора всей поселенной кавалерии Юга России. Должность большая и ответственная. Труды де Витта на посту военного губернатора Варшавы в столь непростое время были оценены высшей наградой Российской империи — орденом Святого Андрея Первозванного и знаком отличия «За 30 лет беспорочной службы».
Император сделал вид, что забыл о недавних обидах на генерала и возвращает свою благосклонность. Думается, что и новое назначение было лишь прикрытием обычного рода деятельности де Витта, тем более что непосредственного руководства частями не требовалось, зато предполагались частые разъезды и самый широкий круг общения.
Вскоре де Витт выехал в Одессу, чтобы снова вступить в командование своим корпусом и поселенными войсками. Следом за ним перебралась туда и Каролина. Когда императору доложили, что де Витт «снова сошёлся с известной полячкой», тот только махнул рукой: «Пусть живут, коль им нравится». Вопрос был, таким образом, исчерпан. И де Витт, и Каролина большую часть времени, как и раньше, предпочитали проводить не в сыром и чопорном Петербурге, а в солнечной и веселой Одессе, где у Каролины имелся большой дом, а у де Витта — его старый друг и сослуживец граф Воронцов. Именно в это непростое для обоих время де Витт и Собаньская обвенчались.
Польский мятеж прошелся ножом по всей семье Потоцких, разделив её навсегда на патриотов России и на её врагов. Большим ударом для де Витта стала измена младшего брата Александра Потоцкого. Он успел послужить на Кавказе, стал полковником и в 1825 году вышел в отставку. Затем большую часть времени жил за границей. Сойдясь близко с проживавшими в Париже польскими аристократами, Александр постепенно перешёл в стан врагов России. В Уманьском парке он демонстративно установил скульптуры сражавшимся с русской армией Тадеушу Костюшко и наполеоновскому генералу Понятовскому.
С началом польского мятежа младшая сестра Ивана Осиповича Софья, чей брак с Киселевым к этому времени уже распался, первая открыто приняла сторону мятежников. В этом отношении она нашла полное понимание у брата Александра. По настоянию Софьи Александр Потоцкий в 1831 году, уже «под занавес» мятежа, прибыл в Польшу, где сформировал на свои деньги полк, которому, однако, не довелось сделать ни единого выстрела. Жолнежи дружно разбежались при приближении первых русских разъездов, а их незадачливый командир снова удрал за границу.
После подавления мятежа указом от 22 марта 1831 года Николай I объявил о конфискации всех имений «мятежников» в Западном крае. Согласно распоряжению министра финансов, имение Александра Потоцкого подлежало секвестру, то есть до особого распоряжения прекращалось право хозяина пользоваться своими владениями. Де Витт уговаривал Александра воспользоваться объявленной царем амнистией покаявшимся мятежникам и вернуться на родину, но тот предпочел эмигрировать в Вену.
В октябре 1832 года император повелел считать имение графа Александра Потоцкого конфискованным, после чего оно перешло в ведение Киевской казенной палаты, которая назначила своего нового управляющего — капитана Маркевича. Подчинение казенному ведомству оказалось временным, правда, затянувшимся на четыре года. Чиновники долго не могли составить смету огромных парковых расходов, поэтому для поддержания «Софиевки» «в прежнем изящном виде» Николай I указал выделять ежегодно до двух тысяч рублей серебром из доходов уманского имения и достаточное количество работников.
В апреле 1836 года очередным указом Николай повелел все конфискованные имения в Киевской и Подольской губерниях передать военному министру, который, в свою очередь, приказом подчинил их де Витту, определив Одессу местом расположения созданного управления.
В Умани де Витт создал главную хозяйственную контору имений пяти округов, председателем которой был утвержден генерал-майор Фохт. Военное управление в лице де Витта дало Умани порядок и целенаправленное развитие; с этой точки зрения, это был лучший период в истории города XIX века. «С этого времени город постепенно устраивался по принятому плану… Утвержден герб для него, изображающий в верхней половине щита на золотом поле государственный герб, а с нижней разделенной на две части, в одной козака с пикой, а в другой: пику, косу и серп под уланскою шапкою», — писал историк «Софиевки» Лаврентий Похилевич. На содержание «Царицына сада» де Витт времени и средств не жалел, ведь парк был живым напоминанием о матери. По его настоянию военное министерство выделило на содержание парка более пяти тысяч рублей в год. Уже перед самой своей смертью, будучи тяжело больным, де Витт выделил сверх сметы на благоустройство парка дополнительные средства, которые позволили выстроить беседки, выложить камнем плотину со шлюзом, устроить водолечебницу и т. д. «Царицын сад» стал к этому времени местом прогулок городской знати.
В этот период де Витт и Собаньская, как и прежде, большую часть времени проводят в Одессе. Именно Одессе суждено было стать отправной точкой последней и, может быть, самой блистательной из разведывательных операций нашего героя.
ОПЕРАЦИЯ «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК»
Для начала обратимся к биографическому роману французского писателя Андре Моруа «Прометей, или Жизнь Бальзака»: «Среди множества писем, которые Бальзак получал от женщин, он обратил внимание на одно: оно было отправлено из Одессы 28 февраля 1832 года и подписано: Чужестранка. Почерк и слог выдавали “женщину из общества”, больше того, аристократку. После восторженных похвал по адресу “Сцен частной жизни” корреспондентка упрекала Бальзака в том, что, создавая “Шагреневую кожу”, он позабыл как раз то, что принесло успех “Сценам”, — утонченность чувств. Буйная оргия куртизанки, “женщина без сердца” — всё приводило в замешательство загадочную читательницу, и она решила послать автору письмо без подписи. Бальзак на всякий случай подтвердил получение этого анонимного послания через “Газетт де Франс”, но его таинственная корреспондентка так никогда и не увидела этого номера газеты.
7 ноября Чужестранка вновь прислала письмо. “Ваша душа прожила века, милостивый государь; ваши философские взгляды кажутся плодом долгого и проверенного временем поиска; а между тем меня уверяли, что вы ещё молоды; мне захотелось познакомиться с вами, но я полагаю, что в этом даже нет нужды: душевный инстинкт помогает мне чувствовать вашу сущность; я по-своему представляю вас себе, и если увижу вас, то тут же воскликну: “Вот он! ” Ваша внешность ничего не может сказать о вашем пламенном воображении; надо, чтобы вы воодушевились, чтобы в вас вспыхнул священный огонь гения, только тогда проявится ваша внутренняя суть, которую я так хорошо угадываю: вы несравненный знаток человеческого сердца. Когда я читала ваши произведения, сердце моё трепетало; вы показываете истинное достоинство женщины, любовь для женщины — дар небес, божественная эманация; меня восхищает в вас восхитительная тонкость души, она-то и позволила вам угадать душу женщины”.
Она и на сей раз не пожелала назвать себя. “Для вас я Чужестранка и останусь такой на всю жизнь”. Но она обещала Бальзаку время от времени писать, чтобы напоминать о том, что в нём живет божественная искра… Всё это — и таинственность, и ангельские ноты, и возвышенный слог — как нельзя больше отвечало внутренней потребности Бальзака, и он, разумеется, не мог пренебречь подобным случаем.
9 декабря 1832 года в газете “Котидьен” было помещено короткое объявление: “Господин де Б. получил адресованное ему послание; он только сегодня может известить об этом при посредстве газеты и сожалеет, что не знает, куда направить ответ”. После чего таинственная корреспондентка открыла своё инкогнито.
То была графиня Эвелина Ганская, урожденная Ржевусская, принадлежавшая к знатнейшему польскому роду, тесно связанному с Россией; в 1819 году она вышла за Венцеслава Ганского, предводителя дворянства на Волыни, который был на двадцать два года старше её. Её сестра Каролина, женщина необычной красоты и тонкого ума, оставила своего мужа, пятидесятилетнего Иеремию Собаньского, ради русского генерала Витта, с которым открыто жила на протяжении пятнадцати лет. Эта “официальная связь” не мешала ей кокетничать с Мицкевичем и Пушкиным, которые, благодаря ей, сблизились между собою. Царь (имеется в виду Николай. — В.Ш.) считал Каролину Собаньскую женщиной опасной и одинаково коварной как в любви, так и в политике. Дамы из этого рода питали пристрастие к людям выдающимся. Но Эвелина слыла более положительной, нежели её сестра.
Ко всему прочему Эвелина Ганская была одной из богатейших женщин юга России. Её муж Венцеслав Ганский, предводитель дворянства на Волыни, владел на Украине двадцатью одной тысячами десятин земли и тремя тысячами крепостных. Уже одно это, помимо красоты и ума, создавало особое отношение к этой женщине».
Биограф Эвелины Ганской Мария Залюбовская пишет: «Портрет младшей сестры Каролины, Эвелины-Констанции Ганской, находящийся в Парижском музее, даже отдаленно не схож с рисунками Пушкина Собаньской. Сёстры были совершенно разные. Тетушка Розалия Ржевусская считала Эву доброй, кроткой, но слегка помешанной. Множество книг, прочитанных мудрой крошкой, как звал Эвелину отец, оставляли в её уме следы самых противоречивых влияний. “Это беспорядочная смесь идей, окрашенных весьма живым воображением, придавали блеск её речам, которые порой забавляли слушателей, но чаще их утомляли”. Такова была Эвелина Ганская, по мнению суровой тетушки Розалии. Бальзак же нашёл в ней “чудесные чёрные волосы, нежную шелковистую кожу, какая бывает только у брюнеток; что в двадцать семь лет на удивление хороша собой. Ещё совсем юное, наивное сердечко… не говоря уже о колоссальных богатствах…”
О многолетнем романе Бальзака и Эвелины Ганской писали также Андре Бийи, Стефан Цвейг, был снят фильм, где Бальзака играл Жерар Депардье. Вот уже более полутора веков все восторгаются внеземной и романтичной любовью французского гения и польской красавицы.
Увы, на самом деле при более пристальном рассмотрении взаимоотношения Бальзака и Ганской выглядят несколько иначе. Порукой тому «случайная» близость к этому любовному роману Ивана де Витта. А потому попробуем разобраться с этим любовным романом подробнее.
Итак, год 1832-й. Император Николай I только что подавил восстание в Польше. Остатки разбитой шляхты бегут во Францию, где издавна находили пристанище всевозможные враги России. Война с Францией не состоялась, но вражда между обоими государствами достигла высшего предела. Париж вел яростную антироссийскую агитацию по всем направлениям, и общественное мнение «просвещенной» Европы было настроено против русских.
Что в данной ситуации должен был предпринять император Николай? Видимо, какие-то дипломатические шаги, успокаивающие европейское мнение. Но только ли? Гораздо надёжнее было не успокаивать враждебное мнение, а вообще повернуть его в сторону России! Но чтобы общественность приняла русскую сторону, кто-то должен был сориентировать ее? Сделать же это могли только те немногие, к чьим словам прислушивались. В первой половине XIX века носителями такого общественного сознания были известные писатели и поэты. Это ни для кого не было секретом. Вспомним хотя бы, как пытались склонить на свою сторону молодого Пушкина польские заговорщики в Одессе…
Операция по созданию «агента общественного влияния» была делом весьма деликатным, и вполне естественно, что проведение её можно было поручить только человеку, в профессиональных качествах которого Николай I был лично уверен. Конечно, это был Иван Осипович де Витт!
То, что местом проведения операции была выбрана Франция, вполне естественно. Именно Париж был тогда общепризнанным законодателем литературных и музыкальных мод. Из литературных знаменитостей того времени, к мнению которых прислушивались, были: Александр Дюма-младший, Виктор Гюго и Оноре де Бальзак. Но для операции нужен был только один, тот, кого можно и купить, и обмануть, на недостатках которого можно было бы сыграть. При этом ошибиться в выборе было никак нельзя, ибо на кону стояла репутация России.
Самому де Витту появляться в Париже было нельзя. Его слишком хорошо знали как французы, так и жившие там поляки. Нужен был агент, который мог бы собрать всю необходимую информацию, не вызывая при этом особых подозрений. И такой агент у де Витта нашелся! Им оказалась всё ещё проживающая в Париже Екатерина Багратион, постаревшая, но не утратившая любви ни к мужчинам к авантюрам.
Предусмотрительный де Витт уже несколько лет, как свёл пылкую вдову со своим сводным братом Станиславом Потоцким, с которым Екатерина Багратион и проживала в своем роскошном особняке на Елисейских Полях. Роман генерал-адъютанта и обер-церемониймейстера Высочайшего двора со вдовой героя войны 1812 года, думается, имел не только любовную подоплеку. Ценя Екатерину Багратион как агента, де Витт просто-напросто попросил Станислава поддержать порастратившуюся красавицу своими капиталами, что тот и сделал. Возможно, что немалые суммы были перечислены разведчице Багратион и от казны. А чтобы внезапное обогащение вдовы не вызвало лишних разговоров во французском свете, был придуман новый роман. А деньги Екатерине Багратион в это время были очень нужны, ибо она приступала к весьма сложной и важной разведывательной операции.
Биограф Екатерины Багратион Л. Репин пишет: «В кругу её друзей теперь Стендаль, молодые модные поэты, художники и музыканты, временами к ней заходит Бальзак, писавший с неё, как говорили, некоторых героинь».
Иван Осипович запрашивает свою старую знакомую на предмет возможной кандидатуры для разработки. После этого Багратион проводит соответствующую работу, рассматривая все варианты. Наконец из Парижа графу поступает шифрованное письмо, в котором значится имя Оноре де Бальзака. Там же была приложена характеристика французского писателя с подробным описанием всех его слабостей и привычек.
Екатерина Багратион свою задачу выполнила. Теперь дело было за де Виттом. Проанализировав все данные о Бальзаке, граф приходит к выводу, что для привлечения известного писателя на российскую сторону его должна обольстить женщина, ибо у писателя была одна всепоглощающая мечта: жениться на очень состоятельной даме и за счёт этого быстро разбогатеть. Однако помимо богатства обольстительница должна была иметь и целый ряд других данных: быть красивой и умной, знатной и, кроме того, быть… замужем за не слишком ревнивым супругом. В добытой Екатериной Багратион информации также было сообщение об огромной тяге Бальзака ко всевозможным тайным обществам, магии и сверхъестественному. На всём этом можно было сыграть.
После недолгих поисков кандидатуры предполагаемой обольстительницы де Витт останавливается на сестре своей жены — Эвелине Ганской.
Эвелина Ганская жила в своём богатом, но скучном поместье Верховня и лишь иногда наведывалась к сестре Каролине в Одессу. Во время одного из таких визитов де Витт с супругой предложили Эвелине принять участие в увлекательнейшей авантюре. Естественно, любительница приключений и авантюр, вот уже несколько лет прозябающая в своем имении, Эвелина с радостью согласилась принять участие в таком интересном и необычном предприятии. Тогда же появилось первое, а затем и второе письмо. Оба письма были составлены в полном соответствии с его слабыми местами: там было восхищение талантом и показ ума корреспондентки, намёки на её финансовую состоятельность и готовность к длительным отношениям, ко всему этому добавлялся романтизм чужой страны и загадка имени. При этом письма были проникнуты легкой пеленой эротизма. Всё остальное должно было дополнить собственное богатое воображение писателя. Так как Эвелине уже было тридцать два года, решили, на всякий случай, убавить возраст до двадцати семи. Витт всё просчитал, и его письма-приманки сработали безупречно!
Вот как описывает А. Моруа то впечатление, какое оказали на Бальзака первые письма Э. Ганской: «С юности он мечтал о безумной страсти, о любовнице, которая была бы одновременно и знатной дамой, и куртизанкой… Бальзаку всегда нравились чувственные женщины, но он хотел также, чтобы его любовницы были и чувствительны, и умны, чтобы способны были понимать его произведения, восторгаться ими и, быть может, даже вдохновлять его. Ему казалось, что Ева Ганская — именно такая женщина… Госпожа Ганская привлекла Бальзака тем, что она была “создана для любви”, но ему нравилось также и её начитанность, и то, что у неё три тысячи мужиков, что она носит графский титул, живет в настоящем замке».
Романтичная переписка длилась несколько лет, пока де Витт не решил, что Бальзак созрел для первой личной встречи.
Эта встреча была организованна в тихом швейцарском городке Невшатель, подальше от любопытных глаз. В Невшатель Эвелина прибыла вместе с… мужем. Заочные «влюбленные» наконец-то смогли взглянуть друг на друга.
Как пишет А. Моруа, «Бальзак показался Ганской несколько вульгарным, но она почувствовала, что это бьющее через край жизнелюбие вполне извинительно… Творения казались лучше творца, они представлялись более возвышенными и глубокими… Хотя в своем первом письме Ганская и писала “Ваша внешность ничего не может сказать о вашем пламенном воображении”, она всё же не ожидала, что встретит маленького кругленького человечка без передних зубов, с растрепанными волосами».
Впечатление Бальзака о Ганской было несколько иным. В письме своей знакомой Лоре Сюрвиль он пишет: «Я нашёл в ней всё, что может польстить безмерному тщеславию… Нам двадцать семь лет… мы на удивление хороши собой… у нас чудесные чёрные волосы, нежная шелковистая кожа, какая бывает только у брюнеток… наша маленькая ручка создана для любви… в двадцать семь лет у нас ещё совсем юное наивное сердечко… Я уж не говорю тебе о колоссальных богатствах! Я просто пьян от любви…»
Итак, как и рассчитал де Витт, Бальзак сразу же влюбился — и в Ганскую, и в её богатство. Что касается Эвелины, то она хоть и обменялась с французом «клятвой верности», но никакого впечатления толстый и беззубый Бальзак на неё не произвел. Но ведь не за тем она ехала!
Увы, как вскоре выяснилось, французская разведка недаром ела свой хлеб. Едва Бальзак оказался в Невшателе, как там объявилась маркиза де Кюстин, супруга самого высокооплачиваемого французского писателя-шпиона. Маркиза знакомится с Эвелиной, выясняя, нет ли в её знакомстве с Бальзаком происков русской разведки. Что касается Ганской, то она прекрасно выдержала это непростое испытание. Успокоенная маркиза уехала.
Вторая встреча Бальзака и Ганской проходит уже в Вене, подальше от Парижа. Есть подозрение, что и сам де Витт в это время негласно находился в австрийской столице. Кроме того, новую встречу двух «влюбленных» вполне официально курировал находившийся в то время в Вене с дипломатической миссией генерал-адъютант П.Д. Киселев, испытанный друг и соратник де Витта. Киселев умело вводит Бальзака в высшие дипломатические круги Австрии. Помогла своими старыми альковными связями так же «случайно» оказавшаяся там и Екатерина Багратион. За ширмой этих встреч решаются многие закулисные вопросы. Бальзак, сам того не подозревая, уже начинает работать в интересах России. С французской стороны контроль за этой встречей осуществлял маркиз Астольф де Кюстин. Однако маркиз остается явно за скобками, ибо всё свободное время Бальзак с Ганской проводят у Киселевых. Не только генерал, но и его супруга Софья (Потоцкая) была в курсе всех событий. Бальзак уже попал в расставленные сети.
«Бальзак был польщен приемом, который оказал ему князь фон Меттерних», — пишет А. Моруа.
Из письма супруги князя Мелании фон Меттерних: «Сегодня утром Клеменс (канцлер. — В.Ш.) виделся с Бальзаком. Канцлер обратился к нему с такими словами: “Сударь, я не читал ни одной вашей книги, но я вас знаю…”» Весьма красноречивое признание!
В отношении Меттерниха к Бальзаку чувствуется нежная и ловкая ручка Екатерины Багратион, которая к этому времени всё ещё сохраняла со своим старым любовником дружеские отношения.
Что касается маркиза де Кюстина, то, похоже, его переиграла даже Эвелина Ганская. В письме к своей жене маркиз пишет: «Наш друг (Бальзак. — В.Ш.) поставил меня в затруднительное положение: он познакомил меня с некой полькой, весьма остроумной дамой из степей Украины и самой ученой женщиной с берегов Дона (?), которой перед тем сказал, будто я самый красноречивый человек, которого когда-либо встречал. Я не знал, что мне сказать; если бы я прислушался к голосу гордости, то поступил бы по примеру нынешних светских дам и не раскрыл бы рта. Вместо этого я старался держаться как можно любезнее, но всё время чувствовал себя так, словно играл роль. Мне казалось, будто я разучиваю все одни и те же гаммы. Поэтому я не мог вести себя естественно в обществе этой дамы, которая, впрочем, особа весьма благовоспитанная».
Кюстин не только удивляется проницательности Ганской, но и признается в бесполезности своих потуг выглядеть перед ней лучше, чем на самом деле.
Венская встреча Бальзака и Ганской завершена. По возвращении в Париж Бальзак неожиданно для себя обнаруживает, что вслед за ним прибыла супруга генерала П.Д. Киселева, которую французский писатель в своих письмах именует по её девичьей фамилии — Потоцкая. Однако, рекомендуя Бальзаку Софью Потоцкую-Киселеву, Эвелина обманывает писателя и представляет её своей двоюродной сестрой. Если не принимать в расчет разведывательную деятельность Ганской, то логичного объяснения этом обману нет. Однако, если иметь в виду ту миссию, которую исполняла Эвелина, то очевидно, что она была весьма заинтересована, чтобы скрыть для Бальзака и его окружения родственную связь Потоцкой и генерала де Витта, а потому вполне логично, что Ганская отрекомендовала супругу генерала Киселева как свою кузину.
Софья Потоцкая-Киселева оказалась весьма сведущей в разведывательном искусстве — под стать своему сводному брату. Вскоре она уже обрела достаточную власть над бесхарактерным Бальзаком, удерживая его в состоянии вечной влюбленности в Ганскую и тактично направляя его деятельность в интересах российской внешней политики.
Из биографии Бальзака Андре Моруа: «Графиня Потоцкая настоятельно советовала ему выразить дань уважения графине Аппоньи, супруге австрийского посла. Бывают дипломаты, которые сразу становятся мощными центрами притяжения в тех странах, при правительстве которых они аккредитованы. Именно такими людьми стали, начиная с 1826 года, жившие в Париже граф Антуан Аппоньи и его жена. Они принимали у себя и легитимистов, и сторонников Луи-Филиппа, и писателей, и художников. На этих блистательных приемах, на завтраках, за которыми следовали танцы, бывал весь Париж… Потоцкая усердно наставляла писателя…»
Отныне Бальзак находился под неусыпным надзором российской разведки. В Париже наблюдение за писателем осуществляла сестра де Витта Софья Потоцкая-Киселева. Эвелине Ганской Бальзак пишет: «Госпожу Киселеву я не вижу, я обедал у неё и был с визитом. Вот и всё». Писатель признается, что встречается с Киселевой, хотя и не слишком часто.
Одновременно Бальзак становится полностью зависим от денежных дотаций из России, отправителем которых являлась Эвелина Ганская. Контроль за денежными потоками во Франции осуществляла Потоцкая. При этом Бальзак весьма быстро привык к российским деньгам, а привыкнув, весьма откровенно их клянчил.
Из письма Бальзака Ганской от 29 октября 1833 года: «Моя дорогая Ева, в четверг я должен заплатить четыре или пять тысяч франков, а у меня нет буквально ни одного су…»
Из России немедленно переводится требуемая сумма. Однако к этому времени у Бальзака аппетиты уже значительно возрастают. Из письма Бальзака Ганской: «Возлюбленный ангел мой, будь тысячу раз благословенна за ту каплю воды, за твоё предложение; твой порыв для меня всё и вместе с тем ничего. Суди сама, что такое тысяча франков, когда ежемесячно нужно десять тысяч…»
И снова требуемые деньги были переведены. Биографы Бальзака не без удивления отмечают, что порой только разовая помощь вечно просящему писателю достигала 100 тысяч франков! Трудно предположить, что такой умный и проницательный человек, как Бальзак, не догадывался о настоящем источнике столь щедрого финансирования, ведь все имения и капиталы Ганских принадлежали не Эвелине, а её мужу. Сама Эвелина, по признанию тех же биографов, ничем не распоряжалась, мужем ей выделялись лишь небольшие суммы на карманные расходы. Но, догадываясь об источнике щедрого золотого потока, Бальзак тем не менее делал вид, что ничего не понимает. Такое положение дел его вполне устраивало, как устраивало и руководителя операции с российской стороны де Витта. Ведь за относительно небольшие (в масштабах государства) деньги Россия получила в Париже весьма известного и активного агента влияния, который, надо понимать, не зря отрабатывал свой хлеб!
Очередная встреча Бальзака и Ганской состоялась в Одессе. Ряд любопытных материалов, подтверждающих разработку Бальзака российской разведкой во главе с де Виттом, имеется в парижском Доме-музее Бальзака на улице Ренуар, 47. Там находятся документы, подтверждающие тот факт, что во время посещения Бальзаком Одессы за ним осуществлял слежку агент генерала де Витта.
Меж тем роман в письмах между Ганской и Бальзаком всё продолжался. Иван де Витт был терпелив и последователен. Так, когда длительное пребывание в Париже и тесная опека Бальзака со стороны Софьи Потоцкой стали привлекать к себе ненужное внимание, Софья была немедленно выведена из игры, а её место сразу же заняла (опять же якобы по рекомендации Ганской) младшая сестра Эвелины Алина Монюшко.
Младшая сестра Эвелины была в курсе всех любовных связей Бальзака и держала в курсе всех событий старшую сестру, говоря о Бальзаке, как о большом любителе «свежего мясца». Ганская ко всем амурным похождениям Бальзака относилась весьма спокойно, никогда не выказывая никаких признаков ревности. Лишь однажды, когда Бальзак не на шутку увлекся одной из местных дам, сестры подняли тревогу. Алина Монюшко даже приготовила для Бальзака замену Эвелины… Свою собственную дочь. Но внезапная страсть Бальзака быстро угасла, и он снова вернулся к Ганской. Без её денег он уже не мог существовать.
Уже тогда в Париже ходило много разговоров, что Эвелина Ганская вовсе не любит Бальзака, а по какой-то таинственной причине вот уже сколько лет морочит ему голову! Относительно чувств Ганской сплетники, скорее всего, не ошибались. Андре Моруа пытается достаточно неловко объяснить тот факт, что в ответ на бальзаковские письма-романы, полные благодарности за денежные переводы, Ганская ограничивается лишь короткими записочками, которые пишет от силы два, а то и вовсе один раз в год. На влюбленность это никак не похоже!
Однажды отношения Бальзака с Ганской оказались под угрозой большого скандала, причем не во Франции, а в России! И снова предоставим слово Андре Моруа: «Бальзака постигла неожиданная неприятность: отнюдь не “безобидные” любовные письма писателя попали в руки господина Ганского. Писатель попытался как-то объяснить это супругу, но придуманная им версия была не слишком правдоподобна. Вопреки очевидности, по его словам, всё обстояло очень просто и невинно. Госпожа Ганская, смеясь, сказала ему, что ей хотелось бы прочесть образцовое любовное письмо, вот он и написал два этих злополучных письма, полагая, что она ещё помнит об их шутливом разговоре. Если он оскорбил графиню, то умоляет “господина Ганского” выступить в его защиту: “Я надеюсь, милостивый государь, что это столь естественное объяснение вас убедит”. Мы не знаем, нашёл ли муж это объяснение “столь естественным”, но он предпочел забыть о случившемся».
Думается, что Андре Моруа не всё знал, а может быть, просто не всё сказал о данной ситуации. Итак, из-за беспечности в переписке Бальзака и Ганской (или, наоборот, из-за сверхбдительности её мужа) возник весьма большой скандал, который грозил поставить крест на всей операции «Оноре де Бальзак». Тот факт, что между обманутым мужем и французским писателем шла целая переписка по поводу любовных писем, мы можем судить о продолжительности и масштабе этого скандала. Что касается мужа Ганской, то он, как вполне здравомыслящий человек, вряд ли поверил в придуманную Бальзаком ахинею. Дело пахло разводом, лишением Эвелины всех богатств мужа и, как следствие этого, прекращение возможности финансирования агента влияния этим, не вызывающим никаких подозрений, способом. Единственным человеком, кто мог бы образумить обманутого мужа, был генерал де Витт. Думается, что между генералом и паном произошла вполне доверительная беседа, где несчастному мужу было доходчиво объяснено, что его жена вовсе ему не изменяет, а выполняет важное секретное задание в интересах империи, а потому своим неумным поведением Ганский может вызвать не только развод с супругой, но и навлечь на себя гнев самого императора. Вскоре после подавления польского восстания последнее звучало весьма грозно. Кроме того, многоопытный де Витт мог предъявить старому шляхтичу и немало предусмотрительно собранного компрометирующего материала, который, будь он положен на стол императору, точно отправил бы Ганского в Сибирь. Несчастному поляку пришлось выбирать, и он сделал правильный выбор. Более в отношения своей жены и Бальзака он уже никогда не будет вмешиваться ни малейшим образом.
Почти сразу Ганский разрешает своей жене вполне официально отправиться одной в Париж на встречу к Бальзаку.
На этот раз Эвелина Ганская демонстративно остановилась в доме писателя. Мужа она уже не боялась, а разговоров — тем более. Однако работа работой, а сердцу не прикажешь! Вскоре Ганская начинает устраивать бедному Бальзаку дикие скандалы, а спустя некоторое время в виде примирения писатель получал немалые суммы. Андре Моруа пишет: «Пребывание любимой в Париже не дало ему (Бальзаку. — В.Ш.) того, о чём он мечтал: Ганская устраивала ему такие тяжелые сцены, что он помнил их до конца жизни».
Тогда же Эвелина Ганская сделала весьма важный вывод: Бальзак тяжело болен и долго уже не проживет.
Но тяжелобольным был уже и муж Эвелины. Вскоре Ганский умирает. Всё наследственные бумаги его были оформлены на жену, и никаких вопросов относительно того, кому быть наследницей, не возникало. Однако Ганская выезжает в Петербург якобы для ведения судебной тяжбы. Туда же она вызывает под этим предлогом и Бальзака.
К этому моменту де Витта уже нет в живых, однако разработанная и организованная им операция «Оноре де Бальзак» продолжается полным ходом. Теперь она переходит в ведение поверенного в делах в Париже П.Д. Киселева, прекрасно осведомленного обо всех её деталях. В России Бальзака должен был взять под свою опеку шеф корпуса жандармов А.Х. Бенкендорф.
Именно в это время в Европе выходит в свет книга маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». Книга эта явно заказная, весьма тенденциозная, антирусская, клеветническая и скандальная. Известный отечественный историк профессор Ю.А. Лимонов не без основания считает де Кюстина политическим писателем. Оценивая европейскую ситуацию времени организации операции «Оноре де Бальзак» и идеологическую диверсию де Кюстина, он пишет: «Создание антирусского памфлета Кюстина было продиктовано определенными политическими условиями. В 30-е гг. XIX века Франция, с её новой Орлеанской династией, занимала враждебную позицию в отношении России Николая Первого. Она искала и нашла себе союзника в лице Англии. Последняя опасалась могущества России. Сама атмосфера парижского общества того периода способствовала созданию памфлетов, подобных тому, что написал Кюстин. В стране процветал культ Наполеона, неприкрытый национализм. Книги, публицистика, театр восхваляли императора, великую армию, Французскую империю. Даже сам термин “шовинизм”, обозначающий крайнюю степень национализма, возник именно в 30-е гг. XIX века именно в Париже. Более того, именно в этот период возникает и основа современной расовой теории… Как видим, политические и общественные тенденции в это время во Франции были таковы, что они могли влиять, и в значительной степени влияли, на произведение Кюстина… Что же описывает Кюстин?.. Более всего досталось русскому народу. Пожалуй, нет таких отрицательных черт характера, которые не были бы приписаны русским… Образ России складывается из суммы неблаговидных черт, причем весьма отрицательных: жестокость, безнравственность, лицемерие, лживость, анархизм и в то же время склонность к тирании… В чём же видит Кюстин альтернативу России? Он дает совершенно недвусмысленный ответ. Эта альтернатива — Франция. Кюстин противопоставляет России королевство Луи-Филиппа…»
Негативный эффект от книги маркиза де Кюстина в интересах российской внешней политики необходимо было свести на нет. Но кто может выполнить столь деликатную и ответственную задачу? В Европе на этот момент имеется только один писатель, одно имя которого может перечеркнуть все потуги Кюстина. Это Бальзак! Для этого следует его вызвать в Петербург и на месте определиться относительно целесообразности написания им прорусской книги.
Почти одновременно с началом «судебной тяжбы» П.Д. Киселев информирует Бенкендорфа: «Так как писатель (имеется в виду Бальзак. — В.Ш.) всегда в крайности, а сейчас нуждается ещё больше, чем обычно, то весьма возможно, что целью его поездки является какая-нибудь литературная спекуляция… В таком случае, может быть, стоило бы пойти навстречу денежным затруднениям господина де Бальзака, чтобы прибегнуть к перу этого писателя, который ещё пользуется здесь, да и во всей Европе, популярностью, и предложить ему написать опровержением клеветнической книги господина де Кюстина». Бенкендорфу предложение Киселева понравилось. В том, что Бальзак решит проигнорировать приглашение Ганской, никто не сомневался. Французский писатель уже давно агент влияния. И Киселева, и Бенкендорфа сейчас волнует иное: как лучше использовать Бальзака в российских интересах.
В июле 1843 года Бальзак прибывает в Петербург и сразу же попадает под тесную опеку шефа корпуса жандармов. Андре Моруа, не зная, видимо, всей подоплеки происходивших событий, пишет: «Граф Бенкендорф распорядился пригласить его (Бальзака. — В.Ш.) на парад в Красное Село. Там он видел царя в пяти шагах от себя. “Всё, что говорят и пишут о красоте императора, правда; во всей Европе не сыщешь… мужчины, который мог бы сравниться с ним”. На параде Бальзак получил солнечный удар — и настоящий, и метафорический.
Через неделю после приезда Бальзака жена канцлера Нессельроде написала своему сыну: “Бальзак осуждает Кюстина, это в порядке вещей, но не надо верить в его искренность”. В русской газете “Северная пчела” начертано было: “Россия знает себе цену и очень мало заботится о мнении иностранцев”. Короче говоря, власти ничего не требовали от Бальзака, да и сам он больше не собирался опровергать Кюстина. Он не добивался в Санкт-Петербурге ни казенных субсидий (?!), ни почестей, тешивших его тщеславие… Разумеется, в Париже продолжали болтать о том, как царь щедро заплатил Бальзаку за то, чтобы он ответил на книгу “этого чертова французского маркиза”. В письме к Ганской от 7 ноября 1843 года мы читаем: “Прошел слух, чрезвычайно для меня лестный, что моё перо оказалось необходимым русскому императору, и что я привёз с собой богатые сокровища в качестве платы за эту услугу. Первому же человеку, который сказал мне это, я ответил, что, как видно, люди не знают ни вашего царя, ни меня”. А немного позднее (31 января 1844 года) он пишет Ганской: “Говорят, что я отказался от огромной суммы, предложенной мне за то, чтобы я написал некое опровержение… Вот глупость! Ваш государь слишком умен, чтобы не знать, что купленное перо не имеет ни малейшего авторитета…”
Информация, собранная Андре Моруа, весьма ценна. Во-первых, она указывает на факт встречи Бальзака с императором Николаем, которую организовал Бенкендорф. Во-вторых, о том, что Бальзак остался в полном восторге от этой встречи. В-третьих, о том, что он публично осудил в Петербурге книгу де Кюстина. Кроме того, он якобы не добивался для себя казенных субсидий, которые, вполне вероятно, были ему даны без всяких просьб. Если этого не было, то с какой стати он вообще упоминает о них, ведь не давались же государственные деньги каждому приезжему в Россию? Что касается писем к Ганской, то они полны заверений в любви Бальзака к Николаю I, клятв в том, что не он является источником разговоров в получении им российских денег за предполагаемую антикюстинскую книгу. Причём всем этим Бальзак не огорчен. Наоборот, всё происходящее вокруг него в связи с поездкой в Россию ему чрезвычайно лестно.
Откуда пошли разговоры о «покупке» Бальзака российским императором, так и осталось тайной. Скорее всего, в данном случае неплохо сработали французские спецслужбы, прекрасно понимавшие, с какой целью был так срочно затребован Бальзак в русскую столицу. В этих условиях написание Бальзаком прорусской книги могло иметь совершенно обратный эффект. Покупка Россией первого европейского пера для своих нужд не могла оказаться незамеченной. Это могло оказаться «медвежьей услугой», и император Николай решил на этот шаг не идти, а потому написание книги отменили. Однако обе стороны всё равно остались довольны друг другом: император тем, что Бальзак оказался полностью управляем и был готов к исполнению любого поручения, Бальзак, в свою очередь, тем, что был прекрасно принят в Петербурге и, скорее всего, получил хорошие деньги, за которые не надо было делать никакой работы и которые, ко всему прочему, не надо было возвращать.
Если говорить о ценности Бальзака как агента влияния, то после его поездки в Петербург она заметно снизилась. Бальзак был сильно засвечен. А потому, едва французский писатель покинул берега Невы, Эвелина Ганская предприняла попытку найти замену Бальзаку. Такой кандидатурой оказался знаменитый австрийский пианист Ференц Лист. Андре Моруа пишет: «Повинуясь пылкому темпераменту, свойственному Ржевусским, толкавшему их на риск, верная своему культу знаменитостей и стремлению проповедовать, она (Ганская. — В.Ш.) написала Листу письмо. Переписка с ним могла бы завести её далеко, но этот музыкант и донжуан вернулся из Москвы, по уши влюбленный в некую молодую женщину, совершившую там ради него множество безумств».
Предположения насчет «родового темперамента» и стремления к проповеди Ганской оставим на совести Андре Моруа. На самом деле Эвелина начала новый поход за новым агентом влияния, причём приём был применён совершенно тот же, что и в случае с Бальзаком: душещипательная интригующая переписка, ослепление сказочным богатством, а затем и очарование при личной встрече. Судя по всему, первые две составляющие плана сработали неплохо, и Лист не устоял. Однако влюбленности австрийца в Ганскую не получилось. Эвелина хоть и была ещё достаточно красива, но, увы, уже не столь молода. Ей было уже под пятьдесят. Поэтому с Листом повели иную интригу, а Эвелине велели продолжать отношения с Бальзаком, пусть засвеченным, но все же ещё достаточно полезным агентом.
Бальзак снова приезжает в Россию, на этот раз в поместье Ганской, чтобы жениться на богатой вдове и самому стать богатым. Эвелина его не разочаровывает. Они ещё не женаты, а Ганская уже доверила Бальзаку 100 тыс. франков золотом на покупку и меблировку будущего дома. Таких денег Бальзак ещё никогда не держал в руках. Он буквально шалеет от нахлынувшего богатства. Сестре во Францию он пишет: «Дом у них — настоящий Лувр, а поместье величиной с наши департаменты. Невозможно себе представить, какие тут просторы, как плодородна земля».
Биограф Эвелины Ганской Мария Залюбовская пишет о восторге Бальзака: «Ему отвели спальню, гостиную, кабинет. Изо всех окон — беспредельное хлебное море. Всюду дорогие ковры, вазы, фарфор, серебро. И всё это богатство Эвелина собирается отдать дочери в обмен на пожизненную ренту. Только передача имения давала Эвелине Ганской возможность вступить в новый брак. Бальзак пишет сестре, что “счастье моей жизни свободно от всякой корысти”. Во имя их будущего нужно преодолеть достаточно препятствий: получить дозволение царя, победить сопротивление родственников. Однако какое блаженство — вечера в верховенской усадьбе! Его любимая с рукоделием на коленях слушает вместе с дочерью новые главы книги, которую он с вдохновением пишет здесь. И по лицу её бегут ручьи слез… Но дела требуют присутствия писателя в Париже. И в январь, в самые сильные морозы, Бальзак покидает Верховню. Эвелина кутает его в огромную лисью шубу, без которой не доехать, дает 90 000 франков на деловые расходы. Впервые в жизни он счастлив. В течение трёх месяцев его не преследуют кредиторы с неоплаченными векселями, впервые он свободен от тягот будничных забот».
Вскоре Эвелина Ганская выходит замуж за Бальзака. Сбылась самая заветная мечта французского писателя. Отныне он не только сказочно богат, но и стал мужем правнучки знаменитой Марии Лещинской, а кроме этого — зятем адъютанта русского царя и племянником первой статс-дамы императрицы!
Что касается Эвелины, то, выходя замуж за Бальзака, она особо не рисковала. К этому моменту знаменитый французский писатель уже был неизлечимо болен. Буквально несколько месяцев спустя после свадьбы Бальзак умирает. Вдова Бальзака по завещанию стала единственной его наследницей. Он признал за собой долг перед ней в 130 тыс. франков. Эвелина дала ему взаймы втрое больше. Впрочем, вдова переживает по поводу смерти своего мужа не слишком сильно. Уже пару недель спустя после похорон она заводит себе молодого любовника, перспективного французского журналиста Шанфлери, который на двадцать лет её моложе. Вот письмо «безутешной вдовы» Шанфлери от 13 мая 1851 года, т. е. какие-то месяцы после похорон Бальзака: «Каждый вечер хожу в кафе-шантаны и очень веселюсь!.. Позавчера смеялась до упаду. Никогда ещё так не хохотала…»
Затем неутомимая Эвелина находит себе ещё одного талантливого француза, известного в XIX веке художника Жана Жигу, писавшего огромные полотна исторического и мелодраматического содержания. С 1852 года она открыто жила с ним. Во французском обществе Жигу с этого момента считался одним из самых твердых русофилов. В период Крымской войны Жан Жигу много способствовал приостановке боевых действий под Севастополем и началу мирных переговоров с Россией, настраивая прорусски и антианглийски творческие круги Франции.
Эвелина Ганская пережила мужа на тридцать лет и была погребена на кладбище Пер-Лашез, как и Бальзак.
И сегодня об операции «Оноре де Бальзак» мы знаем немного. Большинство её деталей, судя по всему, навсегда останутся тайной. Но то, что такая операция действительно имела место, и то, что её задумал и осуществил генерал Иван де Витт, никаких сомнений нет. В 1835 году де Витт получил алмазы к ордену Святого Андрея Первозванного. Вполне возможно, что так, по высшей мерке, были оценены его труды для приобретения для России столь нужного в то время агента влияния в Европе.
ТАЙНЫЙ ОРДЕН КНЯГИНИ ГОЛИЦЫНОЙ
Генералу Ивану Осиповичу де Витту на протяжении всей его насыщенной событиями жизни везло на встречи с необычными, а порой и весьма странными людьми. Говорят, что случайность — это непознанная закономерность. Применительно к нашему герою из этого можно сделать вывод, что даже в те моменты жизни, когда он совершенно не помышлял о наблюдении за подозрительными (для спокойствия России) лицами, эти самые лица буквально сами находили его.
Казалось бы, что может быть спокойнее, чем отдых в любимой им Ореанде? Там можно любоваться видом крымской яйлы и Черным морем, дышать целебным воздухом и проводить время в приятных беседах с милыми соседями. К тому же имение де Витта граничило с имением фельдмаршала Дибича, его старого боевого соратника. Увы, в 1831 году Дибича не стало. С другим же соседством де Витту не столь повезло. Непосредственной его соседкой по роковому стечению обстоятельств оказалась княгиня Анна Сергеевна Голицына.
В журнале «Русский архив» за 1913 год были напечатаны очень любопытные «Воспоминания Каролины Карловны Эшлиман», записанные неким В. Кашкаровым. Воспоминания эти содержат много любопытной информации о непростых отношениях де Витта и Собаньской в 1836–1837 годах и участии в этой семейной драме княгини Голицыной.
Сама Каролина Эшлиман была дочерью архитектора, который «по объявлению вызвался сопровождать испанского графа Ошандо де ла Банда в Крым, в Кореиз» к княгине А.С. Голицыной. В Крыму Карл Эшлиман был автором нескольких второстепенных построек в Алупке, а впоследствии был принят М.С. Воронцовым на должность «казенного архитектора Южного берега Крыма». Он пользовался особым доверием наместника, который, если судить по мемуарам его дочери, «не стеснялся посвящать его в свои самые интимные дела». Впрочем, возможно, это обычное преувеличение дочери, пишущей о своем отце.
Княгиня Анна Сергеевна Голицына (в девичестве Всеволожская) была родной сестрой известного представителя «золотой молодежи» начала XIX века Н.С. Всеволожского. В юном возрасте она вышла замуж за камергера и адъютанта великого князя Константина Павловича — князя Ивана Александровича Голицына. Партия была весьма выгодная, а муж — вполне порядочным человеком и признанным красавцем. Увы, семейная жизнь у супругов не сложилась с самого первого дня. Даже свадьба их была в высшей степени странной. Из воспоминаний очевидца: «Во время венчания эта очень странная женщина (Анна Голицына. — В.Ш.)… держала в руках портфель, наполненный деньгами. По окончании обряда вручила его супругу со словами: “Здесь, князь, половина моего приданого, вы возьмете это себе, а засим — позвольте с вами проститься и пожелать вам всего наилучшего: каждый из нас пойдет своей дорогой. И вы, и я сохраним полную свободу действий”. Князь немедленно уехал…»
На этом, собственно говоря, семейная жизнь Голицыной и закончилась. С этого момента до самой своей смерти она избегала близкого общения с мужчинами. При этом имеется много свидетельств, что Голицына не стесняла себя, ведя «крайне оригинальный и свободный образ жизни» в своем имении в Кореизе. Одевалась по-мужски, «в длинный сюртук и суконные панталоны», не расставалась с плетью, «которою собственноручно расправлялась со своими подвластными и даже окрестными татарами. Не только они, но исправники, заседатели и прочие трепетали перед деспотичной женщиной. Ездила верхом по-мужски, подписывалась в письмах La vieille des monts, что остряки переводили La vieille demon…[1] Любила также грозное имя “La vieille du rocher” (княгиня Горная)».
Княгиня Голицына, писала Эшлиман, «вообще отрицала брачное сожительство между людьми»; способствовала разрыву проживавшей в Крыму английской четы Беркгеймов.
Она «собственноручно на конюшне жестоко порола плеткою своих провинившихся крепостных». Одна из воспитанниц «умерла чахоткою, надорвав горло чтением княгине книг»; другую, соблазнив приданым — имением «Ай-Тодор», выдала замуж за управляющего этим имением Мейера, имение же затем продала князю Воронцову за 100 тыс.
Но при этом в гостиной у княгини Голицыной всегда лежало Евангелие, и каждого приходившего к ней княгиня «заставляла прочитывать главу из Святого Писания». Составила и выпустила в 1824 году в Санкт-Петербурге «собственного сочинения справочный указатель по Новому Завету на французском языке». Густав Олизар свидетельствовал: «В доме Голицыной… царила какая-то “таинственная аморальность”, цинизм доносительства и предательства сочетался с религиозным ханжеством и мистическими бреднями… загадочным было пребывание Циммермана, какие-то блуждавшие сироты…»
Ничтоже сумняшеся Анна Сергеевна пристреливала и отправляла на свою кухню скотину, принадлежавшую её соседям. От многочисленных аборигенов не раз поступали на княгиню жалобы таврическому губернатору Казначееву, и тот как-то попробовал её урезонить. Однако Анна Сергеевна без околичностей заявила губернатору: «Ты — дурак!» И сказано это было, между прочим, при многочисленных свидетелях. Говорят, Казначеев чуть не зарыдал и с той поры боялся даже подступиться к её сиятельству.
В те годы ходили слухи, что княгиня Анна Голицына имела нетрадиционную сексуальную ориентацию, причем с явными садистскими наклонностями. И хотя прямых доказательств этому факту обнаружено не было, но косвенных, однако, имелось немало. Часто Голицыну характеризуют как первую феминистку России, всей своей жизнью старавшейся доказать никчёмность мужчин и божественную суть женщин.
При своём отрицательном отношении к мужчинам вообще и при неравнодушии к красивым женщинам нетрудно предположить, что Голицына сделала всё возможное, чтобы де Витт расстался со своей супругой. Подробностей этой интриги мы, наверное, уже никогда не узнаем, но то, что она имела место, никаких сомнений нет.
Отметим, что княгиню А.С. Голицыну по Петербургу прекрасно знал и А.С. Пушкин, который относился к ней весьма иронично. По крайней мере, сохранилось его письмо от 7 мая 1821 года из Кишинева, от 1 декабря 1823 года и 14 июля 1824 года из Одессы А.И. Тургеневу в Петербург: «…а вдали камина княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии», «…но что делает поэтическая, незабвенная, конституциональная, антипольская, небесная княгиня Голицына? возможно ли, чтоб я ещё жалел о вашем Петербурге», «целую руку… княгине Голицыной constitutionnelle ou anti-constitutionnelle, mais toujours adorable comme la liberte (конституционалистке или антиконституционалистке, но всегда обожаемой, как свобода)».
Будучи натурой деятельной, Голицына не ограничивала рамки своей деятельности убийством татарских коров, поркой дворни и организацией разводов соседских семей. Амбиции её были значительно выше. Возомнив себя новым мессией в женском обличии, она усердно взялась за учреждение своей собственной религии. В создании нового учения приняла самое активное участие и приживалка княгини, мадам Крюденер, также помешанная на создании некой новой всемирной универсальной веры.
У себя в имении княгиня Голицына создала целую колонию, преимущественно из иностранцев и женщин, исповедовавших придуманную ею религию. При этом все члены колонии жили (причем весьма неплохо!) за счёт княгини-мессии. Ежедневно члены колонии собирались на занятия по усвоению азов нового голицынского вероучения. Перед ними выступала как сама мессия, так и её интимная подруга — авантюристка мадам Крюденер. Обе дамы взяли на себя миссию духовных учителей и трактователей собственных законов бытия из «особого учения мадам Крюденер». Само учение представляло собой некую невероятную смесь мистики и язычества с осколками христианства, слегка сдобренную модными либеральными идеями. При этом, как утверждают современники, многие члены этой колонии-секты были откровенными приживалами, и им неплохо жилось за счёт одержимой собственным учением княгини. Колония сформировалась в 1824 году. Насчитывала она до двух-трех десятков человек, многие из которых ранее имели весьма серьёзные проблемы не только в религиозных, но и уголовных делах у себя на родине. Надо ли говорить, что Иван Осипович де Витт был не слишком рад такому соседству. Зная же профессионализм графа-разведчика, можно смело утверждать, что де Витт изучил всех членов соседствующей с ним колонии на предмет их опасности для России.
Возможно, что интрига Голицыной против де Витта была её ответом на внимание генерала-разведчика на деятельность её секты. Возможно, что Голицына имела какие-то виды на Собаньскую, как на своего нового адепта, а де Витт удержал жену от вступления в сатанинский орден, за что и был наказан княгиней разводом. А тёмных личностей (причем мирового уровня!) возле Голицыной крутилось в ту пору немало.
Чего стоила, к примеру, баронесса Крюденер, всю жизнь занимавшаяся тайными политическими интригами! Именно она с подачи британского правительства выступила посредником в переговорах с Екатериной II о заселении Крыма английскими каторжниками. Можно только представить, как изменился бы ход мировой истории, если бы предложение баронессы было принято. А таких интриг за свою бурную жизнь на счету Крюденер было немало.
Помимо международной авантюристки Крюденер, которая являлась главной помощницей княгини в делах голицынской колонии, подле княгини обитала и ещё одна весьма загадочная дама. По определению жившего в ту пору в Крыму помещика Г. Олизара, «ещё одна из голицынской стаи». Г. Олизар вспоминал: «…Совсем недавно при ней находилась и там же умерла неизвестная старая француженка, вся зашитая в шкуру, якобы была знаменитой госпожой Ламотт». Согласитесь, определение «вся зашитая в шкуру» весьма странное, но, как оказывается, неслучайное. Соседка княгини, К.К. Эшлиман, отмечает, что к княгине Голицыной съезжались «многочисленные друзья, в их числе было много иностранцев. Между прочим, у неё долго гостила графиня Ламотт, сыгравшая такую позорную роль в известной истории с ожерельем несчастной французской королевы Марии-Антуанетты».
Ещё одно свидетельство уже знакомого нам мемуариста Ф.Ф. Вигеля, который, упомянув о смерти баронессы Крюденер в 1824 году, пишет: «За нею скоро последовала привезенная Голицыной одна примечательная француженка. Она никогда не снимала лосиной фуфайки (вот откуда фраза “зашитая в кожу”! — В.Ш.), которую носила на теле, и требовала, чтобы в ней и похоронили её. Её не послушались, и, оказалось, по розыскам, что это жившая долго в Петербурге под именем графини Гашет, сеченая и клейменая Ламотт, столь известная до революции, которая играла главную роль в позорном процессе о королевском ожерелье».
Воспоминания баронессы М.А. Боде также подтверждают, что действительно в доме Голицыной жила «графиня де Гаше (de Gachet), рожденная Валуа, в первом замужестве — графиня де ла Мотт (de la Motte), героиня нашумевшей в своё время скандальной истории с ожерельем королевы». М.А. Боде рассказывает о стройной седой старушке среднего роста, носящей «бархатный берет с перьями», с лицом умным, но не кротким, с «живыми блестящими глазами», бойкой и увлекательной речью — «изящным французским языком». При этом она была «со своими спутниками насмешлива и резка, а с некоторыми бедными француженками своей свиты, которые раболепно прислуживали ей, повелительна и надменна без всякой деликатности». Постоянны были обмолвки, таинственные намеки «о графе Калиостро, о разных личностях двора Людовика XVI, как о людях своего знакомого кружка». Де Гоше якобы собиралась купить у отца Боде сад с развалинами старого здания, но не сошлась в цене.
Боде также свидетельствует о категорическом запрете Гаше не трогать её тело после смерти: «…Велела похоронить себя, как была; говорила, что тело её потребуют и увезут, что много будет споров и раздоров при её погребении». Однако старая армянка — её служанка, «обмывая её после кончины… заметила на спине её два пятна, очевидно выжженные железом». Не эта ли история послужила впоследствии прообразом Александру Дюма для описания одной из самых эффектных сцен в его романе «Три мушкетера» — сцены казни Миледи, когда палач, сорвав с неё рубашку, обнаружил на плече выжженную лилию, знак королевской преступницы?
После похорон таинственной француженки (похороны проходили в присутствии русского православного священника и армянского священника арианского толка), как пишут современники, «слух о королевском клейме дошел до Петербурга», от Бенкендорфа прибыл курьер «с требованием её запертого ларчика, который был немедленно отправлен в Петербург». Могила и «надгробный камень не тронут доныне», т. е. специального обследования тела не проводилось. Однако, скорее всего, дело здесь было вовсе не в слухе, а в информации от де Витта, который, разумеется, давным-давно держал на заметке «зашитую в кожу» француженку, которая сыграла в своё время далеко не последнюю роль во французской революции. Поэтому вполне закономерно, что сразу же после смерти столь необычной колонистки граф проинформировал своего друга Бенкендорфа о документах, которые могли бы оказаться полезными для российских секретных служб.
Из обнаруженных в ларчике документов, пишет Боде, оказалось, что старая француженка действительно была графиней Ламотт-Валуа, родившаяся в 1756 году. Имя де Гаше она получила от эмигранта, за которого вышла замуж то ли в Италии, то ли в Англии. Оттуда авантюристка, стараясь не привлекать к себе внимания, тайком перебралась в Петербург, где в 1812 году приняла русское подданство. Существует мнение, что она в своё время встречалась с императрицей Елизаветой Алексеевной и императором Александром I, причём открылась в своей тайне только последнему, и Александр, будучи джентльменом, якобы обещал ей сохранить тайну.
Из записок А.В. Храповицкого: «Из воспоминаний баронессы Боде узнаем, что графиня де ла Мотт — женщина развратная, по отцу своему Сен-Рени происходившая от одного из незаконных сыновей короля Генриха II Валуа, действительно присвоила и продала в Англию “бриллиантовое ожерелье редкой красоты, ценою почти в 2 миллиона ливров”, которое изготовили “около 1784 года придворные ювелиры” для Марии-Антуанетты». В биографиях Ламотт указывается, что она будто бы «умерла в Англии в 1791 году, бросившись из окошка после ночной оргии».
Заметки А.В. Храповицкого свидетельствуют, что Александр Дюма в своем романе «Ожерелье королевы», написанном в 1848 году, достаточно точно воспроизвёл детали интриги. «Враги королевской власти, — пишет в заключение Храповицкий, — зная твердый характер Марии-Антуанетты, обрадовались случаю набросить тень на её честное имя. Судебные прения клонились не столько к обличению преступников, как служили поводом к разным оскорбительным для власти намекам». Храповицкий также иронизирует, вспоминая, что англичане при участии той же аферистки баронессы Крюдинер ещё в эпоху Екатерины II просили у нас Крым для использования его для ссылок, вроде мыса Доброй Надежды, «благо оно поближе».
Сегодня хорошо известно, что история с ожерельем королевы была очень умело использована противниками королевской власти для её дискредитации. Примерно так же в преддверии 1917 года были использованы для дискредитации царской власти в России скандалы, связанные с Григорием Распутиным. Историки не без основания считают, что если бы не было громкого процесса, связанного с аферой графини Ламотт-Валуа, которая окончательно оттолкнула французов от королевы и короля (хотя те были на самом деле абсолютно ни в чем не виноваты!), то революции во Франции могло и не быть, а следовательно, могло не быть того ужасного террора, который залил кровью всю страну.
Примечательно, что у Каролины в Ореанде часто гостила её тетка графиня Розалия Ржевусская. Графиня была дочерью княгини Любомирской, гильотинированной на Гревской площади в Париже вместе с королевой Марией-Антуанеттой. Вместе с матерью Розалия Ржевусская, будучи ещё девочкой, провела несколько месяцев в якобинской тюрьме, запомнив этот ужас до конца своих дней. Очевидно, что автограф Марии-Антуанетты, украшавший знаменитую коллекцию автографов Каролины Собаньской, урожденной Ржевусской, достался ей именно от тетки Розалии. Однако для нас было бы интересно другое: знала ли едва не попавшая на гильотину графиня, что рядом с ней под крымским небом обитает одна из главных виновниц смерти её матери, и, если знала, то как на это реагировала?
Баронесса Боде заканчивает свой рассказ о таинственной француженке следующим образом: «Участь этой женщины покрыта непроницаемою завесою; она исчезла, как исчезло знаменитое искусительное ожерелье, причина её падения, одна из причин смерти несчастной королевы Марии-Антуанетты. Писатели долго будут говорить о Жанне Валуа, и никто не догадается искать на безвестном кладбище Старо-Крымской церкви её одинокой могилы!»
Из воспоминаний компаньонки княгини Голицыной Марии Сударевой: «Сию графиню де Гаше я прекраснейшим образом помню — необыкновенно живая и задиристая была старушонка. И весьма боевая, даже лихая, пожалуй, чуть ли не бешеная, несмотря на свой преклонный возраст. Ходила в мужском костюме и не расставалась с пистолетами. Дружила с контрабандистами, которые не раз захаживали по делам в её одинокий домик в Артеке, у Аюдага. И умерла по-особому, по-мужски: говорят, она разбилась, не удержавшись в седле на одной из горных тропок.
После смерти её доподлинно выяснилось, что в самом деле являлась она вовсе не графинею де Гаше де Кру а, а печально знаменитою во французской истории графинею Жанной де ла Мотт, той самою графинею де ла Мотт, что украла королевское ожерелье, была судима, высечена и клеймена на Гревской площади и была именно тем существом, которое во многом и погубило репутацию несчастной страдалицы — королевы Марии Антуанетты. Ясное дело: феерическая история дерзкой авантюристки графини де ла Мотт (скандальный уголовный процесс, суд, смелое бегство из тюрьмы, инсценировка самоубийства, новое исчезновение, появление в Крыму) не могла не привлекать Каролину.
Анна Сергеевна не только поведала Каролине массу бесценных подробностей о графине Гаше де Круа, но и показала ещё оставшиеся ей от графини и хранившееся теперь у неё в тайном шкапчике весьма ценные бумаги, непосредственно касающиеся этого громкого, но таинственного дела. И две связки бумаг княгиня даже дала Каролине на память — дар поистине бесценный. Знаю всё это в точности, ибо слышала от самой княгини Голицыной, поведавшей нам обо всем потом, уже после отъезда Каролины из Кореиза».
Что касается самой княгини Голицыной, то, как мы уже говорили выше, она весьма отрицательно относилась к своему соседу де Витту. Основания у старой княгини для этого имелись. Современники, знавшие княгиню в преклонных летах, писали о ней исключительно как о мужеподобной старухе, собиравшей вокруг себя мистически настроенных одиноких женщин. Разумеется, что «мужеподобная старуха» догадывалась о повышенном интересе генерала к членам её колонии, и это ей очень не нравилось.
В августе 1837 года Голицына неожиданно увезла из Кореиза дочь баронессы Крюденер Юлию Беркгейм (по некоторым сведениям, она являлась любовницей княгини), якобы в Вену, для лечения, и сама не возвращалась оттуда до ноября. По отзыву современников, отъезд Голицыной скорее напоминал бегство. Что касается Юлии Беркгейм, то она в Крым уже не вернулась.
Буквально через месяц после бегства Голицыной в сентябре того же 1837 года император Николай I с супругой, сыном-наследником Александром и дочерью Марией посетили Крым, где заехали в Ореанду с ночевкой к графу де Витту. Соседнее же поместье в Кореизе было в этот момент совершенно пусто. Там не было ни Голицыной, ни её таинственных колонистов. Как писал крымский землевладелец С.А. Юрьевич своей жене, «хозяйка в отсутствии. Говорят, нарочно выехала за границу — видно, совесть не чиста». Причин для нечистой совести было, очевидно, много. Недаром и Беркгейм, оставив Крым, по словам того же Юрьевича, «стала вести самый загадочный образ жизни, скитаясь по всевозможным уголкам России, прекратив всякие знакомства и избегая встретить кого-либо из прежнего, брошенного ею мира. Имея виноградник в Крыму, она давала иногда о себе знать, но по большей части её разыскивали при помощи всех возможных полиций».
Но почему обе таинственные дамы так резво бежали из Крыма перед самым приездом императора? Почему дочь знаменитой аферистки-шпионки больше никогда не посмела вернуться в благодатный Крым? Думается, это произошло не без участия де Витта, который, скорее всего, представил Голицыной доказательства её антигосударственной деятельности и поставил условие — самороспуск её секты или доклад императору с последующим осуждением на каторгу, а в строгости Николая сомневаться не приходилось. При всей своей экзальтированности Голицына всё же сумела сделать правильный выбор и сочла за лучшее бежать в Вену, чем отправиться по этапу в Сибирь.
Такому опытному профессионалу разведчику, как де Витт, думается, не стоило особого труда выяснить, что среди двух десятков квартирантов Голицыной обитают и весьма подозрительные личности, собирающие определенную информацию о России. Что такие личности были в окружении Голицыной, не вызывает сомнения. Нередки случаи, когда разведка использует столь удобную возможность внедрения своих агентов в круги высшего света под личиной поборников новой элитарной секты. А потому внезапный самороспуск «голицынской стаи», думается, следует также записать в актив де Витту. Это был на самом деле поистине гениальный ход. Для уничтожения шпионской сети генералу на этот раз не понадобилось ни арестов, ни судебных процессов и связанных с этим международных скандалов, которые в тот момент были императору Николаю абсолютно ни к чему. Всё решилось как бы само собой. Император приехал к де Витту, и «стая» разбежалась…
Что касается Юлии Беркгейм, то у неё были, видимо, весьма веские основания бежать как можно дальше от де Витта и больше не попадаться ему на глаза. По всей видимости, именно мадам Беркгейм и была замешана в неких антироссийских делах. К тому же напомним, что генерал был хорошо знаком со шпионской деятельностью её матери на Венском конгрессе.
Что касается княгини Анны Голицыной, то она так и не перенесла удара, нанесенного её секте де Виттом, от чего умерла в 1838 году в Симферополе и была похоронена в Кореизе. Впрочем, свои владения княгиня завещала баронессе Беркгейм.
МАРШАЛ МАРМОН И РАЗРЫВ С КАРОЛИНОЙ
В это время в судьбе нашего героя появляется новый, весьма значимый персонаж. В 1834 году престарелый французский маршал Огюст Мармон отправился в большое «пенсионное» путешествие, чтобы побывать на юге России, в Турции, Сирии, Палестине и в Египте. Впрочем, ряд историков считает, что путешествовал французский маршал не столько из личного любопытства, сколько с разведывательными целями, определяя особенности возможных театров боевых действий в будущем.
Маршал Мармон — личность в мировой истории весьма заметная. Огюст Фредерик Луи Виесс де Мармон родился в 1774 году. Молодым офицером отличился при осаде Тулона, был замечен Бонапартом, который сделал его своим адъютантом. В качестве адъютанта Мармон участвовал с Бонапартом в последующих двух итальянских и египетских кампаниях. Направленный в Далмацию во главе корпуса, Мармон удержался в Рагузе (ныне Дубровник), противостоя соединенным русским и черногорским отрядам, за что получил титул герцога Рагузского. В 1814 году перешёл на сторону Бурбонов. В июльскую революцию 1830 года бежал с королем Карлом X за границу. Затем поселился в Вене, получал пенсию от австрийского двора. В 1852 году Мармон умер, оставив после себя восемь томов мемуаров.
Добавить к этому можно лишь то, что из всех наполеоновских маршалов Мармон оставил, наверное, самую худую славу. Именно он первым предал своего императора и сдал в 1814 году Париж союзникам. Россиянам Мармон памятен своим коварством и неоправданной жестокостью во время боевых действий против черногорских повстанцев в 1806 году, которых поддерживала эскадра вице-адмирала Сенявина. Но то были дела уже давно минувших дней. Несмотря на свой почтенный возраст, Мармон всё ещё пользовался большим влиянием в Европе, а потому принимать его было велено со всем почтением. Думается, неслучайно опекать Мармона в России было поручено именно де Витту. Вопрос организации приёма столь заметной фигуры, как Мармон, принимался на высшем уровне. Как наиболее опытный разведчик, де Витт вполне мог заставить старика проболтаться о последних тайнах парижской и венской политической кухни. Возможному сближению де Витта с Мармоном способствовало и хорошее знание Виттом Франции, а также тот факт, что оба были ранее лично знакомы (в 1826 году Мармон представлял Францию в Москве на коронации Николая I). Помимо всего прочего, думается, в России прекрасно представляли себе истинные цели «путешествия» маршала по югу России, а потому де Витт должен был, по возможности, его нейтрализовать и отслеживать вопросы, которые будет пытаться выяснить знаменитый гость.
19 мая 1834 года Мармон прибыл судном в Одессу, где был со всей торжественностью принят де Виттом. После недолгого пребывания в Одессе Мармон в сопровождении генерала отправился по местам дислокации Южной армии. Иван Осипович показал маршалу подчиненные ему военные поселения, приведшие старика в полный восторг. В описании путешествия Мармон посвятит им тридцать страниц (!) печатного текста, а о самом де Витте скажет весьма однозначно: «Это его просвещенному, плодотворному и обширному уму, его точному суждению, его выдающейся деятельности обязаны созданием этих поселений. Ими он оказал огромную услугу Русской империи, поскольку это замечательное установление дает одновременно большие преимущества государю и населению».
Затем де Витт пригласил Мармона в Крым на свою дачу в Ореанде. В честь высокого гостя окружающие горы были иллюминированы цветными фонариками, устроен фейерверк, столы ломились от кулинарных изысков. Мармон (ставший к старости весьма сентиментальным) был в полнейшем восторге: «Нет ничего приятнее этого жилища, и те, кто радушно принимал в нём, добавляли ему большое очарование своим присутствием. Оттуда открывается обширная панорама, самая красивая на всём побережье. Она охватывает весь Ялтинский залив до горы Медведица, которая замыкает его с востока».
В дневниковых записях Мармона этих дней постоянно встречается одно и то же слово: «charme» — «очарование».
«Дом графа Витта очарователен, хотя и скромен, — пишет он. — В нём находишь отпечаток души его владельца». Мармону была представлена и хозяйка Ореанды. Очевидно, Каролина с первой же встречи покорила старика. Впрочем, с Собаньской Мармон тоже ранее был немного знаком. Они встречались несколько раз на балах в Вене. Теперь же он мог оценить не только красоту, но и ум этой необычной женщины, называя её в своих записях не иначе как «очаровательная мадам Собаньская». Прогуливаясь у моря, они, видимо, успели о многом переговорить, и Каролина достаточно откровенно рассказала старику о своей личной жизни, о том, что её волновало в тот момент, в том числе и об охлаждении в отношениях с мужем.
Мармон пробыл в Ореанде четыре дня, с 20 по 24 июня. 28 июня, уже с дороги, он отправляет Собаньской письмо с благодарностью за оказанное гостеприимство: «Несмотря на приятную надежду, которую я питаю вновь вскоре увидеть вас, я не могу упустить случая, напомнить вам о себе и ещё раз поблагодарить за доброту, которой вы меня окружили. Она никогда не сотрётся в моих воспоминаниях, и пребывание в Ореанде навсегда остается в моей памяти, как и в моем сердце, светлым моментом поездки в Крым. Как я сожалею, что она была так коротка, и как дорого я бы заплатил за то, чтобы она повторилась. Ваш разговор, наполненный таким очарованием, ваш столь изящный ум, ваша душа, столь благодарная и созданная для того, чтобы оценить все то, что искренне и великодушно, делают общение с вами неоценимым, и нет такого препятствия и такого расстояния, которые могли бы помешать мне вновь насладиться ими. Дружба, которую вы мне оказали и которой я горжусь, очень глубоко тронула меня. Заслуживать её всё больше, оправдать и отплатить за неё самым щедрым образом будет одной из приятнейших забот до конца моей жизни».
Ещё один весьма интересный момент. Дело в том, что Мармон настоял на ещё одной остановке в Крыму, на этот раз в Козлове (ныне Евпатория). Желание маршала посетить забытую тогда богом Евпаторию весьма подозрительно. Как известно, именно евпаторийские песчаные пляжи, в отличие от Севастополя и всего южного берега, являлись наиболее выгодным местом для высадки морского десанта. Если предположить, что так всё и было, то тогда вовсе не случайным окажется то, что именно на песчаных пляжах Евпатории осенью 1854 года была высажена англо-французская армия, французской частью которой командовал один из воспитанников Мармона маршал Сен-Арно. Скорее всего, настойчивость Мармона при посещении Евпатории не осталась вне внимания де Витта, и он отразил это в своем итоговом донесении императору.
В архиве фотодокументов Варшавского музея литературы им. Адама Мицкевича хранится фотография с портрета красивой женщины средних лет. В музее нет сведений ни об оригинале, ни о художнике, однако имеется запись, что это якобы Каролина Собаньская. На портрете ей около сорока. Специалисты считают, что посадка головы, нос, лоб и волосы очень схожи со знаменитым пушкинским наброском Собаньской. Существует мнение, что этот портрет выполнен польским художником Ваньковичем в Варшаве. На портрете запечатлена Каролина в один из самых тяжелых периодов её жизни, в период её разрыва с де Виттом.
Охлаждение отношений между красавицей и генералом началось в 1834 году. В 1835 году между Собаньской и Виттом наступает разрыв, а в следующем, 1836 году бывшие супруги окончательно расходятся. О причинах расставания мы ничего не знаем. Одни историки утверждают, что инициатором разрыва была Собаньская, другие — что инициатором был де Витт.
Любопытно, но именно к этому времени относятся письма к Собаньской бывшего маршала Мармона. После посещения Ореанды Мармон весьма активно переписывался с Каролиной. Письма Мармона сохранились переписанными рукой красавицы в её дневник, находящийся ныне в парижской библиотеке Арсенала, о котором долгое время у нас ничего не было известно.
Содержание писем Мармона к Собаньской весьма интересно. Маршалу приходилось утешать Каролину и всячески уговаривать её не разрывать семейных уз. Любопытно, что Каролина в письмах пыталась представить маршалу всё так, будто она сама решила бросить де Витта.
Большинство историков, однако, считает, что инициатором разрыва была всё же не Каролина, а де Витт. Этой же точки зрения придерживается в целом и автор. Тем не менее в каждой семейной драме есть масса нюансов, которые неизвестны посторонним. А потому мы никогда доподлинно не узнаем истинные причины разрыва генерала с красавицей. То, что Каролина пыталась представить себя инициатором разрыва Мармону, вполне объяснимо. Будучи женщиной гордой, она, возможно, просто не желала предстать в глазах постороннего человека отверженной женой. Во-вторых, возможно, понимая, что разрыв с де Виттом уже неизбежен, Каролина пыталась наладить определенные личные отношения с маршалом. Отметим, что Мармон на тот момент был холост, к тому же не так уж и стар — всего-навсего 60 лет. А опыт очарования известных личностей у сестер Ржевусских, как мы знаем, имелся немалый.
Как бы то ни было, но Мармон был в курсе расстраивающегося союза Собаньской с Виттом. В своём письме от 20 июля из Константинополя маршал призывает Каролину к примирению с ним. «Есть бесконечное счастье в том, чтобы возбуждать чувства такой благородной души, как ваша, чуткой, щедрой и занимать ум столь изысканный, как тот, что дало вам Небо», — пишет он. И далее: «Больше всего мне бы хотелось не видеть, как вы мучаете себя вещами, которые кажутся мне химерическими и которые покажутся такими же вам, когда вы подумаете о всем том, что отличает сердце, которое так долго вам преданно и которое столь благородно и деликатно. Но мне стыдно говорить вам это, поскольку вы уже сто раз сказали себе то же самое…»
22 августа, по пути из Смирны на остров Родос, Мармон отвечает на письмо Собаньской от 17 июля. Из этого письма видно, насколько далеко зашли откровения Каролины перед маршалом: «Ваши страдания, ваши огорчения глубоко отдаются в моем сердце, и я разделяю, как буду разделять всегда, самым истинным и самым искренним образом все, что вы будете чувствовать. Я смотрю с сожалением, которое не могу выразить, на ваше столь тягостно отравленное существование и вместо пожелания того, чтобы результат, который вы мне сообщаете, не свершился, приношу вам свою самую искреннюю дружбу. Мнение, которое я вам выражаю, совершенно бескорыстно, но подумайте о прошлом, подумайте о будущем, и вы убедитесь, что ваши интересы, без сомнения, повелевают не порывать узы, которыми вы добровольно связали себя, и которые время сделало достойными уважения».
В концовке фразы, по-видимому, маршал имеет в виду, что общество, в котором связь Собаньской с де Виттом долго выглядела скандальной, в конце концов смирилось с фактом их сожительства. Значит, Мармон был посвящен даже в такие детали истории любовных отношений Собаньской и де Витта! Отметим и то, что французский маршал в своем ответе предлагает красавице только «искреннюю дружбу». Возможно, что это и есть ключевая фраза всего письма Мармона, в котором маршал дает понять Каролине, что не намерен завязывать с ней более близкие личные отношения.
В последующих письмах к Каролине Мармон не перестает делать попытки примирения её с супругом: «Есть своего рода достоинство в длительности привязанностей, и общество более справедливо, чем считают, в суждении, которое оно выносит о подлинных и прочных чувствах. Если помните, вы, хотя и туманно, говорили мне о том, что может произойти, и я откровенно высказал своё мнение. Я повторю его вам и сегодня. Ради себя самой оставьте ему надежду на то, что не все кончено. Существуют взаимные интересы, которые должны обновить связи, казалось, предназначенные распасться. Воспоминания имеют столько прелести, когда они говорят о живой и преданной привязанности, и как отказаться от того нежного и трогательного, что они содержат в себе. И разве тот, кто интересует вас, не обладает столькими сердечными качествами? Это такое доброе, такое достойное существо».
Думается, Каролина, читая эти строки, испытывала самые горькие чувства. Того, что писал ей Мармон, желала всем сердцем и она сама, но этого, увы, никак не желал Иван де Витт.
Тем временем окончательный разрыв между супругами, видимо, уже наступил. 7 октября Мармон пишет из Александрии: «Я не могу понять потрясения, которое резко подвергло испытанию всё ваше существование, и ещё меньше причину, которую вы ему приписываете. Если обстоятельства действительно таковы, то следовало бы предполагать своего рода безумие, но, конечно, лицо, которое вы обвиняете, обладает большим умом и способностью рассуждать. Мой Бог, как бы я хотел видеть вас вернувшейся к более спокойному состоянию, и сколь заслуживающей сострадания я нахожу вас, если вам приходится ненавидеть свои воспоминания. Но невозможно, чтобы каждый из вас не стал вновь самим собой и не изменил своих нынешних намерений».
Кто подразумевался под «лицом», виновным, по мнению Собаньской, в крушении её союза с де Виттом? Некоторые историки считают, что это «лицо» — император Николай, по чьему указанию она в 1832 году была удалена из Варшавы, или Бенкендорф, которому она тогда же направила письмо с опровержением подозрений в пособничестве польским повстанцам. Это лишь наши предположения, хотя вполне возможно, что политические мотивы сыграли для Витта не последнюю роль в его решении расстаться с Собаньской.
15 марта 1835 года Мармон, находясь в Риме, повторяет свои пожелания Собаньской: «Я бы очень хотел, чтобы они (пожелания маршала примириться. — В.Ш.) исполнились и чтобы они могли благотворным способом повлиять на ваше счастье. Это счастье дорого мне, и я с живой болью смотрю на то, как страдает сейчас ваше сердце. Признаюсь вам, что я ничего не понимаю из того, что произошло, того внезапного разрыва, которого, казалось, ничто не предвещало. В моих задушевных общениях с Виттом, в моих разговорах с ним я находил выражение неизменности его чувств и твёрдых намерений относительно своего будущего, которое он никогда не отделял от вашего».
В альбоме Собаньской переписаны ещё два письма Мармона. В них — сожаления об одиночестве, о моральной изоляции, в которой она оказалась. Упоминается некая «большая потеря». Очевидно, речь идет о смерти её дочери Констанции (от брака с Собаньским), о чём в то же время говорилось и в переписанном в дневник письме графини Р.С. Эдлинг.
Письма самой Собаньской к Мармону неизвестны. Но при чтении ответов на них невольно возникает вопрос, не рассчитывала ли она в момент разрыва с де Виттом получить от маршала нечто большее, чем ту дружбу, в которой он её неизменно уверял? Если это так, то её надежды не оправдались, и ей пришлось ограничиться менее блестящей партией.
В том же, 1836 году де Витт окончательно расстается с Каролиной, и она навсегда покидает Ореанду. Нам в точности не известно, как отнесся к известию о разрыве де Витта с Собаньской Николай I, но, зная его недоброжелательное отношение к Каролине, можно вполне обоснованно предположить, что разрывом генерала с полькой император был доволен.
Некоторые историки считают, что причиной разрыва де Витта с Собаньской стала как раз нелюбовь Николая к Каролине, вследствие чего якобы генерал, опасаясь за свою карьеру, и расстался с польской красавицей. На мой взгляд, такое предположение совершенно безосновательно. Да, Николай I не жаловал Собаньскую, о чём мы уже говорили выше. Но пик его неприязни к Каролине, как мы помним, относился к началу 30-х годов. Тогда действительно из-за своего романа с Собаньской де Витт не получил престижнейшую должность генерал-губернатора Варшавы. Но и тогда он не отступился от своей любви и не бросил Собаньскую. Это говорит о прежде всего о том, что де Витт по-настоящему любил Каролину и был готов ради неё пожертвовать и своей карьерой. К середине 30-х годов многолетний роман де Витта с Собаньской уже давно перестал быть предметом обсуждения в салонах, к их отношениям в высшем свете все давно привыкли. Иван Осипович давно и успешно командовал поселенной кавалерией Южной армии, а Собаньская жила вместе с ним, большую часть времени пребывая в Крыму, в польские дела она уже не вмешиваясь. Думаю, что и Николай I к этому времени уже основательно подзабыл о былых «прегрешениях» польки. Отметим при этом, что никаких особых перспектив в карьере у де Витта в обозримом будущем не намечалось. Это подтверждает тот факт, что после разрыва с Собаньской де Витт никаких более высоких должностей не получил, несмотря на всё благоволение к нему со стороны императора. А потому истинная причина разрыва генерала и красавицы крылась, безусловно, в их личных взаимоотношениях.
Несколько лет назад пушкиновед В. Фридкин опубликовал статью о своём посещении библиотеки Арсенала, где он обнаружил дневники Собаньской. По его описанию, внешне дневник Собаньской «напоминает альбомы, бывшие в моде в прошлом веке: кожаный коричневый переплет, медный замок на обрезе (ныне он сорван). В дневнике около 300 страниц, но заполнен он только наполовину. Записи большей частью по-французски и лишь изредка по-польски. Перед каждой записью — дата». К сожалению, полной публикации дневника Собаньской до сих пор не было. Не излагалось содержание дневников Каролины ни в статьях В. Фридкина, ни в его устных выступлениях. Очень жаль, так как в дневнике Каролины наверняка имеется много любопытного не только о Пушкине, но и о де Витте и об истинных причинах их разрыва.
Мы уже говорили о возможных интригах в семейных делах де Витта со стороны его недоброжелательницы княгини Голицыной. Впрочем, кто из нас до конца может разобраться в отношениях даже в собственной семье, что уж говорить о семейной драме, от которой нас отделяет почти два века!
После расставания с Иваном Осиповичем Каролина уезжает жить в оставленную ей де Виттом небольшую украинскую деревню Ронбаны-мост. Впрочем, Собаньская недолго оставалась одинокой. В том же 1836 году Каролина снова выходит замуж, на этот раз за капитана Степана Христофоровича Чирковича, серба по происхождению, служившего адъютантом де Витта.
Чиркович был мелким сербским дворянином. В начале карьеры он служил в австрийской армии, а затем перешел в российскую, где и состоял до декабря 1836 года, когда был уволен с военной службы в чине статского советника. В 1831 году Чиркович в качестве адъютанта де Витта участвовал в подавлении польского мятежа. Всего же при генерале он прослужил почти восемь лет, с 1828 по 1836 год. После увольнения Чиркович был взят, не без содействия де Витта, на службу «приказчиком в торговой конторе богатого купца Ризнича».
Свою должность у Ризнича, после женитьбы на Каролине, Чирковичу вскоре пришлось оставить, после чего он долго не мог получить нового назначения. Разумеется, по своему служебному положению, влиянию и богатству Степан Христофорович не мог соперничать с де Виттом. Новый избранник Каролины не мог предоставить своей избраннице и десятой доли того благополучия, которым окружал её де Витт. Думается, привыкшей к роскоши и всеобщему поклонению Каролине столь резкое понижение её статуса было весьма болезненно.
Весьма любопытно, что княгиня Голицына и её любимица баронесса Беркгейм через князя А.Н. Голицына (кузена мужа Анны Голицыной) искали для нового мужа Собаньской хорошую должность. Правда, вначале хлопоты закончились безрезультатно.
Что касается генерала, то в данном случае он поступил весьма благородно и до поры никаких ответных действий против княгини не предпринимал. Впрочем, Голицына зря издевалась над де Виттом: при всём мужском складе ума и любви к интригам не ей было тягаться с профессиональным разведчиком. Рано или поздно, но поле битвы должно было остаться за де Виттом. И ждать развязки долго не пришлось.
Чем же был продиктован новый выбор Собаньской: безумной ли любовью или безысходностью? Честно говоря, в безумную любовь Каролины я не верю, слишком уж много повидала в своей жизни знаменитая красавица, чтобы кидаться в омут головой. Скорее всего, в её решении связать свою дальнейшую жизнь с Чирковичем сыграли роль те непростые обстоятельства, в которых она внезапно оказалась.
Что касается Чирковича, то, по-видимому, он был влюблен в Каролину давно. Будучи адъютантом де Витта, Чиркович мог до поры до времени позволить себе лишь молча обожать красавицу-жену своего начальника.
Семейные тайны, в особенности тайны расставаний супругов, как и тайны новых влюбленностей, часто остаются вне поля зрения историков. Как знать, может быть, именно любовная интрига красавицы с Чирковичем и привела к концу её отношений с де Виттом, а может, наоборот, любовная связь Собаньской и Чирковича началась только после ухода Каролины от графа. Во всяком случае во время пребывания Собаньской в Ронбанах Чиркович её весьма часто навещал. Именно там он сделал Каролине официальное предложение, от которого она не отказалась. Затем Чиркович с Собаньской вернулись в Крым, где некоторое время проживали у княгини Голицыной в Кореизе.
Весьма интересно пишет в своих мемуарах о событиях, связанных с разрывом Ивана Осиповича и Каролины, компаньонка княгини Голицыной Мария Сударева. Разумеется, в разводных делах де Витта и Собаньской Сударева, как и её благодетельница, полностью на стороне Каролины, а потому в нелестных эпитетах в адрес генерала она не скупится: «В своих памятных записках не могу не отметить некоторых обстоятельств, связанных с довольно продолжительным пребыванием моим в Крыму, в Кореизе — восхитительном имении княгини Голицыной, моей неизменной благодетельницы… Обращаюсь непосредственно к кореизскому житью, к виденному и слышанному мною собственными глазами и ушами. А довелось мне узнать в Крыму, надо сказать, немало любопытного и даже необычного, настолько необычного, что до сих пор никак забыть не могу! Судите сами, любезные читатели. Честно поведаю всё, чему была очевидцем и что особенно запомнилось мне из крымского житья-бытья… Великолепный голицынский Кореиз граничит с роскошною Верхнею Ореандою, имением генерала-майора (так в тексте. — В.Ш.) Ивана Осиповича Витта, начальствовавшего тогда над всею тайною полициею Юга России и над Южными военными поселениями. Сей Витт поднаторел во всякого рода интригах и провокациях и был скор на совершение любой мерзости. У меня он вызывал даже не то, чтобы страх, а животный ужас. По словам Великого князя Константина Павловича (как я слышала об этом от Анны Сергеевны), “Витт есть мошенник и бездельник в полном смысле слова, вполне готовый для виселицы”.
При сём Витте безотлучно находилась не менее пятнадцати лет, да потом была выгнана генералом его возлюбленная Каролина Собаньская, дама красоты и хитрости совершенно необыкновенной, даже сверхъестественной и, пожалуй, что и демонической. Сказывают, свой, род Собаньская, урожденная графиня Ржевусская, ведёт чуть ли не от польского короля Яна Собесского. А ещё говорят, что она является правнучкой французской королевы Марии Лещинской, супруги Людовика Пятнадцатого и бабки несчастного Людовика Шестнадцатого. Выходит, Каролина в свойстве не только с польскими, но и с французскими королями. Может, поэтому она столь неслыханно дерзка и заносчива. Знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак, создатель “Евгении Гранде” и “Отца Горио”, был женат на Эвелине, младшей сестре Каролины.
Так вот, Бальзак, как сказывала мне Анна Сергеевна, выразился о Собаньской, своей свояченице, следующим образом и, кажется, довольно точно: “une folle hypocrite, la pire de toutes” (сумасбродная лицемерка, худшая из всех). Судя по этим выразительным словам, могу сделать заключение, что создатель “Человеческой комедии”, кажется, её побаивался, а также стыдился и во всяком случае, относился к ней в высшей степени неодобрительно. Это именно Собаньскую негодяй Витт неоднократно подсылал следить за великими поэтами нашего времени, Пушкиным и Мицкевичем. И вот что совершенно поразительно. Пушкин и Мицкевич, хотя и знали отличнейшим образом, что она подослана к ним от презираемого и опасного Витта (всё же он был начальник тайной полиции Юга и командующий военных поселений!), не могли устоять пред чарами Каролины. А чары были такие, что и Пушкин и Мицкевич без памяти влюбились в Собаньскую, да так влюбились, что наш Александр Сергеевич посвятил ей свой шедевр “Что в имени тебе моём? Оно умрет как звук печальный…”, а Мицкевич посвятил ей свои бессмертные “Крымские сонеты”. И повторяю: Пушкин и Мицкевич прекраснейшим образом были осведомлены, что имеют дело с платным полицейским агентом. Они знали, что прелестная Каролина подослана к ним лично генералом Виттом, и всё-таки продолжали сходить по ней с ума, искали встреч и жаждали близости. Факт, конечно, исключительный и, пожалуй, трудно объяснимый, если вообще объяснимый!
В общем, сила страсти, которую способна была внушить Собаньская, была совершенно исключительной и даже небывалой для наших дней: это была истинная Клеопатра.
Сия Каролина (Лолина, как её называли в здешних краях: впрочем, известна она была и как Лоли) убежала ещё в году 1816-м от своего законного супруга, одесского негоцианта Иеронима Собаньского, весьма удачно промышляющего зерном (у него в Одессе свой торговый дом и широко известный хлебный магазин), и затем связала жизнь свою с Виттом, личностью совершенно омерзительной, грязной. Но вместе с тем он был чрезвычайно умён, широко образован и бесстрашен. Да, Каролина была выдана за Собаньского почти девочкой, и был он её старше на целых тридцать лет. Узнав, что Собаньская оставила законного своего мужа (а развод она сумела получить только в 1825-м году, через девять лет после разъезда с Собаньским), наша Анна Сергеевна поначалу пришла в сильнейшее негодование, даже бешенство. “При первой же встрече с этою негодницей я плюну ей в морду”, — заявила княгиня Голицына при большом сборе гостей, стуча хлыстом, с коим никогда не расставалась, по столу. Угроза была серьезная и вполне, кстати, исполнимая. Но когда на балу у таврического губернатора Анна Сергеевна увидела впервые Собаньскую, урожденную графиню Ржевусскую, то в такой мере была очарована её необыкновенно привлекательною наружностию и присущим ей подлинно аристократическим, даже королевским блеском, что сама подошла к Каролине, обняла, поцеловала и воскликнула: “Боже, какая же вы душечка…” С этого дня Каролина зачастила к нам в Кореиз, и это понятно: сумасбродная старуха буквально таяла перед нею.
А когда генерал Витт выгнал свою многолетнюю сожительницу и помощницу (Каролина ведь была одним из самых опытных его агентов), то Анна Сергеевна Голицына приняла в её судьбе необыкновенно горячее участие. Перво-наперво княгиня решила отомстить генералу Витту, и вот каким образом она это сделала. История прелюбопытная! Анна Сергеевна распорядилась установить крест на одной из скал Верхней Ореанды, да так, чтобы он был виден из окон генеральского дома.
“Поставьте его на горе”, — громогласно заявила княгиня, обращаясь к толпе вечно напуганных своих слуг. — “Пусть сей крест служит живым укором проклятому графу, обидевшему нашу Лолину, и напоминает ему, проклятому, о дне Страшного Суда”.
Надо сказать, что «скромный сияющий крест» на «отдельной, почти отброшенной от прочей каменной массы, у проезжей дороги, скале Мегаби» описывался впоследствии, как «символ водворенного христианства», в частности, в «Путеуказателе Южного берега Крыма» за 1866 год. Так, наверное, и творятся в реальности многие легенды…
Но установлением креста дело тут вовсе не ограничилось. Анна Голицина подняла все свои связи и сумела сделать Чирковичу неплохую карьеру, доведя его до должности бессарабского губернатора.
Теперь нам необходимо обратиться к одной из самых горьких трагедий в истории России. В январе 1837 года грянул роковой выстрел на Черной речке… Пушкин ещё был жив, а за его бумаги уже шла незримая борьба. Ряд историков-пушкиноведов без всякого на то основания считают, что де Витт, наряду с Бенкендорфом и Дубельтом, приложил свою руку к изъятию и опечатыванию части архива умершего Пушкина. При этом никаких доказательств у них, разумеется, нет, а есть только одни предположения. Ход рассуждения примерно таков: для быстрого изъятия архива был нужен преданный делу и опытный в тайных делах человек, появление которого в доме Пушкина не могло бы вызвать ни у кого особого подозрения. Таким человеком якобы и стала бывшая супруга де Витта Каролина Собаньская.
В. Аринин так прямо и пишет: «Хотя у дома Пушкина в это трагическое время стояли толпы, в дом посторонних лиц не пускали. Но, по моему мнению (?!), Каролина Собаньская могла войти в дом как знакомая поэта. Её влекло сюда особое чувство, ведь она имела своего рода тайные, глубоко личные отношения с поэтом. А с другой стороны, она была агентом…»
Интересно, как автор представляет эту ситуацию? В дом умершего Пушкина внезапно является некая посторонняя дама. Отметим, что жена поэта с Собаньской знакома не была, друзья последних лет жизни Пушкина — тоже. Затем эта мало кому знакомая дама оказывается в кабинете поэта и начинает рыться в его бумагах. Напомним, что дом Пушкина был не столь велик, чтобы многочисленные находившиеся там друзья поэта не увидели Собаньскую, перебирающую черновики погибшего и копающуюся в его бумагах, а ведь для того, чтобы из вороха бумаг отобрать самое нужное, нужно было определенное время! К тому же Каролина Собаньская никогда не была платным агентом III Отделения, а на тот момент являлась лишь бывшей женой генерала де Витта и настоящей женой отставного капитана Чирковича.
Странно, что такие «вольные сочинения» считаются «серьезными историческими исследованиями» и относятся чуть ли не к классике современного пушкиноведения. Если В. Аринину «что-то кажется», то от этого есть старое испытанное средство. А фантазии о неком особом чувстве, которое якобы могло иметь место у Каролины, можно оставить на совести данного автора. Возможно, В. Аринин по какой-то причине не симпатизирует Собаньской, но, согласитесь, что это ещё не основание приписывать ей всяческие мерзости, которых она никогда не совершала.
К январю 1837 года, как мы уже знаем, де Витт давно расстался с Собаньской, и помогать ему у неё не было никаких оснований. Да и причём здесь вообще де Витт, ведь в Петербурге было кому заняться пушкинскими бумагами и без него! Документы пушкинского архива, как известно, изымались вполне официально подчиненными графа Бенкендорфа. Что касается слухов о некоем тайном пакете (который якобы и украла Собаньская), то его существование до сего дня никто так и не подтвердил. Да и зачем вообще что-то надо было тайно выносить из квартиры Пушкина, когда всё изымалось вполне официально при участии, кстати, друга поэта Жуковского.
Кроме того, известно, что в январе 1837 года Собаньской в Петербурге просто не было. Каролина жила в это время у Голицыной в Крыму, и волновала её в тот момент вовсе не судьба пушкинских бумаг, а своя собственная. Именно в это время решался вопрос о назначении Чирковича на какую-нибудь значимую должность в Новороссии, и от решения этого вопроса зависело дальнейшее благополучие самой Каролины.
Что же касается Ивана Осиповича, то его в Петербурге зимой 1837 года тоже не было. В это время генерал готовился к одному из самых главных событий своей военной карьеры — к императорскому смотру всей поселенной кавалерии юга России. Этот смотр надо было провести ранней весной до начала посевных, чтобы не отвлекать поселенцев от сельскохозяйственных работ. В то же время этот грандиозный смотр надо было подготовить так, чтобы у придирчивого и разбирающегося в кавалерийском деле императора не осталось сомнений в высокой боевой готовности резервной кавалерии Южной армии. А для этого надо было много и долго трудиться. Так что, скорее всего, в январские дни 1837 года де Витт находился на юге, и ему было совсем не до интриг вокруг бумаг поэта.
Разумеется, это всего лишь предположение, а потому вопрос об участии Каролины Собаньской в изъятии части пушкинского архива по-прежнему остается для историков открытым.
История отношений великого русского поэта и генерала де Витта требует отдельного скрупулезного исследования, но уже сейчас можно твёрдо сказать, что личные отношения этих двух неординарных личностей диаметрально отличалась от той формулы, которая была предложна нам со стороны классических декабристофилов.
Уверен, что известие о смерти Пушкина было встречено де Виттом со скорбью. Это была скорбь не только по ушедшему из жизни гению, талант которого генерал понимал и ценил, но и по человеку, оставившему в судьбе самого де Витта заметный след.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ТРИУМФ
В 1837 году генералу де Витту предстояло держать один из главных экзаменов в своей жизни, к которому он готовился тщательно и упорно в течение целого года. Летом этого года Иван Осипович представлял императору регулярные и поселенные войска Юга России. Отметим, что это был не обычный рядовой смотр, а грандиозная демонстрация русской военной мощи перед многочисленными представителями Европы. Смотр должен был наглядно продемонстрировать, что военная мощь России способна сокрушить любого врага, и с Петербургом лучше дружить, чем враждовать. Масштабы маневров были столь впечатляющими, что они навсегда вошли в историю военной истории России. Говоря современным языком, кавалерийский смотр 1837 года был грандиознейшей военной демонстрацией военной мощи России, организация и постановка которой требовала огромного труда от де Витта, который был назначен руководителем этого смотр-шоу. От того, как удачно будет организован смотр войск на юге страны, для Николая I зависело очень много.
В мае 1836 года Витт был вызван в Петербург, где ему было объявлено о намеченных на август будущего года маневрах. На это генерал ответил, что «войска с нетерпением ожидают его посещения». На это Николай заметил, что непременно «осчастливит их своим посещением».
В столице генерал особо не задержался. По возвращении он первым делом собрал окружных начальников, которым посоветовал обратить внимание на села, стоящие вдоль почтовой дороги, то есть на те, мимо которых поедет император со свитой. Историк пишет: «Начальники исполнили совет, и к осени в этих селах появились дома в 4 и даже в 5 комнат с клуней, с черепичными крышами, палисадниками и хозяйственными постройками. В конце каждого села можно было увидеть ток со скирдами из снопов вымолоченного хлеба и клуню с оштукатуренными кирпичными стенами».
Кто-то может упрекнуть де Витта в создании очередных «потёмкинских деревень». На это можно вполне резонно ответить: а когда у нас перед приездом высших лиц государства было иначе? Как бы то ни было, но целый ряд сёл, причем сёл, стоящих на стратегически важной трассе «Север — Юг», были в кротчайшее время приведены в образцовое состояние. Постройка просторных изб гарантировала комфортное размещение на ночлег большого количества солдат, а создаваемые места хранения провианта — своевременное обеспечение их хлебом и фуражом. Поэтому «модернизацию» придорожных сел следует оценивать как грамотное и правильное решение. Пройдет всего 16 лет, и труды Витта будут по достоинству оценены. В 1853 году в связи с началом Крымской войны начнется массовая переброска войск и припасов на Дунай и в Крым, вот тогда-то и пригодятся огромные избы, в которых можно будет размещать на ночлег целые роты и вместительные провиантские клуни.
Историк Н. Чулков пишет: «По возвращении из Петербурга Витт вызвал всех начальников военных поселений и объявил им, что государь назначил смотр на август будущего города для всей армейской кавалерии с её артиллерией, обозами и понтонными парками, и что все эти войска должны получать продовольствие на средства поселений во время смотра. Смотр продолжится две недели, но всё продовольствие должно быть заготовлено в месячной пропорции. Обратившись к полковым командирам, Витт просил их озаботиться, чтобы их части представились к смотру в самом блестящем виде, и обратить внимание на однообразную амуницию и обмундировку офицеров. Для этого он советовал закупить амуницию в петербургских магазинах, снабжающих гвардию, а сукно для мундиров, чтобы оно не было разных оттенков, выписать с одной фабрики. Окружные начальники заявили, что у поселения не хватит средств для продовольствия более 100 тонн, людей и лошадей, тем более, что для перевозки провианта и фуража потребуется огромное число подвод, перевозку же надо будет производить в самое рабочее время, что совершенно подорвет благосостояние хозяев; потребуются также подводы для перевозки войсковых тяжестей, на что у поселения не останется никаких средств».
Отметим продуманный подход де Витта к вопросам обеспечения войск продовольствием и новым обмундированием. Разумеется, что назначенный императором Николаем для смотра август месяц был крайне неудобен для военных поселенцев, которые в это время занимались полевыми работами. Но тут де Витт не мог уже ничего изменить, время смотра определял не он.
Продолжим цитирование Н. Чулкова: «…На это Витт возразил окружным начальникам, что он всегда предоставлял им полную свободу распоряжаться хозяйством поселений по их личному усмотрению, никогда не проверял их отчетов и верил всем доставляемым ими сведениям о неурожаях, градобитиях и низких ценах на хлеб и отчетам о расходовании денежных сумм; за это теперь он требует исполнения своего приказания и предупреждает, что если они не найдут средств исполнить его требование, он нарядит самое строгое следствие над ними. Граф Витт дал им сутки на размышление».
Говоря современным языком, на протяжении целого ряда лет де Витт не вмешивался в хозяйственные дела поселенцев, позволяя им, таким образом, богатеть. При этом граф прекрасно понимал, что отчеты, подаваемые ему, не отражают истинного положения дел, количество выращенного хлеба в них всегда значительно занижается, а излишки делятся между поселенцами и их ближайшими начальниками. Теперь же генерал вполне закономерно потребовал у своих подчиненных направить хотя бы часть из присвоенного на общее дело. Согласитесь, что требование вполне обоснованное! Что же было в конце концов решено?
Снова обратимся к Н. Чулкову: «На другой день окружные начальники объявили, что, если им разрешено будет позаимствовать хлеб из запасных магазинов, то они будут в состоянии приготовить нужное количество провианта, и только просили, чтобы поселения были освобождены от дачи подвод под тяжести войск при их передвижении. Витт согласился на эти условия».
И здесь де Витт показал себя, как вполне либеральный руководитель. Он не стал «дожимать» своих подчиненных: я, мол, отдал приказ, а ваше дело, как его исполнить! Он пошел на компромисс с тем, чтобы выполнить поставленную ему задачу, но при этом и не разорить людей. Опытный хозяйственник, он разрешает, чтобы резервные запасы хлебы были восстановлены постепенно и без особого ущерба поселенцам. В этом был определенный риск, так как всю ответственность за расход и последующее восстановление стратегических запасов продовольствия генерал брал на себя. Пошёл де Витт и на то, чтобы не давать подводы и лошадей войскам, что тоже бы разорило военных поселенцев. При этом, как увидим ниже, де Витт спланировал работу поселенцев так, чтобы основная её часть пришлась на зимние месяцы и не отвлекала бы людей от полевых работ весной и летом.
Не так много найдется и сегодня руководителей, которые при выполнении важнейшей государственной задачи стремятся не только решить её на высшем уровне, но при этом ещё заботятся и о благе рядовых исполнителей!
Местом проведения грандиозного смотра был определен уездный городок Вознесенск, где размещался штаб Сводного кавалерийского корпуса. Вознесенск был обычным захолустным городишком с несколькими улицами и двумя-тремя приличными домами. Теперь же предстояло подготовить его не только для размещения многочисленных штабов, но и для проживания императора и его свиты, а также для ожидавшихся многочисленных европейских гостей. При этом всё надо было сделать так, чтобы не ударить лицом в грязь. На кону был престиж державы! И это тоже легло на плечи де Витта.
Н. Чулков пишет: «Дома начальствующих лиц решено было переделать под помещение для государя, наследника, великого князя Михаила Павловича, иностранных принцев и лиц приглашенных. Корпусные командиры должны были снабдить всем необходимым квартиры наследника и великого князя, начальники дивизий — иностранных гостей, бригадные и полковые командиры и окружные начальники — свиты и приглашенных лиц. Все издержки решено было покрыть деньгами, вырученными от продажи хлеба. Обыкновенно хлеб продавался с публичного торга местным хлебопромышленникам, теперь же решено было продать его одесским негоциантам. Для производства работ по приготовлению помещений были высланы в Вознесенск всё поселенные мастеровые. Для продовольствия двора и гостей был выписан из Одессы ресторатор Дюссо; драпировка квартир поручена драпировщику, выписанному из Парижа; мебель заказана одесскому мебельщику Коклену. В конце сентября сотни людей были посланы в черкасские леса для рубки леса, а в декабре несколько тысяч подвод из первых 8 округов были посланы для перевозки заготовленного строительного материала. В других округах люди были заняты ломкой и доставкой известняка, дикого камня и кирпича. Работы этого рода продолжались до половины февраля. С половины мая началась перевозка провианта и фуража. Перестройки начались ещё в апреле, и скоро Вознесенска нельзя было узнать: образовался хорошенький городок с улицами, обсаженными деревьями и садами, выросший как бы по мановению волшебной палочки. Дом, где жил корпусной командир, превращен был в маленький дворец с прекрасным садом. Из манежа с прилегающими конюшнями было сделано помещение для бала с огромным залом, гостиными и пр. Зал был украшен по стенам оружием и военной арматурой, помещенными между зеленью роскошных растений. Канделябрами служили стволы пистолетов и ружей, расположенных звездами и украшенных вензелями государя и государыни из цветов и зелени. Выстроен был также театр с тремя ярусами лож. Одна из конюшен была превращена в роскошный буфет с несколькими залами. Квартиры для гостей были вполне меблированы и снабжены всем необходимым. Чтобы показать хозяйство поселян с наиболее выгодной стороны, ко времени царского проезда, к почтовой дороге сгоняли скот из разных сел, самих же поселян заставляли производить около дороги сельские работы при помощи особых плугов и других хозяйственных орудий, обыкновенно хранившихся в волостях».
Что и говорить, объём работ, выполненных с осени 1836 года до августа 1837 года, был поистине грандиозен. При этом из государственной казны на организацию приёма многочисленных гостей и на проведение самих маневров де Витт не взял ни копейки! Всё было сделано исключительно за счёт изысканных местных средств. Уже одно это говорит о незаурядных качествах генерала как организатора и администратора. Факт показухи (с придорожными работами поселенцев), разумеется, тоже был, как, впрочем, и на всех парадных мероприятиях со времен Рюрика до наших дней. Винить за это Витта не следует, он играл по установленным правилам.
Заметим, что и реконструкция целого города, и масса иных сопутствующих вопросов, которые необходимо было решать де Витту, носили хоть и важный, но всё же вспомогательный характер. Главной же задачей на предстоящих маневрах должна была стать высочайшая обученность и слаженность вверенных и приданных ему войск. При этом предстояло осуществлять одновременные маневры десятков тысяч всадников. Всё это могло быть достигнуто усиленными тренировками и ученьями. И за это отвечал также Витт.
Обратимся к хронике тех событий: «За несколько дней до приезда государя войска собрались под Вознесенском в лагере, который тянулся на протяжении восьми верст. Кавалерии было 350 эскадронов, пехоты — 30 батальонов. Со всех концов Европы съехались гости. Здесь были представители Австрии, Пруссии, Баварии, Швеции, Англии и даже Турции. Из Одессы и окрестностей были приглашены дамы. 17 августа приехал государь. В тот же день осматривал войска, и остался очень доволен. Смотры продолжались и в следующие дни. 23-го в 6 часу утра государь произвел тревогу. Через полчаса все войска собрались в назначенном пункте. Государь остался доволен быстротой, с какой войска прибыли на сборный пункт. Манёвры продолжались до часу, после его войска были отпущены, но почти немедленно государь, желая показать иностранным гостям выносливость своей кавалерии, снова дал сигнал к сбору и продолжил маневры ещё 4 часа. Тревога эта очень утомила войска…»
На смотре присутствовал старый соратник и друг де Витта генерал от кавалерии А.И. Чернышев, ставший к тому времени уже военным министром.
Ну а чем же занимался в это время де Витт? Предоставим слово очевидцу тех событий: «Витт опоздал к началу маневров и Николай Павлович после подтрунивал над ним, что он в благодарность за угощение приготовил ему сюрприз, только не знает, угодил ли этим сюрпризом. “Вот каких ты нажил беспокойных гостей, — шутил государь, — которые тебя, только и знай, что тревожат!” Действительно положение Витта было очень трудное: с одной стороны, приходилось хлопотать о гостях, с другой — командовать войсками на смотрах и маневрах…»
А вот воспоминание о Вознесенских маневрах будущего генерала Н.Н. Муравьева-Карского, который, будучи братом сразу трёх декабристов и сам замешанный в масонских делах, относился к генералу де Витту предельно отрицательно: «Граф Витт служил вчера забавою. Ему велено было командовать всеми поворотами ординарцев, на что у него недоставало ни сил, ни голосу… Старик был пешком. Он бросился вперёд бегом, но не мог отойти дальше 100 шагов, как у него замерли и слова, и голос, и слух. Никто не смел явно смеяться, государь сказал, что граф Витт по старости начинает уже глохнуть, а он остался один на поле, навлекая на себя всеобщее внимание странными телодвижениями и всяческими кривляньями, имеющими цель выразить принимаемое им участие в успехах». Отбросив в сторону явную тенденциозность Н.Н. Муравьева, видно, что во время маневров де Витту приходилось предельно сложно и он находился на грани физического и нервного истощения.
24 августа в Вознесенск прибыла супруга Николая I Александра Федоровна с великой княжной Марией Николаевной. Тут же де Витту было поручено, помимо всего прочего, лично опекать их.
25 августа был проведён парад всей кавалерии, всех 350 эскадронов. Руководил парадом де Витт. Император во главе конницы проскакал церемониальным маршем мимо своей супруги. На следующий день был смотр пехоты, которую представлял опять же де Витт.
Из записок графа А.Х. Бенкендорфа, который оставил после себя воспоминания Николая I о путешествии на юг со своими комментариями: «…Прерву на минуту рассказ государя, чтобы объяснить цель его приезда в Вознесенск. На огромной тамошней равнине, орошаемой Бугом, предназначен был сбор колоссальных масс кавалерии. 1-й, 2-й и 3-й кавалерийские корпуса, сводный корпус из двух дивизий, принадлежавших к пехотным корпусам, дивизия из 40 эскадронов, образованных из бессрочно-отпускных восьми соседних губерний, и резервные эскадроны всей кавалерии собраны и расположены были с принадлежащею к ним артиллериею в окрестностях Вознесенска.
К кавалерии ещё присоединились 12 резервных батальонов 5-го корпуса и 16 батальонов с 3-мя батареями артиллерии, составленных из бессрочных тех же восьми губерний.
Неусыпными трудами графа Витта местечко Вознесенск, дотоле лишь штаб-квартира одного из кирасирских полков, было менее чем в год превращено в настоящий город, с дворцом для царской фамилии, обширным садом, театром, около двух десятков больших домов для знатных особ и до полутораста меньших для свиты и для приглашенных на этот смотр генералов и офицеров. Тут было соединено всё, что только могло потребоваться для комфорта и даже для утонченной роскоши. Меблировка дворца представляла образец лучшего вкуса, и из Одессы и Киева были выписаны торговцы всех родов и лучшие рестораторы. Для гостей было приготовлено до 200 экипажей и 400 верховых лошадей. Прибавлю, что все здания были каменные и построены чрезвычайно прочно. Всё имело вид настоящего волшебства!
Зрителями явились в Вознесенск: из своих, кроме императрицы, наследника, великого князя Михаила Павловича с супругою и великой княжны Марии Николаевны, множество корпусных и дивизионных командиров из всей армии, несколько гвардейских генералов и почти все генерал- и флигель-адъютанты; из иностранцев: австрийский эрцгерцог Иоганн; прусские принцы Август и Адальберт; принц Фридрих Виртембергский; герцог Бернгард Веймарский со своим сыном; герцог Лейхтенбергский из Баварии; австрийский посол, граф Фикельмон, и генералы австрийские: князь Виндишгрец и Гаммерштейн с 24-мя офицерами, и прусские: Натцмер и Бирнер с 8-ю офицерами, английский генерал Арбутнот, два датских офицера и от султана Мушир-Ахмет-паша с 6-ю офицерами.
Все эти господа приезжали постепенно, и для них всех достало помещений, экипажей и лошадей. Этот огромный военный сбор сильно занял чужестранные журналы и навел беспокойство на кабинеты парижский и лондонский, при вечной их подозрительности к России. Австрия и Пруссия, хотя им ближе были известны планы нашего правительства, тоже, однако, остались не совсем довольны показом с нашей стороны таких сил и, в завистливости своей, всячески старались уверить и себя и других, что тут гораздо менее войска, чем утверждают, и что, притом, оно дурно обучено.
Одна Турция, вполне доверяя императору Николаю, как своему благодетелю и спасителю, не обнаруживала никакого неудовольствия против такого чрезвычайного сбора войск близ её границ, а посол султана, с многочисленною своею свитою, видел для Оттоманской Порты в развитии наших военных сил скорее оплот, нежели какую-либо опасность.
“Я не утерпел, — продолжал государь, — чтобы не взглянуть на собранные войска тотчас же по прибытии, и на следующее утро был уже среди них. Бесконечная долина казалась нарочно созданною для совокупления на ней такой огромной силы, и не могу вам выразить, что я чувствовал, подъехав к ней. 350 эскадронов со 144-мя конными орудиями, вытянутые в пять линий, представляли зрелище такое величественное и новое, что первою моею мыслью было возблагодарить вместе с ними Бога! Поразительно было смотреть на громадную массу всадников, обнаживших головы для молитвы. В эту минуту я гордился принадлежать им и быть их начальником. После молебствия войска прошли передо мною церемониальным маршем; всё блистало красотою и выправкою: люди, лошади, обмундировка, сбруя, всё казалось вылитым по одному образцу. Я вполне наслаждался, и виденное тут превзошло мои ожидания. Дух этого войска тоже превосходный, потому что такого блестящего состояния можно достигнуть только ревностным и совокупным усердием начальников и солдат. Они приняли меня с восторгом, выражавшимся на всех лицах. Мне уже не было причины сомневаться относительно впечатления, которое этот сбор войск произведёт на иностранцев. 19-го августа я смотрел пехоту, и она хороша, а батальоны бессрочных — превосходны.
На другой день я делал манёвры всей кавалерии и боялся, что её числительность меня затруднит, но люди так хорошо выучены, а начальники так внимательны, что всё шло в совершенстве.
После обеда я осматривал госпитали, устроенные по случаю сбора такой массы людей в одном месте; найденный в них порядок не оставлял ничего желать лучшего. Впоследствии было немало больных глазами, от пыли и жары.
21-го августа драгунские дивизии и артиллерийские батареи производили в моем присутствии стрельбу в цель. Видно, что они над этим порядочно поработали: мишени были все расстреляны. 22-го августа, в день моей коронации, я слушал обедню в пехотном лагере, а после обеда мне показывали конские заводы поселенных полков. Кобылы хороши, и есть несколько замечательных жеребцов; только в породе для кирасир остается ещё желать улучшения.
23-го августа, в 8-мь часов утра, сидя у эрцгерцога Иоганна, я велел ударить тревогу, и менее чем в полчаса всё было в строю и под ружьем.
27-го августа, рано утром я выехал навстречу к императрице, с которою и вернулся в Вознесенск. Нас встретили перед городом, верхами, все генералы и штаб-офицеры, как из числа гостей, так и принадлежавшие к войскам, расположенным в лагере, что составило огромнейшую свиту. Ночью приехал и старший мой сын, прямо из Сибири. Вы можете себе представить, как я рад был с ним увидеться. Саша много выиграл от этой поездки и совершенно возмужал.
Жена моя присутствовала при большом параде, который удался ещё лучше первого, сделанного мною в виде репетиции. Иностранцы были изумлены красотою и выправкою наших войск, которые могли поспорить с гвардиею, а в отношении к подбору и выездке лошадей ещё чуть ли не стояли выше её. Потом были у нас учения и маневры”.
Государь рассказал их во всей подробности и при этом обнаружил удивительную память, передав все их частности.
“Наконец, пришлось расстаться с Вознесенском, где в продолжение двух недель я испытывал одни наслаждения; признаюсь, что расставание с этим прекрасным и добрым войском мне было очень тяжело…”».
Из хроники событий Вознесенских маневров: «Маневры и смотры сменялись балами, праздниками с фейерверками и пением кантонистов, спектаклями в театре, где играла французская труппа из Киева и русская. Витт устроил для государыни особенную линейку с колоннами, убранную живыми цветами и балдахином из красного бархата, украшенным золотыми бахромой, шнуром и кистями и увенчанным золотой короной. В линейку запрягли две пары волов с позолоченными рогами. Возница был в богатом малороссийском наряде. Витт сопровождал императрицу верхом. Государь смотрел на это оригинальное катание с балкона и очень смеялся. 30 августа состоялся большой бал в нарочно приготовленном для этого помещении, причём обязанности хозяйки исполняли сестра Витта, графиня Потоцкая и графиня Воронцова. Торжества закончились балом, данным государыней 3 сентября для избранных, после чего последовал отъезд высоких гостей в Одессу».
Относительно пребывания Николая I в Вознесенске рассказывают следующий анекдот. Во время кавалерийских маневров одной из сторон командовал де Витт, а второй — сам император. В какой-то момент войска де Витта без видимых причин якобы начали отступать перед войсками императора. На недоуменный вопрос императора, почему де Витт отступает, бывший рядом генерал Еромолов ответил: «Он, ваше величество принял сражение за настоящее!» Было ли всё именно так, сегодня сказать трудно. Но то, что самолюбивый, склонный к интригам (вспомним интриги Еромолова против Кутузова и Барклая-де-Толли в 1812 году!), да к тому же ещё и опальный Ермолов откровенно завидовал де Витту (с которым он стоял у истоков создания военных поселений), это факт. Так что нет ничего странного, что злой на язык Ермолов воспользовался случаем, чтобы попытаться хоть как-то опорочить де Витта в глазах Николая I.
На Ермолова ссылаются историки и относительно другого анекдота, связанного с Вознесенскими маневрами: «Граф Витт, желая ознаменовать пребывание государя Николая Павловича в Вознесенске, устроил иллюминацию и над своим домом поместил щит с буквам “Н.А.” (Н. — это вензель Николая Первого, А. — его супруги Александры Федоровны. — В.Ш.). А.П. Ермолов по этому случаю сказал следующее: “Как тонко генерал Витт намекает государю, что ему надо аренду”. Разумеется, что де Витт ни на какую аренду не намекал (денег у него и своих хватало с избытком!), но уж очень хотелось Ермолову ещё раз унизить пользовавшегося расположением царя генерала. Но Бог с ними, с недоброжелателями!
3 сентября 1837 года Николай I лично вручил Ивану Осиповичу де Витту алмазные знаки ордена Святого Андрея Первозванного и 300 тысяч рублей «за примерную деятельность и неусыпные труды в доведении до превосходного устройства во всех отношениях войск, находившихся в сборе при городе Вознесенске».
Что и говорить, собранные им под Вознесенском 350 эскадронов «поселенной кавалерии» показали себя достойно. Думаю, что Вознесенские маневры стали вершиной таланта де Витта как администратора и организатора. Император Николай делал большую ставку на зрелищность и отработанность грандиозных Вознесенских маневров, которые должны были остудить пыл противников России в Европе. Это дело он доверил де Витту, и тот не подвёл. Думаю, что по своим политическим последствиям Вознесенские маневры имели значение не меньшее, чем выигранное генеральное сражение.
После завершения мероприятий в Вознесенске император отправляется в Одессу. По просьбе Николая де Витт сопровождал его в поездке. Это был знак высочайшего расположения к генералу. Из Одессы император, в сопровождении де Витта, переехал в Севастополь, где ознакомился с положением дел на Черноморском флоте, а затем по приглашению графа Воронцова отправился отдохнуть на южный берег Крыма.
Из записок императора Николая I: «…Простившись со всеми и поблагодарив графа Витта, который в этом случае выказался истинным волшебником, я 4-го сентября, в полдень, выехал в Николаев, а жена с Мери (дочь Николая Мария Николаевна. — В.Ш.) отправились прямо в Одессу…»
В Одессе произошло ещё одно достаточно любопытное событие, невольным свидетелем и участником которого стал де Витт. В честь приезда императора граф Воронцов назначил бал, который и открыл император с супругой. В разгар бала Николай заметил стоявшую в отдалении сестру де Витта Ольгу Потоцкую. Так как император по этикету не мог просто так подойти и пригласить даму на танец, он послал к Потоцкой адъютанта с тем, чтобы тот от его имени пригласил графиню. Случился казус: то ли приказ был отдан не слишком понятно, то ли адъютант что-то не дослышал, но он вместо того, чтобы подвести даму к императору и передать из рук в руки, сказал, чтобы та сама шла и пригласила императора на тур вальса. Это было весьма бестактно. Потоцкая стушевалась, а вышедший из себя Николай крикнул на весь зал незадачливому адъютанту: «Дурак!» В одно мгновение в зале повисла тишина. Нерастерявшийся де Витт немедленно подошёл к императрице и пригласил её на тур вальса. Музыка вновь заиграла. Увидев танцующую супругу, Николай, наплевав на все этикеты, прошел через зал к растерявшейся Потоцкой пригласил её на танец. Инцидент был исчерпан.
Отметим, что 17 сентября император остановился в Ореанде у де Витта. Разумеется, граф сделал всё возможное для достойного приема столь высокого гостя. Очевидцы характеризовали его как «роскошный». Один из них вспоминал: «Неумолчно играла музыка, с гор стреляли из пушек. Вечером скалы были иллюминированы разноцветными шкаликами, на вершинах гор были поставлены горящие смоляные бочки. Праздненство закончилось фейерверком».
То, что Николай остановился ночевать именно у де Витта, следует считать как ещё одну награду генералу за блестящую организацию и проведение грандиозных манёвров. Затем Николай отправился в Алупку к Воронцову, у которого гостил целых две недели.
Тогда же Николай подарил Ореанду своей супруге Александре Федоровне. Судя по гравюрам XIX века, она с самого начала была задумана не как экономическое имение, а как место летнего отдыха среди прекрасной природы. Не случайно в течение нескольких лет это имение называлось «Ореандским собственно Ея Императорского Величества садом». Его управляющий Александр Васильевич Ашер (его собственные небольшие земли находились в районе нижней Ореанды) большое внимание уделял развитию парка в Ореанде. В течение весны 1837 года выписывали и получали из Риги из большого «Ботанического заведения Карла Вагнера» саженцы деревьев и рассаду цветов. Несколько разновидностей магнолий, 22 вида георгин, туберозы, анемоны, камелии, пеларгонии, фиалки, портулак и много других цветов было высажено в то время в парке. Ашер просил разрешения у Воронцова для развития парка устроить «школу» для каштанов и других кустарников. Воронцов отводит ему участок, предупреждая при этом, что от парка для этих целей можно взять лишь немного земли.
17 сентября он подписал указ кабинету Императорского Двора: «Принадлежащее мне на Южном береге Крымского полуострова имение Ореанду, со всеми строениями и угодьями даруя любезнейшей супруге нашей Императрице Александре Федоровне, повелеваю считать собственностью Ея Императорского Величества».
Царскую чету Воронцов принимал в своем дворце в Алупке. Николай I пробыл в Алупке с 16 по 19 сентября и, как описывал один из сопровождающих его приближенных, С.В. Сафонов, «Его Императорское Величество остался чрезвычайно доволен всем, им найденным в Крыму, и выразил это в рескрипте, данном на имя достойного правителя Новороссийского края, графа Воронцова». Александра Федоровна оставалась в Алупке до 30 сентября. В один из погожих дней, 27 сентября, «Ея Императорское Величество изволила долго прогуливаться верхом и посетила принадлежавшую ей Ореанду. Воздух был тёпел, море было тихо и покойно». 30 сентября, покидая южный берег Крыма, императрица снова посетила Ореанду. Она и великая княжна Мария Николаевна «изволили поехать верхом на довольно возвышенное место, откуда видна вся Ореанда, Ялтинская долина и весь берег между мысом Ай-Тодор и горою Аю-Даг. Эта скала составлена из многих отдельных скал и покрыта можжевеловыми деревьями. Среди этих скал Ея Императорское Величество изволила собственноручно посадить лавровое дерево и потом долго работала с великой княжной, графом и графинею Воронцовыми, засыпая дерево землею».
Уезжая из Алупки, императрица Александра Федоровна оставила письмо: «С чувством искреннего сожаления оставляю прелестную Алупку, которую никогда не забуду, равно как и её обитателей, оказавших нам более, нежели любезный приём. Увижу ли я когда-нибудь этот возлюбленный берег? Вот вопрос, естественно, представляющийся при расставании с местами и странами, неизгладимыми чертами врезавшимися в память. Почему Черное море так далеко от Балтийского?»
Вскоре после Вознесенских маневров де Витт, выбрав удобную минуту, обратился к Николаю с просьбой об устройстве своего любимца Адама Ржевусского. Николай был в хорошем настроении и тут же назначил графа Адама своим флигель-адъютантом, а ещё через три месяца он был переведен подполковником в Ахтырский гусарский полк, с оставлением в звании флигель-адъютанта. Уже через год граф Ржевусский был произведён в полковники и вскоре получил в командование Малороссийский кирасирский (впоследствии драгунский) полк. Милости меж тем продолжались. В следующем году он был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени, Станислава 2-й степени и прусским Красного креста. Карьера складывалась головокружительной. Однако едва Ржевусский вышел из-под опеки де Витта, его ждала большая неприятность.
В 1839 году при переходе Малороссийского кирасирского полка в Калиш на маневры солдаты не только вымогали у жителей деньги на выпивку и закуску, но и устроили настоящий погром, в ходе которого погиб один из жителей. Жители Дубно принесли жалобу на чинимые насилия, дело дошло до императора, и началось разбирательство, которое тянулось около четырех лет. Николай был взбешен бесчинствами кирасиров, и никакое заступничество де Витта уже помочь не могло. Ввиду предстоявшего неблагоприятного исхода Адам Ржевусский просил об увольнении его в продолжительный отпуск, просьба была исполнена, и, сдав полк, он был отчислен в отставку. В октябре 1839 года, по всеподданейшему докладу генерал-аудиториата о следствии по жалобе жителей города Дубно, последовало Высочайшее повеление: «Флигель-адъютанта полковника графа Ржевусского, за допущенные непростительные беспорядки, арестовать домашним арестом на трое суток, с объявлением, что единственно во уважение прежней и нынешней отличной службы строже не наказывается». Наказание было, в общем-то, пустячным, возможно, вновь сказалась помощь де Витта. Последнее, что мог сделать для своего бывшего адъютанта генерал, так это добиться восстановления его в должности флигель-адъютанта при императоре. К этому времени Николай уже остыл и простил Ржевусского.
СУДЬБА КАРОЛИНЫ
После разрыва с де Виттом Каролина Собаньская и Степан Чиркович, как мы уже говорили, некоторое время жили в доме Голицыной, который после её смерти перешёл к дочери знаменитой Юлии Крюденер — баронессе Беркгейм. Дело в том, что поначалу под идейное влияние Голициной попал Чиркович. Что касается Каролины, то она приобщилась к голицынским фантазиям через него, причем весьма быстро усвоила условный язык секты. Голицына была восхищена своими новыми адептами и стремилась — в благодарность — устроить их жизнь.
Отметим, что Каролина в эту нелегкую пору своей жизни не утратила своей красоты и обаяния. Брат княгини А.С. Голицыной, Н.С. Всеволожский, встретивший в эту пору у сестры Собаньскую, писал о ней: «Редко встречал я женщин, столь прелестных во всех отношениях».
Что поддерживало Собаньскую в эти годы? На этот счёт можно ответить однозначно — любовь Чирковича. Об этом писала в своих письмах сама Каролина. Так, в одном из писем к Голицыной и её приятельнице баронессе Беркгейм она пишет: «Я убеждена, что Бог в бесконечном милосердии к каждому из своих чад хотел для меня этого союза: он был необходим для моей натуры, которая не может обойтись без руководителя и неизбежной поддержки в свободном, независимом положении, каково моё, натуры, которая не сумела бы воспользоваться своей волей иначе, чем во вред самой себе; он был необходим, чтобы обеспечить мою старость хлебом насущным, необходим, чтобы защитить меня против людей и самой себя, необходим также, чтобы заставить меня потерять привычку к счастию и ласке, все более и более расслаблявшую мою природную изнеженность. Моё пребывание подле вас обеих было последней главой моего полного счастья. Будьте же благословенны за это, как и за все другие благодеяния, которыми вы осыпали мою жизнь.
Молю Бога внести их в книгу живота и отплатить вам радостью и вечным блаженством. К небу поднимаются глаза мои, чтобы молить его обеспечить и вознаградить вас полностью; вас, которых он выбрал, чтобы меня спасти, защитить, любить, помогать мне, такой бедной, слабой, одинокой!
Ныне развернулась передо мной вся серьёзность жизни; мой муж добродетельный человек, честный во всём значении этого слова; но серьёзность его характера и строгость его правил отражаются на всем, что составляет жизнь; мой муж, впрочем, сопровождал меня в мои безумные и светские годы, и он требует во всех моих привычках перемены, которая обеспечит мне его уважение. Я должна работать, чтобы добиться этого уважения, и это накладывает на меня тысячу обязанностей, которым временами противится моя дурная природа, хотя мой рассудок их всегда одобряет. Серьёзность моего мужа беспокоит многих в отношении моего счастья, но это такой достойный человек, настолько проникнутый идеей долга, что я уверена, что моё счастье будет зависеть только от меня, моего рассудка, моего послушания воле, которая всегда будет стремиться к тому, что для меня хорошо».
Увы, надежды Собаньской на то, что Чиркович обеспечит ей хлеб насущный, не оправдались. Как ни старались её приятельницы выхлопотать отставному капитану какую-нибудь службу, четыре года оставался он без места. Трудно утверждать, но можно предположить, что Чиркович не мог найти себе места службы из-за противодействия де Витта. Если это так, то значит, де Витт был глубоко оскорблен связью Каролины со своим бывшим адъютантом. Как знать, может быть, именно в этой связи и была причина разрыва генерала с польской красавицей?
Только в 1841 году, вскоре после смерти де Витта, Чиркович наконец-то был зачислен в штат новороссийского и бессарабского генерал-губернатора графа Воронцова чиновником по особым поручениям, получил чин полковника, а в 1845 году занял весьма достойную должность бессарабского вице-губернатора. Однако послужить на столь высоком посту ему довелось недолго. Уже в 1846 году Чиркович тяжело заболевает, выходит в отставку и в том же году умирает. Надежды Собаньской на спокойную и обеспеченную старость снова не оправдываются.
После смерти Чирковича Собаньская некоторое время гостит в украинском имении своей сестры Эвелины Ганской. Более в России Собаньскую уже ничего не держит. Каролина навсегда покидает империю и обосновывается в Париже. Бальзак, ставший мужем Ганской, относился к Каролине с резкой антипатией: «Твоя сестра Кар(олина) безумица, и это — лицемерная безумица, худшая из всех». Возможно, великий знаток женской души сумел раскусить Собаньскую, возможно, он просто не испытывал удовольствия от общения с родственницами своей жены, которые прибыли во Францию вслед за ней.
Последние сорок лет своей жизни Собаньская провела в Париже. Первые годы, по-прежнему очаровательная и остроумная, она привлекала к себе внимание мужчин, пользовалась большим успехом в литературном мире французской столицы, где в 1850 году и нашла себе нового мужа — на этот раз достаточно известного французского писателя и драматурга Жюля Лакруа, который был почти на четырнадцать лет её младше. Есть легенда, что до этого Каролина полностью очаровала известного французского критика Ш. Сент-Бёва, и даже чуть было не вышла за него замуж.
С момента нового замужества блистательная Каролина Собаньская исчезает из светской жизни навсегда. Вместо неё появляется Каролина Лакруа. Впрочем, мадам Лакруа остается верной себе и, как только позволяют средства, открывает блестящий салон на улице Сент-Оноре.
Племянница Каролины Анна Мнишек (единственная выжившая из пяти детей её сестры Эвелины Ганской) впоследствии вспоминала: «Тетя Каролина обедала у Раковских. Она ослепительно прекрасна. Я не думаю, чтобы она была когда-то красивее, чем сейчас. Быть может, это лебединая песня её красоты, но существует и такая красота, которая никогда не исчезает». У мадам Лакруа собирается цвет французского литературного общества.
Среди гостей салона мадам Лакруа нередко появлялся уже немолодой Адам Мицкевич. Не вспоминали ли они в своих беседах Пушкина, которому Мицкевич посвятил некролог и подписался как друг Пушкина. Заметим, что после смерти Пушкина возник было слух, будто Мицкевич в Париже ищет Дантеса, чтобы вызвать его на дуэль и отомстить за друга. Слух этот не подтвердился… После смерти Мицкевича частым гостем Каролины стали биографы поэта, которым она рассказывала историю своих отношений с покойным.
Свет на парижский период жизни Каролины частично проливает публикация, появившаяся много ранее во французском научном периодическом издании «Этюд бальзасьенн», ксерокопия которой в своё время была любезно прислана нам журналисткой Кристиной Ревюз. Публикация озаглавлена «Необычная судьба. Каролина Собаньская — свояченица Бальзака». Публикация состоит из двух частей. Первая, написанная Грегуаром Алексинским, основана на советских изданиях. Во второй, принадлежащей перу Роже Пьерро, обильно цитируются письма Мармона, переписанные в дневнике Собаньской. Там же приводятся выдержки из писем Бальзака Ганской, касающиеся Каролины, и документов французских архивов, позволяющие уточнить даты жизни Собаньской.
Биограф Эвелины Ганской Мария Залюбовская так пишет о пребывании Каролины в Париже: «В салоне Ржевусской-Собаньской-Лакруа на улице Сент-Оноре сидели два гения рядом. Они выглядели как люди разных эпох, хотя были ровесниками. Один, Адам Мицкевич — с лицом, изрытым следами слишком явных страданий; другой, Оноре де Бальзак — плотный, с грубо вытесанным лицом, похожий скорее на трактирщика, чем на литератора. Мадам Лакруа, обладая литературными амбициями, направляла беседу. Возможно, она говорила о своем брате Генрике Ржевусском, получившем должность чиновника по особым поручениям при наместнике Царства Польского и выпускавшем газету “Варшавский дневник” на французский манер. Возможно, литераторы обсуждали его книгу “Смесь”, в которой Генрик Ржевусский защищал старый порядок в Польше, видя в персоне царя главный устой феодализма и первейшую защиту против революций. Возможно, говорили о благороднейшем изгнаннике, свято верном Мицкевичу Исидоре Собаньском, позже на похоронах которого польский поэт жарко плакал.
Бальзак относился к Каролине с резкой антипатией: “Это лицемерная безумица, худшая из всех”. С иронией он отзывался и о литературном салоне: “Прежде всего, вы входите в салон, где шумно беседуют мужчины с высокими лбами и женщины, которые кажутся забытыми на земле ангелами. Почитайте себя счастливым, если вы не натворили уже трёх глупостей, представившись хозяйке дома, следящей за порядком чтения; поздоровавшись со знакомой дамой, которая устремила на вас неподвижный взор, и ответив “А? Что?”, рассеянному поэту, который повторял свои стихи, шепча их вам на ухо”. И вообще Бальзак считал Париж раем для женщин, чистилищем для мужчин и адом для лошадей.
Как и все влюбленные в Каролину мужчины, Жюль Лакруа посвятил ей сонет, открывавший сборник его стихов “Скверный год”. А когда супруг ослеп, Каролина ухаживала за ним 13 лет. Перед своей смертью она призналась мужу, что скрыла от него свои года — она была на 15 лет старше него. В предсмертном письме Жюлю Лакруа она писала: “…о да, с тобой я была самая счастливая из женщин. Ты был моей любовью, моим счастьем, моей совестью, моей жизнью…” Возможно, в эти последние слова она вложила своё отношение к мужчинам, встретившимся на её большом жизненном пути. В дневниках Собаньской, хранящихся в архивном фонде Жюля Лакруа, которые она вела, то на польском, то на французском, — много имен, но о Пушкине нет даже упоминания. Почему Каролина хранила в тайне свои взаимоотношения с Пушкиным? Не верила в любовь ветреного поэта или оберегала его честь и доброе имя?»
Обращает внимание полная противоположность отношения Мармона и Бальзака к Собаньской. Если старый маршал пребывал в полном восторге от красавицы польки, то великий писатель писал о ней всегда в резко отрицательном тоне. Но такова была эта женщина, никого не оставлявшая равнодушным, вызывавшая не только при жизни, но и после смерти самые разноречивые и крайние суждения.
В 1872 году Лакруа выпустил сборник стихов «L’annee infame», первый сонет которого посвящен обожаемой им жене. Таким образом, Каролина была в последний раз воспета поэтом в возрасте восьмидесяти лет.
Впрочем, пушкиновед Фридкин в своем исследовании о Собаньской приводит свой разговор с некой Надеждой Воронцовой-Бэр, ведущей своё происхождение вроде бы от самого Пушкина.
«Фридкин: А вам не попались на глаза письма Каролины к брату её мужа, Полю Лакруа?
Воронцова-Бэр: Нет, мне кажется, этих писем я не видела… Впрочем, отец рассказывал, что, читая эти письма, он вынес убеждение: Каролина обманывала слепого мужа. Она была любовницей его брата…»
Одним словом, клейма ставить некуда! Отметим, однако, что муж Каролины Жюль потерял зрение в 1871 году. Тогда Каролине Собаньской минуло уже 80 лет. Что и говорить, самое время, чтобы завести себе любовника! Признаюсь, что именно за такие неожиданные выверты я и люблю наших находчивых пушкиноведов, вот уж воистину у кого горе от ума! Увы, но в фанатичном желании найти сенсацию господа профессора весьма часто теряют не только чувство реальности, но и чувство элементарного приличия. Бог им судья!
Из воспоминаний компаньонки княгини Голицыной Марии Сударевой: «Впоследствии, по смерти Чирковича (а произошло это в году 1846-м), Каролина Собаньская оставила пределы нашей империи и перебралась в Париж, давно уже её манивший. Говорят, что она едва не заполучила в супруги знаменитого критика Сент-Бёва. Но замуж Каролина вышла за французского литератора Жюля Лакруа (он, кстати, на четырнадцать лет её моложе). Может быть, сей Лакруа и не так уж широко известен, но я всегда с наслаждением читаю его романы, пьесы и стихи.
Да, один свой поэтический сборник, сказывают, он посвятил Каролине, божественной своей Каролине, гениальной интриганке и бесподобной красавице, даме изобретательно хитрой, необыкновенно страстной и исключительно коварной; я бы даже, завидуя, сказала так: гениально-коварной. Между прочим, брат Жюля Лакруа Поль — тоже литератор (он пишет под псевдонимом “библиофил Жакоб”), и он посвятил Каролине целый труд свой о баронессе Крюденер. Сию баронессу я отлично помню: она была ближайшей подругой и наставницей княгини Голицыной. Сказывают, что “библиофил Жакоб” был многолетним любовником Каролины. Я не раз слышала, что Каролина Собаньская увезла с собою в Париж, помимо горстки фамильных бриллиантов (она, надо сказать, хотя и чрезвычайно родовита, но при этом довольно-таки бедна и долгие годы, утверждают, находилась на содержании российской тайной полиции и лично генерала Осипа Витта, мерзавца из мерзавцев), целый баул с документами и всякого рода историческими раритетами. И сии раритеты имеют самое непосредственное отношение не только к России и Польше, но и к Франции предреволюционной эпохи. Совершенно очевидно: там находилось и то, что Каролина в своё время получила в дар от княгини Анны Сергеевны Голицыной, своей кореизской благодетельницы. При этом у меня нет никаких сомнений в следующем.
Каролина Собаньская вообще отличалась страстью к собирательству письменных раритетов. К концу жизни она сумела собрать автографы почти всех знаменитостей своей эпохи от государственных деятелей до поэтов. Там были автографы императора Александра I, прусского короля Фридриха II, польского короля Станислава Августа, герцога Веллингтона, письма Жермены де Сталь, Рене де Шатобриана, Бенжамена Констана, Виктора Гюго, Александра Дюма, Сент-Бёва, Эжена Сю, Проспера Мериме, Франца Листа… Некоторые письма, в том числе Бальзака, Мицкевича, бывшего наполеоновского маршала Мармона, адресованы самой Собаньской. Под порядковым номером “41” вклеен лист с самой ценной рукописью, предваряемой надписью по-французски: “Александр Пушкин” и “К. Собаньской, урожденной Гр-не Ржевусской”. Это единственный дошедший до нас собственноручно написанный Пушкиным текст стихотворения “Что в имени тебе моем?..”. Последнее “прости” от ушедшего в мир иной русского гения…
Именно в бумагах семейства Лакруа, полагаю, теперь и нужно искать разгадку исчезнувшего королевского ожерелья из 629-ти бриллиантов, которое так и не досталось королеве Марии-Антуанетте и вообще принесло множество бед всем, кто до него касался или хотя бы думал о нем.
И ещё меня не оставляет надежда, что Каролина Собаньская-Лакруа хотя бы в один из своих многочисленных альбомов внесла записи бесценных рассказов Анны Сергеевны Голицыной о графине Жанне де ла Мотт и об громком уголовном процессе, омрачившем последние годы правления несчастной королевской четы — Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты.
Но ежели этого вдруг по каким-то причинам и не было сделано, то уж непременно Каролина вклеила в альбомы подлинные бумаги, связанные со скандальным процессом графини де ла Мотт и графа Калиостро. А ежели Каролина не вклеила ничего в альбомы свои, то в любом случае она сии наиинтереснейшие бумаги непременно сохранила и просто не могла не сохранить. Не могла! Я просто убеждена в этом.
Вот хотя бы одним глазком взглянуть на дар, полученный Собаньскою от княгини Голицыной, дамы вздорной и сумасбродной, крутой на расправу, но при этом безмерно щедрой и отзывчивой! Хотя бы удалось взглянуть, дабы, наконец, можно было постигнуть до конца историю загадочной французской графини, вдруг неожиданно поселившейся на исходе царствования Государя Александра Павловича в Старом Крыму, сначала в голицынском Кореизе, а потом в имении “Артек”, тогда почти что пустынном!
Увы, ныне я вполне уже постигаю, что любопытство моё на сей счёт вряд ли будет в ближайшее время должным образом удовлетворено. Однако вместе с тем знаю я и то, что, конечно, неизбежно настанет пора, когда рукописные сокровища из собрания семейства Лакруа, оставаясь в пределах частной коллекции, станут всё-таки доступны для всеобщего обозрения. Во всяком случае, ученых мужей рано или поздно допустят до этих бесценных сокровищ, до этих исторических деликатесов.
Тогда-то тайна пропавшего за несколько лет до революции уникального королевского ожерелья, состоящего из 629-ти бриллиантов, и будет, наконец, окончательно и бесповоротно раскрыта, тогда-то она, слава Богу, и выплывет на свет божий!
Осознание сего обстоятельства, конечно, сильно успокаивает меня, но вместе с тем не могу не признаться: страсть, как хочется самой узнать правду, да видно не судьба!»
До конца дней вокруг Каролины роились самые нелепые слухи и сплетни. Представляю, как она от них устала к концу жизни! Но, увы, таков был её удел. Это была плата за насыщенные великими событиями и потрясающими встречами молодые годы. Есть время разбрасывать камни, и есть время их собирать. Судьба отпустила Каролине в избытке того и другого…
Незадолго до своей смерти она написала мужу письмо, которое велела прочесть ему после своей кончины. В этом прощальном письме есть такие слова: «О да, с тобой я была самая счастливая из женщин. Ты был моей любовью, моим счастьем, моей совестью, моей жизнью. Но смерть нас не разлучит…Я умру, обожая тебя, тебя благословляя. Заботься о себе ради любви ко мне». Наверное, любящая женщина лучше сказать и не сможет!
Через несколько месяцев, 16 июля 1885 года, Каролина Собаньская умерла. Жюль Лакруа выполнил волю своей жены и последовал за ней два года спустя. В течение всей жизни Каролину уличали в лицемерии, но, как известно, перед лицом вечности никогда не лгут. Увы, последние слова легендарной красавицы об обретенном ею счастье прозвучали уже с той стороны…
Смерть некогда первой красавицы в России никого не тронула. Каролина намного пережила свой век, и новое поколение уже совсем её не помнило. Кому какое дело было в России в 1885 году до умершей в Париже девяностолетней старухи? Однако прошло время, и о Собаньской снова вспомнили — слишком уж яркой была эта необычная женщина.
Что оставила после себя Каролина Собаньская, одна из самых загадочных женщин России XIX века? Несколько портретов, которые предположительно считаются принадлежащими ей. Романы с Пушкиным, Мицкевичем и де Виттом; пушкинские письма и несколько его стихотворений, одно из которых, «Что в имени тебе моем», навсегда вошло в классику русской поэтической лирики; черноморский курорт Каролино-Бугаз, расположенный в 60 километрах юго-западнее Одессы на песчаной косе между Черным морем, Днестровским лиманом и солеными озерами, названный в её честь. Много это или мало? Думаю, что много, ибо даже одной пушкинской строки с лихвой хватило бы на то, чтобы навеки обессмертить имя этой удивительной женщины. Что в имени тебе моем…
ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА ДЕ ВИТТА
Через два года после разрыва с Каролиной де Витт женился ещё раз. Его избранницей стала вдова его бывшего сослуживца Николая Петрищева Надежда Федоровна (в девичестве графиня Апраксина). Об этом браке нам известно крайне мало. Возможно, что просто встретились два одиноких человека и решили больше не расставаться. К этому времени Иван Осипович уже тяжело болел, и Надежде Федоровне досталась участь сиделки. Какими в точности были отношения между супругами, нам неизвестно. Судя по происхождению, графиня Апраксина была женщиной далеко не бедной и в её выборе всё же, думается, преобладали чувства, нежели расчет.
5 июля 1838 года де Витт отправляется на лечение за границу и возвращается 15 ноября. Вскоре он снова тяжело заболевает «горловой болезнью». Что это была за «горловая болезнь», мы не знаем, возможно, что рак горла. Современники отмечают, что, несмотря на то, что де Витту было на тот момент всего 58 лет, он казался более старым: был очень слаб и страдал сильной глухотой от старой контузии. Жена попросила разрешения на перевозку больного в Европу. Такое разрешение дали. 28 февраля 1838 года де Витт был уволен в четырехмесячный отпуск, который был затем ему продлен до 1 июня 1840 года. Из этого отпуска генералу уже не суждено будет вернуться. Лечение помогало ему мало, и состояние графа ухудшилось. Иван Осипович уже почти не вставал с кровати. Однако он мечтал вернуться в Россию, чтобы провести свои последние дни в столь обожаемой им Ореанде. Врачи понимают, что дни генерала сочтены, и они разрешают ему ехать в его любимый Крым. Супружеская чета де Виттов приезжает в Ореанду. Иван Осипович некоторое время живет, наслаждаясь покоем, теплом и морем. Но на счастливый исход надежд уже не остается и все с грустью ждут неминуемой развязки. 21 июня 1840 года генерал от кавалерии Иван Осипович де Витт тихо скончался в Ореанде. Было ему тогда всего пятьдесят девять лет.
По логике, тело генерала вполне могли забальзамировать и отвезти для погребения в Петербург или в одно из поместий умершего. Логично было бы вообще отвезти умершего генерала в Умань и похоронить на родовом кладбище Потоцких, где покоилась его мать, которую он очень любил. Но ничего подобного не произошло. Было принято неожиданное для окружающих решение о погребении генерала на кладбище Георгиевского монастыря. Отметим, что до той поры вообще никого из известных людей на территории Георгиевского монастыря не хоронили. Монастырское кладбище было последним прибежищем исключительно местных монахов. Захоронение Ивана Осиповича де Витта на монастырском кладбище положило начало традиции захоронения в Георгиевском монастыре видных политических и военных деятелей России, являвшихся ближайшими сотрудниками императора Александра I.
Почему же было принято столь необычное решение? Разумеется, есть вероятность, что покойного генерала просто погребли на ближайшем монастырском погосте, а таковым оказался погост Георгиевского монастыря. Но такое объяснение слишком просто, и к ситуации с де Витом не подходит. Слишком крупной была его фигура, чтобы погребать генерала на ближайшем кладбище. Напомним, что в ту пору умерших дворян хоронили почти всегда в их родовых поместьях.
Судьбы братьев и сестёр Ивана де Витта сложились по-разному. Любимец матери Александр получил в наследство Умань и парк «Софиевка». Впоследствии он выехал в Польшу, принимал участие в польском восстании, а после поражения эмигрировал в Италию. Всё его имущество было конфисковано. Де Витт пытался образумить младшего брата, призывая в письмах покаяться императору и получить от него прощение, а вместе с тем и восстановления в наследственных правах. Но «Софиевка» была изъята в пользу государства, и ничего из этого не получилось. До сих пор среди историков бытует мнение, что изъятую в пользу государства «Софиевку» Николай I впоследствии подарил своей супруге, после чего парк получил название «Царицын сад». Но это не так. В 1836 году парк был переподчинен управлению военных поселений. По иронии судьбы, он поступает в ведомство генерала Ивана Осиповича де Витта. Именно тогда и появляется название «Царицын сад», хотя никаких документов на предмет официального переименования до сих пор не найдено. Вероятно, это было инициативой самого графа. Мы не знаем, какими чувствами при этом он руководствовался. Хотя царица Александра Федоровна никогда не была хозяйкой «Софиевки», но название сада, который всегда восхищал посетителей своей действительно царской красотой, в её честь сохранилось надолго. Сам же Александр Потоцкий умер в возрасте 68 лет в Париже, не оставив после себя наследников.
София, как мы уже знаем, вышла замуж за генерала Киселева, с которым прожила несколько лет. После смерти малолетнего сына она развелась и больше замуж ни когда не выходила. Ольга, как мы тоже знаем, вышла замуж за Льва Нарышкина, жила и умерла в Париже, о её наследниках ничего не известно.
Младший из сыновей Софии де Витт-Потоцкой Болеслав жил в Немирове, занимался благотворительностью в области народного просвещения. Ничем особым себя не проявил. В отличие от де Витта остался католиком. Был женат на Марии Салтыковой-Головкиной. Имел дочь Марию. Дожил до глубокой старости и умер в конце 1893 года в Санкт-Петербурге.
Что касается осужденного за скандальную кражу фамильных драгоценностей Мечислава, то по неоднократным ходатайствам де Витта, спустя несколько лет, Александр I выпустил его из Петропавловской крепости, где он находился в одиночной камере. Умер Мечеслав глубоким стариком в Париже, оставив сыну своему Николаю 80 миллионов франков. Николай умер молодым, не оставив после себя детей.
Родослов семьи Потоцких дает нам историю дальнейших похождений непутевого брата де Витта, которые вовсе не ограничились похищением семейных драгоценностей: «Авантюрист и интриган, узник Шлиссельбурга, последний из Потоцких, владевший Тульчином. Был виновником громкого скандала. В 1828 году он из Одессы выкрал в Тульчин красавицу генеральшу Меллер-Закомельскую — фаворитку самого Николая I. Августейшая кара последовала мгновенно: Мечислава Потоцкого сослали в Воронеж. Уже через год он был освобожден, после обещания продать свои земли (и Тульчин) царю. Однако слова своего Потоцкий не сдержал, уехав в Париж. После возвращения из Франции, Мечислав снова женился, на сей раз на Эмилии Свейковской, но и этот брак оказался недоразумением. Супруга обратилась за помощью к властям, не имея сил терпеть авантюрный, полный адюльтеров способ жизни Мечислава. Его вновь арестовали и сослали… На сей раз изворотливый Потоцкий избавился от тюрьмы, приняв православие и поменяв имя на Михаил. После смерти Николая I он был амнистирован и получил разрешение на выезд за пределы империи и обосновался в Париже. Мечислав имел ясный ум, и большинство своих средств успел переправить во французские банки. Так что бедовать ему на чужбине не пришлось. Тем более, после того, как в 1869 году он продал Тульчин своей племяннице Марии Строгановой за 3 миллиона 430 тысяч франков».
На проходимце Мечиславе, собственно, и закончилась тульчинская линия рода Потоцких.
Во всех биографических справках об Иване де Витте говорится, что он не оставил после себя потомства. Однако в российской истории имя генерала де Витта ещё раз прозвучало во время Первой мировой войны на Кавказском фронте: «3 февраля 1917 года части генерала от инфантерии Владимира де Витта стремительным броском захватили хорошо укрепленный врагами населённый пункт Муш. Спустя две недели отряд генерал-лейтенанта Дзамболата Абациева вступил в Битлис, где взял на ура 20 орудий и 1,5 тыс. пленных. 18 числа того же месяца 1-й Кавказский Конный корпус начал наступление на Хамадан. Через пять дней означенный форт пал, открыв перед русскими возможность выхода к Ханекину, Керманшаху, Бирджану, Систану и Оманскому заливу». По-видимому, генерал от инфантерии Владимир де Витт был потомком ещё одной ветви этой старой голландско-польско-русской династии.
Однако вернемся к Ивану Осиповичу де Витту. Было ли насчет места захоронения какое-нибудь завещание самого де Витта? Я думаю, что решение о похоронах на кладбище Георгиевского монастыря принял сам де Витт. Генерал тяжело болел достаточно долгое время. По мере ухудшения состояния он начал загодя готовиться к неизбежной смерти. Это исторически доказанный факт. Именно в это время де Витт определяет наследника, которому перейдет в руки его любимая Ореадна. Своих детей, как мы знаем, у генерала не было. С приёмной дочерью от первого брака Изабеллой граф, скорее всего, теплых отношений не поддерживал. Ей он своё имение не завещал. Но и своей новой супруге Надежде Федоровне он Ореанду не оставил. Своей наследницей он неожиданно для всех выбирает…великую княгиню Елену Павловну, сестру царствующего императора Николая. Такой выбор может показаться странным, но только на первый взгляд. По мнению автора, именно в этом весьма странном завещании лежит ключ как к истинным причинам выбора Виттом места своего захоронения, так и к главной тайне Георгиевского монастыря.
Кто-то может сказать, что, определяя наследницей Ореанды великую княгиню Елену Павловну, де Витт заискивал перед Романовыми. Сомневаюсь! Когда человек готовится принять смерть, он уже не думает о сиюминутных выгодах, перед ним уже только вечность. Поэтому истинные причины для определения владелицей Ореанды именно великой княгини Елены Павловны были у де Витта иные. Однако великая княгиня всё же отклонила просьбу де Витта принять в дар Верхнюю Ореанду, так как считала, что это будет несправедливо по отношению к его наследникам. При этом Елена Павловна с удовольствием там отдыхала. Поэтому после смерти де Витта имение перешло к племяннице Софье. С ней тоже связана тайна, в которую, безусловно, был посвящен де Витт. По мнению большинства историков пушкинской эпохи, отцом Софьи был не муж Ольги Нарышкиной, а граф Воронцов, с которым у неё был весьма продолжительный роман. В подтверждение этой версии историки приводят портреты графа Воронцова и Софьи Нарышкиной, на которой девочка действительно похожа на графа. Впоследствии владелица Верхней Ореанды стала графиней Шуваловой. Затем имение перешло к её дочери княгине Ольге Долгорукой.
Скорее всего, на решение передать своё любимое имение великой княгине Елене Павловне повлияло то, что генерала и великую княгиню связывали очень добрые и теплые отношения. О более интимных отношениях генерала и великой княгини нам ничего не известно. То, что Елену Павловну и де Витта связывала дружба, ещё раз характеризует нашего героя как интеллектуала и весьма неординарную личность.
Возвращаясь к желанию де Витта похоронить его именно в Георгиевском монастыре, хочется сказать, что причины этого, скорее всего, были весьма значимы и далеко не случайны.
Дело в том, что в 1842 году навсегда переехал в Крым друг детства императора Александра и активнейший участник операции «Исчезновение» князь Александр Николаевич Голицын, купив там имение Гаспра. Спустя два года Голицын умирает в Алупке и завещает похоронить себя так же, как и де Витт, в Георгиевском монастыре. На следующий день из Алупки в Георгиевский монастырь доставили с нарочным письмо, что князь «скончался сегодня (22 ноября. — В.Ш.) от апоплексического удара, без всяких страданий и самым счастливым образом, ибо третьего дни исповедовался, а вчера приобщился святых… Из бумаги, распечатанной после смерти, видна его воля, чтобы похоронили его три дня после кончины в Георгиевском монастыре и, если можно, в самой церкви, без всякой пышности и церемоний и чтобы тело его не было сопровождаемо никем, кроме его духовника». Желания князя, который много сделал для монастыря, жертвовал деньги и церковную утварь, часто бывал в нём, исполнили. В субботу его повезли в монастырь. На ночь остановились в селе Байдары (ныне село Орлиное), а 25 ноября монахи проводили своего благодетеля в последний путь.
Почему Голицын выбрал для своего последнего места упокоения именно Георгиевский монастырь? Возможно, потому, что хотел найти его там, где с его помощью друг-император навсегда ушел из мирской жизни в небытие? Потому что хотел быть похороненным в месте, с которым его связывала самая большая тайна. А может быть, бывший император в это время всё ещё был монахом в этом старинном монастыре, и Голицын поначалу переселился поближе к нему, а затем пожелал, чтобы и в последний путь его проводил самый старый венценосный друг. Не произошло ли все именно так и в случае с де Виттом? Как и Голицын, он являлся одним из преданнейших Александру лиц.
Преданность Александру I де Витт сохранил до самых последних дней жизни. В частности, он всегда носил на своей груди медальон с портретом Александра. Согласитесь, вполне логично, что посвященные в самую большую тайну императора Александра и свято хранившие её люди желали, чтобы их погребли в месте свершения этого действа.
В пользу данного предположения говорит и следующий факт. В 1857 году в Георгиевском монастыре пожелал быть похороненным и ещё один участник этой тайной операции — генерал-адъютант граф Василий Алексеевич Перовский.
И ещё один немаловажный факт: после графа Перовского на кладбище Георгиевского монастыря уже вельмож такого уровня не хоронили. Случайно или нет, но на мысе Фиолент в Георгиевском монастыре были погребены сразу три активных участника операции исчезновения императора Александра. И все трое легли в землю именно там исключительно по собственному желанию!
Как знать, не провожал ли в последний путь своего бывшего тайного агента сам бывший император, ставший к тому времени скромным монахом Георгиевского монастыря? Может, в этом и есть самая сокровенная тайна этих мест?
Ответа на все эти вопросы мы с вами, скорее всего, уже никогда не узнаем.
Генерал от кавалерии и георгиевский кавалер Иван Осипович де Витт унёс с собой в могилу загадки своей необычной жизни. Не меньше тайн оставила потомкам и его спутница жизни Каролина. Ни генерал, ни его вдова не оставили после себя мемуаров, не дошла до потомков и их переписка, а потому многое из того, о чём вы прочитали на страницах этого повествования, пришлось собирать буквально по крупицам.
Впоследствии Ореанда покойного фельдмаршала Дибича в 1863 году была приобретена императорской семьей в результате сложного обмена на Васакарское имение под Санкт-Петербургом. Позднее в состав приобретенных Александром II земель на южном берегу Крыма вошло и имение де Витта, до того времени арендуемое великим князем Константином Николаевичем для великой княгини Елены Павловны.
Заметим, что виттовскую Верхнюю Ореанду очень любил А. Чехов. Именно там, в Ореанде, у церкви сидели герои его повести «Дама с собачкой» и любовались красотой природы. Сейчас на месте имения де Витта на живописном горном склоне рядом со знаменитой Царской тропой в парковой зоне находится санаторий «Горный».
Каким представлялся генерал де Витт своим современникам? История сохранила нам несколько достаточно ярких высказываний людей, знавших Ивана де Витта лично. Однако, читая их, надо помнить, что тайная деятельность «генерала от разведки» весьма часто вызывала непонимание и неприятие её многими строевыми генералами, которые или не знали о сути выполняемой Виттом работы, или же, зная, считали её недостойной боевого генерала. Может, именно поэтому отзывы о Витте столь противоречивы.
Вот, к примеру, высказывание известного недоброжелателя де Витта сенатора генерала Брадке: «Ни в чем не отказывать и никогда не сдерживать обещаний, обо всем умствовать и ничего не обследовать, всем говорить любезности и тотчас забывать о сказанном».
А вот что говорил о де Витте кое-что слышавший о его деятельности генерал Вигель, не относившийся ни к числу друзей, ни к числу врагов графа: «Всякого рода интриги были стихией этого человека».
И, наконец, мнение многолетнего и, наверное, одного из самых близких друзей де Витта графа Воронцова: «Витт, безусловно, человек очень и очень умный…»
Граф де Витт был захоронен в Георгиевском монастыре слева от входа в храм Святого Георгия. На месте его захоронения была установлена памятная доска.
При расчистке остатков храма Святого Георгия в мае 1999 года экскаваторщик внезапно наткнулся на свод подземного сооружения — гробницу-склеп, выложенную красным жженым кирпичом. В склепе находился полуистлевший гроб, обитый тканью зеленого цвета, в котором имелся гроб свинцовый. Монахи, обследовавшие склеп, утверждают, что он в своё время был разграблен. Помещенный в склепе полуразвалившийся ларец был пуст, пробитый склеп вновь заложен. Погребенный лежал в мундире с шитым генеральским воротником. На погонах — хорошо сохранившиеся вензеля Николая I и царские короны. Императорские вензеля на эполетах, как известно, считались особой императорской наградой, и удостаивались их далеко не все генералы. Что касается де Витта, то из его биографии известно, что Николай I пожаловал ему после окончания Русско-турецкой войны в 1829 году чин генерала от кавалерии и свои вензеля на эполеты. Вне всяких сомнений, монахами Георгиевского монастыря была обнаружена могила Ивана Осиповича де Витта.
Ныне имя генерала-разведчика Ивана Осиповича де Витта почти забыто. Наверное, всё же зря! Патриот Отечества и верный слуга престола, он всю свою жизнь посвятил служению России. Не всегда деятельность де Витта выглядела благородной в глазах окружающих: подкуп и шантаж, обман и воровство документов — всё это извечные спутники всех разведок мира. Кому-то может показаться и неприглядной деятельность де Витта в подавлении польского мятежа, хотя здесь де Витт действовал исключительно в интересах России. Но кроме этого в активе генерала-разведчика была и блистательнейшая работа в Ставке Наполеона, равных которой немного найдется во всей истории разведок всего мира. Не менее красивой и дерзкой была и его константинопольская операция, не говоря уже о ювелирной работе со знаменитым Бальзаком. В сложной, а порой и противоречивой личности графа Ивана де Витта можно отыскать много разных оттенков. Однако окончательную оценку выдающему российскому разведчику, думается, ещё по праву даст история. А потому, если, находясь в Эрмитаже, вы попадете в зал героев 1812 года, отыщите среди иных и портрет генерала Ивана Осиповича де Витта. Право, он того стоит!
Москва — Севастополь 1998-2010
ИЛЛЮСТРАЦИИ
И.О. де Витт. Художник Дж. Доу
Наполеон принимает в Тильзите Луизу Прусскую, Александра I и Фридриха Вильгельма III Прусского 6 июля 1807 г. Художник Н. Госсе
Вступление Русский армии в Париж. Художник А.Д. Кившенко.
Блюхер и казаки в Бауцене. Художник Б.П. Виллевальде.
Венский конгресс. Гравюра Ж. Годфруа.
П.И. Багратион. Художник Дж. Доу.
Великая княжна Екатерина Павловна. Художник Ф.-С. Штимбранд.
Император Наполеон в своем кабинете в Тюильри. Художник Ж.-Л. Давид.
Мария Валевская. Неизвестный художник.
А.А. Аракчеев. Художник Дж. Доу.
А.П. Ермолов. Художник Дж. Доу.
Военное поселение Александровской эпохи. Художник М.В. Добужинский.
Клятва вступающего в «Филики этерия». Художник Д. Тсоккос.
Здание Ришельевского лицея. Фото начала ХХ в.
А. С. Пушкин в Бахчисарайском дворце. Художники Г.Г. и Н.Г. Чернецовы.
С. Потоцкая (в замужестве — Киселева). Неизвестный художник.
К. Собаньска. С рисунка А.С. Пушкина.
А.С. Пушкин. Художник В.А. Тропинин.
П.Д. Киселев. Художник Ф. Крюгер.
Последние минуты пребывания императора Александра I в Санкт-Петербурге 1 сентября 1825 г. Художник Г.Г. Чернецов.
Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Художник К.И. Кольман.
П. И. Пестель. Неизвестный художник.
Черновик А. С. Пушкина с рисунками повешенных декабристов.
П.Х. Витгенштейн. Художник Дж. Доу.
А.И. Чернышев. Художник Дж. Доу.
Эпизод русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Художник Г.Ф. Шукаев.
Взятие арсенала в Варшаве 29 ноября 1830 г. Художник Ф.-Х. Дитрих.
Император Николай I объявляет своей гвардии о восстании в Польше.
О. де Бальзак. Неизвестный художник.
А.Х. Бенкендорф. Художник Дж. Доу.
Николай I в санях. Художник Н.Е. Сверчков.
В парке «Софиевка». Современный вид.
Дворец Потоцких в Тульчине. Современный вид.
Великая княжна Елена Павловна. Художник К.П. Брюллов.
А.Н. Голицын. Художник П. Ф. Соколов.
В.А. Перовский. Художник К.П. Брюллов.
Георгиевский монастырь в Крыму. Художник Х.-Г.-Г. Гейслер.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Александров Г.Н. Заметка о бывших военных поселениях. Русский Архив. 1873. Кн. II.
Басаргин Н.В. Записки. Пг., 1917.
Белоусов Р. Хвала Каменам. Сов. Россия. 1982.
Берг Н. Записки о польских заговорах и восстаниях 1831–1862. Кучково поле. 2008.
Богданович М. История царствования императора Александра I. Т. 1–6.
Богданович М. История войны 1814 года во Франции. Т. 1. СПб., 1865.
Брындас М. Мария Валевская, М.: Прогресс, 1974.
Вигель Ф. Записки. Т. VII. М., 1892.
Вересаев В. Пушкин в жизни. Т. 1–2. М., 1932.
Военные поселения при графе Витте // Древняя и Новая Россия. № 7. 1880.
Волконский С. Записки. Иркутск, 1991.
Вольперт Л. Пушкин в роли Пушкина. М., 1997.
Воронин В. Польское восстание 1830–1831 гг. б/ г.
Гершензон М. Николай I и его эпоха. М.: Захаров, 2001.
Голицына Н. Воспоминания о польском восстании. Российский архив: История отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Вып. 13. М., 2004.
Гордин Я. Дуэли и дуэлянты. СПб, 1996.
Гроссман Л. Бальзак в России. Литературное наследство. Т. 31–32. М., 1937.
Гроссман Л. У истоков «Бахчисарайского фонтана». Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. 1960.
Граф Аракчеев и военные поселения. Русская старина. 1871.
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 1. М., 1947.
Дружинина Е. Южная Украина 1800–1825 гг. М., 1970.
Дуэль с пушкинистами. Хронограф. М., 2002.
Заболоцкий-Дисятовский А. Граф П.Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 1–4.
Зак Л. Монархи против народов. Дипломатическая борьба на развалинах наполеоновской империи. М., 1966.
Записка А.К. Бошняка. Красный Архив. 1925. Т. 2 (9).
Записки партизана Дениса Давыдова. Воспоминания о Польской войне 1831 года. Русская старина. 1872.
Захарова О. Генерал-фельдмаршал светлейший князь М.С. Воронцов. Рыцарь Российской империи. М.: Центрполиграф, 2001.
Иваницкий С. Вождь декабристов. Л-д, 1926.
История дипломатии. Т. 1. М., 1959.
Ицков А. Разведчик, партизан, военный министр России // Военно-исторический журнал. № 1. 1995.
Карпов А. О военных поселениях при графе Аракчееве // Русский Вестник. № 2, 3, 4. 1890.
Керсновский А. История русской армии. М., 1993. Т. 2.
Киянская О. Пестель. М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ), 2005.
Киянская О. Южный бунт: Восстание Черниговского пехотного полка. М., 1997.
Лонгинов М. Пушкин в Одессе. 1859. Т. 1–2.
Лотман Ю. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки 1960–1990 гг. Евгений Онегин (комментарий). СПб.: Искусство, 2005.
Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958.
Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. М.: Прогресс, 1967.
Нечкина М. Декабристы. М., 1982.
Огарков В. Воронцовы. СПб., 1892.
Прожогин Н. Каролина Собаньская в письмах маршала Мармона и Бальзака // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 27. СПб., 1997.
Пузыревский А. Польско-русская война 1831 года. Т. 1–2. СПб., 1890.
Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И. Бартеневым / Под ред. М. Цявловского. М., 1925.
Романовы и Крым. М., 1993.
Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. 1935.
Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812–1815 гг. Российский архив. Т. VII. М.: Студия ТРИТЭ Н. Михалкова, 1996.
Скальковский А. Записка о плавании парохода «Петр Великий» к Таврическим и восточным берегам Черного моря. Одесса, 1836.
Талейран. Мемуары. М., 1959.
Удовик В. Воронцов. М.: Молодая Гвардия, 2004.
Федоров В. Декабристы и их время. М., 1992.
Фридкин В. Записки Каролины Собаньской. Наука и жизнь. № 12. 1988.
Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. Л-д, 1989.
Шилъдер Н. Император Николай I. М., 1997. Т. 1–2.
Щеголев П. Пушкин и граф Воронцов // Из книги: Первенцы русской свободы. М.: Современник, 1987.
Эйдельман Н. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М.: Худ. лит., 1979.
Яшин М. Итак, я жил тогда в Одессе. Утаенная любовь Пушкина. СПб., 1997.
Примечания
1
Старая демонесса
(обратно)


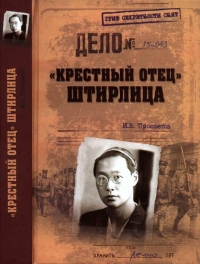
Комментарии к книге «Тайный сыск генерала де Витта», Владимир Виленович Шигин
Всего 0 комментариев