Сборник статей Убийства в Доме Романовых и загадки Дома Романовых
© АНО «Редакция журнала “Знание-сила”», 2013
© «Вест-Консалтинг», компьютерная верстка, макет, 2013
Дальше — тишина… Вступление
С незапамятных времен для значительной части человечества власть являлась самым вожделенным, самым ценным подарком фортуны. За неё боролись всеми правдами и неправдами, убивали, травили, гноили в тюрьмах, ею бесстыдно пользовались, забывая о нравственных, общечеловеческих нормах. И ее теряли так, словно целую жизнь. Для людей власти она и была, есть и будет всей жизнью.
С тех пор как появлялся лидер в любом человеческом сообществе, появлялся и некто, претендующий на это лидерство и готовый любой ценой захватить его. Желание подчинять, повелевать, демонстрируя вседозволенность и безнаказанность, бывает так велико, что жизнь теряет смысл, если не удается осуществиться этим, бушующим и определяющим тонус жизни, страстям. Плодит ли власть подчиненных? Или готовность подчиняться порождает власть? Кажется, это стороны одной медали, одна не живет без другой. И значит, безропотная готовность подчиниться, согласиться и смириться, также пагубна, как яростное стремление к вершине власти…
Многие с младых ногтей мечтают выбиться в начальство и, достигнув своей цели, возвышаются в собственных глазах, резко меняя самооценку, сильно завышая ее. И им это совершенно необходимо. Но что это? Попытка освободиться от комплексов неполноценности? Стремление загнать их как можно глубже и поменять знак бессилья на силу? Мы знаем такие примеры — власть придержавшие множит их у нас на глазах… Незначительная личность, обличенная властью, это — уже совсем другое дело! И пусть это миф, мираж, пусть неправда, зато теперь можно отыграться за свою незначительность, отомстить всем умникам. Как пьянит всегдашний успех этой расплаты, как кружит голову и вдохновляет! И еще. Теперь ты богат. И настолько, насколько пожелаешь. Словом, как ни посмотри, для очень многих «прямоходящих» власть это — цель жизни. И пусть в результате обретаешь подчиненных, а не друзей, женщин, а не любовь, богатство, а не счастье и, наконец — врачей, лекарства, а не здоровье, пусть! На самом деле мы все живем в мифах, а не в реальности, а миф о всемогущественности власти — один из самых бодрых, живучих и желанных.
Борьба за власть окрашивает в цвет крови всю историю цивилизаций. Пожалуй, не найти ни одного государства, и Россия не исключенье, которых бы миновала эта пагубная стихия. Летят столетье, но время ничего не меняет. Притягательность власти не меркнет. И даже методы и технологии, в сущности, остаются прежними — яды, удавки, острый кинжал, пуля. Убивают вождей, королей, царей, императоров и президентов. Разумных правителей и вздорных, реформаторов, стремящихся улучшить существование большинства притесненных и консерваторов, вовсе к этому не расположенных. Интересно, что тираны и диктаторы, чья жесточайшая власть распространяется, кажется, по кровеносным сосудам миллионов чаще всего умирают в своей постели… Так случилось, в частности, с Лениным, который в самом начале 1918 года объяснил, чтобы не было никаких кривотолков, что «научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие, опирающуюся власть»[1]. Отвергающую парламентаризм, осуществляющую слияние исполнительной и законодательной властей. Это значит, что власть имущие принимают законы, по которым осуществляют свои намерения, не подвергаясь никакому контролю. А уже в марте этого же 18-го он говорит о необходимости личной диктатуры… с точки зрения нужд современной экономики. «…Всякая крупная машинная индустрия — т. е. именно материальный, производственный источник и фундамент социализма — требует безусловного и строжайшего единства воли… Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного»[2].
Создание государства нового типа привело и к новому типу единоличной власти, поддерживаемой обманутыми и замороченными народными массами, и осуществляющей террор в невиданных масштабах по отношению к своему народу. Раскрученный большевиками молох работал без устали. Только с января 1935 года по июнь 1941 по данным КГБ было репрессировано 19 миллионов 840 тысяч, из которых 7 миллионов было расстреляно[3].
В этих реках крови, заливавших страну, кровь Романовых теряется, растворяется, становится незаметной. Но человек — это целый мир. С его уходом земля беднеет. И память не должна отмирать, иначе мы теряем наше прошлое.
В этом сборнике собраны статьи о не доживших свой век представителях династии Романовых. Детективный жанр подсказан самим действием — убийством. Кроме того, есть попытки объяснить некоторые загадки, связанные с Домом Романовых. Авторы — именитые историки, доктора исторических наук Андрей Анатольевич Левандовский, Анатолий Филиппович Смирнов, доктор юридических наук Юрий Александрович Жук, кандидаты исторических наук Илья Викторович Смирнов, Владимир Александрович Тюрин.
Галина Бельская
Илья Смирнов Проклятие дома Романовых
Здесь шла борьба за смерть. Они дрались за место, И право наблевать за праздничным столом. Спеша стать сразу всем, насилуя невесту, Стреляли наугад и лезли напролом. А. БашлачевСмута окончилась, когда их наконец взяли московские люди на Медвежьем острове посреди реки Яик: царицу Марину Юрьевну с трехлетним сыном Иваном Дмитриевичем и вместе с ними их верного защитника — самого знаменитого казачьего атамана того времени Ивана Заруцкого. Впрочем, в последние дни своих скитаний они уже не были свободны — товарищ Заруцкого, атаман Треня Ус, которому все равно было, кому служить, лишь бы добывать «зипунов», приказал своим казакам взять под стражу злейших врагов нового правительства, он даже отнял у Марины сына и держал его при себе — чтобы при необходимости выкупить себе помилование чужими головами. Так и получилось: когда казаков окружили на острове, Треня выдал пленников вместе с казной, вывезенной ими из Астрахани, и отправился разбойничать дальше. А царицу с маленьким царевичем и Заруцкого отправили в Москву к новому государю Михаилу Федоровичу Романову — под охраной пятисот стрельцов, которым велено было при попытке отбить арестованных немедленно их уничтожить. (Как через 150 лет — другого несчастного русского помазанника, Ивана Антоновича.) Марину до Москвы везли связанной.
При всех симпатиях к казачеству, я не могу не отметить грустной закономерности в том, что отдельные представители этого смелого и гордого сословия продавали самых знаменитых своих атаманов. (Только Булавина не сумели взять живым, чтобы выдать Петру, — тогда его застрелил собственный есаул…)
Сюжетная схема
Смута началась осенью 1604 года, когда с отрядом искателей приключений границу перешел молодой человек, объявивший себя сыном Грозного, Дмитрием Ивановичем. Шансы его на успех были бы не очень велики, если бы не внезапная смерть Бориса Годунова (видимо, от инфаркта). Вдова Бориса и сын — шестнадцатилетний царь Федор II — были убиты при всеобщем энтузиазме москвичей, готовившихся встречать нового царя Дмитрия. Дмитрий Иванович одиннадцать месяцев правил по-европейски среди непрерывных заговоров и покушений. 17 мая 1606 года он был убит.
Царем «выкликнули» князя Василия Шуйского, имевшего некоторые права на престол — как «старший» среди Рюриковичей. Но против Василия сразу же выступили на юге Иван Болотников с князьями Шаховским и Телятевским и предводителем рязанских служилых людей П. Ляпуновым.
Они выступили за «царя Дмитрия» — непонятно, за какого — и дошли до Москвы, где были разбиты. До поры до времени царя Василия выручал племянник — талантливый полководец Михаил Скопин-Шуйский. Работы ему хватало: после капитуляции Болотникова неизвестного происхождения «воскресший» Дмитрий собрал войско из казаков и польско-литовских добровольцев. Не имея сил для взятия Москвы, он в июле 1608 года разбил лагерь неподалеку. Полтора года в России существовали две равноправные столицы — Москва и Тушино — каждая со своим царем, думой и патриархом. Кстати, тушинским патриархом был Филарет (Федор) Никитич Романов — отец будущего царя Михаила.
В 1609 году конфликт начал «интернационализироваться»: Василий Шуйский призвал себе на помощь шведскую армию Делагарди, после чего польский король Сигизмунд III Ваза, чьи отношения со Швецией были резко враждебными (несмотря на шведское происхождение короля, а точнее — благодаря этому происхождению), осадил Смоленск. Напоминаю, что Смоленск и окружающая территория в течение нескольких столетий оставались спорными. В этот момент здравомыслящие люди из разных лагерей пришли к удобному компромиссу: предложить московский престол сыну Сигизмунда, Владиславу. Стараниями Филарета и Станислава Жолкевского — блестящего полководца и дипломата, одинаково уважаемого по обе стороны границы, — эта идея утверждалась в русском обществе. Тушинский лагерь распался. Василий был свергнут 17 июля 1610 года и пострижен в монахи. Россия с воодушевлением присягала королевичу Владиславу. Условия его правления были заранее определены договором — своего рода зачатком конституции. Однако Сигизмунд неожиданно для всех решил отнять царский венец у собственного сына — захотел сам стать московским царем, что для русских ассоциировалось с прямым подчинением Польше и было заведомо неприемлемо. Комбинация рухнула.
Русский бунт
Мы понемногу освобождаемся от любимого мифа советской историографии, сводившей Смуту к «крестьянской войне»: Иван Болотников, дворянского рода, раздавал своим сподвижникам поместья с крестьянами точно так же, как это делали Василий Шуйский, «тушинский царь», Сигизмунд III и прочие участники борьбы за власть.
Вообще в исторической драме Смутного времени нелегко обнаружить какие-либо идейные и принципиальные противоречия, здесь куда больше подходит гениальная формула сталинских театроведов: «борьба хорошего с еще лучшим». Политики того времени с легкостью переходили из одного лагеря в другой, в зависимости от мельчайших изменений конъюнктуры (народ довольно точно именовал их «перелетами»), без тени смущения провозглашали прямо противоположное тому, что говорили вчера, и с удивительной для средневекового сознания легкостью переступали и через крестное целование, и через фамильную честь. Ближайшие сподвижники претендентов не скрывали циничного отношения к делу, за которое сами боролись: московский патриарх Гермоген уважал «своего» Василия Шуйского не больше, чем тушинский гетман Рожинский — своего царя, и разве что сан не позволял духовному лицу демонстрировать презрение бранью и пьяными драками на глазах у царя. Впрочем, когда это показалось выгодно, Василия скинули с престола не более почтительно. Вдова Ивана Грозного царица Мария Федоровна вчера только признавала «Государя Дмитрия Ивановича» своим сыном, но сразу же после его убийства объявила, что убитый был злодей и самозванец, а настоящий царевич давно погиб в Угличе. Но провозглашал этого «настоящего царевича» святым и переносил его мощи в Москву тот же самый человек, который на следствии по угличскому делу доказывал, что царевич как самоубийца недостоин даже погребения. Отец Марины, воевода Юрий Мнишек (по мнению С. Жолкевского, «маловажный и ничтожный человек», характером напоминающий беспутного отца из знаменитого романа Р. Л. Стивенсона «Катриона»), продал родную дочь за 300 тысяч рублей и, бросив ее на произвол судьбы, бежал в Польшу, (даже на письма не отвечал). Непрерывная череда такого рода событий создавала особую социально-психологическую атмосферу, в которой люди не верили уже никому и ничему. Впрочем, народ был вполне достоин своих пастырей. Одна и та же московская толпа возводила на престол царя Дмитрия и глумилась над его трупом, прославляя Василия Шуйского, чтобы потом с позором низложить старика, но не за преступления, в которых он был действительно виновен, а за то, что Василий оказался «несчастен на царстве». Потом присягали королевичу Владиславу и радушно принимали в Москве польско-литовское войско Жолкевского — тех самых «еретиков», которых с воодушевлением резали майской ночью 1606 года. Любопытно, что тем соотечественникам, которые пытались заступиться за избиваемых, говорили: «вы жиды, как и Литва».
Должно быть, после стольких упущенных возможностей консервативная реакция была неизбежна.
В. Кобрин, «Смутное время — утраченные возможности»Может быть, единственный в этом море крови и грязи, кто действительно имел какую-то программу, был молодой человек, посеявший смуту и ставший одной из первых ее жертв. В имени Лжедмитрий, унаследованном официальной советской историографией у официальной дореволюционной, при всей его формальной справедливости, есть ярко выраженный негативный подтекст, поэтому я предпочитаю вариант Н. И. Костомарова.
Теперь, когда Костомарова начали издавать, вряд ли имеет смысл пересказывать его знаменитую биографическую работу «Называемый Димитрий». Отмечу только: в ней рассказывается об одном из редчайших случаев — когда на русском престоле соединились откровенное «западничество» и вольномыслие («Пусть всякий верит по своей совести» — фраза слишком смелая даже для Европы!) с твердым, мужественным характером и патологическим для вышеописанной среды отсутствием коварства и жестокости.
Поведение царя Дмитрия во время его краткого, одиннадцатимесячного правления служит серьезнейшим аргументом против годуновско-пушкинской версии, отождествляющей его с Григорием Отрепьевым: расстрига, бывший келейник московского патриарха вряд ли мог мыслить и действовать так, как этот молодой человек. Он прощал своих врагов, даже пойманных с поличным: «Есть два образца держать царство — или всех жаловать, или быть мучителем; я избрал первый». Бояре-заговорщики во главе с тем же профессиональным клятвопреступником Василием Шуйским, — которых «московские люди» приговорили к смерти, а Дмитрий помиловал, — не могли простить столь легкомысленного великодушия и при первой же возможности отплатили своему спасителю за отступление от обычаев его «называемого отца» Ивана Васильевича. Вскоре после свадьбы Дмитрия и Марины компания придворных аристократов и преступников, специально выпущенных из тюрьмы, зверски убила молодого царя, мечтавшего о свободной торговле, веротерпимости и создании в Москве университета. Пожалуй, из всех его проектов за 386 лет в полном объеме осуществился только один — университет.
Счастье не всегда ходит по одному пути. Оно не там кончается, откуда начинается, но устраивается так, как сам Бог направит его.
Марина МнишекТакова судьба добрых царей на Руси[4].
Интересно, что Марина была сначала коронована и только потом, уже в качестве царицы, вступила в брак с Дмитрием. Быть может, Дмитрий предчувствовал судьбу и хотел по возможности оградить свою избранницу от превратностей, обеспечив ей «независимый» правовой статус. Хотя кого в то время волновало право?
Царица и казак
Опаснейшие, враги того государства, которое восстановили в 1613 году Минин и Пожарский, составляли необычную пару — двадцатипятилетняя польская аристократка, помазанная на царство Всея Руси, и крестьянский сын из-под Тарнополя (по-тогдашнему — «русин», сейчас он назывался бы «украинцем», да еще «западным», но в начале XVII века такие тонкости мало кого интересовали, и в источниках он фигурирует либо как «русский полководец», либо как «храбрый вождь донских казаков»). Вопреки всем местническим традициям, Иван Заруцкий саблей добыл себе боярство. Его боевой товарищ по Тушинскому лагерю, поляк Н. Мархоцкий оставил о нем воспоминания: «Все наше войско бежало, и не будь тут Заруцкого, который прискакал с несколькими сотнями донцов и у реки Ходынки отразил Москву ружейной пальбой, она загнала бы нас в самый лагерь…» С. Жолкевский, едва не соединивший русских и поляков в единый народ, писал: «князь Рожинский (тушинский гетман. — И. С.) почти всегда был пьян», поэтому Заруцкий «заведовал караулами, подкреплениями, доставкой известий». Помимо этих достоинств, атаман был «собою красив и пропорционален» — качества, не столь важные для исхода войны за московское наследство, но, вероятно, небезразличные для наследницы Марины. Впрочем, и с Заруцкого не следует писать иконы: в конце Смутного времени он правил в Астрахани по образцу Ивана Васильевича: «многих добрых людей в ночи пытав на пытке и огнем жгли, да с обруба в воду посажали, да и по вся дел дни беспрестанно кровь проливают».
О Марине Мнишек наша публика знает несколько больше благодаря опере «Борис Годунов». «Расчетливая, надменная и легкомысленная красавица» — сказано в хорошем дореволюционном учебнике русской истории Трачевского (как это — «расчетливая» и «легкомысленная» одновременно?)
Менее известно, что эта маленькая пани ездила верхом, вооруженная саблей и пистолетом, и в гусарской одежде входила в воинский совет, чтобы предъявлять претензии взбунтовавшимся ландскнехтам. Когда лучший московский полководец, молодой Скопин-Шуйский, осадил в Дмитрове одного из лучших тушинских полководцев, «польского удальца» Яна Сапегу, Марина на валах возглавляла оборону, воодушевляя солдат словами: «Я, женщина, не утратила мужества!»
Отношения их с Сапегой составляют отдельный причудливый сюжет. Начались они с того, что «удалец» с гусарами молодую вдову убитого царя Дмитрия и ее отца, воеводу Мнишка, отбил у московской стражи (которая, впрочем, и не думала о сопротивлении). После совместной обороны Дмитрова они поссорились, и бесстрашная царица сказала, что у нее есть три с половиной сотни донцов и, «если до того дойдет, она даст ему сражение». Марина лично инструктировала русских послов и принимала иностранных, даже при жизни своего второго мужа, «тушинского царя», не отличавшегося ни умом, ни образованием. Когда польский король Сигизмунд, ее бывший государь, предложил «из милости» тушинской чете Саноцкую землю и доходы с Самборской экономии за отказ от русского престола, она попросила у него Краков, обещая за это «из милости уступить королю Варшаву». Письма она подписывала «императрица Марина».
Согласитесь, личность, весьма далекая от женского идеала, предлагаемого «Домостроем», даже если считать произведение Сильвестра, безусловно, прогрессивным по сравнению с обычной практикой.
Иван-царевич
Судьба царевича Ивана — авантюрный роман со дня рождения. И даже до рождения.
Отец его — «тушинский царь», известный и под именем Лжедмитрий II, второй муж Марины Мнишек.
После переворота 17 мая 1606 года Василий Шуйский отправил вдову убитого царя вместе с отцом — воеводой Мнишком — в ссылку в Ярославль. В те времена, когда еще не изобрели фотографию и телевидение, ссыльные не могли уверенно судить о том, что за человек вновь собирает сторонников Дмитрия Ивановича — действительно ли это их государь, которого судьба уже неоднократно спасала от верной смерти, или самозванец «второго порядка». Личная встреча Марины с «воскресшим» мужем подтвердила худшие опасения. Человек неизвестного, но явно не аристократического происхождения, он отличался «грубыми и дурными нравами» и произвел на Марину крайне неблагоприятное впечатление — долгое время она не хотела признавать его, несмотря на все уговоры отца, материально заинтересованного в таком признании.
Однако политика оказалась могущественнее личных симпатий и антипатий. А может быть, дело не только в политике. «Тушинский царь» олицетворял единственную альтернативу правительству Василия Шуйского — единственную возможность отомстить за человека, которого Марина, видимо, действительно любила. И вернуть московский престол. Напомним, что тогда ей было всего 19 лет.
5 сентября 1608 года в лагере Сапеги состоялось ее тайное венчание с «тушинским царем». С формально юридической точки зрения брак их был вполне законен, равно как и ребенок, рожденный в этом браке.
По мнению В. Б. Кобрина, второй муж Марины «унаследовал авантюризм своего предшественника, но не его таланты»[5]. Имея стотысячную армию, он не только не смог навести в ее рядах порядок и выбить Василия из Москвы, но оказался даже не в состоянии поддерживать престиж царского звания среди пьяных безобразий казаков и наемников. Такое положение было унизительно для Марины. Тем не менее она разделяла с мужем все превратности его судьбы: мятежи, распад Тушинского лагеря, бегство в Калугу.
Там бывшие «тушинцы» на какое-то время восстановили правительство, боровшееся и против Москвы, и против польского короля. Вплоть до декабрьского дня 1610 года, когда глава этого причудливого двора был зарезан князем Урусовым. А в начале января нового, 1611 года Марина родила сына, которого крестили в православной вере и сразу же признали два самых могущественных военных вождя — Заруцкий и Ляпунов, признали его законным наследником престола.
Вы ему (Борису Годунову) кланялись, когда он был жив, а теперь, когда он мертвый, вы хулите его. Другой бы кто говорил о нем, а не вы.
Называемый ДимитрийСам того не подозревая, новорожденный уже принимал участие в большой политике, и вокруг его колыбели сталкивались партии и армии.
Интернационалисты XVII века
Второй большой миф о Смуте объясняет ее «иностранной интервенцией». Он восходит все к тому же Василию Шуйскому, который ненависть московской черни к иностранцам и иноверцам удачно обратил против Дмитрия. Позднее те же ксенофобские инстинкты использовала победившая партия Романовых, чтобы возвеличить собственную победу.
К сожалению, факты входят в некоторое противоречие с этой конструкцией. И искусственность ее хорошо понимали свободомыслящие ученые XIX столетия. Во-первых, «Называемый Димитрий» вовсе не был «польским ставленником». Сигизмунд III не оказывал ему официальной поддержки, а участие отдельных панов в его экспедиции, с точки зрения господствовавших в польско-литовском государстве обычаев, было таким же частным делом, как купля-продажа имения. Придя к власти, молодой царь и не помышлял об удовлетворении территориальных и религиозных претензий со стороны короля и папы, а при первых же недружественных жестах со стороны Сигизмунда вступил в соглашение с вооруженной оппозицией польской шляхты — конфедерацией, организованной Я. Радзивилом и Л. Понятовским, и готовился поддержать их сорокатысячным войском. Историк А. Гиршберг прямо пишет о планах обоих Дмитриев — и московского, и даже тушинского — овладеть польским троном.
Ах, лихая сторона, Сколь в тебе ни рыскаю — Лобным местом ты красна Да веревкой склизкою. В. ВысоцкийВстречаясь в исторической литературе со словами «польский», «поляки», мы должны помнить, что «национальный вопрос» и связанная с ним терминология в начале семнадцатого века значили совсем не то, что в конце двадцатого. «Польша» Сигизмунда — это польско-литовская монархия, а ее непосредственно прилегающая к Московской Руси половина, Литва, вовсе не была Литвой в том смысле, какой сегодня вкладывает в это слово В. Ландсбергис. Она изначально строилась как государство литовско-русское, причем отнюдь не католическое. «Явились на Руси два государства, — пишет Н. И. Костомаров, — Москва и Литва… Русь, таким образом, разделилась на две половины». И те «рыцари» и «удальцы» Смутного времени, которых мы по привычке именуем «поляками», в действительности сплошь и рядом оказываются представителями русских дворянских родов, да еще православного вероисповедания. «Ревнителями православия» называют князей Острожских и Вишневецких. Послы Сигизмунда в Москву А. Балабан и Ст. Домарадский — люди «греческой веры». Сапеги — из бояр Смоленской области. Правда, вышеупомянутый Ян Петр формально принял католичество, но покровительствовал обеим церквам. И в отряде его, по его собственным словам, «большая половина состоит из русских людей». Тушинский гетман князь Рожинский в письме папе римскому восхваляет некоего о. Викентия, благодаря которому он все-таки склонился к католичеству, но если учесть, что главную тему письма составляют просьбы о помощи, вряд ли можно воспринимать его пафос всерьез.
С другой стороны, «Москва», с которой все они воевали, представлена венграми, татарами, французами во главе с де ля Вилем, англичанами (!) и, согласно дневнику Сапеги, целым подразделением все тех же поляков, «у которых было свое знамя и свой ротмистр». Наконец, на стороне Шуйского воевала армия шведов.
Таким образом, правильнее было бы говорить не об организованной интервенции, а о том, что некоторые подданные сопредельных (и даже не сопредельных) стран приняли участие во внутренних неурядицах Русского государства, причем участие это носило поначалу сугубо неофициальный характер. Впрочем, и официальное вмешательство со стороны Польского и Шведского королевств было вызвано столь же официальным приглашением из Московской Руси. И в этом приглашении не содержалось никакой «национальной измены». Россия могла иметь царя Владислава польского происхождения точно так же, как сама Польша имела короля Сигизмунда из шведской династии Ваза, а, например, Англия — короля-шотландца Стюарта. Вообще монарх-иноземец для феодализма скорее норма, чем исключение. Идея объединения России вокруг Владислава была уже практически реализована Станиславом Жолкевским, если бы не нелепое упрямство Сигизмунда III. Будь король поумнее, Смута кончилась бы на три года раньше и сегодняшние «патриоты» прославляли бы династию Ваза.
Иностранное вмешательство не было первопричиной событий. Причины историки видят в разорении страны Иваном Грозным, последствии этого разорения — крепостничестве — и природной катастрофе — трехлетием голоде, постигшем страну в правление Бориса и заставившем Годуновых расплачиваться за чужие грехи. Но «интервенция» точно так же не может считаться и движущей силой Смуты.
Эту движущую силу, опору и основу «партии беспорядка», скорее всего, следует искать в казачестве.
С большим вниманием я читаю в современной партийной печати рассуждения о казачестве. «Издревле казаки ставили во главу угла защиту Православия… а для верующего монархия на земле — своего рода «калька» устройства небесного» («Путь», газета Российского христианского демократического движения). «К идеалам служения «Вере» и «Отечеству» казак с необходимостью добавлял и третий, не расторжимый в совокупности член — «Царю»… Истинная «вольность» воспринималась как реализация предельного личностного права на отсечение собственной воли, а «самодержавие» как вольное изъявление Божьей правды и милости через монарха» (журнал «Кубань»).
Раннее казачество весьма мало соответствовало этому идеалу. Как донцы, так и запорожцы не утруждали себя выяснениями «пятого пункта» или социального происхождения и поначалу даже в религиозных вопросах проявляли такое же свободомыслие, каким ужаснул патриархальную Москву их любимый царь Дмитрий. (Интересно, что с началом религиозных преследований «вольнодумцы» станут самыми упорными защитниками гонимой церкви — ортодоксального православия на Украине и старообрядчества на Дону.) «Казаки — люди различных племен, из земли московской, татарской, турецкой, польской, литовской, карельской и немецкой… говорят преимущественно по-московски» (И. Масса, начало XVII века). Кроме холопов и беглых крестьян, мы встречаем в «товариществе»[6] и аристократов, как легендарный запорожский герой Байда — князь Вишневецкий или его донской коллега князь Дмитрий Трубецкой.
Так же свободно относились казаки ко всем без исключения «самодержцам», через которых «вольно изъявлялась Божья правда», а также «правда Аллаха», — они постоянно балансировали между сопредельными державами: Россией, Польшей и Турцией, поскольку чувствовали себя независимыми от всех и уважали (не уважали) царя, короля и султана ровно настолько, насколько каждый из монархов в данный момент мог быть им полезен (или вреден).
С другой стороны, раннее казачество не успело выработать какой-либо социальной программы (она появится на Дону только в ходе религиозной реформации), поэтому борьба с несправедливым порядком, вытолкнувшим их в «дикое поле», при самом искреннем его неприятии на деле сводилась к перемене ролей в рамках одной и той же системы.
В стихийных ополчениях Смутного времени, будь то армия Болотникова, или «тушинского царя», или так называемое «первое русское ополчение» Ляпунова — Заруцкого — Трубецкого, с необычайной силой проявились все хорошие и дурные свойства тогдашнего казачества. «Разгульная казацкая кочевка» в Тушине на время стала столицей России. Здесь демократично перемешались сословия и вероисповедания, «неграмотный мужик», почитавшийся царем, ставил в патриархи Филарета Романова, а шляхтичи с донскими молодцами весело проводили время в пьянстве и за игрой. К сожалению, единственным источником существования красочного «славянского рыцарства» был более, а чаще менее узаконенный грабеж всех тех, кто еще продолжал работать и, несмотря на политические катаклизмы, добывал хлеб насущный.
Виселица за Серпуховскими воротами
В конце концов люди смертельно устали от безобразий, и восьмилетняя Смута закончилась «победой сил порядка и посредственности» (В. Б. Кобрин) — избранием на царство юного Михаила Федоровича Романова, «тихого и неспособного по природе», которым управляла сначала мать, а затем отец, патриарх Филарет.
Но за установление порядка пришлось заплатить дорогую цену — отказаться от прогресса. То зачаточное крепостное право, когда крестьянин был «крепок» не господину, а земле, на которой трудился, — своего рода «прописка» на средневековый манер — было поколеблено «разрешающими» указами Бориса и Дмитрия в период голода и Смуты, да и вряд ли вообще могло всерьез соблюдаться среди анархии, однако именно при Михаиле Романове оно утверждается в новом, невиданно суровом и бесчеловечном обличье, при котором крестьянин («христианин») приравнивается к рабу, к вещи, скотине. Те элементы правового государства — «Великой хартии вольностей», — которые присутствовали в крестоцеловальной записи царя Василия и в договорах о приглашении на русский престол Владислава, оказались похоронены, и Россия вернулась к восточному деспотическому правлению Ивана III. «Западничество» было предано анафеме вместе с Гришкой Отрепьевым и вновь заявило о себе всерьез лишь спустя многие десятилетия, но уже не в мягкой и либеральной форме, а таким образом, что прогресс и просвещение только укрепляли архаичный социальный порядок.
Ставили артелью — замело метелью. Водки на неделю, да на год похмелья. Штопали на теле, к ребрам пришивали, Ровно год потели, да ровно час жевали. А. БашлачевВынужденные выбирать между порядком и прогрессом, русские люди в любом случае оказывались в проигрыше. Стабилизация наступила, но на значительно более низком уровне. Этим-то и отличаются смуты от настоящих революций.
Однако чтобы перевернуть последнюю страницу в истории Смутного времени, «партии порядка» предстояло окончательно решить проблему возможных соперников семнадцатилетнего царя, наследника вовсе не венценосной и даже не княжеской фамилии.
Заруцкому за многие дела предстояло гореть в аду, и вряд ли он до сих пор был более постоянен в политических пристрастиях, чем прочие участники междоусобий, но Марине и ее сыну отчаянный атаман остался верен до конца.
Его армия отступает на юг — в исконное казачье «поле», взрастившее и питавшее Смуту. Дон же отказывает в помощи сыну «казацкого царя» и своему атаману.
Самые яростные и непримиримые из казаков уже сложили головы под разными знаменами, другие выслужили себе теплые места при кабацком откупе, да и поместьица, а те, что остались на Дону, предпочитали московское жалованье и свое хозяйство неверной военной удаче. Заруцкий, постоянно преследуемый воеводами нового царя, поворачивает к Волге — «указывает путь Разину», как скажет впоследствии историк С. И. Тхоржевский.
Астрахань подчинена Москве недавно и еще хранит память о собственном независимом царстве — под властью Марины и Заруцкого она обретает осенью 1613 года свой последний кратковременный «суверенитет». Армию Заруцкого пополняют волжские казаки, которых Москва не жалует за разбои на торговых путях. В поисках союзников они обращаются к персидскому шаху Аббасу, — говоря по совести, одному из самых кровожадных тиранов мировой истории. Впрочем, неразборчивость в связях до сих пор отличает российских революционеров. Однако шах с помощью медлит. Казаки ссорятся с купцами, сам Заруцкий — с воеводой Хворостининым. Наконец, в апреле 1614 года в Астрахани, к которой со всех сторон приближаются московские войска, начинаются бои между горожанами и казаками. Спасая Марину и царевича, атаман доверяется Трене Усу и вместе с ним бежит на Яик…
Здесь их и настигает крепнущая рука новой власти. «Сколь веревочка ни вейся, а совьешься ты в петлю…»
Заруцкого допрашивал сам царь. Мы никогда не узнаем, о чем беседовали робкий юноша и атаман; можно предположить, что за Михаила говорили, по обыкновению, его советники. Но, очевидно, ответы Заруцкого их не слишком устроили. Ведь практически все видные соратники обоих Дмитриев, в том числе и князь-атаман Дмитрий Трубецкой, остались вельможами и при новой власти.
Заруцкий после пыток был посажен на кол.
А трехлетний сын Марины, царевич Иван, повешен на виселице за Серпуховскими воротами.
Убийство детей, которые могут вырасти и предъявить претензии на наследство своих родителей — нередкое дело во время феодальных распрей. Не совсем обычно другое — что казнь маленького ребенка была устроена публично, словно своего рода народный праздник[7].
«Многие люди, заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою на место казни. Так как в это время была метель и снег бил мальчику по лицу, то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы несете меня?» Но люди, несшие ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не принесли его на то место, где стояла виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора, на толстой веревке, сплетенной из мочал. Так как ребенок был мал и легок, то этою веревкою по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел, и полуживого ребенка оставили умирать на виселице».
Э. Геркман, «Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России». Москва, 1874 год.Сторонники Романовых с самого начала пытались убедить и убедили страну, что царевич вовсе не был царевичем — сын самозванца, «тушинского царя» не имел законных прав на престол. Но мне кажется, что лучшим консультантом в этом вопросе для молодого Михаила Федоровича мог бы быть его отец Филарет Никитич, которого сделал митрополитом московский Димитрий, а патриархом — тушинский, то есть отец несчастного мальчика. По единодушному отзыву современников, Филарет стоял во главе «тушинской партии» бояр до того момента, когда посчитал для себя более выгодным перейти на сторону Сигизмунда Польского, а в это время он, кажется, не высказывал никаких сомнений по поводу законных прав «государя Дмитрия Ивановича». Потому-то царевича Ивана и не отравили, как Михаила Скопина-Шуйскогр, и не утопили, предварительно выколов глаза, как Болотникова, и не замучили в тюрьме вместе с матерью, гордой царицей Мариной, что он был для новой династии более чем реальным соперником. И только убивая его «всенародно», они могли в какой-то степени уберечь себя от воскресших «царевичей Иванов», то есть от того, что пришлось испытать на закате дней Борису Годунову и что так хорошо описал А. С. Пушкин в одноименной трагедии.
Я не верю в мистические совпадения и отношусь к истории вполне рационально. Но есть пугающая закономерность в том, что династия Романовых началась злодейским убийством ребенка и таким же злодейским убийством завершилась…
А для ответа на провокационные вопросы иностранцев наши дипломаты получили от своего христианского правительства такую официальную информацию:
«И Иваилко (Заруцкий) за свои злые дела, и Маринкин сын казнен, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своем выбледке умерла».
ХРОНОЛОГИЯ
Конец октября 1604 — выступление Дмитрия.
13 апреля 1605 — внезапная смерть Бориса Годунова.
10 июня 1605 — убийство Федора II Годунова.
20 июня 1605 — торжественный въезд Дмитрия в Москву.
Конец июня 1605 — первый заговор Василия Шуйского против Дмитрия.
8 мая 1606 — свадьба Дмитрия и Марины.
17 мая 1606 — убийство Дмитрия.
19 мая 1606 — избрание Василия Шуйского на царство.
Лето 1606 — выступление Болотникова и Ляпунова против Василия за «царя Дмитрия».
2 декабря 1606 — разгром Болотникова под Москвой.
10 октября 1607 — капитуляция Болотникова в Туле.
2 июля 1608 — основание Тушинского лагеря.
Февраль 1609 — приглашение шведской армии в Россию Василием Шуйским.
Середина сентября 1609 — вторжение польской армии Сигизмунда III.
Декабрь 1609 — распад Тушинского лагеря.
17 июля 1610 — свержение Василия Шуйского.
17 августа 1610 — избрание королевича Владислава на царство.
11 декабря 1610 — убийство Тушинского царя в Калуге.
Январь 1611 — рождение царевича Ивана.
Февраль 1611 — ополчение Ляпунова, Заруцкого и Трубецкого против Сигизмунда.
19 марта 1611 — восстание в Москве против Сигизмунда.
25 июля 1611 — убийство Ляпунова казаками.
Осень 1611 — второе ополчение Минина, Пожарского и Трубецкого против Сигизмунда.
26 октября 1612 — капитуляция польского гарнизона в Кремле.
21 февраля 1613 — избрание Михаила Романова на царство.
Осень 1613 — 15 апреля 1614 — правление Марины и Заруцкого в Астрахани.
25 июля 1614 — арест Марины и Заруцкого.
Владимир Тюрин А был ли заговор?
Со школьной скамьи я, как и все мое поколение, знал, что великий реформатор Петр I пожертвовал своим сыном во имя блага государства. Никакой загадки — ни уголовной, ни психологической. Царевич, окруженный мракобесами-попами и недобитыми боярами — поборниками дремучей и невежественной старины, — ленивый и слабовольный человек, вступил в заговор против отца, бежал за рубеж, был возвращен умными и государственно мыслящими сподвижниками царя, был судим, приговорен к смертной казни и внезапно скончался накануне экзекуции. Окончательно в этом нас убедил роман А. Н. Толстого. И фильм, помните? Николай Черкасов так театрально убедительно воссоздал образ именно того царевича Алексея, которого все мы знали. Мы — это не только советский народ, но и российский, ибо стереотип этой драмы был создан задолго до советского писателя графа Алексея Толстого и творца столь любимого нами в детстве фильма Сергея Эйзенштейна.
В 1872 году С. М. Соловьев пишет: «…Сын считает своей обязанностью удаляться от дел отцовских; отец считает своей обязанностью спасти будущее России, пожертвовав сыном». А картина H. Н. Ге? Нашкодивший, заранее виновный и обреченный Алексей — перед грозным и справедливым отцом! И даже усомнившийся если не в вине Алексея, то в мере виновности М. П. Погодин увидел в суде над Алексеем «такое происшествие, которое имеет… великое значение в Русской истории: это граница между древнею и новою Россиею, граница, орошенная кровию сына, которую пролил отец».
А может, и границы нет — границы между страстями человеческими и их (страстей) изображением? Может, и не было в этой трагедии борьбы нового со старым, а бушевали человеческие страсти, предвзятость и деспотизм?
Детство
Царевич родился 18 февраля 1690 года. Родители были молоды — Петру I не было еще и восемнадцати, Евдокии Федоровне, в девичестве Лопухиной, и того меньше. Царь, незадолго до этого достигший власти (осенью 1689 года правительство царевны Софьи было свергнуто), продолжал заниматься «марсовыми и нептуновыми потехами» и веселыми пирами в Немецкой слободе. Правила мать Петра, Наталья Кирилловна, и ее родственники. Алексей воспитывался Евдокией и отца видел редко.
Расхожее представление, перенесшее события и ощущения последующих лет на время детства царевича, в самом общем виде сводится к следующему. Молодой царь с юношеских лет почувствовал необходимость изменений в устройстве России. Он задыхался в душной атмосфере кремлевских дворцов и соборов и проводил время то в Преображенском со своими потешными, то на Переяславском озере, где занимался кораблестроением, то в Немецкой слободе, где общался с образованными и повидавшими мир иноземцами. Евдокия же была ревностной поклонницей старины, традиционных русских обрядов и обычаев, она и сына воспитывала в неприязни к отцу, появлявшемуся в семье редко и неизменно в дурном расположении духа, в чем опять-таки была виновата Евдокия, которая никак не хотела идти в ногу со временем. Таково хрестоматийное представление. А действительность?
Никаких преобразовательных планов Петр в первые годы своего правления не имел. Образ жизни он вел, мягко говоря, беспорядочный, и причиной разлада между супругами была не какая-то особая приверженность Евдокии Федоровны к старине (хотя, естественно, воспитанная в захудалой дворянской семье, она полностью склонялась к традиционной жизни) или ее попытки ограничить модернизаторские затеи мужа, а элементарное пренебрежение Петра семьей и увлечение дочерью виноторговца из Немецкой слободы Анной Моне, девицей бойкой и практичной, что не мешало, правда, молодому царю вступать и в другие, многочисленные и неразборчивые, связи.
Ко времени отъезда Петра за границу (март 1697) отчуждение между супругами достигло такой степени, что из Лондона он написал родственникам — Нарышкину и Стрешневу — о своем желании: уходе царицы в монастырь. Когда же Петр вернулся, маленький Алексей был взят от матери и отдан в дом тетки Натальи Алексеевны, Евдокия отвезена в Покровский монастырь, что в Суздале, а там позднее насильственно пострижена под именем Елены. Трудно сказать, как все это подействовало на мальчика. Думаю, с этого времени у него начал утверждаться страх перед отцом, который видел его редко, не занимался им и, как представляется, подсознательно переносил на него отношение к нелюбимой жене, перед которой к тому же был виноват по законам божеским и человеческим. И тетка не любила маленького Алексея. И, думаю, напрасно, с легкой руки Н. Устрялова, автора грандиозной «Истории царствования Петра Великого», утвердилась мысль, что «главным несчастьем было то, что до девяти лет царевич находился под надзором матери, косневшей в предрассудках старины и ненавидевшей все, что нравилось Петру». Не было отчуждения сына от отца, было отчуждение отца от сына да, наверное, испуг маленького существа перед человеком, лишившим его матери и жизни в привычном окружении.
Воспитание и образование
Расхожее представление: царевича учили церковники, учили по-старому, к учению Алексей был неохоч и к новым наукам склонности не питал, и следовательно, возбуждал тем самым неудовольствие отца. А вот факты свидетельствуют об обратном, хотя есть, правда, и доля истины в этой легенде (как во всякой легенде), но об этом — чуть позже.
Еще при матери Алексея стали учить грамоте, и его первый учитель Никифор Вяземский, остался при нем и после заточения Евдокии в монастырь. Вяземский был образованным для того времени человеком, известным как искусный ритор и грамотей. Для царевича был составлен иллюстрированный букварь со славянскими, греческими и латинскими буквами (этим букварем пользовались впоследствии русские школьники вплоть до середины XVIII века). Когда Алексею исполнилось девять лет, Петр вознамерился было отправить его для учения в Германию, но потом эта мысль была оставлена, и в 1701 году появился новый воспитатель, саксонский выходец Мартин Мартинович Нейгебауэр, для наставления «в науках и нравоучении». Нейгебауэр был человеком, несомненно, образованным, но чрезвычайно склочным и мелочным и в начале 1703 года был выслан царем за границу. Воспитателем стал другой немец, доктор права барон Генрих Гюйссен, который составил план обучения — весьма современный и отнюдь не ретроградный. План включал изучение французского языка по грамматике, изданной для дофина Франции, причем окружение царевича в часы занятий должно было говорить только по-французски; в часы отдыха предполагалось объяснять царевичу географические карты, учить обращению с циркулем; приступить к началам арифметики и геометрии, упражняться в фехтовании, танцах и конной езде. После шестимесячного курса, по освоении французского, предполагалось перейти к изучению истории и географии, продолжать осваивать математику, учить слогу и чистописанию, «читать Пуффендорфово сочинение о должности человека и гражданина, Фенелонова «Телемака» и обучать военным экзерцициям». На все это отводилось два года, в течение которых Алексею предстояло также ознакомиться с европейской политикой, основами воинского искусства, фортификацией, навигацией и артиллерийским делом.
Мальчик учился легко и охотно. Гюйссен постоянно хвалил его и не раз докладывал царю об успехах сына, сообщая, что царевич умен, кроток и благочестив. Правда, военных упражнений и фехтования Алексей не любил, да и математика давалась ему туго. Он был, как мы сказали бы сейчас, склонен к наукам гуманитарным, а Петр к последним относился, мягко говоря, прохладно, предпочитая дела практические. Но царевич, несмотря на свою нелюбовь к солдатчине, старался. В марте 1704 года он находился в лагере русских войск, осаждавших Нарву, и, как сообщал Гюйссен, искренно уверял отца, что, несмотря на молодость (ему было 14 лет), он делает все, что может, чтобы подражать деяниям и примеру Петра.
И вдруг в начале 1705 года Гюйссен, к которому царевич привязался и который, несомненно, благотворно на него влиял, был отправлен Петром за границу с не слишком значительными дипломатическими поручениями. Поручениями, которые, безусловно, мог бы выполнить и другой человек. Царевич же остался в Преображенском, будучи предоставлен себе самому на целых два года. Почему? Что случилось? И почему Петр неожиданно перестал посылать какие-либо распоряжения, касающиеся Алексея?
Вот что небезынтересно. Именно в это время в жизни Петра возникает Марта Скавронская, протеже и любовница А. Д. Меншикова, которому Петр поручил общее наблюдение за воспитанием царевича. Не охладевал ли Петр и к без того не очень-то любимому сыну — живому укору безнравственного и жестокого обращения с его матерью? И не использовал ли Меншиков — человек, лишенный каких бы то ни было нравственных принципов, эту неприязнь отца к сыну? Ведь многие думали, что именно Меншиков дал совет отправить Гюйссена в чужие края с его незначительным поручением. А позже сам Алексей объяснял австрийскому императору, что Меншиков с умыслом не давал ему учиться и побуждал к лени и пьянству. Допустим, что это — желание оправдаться, но, может быть, не только оно?
И приходится не верить (или, по крайней мере, не верить полностью) легенде о неспособности Алексея к учению или невероятной его лености. Царевич не любил не науки вообще, а те, которые были так милы его отцу. И с воспитанием дело обстояло вполне хорошо… до тех пор, пока по умыслу или без умысла Алексей оказался заброшенным и очутился в обществе людей если не враждебных, то, по крайней мере, оппозиционных в отношении методов Петра. Не надо забывать, что произошло это в возрасте, столь важном для формирования личности.
Окружение и характер
Петр со своей идиосинкразией к православному духовенству («О, бородачи, отец мой имел дело только с одним, а мне приходится иметь дело с тысячами; многому зло — старцы и попы»), желавший, особенно в конце жизни, превратить священников в чиновников, восхваляющих с амвона мудрые нововведения царя и доносящих властям об услышанном на исповеди, стремившийся переустроить русскую церковь на англиканский манер (монарх — глава церкви), впоследствии постоянно обвинял сына в приверженности к «бородачам», и на суде Алексею было вменено, что он злоумышлял против царя именно под влиянием этих «бородачей». И вообще создалось расхожее впечатление, будто бы с детских лет, а особенно в московский период своей жизни, Алексей был окружен чуть ли не исключительно попами и монахами. Так ли это было в действительности?
Верно, едва ли не самым близким человеком подростку стал его духовник, протопоп Яков Игнатьев, энергичный, богословски начитанный и умный. Игнатьев любил царевича и не любил Петра; он устроил ребенку свидание с матерью, через него Алексей переписывался с нею; будучи глубоко верующим человеком, Игнатьев, несомненно, осуждал Петра за пострижение жены. Однажды, после одного из наездов царя, когда тот избил сына и Алексей покаялся на исповеди, что думает о смерти отца, протопоп ответил: «Бог тебя простит; мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много!» Появлялись при дворе царевича монахи и священники, которые потом рассказывали, что царевич, в отличие от отца, любит читать Библию, аккуратно посещает церковь, чтит «церковное святыми иконами украшение, архиерейское, архимандричье и иерейское разное облачение и украшение и всякое церковное благолепие». В народе, шокированном слухами (а для столичных жителей — и зрелищем) о «всешутейшем и всепьянейшем соборе» — нарочитом издевательстве над верой, — это, несомненно, находило отклик, а известия об этом доходили до петербургского двора.
Но интереснее другое. К царевичу благоволили два высших иерарха православной церкви, которых уважал даже Петр и которые меньше всего были мракобесами или противниками просвещения. Одним из них был Иов, митрополит Новгородский, — ревностный создатель богоугодных заведений в России. Другим — местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский, который, несмотря на свою нерешительность и робость перед царем, осмеливался обличать произвол и злоупотребления властей, увлечение некоего правителя лютеранством, его греховную жизнь и указывал на гонение нелюбимого сына. Конечно, все это делалось в иносказательной форме, но слушавшие проповеди митрополита Стефана понимали, что речь идет о Петре, Екатерине и Алексее.
По-видимому, церковь — и на массовом уровне, и в лице ее просвещенных иерархов — возлагала надежды на Алексея, на его будущее царствование. И не только церковь. Родовитая знать — Голицыны, Долгорукие, Куракины, Шереметев, оскорбленные засильем временщиков, прежде всего врага Алексея — Меншикова, мечтавшие о просвещенном государстве и каком-то ограничении безудержного деспотизма, выказывали явное расположение к царевичу. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, киевский губернатор и будущий инициатор первой в истории России конституции (при Анне Иоанновне), переписывался с царевичем и привозил ему книги, до которых оба были охочи. Разделял взгляды Д. М. Голицына и его младший брат, о котором царевич говорил: «Князь Михаил Михайлович был мне друг же». Любимец Петра князь Яков Федорович Долгорукий, один из самых способных русских генералов князь Василий Владимирович Долгорукий, князь Борис Иванович Куракин, просвещенный человек с европейским лоском, — все они благоволили Алексею и, думается, ждали многого от его царствования. «Ты умнее отца, — говорил царевичу В. В. Долгорукий. — Отец твой хотя и умен, да людей не знает, а ты умных людей знать будешь лучше».
Непосредственное окружение царевича в Москве составляли «кавалеры» во главе с его учителем Никифором Вяземским и другими Вяземскими, Нарышкины, домоправитель Еварлаков, Федор Дубровский, сын кормилицы Колычев — люди средние, любившие поворчать, но отнюдь не ретрограды и менее всего заговорщики. Самой яркой фигурой в непосредственном окружении Алексея был Александр Кикин. Он был послан в числе первых Петром за границу для обучения, вернувшись, был близок к царю, но, будучи провиантмейстером на флоте, попался на злоупотреблениях и воровстве (случай заурядный в петровское время) и впал в немилость — удален ко двору Алексея. Необразованным и желавшим вернуть страну к прежнему этого человека никак назвать нельзя.
Но одно несомненно — и ближнее, и дальнее окружение Алексея было недовольно царем. Не стремясь к восстановлению допетровской России, они были за более плавный переход к новому, без мучительной и принимавшей чудовищные формы ломки, за сохранение традиций и преемственности. И в этом на Алексея они возлагали надежды.
По характеристике С. М. Соловьева, который перед Петром преклонялся, а потому судьбу царевича рассматривал как неприятную, но неизбежную жертву в интересах государства, Алексей был похож на деда — царя Алексея Михайловича и дядю — царя Федора Алексеевича, то есть был «образованным, передовым русским XVII века, был представителем старого направления», но «подобно им он был тяжел на подъем, не способен к напряженной деятельности, к движению без устали, которыми отличался отец его; он был ленив физически и потому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только; оттого ему так нравились русские образованные люди второй половины XVII века, оттого и он им так нравился». Наверное, многое справедливо в этой характеристике, правда, всегда остается извечная наша проблема: неужели для утверждения одного направления нужно рубить головы сторонникам реформ того же направления, но иных методов?
Судьба человека — его характер. И Алексей блестяще это подтвердил.
Он был, несомненно, умен. Это подтверждают и его письма, и разговоры о политических делах, и рассуждения о России и даже показания под пыткой. Сам Петр писал ему: «Бог разума тебя не лишил». Неплохо образован — говорил и хорошо писал по-русски и по-немецки, знал французский, много читал, любил книги. Был добр, набожен, мягок и неупрям, способен на сильное чувство. Он был скорее созерцательной, чем деятельной натурой, и мог бы быть достаточно гуманным и снисходительным государем. Но характер его не был сильным; отношение отца приучило его к уверткам, уклонению от прямого разговора; боясь отца, он скрывал свою нелюбовь к военным наукам и математике, а Петр никак не мог примириться с тем, что сыну милее церковные и гуманитарные книги. Царевич рано начал пить, но от участия в отцовских попойках уклонялся, предпочитая делать это в своем кругу. Он вспоминал, что в Петербурге, «когда позовут на обед или при спуске корабля лучше мне на каторге быть». В хмелю иногда он был несдержан, но после каялся. Хуже было другое — в подпитии он был болтлив, естественно, в кругу своих. Дальше смутных прожектов и пьяной болтовни дело не шло, но впоследствии этим воспользовались недоброжелатели и отец в первую очередь. Так потом, на следствии выплыли под пьяную руку сказанные слова: «Когда будет государем и тогда будет жить в Москве, а Петербург оставит простой город, также и корабли оставит и держать их не будет; а войска, де, станет держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением, и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле. И когда слыхал о каких видениях или читал в курантах, что в Петербурге все тихо и спокойно, говорил, что видение и тишина не даром; может быть либо отец мой умрет, либо будет бунт».
Навязанную ему жену он не любил, но обращался с ней ласково, тяжело переживал ее смерть и был привязан к детям. Дала судьба ему и истинную, но несчастливую любовь — к крепостной Вяземского, Евфросинье. Он привязался к ней до безумия, взял с собою, когда бежал в Австрию; и в значительной, если не решающей, мере уговоры Евфросиньи побудили его вернуться в Россию: ведь ему обещали, что он может жениться на ней и тихо жить где-нибудь в деревенском захолустье.
Конечно, он был слабохарактерен и легко поддавался обещаниям и уговорам. Он не хотел жениться, но под напором отца женился; он не хотел возвращаться в Россию и не верил в прощение отца, но дал себя уговорить и вернулся. Но вот что интересно и что отмечают те, кто хочет представить трагедию Алексея как столкновение между допетровской ретроградной Русью и новой Россией: никаких конкретных обвинений по поводу характера или действий царевича, кроме общих слов и отвлеченных рассуждений, Петр не выдвинул ни до бегства Алексея, ни в публичных обвинениях после его возвращения.
Неповиновение
В начале 1707 года Петр неожиданно вызвал царевича в Жолкву на Украине, где стоял со своей армией, ожидая движения Карла XII. Там впервые отец публично выразил неудовольствие сыном, обвинив его в неповиновении. Что же сделал Алексей? А совершил он проступок человеческий и легко объяснимый: навестил свою мать, с которой был разлучен в девятилетием возрасте. Алексей побывал в Суздале, где томилась в монастыре Евдокия. Сестра царя, Наталья Алексеевна, не любившая царевича, донесла Петру.
После этого Петр отправил сына в Смоленск заготовить провиант и набирать рекрутов. Судя по письмам и донесениям Алексея отцу, царевич весьма успешно справился с поручением, проявив трудолюбие и рвение. Через пять месяцев он получил новое назначение, на этот раз — в Москве: следить за состоянием крепостных сооружений, наблюдать за подготовкой солдат и их экипировкой и направлять сформированные полки в действующую армию. Из пятидесяти с лишним писем Алексея, относящихся к этому времени (1707–1709), очевидно, что царевич неустанно трудился и не вызывал никаких нареканий со стороны отца. В начале 1709 года он сам отвел набранные им пять полков в Сумы, а затем поехал к отцу в Воронеж, где присутствовал при спуске построенных кораблей, после чего снова вернулся в Москву. Алексей не только работал, но и учился: именно в эти воды он осваивает немецкий и французский и усиленно изучает математику и фортификацию.
В конце 1709 года по приказанию отца Алексей отправляется за границу — в Дрезден, где продолжает учебу, а в октябре 1711 года по воле отца женится на Софии-Шарлотте Бланкенбургской. Благодаря этому браку Петр породнился с австрийским правящим домом: сестра Шарлотты была замужем за наследником престола Габсбургов. И после женитьбы царевич безропотно выполнял поручения отца — поехал в Торн, затем — в Померанию, после — в финляндский поход и, наконец, — в Старую Русу и Ладогу для надсмотра над строительством кораблей.
Никаких свидетельств на протяжении 1707–1713 годов, что Петр имел какие-либо серьезные претензии к своему наследнику или Алексей действовал, против воли отца, не имеется. И хотя с 1713 года, когда царевич вернулся в Петербург, отношения отца и сына иногда омрачались (царевич стал еще больше бояться отца и с неохотой принимал участие в обедах и попойках у Меншикова и других близких к Петру людей), то, что произошло 27 октября 1715 года, явилось для Алексея, полной неожиданностью.
В тот день в Петропавловском соборе хоронили кронпринцессу Софию-Шарлотту. Жизнь ее сложилась несчастливо: брак оказался неудачным, царица Екатерина и Меншиков ее третировали, и болела она довольно часто 22 октября 1715 года она родила второго ребенка — Петра, а 22 октября скончалась. Алексей тяжело пережил смерть жены, плакал, рыдал, несколько раз падал в обморок. Когда все вернулись с похорон в дом царевича для поминок, Петр публично передал Алексею письмо, озаглавленное «Объявление сыну моему». В нем царь обвинял Алексея в неспособности к военному делу, в лености, злом и упрямом нраве и угрожал лишить наследования трона. Письмо было помечено 11 октября. Похороны состоялись 27 октября.
Оценивая, этот шаг Петра I, трудно удержаться от недоуменных вопросов. Почему письмо пролежало в кармане Петра больше двух недель? Какая необходимость была отдавать его Алексею в день похорон жены да еще с нарочитой публичностью? И о каком ослушании или неповиновении Алексея шла речь?
А вот если вспомнить, что происходило в царской семье между 11 и 27 октября 1715 года, то можно, по крайней мере, предположить, что история с письмом не столь уж и проста. Письмо помечено 11 числом, а 12-го у Алексея рождается сын, по логике — будущий царь. Если бы письмо было датировано более поздним числом, то вставал бы вопрос о новом престолонаследнике — сыне Алексея. 28 октября у Екатерины рождается сын — тоже Петр. Не в этом ли разгадка странностей с датами? Может быть (и вероятнее всего), письмо было написано где-то в промежутке между смертью Шарлотты и ее похоронами, а помечено с умыслом датой, когда других наследников, кроме Алексея, не было; тем самым создавалось впечатление о беспристрастности царя, заботившегося лишь о благе государства. Получает объяснение и показной характер действия — публичная передача письма; что же касается содержания письма, то для царя и раньше не была секретом нерасположенность Алексея к военному делу, но ведь это — не преступление, и к тому же Алексей послушно выполнял все поручения и особых нареканий отца не вызывал.
Вообще вся история с письмом подталкивает к мысли, что это был начальный этап заговора Екатерины и Меншикова, кончившегося гибелью Алексея. Действительно, восшествие на престол Алексея могло обернуться для супруги Петра и его всесильного фаворита не просто драмой, а катастрофой, учитывая окружение царевича и его настроения. Поэтому они доносили Петру о всех действительных или вымышленных высказываниях Алексея, а недостатка в них не было: царевич пил, а в хмелю был болтлив. Умело разжигалась подозрительность Петра к нелюбимому сыну от нелюбимой жены, подогреваемая страхом царевича перед отцом и его уклонением от участия в жизни петербургского двора. И трудно отделаться от мысли, что письмо от 27 октября 1715 года было оправдательным документом для замышляемого преступления против собственного сына.
Царевич бросился за советом к своим доброжелателям и друзьям. Вяземский и Кикин сразу же посоветовали отказаться от престола. Граф Федор Михайлович Апраксин обещал замолвить слово перед царем, равно как и князь Василий Владимирович Долгорукий, который также выразил готовность уговорить царя отпустить Алексея в деревню, добавив: «Давай писем хоть тысячу, еще когда что-то будет». 31 октября Алексей написал отцу письмо, в котором отрекался от престола, недвусмысленно давая понять в чью пользу: «Того ради наследия… Российского по вас (хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому дай, Боже, здоровье) не претендую и впредь претендовать не буду…»
19 января 1716 года Петр пишет второе обвинительное письмо «Последнее напоминание еще». Странное и нелогичное письмо. Царь не довольствуется отречением сына, а требует от него ответа на упреки в «негодности», хотя в своем письме Алексей уже эту свою «негодность» признал. Не верит он и отречению: «К тому ж и Давидово слово: всяк человек ложь. Також хотя бы и истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды (царю всюду мерещились попы. — В. Т.), которые ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело». И новое требование: постричься в монахи, «ибо, — пишет Петр, — без сего дух мой спокоен быть не может». И наконец, прямая угроза: «А буде того не учинишь, то я с тобой, как с злодеем, поступлю».
На следующий день царевич ответил отцу согласием постричься. И снова Петр не удовлетворяется покорностью сына и не спешит дать согласие на пострижение. Наверное, не только Кикину, произнесшему эти слова, но и Меншикову с Екатериной, приходила в голову мысль, что «Клобук же не прибит к голове гвоздем, можно будет, когда понадобиться, его и снять». В сентябре 1716 года царевич получил от отца из Копенгагена третье письмо, в котором содержалось требование немедленного приезда в армию. После этого письма Алексей решился. 26 сентября он простился с сенаторами и выехал из Петербурга.
Бегство
28 сентября 1716 года царевич Алексей поблизости от Либавы встретил свою тетку, царевну Марью Алексеевну (единоутробную сестру отца), возвращавшуюся с лечения из Карлсбада, и сердечно с нею беседовал. В тот же день в Либаве он увидел верного Кикина, также вернувшегося из Карлсбада. 21 октября курьер Сафонов доносил царю, находившемуся в Шлезвиге, что царевич едет вслед за ним. Но когда Алексей проехал Данциг, следы его затерялись. 9 декабря Петр приказал генералу Вейде, командовавшему русскими войсками в Мекленбурге, начать розыски царевича, а на следующий день вызвал к себе, в Амстердам, русского резидента в Вене Веселовского и велел ему искать беглеца.
А царевич тем временем уже находился в тирольском замке Эренберг. 10 ноября он появился в Вене под именем польского шляхтича Коханского. Остановившись в гостинице, он отправил своего слугу к вице-канцлеру графу Шёнборну. В тот же вечер он встретился с графом в его доме. По рассказу Шёнборна, царевич бросился к нему, озирался и бегал по комнате, сильно жестикулируя. «Я пришел сюда просить императора, моего свояка, о покровительстве, — произнес он наконец, — о спасении жизни моей: меня хотят погубить, меня и бедных детей моих хотят лишить престола». И далее последовало объяснение событий так, как понимал их сам Алексей, и трудно удержаться от мысли, что со многим в этом объяснении трудно не согласиться (по крайней мере, психологически): «Отец мой окружен злыми людьми, до крайности жестокосерд и кровожаден, думает, что он. как Бог, имеет право на жизнь человека, много пролил невинной крови, даже часто сам налагая руку на несчастных страдальцев; к тому же неимоверно гневлив и мстителен, не щадит никакого человека, и если император выдаст меня отцу, то все равно, что лишит меня жизни. Если бы отец и пощадил, то мачеха и Меншиков до тех пор не успокоятся, пока не запоят или не отравят меня». И наконец, главное, по мнению Алексея, объяснение: все шло хорошо, пока не стали рождаться у него дети и новая царица не родила сына, после чего Екатерина и Меншиков «раздражили против меня отца».
Австрийские родственники взяли Алексея под свое покровительство, и 7 декабря 1716 года он был тайно перевезен в горную крепость Эренберг, что в Тироле. Тем временем резидент Веселовский сообщил Петру, что царевич находится в Австрии. Немедленно был послан гвардии капитан Александр Румянцев с четырьмя офицерами — Веселовский полагал, что царевича можно схватить и увезти. Румянцев быстро обнаружил местопребывание Алексея и направился в Эренберг, но царевича там уже не было: в мае Алексея вместе с его любовницей Евфросиньей перевезли в Неаполь и поместили в замке Сан-Эльмо. Но уже в конце июня Румянцев, неотступно следовавший по пути царевича из Тироля в Неаполь, а затем побывавший у Петра в Спа, появился в Вене — на этот раз вместе с хитрейшим петровским дипломатом Петром Андреевичем Толстым, всю жизнь замаливавшим грех перед Петром: в оные времена он был сторонником Софьи. Посланцы Петра стали добиваться у цесаря выдачи царевича или, по крайней мере, позволения увидеться с ним и передать отцовское письмо. Австрийский император под нажимом министров, не желавших ссориться с царем, согласился допустить свидание, но неаполитанскому вице-королю графу Дауну была дана инструкция, красноречиво свидетельствующая, что иллюзий в отношении Петра австрийский двор не питал: «Свидание должно быть так устроено, чтоб никто из московитян (отчаянные люди и на все способные) не напал на царевича и не возложил на него руки…»
24 сентября 1717 года Толстой и Румянцев прибыли в Неаполь, а через день увиделись с Алексеем и передали ему письмо отца, в котором Петр писал: «Обнадеживаю тебя и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе, если ты воли моей послушаешься и возвратишься». Алексей был смертельно напуган. «Мы нашли его в великом страхе, — сообщал Петру Толстой, — и был он того мнения, будто мы присланы его убить». Слабохарактерный царевич метался, не решаясь дать определенный ответ. Агенты Петра пустили в ход убеждения, угрозы, лесть. Был подкуплен секретарь вице-короля Вейнгард, который «конфиденциально» сообщил царевичу, что венский двор готов его выдать — это была наглая ложь. Толстой уговорил Евфросинью убедить царевича вернуться, обещая, что отец отпустит их на спокойное житье в деревню. Наконец, Толстой объявил уже обессиленному Алексею, что скоро отец сам приедет в Неаполь. Эта ложь окончательно сломила Алексея. «Не только действительный подход, — писал Толстой, — но и одно намерение быть в Италии добрый ефект их величествам и всему Российскому государству принесли».
И царевич сдался. 3 октября он объявил Толстому и Румянцеву, что готов вернуться, если получит от отца прощение и ему будет позволено обвенчаться с Евфросиньей и жить в деревне. Разумеется, такое обещание было ему дано. После посещения Бари для поклонения мощам Св. Николая чудотворца Алексей через Рим, Венецию и Вену двинулся домой. В дороге он получил новое письмо Петра, в котором тот подтверждал свои прежние обещания. Толстой и Румянцев, неотступно находившиеся при нем, устроили так, что Вену проехали ночью, не повидав императора. В Брюнне (Брно) генерал-губернатор Моравии граф Колоредо по приказу императора увиделся с царевичем, чтобы узнать, по своей ли воле он возвращается в Россию. Алексей извинился за то, что не представился императору, и ответил на вопрос утвердительно. Свидание происходило в присутствии Толстого.
Беременная Евфросинья тем временем тоже ехала домой, другой дорогой, через Нюрнберг и Берлин. Влюбленные постоянно обменивались письмами и царевич постепенно успокаивался. А тем временем несколько почт из России было задержано с тем, чтобы Алексей не получил какого-то известия, что дела обстоят не столь радужно, как ему рисовал их Толстой. 31 января 1718 года царевич прибыл в Москву, а 3 февраля начался заключительный акт его трагедии.
Размышляя о том, что произошло впоследствии, трудно отказаться от мысли, что и в этих событиях — бегстве и возвращении царевича — не все так просто, как хотел позже представить Петр.
Почему Петр не разрешил Алексею уйти в монастырь, а неожиданно вызвал его в действующую армию?
Почему Кикин, встретив Алексея в Либаве, сказал ему, что Веселовский говорил с вице-канцлером Шёнборном и тот обещал царевичу покровительство австрийского императора? Кикин — человек, преданный Алексею, лгать тому не мог: он, несомненно, разговаривал с Веселовским. Зачем же Веселовский, который принял позднее такое горячее участие в возвращении Алексея, по сути дела провоцировал царевича к бегству в австрийские пределы — по логике вещей, единственное место, где беглец мог укрыться? И почему, когда впоследствии на пытке Кикин об этом рассказал, Веселовского не вызвали для объяснений? И наконец, почему после смерти Алексея Веселовский бежал и в Россию никогда не вернулся? И почему Петр до конца своих дней так страстно хотел его найти, обещая 20 тысяч гульденов в награду тому, кто разыщет беглого дипломата? Не было ли тонко и хитро задуманного плана, в котором учтены были родственные связи Алексея и его слабохарактерность, чтобы побудить его к бегству, которое можно было бы представить изменой? Конечно, это всего лишь предположения и домыслы, но…
А ложь Петра и его посланцев, чтобы вынудить Алексея вернуться? Обещания прощения, убаюкивание возможностью жить частной жизнью с Евфросиньей? И циничная инструкция царя своим посланцам — Толстому и Румянцеву: обещать прощение и «употреблять… вымышленные рации и аргументы» в то время, когда уже готовились следствие и процесс?
И ответ регента Франции герцога Орлеанского (он правил при малолетнем Людовике XV) русскому посланнику в Париже барону Шлейницу, когда тот сообщил ему в разгар расследования «заговора» об отрешении Алексея от наследства, весьма интересен: «Царское величество в бытность свою во Франции (Петр побывал там еще в апреле — июне 1717 г.) открыл мне по секрету о своем намерении; признаюсь, тогда я боялся, не опасно ли это дело; но теперь мне остается только удивляться искусству царского величества, с каким он поступил в этом деле».
Суд и смерть
3 февраля 1718 года в кремлевском дворце были собраны сенаторы, сановники, генералы. Царь (опять публично!) произнес гневную речь, исчислив действительные (их немного) и мнимые (их более чем достаточно) вины Алексея и закончил свою речь требованием, чтобы сын отказался от прав на престол (к этому Алексей был готов) и — полная неожиданность — назвать соучастников в заговоре и измене. Не дав царевичу опомниться, Петр увлекает его «в близ лежащую камору», и там обманутый и сломленный Алексей в угоду отцу называет «соучастников», точнее — просто близких и сочувствующих ему людей. А тем временем вице-канцлер П. П. Шафиров уже готовит, несомненно, заранее обдуманную клятвенную запись, которую сопровождаемый всеми собравшимися царевич подписывает в Успенском соборе, перед крестом и Евангелием. В тот же день обнародован царский манифест, в коем прописаны «вины» царевича, за что он отстраняется от престола, а наследником назначается его единоутробный брат Петр, хотя он еще и «малолетен сущий». Не обошлось и без прямой лжи: в манифесте заявлялось, что царевич вернулся по требованию австрийского императора, который «из-за него с нами войны вести не захочет» и потому царевич «против воли, согласился к нам ехать».
Но это было лишь начало. На следующий день началось оправдание манифеста и разыгранного 3 февраля действа: изобличение преступников, раскрытие заговора и государственной измены. 4 февраля от царевича были затребованы «вопросные пункты» о соучастниках и замышляемых действиях, иначе, как сказал Петр, «и пардон не в пардон будет». И, не дожидаясь ответа царевича, поскакали гонцы (уже 5-го!) за «соучастниками» в Петербург и, конечно же, в Суздаль, где находилась бывшая царица Евдокия.
Со всех сторон в страшное Преображенское свозятся «участники заговора», близкие Алексея, а то и просто оговоренные люди. В феврале — марте нещадно пытают Кикина, камердинера царевича Афанасьева, домоправителя Еварлакова… И мстительная радость Петра — добрались до матери царевича, нелюбимой жены Великого, которой тот мстил всю свою жизнь (за что? за свою неверность и любовь к другим женщинам?).
Бывшая царица сознается в связи с присланным в Суздаль для солдатского набора майором Глебовым, причем было это, как показал сам Глебов, «тому лет с восемь или девять». Арестовывают тетку Алексея, царевну Марью, единственная вина которой, как устанавливает следствие, заключалась в том, что она плакалась на бесконечную войну, на великие подати, на разорение народное, и «ее милостивое сердце снедала печаль от воздыханий народных». Взяли ростовского епископа Досифея, который говорил с неодобрением о деятельности преобразователя: «Посмотрите, у всех на сердцах, извольте уши пустить в народ, что в народе говорят».
Крутится мельница-застенок в Преображенском. «Участники», свидетели, случайные люди — все под пытками или запуганные на допросах дают показания. Разговоры, ненароком или по пьянке оброненные слова, зачастую многолетней давности, просто невысказанные мысли и настроения — все годится, все подшивается в пухлые тома, все служит одной цели. А цель эта — обвинение Алексея, который уже сломался, особенно после того, как его любимая, Евфросинья, тоже запуганная (и которой было обещано прощение), предает его и на очной ставке рассказывает (или говорит подсказанное) о том, что думал и хотел Алексей.
А круг подозреваемых все расширяется, уже не только Лопухины и Нарышкины, родственники царицы Евдокии и Алексея, попадают в него, но и люди ближнего круга царя — князь В. В. Долгорукий, князья Д. М. и М. М. Голицыны, граф Б. П. Шереметев, митрополиты Стефан Яворский, Иов Новгородский, даже Меншиков в Петербурге затаился и жадно ловил известия из Москвы.
В середине марта в Москве началась расправа. Казнили Кикина и расстриженного епископа Досифея. Страшную казнь уготовил царь майору Глебову — он был посажен на кол. Майор оказался человеком мужественным. На допросах он никого не оговорил, всю вину за адюльтер с Евдокией взял на себя, а на колу «никакого покаяния учителям (священнослужителям. — В. Т.) не принес, только просил тайно в ночи, через учителя иеромонаха Маркелла, чтоб он сподобил его Св. Тайн, как бы он мог принести к нему каким образом тайно, и в том душу свою испроверг». Сослан Семен Нарышкин, секут кнутом женщин из Суздаля, замешанных «в дело» Евдокии.
Закончились казни в Москве, отправлена в Ладогу царица Евдокия (инокиня Елена), в Шлиссельбург — царевна Марья Алексеевна, и царь отбывает в Петербург, куда велит доставить Авраама Лопухина, Василия Владимировича Долгорукого, Афанасьева, Еварлакова и других служителей царевича. В мае уже в Петербурге начались новые допросы и пытки, на которых присутствует (не всегда, правда) и сам Петр. Дает показания доставленная в столицу Евфросинья (ее содержат в крепости). Разыгрывают комедию перед австрийским двором — для европейского, как бы сейчас сказали, общественного мнения: требуют отозвания цесарского посланника Плейера и передачи писем царевича к своему свояку — австрийскому императору, пытаясь представить действия Алексея государственной изменой. От царевича непрерывно требуют письменных объяснений, которые тот дает, сломленный и еще надеющийся на снисхождение (которое ему допросчики, в первую очередь П. А. Толстой, видимо, обещают).
13 июня назначается суд над Алексеем в составе 127 высших сановников государства. На следующий день царевича привозят в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, где еще в мае учрежден застенок. А 17 июня совершается уму непостижимое: в Сенате царевич подписывает написанные Толстым показания и по этим показаниям допрашивают с пытками (в Сенате!) в присутствии Алексея Лопухина, Вяземского, князя Василия Долгорукого и протопопа Якова Игнатьева — духовника царевича. Распространен слух, что царевич в сознании своей вины предался беспробудному пьянству (небезынтересно было бы знать, кто давал ему водку в каземате?).
19 числа царевича приводят в застенок и впервые пытают — бьют кнутом, добиваясь утвердительного ответа на заранее сфабрикованное обвинение: «…хотел учинить бунт и к тем бунтовщикам приехать (речь шла о поездке 1716 года по вызову отца к армии, расквартированной в Мекленбурге, до которой Алексей не доехал, сбежав в Вену. — В. Т.), и при животе отцове, и прочее, что сам показал и своеручно написал, и пред сенатом сказал: все ль то правда, не поклепал ли и не утаил ли кого?». 22 июня после посещения Толстого царевич «признался»: австрийский двор обещал помочь ему завладеть российской короной.
Но даже под угрозами и пыткой Алексей написал свои признания в сослагательном наклонении: «Ежели бы до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал и вооруженною рукою доставить меня короны Российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследства…» Признание, не заслуживающее ни малейшего доверия: не говоря уже о том, что в самых тайных документах венского архива нет никаких упоминаний, даже намеков на переговоры Алексея с императором или его министрами о вмешательстве в российские дела, полной нелепостью является предположение, что австрийский двор, хотя и недовольный действиями Петра в Германии и договором России с враждебной Австрии Францией, замышлял военные действия в пользу Алексея. Недаром один из умнейших людей петровской эпохи, в то время посланник в Нидерландах, князь Борис Иванович Куракин в своем меморандуме о положении дел в Европе писал в 1719 году, что «явным образом этот двор (австрийский. — В. Т.) никогда не выступит против России, разве под рукою будет одними словами помогать врагам ее, но ни войска, ни денег — не даст: первого по многим причинам, а вторых — потому что нет». И никаких серьезных представлений петербургский двор венскому и не подумал сделать, удовлетворившись отозванием Плейера — жест с обеих сторон чисто формальный.
А дальше… уже какая-то нечеловеческая, изуверская жестокость Петра. 24 июня суд из 127 человек, назначенных царем, приговорил царевича к смертной казни по заведомо сфабрикованному и ничем не доказанному обвинению: «Потому что из собственноручного письма его, от 22 июня, явно, что он не хотел получить наследства, по кончине отца, прямою и от Бога определенною дорогою, а намерен был овладеть престолом чрез бунтовщиков, чрез чужестранную цесарскую помощь и иноземные войска, с разорением всего государства, при животе государя, отца своего. Весь свой умысел и многих согласных с ним людей таил до последнего розыска и явного обличения в намерении привести в исполнение богомерзкое дело против государя, отца своего, при первом удобном случае». И в тот же день уже осужденного царевича снова пытают в застенке. Пытают его — теперь уже в последний раз — и 26 июня, с 8 до 11 утра. Присутствуют Меншиков, Яков Долгорукий, Головкин, Апраксин, Стрешнев, Толстой, Пушкин, Шафиров, Бутурлин и… сам Петр. И «того ж числа, по полудни в 6 часу, будучи под караулом, в Трубецком раскате, в гарнизоне, царевич Алексей Петрович преставился».
Когда и как умер Алексей осталось и останется неизвестным. Скончался ли он к вечеру от пыток или был казнен утром в присутствии (не хочется говорить «при участии» отца — не все ли равно? К морю крови, пролитой преобразователем, просто добавилась еще капля, на этот раз, правда, как бы собственная. Но не воспринимал Петр (и боюсь, что никогда) Алексея как своего сына и, очень скоро поняв, что не похож на него сын, уготовил (вначале, наверное, подсознательно, а потом вполне осознанно) ту участь, к которой привел царевича со всей своей беспощадностью и безразличием к судьбам человеческим, что так отличали царя, названного Великим.
Два тирана в российской истории, два человека, каждый из которых составил в ней эпоху, два сыноубийцы. Иван Грозный, нечаянно убив своего сына, не находил себе места, впал в отчаяние, каялся всю оставшуюся жизнь, что не мешало ему, впрочем, продолжать казни, издевательства и разорение собственного народа. А Петр? На следующий день по смерти царевича был на обедне в Троицком соборе, принимал поздравления по поводу годовщины Полтавской победы, затем обедал на почтовом дворе, а после все гости «прибыли в сад его царского величества, где довольно веселились, потом в 12 часу, разъехались по домам». А накануне погребения Алексея царь праздновал свои именины, обедал в летнем дворце, участвовал при спуске корабля, а затем был устроен фейерверк, после чего пир продолжался до двух часов ночи. Но и после смерти сына Петр не успокоился, и сыскная царская машина продолжала исправно действовать. Служителей царевича отправили в Сибирь, князя В. В. Долгорукого — в Соликамск, а 8 декабря состоялась казнь Авраама Лопухина (дяди Алексея), духовника царевича Якова Игнатьева, слуг Афанасьева и Дубровского. В тот же день кнутом были биты Еварлаков, Акинфиев и князь Федор Щербатов (ему также отрезали язык и вырвали ноздри). Головы казненных выставили на каменных столбах (на железных спицах) близ Съестного рынка, а тела разрешили родственникам похоронить лишь в конце марта следующего, 1719 года.
Так существовал ли заговор, жертвою которого стал Алексей? Да, существовал, только не сына против отца, а, напротив, отца против сына. Лгать Петр продолжал и после смерти сына. В предписаниях своим посланникам при иностранных дворах он велел описать кончину царевича как естественную (от «жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии»), особенно подчеркивая, что Алексей «чистое исповедание и признание тех своих преступлений против нас со многими покаятельными слезами и раскаянием нам принес и от нас в том прощение просил, которое мы ему по христианской и родительской должности и дали».
Ни доказательств заговора Алексея, ни заговорщиков, как выяснилось на более чем пристрастном следствии, не было. И полагаю, что С. М. Соловьев явно впал в крайность, когда написал, что «программа деятельности по занятии отцовского места уже начертана: близкие к отцу люди будут заменены другими, все пойдет наоборот, все, что стоило отцу таких трудов, все, из-за чего подвергался он таким бедствиям и наконец получил силу и славу для себя и для государства, все это будет ниспровергнуто».
Трудно, конечно, судить, что бы случилось, если бы Алексей стал царем. Но возврата к старому (если под «старым» понимать Россию времен Алексея Михайловича) произойти уже не могло.
И не случайно Б. П. Шереметев отказался подписать смертный приговор Алексею. Сам ли Петр создал «заговор» Алексея или с готовностью принял написанный другими сценарий, останется загадкой. Может быть, он хотел оставить престол сыну от Екатерины, вскоре после этих событий умершему Петру, может быть, создал в своем страхе образ старшего сына — ретрограда и любителя старины. Может быть. Но одно очевидно: он своего старшего сына не любил.
Владимир Тюрин Смерть от неволи?
История убеждает, что любая не уравновешенная ничем впасть — ни законами, ни гражданскими институтами — гибельна. И не только для подданных, но и для самих властителей. Окружение неизбежно старается их принизить, подчинить влиянию, развратить, лишить воли и, наконец, убить. Только закон спасает властителя от расправы — таков итог при рассмотрении истории любого царского или королевского дома, в том числе и дома, царствовавшего самодержавно в России. А способы убийства бывают разные — можно убить, и не желая того, убить, лишив воли и разума. Лишь два с лишним года процарствовал в России император Петр II — умный, здоровый, добрый мальчик. Его смерть, как мы потом увидим, повлекла за собой новую цепь убийств…
В конце апреля у императрицы Екатерины Алексеевны открылась горячка. Шел 1727 года, третий год после смерти Петра, привязанность которого к императрице, в прошлом судомойке-чухонке Марте Скавронской, не отличавшейся ни особой красотой, ни образованностью и, уж менее всего, нравственностью, осталась загадкой для потомков, хотя, быть может, была понятна современникам — соратникам и сподвижникам преобразователя. Они-то при содействии петровской гвардии и решили уже через три часа после кончины Петра, что на престоле российском воссядет его жена.
Не все сподвижники, однако, стояли за Екатерину. Потомки Рюрика и Гедимина, князья Голицыны, Репнины, Трубецкие, Долгорукие, а также родовитые Нарышкины, Головкины, Салтыковы страстно ненавидели выскочек, всех этих меншиковых, ягужинских, девиеров, низких по происхождению да вдобавок и иностранцев. Русская знать стала группироваться вокруг девятилетнего ребенка, сына погибшего ужасной смертью (по слухам, даже от руки отца, царевича Алексея). Этим ребенком был Петр Алексеевич, внук царя-реформатора и его первой жены, Евдокии Лопухиной, ныне инокини Елены, содержащейся в заточении в Шлиссельбургской крепости.
Он родился 12 октября 1715 года и был вторым ребенком (первый — горячо любимая им сестра Наталия) в скоропалительном и неудачном браке царевича Алексея Петровича и принцессы Бланкенбургркой Шарлотты-Софии, внучки Брауншвейг-Вольфенбюттельского герцога. Петр I, отправляя в 1709 году сына за границу, велел ему учиться и жениться. Программа учения принудительная — геометрия и фортификация, а выбор невесты — свободный. Но свобода эта была свободой петровской. Жениться царевич мог только на иностранке. Более того, Петр сам нашел невесту, а уж потом царевич избрал свою невесту добровольно.
Брак заключили на чужбине в октябре 1711 года. Царевна осталась лютеранкой и немкой до мозга костей, а царевич, как заметил австрийский посланник при русском дворе, «не вывез из Германии немецкого чувства и нрава». Шарлотта не любила русских, ее приводили в содрогание и богослужение, и грязь на улицах, и странные для нее обычаи. Царевич же убегал от нелюбимой жены, проводил время со своими приятелями, перемежая беседы о религии горьким пьянством.
Кронпринцесса Шарлотта скончалась через десять дней после рождения сына, и на следующий день царь Петр вручил Алексею письмо, в котором, по сути дела, лишал его и его новорожденного сына Петра наследства в пользу только что родившегося другого младенца и тоже Петра — своего сына от Екатерины.
Когда погиб его отец, маленькому Петру Алексеевичу было три года. Ребенок рос в небрежении. Дед не любил его, не переменившись к ребенку даже после смерти (в младенчестве) своего сына Петра. Воспитывали мальчика сначала нянька-немка, потом еще какие-то две женщины «неважной кондиции», как тогда изъяснялись, — вдова портного и вдова кабатчика. Позднее к ним присоединился немец Норман, танцмейстер и бывший моряк, который учил царевича чтению и письму. С 1718 года воспитанием великого князя стал ведать Семен Афанасьевич Маврин, ранее паж императрицы Екатерины, впоследствии камер-юнкер и камергер. В 1723 году к Маврину добавился Иван Алексеевич Зейкин, венгр по происхождению, учивший мальчика латыни. По-видимому, Петр умышленно не заботился о воспитании и образовании внука, не желая, чтобы ребенок взошел на престол.
Но если в 1725 году Меншиков легко преодолел сопротивление родовитой знати и, по сути дела, отстранил Петра Алексеевича (формально по причине малолетства), то через два с небольшим года он не только не стал препятствовать сыну царевича Алексея — своего врага, гибели которого он в немалой мере способствовал, — занять престол, но и всеми силами этому содействовал. Фактический правитель Российской империи и ее богатейший человек, талантливый полководец и не менее талантливый казнокрад, любимец Петра и любовник Екатерины в бытность ее Мартой Скавронской, светлейший князь и фельдмаршал Александр Данилович Меншиков находился в апреле-мае 1727 года в затруднительном положении.
Императрица умирала. И поднимали головы враги — Голицыны и Долгорукие. Глава голицынского клана и всей аристократической партии в Петербурге князь Дмитрий Михайлович — человек безупречной порядочности, широкого ума и образованности, огромной энергии и несокрушимой твердости. При Петре он был посланником в Константинополе, а затем губернатором в Киеве. Дмитрий Михайлович никак не мог примириться с мыслью, что он, Гедиминович, должен быть «покорным рабом», и потому мечтал об ограничении царской власти по шведскому образцу. Брат его, Михаил Михайлович, возведенный при Екатерине в фельдмаршалы, командовал армией на Украине и заслужил известность при Петре. Когда царь в награду за храбрость в битве при Лесной («матери Полтавы», как говорил Петр) в сентябре 1708 года произвел в генерал-майоры, пожаловал Андреевской лентой и обещал исполнить любое желание, Михаил Михайлович попросил помиловать своего личного недруга князя Никиту Репнина, находившегося тогда под судом. Известен он был также тем, что вместе с Репниным, ставшим его близким другом, и фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым отказался подписать смертный приговор царевичу Алексею. Долгорукие, не отличаясь моральными качествами Голицыных, были гораздо более опытными и ловкими царедворцами. Василий Лукич, племянник Якова Долгорукого, блестящий дипломат, не унаследовал прямоты и мужества своего дяди, который не боялся говорить правду самому Петру Великому. Он долго жил во Франции, был секретарем русского посольства в последние годы жизни Людовика XIV, а затем послом в эпоху регентства, с блеском представив Россию во время коронования Людовика XV. Во время Северной войны Василий Лукич стал послом в Копенгагене, а потом — в Варшаве. Его двоюродные братья — Григорьевичи: Алексей, Сергей, Иван и Александр — печально славились грубостью, низкопоклонством при дворе и неразборчивостью в средствах. Несколько особняком стояли Василий Владимирович, человек храбрый и честный, хотя и недалекий, командующий русской армией в Персии и на Кавказе, и его брат Михаил, сибирский губернатор.
Слабевшая императрица, ее дочери — Анна и Елизавета — и так называемая голштинская партия при дворе, возглавляемая мужем Анны и претендентом на шведский престол герцогом Шлезвиг-Голштйнскйм Карлом-Фридрихом, возлагали все свои надежды на Менщикова, стремясь удержать российский престол в женской линии Романовых. Но светлейший внезапно (так казалось современникам) переменил фронт и стал приверженцем маленького Петра и примирился с родовитой русской знатью. Датский посланник в Петербурге Вестфален приписывал заслугу себе. Действительно, стремясь не допустить восшествия на российский престол герцогини голштинской Анны Петровны, он вместе с австрийским посланником графом Рабутиным предложил Меншикову следующий план: на престол восходит Петр Алексеевич, племянник австрийской императрицы, а Меншиков выдает за него замуж свою дочь и получает от императора Карла VI инвеституру на герцогство в Силезии, становясь тем самым владетельным европейским принцем.
Но, думается, причина была глубже. Меншиков понимал, что отстранить уже подросшего мальчика — внука Петра Великого в пользу одной из, строго говоря, незаконнорожденных (родившихся до брака Петра I и Екатерины) дочерей невозможно: в народе разрастались слухи, что Меншиков хочет извести великого князя. Уже в дни возведения на престол Екатерины саксонский посланник при петербургском дворе Лефорт писал: «Не сомневаются, что при Екатерине дела пойдут хорошо, но сердца всех за сына царевича». Архимандрит одного из нижегородских монастырей Исай я уже в 1726 году поминал «благочестивейшего великого государя нашего Петра Алексеевича» вместо «благоверного великого князя» и в ответ на все возражения отвечал: «Хотя мне голову Отсеките, буду так поминать, а против присланной формы поминать не буду, потому что он наш государь и наследник».
В марте Меншиков добился согласия Екатерины на свой план, с которым немедленно согласились Голицыны. Все попытки герцога Голштинского, а также графа и сенатора Петра Андреевича Толстого, смертельно боявшегося прихода к власти сына погубленного им Алексея, и генерала Андрея Ивановича Ушакова, сыскных дел мастера и будущего главы Тайной канцелярии, ни к чему не привели. 6 мая 1727 года Екатерина скончалась, а на следующий день рано утром в присутствии членов Верховного тайного совета[8], Синода, Сената, царской семьи и генералитета (полки — Преображенский и Семеновский — были расставлены у дворца) завещание, подписанное за неграмотную Екатерину ее дочерью Елизаветой, было оглашено. Интересно, что современники обратили мало внимания на само завещание. Важнее для них было согласие высших чинов, по сути дела отменявшее закон Петра Великого о престолонаследии: восстанавливалась наследственность династии.
Много надежд возлагала Россия на воцарение Петра II. Редкое единодушие царило в обществе. В народе восстанавливалось укоренившееся в сознании понятие божественности царской власти, поколебленное было законом Петра Великого о престолонаследии, согласно коему право выбора наследника (или наследницы) принадлежало всецело императору. Не только простой народ и духовенство, но и подавляющее большинство боярских и дворянских фамилий, еще не окончательно разделенных с народом той бездной, которую начал рыть великий преобразователь, с радостью встретили восшествие на престол сына несчастного Алексея, пострадавшего, как все были убеждены, за приверженность к старине. Но и «птенцы гнезда Петрова», оставаясь у государственного кормила, полагали, что при малолетнем государе дело его деда будет продолжаться. Надеялись на доброе, хорошее царствование. Ребенок был миловиден, непосредствен, добр, прост с близкими, общителен, нежно привязан к своей сестре, бывшей лишь годом старше его, но рассудительной и проницательной не по летам. На следующий день после возведения на престол юный император написал ей письмо, которое спустя полтора месяца зачитал в Верховном тайном совете: «После того как Бог изволил меня в малолетстве всея России императором учинить, наивящее мое старание будет, чтобы исполнить должность доброго императора, то есть, чтоб народ, мне подданный, с богобоязненностью и правосудием управлять, чтоб бедных защищать, обиженным вспомогать, убогих и неправедно отягощенных от себя не отогнать, но веселым лицом жалобы их выслушать и по похваленному императора Веспасиана примеру никого от себя печального не отпускать».
Воцарение Петра II поначалу не внесло особых перемен в укладе его жизни. Власть находилась в руках у Меншикова, который перевел императора из дворца в свой дом на Васильевском острове, удалил из Петербурга соперников — герцога голштинского с его супругой Анной Петровной и сподвижников Петра Великого — Ягужинского и Шафирова. Меншиков был еще могущественнее, чем даже при Екатерине: Сенат бездействовал, Верховный тайный совет издавал лишь такие постановления, которые были угодны временщику. Меншиков продолжал политику Петра, но формы ее были более мягкими. Он ослабил контроль над духовенством при управлении церковным имуществом, дал право Украине снова избрать гетмана, уменьшил пошлины и ослабил государственную торговую монополию. К числу едва ли не самых популярных мер Меншикова (а для народа — Петра II) был указ — уничтожить в Петербурге столбы с головами казненных, а головы снять и захоронить. Меншиков занялся образованием императора. Прежних учителей, Маврина и Зейкина, он удалил, а воспитателем назначил человека из плеяды сподвижников Петра, но, как он полагал (и ошибался), положительно неопасного. Государственным мужем, искуснейшим дипломатом, редкого ума и изумительного житейского такта человеком был барон Андрей Иванович Остерман, сын скромного пастора из Вестфалии. Оцененный Петром Великим, вознесенный им к высокой должности вице-канцлера, то есть фактического руководителя российской внешней политики, барон Андрей Иванович (титул он получил по случаю заключения Ништадтского мира) ощущал себя истинно русским в отличие от множества иноземцев — искателей счастья, нахлынувших в Россию при Петре I, которые, считая себя просветителями и благодетелями варварской страны, смотрели свысока на нее, ее народ и ее язык. Он говорил только по-русски, терпеть не мог, когда кто-либо из соотечественников пытался называть его по имени, полученному при рождении, — Генрихом-Карлом-Фридрихом, женился на боярышне из родственного Романовым дома Стрешневых. Едва ли не самое примечательное: он был человеком удивительной честности, неподкупным — большая редкость в России. Но, к сожалению, он также известен еще и своей хитростью и двуличием; исторгал, слезы по своему желанию. Мало кто мог сказать, что слышал от него правду, а уж болезни барона Андрея Ивановича, приключавшиеся в удивительно неподходящие моменты, стали притчей во языцех.
Остерман при помощи академика Гольдбаха составил программу обучения Петра II. В нее входило совершенствование в иностранных языках, прежде всего латинском и французском, история современных государств, различные виды управления государственного и их выгоды, гражданское законоведение, права и обязанности власть предержащих, учение о посольском праве, о войне и мире, о военном искусстве и «о всем, что с ним соприкасается». Другие, науки — древнюю историю, географию, математику, естествознание, по мысли Остермана, следовало излагать государю вкратце. Уроки строились в форме бесед и разговоров, полагая в неделю пять дней, а в каждый день — два-три часа. Не были забыты и забавы: концерт музыкальный, стрельба, игра под названием «вальянтеншпиль», бильярд, охота. По средам и пятницам, полагал Остерман, государь будет посещать заседания Верховного тайного совета.
Духовным образованием озаботился новгородский архиепископ, фактически первый иерарх, сподвижник Петра Великого, Феофан Прокопович, составивший записку «Каким образом и порядком надлежит багрянородного отрока наставлять в христианском законе?»
Несколько месяцев в столице было спокойно: Меншиков правил, император учился. Состоялось торжественное обручение Петра II с Марией Меншиковой. Но когда в конце июля светлейший, оправившись от тяжелой болезни, вновь появился при дворе, он нашел государя переменившимся: мальчик, до того целиком и полностью послушный воле генералиссимуса (этот чин был пожалован Меншикову в первые дни нового царствования), обнаружил вдруг упрямство и строптивость. Началось с пустяков, дальше — больше. 26 августа в Петергофе в день именин великой княжны Наталии Петр отвернулся от Меншикова и не пожелал с ним разговаривать. Не обращал он внимания и на свою невесту. 3 сентября в Ораниенбауме собрался весь двор: Меншиков освящал свою домовую церковь. Ни царь, ни его сестра на праздновании не появились. Встревоженный, но все еще уверенный в себе, Меншиков на следующий день поехал в Петергоф. Император отказался его видеть. Меншиков уехал в Петербург, не падал духом, занимался делами и по-прежнему держал себя как правитель державы. А тем временем вещи царя и мебель перевозились из меншиковского дворца снова в Летний. В четверг 7 сентября царь вернулся в Петербург, в Летний дворец, и не велел принимать ни Меншикова, ни членов его семьи, в том числе и свою невесту. На следующий день майор гвардии Салтыков объявил генералиссимусу, что он находится под арестом, all сентября павший вельможа выехал под конвоем в Раненбург, в свои вотчины.
Почему пал всесильный Меншиков? Каприз ли царственного ребенка послужил тому причиной или вмешались какие-то иные, более мощные силы и страсти? Меншиков, упоенный властью и могуществом, не разглядел в ребенке черт характера его отца и деда, в первую очередь упрямства. У Петра Великого оно было сокрушающим, у Алексея — тихим, а у Петра II — беспокойным. Став государем, мальчик, которым до того все пренебрегали, который не получил твердого воспитания, захотел сразу стать взрослым. Меншиков же обращался с ним как с малолетним. Но главное заключалось, думаю, в том, что в условиях российского деспотизма, не ограниченного даже подобием общественного мнения, фаворитизм стал надолго нормой жизни и управления страной.
Падение Меншикова было радостно встречено всеми его недругами (их было немало), но радовались недолго. Вихрь интриг, подсиживаний, взлетов и падений закрутился при дворе… состязание мелкого самолюбия, семейные ссоры и дрязги, зависть, денежные счеты. Победители Меншикова оказались мельче и ничтожнее, со светлейшим их роднила, правда, страсть к казнокрадству. Один юродивый того времени, Тихон Архипович, так характеризовал эти взаимоотношения: «Нам, русским, не надобен хлеб — мы друг друга едим и сыты бываем». А Константин Иванович Арсеньев, писатель-историк первой половины прошлого века, сказал так: «Двор императорский со времени князя Меншикова был как бы ристалищем, на коем бойцы испытывали свои силы, и сделался потом местом сокровенных нападений и открытого боя соперников, препиравшихся о власти».
При дворе образовались по меньшей мере три партии. В одной находились Апраксины, Головкины и Остерман, снискавший расположение великой княжны Наталии. Другую образовали Голицыны, стремившиеся сблизиться с цесаревной Елизаветой. Но всех опередили Долгорукие благодаря молодому Ивану Алексеевичу, гоф-юнкеру Петра II во времена Екатерины I, сосланному Меншиковым в Тобольск и возвращенному Петром ко двору. Князь Иван, веселый, красивый, добрый, но, к несчастью, безнравственный человек стал другом Петра. Мальчик привязался к нему и нашел в нем старшего товарища, который отвращал его от учения, вовлекал в забавы и игры, носившие подчас эротический характер, делая это без злого умысла, а по природному легкомыслию и желанию понравиться государю. Воспользовались же этим старшие Долгорукие в целях отнюдь не бескорыстных. Петра II забавляли выдумки его веселого любимца: то охота, то пикник за городом, то бал с иллюминацией, фейерверком, бенгальскими огнями в сопровождении веселой Елизаветы и молоденьких придворных дам и фрейлин.
Уже через месяц после опалы Меншикова царь стал сдержаннее и холоднее к Остерману, пытавшемуся, хотя и мягко, но урезонить ребенка. Состоялось объяснение. Оба расчувствовались, и Петр обещал не пренебрегать учебой и государственными обязанностями. Объяснения повторялись, Остерман умолял, царь раскаивался. А потом все повторялось — ночи превращались в дни, ложился в семь утра, недосыпал и оставался по целым дням в дурном расположении духа. Он стал проявлять наклонность к пьянству (этим грешили и дед, и отец), полюбил общество гуляк, не мог сосредоточиться на серьезной беседе, перестал бывать на заседаниях Верховного тайного совета.
Помощником Остермана в должности царского воспитателя стал отец князя Ивана, Алексей Григорьевич Долгорукий, едва ли не самый грубый и завистливый из всей семьи. В декабре 1727 года при очередном объяснении с Остерманом царь не стал слушать наставлений последнего и ушел прочь.
9 января 1728 года Петр со всем двором начал путешествие в Москву для коронации. Все устремились за царем, и Петербург, по выражению одного из иностранных дипломатов, вдруг превратился в пустыню.
Почти месяц двигался царский поезд по холмам и снежным равнинам России. 12 января Петр II въехал в Новгород. Древний русский город встретил юного царя торжественно и пышно. На въезде были выстроены триумфальные ворота, перед которыми четыреста мальчиков в белых одеждах с красными поясами приветствовали царя. В Софийском соборе торжественное богослужение совершил архиепископ Феофан. После поклонения местным иконам император со свитой отобедал в архиерейских палатах. Вечером взорвался фейерверк — пятьдесят огненных пирамид с надписью «Бог сотвори сие». Петр произнес небольшую речь. Показав окружавшим меч, который он получил в подарок от дяди, австрийского императора, царь сказал: «Русский престол берегут церковь и народ русский. Под охраною их надеемся жить и царствовать спокойно и счастливо. Два сильных покровителя у меня: Бог в небесах и меч при бедре моем!»
Задержавшись в Твери (Петр заболел корью), 4 февраля царский поезд торжественно въехал в столицу. Толпы народа бежали за; возками. Для москвичей, приверженных старине и благолепию, наступил праздник: истинный царь, гонимый дедом и его иноземцами вкупе со злыми боярами, возвратился в белокаменную, первопрестольную Москву, столь недостойно униженную его дедом. Бог не допустил беззакония, и по Божьей святой воле досталось царство русское тому, кому-оно принадлежало по рождению. Ликованию не было конца, когда царь и его сестра встретились с бабушкой, Евдокией Лопухиной, которая еще в начале царствования внука была освобождена из заточения и теперь мирно проживала в Новодевичьем монастыре.
Но надеждам сторонников русской старины не суждено было сбыться: молодой царь был холоден, хотя и вежлив со своей бабушкой и после церемонии коронации, состоявшейся 24 февраля, с пылом юности бросился в развлечения, оставив дела в руках едва ли не самых худших, ибо они были бездарны, временщиков, каких только знала российская история XVIII века.
Долгорукие стремительно возвышались. Сразу же после коронации Меншиков с семейством были отправлены в Сибирь, в Березов, «с особенными, приемами жестокости и дикого зверства», как написал один почтенный историк. Царица-бабка удалилась от двора и заперлась за монастырскими стенами. Император же был всецело поглощен новой страстью — охотой, к которой его начала приучать еще тетка Елизавета в эпоху петербургского житья.
Петр проводил дни и недели на охоте, окруженный Долгорукими и их друзьями, которые наушничали, вымогали, окутывали государя паутиной интриг, мелких счетов и далеко идущих расчетов. С февраля 1728 по ноябрь 1730, то есть в течение двадцати одного месяца, только на крупных охотах — от недели до месяцев — Петр II провел 243 дня, то есть восемь месяцев. И это — не считая мелких, по два-три дня, в Измайлове. Тут уж было не до учения и государственных дел! Царская охота насчитывала до пятисот экипажей — с каждым из вельмож, сопровождавших царя, ехала собственная кухня и прислуга. «Переезжали из одной волости в другую, где были лесные дачи», — пишет историк. «Разбивали палатки, готовилось пирование; слуги развязывали поклажи, доставали посуду, устанавливали на столах кушания и бутылки… После охоты сходились в палатки, шел веселый пир, а по окончании снова все укладывалось, увязывалось, ехали далее и снова становилось там, где нравилось и обыкновенно заранее было указано. Это была не столько увеселительная поездка, а скорее кочевание в азиатском вкусе и сообразно старой московской жизни».
Среди Долгоруких на первое место при государе стал выдвигаться князь Алексей Григорьевич, постоянно возивший царя в свои подмосковные Горенки, где настойчиво, а иногда и назойливо, сводил Петра со своей дочерью, восемнадцатилетней Екатериной. Царю потакали, его удерживали на охоте или в Горенках, нарушая все приличия. Он бросил охоту лишь на короткое время в ноябре 1728 года, чтобы присутствовать у смертного одра той, кого любил больше всех, — сестры Наталии. Великая княжна умерла, в конце ноября, умоляя брата вернуться в Петербург и оставить Долгоруких. Но сразу же после ее смерти Петр снова оказался в Горенках, и тело великой княжны оставалось непогребенным до января следующего, 1729 года…
А что тем временем делало российское правительство? Сказывались ли перемены при дворе на положении в стране?
Герцог Лириа — внук английского короля Джеймса II, посланник мадридского двора в России и друг Долгоруких — пишет: «Все в России в страшном расстройстве, царь не занимается делами и не думает заниматься, денег никому не платят, и Бог знает, до чего дойдут финансы; каждый ворует, сколько может. Все члены Верховного тайного совета нездоровы, и не собираются, другие учреждения также остановили свои дела; жалоб бездна, каждый делает, что ему придет на ум». Ему вторит саксонский посланник Лефорт: «Когда смотрю, как управляется теперь это государство, по сравнению с царствованием деда, мне все кажется сном. Человеческий ум не может постичь, как, такая огромная машина держится… Всякий стремится уклониться, никто не хочет ничего брать на себя и молчит. Можно сравнить это государство с кораблем во время бури, капитан или экипаж которого пьяны или заснули».
А вот тоже внимательный и наблюдательный прусский посланник Мардефельд полагает, что народ в царствование Петра II был в общем-то доволен. Это происходило вследствие окончания Северной войны, уменьшения податей и поборов после смерти Петра I, развития торговли и промышленности по причине ослабления государственного вмешательства. Что же касается злоупотреблений и бесцеремонного обращения с казенными деньгами, замечает Мардефельд, то так всегда бывало, и не следует из-за нескольких, правда поразительных, примеров «провозглашать страшное расстройство».
Действительно, дела шли заведенным порядком, и катастрофы в царствование Петра II не случилось: Россия хотя и со скрипом, продолжала двигаться по петровскому пути.
Страной управляли Верховный тайный совет, окончательно оттеснивший Сенат, — происходило обычное для России сосредоточение исполнительной, законодательной и судебной власти. Император не показывался в совете. Среди верховников (так их называли) не нашлось никого, кто был бы равен или хотя бы похож на Меншикова по энергии и таланту. Остерман целиком поглощен внешними делами; князь А.Г. Долгорукий погружен в придворные интриги и борьбу за влияние на государя; Голицын, Апраксин, Головкин и князь В.Л. Долгорукий принимали в Совете решения, но в жизнь они претворялись медленно.
4 апреля 1729 года в Страстную пятницу, «в самый приличный день» (так написал С.М. Соловьев), было уничтожено недоброй памяти детище Петра Великого — страшный Преображенский приказ, и функции дознания и сыска разделили между Советом и Сенатом.
Верховники взялись за приведение в порядок законодательства, но сделали это испытанным способом — посредством разверстки, которая в стране, уставшей от прежних повинностей и поборов, дала результаты плачевные. Действительно, велели прислать в Москву от каждой губернии по пять дворян, которые должны были заняться приведением законов в порядок. Поскольку многие только что освободились от военной службы и хотели мирно пожить в своих деревнях, выбрали кого попало — инвалидов, пьяниц, голь перекатную. И из затеи этой ничего не вышло.
А вот комиссия о коммерции, во главе которой стал Остерман, действовала успешно: была уничтожена государственная монополия на торговлю рядом товаров, уменьшены пошлины, разрешено в Сибири свободно заводить предприятия и промыслы, без позволения Петербурга.
Но армия и особенно флот находились в небрежении. Снабжение армии поставлено из рук вон плохо, корабли гнили, новых не строили, генералы и адмиралы воровали.
Дела иностранные шли своим чередом и единственно крупным внешнеполитическим событием царствования Петра II стало заключение 20 августа 1727 года договора с Китайской империей о разграничении владений, вечном мире и установлении торговых отношений.
Шла осень 1729 года. 19 ноября, вернувшись в Москву с двухмесячной охоты, царь объявил, что вступает в брак с княжной Екатериной, восемнадцатилетней дочерью Алексея Григорьевича.
Наглостью и хитростью их родителей, стремившихся удовлетворить свою жадность и честолюбие, были навязаны Петру обе невесты — Мария Меншикова и Екатерина Долгорукая. Обе любили других: Мария — графа Петра Сапегу, а Екатерина — графа Милезино, родственника австрийского посланника. Обеих не любил Петр и даже не скрывал этого. И на обеих обещал жениться: на первой — помимо своей воли, а на второй — по слабохарактерности и из чувства рыцарства.
Долгорукие спешили: а вдруг царь одумается. Тридцатого ноября состоялась церемония обручения в Лефортовском дворце. Посредине залы, устланной, огромным персидским ковром, возвышался стол, а на нем — золотое блюдо с крестом и золотые тарелки с обручальными кольцами, усыпанными бриллиантами. Невеста прибыла в сопровождении родственников и знатнейших дам империи. При входе в зал её встретили царица Евдокия, цесаревна Елизавета Петровна и другие принцессы. В зале находились все верховники, три фельдмаршала — Голицын, Трубецкой, Брюс, Долгорукие, генералы. У стола ждал окруженный архиереями и архимандритами Феофан Прокопович, готовый начать торжественное богослужение, как это он уже делал два с лишним года назад; только невеста была другая — Мария Меншикова, известие о смерти которой в Березове только что пришло в Москву.
После обручения началась долгая церемония целования руки императора и государыни-невесты (так велено было называть княжну Екатерину). Подошел к руке невесты и граф Милезино. Екатерина вздрогнула, царь покраснел. Вообще он был грустен, невеста не скрывала своей холодности к жениху и презрения к окружающим. Бал длился недолго, ибо невеста уехала, сославшись на усталость. Церемония была безрадостной, да и началась она нехорошо: когда карета невесты, украшенная золоченой императорской короной, въезжала в ворота, корона зацепилась за перекладину, упала и вдребезги разбилась, в толпе закричали: «Дурная примета, свадьбе не бывать!»
Но тем не менее обручение состоялось. И казалось, род Долгоруких достиг своей вершины. Заранее распределялись чины и звания: Иван Алексеевич — великий адмирал, родитель — генералиссимус, Василий Лукич — канцлер, князь Сергей — обер-шталмейстер. Отец невесты получил от государя 40 тысяч душ и позволял гостям целовать свою руку, а австрийский посланник обещал, что Вена сделает его герцогом и Князем Священной Римской империи. Жадны и неумелы были новые фавориты…
Свадьбу назначили на 19 января 1730 года.
Что-то происходило с императором, он был утомлен, рассеян и говорил о предчувствии кончины. Видимо, мучительно искал выход, но не находил его. По ночам совещался о чем-то с Остерманом, стал видеться со своей теткой Елизаветой, которую, как ходили слухи, Долгорукие хотели запереть в монастырь.
Состоялась бы свадьба с нелюбимой невестой или нет, каким государем бы он стал — все это догадки. Мужской линии Романовых продолжиться было не суждено.
6 января 1730 года царь после поездки на Москву-реку для водоосвящения занемог. Началась оспа. Через несколько дней Петру стало лучше, и казалось — он вне опасности. Но еще через четыре дня, 17 января, мальчик открыл окно, простудился и слег в горячке. Он впал в беспамятство и в себя не приходил. Неотступно у постели находился Остерман, которого Петр непрерывно звал в бреду. Государя причастили, и три архиерея его соборовали. Во втором часу ночи на 19 января ребенок очнулся, открыл глаза и внятно произнес: «Запрягайте сани. Еду к сестре». В следующую минуту его не стало.
Долгорукие растерялись. Григорьевичи предложили провозгласить императрицей невесту государя, считая, что «стоит только захотеть. Уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Голицына, а коли заспорят, так мы их бить начнем». Но подполковник — фактический командир Преображенского полка — князь Василий Владимирович Долгорукий возразил: «Что вы, ребячье, врете! Статочное ли дело? И затем, как я полку объявлю? Услышат об этом от меня, не то что станут бранить, еще и побьют!»
Так закончилось короткое правление Петра II — последнего по мужской линии дома Романовых, — он царствовал два года и восемь месяцев и умер в возрасте четырнадцати лет. Оставались лишь женщины — дочь Петра Елизавета и дочери царя Ивана V (брата Петра Великого) — Анна, герцогиня Курляндская, Екатерина, герцогиня Мекленбургская, и младшая, Прасковья. После колебаний и переговоров верховники решат предложить российский престол Анне Иоанновне — печальный и разрушительный для России выбор. Мелькнет эфемерное царствование несчастного Иоанна Антоновича (Ивана VI), внука Екатерины Мекленбургской, и престол закрепится окончательно в линии Петра I. Но это будет, когда многие действующие лица нашего повествования уйдут — кто из жизни, кто из истории.
Скончается царица Евдокия и все три дочери царя Ивана V. Маленькая принцесса Мекленбургская Анна Леопольдовна, которая с таким восторгом принимала участие в церемонии обручения своего троюродного брата, станет после смерти тетки Анны Иоанновны правительницей России при малолетнем сыне, а потом кончит жизнь в изгнании. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, попытавшийся при восшествии Анны на престол ограничить самодержавие российских правителей и боровшийся с Бироном, будет в 1737 году заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и умрет. Возвысится при Анне Остерман, чтобы в следующем царствовании быть приговоренным к казни и сосланным в Сибирь (его освободит Елизавета).
Всего трагичнее сложится судьба Долгоруких. Сначала их разошлют по имениям или губернаторами в отдаленные места, а затем отправят в Березов. В конце царствования Анны будет устроен суд над оставшимися в живых Долгорукими, и в ноябре 1739 года в Новгороде отрубят головы Ивану и Сергею Григорьевичам и князю Василию Лукичу, а князя Ивана Алексеевича колесуют. Младшие братья Ивана будут наказаны кнутом с «урезанием языка», а сестер разошлют по сибирским монастырям. Государыня-невеста будет жить в томском Рождественском монастыре, содержаться под строгим соблюдением и лишь изредка получать разрешение подняться на колокольню. Но обручальное кольцо нарочному из Петербурга наотрез откажется отдать. Императрица Елизавета освободит братьев, сестер и вдову князя Ивана — одну из самых замечательных русских женщин княгиню Наталию Борисовну Долгорукую, урожденную Шереметеву. Она оставит бесхитростные, полные прелести и печали записки. Княжна Екатерина сохранит свой нелегкий и надменный нрав, с трудом Елизавета выдаст ее замуж за графа Александра Брюса, незадолго до того овдовевшего. Накануне своей смерти она сожжет все свои платья, чтобы никто их не надел.
Владимир Тюрин Верховники и бироновщина
В тот день — 19 января 1730 года — никто из собравшихся вершителей судеб Российской империи не рвался нарушить молчание. Головкин кашлял и ссылался, на отсутствие голоса, хитроумный Остерман исчез: он непрерывно находился при теле почившего накануне государя Петра II и явился на минуту — сказать, что, будучи иностранцем, считает себя не вправе принимать участие в совещании, на котором решается судьба российской короны, и прибавил, что подчинится мнению большинства. Молчание нарушил самый сильный и решительный из верховников, к тому же имевший свою программу реформы управления империей, — князь Дмитрий Голицын.
А всего их было восемь человек. Восемь сановников, подозревавших и боявшихся друг друга, вознесшихся не только над массой столичного и провинциального дворянства, но не хотевших делиться властью даже со своими вчерашними коллегами — «птенцами гнезда Петрова». Восемь человек, желавших самостоятельности и смертельно её боявшихся…
Граф Гаврил Иванович Головкин, барон Андреи Иванович Остерман, князь Дмитрий Михайлович Голицын, князья Долгорукие, Алексей Григорьевич, Василий Лукич и Михаил Владимирович, — члены Верховного тайного совета, учрежденного еще в 1726 году при Екатерине I, и два фельдмаршала, которых верховники пригласили участвовать в своих совещаниях, — Михаил Михайлович, Голицын и Василий Владимирович Долгорукий.
Князь Дмитрий Голицын, этот сподвижник Петра Великого, остается малоизвестным и неинтересным для широкой публики по сравнению с карьеристами, авантюристами и «случайными» людьми XVIII века — меншиковыми, ягужинскими, остеманами, биронома, минихами. Может быть, потому, что князь Голицин опровергал своим существованием миф о русском боярине, с легкой руки А. Н. Толстого утвердившийся в нашем сознании, боярине, не способном к мысли и действию без иноземцев и царевой дубинки? Или потому, что существование князя Голицина свидетельствовало, к чему Россия могла бы прийти, если бы западные идолы и достижения усваивались русским обществом постепенно и последовательно, эволюционно, говоря языком современности, а не путем резкой, жестокой и крутой ломки жизненных основ в петровском революционном стиле с последующим узко и односторонне понятым восприятием благ западной цивилизации преемниками преобразователя?
«Князь Дмитрий Михайлович Голицын, — писал русский историк Д. А. Корсаков, — двуликий Янус, стоящий на рубеже двух эпох нашей цивилизации — московской и европейской». Когда начались реформы Петра, Дмитрий Михайлович был уже зрелым человеком: он родился в 1665 году и женился в 1695 году на княжне Анне Яковлевне Одоевской. В 1697 он в числе царских стольников был отправлен Петром в Италию для учебы. В 1701 году, будучи капитаном гвардии, стал чрезвычайным послом в Константинополе, где вел переговоры о свободном плавании русских судов по Черному морю. С 1708 по 1721 год губернатор в Киеве. Это было критическое для Украины время, время Северной войны и измены Мазепы. Князь Дмитрий сохранял прекрасные отношения с новым гетманом Скоропадским и малороссийским старшиной, а также с просвещенными монахами Киевской духовной академии.
Студенты академии переводили для губернатора политические и исторические сочинения, легшие в основу библиотеки князя, которую тот собрал в своей подмосковной усадьбе в селе Архангельском. Эта библиотека (более шести тысяч томов), помимо русских летописей, хронографов и синопсисов, содержала сочинения Макиавелли, Гроция, Локка и Пуфендорфа. Затем Голицин стал сенатором и президентом Камер-коллегии, а при Екатерине I — членом Верховного тайного совета.
Князь Дмитрий и по своему происхождению, и по своим убеждениям был аристократом. Потомок Гедимина в четырнадцатом колене, он гордился своими предками и родственниками, особенно двумя Василиями Васильевичами. Один из них был деятель Смутного времени, названный Карамзиным «знаменитым изменником», «старым изменником» и «знатнейшим крамольником» за его переход на сторону Лжедмитрия I, участие в убийстве Годуновых, в интригах против царя Василия Шуйского. Но князь Василий искупил свои слабости отказом от российской короны, которую ему предлагал патриарх Гермоген, чтобы не увеличивать «смуту и нестроение», мужественным поведением на переговорах с польским королем Сигизмундом под Смоленском и стойкостью в польской темнице, куда он был заключен вместе с митрополитом Филаретом (Федором Романовым) за отказ принять, на русский престол польского короля. Филарет вернулся в Москву к сыну, царю Михаилу, а Василий Васильевич так и умер в неволе.
Другим был двоюродный брат Дмитрия — фаворит царя Федора Алексеевича и любовник царевны Софии, сторонник преобразований в европейском духе, намерения которого во многом предвосхитили Петровские реформы.
Дмитрий Михайлович был убежден, что аристократический строй есть наивысшее благо для России, он не одобрял скороспелые нововведения и торопливость в заимствовании заморских обычаев. «К чему нам нововведения, — говорил он, — разве мы не можем жить так, как живали, наши отцы, без того, чтобы иностранцы являлись к нам и предписывали нам новые законы!» Больше всего Голицына возмущало стремление царя и выскочек вокруг него переменить нравы и благочестивые обычаи старины. В своем обиходе гордый, надменный, суховатый князь хранил эти обычаи. Так, его младшие братья — фельдмаршал Михаил Михайлович и другой, тоже Михаил Михайлович, сенатор и президент Юстиц-коллегии, — не смели садиться в его присутствии иначе, как по его разрешению, а вся многочисленная родня целовала ему «руку.
Идеалом князя Дмитрия была шведская система государственного управления, ограничивающая самовластие государя четырехпалатным парламентом (духовенство, дворяне, горожане, крестьяне) и сенатом, действовавшим во время парламентских каникул. Правда, Голицын собирался ввести лишь одну палату — верховных сановников, но тем не менее его план ограничивал самодержавие.
Итак, нарушив молчание, князь Голицын высказал свое мнение: мужская линия династии со смертью Петра II угасла; завещание Екатерины I («девки, вытащенной из грязи», — так прямо и выразился), передающее престол ее дочерям и их потомству («ублюдкам», — добавил князь), не имеет силы. Остаются дочери царя Ивана, брата Петра I, из коих старшая, Екатерина, герцогиня Мекленбургская, не подходит, поскольку супруг ее — злой и опасный глупец, а младшую, Прасковью Ивановну, Голицын даже не упомянул — она была замужем за одним из «своих», Дмитриевым-Мамоновым, и, естественно, князь Дмитрий Михайлович и мысли не мог допустить, чтобы тот возвысился и стал новым Меншиковым! Он повел речь о средней дочери, Анне, — вдовствующей герцогине Курляндской, живущей в Митаве на русские субсидии и постоянно заискивающей расположения вельмож при приездах в Петербург и Москву.
Попытался было вставить слово умный и ловкий князь Василий Лукич Долгорукий, когда Голицын сказал, что завещание Петра II подложно и во внимание быть принято не может. Василий Лукич хотел его перебить, но Голицын твердо сказал: «Вполне подложное». Его поддержал самый совестливый, хотя и недалекий, из Долгоруких — фельдмаршал Василий Владимирович. Завещание действительно существовало и действительно было подложным. Его составили Долгорукие — Василий Лукич и Алексей Григорьевич сочиняли, Сергей Григорьевич писал, а Иван Алексеевич, большой искусник, подделывал подпись Петра II. Завещание передавало престол «государыне-невесте» — восемнадцатилетней Екатерине, дочери князя Алексея Григорьевича, сестре князя Ивана Алексеевича и невесте (насильно навязанной и нелюбимой) мальчика-императора, умершего за несколько часов до описываемого разговора.
Много терял клан Долгоруких с неожиданной смертью Петра II. Подумать только! Княжна Долгорукая — невеста государя, ее отец и брат — царские фавориты, первые люди в империи. Долгорукие были в большинстве в Верховном тайном совете. Но… не отличалось талантами это поколение семьи, предки которой восходили к Рюрику! Грубый и невежественный Алексей Григорьевич, легкомысленный и развращенный Иван Алексеевич, хитрый и двуличный Василий Лукич — все они были заняты личным обогащением, карьерой, интригами, не думая ни о благе государства, ни о величии России, ни о ее интересах.
Когда все стали изъявлять свое согласие на избрание Анны, Голицын снова вмешался: «Воля ваша, кого изволите, только надобно нам себе полегчить». «Как себе полегчить?» — спросил кто-то. «Так полегчить, чтобы воли себе прибавить», — ответил князь Дмитрий. Осторожный Василий Лукич усомнился: «Хоть и зачнем, да не удержим этого», на что Голицын возразил: «Право, удержим» и добавил: «Будет воля ваша только надобно, написав, послать к ее величеству пункты».
Часов в девять утра верховники вышли, в залу, где уже собрались Сенат, Синод и генералитет. Канцлер Головкин, объявил о решении призвать на престол Анну. Все согласились и стали расходиться. Голицын спохватился, и сановников — Дмитриева-Мамонова, Ягужинского, Измайлова и нескольких других — вернули. Сели составлять «пункты». Остерман потерял дар речи и не мог связать двух фраз. За дело взялся Василий Лукич и набросал «кондиции». Согласно «кондициям», будущая императрица обещала заботиться о поддержании и распространении православной веры, не вступать в супружество и не назначать наследника, а главное — «ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного согласия 1) ни с кем войны не всчинять; 2) миру не заключать; 3) верных наших подданных никакими податьми не отягощать; 4) в знатные чины, как в стацкие, так и в военные сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета; 5) у шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать; 6) вотчины и деревни не жаловать; 7) в придворные чины как русских, так и иноземцев не производить; 8) государственные доходы в расход не употреблять и всех своих верных подданных в неотменной своей милости содержать; а буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской».
А теперь отвлечемся на минуту и взглянем на «кондиции» с сегодняшнего нашего опыта и знания. Ведь намерения этих восьми весьма могущественных вельмож могли иметь очень далеко идущие последствия для истории России. В перспективе — распорядись судьба в их пользу — создание такого совета значило и введение в России конституционного правления и вело бы в будущем к радикальному изменению не только политического, но и экономического бытия страны. Существеннейший миг в истории России! Но виден он из будущего, тогда же очень немногие прозревали его.
А между тем в Митаву с «кондициями» были направлены послы — князь Василий Лукич, сенатор Михаил Голицын, младший брат Дмитрия Михайловича, и генерал Леонтьев; двое последних даже не знали содержание послания.
Москва тем временем начала бурлить. В январе 1730 года по случаю предстоящего бракосочетания Петра II с княжной Долгорукой в столицу съехались все высшие сановники и знать, масса дворянства — гвардейского, армейского, флотского, отставного. Ползли слухи об условиях верховников, подогреваемые недовольными — сподвижниками Петра, иностранцами на русской службе, родственниками будущей императрицы — Салтыковыми, Трубецкими, Головкиными. Один из этих недовольных — Ягужинский — даже тайно отправил своего конфиданта Петра Спиридоновича Сумарокова (родственника драматурга) с письмом в Митаву, к Анне, в котором уговаривал герцогиню «не всему верить, что станут представлять князь Василий Долгорукий и которые с ним посланы, до того времени, пока сама изволит прибыть в Москву». В оппозиции верховникам находился и первый иерарх, тоже сподвижник Петра — Феофан Прокопович. Но главное — волновалось собравшееся в Москве дворянство; одни боялись правления олигархии и неизбежных при этом смут, другие, хотя и были готовы переменить форму правления, хотели участвовать в высших органах власти наряду с верховниками. Возглавили волновавшееся в те дни в Москве дворянство три человека — яркие личности «опасного и суетного времени», как называли русские люди первую половину XVIII века.
Граф Федор Андреевич Матвеев, богатый наследник, внук Артамона Матвеева, друга царя Алексея и воспитателя матери Петра Великого, получивший прекрасное образование, первый русский, вызвавший недруга на дуэль. Это было в 1729 году, когда он поссорился на обеде с испанским посланником герцогом де Лириа. Хотя дуэль и не состоялась (испанец пожаловался канцлеру, Верховный тайный совет посадил Матвеева под арест и заставил извиниться перед герцогом), сама ее возможность была новшеством для российского дворянства. А ведь всего за семь лет до этого вельможи, князья Иван Федорович Ромодановский и Григорий Федорович Долгорукий решали свои споры в кулачном бою!
Вторым был князь Антиох Дмитриевич Кантемир, младший сын молдавского господаря, связавшего свою судьбу с Россией, его принявшей после неудачного выступления против Турции, будущий дипломат и один из первых российских писателей, а в то время скромный поручик гвардии.
И самый старший из них — Татищев Василий Никитич, в прошлом — храбрый офицер, а в будущем — начальник Уральских горных заводов, правитель Оренбургского края и автор «Истории России».
Все трое, помимо того, что имели личные причины не любить Голицына и Долгоруких, были убеждены в необходимости самодержавия для России, стройности, порядка, единства и силы в государственном управлении и ни о каком совете, ограничивающем самодержавие, и слушать не желали.
Второго февраля генерал Леонтьев вернулся из Митавы. Он привез согласие Анны на условия верховников и закованного в кандалы Сумарокова, посланца Ягужинского. Последний был немедленно арестован, и только заступничество его тестя, канцлера Головкина, спасло петровского генерал-прокурора и соперника Меншикова от смертной казни. В начале же февраля верховники получили записку, составленную Татищевым, а также другие письма, подписанные сановниками, придворными и военными. Все эти записки сводились к ограничению власти Верховного тайного совета и расширению прав дворянства, которое явно не желало олигархического правления.
А тем временем Анна приближалась к столице. Она ехала через Ригу, Новгород, Тверь, везде ее встречали колокольным звоном и оказывали подобающие ее сану почести: Но везде она была под строгим надзором Василия Лукича. Лишь в Чашниках, под Москвой, Анну 10 февраля встретили архиереи и сенаторы, которых строго пересчитал караульный офицер, в то время как князь Василий зорко их оглядывал с головы до ног и следил, чтобы они не оставались наедине с будущей императрицей. В тот же день Анна остановилась в селе Всесвятском, all февраля состоялись похороны Петра II.
15 февраля Анна торжественно въехала в Москву, сопровождаемая верховниками и знатью. На всем пути — от Всесвятского до Тверской, до часовни Иверской Божьей Матери — были расставлены армейские полки, а от Иверской до Кремля стояли полки гвардейские. 20 февраля состоялась церемония присяги, но ситуация не прояснилась: в тексте присяги «кондиции» не фигурировали, Анна же оставалась под строжайшим надзором верховников. Василий Лукич поселился в комнатах, смежных с апартаментами императрицы, и никто без его ведома не мог быть к ней допущен.
И тут выступил наконец Остерман. Он не выходил из дому, обложился лекарствами и распускал слухи о критическом состоянии своего здоровья. И писал, писал… Писал царице, убеждая ее действовать решительно, писал недовольным верховниками Черкасскому, Барятинскому, Салтыковым, Апраксиным, Трубецким. Кантемир и Матвеев тайно собирали подписи среди гвардейских офицеров под петицией об уничтожении Верховного тайного совета и восстановлении Сената в том виде, в каком он существовал при Петре I.
Развязка наступила 25 февраля. Утром царице была подана петиция, прочитанная Татищевым. В ней Анну собравшиеся во дворце дворяне просили пересмотреть условия верховников и установить форму правления при участии выборных от шляхетства. Когда верховники попытались возражать, гвардейские офицеры бросились на колени: «Не хотим, чтобы государыне предписывали законы; она должна быть такою же самодержицею, как были все прежние государи». Анна увела верховников обедать, а сановники и шляхетство собрались в зале и приняли петицию о восстановлении самодержавия.
Когда царица с верховниками вернулась и Кантемир зачитал эту петицию, Анна сделала удивленный вид: «Как, разве пункты, которые были подписаны в Митаве, были составлены не по желанию целого народа? Так значит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул!» и разорвала принесенные ей «кондиции».
Вот он, выбор пути в этот исторический момент! Конституционное правление в России откладывается на сотни лет. Несчастная страна!
Странное явление приключилось в тот вечер в Москве: красный цвет северного сияния покрыл горизонт. Уходя из дворца, печально пророчествовал Дмитрий Михайлович Голицын: «Трапеза была уготована, но приглашенные оказались, недостойными; знаю, что я буду жертвою неудачи этого дела. Так и быть: пострадаю за отечество; мне уж немного остается, и которые заставляют меня плакать, будут плакать долее моего». И тем же вечером поскакал в Митаву курьер вызывать в Москву на погибель России фаворита царицы Эрнста Иоганна Бирона.
Надменная, жестокая, злая, ленивая самодурка, дорвавшаяся до роскоши и оставшаяся грязнулей и неряхой, любившая самые грубые забавы и развлечения, окружившая себя иностранцами, которые презирали Россию и обогащались за ее счет, Анна была едва ли не худшей правительницей за всю историю России. И даже не в самодурстве, грубости, низком нраве было дело. Гораздо печальнее для судьбы страны было другое: семена, посеянные царем-преобразователем, губились, а плевелы, сопровождавшие эти семена, расцветали. Другими словами, модернизация России, которой решительно, но не безоглядно посвятил себя Петр I, при Анне приобрела уродливый характер, пагубно сказавшийся на судьбе страны.
Остерман и Миних были талантливые и достойные люди, ставшие частью российской славы, но Бирон и братья Левенвольде, занимавшие первые места и определявшие судьбу России при императрице Анне, паразитировали на теле страны.
Петр — при всей своей нелюбви к старой Москве — поднимал, возвышал и образовывал нацию, дворянство, предприимчивых людей. А при Анне ее жадный, наглый и жестокий фаворит Бирон не удосужился выучить язык страны, которой он правил, и намеренно унижал родовитую знать и русское дворянство.
Впрочем, последних не надо идеализировать. Верховники оказались несостоятельными, а дворянство — разобщенным, лишенным чувства корпоративности (вот оно, наследие самодержавия и петровской дубинки!) и заботящимся лишь о сохранении своей власти над крестьянами. Эту власть ему дали — дворянство позволило самодержице все, включая собственное бесправие, унижение достоинства, беспричинные опалы, изуверские казни и производство в дворцовые шуты потомков знатных родов.
И судьба сподвижников Петра и клана Долгоруких стала тому примером.
Грянула беда над Долгорукими. Бывших фаворитов Петра II не любили. Не любили за алчность, высокомерие и грубость. И потому опалу их встретили при дворе, со злорадством и одобрением. Были довольны и Голицыны, получившие новые звания и чины. Никто из злорадствующих, правда, не понимал, что кара постигает родовитый клан не за пороки, а из-за бесцеремонного, непредсказуемого и уничижительного произвола, который очень скоро станет нормой обращения с российской знатью.
В апреле 1730 года последовали указы императрицы: князья Михаил Владимирович и Иван Григорьевич Долгорукие определялись губернаторами в Астрахань и Вологду, а Василий Лукич, Алексей и Сергей. Григорьевичи, а также Иван Алексеевич высылались в дальние деревни, где им было велено жить «безвыездно за крепким караулом».
А за несколько дней до этих указов состоялась свадьба князя Ивана Долгорукого и Натальи, дочери графа Бориса Петровича Шереметева, фельдмаршала и любимца Петра Великого. Как не похожа была эта свадьба на обручение! Пятнадцатилетняя Наталья тогда стала невестой самого блестящего московского жениха — двадцати двухлетнего красавца Ивана Долгорукого, обер-камергера и фаворита императора Петра II. Но не чины и положение жениха завоевали сердце графини Шереметевой. За суетностью и легкомыслием князя Ивана юная графиня сумела распознать доброе сердце и живой ум.
И вдруг разразилась катастрофа — умер Петр II и воцарилась Анна. «Куда девались искатели и друзья? — писала Наталья Борисовна. — Все спрятались, и ближние отдалече меня сташа, все меня оставили в угодность новым фаворитам; все стали уже меня бояться, чтобы, я в стречу кому не попалась, всем подозрительна». С твёрдостью необыкновенной она отвергла предложения родни оставить князя Ивана и выйти за другого («Я такому бессовестному совету согласиться не могла; а так положила свое намерение, когда, отдав сердце одному, жить или умереть вместе, а другому уже нет участья в моей любви»).
Печальной была свадьба в начале апреля 1730 года в Горенках, подмосковном имении Долгоруких. Лишь две старушки вдовы сопровождали Наталью Борисовну, остальные родные не осмелились появиться у опальных Долгоруких.
Никто из родных не пришел и проводить новобрачных, когда они по весенней распутице двинулись по рязанской дороге в ссылку. Не успели Долгорукие добраться до родовой касимовской вотчины Семицы, как туда явился офицер с отрядом солдат, и началось долгое и мучительное путешествие семейства сначала в Тобольск, а оттуда в Березов под надзором капитана сибирского гарнизона Петра Шарыгина. («Какой этот глупый офицер был: из крестьян, да заслужил чин капитанский; он думал о себе, что он очень великий человек, и сколько можно, надобно нас жестоко содержать, яко преступников, — писала Наталья Борисовна. — Ему казалось подло с нами и говорить; однако со всею своею спесью ходил к нам обедать»).
После долгого и тяжелого пути униженные Долгорукие прибыли в ледяной Березов, где их поместили в остроге, в ограде которого находился маленький одноэтажный деревянный дом, ветхий и почти без мебели. Наталья Борисовна с мужем поселилась в сарае. Всем им было запрещено выходить за ограду острога. Бумаги, книг и чернил давать было не велено. В праздничные дни под вооруженным конвоем их водили в церковь. Жили Долгорукие в постоянных ссорах и препираниях. Особенно невыносимы были старый князь и «государыня-невеста». Кроткая княгиня Прасковья Юрьевна, жена князя Алексея, не перенесла физических и нравственных страданий, она скончалась осенью 1730 года, через два месяца после приезда в Березов. Алексей Григорьевич последовал за ней в 1734 году. Главой семьи остался князь Иван.
А тем временем Бирон и Анна искореняли и остальных Долгоруких. В декабре 1731 года по доносу одного из немецких генералов фельдмаршала Василия Владимировича и его жену арестовали. Его обвинили в том, что он оскорблял императрицу «поносительными словами». Сенат и генералитет собрались и с обычной угодливостью вынесли князю Василию и его «сообщникам» — племяннику Георгию Долгорукому, князю Алексею Барятинскому и гвардейскому офицеру Георгию Столетову смертный приговор. Анна «милостиво» заменила казнь тюремным заключением: фельдмаршала отправили в Шлиссельбургскую крепость, остальных — в сибирские остроги. Брат фельдмаршала Михаил Владимирович, вначале назначенный губернатором в Астрахань, был послан в дальнее имение вместе со своим старшим сыном, а его младшие сыновья были отданы в солдаты без права производства в офицеры (самого младшего, Василия, было запрещено учить грамоте, и будущий московский генерал-губернатор до конца своих дней едва-едва мог подписываться).
На некоторое время о Долгоруких как бы забыли. Князь Иван и его братья жили в Березове. Наталья Борисовна воспитывала сына Михаила, родившегося в 1731 году, и готовилась к рождению второго — Дмитрия. Василий Лукич («самый воспитанный и располагающий к себе из всех русских», по отзыву одного из иностранных дипломатов) содержался в Соловецком монастыре.
Но вот наступила вторая половина царствования Анны Иоанновны. Шла долгая и неудачная война с Турцией, когда русская армия страдала не столько от неприятеля, сколько от собственных казнокрадов, жестоких генералов и двуличия союзной Австрии. Финансы находились в расстройстве — немецкие фавориты императрицы и нелепая, варварская пышность двора опустошали казну. Не знали предела административный произвол и лихоимство чиновников в провинциях. Голод, пожары и разбои вспыхивали повсеместно. Бироновщина вошла в полную силу, и поскольку сознательно или подсознательно она ставила целью уничтожение и унижение национальных петровских стремлений, то острие ее обращалось в первую очередь против тех родовитых русских, само существование которых будило надежды на возрождение России и продолжение дела преобразователя, на прекращение состояния, когда Россия становилась дойной коровой для курляндских и голштинско-мекленбургских проходимцев.
Придворные шуты — князь Никита Волконский, князь Михаил Голицын, граф Алексей Апраксин — играли в чехарду в спальне императрицы, кудахтали, сидели на лукошках с яйцами, заботились о здоровье царской собачки. А их родственники (зять Волконского Алексей Бестужев был кабинет-министром Анны, а двоюродный брат Апраксина — камергером) как ни в чем не бывало искали милости Бирона и императрицы. «Отсутствие достоинства и готовность терпеть унижения у русских придворных воистину удивительны!» — воскликнет один из потомков этих придворных уже в нашем веке. Тех же, кого не могли согнуть, уничтожали.
Дмитрий Михайлович Голицын отошел от политики. Ему было уже за семьдесят, и он проводил большую часть своего времени в своем Архангельском в окружении книг — друзей, которые его не предавали. Бирон и его свора накинулись на князя в 1736 году.
В один из январских дней 1737 года в ворота Шлиссельбургской крепости ввезли князя Дмитрия Голицына, а из других ворот вывезли Василия Владимировича Долгорукого, чтобы поместить его в новой тюрьме, крепости Ивангородской.
Дмитрий Михайлович томился в каземате недолго. Годы, болезни и нравственные потрясения во время следствия и суда совершавшихся, как обычно, с унижением человеческого достоинства, сделали свое дело. В апреле 1737. года он скончался.
Печальна была участь не только князя, но и его богатейшей библиотеки. По словам В. Н. Татищева, этой библиотекой пользовавшегося, в ней было «многое число редких и древних книг, из которых по описке растащено; да и после я по описи многих не нашел и уведал, что лучшие бывший герцог Курляндский (Бирон. — В. Т.) и другие расхитили». Часть книг Елизавета Петровна подарила сыну Голицына, князю Алексею Дмитриевичу. Остатки этой библиотеки (200 томов) были куплены известным библиофилом графом Ф. А. Толстым после московского пожара 1812 года и перешли со временем в Императорскую публичную библиотеку (ныне библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге). А еще в конце XIX века у Сухаревой башни и в книжных лавках на Никольской торговали книгами с надписью «Exlibris Golizin».
Пострадали и другие Голицыны. Михаил Михайлович (младший брат князя Дмитрия, моряк) был сослан в Тавровскую крепость «к строению судов», а потом — губернатором в Астрахань. Племянник Петр Михайлович лишен чинов и послан «управителем» в отдаленный Нарым, сын Алексей лишен чина действительного статского советника и «написан прапорщиком в Кизлярский гарнизон».
Еще трагичнее оказалась участь Долгоруких. Из Тобольска пришел приказ: заключить князя Ивана в темницу. Наталья Борисовна, тайно, по ночам, пользуясь сердобольностью караула, подходила к землянке, где находился. Иван, и приносила ему еду…
Прошло лето. В начале осени 1738 года в глухую дождливую ночь князь Иван, его братья Николай и Александр, березовский воевода Бобровский, пристав при Долгоруких майор Петров, Овцын, Лихачев, Кашперов, трое священников, слуги Долгоруких и некоторые жители Березова — всего более шестидесяти человек — были увезены в Тобольск.
Наталья Борисовна осталась в Березове с семилетним сыном Михаилом, с младшим братом Ивана, золовками, ожидая рождения сына Дмитрия и ничего не зная о судьбе мужа. «Я кричала, билась, волосы на себе драла, — описывает она свое отчаяние, — кто ни попадет встречу, всем валяюсь в ногах, прошу со слезами: помилуйте, когда вы христиане, дайте только взглянуть на него и проститься! Не было милосердного человека, не словом меня кто утешил, а только взяли меня и посадили в темнице и часового, примкнувши штык, поставили».
В Тобольске же комиссия под началом капитана Ушакова и поручика Василия Суворова — отца нашего великого полководца, начала следствие с «пристрастием» и «розыском», другими словами — с пытками. На дыбе князь Иван не выдержал, повинился во всех грехах, рассказал о попытке подделать завещание Петра II в пользу своей сестры и оговорил Долгоруких — своих дядей Сергея и Ивана Григорьевичей, князя Василия Лукича, а также Василия и Михаила Владимировичей. После этого его отвезли в Шлиссельбург, куда доставили и всех оговоренных им родственников. Особенно жестоко посмеялась судьба над Сергеем Григорьевичем: вместо аудиенции у императрицы, где он должен был получить аккредитивные грамоты в качестве посла в Лондоне, он попал в крепость.
В Тобольске же расправлялись с «сообщниками» Долгоруких. Был обезглавлен майор Петров, биты кнутом и разосланы по дальним сибирским городам священники, многие записаны солдатами в сибирские полки.
31 октября 1739 года заседало обычное для политических процессов того времени «генеральное собрание», состоящее из кабинет-министров, сенаторов, первенствующих членов Синода и депутатов от придворного штата, гвардии, генералитета, Военной и Адмиралтейств-коллегий, губернской петербургской канцелярии, Ревизионной, Коммерц— и Юстиц-коллегий. Выслушав «изображение о государственных воровских замыслах Долгоруких, в которых по следствию не токмо отличены, но и сами винились», собрание в тот же день вынесло приговор: князя Ивана Алексеевича колесовать, а затем отсечь голову; князьям Василию Лукичу, Сергею и Ивану Григорьевичам отсечь головы. О Владимировичах было сказано: «Хотя они достойны смерти, но предается об них на высочайшую милость императорского величества». Василий Владимирович остался в заключении в Ивангороде, а его брат Михаил — в Шлиссельбурге.
8 ноября в окрестностях Новгорода состоялась казнь. Вначале отрубили голову Ивану Григорьевичу, затем Сергею Григорьевичу и, наконец, Василию Лукичу. Иван Алексеевич в свой смертный час обнаружил стойкость и силу духа, которых, увы, он был лишен при жизни. «Благодарю Тя, Господи, яко сподобил мя еси познати Тя», — молился он громко на колесе. Палач поторопился закончить казнь, отрубив ему голову. Позже внук князя Ивана, тоже Иван Долгорукий, поэт и писатель начала XIX века, напишет: «Конец столь неожиданный, столь страшный, исполненный стольких страданий, искупил все грехи юности князя Ивана, и его кровь, оросившая новгородскую почву, эту древнюю колыбель русской политической жизни, должна примирить его память со всеми врагами нашего рода».
Злая судьба коснулась и младших Долгоруких. Александр и Николай Алексеевичи были приговорены к наказанию, кнутом «с урезанием языка». Регент Российской империи Бирон приказал отменить эту казнь для «поминовения императрицы Анны Иоанновны». Но приказ пришел в Тобольск, где находились братья, слишком поздно. После «экзекуции Александр был послан на Камчатку, а Николай — в Охотск. На Камчатку же матросом был отправлен и третий брат, Алексей, остававшийся в Березове. Сестер Екатерину, Елену и Анну разослали по сибирским монастырям.
17 октября 1740 года прибыла в Москву с двумя детьми Наталья Борисовна, которой императрица позволила вернуться к братьям, Шереметевым. И — как причудлива жизнь! — именно в этот день скончалась та, о которой княгиня со всей силой женской ненависти позднее напишет: «Престрашного была взору. Отвратное лице имела; так велика была, когда между кавалерами идет, всех головою выше, и чрезвычайно толста», — императрица Анна.
Наталья Борисовна постриглась во Фроловском монастыре под именем Нектарии. Накануне пострига она спустилась к берегу Днепра, сняла с руки обручальное кольцо, поцеловала его и бросила в воду. В 1767 году она написала свои «Записки» и приняла схиму. Но несчастья не оставляли эту женщину: ей суждено было пережить смерть любимого брата, графа Сергея Борисовича, а потом на ее руках умер сын Дмитрий, страдавший душевной болезнью, незадолго до этого принявший пострижение. Накануне смерти (она скончалась 3 июля 1771 года) она напишет: «Оставите по смерти моей, пролейте слезы, вспомня мою бедственную жизнь; всякого христианина прошу сказать, вспоминая меня: слава Богу, что окончилась ея жизнь, не льются уже токи слез и не вздыхает сердце ея… Отец мой милосердный поминует и доведет меня к тихому пристанищу».
Владимир Тюрин Пятиактная трагедия
ПРОЛОГ. Октябрь 1740 года
Петр Великий среди многих своих деяний совершил по крайней мере один непростительный для монарха поступок — он упразднил старый, обычный — и не только для России — порядок престолонаследия и не ввел другого. Ибо трудно назвать порядком волю монарха назначать наследником того, кого он сочтет нужным. Россия жестоко поплатилась за этот «революционный» шаг императора. XVIII век в ее истории стал «веком переворотов». За это время на российском троне побывали представители всех трех ветвей Дома Романовых и кроме них — служанка из Эстляндии и принцесса из захудалого немецкого княжества.
Мужская линия династии Романовых пресекалась со смертью Петра II, сына царевича Алексея. Женские же линии (дочерей царей Ивана и Петра) по смерти Анны Иоанновны, последовавшей 17 октября 1740 года, персонифицировались в трех лицах. Одним их них был неуклюжий сирота-подросток Карл-Петер Ульрих, проживавший в далеком Киле и носивший титул герцога Голштейнского, — сын старшей дочери Петра I, Анны. Другим — тридцатилетняя легкомысленная красавица, вторая дочь Петра, Елизавета. И третьим — крошка, младенец, родившийся 18 августа 1740 года, правнук царя Ивана по имени Иван.
Он был сыном Анны Леопольдовны (родители: старшая дочь Ивана Екатерина и герцог Мекленбургский Карл Леопольд) и герцога Брауншвейгского — Антона Ульриха.
В 1731 году, едва вступив на трон, Анна Иоанновна издала указ, утверждавший престол за будущим ребенком ее племянницы, Анны Леопольдовны, которой в ту пору было всего тринадцать лет. Указ, но не завещание. Суеверная Анна Иоанновна, старательно избегавшая разговоров о смерти, даже смертельно заболев, отказывалась подписать срочно подготовленный кабинет-министром манифест о престолонаследии. Но 7 октября 1740 года она подписала его.
АКТ I
Время: 17 октября 1740 года.
Место: Санкт-Петербург.
Главное действующее лицо: Эрнст Иоганн Бирон, герцог Курляндский, фаворит императрицы Анны.
Итак, был решен вопрос об императоре, но не вопрос о власти. Кто будет регентом при двухмесячном младенце? Его мать или всесильный временщик, любовник Анны Иоанновны герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон?
Бирон рвался к власти, но хотел получить ее не из рук умиравшей царицы, а по просьбе высших чинов империи. И действительно, такая просьба поступила. Интересно, что не немцы — министр иностранных дел Остерман и фельдмаршал Миних — поддержали Бирона, а русские вельможи, кабинет-министры Алексей Петрович Бестужев и Алексей Михайлович Черкасский. Именно Бестужев первым произнес, что лучшего регента, чем герцог Курляндский, не найти…
16 октября врачи признали положение императрицы безнадежным. Она подписала Указ о регентстве.
Не успела Анна закрыть глаза, как Россия получила нового государя, Ивана Антоновича, а Бирон — неограниченную власть в Российской империи до семнадцатилетия Ивана Антоновича.
В случае же его смерти и возведения на престол следующего по старшинству сына Анны Леопольдовны власть Бирона продлевалась…
18 октября двухмесячного царя торжественно перевезли в Зимний дворец; во главе кортежа шел регент в сопровождении эскадрона гвардии. А на другой день новый император издал свой первый указ: титуловать Бирона его высочеством (как принца крови), регентом Российской империи, герцогом Курляндским, Лифляндским и Семигальским.
Кончилась бироновщина, хозяином России стал Бирон.
АКТ II
Время: 8 ноября 1740 года.
Место: Санкт-Петербург.
Главное действующее лицо: Бурхард Кристоф Миних, российский фельдмаршал.
Прошло три недели. Три недели царствования младенца-императора, три недели правления герцога Бирона. Но с первых же дней с герцогом произошла удивительная перемена. Окружающие видели по-прежнему грубого, заносчивого и капризного, всесильного и самоуверенного, но не того Бирона, а явно растерявшегося человека, который, казалось, потерял опору и не знает, что делать. Он начал милостями — вернул ссыльных, смягчил приговоры, сбавил подушный налог. Но это не действовало, недовольство вокруг него сгущалось. Ограниченный временщик, не обладавший ни государственным умом, ни способностями завоевывать симпатии, оказавшись наедине с неограниченной властью, растерялся. Смерть Анны поставила Бирона лицом к лицу с дворянством и гвардейцами в столице. Неприязнь к иноземцу, с именем которого связывали (иногда и без основания) все жестокости и огрехи прошлого царствования, наполняла атмосферу Петербурга в ту осень.
Уже с первых дней регент стал получать донесения, а точнее доносы, о разговорах среди гвардейцев, в которых речь шла о его свержении. Вопреки сложившемуся стереотипу — представлению, будто бы Бирон возглавлял некую немецкую партию (в противовес национальной русской), — нужно сразу сказать: никакой партии у него не было. Были клевреты, интриганы, карьеристы (и первый из них отнюдь не немец, кабинет-министр А.П. Бестужев). Более того. Два немца, влиятельнейшие — после Бирона — сановники при дворе Анны Иоанновны, были недругами регента. Патологически осторожный А. И. Остерман, руководитель российской внешней политики, и честолюбивый, храбрый Б. К. Миних — фельдмаршал и «столп империи», не переносили Бирона. Миних считал Бирона ничтожеством и чувствовал себя обиженным: он так усердствовал, чтобы доставить герцогу Курляндскому регентство, а тот не дал ему звания генералиссимуса! Фельдмаршал, пользовавшийся популярностью в гвардии, герой данцигской осады 1734 года, принудивший французов сдаться, герой турецкой войны, видя всеобщее недовольство Бироном, решился действовать.
Бурхард Кристоф Миних родился в 1683 году. Сын возведенного в дворянское сословие крестьянина из графства Ольденбургского, на севере Германии, по своей натуре Миних был типичным наемником, каких в Европе XVIII века, века непрерывных войн, зыбких и прозрачных границ, непомерных честолюбий и головокружительных авантюр, было очень много. Вначале он находился на французской службе. Во время войны за испанское наследство в составе Гессен-Кассельского корпуса воевал с Францией под началом Евгения Савойского и Мальборо, участвовал во многих сражениях и осадах, был ранен, взят в плен. Затем продвинулся по службе — от капитана до полковника, и попал в Польшу, на службу польскому королю и курфюрсту саксонскому, союзнику Петра Великого, Августу II. Не поладив с любимцами короля Августа, Миних стал подыскивать иное отечество. Поколебавшись между Карлом XII и Петром I, он в конце концов соблазнился предложением русского посла в Варшаве и в феврале 1721 года прибыл в Петербург. И понравился Петру, который поручил ему строительство Ладожского канала.
При Петре II, после падения не любившего его Меншикова, Миних стал графом и генерал-губернатором Петербурга, а при Анне Иоанновне, войдя в доверие к Бирону, — президентом Военной коллегии.
По натуре своей Миних был не полководцем, а организатором армии. Он много способствовал военным преобразованиям в России — образовал два новых гвардейских полка, Измайловский и Конногвардейский, учредил тяжелую конницу — кирасиров, выделил инженерные части в отдельный род войск, создал первое воинское учебное заведение — Сухопутный кадетский корпус, откуда вышли многие славные сыны отечества российского, его прославившие как на бранном, так и на мирном поприще. Отличился Миних и на полях сражений, особенно в турецкую войну (1735–1739), когда штурмом взял Перекоп, захватил столицу Крымского ханства Бахчисарай, овладел крепостью Очаков и нанес туркам сокрушительное поражение под Хотином.
Воевал Миних, правда, не столько уменьем, сколько числом. Он был жесток и беспощаден к солдатам на войне, потерял тысячи от утомления, жажды и голода в Крымском походе, но и себя он тоже не жалел.
Неимоверным честолюбцем был фельдмаршал Бурхард Кристоф Миних. Честолюбие и подвигнуло его на решительную роль в этом акте трагедии, разыгравшейся вокруг младенца-императора.
Всего удобнее было действовать именем принцессы Анны Леопольдовны. И она, и ее супруг были оттеснены Бироном, который обращался с ними грубо, пренебрежительно, как он привык в прошлое царствование, а после ареста первых заговорщиков, которые на самом деле ими не были, скорее просто болтали, — Ханыкова, Михаила Аргамакова, Пустошкина, секретарей Яковлева и Семенова, он учинил принцу Антону публичный допрос, а начальник Тайной концелярии А. И. Ушаков угрожал обойтись с ним «так же строго, как с последним подданным Его Величества». Супруги стали опасаться, что Бирон вышлет их из России.
7 ноября Миних, шеф кадетского корпуса, представил Анне Леопольдовне несколько своих питомцев, чтобы та выбрала пажей. После представления состоялась беседа принцессы с фельдмаршалом, который предложил избавить ее и отечество от тирана. Принцесса немедленно согласилась. День прошел обычно: принц Антон и Бирон посетили императора и принцессу Анну, потом поехали в манеж — Бирон был заядлый лошадник, а вечером смутил ужинавшего у него Миниха вопросом: «А что, граф, во время ваших походов вы никогда не предпринимали ничего важного ночью?». Фельдмаршал на мгновение смешался, но быстро оправился от смущения и искренне ответил, что ничего чрезвычайного не упомнит, но имеет твердое правило использовать благоприятные обстоятельства в любое время дня.
Благоприятные обстоятельства наступили в два часа по полуночи. Фельдмаршал с главным адъютантом подполковником Манштейном через оставленные незапертыми задние ворота вошли во дворец и прошли в покои принцессы Анны. После короткого разговора Миних вызвал всех караульных офицеров, которым Анна объявила, что решает арестовать Бирона и поручает сделать это фельдмаршалу. Миних отобрал восемьдесят человек и двинулся ко дворцу регента.
На карауле в Летнем дворце, где жил Бирон, в ту ночь стояла команда Преображенского полка, подполковником которого и был Миних. Когда Манштейн объявил им намерение принцессы Анны, те радостно обещали, что ни один караульный не шевельнет пальцем в защиту Бирона. Манштейн и солдаты беспрепятственно прошли через сад и поднялись в спальню. Пытавшегося сопротивляться Бирона жестоко избили, связали и унесли в карету Миниха, помчавшуюся в Зимний дворец.
9 ноября вышел от имени императора Иоанна III манифест, в котором Бирон объявлялся отрешенным от регентства, а правительницей с теми же полномочиями назначалась Анна Леопольдовна. В тот же день Бироны (Эрнст-Иоганн и Густав) и Бестужев отбыли в закрытых каретах в Шлиссельбургскую крепость, в заточение. В следующем, 1741 году Бирона судили и сослали в Пелым. Вместе с ним в ссылку отправили братьев и зятя, генерала Бисмарка. Сослан был в отцовскую пошехонскую деревеньку и кабинет-министр А. П. Бестужев-Рюмин. Император же жил, как и прежде, мирно посапывая в колыбельке; его родители избавились от страха. Казалось, бури над династией утихли.
АКТ III
Время: 25 ноября 1741 года.
Место: Санкт-Петербург.
Главное действующее лицо: Елизавета, царевна, дочь Петра Великого.
Прошел год. 23 ноября 1741 года, в понедельник, в Зимнем дворце у правительницы Анны Леопольдовны, шел обычный куртаг — прием. Внезапно она оторвала цесаревну Елизавету от карточного стола и пригласила в отдельную комнату. По ее сведениям, сказала она, цесаревна замышляет произвести переворот. Французский посланник Шетарди помогает ей в этом. Кроме того, она находится в переписке с неприятелем — Россия вела войну со Швецией. Елизавета с горячностью все отрицала, потом обе расплакались, бросились друг другу в объятия и расстались при взаимных уверениях в преданности и любви.
А на следующий день правительство отдало приказ гвардии готовиться к выступлению в Финляндию против шведов. Близкие к Елизавете люди — они же заговорщики, — полагая, что правительство заговор раскрыло и хочет удалить расположенную к Елизавете гвардию из Петербурга, стали уговаривать ее действовать немедленно.
И Елизавета решилась. В начале второго ночи 25 ноября сопровождаемая камер-юнкером М. И. Воронцовым, своим врачом Лестоком и старым учителем музыки К. И. Шварцем она направилась в казармы Преображенского полка. В гренадерской роте ее уже ждали. «Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною! Клянусь умереть за вас, и вы присягните за меня умереть, но не проливать напрасно крови». «Клянемся!» — зашумела толпа. После целования креста более трехсот гвардейцев двинулись по Невскому к Зимнему дворцу. По дороге четыре группы солдат арестовали Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина. В караульне дворца солдаты, услышав слова Елизаветы: «Самим вам известно, каких я натерпелись нужд и теперь терплю и народ весь терпит от немцев. Освободимся от наших мучителей», с криком «Матушка, давно мы этого дожидались, и что велишь, все сделаем!», немедленно присоединились к ней.
По одной из версий переворота, драматической, Елизавета сама вошла в спальню правительницы и сказала ей: «Сестрица, пора вставать!» По другой — были посланы гренадеры, чтобы захватить императора и его родителей. Ребенок проснулся, и кормилица отнесла его в караульную, где Елизавета, взяв на руки, ласково произнесла: «Бедное дитя! Ты вовсе невинно; твои родители виноваты!».
Народ заполнял Невский, всюду раздавались крики «Ура!» Маленький император окончательно проснулся, слыша радостные возгласы, развеселился, подпрыгивал на руках Елизаветы и махал ручками…
Немедленно к ярко освещенному дворцу Елизаветы у Марсова поля поспешили разбуженные барабанщиками петербуржцы, помчались экипажи вельмож и сановников, спешивших уверить новую государыню в своей преданности. Переворот был бескровным, только Миниха и Остермана побили гренадеры: первого солдаты не любили (как, впрочем, и он их), а Остерман (как ему изменила осторожность?) неучтиво отозвался о Елизавете.
Князь Я. П. Шаховской, только что вернувшийся с ужина от своего родственника Головкина, вспоминая ту ночь, писал: «Не было мне надобности размышлять, в какой дворец ехать. Ибо хотя ночь тогда и мороз великой, но улицы были наполнены людьми, идущими к цесаревниному дворцу, гвардии полки с ружьями шеренгами стояли уже вокруг одного в ближних улицах и для облегчения от стужи во многих местах раскидывали огни, а другие, поднося друг другу, пили вино, чтоб от стужи согреваться. Причем шум разговоров и громкое восклицание многих голосов: «Здравствуй, наша матушка императрица Елизавета Петровна!» воздух наполняли. И тако я, до оного дворца в моей карете сквозь тесноту проехать не могши, вышед из оной, пошел пешком, сквозь множество людей с учтивым молчанием продираясь, и не столько ласковых, сколько грубых слов слыша, взошел на первую от крыльца лестницу и следовал за спешащими же в палаты людьми…»[9].
События 1741 года отличались от предыдущих переворотов и полупереворотов (возведение на престол Екатерины I, воцарение Анны Иоанновны, падение Бирона) по крайней мере в трех отношениях.
Во-первых, на авансцену вышла гвардия, причем гвардейцы в массе своей, вопреки расхожему мнению, отнюдь не были дворянами. Если при прежних петербургских коллизиях гвардия присутствовала где-то за кулисами или ее грозили употребить в дело сановники, боровшиеся за власть, то 25 ноября 1741 года гвардия — корпоративное объединение со своими традициями и духом (заметно преторианским) — выступила вполне самостоятельно.
Во-вторых, переворот 1741 года психологически был переворотом патриотическим: гвардейцы явственно поднялись против немецкого засилья, засилья, которое российское общество, в первую очередь столичное, дворянское, ощущало чрезвычайно остро в годы бироновщины. Ненависть к Бирону, утвердившемуся у власти путем постыдным — «он ее (Анну. — В. Т.) знатно штанами крестил», — переносилась и на сменивших Бирона, а ранее бывших с ним заодно Миниха, Остермана, Левенвольда. В определенной степени эти чувства распространялись и на родителей императора — немца Антона Ульриха и полунемку Анну Леопольдовну. К тому же эта семейная пара, оказавшись у кормила власти, не проявила ни государственного ума, ни элементарной житейской осмотрительности. Они не любили друг друга, непрерывно ссорились, создавая вокруг себя атмосферу нервозную, мелочную.
Анна Леопольдовна была женщиной доброй, но чрезвычайно ленивой. По целым дням, неодетая и непричесанная, она сидела во дворце с неразлучной своей фавориткой Юлианой Менгден. Принц Антон, напротив, желал править, не имея к этому, правда, никаких способностей, и нашел союзника в лице Остермана.
Об Остермане стоит сказать несколько слов, ибо человек он был незаурядный. Барон Генрих Иоганн Фридрих (а по-русски Андрей Иванович) Остерман — один из «птенцов гнезда Петрова». Он сумел удержаться наверху при всех российских правителях и правительницах — от Петра I до Анны Леопольдовны. Факт настолько редкий, что сам по себе заслуживает внимания. Стихией Остермана была, конечно, дипломатия, причем дипломатия именно XVIII века — придворная, с атмосферой подкупов, взяток, интриг, необузданной распущенности. Барон Андрей Иванович был ловок, трудолюбив, изворотлив и очень талантлив в интриге. Но крупным государственным деятелем, не был никогда. Белградский мир — детище Остермана, вершивший тяжелую войну с Турцией (1733–1739), стал насмешкой над успехами России и здравым смыслом. Проникнуть в неприступный доселе Крым, захватить его столицу Бахчисарай, взять Азов, Очаков, Хотин и Яссы, разгромить турок под Ставучанами, заплатить за это сотней тысяч солдат и многими миллионами рублей, а потом отдать все в руки представителя враждебной к России державы — французского посла в Константинополе! В результате Россия получила пустынную степную полосу на юге с Азовом (и без права его укреплять), не добилась права держать не только военные, но и торговые корабли на Черном море, а султан отказался признать императорский титул Анны. В. О. Ключевский написал так: «Россия не раз заключала тяжелые мирные договоры, но такого постыдно смешного договора, как белградский 1739 года, ей заключать еще не доводилось…» Вот такой человек был Остерман.
И наконец, огромную роль в перевороте и в судьбе династии Романовых сыграл образ дочери Петра Елизаветы, не столько она сама, сколько ее образ. Она была на редкость красивой женщиной, это признают все современники, элегантной, необычайно сызмальства чувственной, легкомысленной, ленивой и малообразованной. После смерти своей матери, Екатерины I, она жила при сменяющих один другого дворах — Петра II, Анны Иоанновны, Ивана Антоновича, занимаясь балами, любовными увлечениями, стараясь держаться в тени и не принимая участия в интригах, даже демонстративно от них отстраняясь — за ней, особенно при Анне, постоянно следили. В глазах же гвардейской среды, особенно простонародной ее части, она постепенно становилась идеалом, полной противоположностью развращенному, коррумпированному, находящемуся под засилием иноземцев двору. К тому времени в памяти народной ужасы петровской эпохи отошли на задний план, и Елизавета, с ее (отцовской) простотой обращения, красотою, приветливостью, веселостью, крестная мать десятков гвардейских чад, а следовательно, кума многих гвардейцев, была в их глазах живой связью с прошлым величием и надеждой на будущее. Именно поэтому переворот удался так легко. Он отвечал пусть еще не вполне сформировавшимся и осознанным настроениям российского общества и был встречен с большим энтузиазмом.
Энтузиазм, однако, как это обычно бывает, оказался преждевременным. Царствование Елизаветы трудно отнести к благополучной поре российской истории — достаточно вспомнить пугачевщину. Но правление Елизаветы — не наша тема. Нас интересует Иоанн Антонович, его судьба.
28 ноября вышел манифест, в котором, вопреки фактам, пространно и мудрено обосновывалась законность прав на престол Елизаветы Петровны. В том же манифесте Елизавета объявила, что «хотя принцесса Анна, и сын ее, принц Иоанн, и дочь принцесса Екатерина, ни малейшей претензии и прав к наследию всероссийского престола ни по чему не имеют, но, однако, в рассуждении их, принцессы и его, принца Ульриха Брауншвейгского, к императору Петру II по матерям свойств и из особливой нашей природной к ним императорской милости, не хотя никаких идо причинить огорчений, с надлежащей им честью и с достойным удовольствием, предав все их вышеописанные к нам разные предосудительные поступки крайнему забытию, всех их в их отечество всемилостивейше отправить повелели»[10].
Так обещала новая императрица, но обещания своего не выполнила.
АКТ IV
Время: 26 ноября 1756 года.
Место: Холмогоры Архангельской губернии.
Главное действующее лицо: Иван Васильевич Зубарев, он же Иван Васильев, тобольский посадский человек и конокрад.
Летом 1755 года на русско-польской границе была задержана шайка конокрадов. В одном из них, именовавшем себя Иваном Васильевым, свидетель опознал посадского человека из Тобола Ивана Васильевича Зубарева, разыскиваемого властями за мошенничество. На следствии Зубарев рассказал историю, даже по тем авантюрным временам фантастическую.
Бежав из-под стражи в 1754 году, мошенник (он пытался под предлогом, находки золотых и серебряных руд получить деревню с крестьянами якобы для устройства горноплавильного завода) добрался до Ветки под Гомелем (тогда это была Польша), где находились поселения и скиты раскольников, выходцев из России. Оттуда он поехал в Кенигсберг, где на улице его остановил прусский офицер, зазвал в трактир и стал вербовать на военную службу. Когда Зубарев отказался, его арестовали и доставили к фельдмаршалу Левальду (Зубарев назвал его Ливонтом), а потом познакомили с… К. Манштейном, тем самым Манштейном, который, будучи адъютантом Миниха, когда-то арестовал Бирона.
Манштейн повез Зубарева в Потсдам, а по дороге познакомил с неким принцем, оказавшимся родным дядей бывшего императора Иоанна, Фердинандом Брауншвейгским. Манштейн уговорил Зубарева, выдававшего себя за бывшего гвардейца, поднять раскольников на бунт, чтобы вернуть престол Иоанну Антоновичу, он познакомил его с офицером, который весной будущего, 1756 года должен был прибыть с купеческими кораблями в Архангельск. В задачу Зубарева входило пробраться в Холмогоры, где находилось брауншвейгское семейство, подкупить стражу (или напоить ее) и доставить Ивана вместе с отцом на прусский корабль.
В Потсдаме с Зубаревым разговаривал сам Фридрих II, он пожаловал ему чин «регимент-полковник», дал тысячу червонцев на дорогу и две золотые медали с портретом Фердинанда, которые проходимец должен был показать Антону Ульриху. Однако в Польше его ограбили, а медали он продал.
Иван Зубарев исчезает со страниц этой истории, как и полагается по сценарию, написанному судьбой Иоанна Антоновича. Был он, вероятно, сродни Пугачеву, по крайней мере, по живости ума и способности верить в собственные вымыслы. Конечно, он врал в Тайной канцелярии, но кое-где в его рассказе мелькают и реальные обстоятельства. Безусловно, он встречался с Манштейном, который покинул Россию и стал в окружении прусского короля специалистом по русским делам. Интересно, что Зубарев (как позже Пугачев) был связан с раскольниками — врагами режима царя-антихриста (Петр I) и его дочери, а среди раскольников существовал миф о заточенном в Холмогорах истинном царе, пострадавшем за веру. Вероятнее всего, Зубарев на свой страх и риск или по сговору с веткинскими раскольниками вошел в какие-то контакты с приближенными прусского короля, а быть может, даже встречался с Фридрихом II.
Для Пруссии надвигалась война с Россией, и вполне возможно, что, не придавая персоне Зубарева серьезного значения, но будучи свидетелем неожиданных (и удачных) переворотов в России, Манштейн мог убедить короля пожертвовать тысячей червонцев — на всякий случай.
А вот для Елизаветы Петровны дело Зубарева было тревожным сигналом, и она немедленно приняла меры. Сгоряча пообещав выпустить младенца-императора и его семью из России, Елизавета изменила решение. 29 ноября генерал-поручик В. Ф. Салтыков повез все семейство в Митаву, столицу Курляндского герцогства, но очень скоро получил новую инструкцию: не торопиться, задержаться в Нарве, а затем — в Риге.
Взойдя на престол, Елизавета спешно старалась подвести основание под свое шаткое право престолонаследия. Из Голштейна был вызван племянник Карл Петер Ульрих, которого обратили в православие и нарекли наследником. Состоялся скорый и неправедный суд над недругами Елизаветы — Минихом, Остерманом и их «сообщниками». Бывшие соратники низверженных идолов, а ныне судьи — Черкасский, Трубецкой, Ушаков — соревновались в ужесточении казни и наконец приговорили Миниха к четвертованию, а Остермана — к колесованию.
18 января 1742 года осужденных привезли к эшафоту, сооруженному на Васильевском острове, напротив здания Двенадцати коллегий. Остермана везли на санях — он идти не мог, прочие шли пешком. Выделялся ростом и бодростью фельдмаршал Миних: он был чисто выбрит, хорошо одет и спокойно беседовал с шедшими рядом офицерами. Первым внесли на эшафот Остермана, прочитали приговор — колесование, но вслед за тем объявили, что государыня смягчает наказание и приговаривает виновного лишь к отрублению головы. Старика бросили на доски, обнажили шею, один палач держал его голову за волосы, второй вынимал топор из мешка. В последнюю минуту секретарь вынул новый указ и громогласно заявил: «Бог и государыня даруют тебе жизнь». Объявили помилование и другим… Народ, собравшийся на зрелище, остался недоволен, и солдаты даже вынуждены были утихомирить толпу.
В апреле 1742 года в Москве состоялась торжественная коронация Елизаветы, а летом разнесся слух, будто камер-лакей Александр Турчанинов и несколько гвардейцев замыслили заговор, чтобы убить Елизавету и ее наследника и возвести на престол Ивана Антоновича. Еще через год, летом 1743 года, раскрыли «заговор» Лопухиных, в котором тоже фигурировал Иван Антонович. На самом деле никакого заговора не было, была интрига с целью свалить канцлера А. П. Бестужева, но императрица, постоянно опасавшаяся переворота, перепугалась.
В январе 1744 года последовал указ: брауншвейгское семейство, содержавшееся в Дюнамюнде под Ригой, перевезти в Раненбург, в Воронежскую губернию. Летом 1744 года Елизавета поручила камергеру Николаю Корфу перевезти семейство в Архангельск, а оттуда — в Соловецкий монастырь. Принца Иоанна велено было майору Миллеру везти особо: «Когда Корф отдаст вам младенца четырехлетнего, то оного посадить в коляску и самому с ним сесть и одного служителя своего или солдата иметь в коляске для бережения и содержания оного; именем его называть Григорий. Ехать в Соловецкий монастырь, а что вы имеете с собою какого младенца, того никому не объявлять, иметь всегда коляску запертую[11]. В августе мальчика оторвали от матери — им не суждено было больше увидеться — и всех повезли к Белому морю. Но в октябре было невозможно добраться до Соловков, и сердобольный Корф уговорил оставить ссыльных в Холмогорах, в архиерейском доме. Там, в Холмогорах, они и жили. Иван — под именем Григория — отдельно от родителей. В 1745 году Анна Леопольдовна родила сына Петра, а в 1746 при родах сына, названного Алексеем, Анна Леопольдовна умерла. Погребли ее в Александро-Невской лавре рядом с матерью. Елизавета присутствовала при церемонии и плакала. Остальные продолжали жить в Холмогорах: Иван под надзором Миллера; его отец, сестры и братья — знатока географии Вындомского.
Елизавета наложила запрет на упоминание царствования Ивана Антоновича: все указы и постановления предыдущего царствования были изъяты, портреты, медали, монеты с изображением императора и его матери уничтожались.
И потому дело Зубарева, в котором плоть и кровь как бы обрели разговоры, слухи, перешептывания о несчастном ребенке, так напугали Елизавету. 26 января 1756 года сержант лейб-компании Савин в глухую зимнюю ночь вывез пятнадцатилетнего Ивана из Холмогор, а Вындомский получил инструкцию «за Антоном Ульрихом и за детьми его смотреть наикрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки[12]. Путь же Ивана лежал в крепость Шлиссельбург — там российские власти содержали особо опасных преступников.
АКТ V
Время: 5 июля 1764 года.
Место: крепость Шлиссельбург.
Главное действующее лицо: Василий Яковлевич Мирович, подпоручик Смоленского пехотного полка.
Шли годы. Скончалась Елизавета Петровна; погиб в результате заговора ее наследник — император Петр III; вопреки всем законам божеским и человеческим взошла на российский трон немецкая принцесса, убившая своего мужа, Петра III, и отстранившая от царствования своего сына Павла I, — Екатерина II. Только в Холмогорах и Шлиссельбурге все оставалось как прежде. В Холмогорах Антон Ульрих, его дочери (Екатерина и Елизавета) и сыновья (Петр и Алексей), как доносил надзиравший за ними офицер, «живут… с начала и до сих пор в одних покоях безысходно, нет между ними сеней, но из покоя в покой только одни двери, покои старинные, малые и тесные. Сыновья Антона Ульриха и спят с ним в одном покое. Когда мы приходим к ним для надзирания, то называем их по обычаю прежних командиров — принцами и принцессами[13].
В Холмогорах пленники жили, хоть и скудно, и тесно, почти что взаперти, но вместе, постоянно общаясь. В Шлиссельбурге же Ивана лишили не просто свободы, но имени и личности. Тюремщики получили строгие инструкции: никто, кроме двух офицеров и сержанта, не должен видеть арестанта, тюремщики не могли сообщить своим родным о месте службы, не могли говорить арестанту, где он находится, сообщать кому-либо «каков арестант, стар или молод, русский или иностранец». Более того, капитану Овцыну, осуществлявшему надзор за пленником, было предписано (30 ноября 1757 года): «…в крепость, хотя б генерал приехал, не впускать; еще вам присовокупляется, хотя б фельдмаршал и подобный им, никого не впущать…»[14].
По-видимому, в Шлиссельбург Иван Антонович уже был привезен не совсем здоровым; трудно сказать, что подействовало на психику ребенка — разлука с матерью, содержание взаперти, странное обращение окружающих? Во всяком случае, в 1759 году Овцын доносил, что арестант «здоров, и хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался…» А в другом донесении писал: «Арестант здоров, а в поступках так же, как и прежде, не могу понять, воистину ль он в уме помешался или притворничествует?» Иногда пленник буйствовал, дрался, бранился, а иногда забивался в угол, не замечая окружающих. Какие-то воспоминания, случайно оброненные слова, разговоры детства и отрочества причудливо запечатлелись в его уме. «Я — человек великий, — сказал он однажды Овцыну, — и один подлый офицер то у меня отнял и имя переменил». А однажды он сказал своему тюремщику: «Смеешь ты на меня кричать: я здешней империи принц и государь ваш». Душевная болезнь отрезанного от внешнего мира узника прогрессировала. «Вкуса не знал, ел все без разбора и с жадностью, — доносит последний его тюремщик (и убийца) Власьев. — В продолжении 8 лет не примечено ни одной минуты, когда бы он пользовался настоящим употреблением разума; сам себе задавал вопросы и отвечал на них; говорил, что тело его есть тело принца Ивана, назначенного императором российским, который давно уже от мира отошел, а на самом деле он есть небесный дух… Нрава был свирепого и никакого противоречия не сносил, грамоте не знал… молитва состояла в одном крестном знамении. Все время или ходил, или лежал, хотя иногда хохотал»[15].
Но об узнике помнили, и само его существование таило в себе тревогу и неопределенность. Петр III уже через неделю после восшествия на престол распорядился, что в случае нападения на Шлиссельбург «арестанта живого в руки не отдавать». В конце марта 1762 года Ивана Антоновича тайно привезли в Петербург, его видел Петр III. Свидание успокоило императора: Иван оказался вполне безумен, сведения об этом распространились при дворе, так что едва ли кто-либо из царского окружения попытался бы использовать его в качестве знамени переворота.
Новая императрица, Екатерина II, не имевшая в отличие от мужа вообще никаких прав на престол, проявила еще большее беспокойство. Повидав Ивана и убедившись в его безумии, она все же не успокоилась, поручила узника надзору новых офицеров — Власьева и Пекина, подтвердила строжайший приказ: «живого никому его в руки не отдавать и возбуждать в нем склонность к духовному чину, то есть к монашеству». Общая атмосфера «нелегитимности» переворота 1762 года (даже по либеральным на сей предмет российским меркам XVIII века) подогревала опасения императрицы, чувствовавшей себя в первые годы на троне не слишком уверенно. Летом 1762 года арестовали гвардейцев Петра Хрущева и братьев Гурьевых, болтавших о восстановлении Ивана на троне. Однако был человек, который решил не болтать, а действовать.
Это был подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович. Его дед, Федор Мирович, переяславский полковник, неудачно связал свою судьбу с Мазепой и бежал в Польшу. Его дети жили в Чернигове у родственника, тамошнего полковника Павла Полуботка, а когда тот в 1723 году был арестован, стали мыкаться в Петербурге. Сын одного из них, Василий Яковлевич Мирович, человек честолюбивый, на всех обиженный, отчаянно пытался сделать карьеру. Он считал себя человеком знатным и, потерпев неудачу в имущественных делах, кинулся к масонам, вступил в масонскую ложу. Но это не утолило его честолюбивых замыслов. Всем недовольный, постоянно раздраженный, мистически настроенный Мирович воспринял переворот 28 июня 1762 года, вознесший на престол Екатерину, как знамение свыше.
В апреле 1764 года у него был готов план действий, и он открыл его близкому приятелю, Аполлону Ушакову, поручику Великолуцкого пехотного полка. Друзья решили, что когда императрица отправится в поездку по прибалтийским губерниям, а Мирович будет назначен в недельный караул в Шлиссельбургской крепости, Ушаков под видом курьера из Петербурга передаст ему манифест от имени Ивана Антоновича. Мирович прочтет манифест солдатам, те освободят узника и привезут его в Петербург к артиллеристам, которые, по мысли Мировича, к нему примкнут.
13 мая Мирович и Ушаков отслужили в Казанском соборе панихиду по самим себе. Предчувствие не обмануло их — 25 мая Ушаков утонул. Но Мирович, оставшись один, решил исполнить свой план вопреки всему.
9 июля Екатерина II торжественно выехала в Ригу. Она была весела, приветлива, и никто не заметил ее озабоченности. Но именно в это утро она получила известие, сильно ее взволновавшее.
5 июля в начале второго ночи комендант Шлиссельбургской крепости Бередников проснулся от шума. Выбежав из своей, квартиры, он увидел солдат, становящихся в строй, но в это время был сбит ударом приклада Мировичем, который крикнул солдатам: «Это злодей, государя Иоанна Антоновича содержал в крепости здешней под караулом, возьмите его!» Бередникова заперли. После этого караул Мировича двинулся к казарме, где квартировала гарнизонная команда крепости. На оклик «Кто идет?» Мирович ответил: «Иду к государю!» Раздался залп, и Мирович велел отступать. Затем подпоручик прокричал гарнизонной команде слова составленного им самим «царского Манифеста» и угрожал пустить в ход пушку. Гарнизон сложил оружие. Мирович во главе своих солдат ворвался в казарму и… понял, что проиграл. На полу лежал мертвый Иван Антонович. Следуя приказу императрицы, капитан Власьев и поручик Чекин штыками закололи бывшего императора…
Следствие показало, что Мирович действовал на свой страх и риск и сообщников не имел. Он рассказал все без утайки, и его не пытали. В ночь на 15 сентября 1764 года на Обжорном рынке, что на Петербургском острове, воздвигли эшафот и утром на него ввели сохранявшего полное самообладание и твердость духа Василия Мировича. Г. Р. Державин вспоминал: «Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не обвыкший видеть смертной казни (в царствование Елизаветы и Петра III публичные казни в Петербурге прекратились. — В. Т.) и ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогнулся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились». Солдат, пошедших за Мировичем, прогнали сквозь строй и разослали в отдаленные гарнизоны.
Смерть несчастного Ивана Антоновича положила конец всем надеждам, страхам и претензиям, связанным с той линией династии, которая шла от соправителя Петра Великого — царя Ивана V. Антон Ульрих при воцарении Екатерины отказался покинуть Холмогоры и уехать на родину без детей. В мае 1774 года он ослеп и умер.
В 1780 году Екатерина, почувствовавшая свою силу, отпустила братьев и сестер Ивана Антоновича. Они жили в Дании на содержании русского двора.
Владимир Тюрин Два долгих летних дня, или неотпразднованные именины
В пятницу 28 июня 1762 года император проснулся не в духе. Он засиделся накануне за ужином, выпил лишнего, и голова разламывалась от боли. Но во время развода настроение улучшилось, головная боль начала проходить: голштейнцы исполняли все экзерциции виртуозно, а командовавший барон фон Левен превзошел самого себя. Император повеселел, все заулыбались и засобирались в гости к императрице — из Ораниенбаума в Петергоф, чтобы присутствовать на большом обеде, а вечером — на ужине. На ужине — праздничном, потому что назавтра, в день Петра и Павла, готовились отпраздновать именины императора Петра III.
Император любил Ораниенбаум. Там, где Нева широко разливается, и берега ее расходятся далеко-далеко, любимец деда императора, Меншиков Александр Данилович, построил себе дворец на левом берегу. При Петре II Меншиков впал в немилость, и дворец, как, впрочем, и все имущество светлейшего, был отписан в казну и стал собственностью царской семьи.
Император любил Ораниенбаум, где он провел молодость, где была для него выстроена крепостца, где существовал арсенал, не настоящий, а так, собрание военных раритетов, и где император забавлялся учениями трехтысячного войска соотечественников из герцогства Голштейнского.
Император не любил Петергоф. Он не любил Петергоф, потому что его любила императрица. А императрицу он не просто не любил — в последнее время он не мог ее выносить.
Но солнечным июньским днем, когда кажется, что лету нет конца, кавалькада карет, колясок и линеек в сопровождении конвойных гусар двинулась к Петергофу. Блестящее придворное общество…
А в Петергофе в тот день императрица поднялась рано. В шесть утра Алексей Орлов вошел в ее спальню в петергофском павильоне Монплезир и ровным голосом произнес: «Пора вставать — все готово для вашего провозглашения». Екатерина поспешно оделась. Орлов так гнал лошадей, что те выбились из сил. В пяти верстах от Петербурга она пересела в экипаж князя Барятинского и свежие лошади помчали ее к престолу, мужеубийству и судьбе монарха. Судьбе, что нарекла ее в российской истории Екатериной Великой.
Вспоминала ли во время этой бешеной гонки София-Августа-Фредерика, или попросту Фике, дочь прусского генерала и князя Цербст-Дорнбургского[16] и принцессы Голштейн-Готторпской, теперь уже далекий день 28 июня 1744 года? Тогда, получив благословение архиепископа новгородского Амвросия Юшкевича, она «ясным и твердым голосом, чисто русским языком, удивившим всех присутствующих, произнесла символ веры, не запнувшись ни на одном слове», и тогда на литургии впервые была провозглашена ектения за «благоверную Екатерину Алексеевну» — так стала именоваться перешедшая из лютеранства в православие супруга наследника российского престола. Наверное, нет, не вспоминала. Давно уже ее воспринимали как русскую, больше того, она сама чувствовала себя русской, вначале стремясь понравиться императрице Елизавете и подчеркнуть свое несогласие с манерами и привычками мужа, а потом… потом она стала и ощущать себя не немецкой принцессой крошечного княжества, а наследницей престола российского.
И пока император Петр III только просыпался в Ораниенбауме после тяжелой ночи и медленно одевался, боясь потревожить головную боль, его супруга уже подъезжала к казармам гвардейского Измайловского полка.
А в полку бьют тревогу. Солдаты и офицеры, на ходу надевая рубашки и мундиры, бегут к Екатерине, «Матушка, избавительница!» — кричат, целуют руки, а сама Екатерина в слезах сообщает, что император отдал приказание убить ее и сына (не первая и не последняя в ее жизни ложь) и что единственная ее надежда — верные измайловцы. Два солдата ведут под руки престарелого священника с крестом, он принимает присягу от измайловцев. Появляется полковник, граф Кирилл Разумовский, и преклоняет колена перед императрицей.
В общей сумятице строят солдат в каре, в центре — экипаж Екатерины, и направляются к казармам другого гвардейского полка, Семеновского, за Фонтанку, где их встречают также с ликованием и громкими «Ура!»
А тем временем поднимается и третий гвардейский полк — Преображенский. Солдаты сами, без приказаний офицеров, в боевом порядке бегут к Зимнему дворцу, а часть их — прямо на Садовую.
Остаются артиллерийские и инженерные части. Туда кидается Григорий Орлов и приказывает начальнику генерал-фельдцехмейстеру Александру Никитичу Вильбоа, человеку отменной храбрости и сообразительности, явиться к государыне. Недоумение Вильбоа длится одно мгновение: «Разве император умер?» — спрашивает он и тут же, обращаясь к своим инженерам, произносит: «Всякий человек смертен». Он следует за посланцем, чтобы броситься на колени перед императрицей и открыть арсеналы…
В этот самый момент, когда в Ораниенбауме император появляется на плацу, не совсем еще справившись с утренним похмельем, в Казанском соборе архиепископ Дмитрий Сеченов начинает молебен. Он провозглашает на ектениях самодержавную императрицу Екатерину Алексеевну и наследника — великою князя Павла Петровича…
Огромная толпа запрудила пространство перед собором.
Все в недоумении: что с императором? Радоваться? Как вести себя? Бог знает. Но — событие! И какое! На трон взошла Екатерина, и главное — исчез с трона Петр III.
Пока император в полном неведении, наконец развеселившись в окружении прекрасных дам, неторопливо приближается к Петергофу, в Петербурге события развиваются стремительно. Из Казанского собора Екатерина, сопровождаемая огромной толпой, направляется в Зимний дворец. Она прибывает туда около 10 часов утра. Армейские полки Ямбургский, Копорский, Невский, Петербургский, Астраханский и Ингерманландский выстроились на площади, и архиепископ санкт-петербургский приводит их к присяге.
В Зимнем уже собрались сенат и синод. Наспех составлен манифест и текст присяги. И здесь многих заговорщиков ждет первое разочарование — не законный наследник возводится на престол с матерью в качестве регентши, а немецкая принцесса, совсем недавно интриговавшая в пользу Фридриха II, с которым Россия вела долгую войну, становится российской самодержицею. Возможно ли такое? Каковы резоны? Основания? А резоны все те же, что и всегда в оправдание переворотов, — угроза идеологическая и угроза внешняя. Петр III обвиняется в намерении ввести «иноверный закон», обвиняется он также в «совершенном порабощении» славы российской заключением мира с «сильным ее злодеем» Фридрихом II. В сущности, это — все. Но, оказывается, этого достаточно.
Императрица действует быстро и продуманно.
Мы оставили императора двигающимся в открытой коляске в обществе дам и прусского посланника от Ораниенбаума к Петергофу, коего он и достиг около двух часов пополудни. У въезда в Петергоф к Петру кинулся выехавший немного раньше его генерал-адъютант Гудович и встревожено сообщил, что императрица с раннего утра исчезла, и никто не знает, где она. Император бросается к павильону Монплезир, открывает шкафы, протыкает тростью потолок, панели — никого, лишь на полу бальное платье, заказанное ко дню его именин — к завтрашнему дню. Смятение, бессвязные возгласы, замешательство, шепот за его спиной… Лакеи и прислуга осведомлены лучше, чем двор. Наконец прозревает и император. В общей сумятице, никем не замеченный и не остановленный, к Петру приближается крестьянин и передает ему записку от бывшего камердинера, ставшего директором гобеленовой мануфактуры, француза Брессана. В записке сообщалось, что «гвардейские полки взбунтовались, императрица во главе их…» Полная растерянность и паника овладевают императором и его окружением.
Не растерялись лишь три испытанных царедворца. Графы М. Л. Воронцов и А. И. Шувалов и князь Н. Ю. Трубецкой немедленно вызвались привезти «положительные о том сведения», а канцлер Воронцов добавил, что если императрица отправилась в Петербург, чтобы захватить престол, то он, пользуясь своим влиянием, попытается усовестить ее, если его величеству будет то угодно. Его величеству угодно, и три сановника уехали. Чтобы присягнуть Екатерине и никогда больше не увидеть императора…
После их отъезда паника усиливается. Прусский посланник рекомендует бежать в Нарву. Голоса разделяются: предлагаются Голштейн, Украина, Финляндия… Петр ни на что не решается. Он раздражителен и неспокоен.
Видимо, Петр III не вполне все-таки понимал, что происходит. Впервые с 25 декабря прошлого года, когда умерла его тетка, императрица Елизавета, его приказания не исполняются, а сановники и слуги потихоньку разбегаются. Наконец — радость: возвращается флигель-адъютант из Кронштадта с донесением генерала Девьера. Это был первый и последний гонец, возвратившийся к императору. Девьер сообщал, что в Кронштадте все готово для приема императора и что государь найдет там надежную защиту. Всеобщее ликование. Хлопоты по отъезду. И наконец все — сорок семь находящихся при императоре кавалеров и дам, а также прислуга — направляются морем к Кронштадту.
В то время, когда маленькая флотилия императора (яхта и галера) плыла в Кронштадт, большая армия императрицы двигалась к Петергофу. В отличие от Петра Екатерина действовала решительно. В десять вечера, одетая в мундир Преображенского полка, полковником которого она при радостных криках гвардейцев себя провозгласила, в шляпе, украшенной дубовыми листьями, распустив свои длинные волосы, двинулась во главе войска на Петергоф. Рядом с нею гарцевала, также затянутая в Преображенский мундир, восторженная заговорщица, княгиня Екатерина Дашкова, сестра фаворитки императора. В десяти верстах от Петербурга, в Красном Кабачке, войско Екатерины остановилось на ночь. Императрица и ее подруга пытались заснуть в каморке, где была одна постель для обеих, но тщетно: сна не было, слишком возбуждены они были событиями прошедшего дня, а еще больше — ожиданием дня грядущего.
Когда императорская флотилия подошла к кронштадтской гавани, мичман Михаил Кожухов, караульный на бастионе, отказывается убрать бон, загораживающий путь в гавань. Петр доволен: он уверен, что действует приказ, отданный им через находящегося сейчас в Кронштадте Девьера, — никого в Кронштадт не пускать, кроме царя. Петр кричит, что он и есть император, и показывает Кожухову свою андреевскую ленту. На что слышит в ответ, что императора Петра III уже нет, а есть императрица Екатерина (позже она распорядится дать дерзкому мичману «два чина, два года жалования»).
И снова Петр впадает в страшную панику. Он упускает свой последний шанс — отказывается последовать совету Миниха направиться в Ревель, там сесть на военное судно и двинуться к русским войскам в Померании. «Вы примете начальство над войском, — говорит Миних, — поведете его в Россию, и я ручаюсь, что в шесть недель Петербург и Россия опять будут у ваших ног».
Брезжило утро: закончился один длинный день, начинался другой — день именин загнанного, запуганного человека, вчера еще бывшего властелином огромной империи, а сегодня — жалкого беглеца без надежды на будущее.
Судьба рано свела Петра с его будущей женой и убийцей. Ему было десять лет, когда он впервые увидел ее — свою троюродную сестру. Позже в мемуарах, где правда искусно переплетена, нет, не с забывчивостью, а с добротной, продуманной ложью, императрица перенесет свое отвращение к взрослому мужчине на маленького мальчика, сообщив, что уже тогда она «слышала, как собравшиеся родственники говорили между собой, что молодой герцог склонен к пьянству (это в десять-то лет! — В. Т.) и что приближенные не давали ему напиваться за столом; что он упрям и вспыльчив… Этому ребенку приближенные его хотели придать вид взрослого и для этого стесняли его и держали на вытяжке, что должно было сделать его всего фальшивым, от внешнего вида до характера».
Оставим эти суждения на совести не Фике, конечно, а императрицы Екатерины. Но действительно, детство ее будущего мужа и императора было нелегким. Он родился 10 февраля 1728 года в столице Шлезвиг-Голштейнского герцогства Киле от брака между герцогом голштейнским Карлом-Фридрихом и Анной, дочерью Петра Великого. Спустя три месяца после рождения сына Анна Петровна скончалась. Мальчик рос без матери. А в 1739 году и отец его умер, ребенок остался сиротой. Рос он хилым и болезненным о духовном его развитии заботились мало, отец все свое время проводил в казарме и передал сыну, как написал один из немецких биографов Петра III, «несчастную страсть к военщине». Мальчика с семи лет стали учить ружейным приемам и маршировке; его сделали унтер-офицером, во время развода или парада всякое учение прекращалось: принц бросался к окну и любовался солдатами. Как он сам позже рассказывал, его счастливейшим днем был тот, когда он, на девятом году своей жизни, стоял на часах вместе с взрослым унтер-офицером у двери в столовую залу, где давался обед по поводу дня рождения герцога. Неожиданно отец встал из-за стола, подозвал мальчика и, поздравив его с присвоением чина лейтенанта, позволил ему занять место за общим столом.
Несчастьем для Петра стал и выбор наставника. Обер-гофмаршал граф Брюммер был злобный интриган, невежественный наглец с явными садистскими наклонностями. Под его наблюдением ребенка плохо и нерегулярно кормили, часто и без причины жестоко наказывали, подавляли чувство собственного достоинства, постоянно делали выговоры. Петр замыкался в себе, но часто срывался, впадал в истерику и, что хуже, приучался лгать, чтобы избегнуть наказания. И природные, и воспитанные в нем застенчивость и трусость находили выход в бравадах и эпатажах; от ненавистного ему общества Брюммера он скрывался в лакейской и кордегардии — позднее взрослый Петр Федорович будет обвинен в неумении вести себя в приличном обществе и тяготении к компании лакеев и конюхов. Так или иначе, когда Петр в четырнадцатилетием возрасте появился в Петербурге, даже не отягощенная образованием императрица Елизавета Петровна очень удивилась, что племянника в Голштейне ничему не научили. Небрежность сопровождала не только воспитание и образование Петра. Небрежность сопутствовала его предназначению. Наследником двух престолов был принц Карл-Петр-Ульрих. И имя свое он получил неспроста: Карл — если взойдет на шведский трон, Петр — если на российский. Внуком (родным и двоюродным) соперников — Петра Великого и Карла XII — был маленький герцог Голштейнский.
Когда в 1730 году в Москве возвели на престол Анну Иоанновну, отстранив дочерей Петра Великого, в Киле решили: быть младенцу шведским королем. А потому русскому языку не учили, воспитывали в лютеранской вере и о родине матери и деда при нем не говорили.
Но в ночь с 24 на 25 ноября 1740 года положение изменилось: цесаревна Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, арестовала императора — младенца Иоанна VI — и его родителей и провозгласила себя императрицей. Чтобы придать законность перевороту, вспомнила завещание Екатерины I, и Елизавета поспешила упрочить престолонаследие за своей, петровской линией: из Киля спешно вызвала она племянника, поторопила его принять православие, нарекла великим князем Петром Федоровичем и наследником престола.
В 1745 году Петр Федорович достиг совершеннолетия и стал правящим герцогом Шлезвиг-Голштейнским. В том же году тетка женила его на выбранной ею невесте — анхальт-цербстской принцессе Софии-Федерике-Августе. Брак оказался неудачным. Супруги оставались чуждыми друг другу. Ничего не изменило и рождение ребенка, названного Павлом, которого императрица Елизавета отобрала у родителей и воспитывала сама. В отличие от неловкого, скрывавшего робость и смущение бравадами и неожиданными выходками Петра Федоровича, его супруга, Екатерина Алексеевна, была особой не по годам развитой; расчетливой, лукавой, умевшей скрывать свои мысли и завоевывать расположение окружающих. И когда 25 декабря 1761 года умерла Елизавета и на престол взошел Петр III, при петербургском дворе явственно запахло новой грозой, а точнее — новым переворотом, на которые так щедр был русский XVIII век.
Июньские события 1762 года — кульминационный пункт в истории российских переворотов XVIII века. Современники и впоследствии многие историки не понимали смысла этих перемен и всерьез уверяли почтенную публику на Западе (а иногда и нас), что «…при помощи нескольких гренадеров, нескольких бочек вина и нескольких мешков золота в России можно сделать все, что угодно». Анализ переворотов — тема необъятная; хочу лишь обратить внимание на одну силу, которая ими двигала, — общественное мнение, или то, что именовалось публикой. И поняла это Екатерина II, которая в своих мемуарах постоянно подчеркивала, что с момента своего приезда в Россию она только и думала о расположении публики, приучая ее видеть в ней, Екатерине, свою надежду. И поступая так, она поступала логично и целенаправленно. Конечно, от келейного совещания, когда на трон после смерти Петра I возводится Екатерина I, до возмущения Елизаветой Петровной гвардейских частей — дистанция огромного размера. Самым широким по размаху и вовлеченности в него именно публики стал переворот 1762 года.
Петра Федоровича, погубило несоответствие его поведения той модели самодержца, которую стала создавать себе публика или, иначе говоря, сплачивающееся в корпорацию дворянство, получившее при Елизавете Петровне и других преемниках Петра I некоторую передышку от всесокрушающего деспотизма Петра Великого. Существует какая-то личностная нить в линии дед — внук — правнук: Петр I — Петр III — Павел I. Они — не просто самодержцы, они — самодержцы, которых неуклонно несло к деспотизму. И если деспотический характер Петра Великого придавал его царствованию звучание трагедийное, то его правнук, Павел I, употребил свойства своей деспотической натуры на создание романтико-трагедийно-фарсовой ситуации, а Петр III успел за свое недолгое царствование достичь лишь комедийнофарсовых результатов (которых было, кстати, немало в деятельности и других его потомков и предков).
Петр III — невежественный (в отличие от сына) и нелюбознательный (в отличие от деда) человек, лишенный ясных нравственных устоев, ленивый, невоздержанный, хотя и обладавший, правда, весьма своеобразным чувством юмора и демократизмом (общая черта деспотов), не выдержал испытания властью. Он решил, что сам сан самодержца — его лучшая и единственная гарантия и что он может всегда, в любой миг его жизни поступать так, как он того хочет. Император не был злобен. Он никого не казнил, не преследовал, более того, это ему принадлежит манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», освободивший это сословие от обязательной государевой службы. Это он окончательно упразднил страшное пугало петровской эпохи — Тайную розыскных дел канцелярию. Это он предвосхитил мысль Екатерины II о секуляризации церковных имений и запретил преследование возвращавшихся из-за рубежа раскольников. Это он закончил обременительную и ненужную России войну с Пруссией за чужие — австрийские и французские — интересы.
Но именно потому, что все его действия носили взрывной скоропалительный характер, ни у кого не было уверенности, что однажды выбранная система действий будет и дальше существовать. К порывам императора относились с опаской, а то и с прямым неприятием. Петр Федорович меньше всего был дипломатом и шармером: он полагал, что самодержцу это не нужно. А вот к эпатажу и кунштюкам сердце его так и льнуло, и он себе в них не отказывал. У гроба тетки, императрицы Елизаветы, он шутил, передразнивал священников, а в Духов день, как доносил французский посланник, «с громким смехом вышел из церкви». Адъютант начальника полиции Петербурга Андрей Болотов, часто наблюдавший императора, пишет о стыде, который охватывал присутствующих, когда Петр беседовал с иностранными дипломатами и проводил время в застольях с людьми случайными, например, с актерами и переводчиками итальянского театра. «А однажды, как теперь вижу, дошли до того, что вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут же на усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребятки; ну все прыгать на одной ножке, а другим спогнутым коленом толкать своих товарищей. А по сему судите, каково же нам было тогда смотреть на зрелище сие из окон и видеть сим образом всех первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкающихся и друг друга наземь валяющих?»
Но, думается, публика не просто шокировалась эксцентричностью человека, который столь не похож был на государя. Дело, конечно, глубже: опасались тиранства, своеволия, ибо действия и поведение государя были непредсказуемы и выходки его могли рассматриваться как симптомы деспотизма. Страх перед самодержавным произволом и личной незащищенностью — вот что ощущали люди.
Боялись и возвращения к засилью немцев — пруссаков и голштейнцев. И Петр Федорович делал все, чтобы страхи эти умножить. Плохо было не то, что он вывел Россию из тяжелой войны, это-то хорошо, плохо было то, как он это сделал. В столкновении с Россией Пруссия потерпела поражение. Петр же превратил победу тетушкиных фельдмаршалов и генералов в национальное унижение. 25 февраля 1762 года в Петербург прибыл прусский посланник адъютант короля Гольц, и Петр III предложил Фридриху II самому составить мирный договор, условия которого Гольц затем прочитал императору без свидетелей. Гольц становится ближайшим другом Петра. Император публично клянется в верности своему кумиру — Фридриху II, носит его портрет в перстне, вешает другой — над изголовьем. И наконец, император объявляет, что начинает новую войну — с Данией, чтобы отвоевать Шлезвиг, ранее принадлежавший герцогству Голштейн. После странного окончания войны с Пруссией государство вовлекается российским императором (или принцем Голштейнским? — вопрошает все та же публика) в нелепую войну с Данией.
В Петербурге неспокойно. Русский современник оценивает июнь 1762 года как время «шаткое и самое критическое».
В Петербурге не просто неспокойно, в Петербурге — заговор. К июню 1762 года он созрел окончательно. И возглавляет его женщина, которую Петр III не терпит и всерьез не принимает, — его жена Екатерина Алексеевна.
Именно Екатерина оказалась тем центром, в котором соединились разнородные потоки оппозиции Петру III — и как личности и как воплощению (не важно, реальному или воображаемому) самодержавия деспотического.
Петр капризничал и кривлялся у гроба Елизаветы; Екатерина «в глубоком трауре приходила к гробу своей нареченной тетки и, став на колени, долго и глубоко молилась». Петр потешался над духовенством и выказывал презрение к православию, оставаясь в душе лютеранином. Екатерина была предупредительна с иереями и подчеркивала свою приверженность православию. Петр третировал гвардию, грозил распределить ее по армейским полкам. Екатерина, став любовницей Григория Орлова, завоевывала популярность гвардейцев; Петр, очертя голову, кидался в союз с Фридрихом II, готовился к бессмысленной войне с Данией. Екатерина подчеркивала приверженность австрийскому дому и не одобряла датский поход. Петр к месту и не к месту обращался к памяти деда, главным образом — памяти деда-самодержца. Екатерина показывала, что ей по душе просвещенное правление, что ей знакомы идеи Монтескье, Вольтера, она цитировала и Тацита.
Екатериной движет честолюбие, о котором мало кто догадывается, и страх за свое будущее.
Силы и личности заговора были разнородны. Орловы и близкие к ним вовлекли в него гвардейских офицеров, а те — часть солдат. Восторженная поклонница Просвещения, юная княгиня Екатерина Дашкова вела доверительные разговоры в Петербургских салонах в пользу Екатерины. К заговору примкнули сановники из числа наследников тех, кто пытался обуздать самодержавие еще в 1730 году. Первое место среди них занимал Никита Иванович Панин, ранее посланник в Копенгагене и Стокгольме, а ныне — воспитатель наследника Павла Петровича. Панин был убежденным сторонником шведской системы, ограничивающей власть монарха, и надеялся, что Екатерина — регентша при малолетнем императоре после устранения Петра III — последует его советам. Граф Кирилла Григорьевич Разумовский, полковник Измайловского полка, малороссийский гетман, сочувствовал заговору. Екатерина проявляла блестящие дипломатические способности. Она не разрушала иллюзий Панина и полунамеками обнадеживала Орловых, что возможен ее брак с Григорием, она не сводила Орловых с Разумовским, она предоставляла свободу рук Дашковой, не посвящая ее в свои связи.
Тревожен и страшен был петербургский июнь 1762 года.
После окончательного решения о походе в Данию гвардия открыто ропщет. Очевидец сообщает, что «безрассудство, упрямство и бестолковое поведение императора сделали его… настолько ненавистным, что в Петербурге, не остерегаясь более, все открыто уже высказывали свое недовольство».
12 июня, после трехдневных празднеств в честь мира с Пруссией, император уехал в Ораниенбаум, а через пять дней, 17 июня, Екатерина отбыла в Петергоф. Вероятно, именно в эти пять дней окончательно созрел сценарий переворота — арестовать императора в момент его возвращения в Петербург для начала датского похода.
В Петергофе Екатерина живет уединенно, никого не принимая, ни с кем не общаясь, никуда не выходя. Лишь 19 июня, по требованию императора, она появляется в Ораниенбауме — на домашнем спектакле, император играет в оркестре на скрипке — ив тот же день возвращается в Петергоф. Это был последний раз, когда она видела своего мужа.
А слухи, искусно подогреваемые сторонниками Екатерины, растут и ширятся в столицах и провинции, факты переплетаются с нелепицами, а то и с прямой ложью. Но общественное мнение, над которым Петр III глумился, полагая, что в России самодержцу все позволено, вершит свое дело.
Обстановка в Петербурге накалена до предела, достаточно искры — и последует взрыв. И искра вспыхнула.
Вечером в среду 26 июня капрал Преображенского полка, имени которого история не донесла, спросил поручика Измайлова, скоро ли свергнут императора. Измайлов, хотя и ощущавший атмосферу всеобщего неудовольствия, но в заговор не посвященный, передал о словах капрала ротному командиру, секунд-майору Воейкову, а тот — полковнику (впоследствии генерал-аншефу и сенатору) Федору Ивановичу Ушакову. Утром 27 июня, в четверг, капрала допросили в полковой канцелярии. И тут выяснилось, что он уже задавал этот вопрос капитану Пассеку, который, как и Измайлов, хотя прогнал его, но в отличие от Измайлова не донес по начальству. Более того, в канцелярии нашли показание какого-то солдата, что Пассек хулил императора. Кому-то из полковых чинов захотелось выслужиться, делу дали ход и послали подробный отчет Петру в Ораниенбаум. Пополудни из Ораниенбаума пришел приказ арестовать Пассека, что и было сделано в тот же вечер. И тогда заговорщики встревожились: ведь капитан-поручик гренадерской роты лейб-гвардии Преображенского полка (потом он станет камергером) Петр Богданович Пассек был одним из наиболее посвященных и активных участников заговора. Неизвестно, случайность ли арест Пассека или власти напали на след? Неясно, даст ли показания капитан-поручик или останется стойким (Пассек не проболтался, но об этом не знают заговорщики)?
И тогда решили действовать, не дожидаясь появления Петра в Петербурге. Риск большой: не изолировав императора, низвергнуть его, провозгласить Екатерину, не будучи уверенными, что Петр не ринется в Кронштадт или в действующую армию. Но выбора не было, понадеялись на атмосферу всеобщего недовольства, на нерешительность и трусость императора и, конечно, на великое русское «авось».
И надежды их оправдались.
Утром 29 июня (это была суббота) Екатерина получила донесение от заседавшего непрерывно Сената, где содержалось поздравление с днем тезоименитства наследника цесаревича Павла Петровича (о Петре III — ни слова) и сообщение, что в столице все «состоит благополучно». В шесть утра войска двинулась к Петергофу. По пути Екатерину встретил вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын, который вез письмо Петра с предложением примирения и обещанием исправиться. Голицын, передав письмо, принес присягу верности Екатерине и присоединился к ее свите. В одиннадцать утра Екатерина в сопровождении конногвардейцев въехала в Петергоф, уже занятый ее передовыми частями. К тому времени гусары Алексея Орлова блокировали все подступы к Ораниенбауму и изолировали потерявшего всякое присутствие духа императора. В Петергофе Екатерина получила второе письмо Петра. Он просил прощения, отказывался от престола и умолял отпустить в родной Голштейн с Воронцовой и Гудовичем; он не знает, что решено заточить его в Шлиссельбург, куда отправлен посланец, чтобы приготовить каземат. Осталось только выманить Петра из дворца и избежать столкновения с голштейнцами. Миссию эту взялся исполнить генерал Измайлов. Генерал, которому Петр доверял… С готовым актом отречения Измайлов явился к Петру и через несколько минут получил желаемую подпись от императора, впавшего в состояние прострации.
В Петергофе, куда Петра привезли в первом часу дни 29 июня, он подвергся унижениям. История российская — и древняя, и новейшая — небогата примерами великодушия к проигравшим. Грубо приказали ему раздеться и, не дождавшись, сорвали Преображенский мундир. Некоторое время он сидел в одной рубашке, босиком, под насмешки и издевки солдат. Потом упал в обморок. Очнувшись, умолял не разлучать его с Елизаветой Воронцовой.
Н. И. Панин, обращаясь спустя много лет к этому дню, сокрушенно писал: «…Считаю величайшим несчастием моей жизни, что был обязан видеть Петра в это время». А в пятом часу дня из ворот Петергофа выехала большая карета «с завешенными гардинами, у которой на запятках, на козлах и по подножкам были гренадеры во всем вооружении, а за ними несколько конного конвоя». Отрекшегося от престола императора увозили в Ропшу. Она станет для него последним и недолгим местом жительства.
Кончился для Петра еще один долгий июньский день, день его именин… Екатерина на полпути к Петергофу, возбужденная, торжествующая, измученная напряжением, заснула не раздеваясь.
А потом начался пир победителей. 30 июня, в воскресенье, императрица торжественно въехала в столицу во главе гвардейских войск и линейных полков. Из окон, с крыш, заборов народ шумно приветствовал императрицу. Звон колоколов смешивался с полковой музыкой. В полдень Екатерина прибыла во дворец, где ее встретили наследник, сенат, синод и придворные, а оттуда проследовала в церковь, к молебну. Сержант Преображенского полка Гавриил Романович Державин в своих «Записках» вспоминал: «…День был самый красный, жаркий. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены — пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки в неистовом восторге радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось». Пил простой народ, не держалась на ногах и полиция.
Екатерина отблагодарила население, не только разрешив трехдневное пьянство в Петербурге. Был обнародован, указ «об облегчении народной тягости»: снизили на десять копеек с пуда цену на соль, «яко самой нужной и необходимой к пропитанию человеческой вещи». Сколько же соли надо было съесть, чтобы ощутить это благодеяние! А вот сподвижники по заговору были действительно одарены щедро: повышения по службе, чины, пенсии, дворянские звания и, главное, души, сотни душ рабов-крепостных. Раздачи крестьян и укрепление власти дворян над ними будут сопровождать все царствование поклонницы Дидро и Монтескье, и пропасть, вырытая Петром I, будет углубляться.
А самовластие, боясь которого свергли Петра III? В манифесте Екатерины II о восшествии на престол назидательно сообщалось, что «самовластие, необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое пагубным следствием непосредственною бывает причиною». Екатерина не стала жестоким деспотом, но осталась самодержицей в полной мере.
Неудобством для Екатерины оставался свергнутый император. Судьба Петра Федоровича была предрешена, видимо, в тот день, когда его отвезли в Ропшу, не в Шлиссельбург, как вначале предполагалось. В России уже жил в это время в шлиссельбургском каземате один бывший император — полубезумный, несчастный Иоанн Антонович. Теперь второй? И это при полном отсутствии прав на престол у Екатерины при сыне-наследнике?
Решение, конечно, приняла сама Екатерина. Но никогда вслух не высказала. Ближние к ней люди это хорошо поняли, к тому же Орловых продолжали заманивать возможностью брака Григория с императрицей. Так свершался заключительный этап трагедии.
Орловы торопятся. Живой Петр Федорович — препятствие честолюбивым замыслам братьев. Уже 30 июня по Петербургу разносятся слухи, что Петр Федорович нездоров. А он чувствует себя отнюдь неплохо и просит привезти любимую кровать из Ораниенбаума. В тот же день, 30 июня, ораниенбаумская кровать появилась в Ропше. Получает он (также по его просьбе) скрипку, собаку и камердинера. Петра держат в тесной комнате, не разрешают выйти даже на террасу или в другое помещение. Над ним издеваются. Шестого июля утром вышедший в сад «подышать чистым воздухом» камердинер Петра внезапно схвачен солдатами, посажен в уже приготовленный экипаж и увезен. Петр остается один на один с тюремщиками…
Вечером из Ропши прискакал гонец с письмом Екатерины от Алексея Орлова. Пьяной рукой Орлов написал:
«Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Федором; не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить». На ужине, кончившемся умышленным (и уж меньше всего случайным) убийством Петра, кроме Алексея Орлова и Федора Барятинского, присутствовали и другие, те, которые «все до единого виноваты»: будущий камергер Григорий Теплов, лейб-медик Карл Крузе, сержант гвардии Николай Энгельгардт, конногвардейский капрал Григорий Потемкин, отец русского театра Федор Волков и еще несколько человек. Кто из них задушил Петра, в точности неизвестно, но убивали все.
На следующий день «скорбный» манифест Екатерины II сообщил, что «бывший император Петр Третий обыкновенным прежде часто случавшимся ему припадком гемороидическим впал в прежестокую колику» и скончался. В ночь с 7 на 8 июля тело Петра было перевезено в Александро-Невскую лавру. Гроб, обитый красным бархатом, с наброшенным на него парчовым покровом, вокруг которого не поместили ни орденов, ни других знаков отличия, был поставлен на катафалк. Как сообщали очевидцы, лицо одетого в форму голштейнских драгун императора «черно, чернее, чем у апоплектика. На шее широкий шарф, но офицеры не дают времени всмотреться, приглашая проходить, проходить…»
Народ, толпившийся вокруг церкви, долго не расходился, словно ожидая чего-то. Уже ходили, как отмечали полицейские донесения, по городу «неосновательные толки и пустые враки».
Ни новая императрица, ни придворные, ни простой люд — словом, никто из расходившихся после погребения и представить себе не мог, что эти толки и враки спустя годы вдруг обретут реальность в плутоватом, бородатом и трусоватом лицедее, который в странном и необъяснимом порыве примет имя погребенного в июльский день 1762 года человека и даст свое настоящее имя пронесшемуся по России жуткому и кровавому смерчу — пугачевскому бунту.
Владимир Тюрин Бедный Павел
Собрались у преображенца Талызина, ужинали. У генерала Талызина, командира гвардейского Преображенского полка, что квартировал в пристройке Зимнего дворца. Хозяин отсутствовал, но вино лилось рекой. Больше всего было обер-офицеров, молодых людей от прапорщика до капитана, появилось и несколько штаб-офицеров, солидных полковников гвардии. Как обычно, разговоры, анекдоты и… насмешки в адрес государя. Заурядная офицерская попойка в промозглом Петербурге вечером одиннадцатого марта 1801 года. Правда, странно, что гости, не бог весть какая знать, собрались по личному приглашению наследника российского престола Александра Павловича и генерал-губернатора столицы Петра Алексеевича Палена…
Время близится к полуночи, ужин — к концу. И вот появляются генералы — граф Пален, барон Беннигсен и братья Зубовы. Принесли еще шампанского. Пален и Беннигсен не пили, но молодым людям подливали щедро. Шум, напряженное возбуждение. Наконец Пален просит шампанского и поднимает тост за здоровье его императорского величества Александра. Александра? Позвольте, ведь Александр — наследник. Это ошибка. Нет, не ошибка. Платон Зубов, фаворит Екатерины, громогласно заявляет, что такова была еще воля покойной императрицы, а Пален говорит, что наследник согласен. Сомнений у разгоряченных вином людей нет. Но как быть с нынешним царем? Что если он станет сопротивляться? Там видно будет. И глава заговорщиков, граф Пален, произносит (разумеется, по-французски) свою вошедшую во все мемуары фразу: «Не разбив яиц, не приготовишь омлета».
Пален делит нетрезвых офицеров на две партии: одна пойдет с ним, другая — с Платоном Зубовым и Беннигсеном. Пойдут разными путями. Но место встречи одно и цель одна. Место — Михайловский замок, цель — убийство императора Павла I.
Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. Ему было восемь лет, когда по воле матери Екатерины был убит его отец, Петр III. И сорок два года, когда он, дважды женатый, отец многочисленного семейства, затаившийся в своей крепости Гатчина, нервный, экзальтированный, униженный своей матерью и всю жизнь ее страшившийся, взошел на долгожданный и столь желанный престол.
С воцарением Павла оборвался екатерининский век. Все присутствовало в этом веке и все переплелось — просвещение и цинизм, блестящие победы Румянцева и Суворова и страшный, беспощадный пугачевский бунт; князь Щербатов, бичевавший пороки общества и вздыхавший об «изгнанной добродетели» и «странной нравственности», и Радищев, со слов которого «душа моя страданиями человеческими уязвлена стала» началась история русской интеллигенции, вольтерьянство и масонство.
И наследник престола цесаревич Павел был дитятей екатерининской эпохи, эпохи, которую он так страстно возненавидел. Его воспитателем был Никита Иванович Панин, просвещенный вельможа, сибарит, развратник, интриган и… вольнодумец. Екатерина хотела пригласить д’Аламбера, но тот, прочитав манифест, в котором смерть Петра III объяснялась геморроидальной коликой, сказал, что в Россию не поедет, поскольку подвержен той же болезни. Панин пытался воспитывать Павла, правда, непоследовательно, в духе Руссо, но наследнику нравился и Фридрих Великий, недостатка в поклонниках которого не было при дворе. Павел был неглупым, резвым, жизнерадостным, полным великодушных порывов ребенком. Но очень рано определился тот разрыв между безудержной фантазией и волей, который стал несчастьем для будущего императора и России: Павел желал немедленно реализовать свои фантазии, его натуре было неведомо расстояние между импульсом и действием. А импульсы эти были импульсы самодержца… У него настойчивый, болезненный интерес к тайне своего рождения (ходили слухи, что отцом Павла был граф Салтыков). Он неотвязно размышлял о судьбе отца, Петра III, о котором при дворе говорили глухо и неохотно. Но едва ли не главное — отчуждение от матери, стыд за ее образ жизни, ненависть к ее бесконечно сменяющимся фаворитам и, конечно, страх. Страх перед возможностью быть лишенным престола, ведь отобрала же Екатерина у Павла и его жены первенца Александра. Чувства эти застилали глаза, заставляли видеть только дурное в правлении матери, не давали понять, почему мать называли Великой. В конце ее царствования мать для него — враждебная, развратная лгунья, отнявшая у него, законного наследника, российский престол.
Гамлетом представлялся европейским дворам великий князь Павел, путешествовавший со своей супругой по Европе в 1781–1782 годах. Австрийский актер Шредер получил от императора Иосифа II 50 дукатов за счастливую мысль «не ставить трагедию Шекспира на императорской сцене во время пребывания в Вене графа Северного (под таким именем путешествовал Павел. — В. Т.), поскольку в зале очутятся два Гамлета». Сам цесаревич охотно входит в эту роль, рассказывая друзьям о встрече с тенью Петра (правда, не Петра III, а Петра Великого), которая воскликнула: «Павел, бедный Павел, бедный князь!».
Почести и торжественные приемы, которые оказывались в его лице великой державе и великой государыне, он принимал на свой счет. Он полагал, что Европа, восхищена им и боится его… Бедный Павел! Вообще же Европа только расстраивала его. «Эти немцы обогнали нас на два века!» — воскликнул он, когда пересек русскую границу.
В 1783 году, после смерти Григория Орлова, дворец бывшего фаворита Екатерины II в Гатчине, построенный итальянцем Ринальди, перешел к Павлу и стал его любимым местопребыванием. Здесь он создавал свою армию, полагая, что продолжает дело своего прадеда, здесь был его двор — рыцарский, как он считал. И прообразом будущего царствования стала Гатчина, а екатерининский двор, видя Гатчину, содрогался.
Павел был реформатором по натуре, реформатором, задумавшим упорядочить государство, подтянуть распущенное дворянство, облагодетельствовать подданных, быть одинаково добрым для всех государем. Дитя века Просвещения, Павел, после революции во Франции желавший пушками воевать с идеями энциклопедистов, хотел, как и Робеспьер с Маратом, облагодетельствовать людей, не считаясь с их волей и желаниями. Но он не был якобинцем, он был самодержцем. И реформаторские планы в сочетании с сумасбродным характером дали результаты удивительные.
Из хаоса идей, бродивших в его голове, еще в Гатчине выкристаллизовалась мысль о военной реформе. Начать, как великий предок, с армии, остальное приложится. И он начал: создал гатчинцев — двухтысячное войско, одетое по прусскому образцу и затянутое в мундиры, носившее напудренные парики, косички и гамаши.
Жить при гатчинском дворе было трудно. Мнительность и раздражительность великого князя отравляли жизнь семьи и придворных. Малейшее возражение вызывало гнев. Однажды он приказал высечь кучера за то, что тот отказался свернуть на дорогу, по которой не было проезда, заявив: «Пусть лучше я сверну шею, но чтобы слушались». Любимец Павла Растопчин писал: «Не без чувства скорби и отвращения следят здесь за образом жизни великого князя; он как будто все усилия прилагает к тому, чтобы вызвать ненависть к себе».
Напряженность и скука царили при гатчинском дворе. Теща великого князя Константина Павловича, герцогиня Саксен-Кобургская вспоминала: «Принужденность и молчание — все по старинной прусской моде… Офицеры свиты великого князя точно срисованы со страниц старого альбома».
Павел не любил людей и не ценил их. Он ни к кому не привязывался, мог мгновенно приблизить и так же быстро охладеть. После смерти Н.И. Панина в его окружении не было людей достойных или государственно мыслящих. «Великий князь, — замечал Растопчин, — окружен людьми, самый честный из которых заслуживал быть колесованным без суда». Первое место, безусловно, занимал сам Растопчин, героический Герострат, которому приписали сожжение Москвы. И все-таки он был предан великому князю.
Преданным был и Алексей Андреевич Аракчеев, сын бедного мелкопоместного дворянина, человек грубый, мелочный, ограниченный, на службе жестокий, но способный администратор и артиллерист. Казнокрадом, наушником и сводником был камердинер, брадобрей и наперсник Павла — турок, попавший мальчиком в русский плен и превратившийся в графа Ивана Павловича Кутайсова — он был родом из Кутаиси.
Первый брак Павла был неудачен: принцесса Вильгельмина Гессен-Дармштадтская, ставшая в России великой княгиней Наталией Алексеевной, на которой он женился романтическим сентиментальным девятнадцатилетним юношей, изменяла ему с его ближайшим другом, князем Андреем Разумовским. Это было для него ударом. Он чувствовал себя одиноким, а всех вокруг ощущал предателями. Подозрительность на благодатной почве произрастала щедро. Наталия Алексеевна скончалась от родов после трех лет супружества, и через несколько месяцев Павел женился на вюртембергской принцессе Софии-Доротее, будущей императрице Марии Федоровне. Это была высокая, статная, близорукая блондинка, склонная к полноте, образованная и ограниченная. Призванием ее были благотворительные и воспитательные учреждения. Первые десять лет они были идеальной супружеской парой. Мария Федоровна родила в 1777 году Александра, а потом еще девять детей — трех сыновей и шестерых дочерей.
Затем появилась фаворитка — фрейлина Екатерина Ивановна Нелидова, которая имела на великого князя большое влияние. После воцарения Павла Нелидову сменила юная Анна Петровна Лопухина, в замужестве Гагарина, и отношения Павла с Марией Федоровной окончательно расстроились.
Уже в Гатчине характер Павла сделал жизнь его семьи невыносимой. Растопчин писал Воронцову: «Великий князь Александр ненавидит отца; великий князь Константин его боится; дочери, воспитанные матерью, смотрят на него с отвращением, все улыбаются и желают его погибели».
Когда пятого ноября 1796 года пивший кофе Павел узнал о появлении в Гатчине графа Николая Зубова, старшего брата фаворита матери, он решил, что его пришли арестовывать. Он ошибся — его звали царствовать. Екатерина умирала, не успев передать престол Александру, минуя его отца, как она того хотела. Шестого ноября новый государь издал свое первое распоряжение — на улицах Петербурга были расставлены караульные будки, окрашенные в прусские цвета — белый и черный. И начались перемены.
«Тотчас — вспоминал Г.Р. Державин, — все приняло иной вид, зашумели шарфы, ботфорты, тесаки и, будто бы по завоеванию города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом». Столица, по мнению другого современника, внезапно приняла вид «немецкого города, существовавшего два или три века назад». Как недавно в Гатчине, на улицах бушевали полицейские, срывая с прохожих круглые шляпы и разрывая их на куски, срезая полы фраков, сюртуков и шинелей.
Распоряжения первых месяцев… Издается указ, запрещающий ношение круглых шляп, высоких сапог, длинных панталон, башмаков с завязками и предписывающий треуголку, зачесанные назад волосы, напудренные и заплетенные в косу, башмаки с пряжками, короткие панталоны и стоячий воротник. Освобождается из Шлиссельбургской крепости масон Новиков и возвращается из ссылки Радищев. Павел посещает в Мраморном дворце Костюшко, обнимает его, объявляет об освобождении, заставляет взять подарки — дорожную карету, столовое белье, посуду, соболью шубу, деньги — и разрешает уехать в Америку. Отзывается армия из Персии, отменяется рекрутский набор. В Лифляндии и Эстляндии восстанавливаются земские учреждения, высылаются из столицы князь Платон Зубов и княгиня Екатерина Дашкова, а казачий атаман Платов заключается в крепость.
«Невольно удивляешься, — писал мемуарист, — огромному числу указов, узаконений, распоряжений в короткое царствование; но это была ломка всего екатерининского, порывистые проявления безумия и своеволия — работа страшная и непрестанная!». Через массу анекдотов о Павле, основанных на реалиях или являющихся вымыслом, проходит одна мысль — в России в это время царит атмосфера произвола и беззакония, созданная императором, поставившим себя выше закона, а иногда и здравого смысла. Он хочет во все вникать, все делать сам. Исчезает разница между государственными делами и кухонными предписаниями. Он делает запросы губернаторам, почему такой-то унтер-офицер болен, а другой переводится из Москвы в Петербург. Портным под страхом наказания воспрещается обработка невымоченного сукна, а лакеям и кучерам — ношение перьев. Дамам воспрещается надевать через плечо пестрые ленты, молодые люди всюду должны снимать шляпы перед старшими, цветочные горшки могут стоять только за решеткой, никто не должен носить бакенбарды, женщинам запрещено носить синие юбки с белыми блузами, никто не должен ездить быстро по Петербургу, запрещается аплодировать в театре, пока император не подаст знака. И так без конца.
Полицейский надзор и сыск царят в России. Приставы присутствуют на балах и вечерах, письма перлюстрируются. Подданным запрещено употреблять такие слова, как общество, гражданин, отечество, а заодно и слово «курносый» — Павел был курнос. Запрещается ввоз в Россию книг из-за рубежа, включая музыкальные ноты.
Любимое место Павла, его приемная, зала суда, канцелярия, плац-парад. Здесь император в своей стихии, стихии порядка, повиновения, единообразия. Опуская и поднимая палку, он отбивает шаг, и горе солдатам и офицерам, марширующим не в такт. Солдат секут, офицеров же прямо с плац-парада отправляют в крепость или ссылку. И многие приходят с чемоданами и деньгами. Здесь Павел совещается, принимает министров и просителей, издает указы, и никто не знает, что его ожидает — внезапное повышение или тюрьма, новый чин или увольнение со службы.
Что это? Сумасшествие? Прихоти тирана? Необузданность темперамента?
Очень многие — и современники Павла, и нынешние исследователи — готовы называть его безумным. «Правление тирана, варвара, маньяка», «то умоповреждение, то бешенство», «император не совсем нормален и подвержен безумным припадкам», «тирания и безумие» — лишь немногие из такого рода утверждений. Вместе с тем близко стоявшие к Павлу люди свидетельствуют об экзальтированности, вспыльчивости, эксцентричности, нервности, дурном характере, но никак не о сумасшествии. Разделились и мнения психиатров начала нашего века. Если одни полагали, что царь принадлежал к «дегенератам второй степени с наклонностями к переходу в душевную болезнь в форме бреда преследования», то другие считали, что Павла нельзя считать маньяком, что «он не страдал душевной болезнью» и был «психически здоровым человеком». Дело в том, что сквозь сумбур павловских распоряжений, нелогичность и торопливость действий и стремление охватить необъятное проглядывает явная система. В самом деле, взглянем на некоторые факты внутренней политики при Павле I.
Павел получил нелегкое наследство. Темпы реформ и преобразований к концу правления Екатерины II замедлились. Старая и уставшая императрица плохо контролировала администрацию. Фавориты грабили казну, в армии буквально свирепствовали хищения и казнокрадство, флот практически перестал существовать, повсюду — неразбериха и произвол. И, конечно, не в немощности Екатерины гнездилась причина. Она была гораздо глубже. Крепостническая, еще не совсем европейская страна, ввергнутая силой в европейское Просвещение, не могла переварить его плоды и усвоить их в столь короткое время. Павел же, будучи по натуре идеалистом-фантазером и, думаю, даже сродни тем революционерам, которые полагали, что главное — правильные идеи, а остальное приложится, ненавидя матушкины порядки, считал, что, сломив старое, он своей императорской волей выстроит новое. Как заметил один из историков, «систематически все ломая и постепенно переходя от недостаточно оправданного разрушения к еще менее обдуманному созиданию, он привел свою страну от сложного положения, в котором она находилась, к краю бездны».
Император приступил к упорядочению дел в Сенате. Он стремится оживить работу законодательных комиссий. Но очень скоро все останавливается. В частности, это коснулось и судебной реформы.
Административная реформа… Царь намеревался упорядочить управление, введя более четкое деление и уничтожив анахронизмы предыдущей эпохи. Постоянное вмешательство и требования, чтобы губернаторы отвечали за все, самые мельчайшие дела, привели к хаосу и неразберихе. Как раз в это время появляется пословица «положение хуже губернаторского».
Реформа военная… Павел боролся с казнокрадами и сибаритами-генералами, вводил солдатские школы, создал военно-сиротский дом. И одновременно ввел непригодный для России прусский военный устав, неудобный в русских условиях прусский мундир, унижал и преследовал великого полководца Суворова.
Обратил свой взор Павел и к народу. С крестьян снимаются недоимки, запрещается продавать дворовых людей и крестьян без земли, издается указ о трехдневной барщине. Крестьян поощряют подавать императору просьбы и жалобы. Царь сам принимает представителей купечества и утверждает либеральное «Постановление о коммерц-коллегии». Но… внезапно Павлу надоедают прошения, и он гонит муромских крестьян с криком «Палкою вас!», а «Постановление» даже не было опубликовано.
С особым рвением Павел пытался упорядочить дворянские дела. Он практически отнимает у дворянства свободу от обязательной службы, ограничивает переход с воинской службы в гражданскую, увеличивает сбор с дворян на администрацию и суд, ограничивает дворянские собрания и выборы и, главное, лишает дворян личной неприкосновенности, утвердившейся при Петре III и Екатерине. Именно это, думаю, не могли простить ему дворяне, не битые в двух поколениях. Император и его приближенные не просто оскорбляют дворян и унижают их личное достоинство ежедневно на плац-параде, но секут, секут офицеров на глазах у солдат.
Павловская система, по меткому выражению покойного Н.Я. Эйдельмана, это система непросвещенного абсолютизма. В определенной мере она родилась от испуга перед французской революцией и якобинцами. Но не только в этом дело. Павловская система, думаю, была вызвана к жизни российскими условиями и прежде всего — народным неприятием екатерининского просвещения. Павел в пику Екатерине хотел чувствовать себя «народным» царем, для которого все сословия равны. Но сословия все равно не были равны. О каком равенстве шла речь? Все сводилось к камуфляжу.
Среди крестьян и солдат он был популярен. Крестьяне считали его добрым царем, которому господа не дают воли. А солдат Павел привязал к себе тем, что истово боролся с объедавшими их интендантами и другими армейскими грабителями, улучшил солдатский рацион и главное — «уравнял в наказаниях» с офицерами. Всех остальных император восстановил против себя. Как сказал друг юности его сына Александра князь Адам Чарторыйский, все это — «высшие классы, сановники, генералы, офицеры, старшие чиновники, одним словом те, кто в России называются мыслящими и деятельными людьми». Конфликт именно с этим «обществом» при выключенное™ и безмолвии народа и привел императора к его трагическому концу.
Летом 1797 года, во время коронации в Москве кончился фавор Нелидовой. Вместе с нею уходят друзья детства Павла, Куракины, и резко ослабевает влияние императрицы Марии Федоровны, подруги Нелидовой. Кутайсов умело представляет Павлу девицу Лопухину. Отец фаворитки назначается генерал-прокурором, Федор Васильевич Растопчин — канцлером и главой почтового департамента (важнейшая должность при Павле), а Петербург получает нового генерал-губернатора Петра Алексеевича Палена. Хотя Павел, раздраженный захватом французами Мальты (он принял титул гроссмейстера Мальтийского ордена), соглашается направить Суворова в Италию в союзе с Австрией и Англией, этот союз — опять наследие екатерининской эпохи — ему не по душе. И английский посол в Санкт-Петербурге Чарлз Уитворт, который раньше успешно действовал через Нелидову, обеспокоен. У Уитворта широкие связи, и он хорошо осведомлен о недовольстве императором. А недовольство нарастает. В 1799–1800 годах суровые приговоры и жесткие наказания учащаются. «Эта кутерьма долго существовать не может» (из письма той поры).
Сырой, тяжелой была петербургская осень 1800 года. «И погода какая-то темная, нудная, — писал один из современников. — По неделям солнца не видно, не хочется из дому выйти, да и небезопасно… Кажется, и Бог от нас отступился».
Жители Петербурга опасливо проходили мимо лихорадочно возводимого сооружения — новый каприз императора! Михайловский замок — не дворец! — по мысли Павла, должен был стать величественным символом царствования, напоминанием о рыцарских временах и одновременно — неприступной крепостью. Вначале его проектировал архитектор Баженов, затем — итальянец Бренна. Выкрашен замок был в красный цвет — цвет перчаток фаворитки Анны Гагариной. Первого февраля 1801 года Павел торжественно и радостно въехал во дворец. Два раза в день опускались подъемные мосты, вооруженная стража занимала все подходы к замку, была учреждена специальная форма для кастеляна. Сырость выступала из всех щелей. Картины, мебель, обои портились, люди задыхались от влажности и запаха свежей краски.
Император ужесточил церемониал не только во дворце, но и за его пределами. При приближении к замку прохожие были обязаны снимать шляпы, а кучера, держащие вожжи обеими руками, брали шапку в зубы. Дамы, даже знатные и немолодые, выходили из карет, чтобы поклониться государю. В случае неисполнения этого требования карету останавливали, кучеров и лакеев секли иногда вместе с хозяевами кареты.
Упоенный фантазиями, уверенный в своей мудрости, величии и доброте, император не догадывался, что дни его сочтены…
В начале 1800 года заговорщиков еще немного. Панин, Жеребцова, Уитворт. Да и сам заговор скорее направлен на изменение внешнеполитической ориентации России, чем на внутренние перемены.
Никита Петрович Панин, сын и племянник видных деятелей екатерининской эпохи, дипломат и тайный советник, сторонник просвещенного направления и противник деспотизма, становится вице-канцлером, то есть заместителем министра иностранных дел.
Ольга Александровна Жеребцова, сестра фаворита Екатерины II Платона Зубова, авантюристка, красавица, мечтает о реванше — по воцарении Павел изгнал Платона и его братьев Николая и Валерьяна из столицы. К тому же Ольга — любовница английского посла сэра Чарлза Уитворта, а англо-русские отношения ухудшаются с каждым днем. Семен Романович Воронцов, русский посол в Англии, как и Панин, — сторонник английской ориентации, примыкает к заговору, так сказать, заочно. Присоединился и испанец Хосе де Рибас, или Осип Михайлович Рибас, бывший подданный неаполитанского короля, а ныне русский адмирал и основатель Одессы, главная улица которой до сих пор носит его имя.
Главной же фигурой становится граф Петр Алексеевич фон Пален, курляндский барон, петербургский генерал-губернатор и глава тайной полиции. Большого роста, широкоплечий, с благородным лицом, он имел «самый честный, самый веселый вид на свете». Как пишет одна современница, обладая «большим умом, оригинальностью, добродушием, проницательностью и игривостью в разговоре», он представлял собою «образец правдивости, веселья и беззаботности». Но это, конечно, маска. Французский историк и первый президент французской Республики Тьер написал о нем так: «Пален принадлежит к тем натурам, которые при обычном режиме могли бы попасть в число великих граждан, но при режиме деспотическом становятся преступниками».
Их выбор — цесаревич Александр. Панин при первой тайной встрече говорит ему об опасности для всей царской семьи и страны, если Павел останется на престоле, и умоляет Александра спасти отечество и династию. Встречи повторяются, наследник колеблется. В игру вступает Пален, обещая наследнику, что отец останется в живых и речь будет идти только об отстранении его от власти и установлении регентства. Он добивается его молчаливого согласия.
Между тем Павел продолжает безумствовать: 4 марта семь генерал-лейтенантов и двадцать восемь генерал-майоров уволены от службы. 7 марта один полный генерал, восемь генерал-лейтенантов и двадцать два генерал-майора увольняются в отставку. 8 марта два полных генерала, один генерал-лейтенант и семь генерал-майоров увольняются в отставку.
В марте — мае Павел борется с Суворовым, армия которого вернулась из Италии. Так, 9 мая Павел отказывает в подобающих воинских почестях скончавшемуся полководцу и попирает те азы чести, к которой он так щепетилен. Общество возмущено. Этот эпизод накладывается на другой. 2 мая штабс-капитан Кирпичников за каламбур по поводу ордена Святой Анны — имя царской фаворитки Анны Гагариной — исключается из службы и прогоняется сквозь строй, получив тысячу шпицрутенов. «Строже сего приказа, — замечает современник, — не было ни одного в царствование Павла. Сие обстоятельство имело влияние на то событие, которое прекратило его правление».
Грядущий 1801 год застает императора преисполненным смутных планов. Отправлен в Париж к Наполеону специальный посланец императора генерал Шпренгпортен, готовится армия для похода в Европу против Австрии и Англии; разрываются отношения с эмигрантским французским двором Людовика XVIII; носятся в воздухе идеи похода в Индию; римский папа приглашается жить в Россию; Павел предлагает иностранным государям решать международные споры поединком…
Привычка обращаться с высшими сановниками, в том числе и с безусловно преданными ему людьми, как с лакеями, в порывах беспричинных капризов и припадков гнева, окончательно оставляет Павла в полной изоляции. Он никому не доверяет, всех подозревает, ни к кому не привязан. В одном из таких порывов гнева, сам того не понимая, Павел подписывает себе смертный приговор: он устраняет Панина, человека, безусловно, сделавшего бы все для того, чтобы не свершилось убийство.
Пален делает ловкий ход и пополняет ряды заговорщиков, одновременно увеличивая всеобщее недовольство Павлом. Приближалось 7 ноября 1800 года. Согласно предсказаниям гадалок, после четырех лет царствования Павлу «нечего опасаться». Пален, воспользовавшись «светлым моментом в настроении императора», вызвал сострадание к участи высланных из столицы военных и гражданских лиц, и 1 ноября последовал указ императора о возвращении их в столицу. «Я был уверен, — рассказывал Пален спустя четыре года, — что первые офицеры, которые вернутся, встретят вначале самый радушный прием со стороны императора, но что очень скоро наступит охлаждение к ним и другим, еще не приехавшим». Царю надоели толпы возвратившихся, которые осаждали его различными просьбами. Он стал их высылать и «сделал этих несчастных, которые снова были лишены всяких надежд и осуждены на голодную смерть у ворот столицы, своими заклятыми врагами».
В числе вернувшихся были нужные Палену люди. Приехали братья Зубовы, люди известные в гвардии, с которыми связывались воспоминания о временах Екатерины. И, что было для заговорщиков еще важнее, в Петербурге появился Левин-Август-Теодор, или попросту Леонтий Леонтьевич Беннигсен, ганноверский граф, начавший служить в России в 1773 году и дослужившийся к 1797 году до чина генерал-лейтенанта, возвращается из ссылки, из своих глухих литовских имений. Пален получил превосходного исполнителя — Леонтий Леонтьевич был храбр, хладнокровен, обладал характером твердым и мужественным.
Теперь нужно было убрать верных императору людей. Пален заводит сложную интригу, в результате которой император увольняет и высылает из столицы другого интригана, но полностью преданного себе человека — графа Растопчина. Жертвой необузданного темперамента Павла и его сиюминутных решений становятся верные ему генералы — Аракчеев и Линденер, их высылают из Петербурга.
Лихорадочными, фантасмагорическими были дни февраля и начала марта 1801 года. Ощущение нереальности происходящего, ожидание и боязнь ожидаемого были разлиты в воздухе. Столицу лихорадило.
Множились ряды заговорщиков. В заговор вовлечены генералы П.А. Талызин и Л.И. Депрерадович, командиры гвардейских полков — Преображенского и Семеновского. Любимец Павла шеф кавалергардского полка Ф.П. Уваров тоже делает ставку на Александра. Сенаторы Трощинский, Орлов, Толстой, гвардейские офицеры Аргамаков, братья Ушаковы, князь Яшвиль, Марин, Татаринов, Скарятин — все состоят в заговоре. Зимой 1801 чередой идут обеды у Палена, Зубовых, Талызина, устраиваются пирушки у Депрерадовича и Ушаковых…
Павел не знает о заговоре, но смутно что-то ощущает. Его подозрительность возрастает, и он предпринимает действия, как всегда, импульсивные. Седьмого февраля Павлу представляют тринадцатилетнего племянника Марии Федоровны принца Евгения Вюртембергского, кузена его сыновей. Павел передает Евгения на попечение молодого Дибича, будущего фельдмаршала, и говорит, что он «сделает для принца нечто такое, что всем-всем заткнет рот и утрет носы». По Петербургу начинают ходить слухи, будто Павел намеревается женить принца на своей дочери, Екатерине, и сделать его своим наследником. Императрица будет сослана в Холмогоры, Александр отправлен в Шлиссельбургскую крепость, а Константин — в Петропавловскую.
Действительно ли Павел вынашивал такие планы или Пален распространял их, чтобы ускорить события? Мы не узнаем этого. Пален умело использует возмущение петербургского общества историей с юным Александром Рибопьером, которого император ревнует к Анне Гагариной. Третьего марта Рибопьер ранен на дуэли. Павел отправляет раненого в крепость, высылает из Петербурга его мать и сестру, а имущество конфискует. Попытка наследника заступиться приводит к аресту Александра на сутки.
Девятого марта, когда Пален по обыкновению вошел в семь часов утра в кабинет императора, чтобы подать ему рапорт о состоянии столицы, Павел запер дверь и молча рассматривал Палена в течение двух минут. Потом спросил:
— Вы были здесь в 1762 году?
— Да, государь, но что вам угодно этим сказать?
— Потому что хотят повторить то, что было сделано тогда!
Почувствовав испуг, но немедленно придя в себя, Пален хладнокровно ответил:
— Да, я знаю, государь. Я это знаю и участвую в заговоре.
— Как! Вы знаете и участвуете?
— Не беспокойтесь, я держу в руках все нити заговора, знаю все имена.
— Схватить их всех! Все пойдут в Сибирь!
Пален посоветовал императору выждать и арестовать заговорщиков вместе с императрицей и сыновьями, всех сразу.
И снова остается загадкой, был ли этот разговор или Пален его придумал, чтобы побудить Александра быть решительнее.
Десятого марта в Михайловском замке был концерт и ужин. Царило беспокойство. Перед ужином Павел подошел к Марии Федоровне, остановился перед ней, насмешливо улыбаясь, скрестил руки и тяжело дышал, что было у него признаком гнева. Затем он повторил то же самое перед сыновьями. После ужина оглядел своих близких с насмешливой улыбкой, отстранил их и удалился, не простившись. Императрица заплакала.
Последний день царствования Павла начался как обычно. Рано встал, работал до девяти утра, утвердил шесть указов. Пален был на утреннем докладе. Утром же Саблуков со своими кавалеристами занимает пост во дворце. Сослуживец Саблукова адъютант полка Ушаков, один из заговорщиков, сообщает, что по приказу великого князя Константина Саблуков должен вечером вернуться в казарму.
В десять часов император на плац-параде. Он не в духе. В полдень Павел уже в лучшем расположении возвращается с прогулки в сопровождении Кутайсова и встречает Коцебу, стоящего у статуи Клеопатры. Царь разговаривает с поэтом о статуе, потом о судьбе египетской царицы и спрашивает, скоро ли Коцебу закончит описание Михайловского дворца. Поднимаясь по лестнице, Павел оборачивается и смотрит на поэта. Это их последняя встреча. В час дня Павел обедает. Заговорщики ездят по полкам, вербуют, агитируют, делают последние приготовления.
После обеда Павел подошел к своему сыну Николаю и был очень весел.
— Почему вас называют Павлом Первым? — спросил ребенок.
— Потому, что до меня не было государя, носившего это имя.
— Тогда я буду Николаем Первым?
— Да, если ты будешь царствовать.
Отец долго смотрел на сына, затем крепко его поцеловал и ушел, не проронив больше ни слова.
В восемь вечера садятся ужинать у Талызина заговорщики, а Саблуков, не принимавший участия в заговоре, отправляется с рапортом к шефу полка Константину Павловичу. Он находит великого князя в крайнем возбуждении. Затем он видит и Александра, который выглядел, как «трусливо пробирающийся заяц».
Раскрывается дверь и появляется насупленный император. Саблуков отдает ему рапорт о состоянии полка и уходит.
В девять вечера начинается ужин. Во дворце присутствуют великие князья Александр и Константин, великая княгиня Мария Павловна, жена и дочь Палена, Кутузов, Строганов, Нарышкин, Юсупов, несколько придворных дам. Царь весел, Александр задумчив. Встав из-за стола, Павел беседует с Кутузовым. Будущий победитель Наполеона позже рассказывал, что Павел взглянул на себя в зеркало, имевшее изъян — оно делало лица кривыми, и сказал: «Какое смешное зеркало, я вижу себя в нем со свернутой шеей».
Саблуков снова видит Павла в шестнадцать минут одиннадцатого. Император заявляет, что конногвардейский полк — сборище якобинцев, и отсылает его в провинцию. Интрига Палена удалась, караул верного Саблукова покидает дворец. И последнее, что офицер видит, — царь идет к себе, а два камер-лакея становятся у двери его кабинета.
В это время Талызин ведет батальон Преображенского полка к Летнему саду, а Семеновский батальон Депрерадовича подходит к Гостиному двору. Две колонны заговорщиков разными улицами двигаются к Михайловскому замку. Главный караул замка несет в ту ночь батальон Семеновского полка, который был особо расположен к наследнику. Во внутреннем помещении находился караул из старых екатерининских гренадеров и преображенцев под командой заговорщика поручика Марина. Колонна Беннигсена и Зубовых подошла к Рождественским воротам замка со стороны Садовой. Подъемный мост был опущен по распоряжению плац-адъютанта, естественно, заговорщика, Петра Аргамакова. Одновременно батальон Талызина вошел в Верхний сад дворца. Испуганные вороны поднялись с карканьем и шумом, и солдаты испугались, сочтя это несчастливым предзнаменованием.
Семеновцы пропускают заговорщиков, а поручик Марин нейтрализует внутренний караул, поставив его по стойке «смирно».
Уменьшившийся наполовину — разбежались по дороге? — отряд Беннигсена входит во дворец. Через Белый зал вошли в библиотеку, а оттуда — в маленькую прихожую, откуда лестница ведет в покои княгини Гагариной. Аргамаков постучал в двери прихожей и сказал камердинеру, что пришел подать рапорт императору, поскольку уже шесть часов утра. Камердинер возразил, что не шесть утра, а двенадцать ночи, на что Аргамаков ответил, что часы, видно, остановились, и потребовал открыть немедленно. Растерявшийся слуга отпер дверь, и заговорщики вошли толпой. Камер-лакея Кириллова сбивают ударом сабли по голове (позже его возьмет к себе на службу Мария Федоровна и наградит домом и пенсией), второй гайдук убегает.
Заговорщики врываются в спальню, высокую, просторную комнату. Они находят Павла, забившегося в угол ширмы, загораживающей кровать. Только теперь Павел понимает, что он наделал, заперев дверь в покои Марии Федоровны по наущению Палена.
Беннигсен в шляпе, с обнаженной шпагой в руках говорит императору: «Государь, вы мой пленник, и вашему царствованию наступил конец. Откажитесь от престола и подпишите немедленно акт отречения в пользу великого князя Александра». Игнорируя Беннигсена, бледный Павел обратился к князю Зубову: «Что вы делаете, Платон Александрович?» Зубов по-французски повторил слова Беннигсена. А в это время, приняв одного из заговорщиков за Константина, император восклицает: «И вы, ваше высочество!» Павел отталкивает руку князя Платона с актом отречения, и пьяный Николай Зубов ударяет императора в левый висок массивной золотой табакеркой. Павел падает. Услышав шум, Зубовы и Беннигсен выходят из спальни. Когда через несколько минут Беннигсен возвращается, он находит на полу мертвого императора.
Что случилось за эти минуты? Этого в точности мы никогда не узнаем. Никто — ни князь Яшвиль, ни Скарятин, ни Татаринов, ни Горданов не сознались в убийстве. Вероятнее всего, офицеры толпой бросились на императора и задушили его шарфом, принадлежавшим двадцатилетнему измайловцу, штабс-капитану Скарятину. Слова Палена на талызинском ужине — «Не разбив яиц…» — они запомнили хорошо.
Наконец-то во дворе появляется Пален. Он не спешил, выжидая исхода и оставляя себе лазейку: в случае неудачи заговора арестовать заговорщиков.
Пален и Беннигсен идут к Александру, который сидит в своих покоях уже одетый. «Как вы посмели! Я этого никогда не желал и не приказывал!» Пален грубо хватает его за руку: «Будет ребячиться! Идите царствовать, покажитесь гвардии». Пьяный Платон Зубов будит Константина: «Вставайте, идите к императору Александру, он ждет». Александр и Талызин выходят к Преображенскому полку. Талызин кричит: «Да здравствует император Александр!» Солдаты отвечают недружелюбным молчанием. Семеновский полк встречает своего любимца громким «ура!» Через некоторое время уступают и преображенцы.
В трагедию вторгается фарс. Кроткая Мария Федоровна неожиданно обнаруживает честолюбивые замыслы. Она требует пропустить ее в спальню Павла, и когда поручик на карауле отказывается, ссылаясь на приказ императора, она кричит: «Император? Какой император? Я — ваша императрица. Я хочу царствовать!» К утру она успокаивается и едет к сыну в Зимний дворец. До конца дней Мария Федоровна будет поддерживать культ покойного супруга и мстить заговорщикам, прежде всего Палену.
Утром 12 марта высшие чины и армия присягали новому императору. Когда наступила очередь конногвардейцев Саблукова, они потребовали доказательств, что Павел действительно умер (по официальной версии — от апоплексического удара). Тело Павла в это время еще только приводили в порядок. Но поскольку солдаты категорически заявили, что, если их не допустят осмотреть труп, они откажутся от присяги, Беннигсен уступил, и несколько человек прошли во дворец. Когда они вернулись, Саблуков спросил у правофлангового Григория Иванова: «Что же, братец, видел ты государя Павла Петровича? Действительно он умер?» «Так точно, ваше высокоблагородие, — ответил Иванов, — крепко умер!»
Конногвардейцы присягнули.
Андрей Левандовский Царь и старец
Прошлое России, как никакой другой европейской страны, полно загадочных событий, таинственных действующих лиц. Очерк, который мы предлагаем вниманию читателя, вполне подтверждает это. Сюжет его поистине детективен: смерть и предполагаемое «воскресение» одного из замечательных правителей России дают богатый материал для серьезного исследования. Условимся только заранее, что нас будет волновать не конечный результат, а сам «следственный» процесс, и любопытнейший период русской истории предстанет перед нами в своем неожиданном ракурсе.
Помер же у нас православный царь, Царь Александр Павлович… Ты восстань-ка, пробудись, православный царь, Погляди-ка, посмотри на нас, горьких… Народная песняСтарец
4 сентября 1836 года у сельской кузницы в окрестностях города Красноуфимска, что в Пермской губернии, был задержан пожилой, лет шестидесяти, мужчина, просивший подковать лошадь. Кузнецу, завязавшему с ним беседу, бросилось в глаза, что потрепанная крестьянская одежонка на плечах, проезжего никак не подходит к его холеному лицу и рукам, к барским манерам и сдержанной, изысканной речи; к тому же на все обычные в таких случаях вопросы — куда? зачем? как звать? и прочие — странный путник отвечал неохотно и уклончиво. Мужики, собравшиеся у кузницы, согласились с подозрениями ее хозяина и всей толпой, повлекли незнакомца в земский суд для выяснения личности.
В суде на допросе неизвестный заявил, что «родопроисхождения» своего он не помнит; назвался Федором Кузьминым, сыном Козьминым же; объявил, что вероисповедания он православного, неграмотен, холост. Официальное освидетельствование установило следующие приметы: «рост 2 аршина, 6 с половиной вершков[17], волосы на голове и бороде светло-русые с проседью, нос и рот посредственные, глаза серые, подбородок кругловатый, от роду имеет не более 65 лет; на спине есть знаки от наказания кнутом или плетьми». Суд в свою очередь приговорил Федора Козьмича «как бродягу, родства не помнящего» к двадцати ударам плетьми и ссылке в Сибирь на поселение.
Наказание соответствовало тогдашним законам. В то же время и на следствии, и на пути в Сибирь, и на месте ссылки — в Томской губернии — разнообразное начальство, которое на Руси, как правило, к сентиментам не склонно, проявляло к своему подопечному некоторую мягкость и снисходительность; очевидно, даже толстокожие чиновники ощущали, что имеют дело не с обычным бродягой… В Томской губернии Федору Козьмичу была предоставлена известная свобода в выборе местожительства, и он менял его неоднократно.
Переезды вызывались прежде всего стремлением к уединению, которое каждый раз оказывалось недоступным, — он пользовался огромной, постоянно растущей популярностью. Очень скоро после своего водворения в Сибирь этот «бродяга, родства не помнящий», стал для окружающих «благодатным старцем», к которому со всех сторон стремились за советом и поучением. Поначалу Федора Козьмича осаждали крестьяне соседних деревень, затем в его скромном жилище все чаще стали появляться томские купцы, мещане и чиновники, приезжали гости и из куда более дальних краев… Образ жизни старца вполне соответствовал его предельно скромной одежде. Обстановка всех его келий была одна и та же — стол, лежанка, два-три стула. На стене висели гравюры религиозного содержания: икона Божьей Матери и Александра Невского, портреты некоторых духовных лиц; на столе лежали Евангелие, Псалтирь, молитвенник. Вставал старец очень рано и значительную часть дня проводил коленопреклоненным в молитвах и размышлениях (при посмертном освидетельствовании тела Федора Козьмича на коленях обнаружили толстые мозоли). Пища его была самая скудная — сухари и вода. При этом он, однако, не отказывался от угощения рыбой и даже мясом…
За советами к нему обращались по самым различным поводам. Крестьяне, например, сразу же оценили, что старец не только хорошо понимает нужды и хлопоты земледельца, но и относится к ним с большим уважением. Указания Федора Козьмича о времени сева, выборе земли под пашню, огородных работах принимались всегда почтительно и, судя по тому, что авторитет старца в крестьянской среде рос постоянно, давали благие результаты. Часто к старцу обращались с семейными делами, искали у него поддержки в тяжелые минуты жизни. Наставления Федора Козьмича всегда были серьезны и кратки, однако в подобных случаях он нередко предпочитал выражаться «прикровенно», прибегал к иносказаниям, с тем чтобы склонить страждущего к духовной работе, заставить его самого найти единственно правильное решение.
Иногда старец пускался и в отвлеченные рассуждения: бывавшие у него посетители вспоминали впоследствии, что «уча уважать власть», Федор Козьмич в то же время постоянно внушал мысль об изначальном равенстве: «И цари, и полководцы, и архиереи — такие же люди, как и вы, только Богу угодно было одних наделить властью великою, а другим предназначить жить под их постоянным покровительством».
Многих из тех, кто приезжал к нему, старец интересовал совершенно бескорыстно, сам по себе, как явление «чудное, необычайное». Иногда, если его удавалось разговорить, подобное любопытство вознаграждалось с лихвой. Особенно благодарной, темой для беседы оказывалась Отечественная война; говоря о событиях того времени, старец, по словам очевидца, «как бы перерождался: глаза его начинали гореть ярким блеском, и он весь оживал, сообщал же он такие подробности, вдавался в описание таких событий, что как бы сам переживал давно прошедшее время». Незаметно для себя, увлекшись рассказом, старец нередко поражал слушателей и столь же глубоким знанием высшего света, придворных кругов, правящей бюрократии. Создавалось впечатление, что он посвящен во многие интимные подробности жизни и деятельности таких знаменитых на рубеже XVIII–XIX веков людей, как граф Аракчеев, митрополит Филарет, Суворов, Кутузов… Только о царе Павле Петровиче он не заговаривал никогда, да и имя царя Александра Павловича редко мелькало в его рассказах..
Конечно же, вопрос о том, кто такой «сей благодатный старец», живо интересовал всех его многочисленных почитателей. Сам Федор Козьмич всячески избегал говорить о своем происхождении, о своей предыдущей, иной жизни. Так, на осторожную просьбу одного посетителя назвать имя родителей — чтобы можно было за них помолиться — старец строго отвечал: «Это тебе знать не нужно, святая церковь за них молится. Если открыть мне мое имя, меня скоро не станет… И если б я при прежних условиях жизни находился, то долголетней жизни не достиг бы». На прямой вопрос своего последнего хозяина Хромова, который в предчувствии близкой кончины тяжело заболевшего старца просил его открыть свое настоящее имя, последовал еще более решительный и лаконичный отказ: «Нет, это не может быть открыто…»
За все долгие годы своего пребывания в Сибири Федор Козьмич лишь изредка, под воздействием нахлынувших чувств и воспоминаний позволял себе коснуться запретной темы. Так, А.С. Оконишникова, дочь Хромова, вспоминала впоследствии, как однажды погожим солнечным днем они с матерью отправились на заимку навестить своего постояльца и застали его на прогулке. Старец был задумчив; поздоровавшись с гостями, он неожиданно сказал: «Вот, паннушки, в такой же прекрасный день отстал я от общества. Где был и кто был, а очутился у вас на поляне…» Были у Федора Козьмича две знакомые старушки-ссыльные, пришедшие с ним в Сибирь в одной партии. Обычно 30 августа они приготовляли нехитрое крестьянское угощение, и старец проводил с ними весь этот праздничный день, день поминовения Александра Невского. И вот здесь в приподнятом настроении он так же вспоминал иногда: «Какие торжества были в этот день в Петербурге! Стреляли из пушек, развешивали ковры, вечером по всему городу было освещение!..»
В связи со всем прочим — благородным видом старца, его изысканными манерами и совершенно невероятными для простого человека сведениями — подобные оговорки, почитателями Федора Козьмича ловимые на лету, лишний раз убеждали в том, что в Томскую губернию он попал «с самых вершин».
Умер Федор Козьмич в 1864 году и был похоронен в ограде томского Алексеевского монастыря; надпись на его могиле гласила: «Здесь погребено тело великого благословенного старца Федора Козьмича, скончавшегося в Томске 20 января 1864 года» (характерно, что слова «великого благословенного» были впоследствии замазаны белой краской по приказу губернатора Мерцалова). И могила эта пользовалась большим почетом не только у местного населения… Известно, что позже эту могилу посещали некоторые члены царствующего дома — в их числе великий князь Алексей, брат Николая Александровича, и последний царь, Николай II, во время поездки по Сибири, которую он совершал еще будучи наследником престола. В конце XIX века видный сановник, член Государственного совета М.Н. Галкин-Врасский, своим иждивением поставил над могилой часовню.
… Как ни скрывал старец свое прошлое, запретить строить догадки на этот счет было не в его силах. Еще при жизни Федора Козьмича имя его окутала легенда. Из множества устных рассказов и некоторых публикаций в печати постепенно складывалось своеобразное житие старца Федора Козьмича, причем почти все многочисленные авторы его предлагали одно-единственное решение волнующей всех загадки…
Пожалуй, самым трогательным и интересным из рассказов о том, как приходили к этому решению различные лица, стала удивительная, на сказку похожая запись воспоминаний некоей Александры Никифоровны, которая еще молодой девицей стала воспитанницей старца. Федор Козьмич заразил ее своей верою, увлек рассказами о монастырях и лаврах и в 1849 году благословил на дальний путь, на богомолье в Россию. Александра Никифоровна со множеством приключений, но вполне благополучно пропутешествовала через пол-империи и добралась в конце концов до Почаевского монастыря, особенно почитаемого старцем. Здесь она отыскала «добрую графиню» и не менее доброго графа Остен-Сакенов, на которых ей указал старец как на людей, гостеприимно принимающих странников. Остен-Сакены увезли молодую богомолку к себе в Кременчуг, где ей суждено было встретиться с самим императором Николаем I, приехавшим навестить своего любимого военачальника. Молодая сибирячка понравилась царю, и он с удовольствием, с ней беседовал. «Многое кое о чем расспрашивал царь, — вспоминала впоследствии Александра Никифоровна, — и все я ему спроста-то пересказывала, а они (государь и граф) слушают да смеются. Вот, говорит государь Остен-Сакену, какая у тебя смелая гостья-то приехала. А чего же мне, говорю, бояться-то, со мною Бог да святыми молитвами великий старец Федор Козьмич… Граф только улыбнулся, а Николай Павлович как бы насупился…»
В 1852 году Александра Никифоровна наконец вернулась в родные места. Старец встретил ее с большой радостью и тут же приступил к расспросам. «…И все-то я рассказала ему, где была, что видела и с кем разговаривала; слушал он меня со вниманием, обо всем расспрашивал подробно, а потом сильно задумался. Смотрела, смотрела я на него, да и говорю ему спроста: «Батюшка Федор Козьмич, как вы на императора Александра Павловича похожи». Как я только это сказала, он весь в лице изменился, поднялся с места, брови нахмурились, да строго так на меня: «А ты почем знаешь? Кто это тебя научил так сказать мне?» Я и испугалась. «Никто, — говорю, — батюшка, это я так спроста сказала, я видела во весь рост портрет императора Александра Павловича у графа Остен-Сакена, мне и пришло на мысль, что вы на него похожи, и так же руку держите, как он». Услышав это, старец молча вышел из комнаты и, как видела рассказчица, заплакал, утирая рукавом слезы…
На страницах «Жития» Федора Козьмича, в котором сейчас невозможно почти отличить правду от вымысла, подобных узнаваний множество, при этом узнают царя обычно даже не по портретам, а по своим собственным воспоминаниям. Ссыльный, в прошлом дворцовый истопник, бежит к, старцу «попросить молитвы» о больном товарище и валится в обморок, увидев хорошо знакомого ему Александра «со всеми его отличительными, характерными признаками, но только уже в виде седого старца». Другой ссыльный, солдат, падает перед узнанным царем на колени, еще один солдат, на этот раз отставной, отдает старцу честь по-военному (обоих служивых царь просит «никому не говорить, кто он», но, как видим, вполне безуспешно).
Так складывалось предание о том, что под именем старца Федора Козьмича скрывается царь Александр I, по официальным сведениям, скончавшийся 19 ноября 1825 года в возрасте 48 лет. На первый взгляд, это может показаться дикой и беспочвенной фантазией, о которой нельзя говорить всерьез. Однако в конце XIX — начале XX века фантазия все в большей степени приобретает черты научной гипотезы. У нее появляются убежденные сторонники, которые пытаются придать ей необходимую доказательность, и решительные противники, причем обе точки зрения складываются в результате исследовательской работы над многочисленными и разнообразными источниками.
Однако прежде чем погрузиться в эту весьма ожесточенную дискуссию и получить возможность самим взвесить все «за» и «против», необходимо познакомиться с царем так же, как только что мы познакомились со старцем, и решить для себя, возможно ли в принципе ставить вопрос об идентичности этих, казалось бы, невообразимо далеких друг от друга людей.
Царь
12 декабря 1777 года у наследника российского престола родился сын, получивший имя в честь святого Александра Невского. Бабка новорожденного, императрица Екатерина, приложила немало сил, чтобы воспитать внука-первенца в духе любезного ей в те времена Просвещения.
Между тем по мере того как великий князь взрослел, ему все чаще приходилось сталкиваться с российской действительностью, и она раскрывалась перед ним отнюдь не с казовой стороны. Деспотическая суть екатерининского режима становилась все очевидней: не «положительные законы», а произвол самой царицы и ее наглых фаворитов определяли государственную политику, высшие сановники, теряя не только совесть, но и осторожность, стремились урвать из казенных средств кусок пожирнее, при дворе процветали разврат, ложь, лицемерие.
Столкнувшись с явью, Александр, очевидно, был жестоко разочарован: жизнь оказывалась далекой от тех прекрасных принципов, которые внушались ему с детства. Более того, всегда нуждавшийся в духовной поддержке Александр искал и не находил в своем окружении тех, кто разделял бы его мечты и надежды. Адам Чарторыйский, польский аристократ, находившийся в Петербурге на положении заложника, казалось бы, был Александру совершенно чужим, почти незнакомым человеком, но великий князь почуял в гордом поляке «своего по духу», этого оказалось достаточно, чтобы открыть перед ним сердце. «Великий князь, — вспоминал Чарторыйский, — сказал мне, что он нисколько не разделяет воззрений и правил екатеринина двора, что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки, что он порицает ее принципы… Он сознался мне, что ненавидит деспотизм повсюду, во всех проявлениях, что он любит свободу, на которую имеют одинаковое право все люди, что он с живым участием следил за французской революцией…»
Жить с такими взглядами в Зимнем дворце было нелегко. К тому же Александр постоянно бывал и в Гатчине, своеобразном «уделе», выделенном царицей своему полуопальному наследнику Павлу, весь образ жизни которого определялся бесконечной муштрой небольшого гатчинского войска. Юноше поневоле приходилось лавировать между отцом и бабкой, павловской казармой и развращенным двором Екатерины. Именно в эти годы в характере будущего императора стали проявляться скрытность, недоверчивость, изменчивость в отношении к окружающим — те черты, которые впоследствии позволяли называть его «византийцем» и «загадочным сфинксом», обвинять в коварстве и лицемерии.
После смерти Екатерины положение Александра осложнилось еще больше. Если у Екатерины и были планы отстранить сына-ненавистника от престола и короновать любимого внука, то они остались втуне: в 1796 году Павел стал российским императором. Поначалу его политика определялась стремлением разрушить, переделать то, что было сделано покойной царицей, затем она вообще стала утрачивать смысл… Стремясь к единоличной власти, Павел все важнейшие государственные дела поставил в зависимость от своей несдержанной, взбалмошной, деспотичной натуры. В письме, с величайшей осторожностью доставленном покинувшему Россию Лагарпу, его воспитанник так охарактеризовал отцовскую «систему»: «…Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот на выворот. Невозможно передать все те безрассудства, которые совершились здесь. Прибавьте к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах…»
К самому Александру отец относился с враждебной подозрительностью и не щадил его чувств — тиранил сына, оскорблял публично, вынуждал принимать участие во многих своих жестоких, иногда страшных делах. Более того, Павел, следуя здесь за проклинаемой матерью, готов был отстранить от престола законного наследника, почти открыто он подыскивал сыну «замену» среди немецкой родни. Страх за свое будущее, более того, за свою жизнь заставил Александра примкнуть к заговору против отца.
Но несправедливо забывать и о другой, может быть, не менее весомой для Александра причине: он был твердо убежден, что отец его губит Россию, он искренне верил, что, сменив на троне Павла, сможет спасти страну, направить развитие ее по единственно верному пути. Участие великого князя в заговоре облегчалось и тем, что носило пассивный характер: Александру полагалось молча ждать и быть готовым взойти на освободившийся престол. Очевидно, он надеялся и на то, что переворот обойдется без кровопролития. Переворот 11 марта 1801 года завершился убийством Павла. Александр принял на душу страшный, непростительный грех отцеубийства…
Придя в себя после первого шока, молодой царь горячо принялся за государственные дела. Только «блаженство подданных», к которому он так искренне стремился, могло оправдать его перед историей, перед Богом, перед самим собой.
В письме к Джефферсону Александр писал: «…Я не имею иллюзий относительно размеров препятствий, стоящих на пути к восстановлению порядка вещей, согласного с общим благом всех цивилизованных наций…» Что это за препятствия, было очевидно, — во-первых; деспотизм власти, обрекавший страну на постоянные злоупотребления и произвол, во-вторых, крепостное право, превращавшее основную массу подданных русского царя в безгласный рабочий скот. Именно с реформ в этих сферах Александр и начал царствование, окружив себя «молодыми друзьями», теми немногочисленными приближенными, в которых он встречал, как в Чарторыйском, искреннее сочувствие своим преобразовательным стремлениям. Старые сановники честили молодых реформаторов «якобинской шайкой», с подозрением присматривались и к самому Александру.
До «революционных ужасов» дело, однако, не дошло. В эти годы было упорядочено центральное управление: созданы министерства, ясно определены функции Сената, отлажена взаимосвязь между центром и органами управления на местах, организован через Сенат общий контроль над деятельностью госаппарата. Вся эта система мер была, очевидно, вполне уместна в стране, пережившей неурядицы последних лет царствования Екатерины и произвольно деспотическое правление Павла. Но в этих реформах почти не прослеживалось влияние тех принципиально новых идей законности, гарантии прав населения и прочее, что так воодушевляло юного Александра, в сочувствии которым он признавался Чарторыйскому. Напротив, преобразования эти все больше укрепляли существующий строй, став своеобразным итогом многовековых усилий власти по устроению самодержавно-бюрократической государственности в России.
Второй «приступ» к реформам Александр осуществил в 1808–1811 годах, после неудачных войн с Наполеоном, завершившихся тяжелым для России Тильзитским миром. В это время его главным и по сути единственным сотрудником, более того, доверенным лицом стал М.М. Сперанский, который со свойственными ему четкостью и обстоятельностью воплотил благие, но туманные пожелания императора в грандиозный «План государственного преобразования». Однако все ограничилось открытием в 1810 году Государственного Совета, органа, который, по плану Сперанского, должен был стать связующим звеном между царем и Думой, а на деле стал совещательным учреждением чисто бюрократического характера при царе.
Таким образом, реформы Александру не задались. Реальная жизнь никак не поддавалась абстрактным планам. Реальные люди совсем не походили на тех условных подданных, которым Александр искренне хотел обеспечить «блаженство».
На пути к переменам царь столкнулся еще с одним, на сей раз внутренним, препятствием. Поставив задачу ввести в России законность, гарантировать права ее граждан и увенчать все эти деяния конституцией, царь в то же время не желал ни на йоту ограничить свою личную власть. В известной мере это объяснялось сопротивлением высших слоев, Александр опасался, что, отказавшись от абсолютной власти, он выпустит из рук свое главное оружие. Но вести страну к конституционному строю, укрепляя в то же время самодержавие… Поистине Александр ставил перед собой невыполнимую задачу. Постепенно у него возникает ощущение собственного бессилия, невозможности достичь поставленной цели. Усиливается разочарование в людях и, наверное, в себе самом. Характер царя становится все более скрытным. «Никому не верю» — вот фраза, которая как нельзя лучше определяет состояние Александра к концу первого десятилетия его царствования.
1812 год. Отечественная война была страшным испытанием для Александра. Противник, не знавший поражений, воспринимавшийся в России многими верующими как антихрист, неуклонно продвигался в глубь страны. В ближайшем окружении Александра царили панические настроения. Надежды на победу становились все призрачней. И в это поистине тяжкое время император, изменив с детства внушавшемуся ему холодному, рациональному отношению к религии, берет в руки Священное писание… Впоследствии он вспоминал: «Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души». Царь становится на молитву…
Изгнание Наполеона из России, заграничные походы, торжественное вступление в Париж в 1814 году — все это укрепляло Александра в его религиозном настроении; царь усваивает новые взгляды на мир, на людей, на свои жизненные задачи. На первое место теперь выдвигаются не политические реформы, не преобразование хозяйственных отношений, а религиозно-нравственное усовершенствование человечества.
Однако религиозные устремления императора при всем своем отличии от его реформаторских планов имели с ними одно роковое сходство — были столь же абстрактны и оторваны от реальной жизни. Проводниками религиозных идей императора стали либо свирепые ханжи, либо лукавые, бездушные карьеристы; эти «истинные христиане» наиболее ярко проявили себя в беспощадном погроме университетов, издевательствах над наукой, преследовании серьезной профессуры…
Начало двадцатых годов для царя — время жестокого, последнего кризиса. «Как подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря, от этого устаю», — так говорил он в 1824 году. И вместе с тем Александр отказывается от каких бы то ни было попыток преобразовать Россию, стремясь к одному — худо ли бедно поддерживать в ней относительный порядок. С обычным для себя пониманием людей он находит подходящую опору — дельного, не рассуждающего и совершенно беспощадного в своей исполнительности Аракчеева. Высокие мечты гаснут в будничной рутине, лишь страшные военные поселения становятся последним зловещим отблеском александровских реформ…
А в обществе, разочарованном в своем некогда обожаемом повелителе, возникают тем временем революционные организации, которые преследуют, по сути, цели Александра в начале пути. Его должны были посещать мрачные воспоминания, ведь некогда и он, стремясь облагодетельствовать Россию, принял участие в убийстве отца… И вот пришло время подводить итоги.
Осенью 1825 года Александр с супругой Елизаветой Алексеевной выехал из Петербурга в Таганрог — императрица была больна, и доктора сочли климат Приазовья наиболее подходящим для ее исцеления. Перед выездом царь посетил Невскую лавру, где отслужил молебен и имел беседу со схимником, отцом Алексеем, известным своей подвижнической жизнью. В Таганрог Александр прибыл с невеселыми мыслями. Через несколько дней после приезда, найдя за обедом в сухаре камешек, он повелел расследовать это пустяшное обстоятельство, очевидно, допуская возможность покушения на свою жизнь… Проведя несколько недель в Таганроге, обжившись на новом месте, царь в конце октября поехал в Крым. Он вернулся 5 ноября больным, причем симптомы болезни — сильное расстройство желудка, лихорадка — впоследствии породили слух о том, что подозрения царя оказались справедливыми: он-де был отравлен… Болезнь продолжалась две недели, усиливаясь с каждым днем, и 19 ноября в Петербург полетело известие о кончине государя императора.
Завершая это предельно краткое жизнеописание, отметим утонченность натуры Александра, искренность и напряженность духовных поисков, которые в конце концов привели к жестокому кризису, ощущавшемуся не только родственниками и приближенными, но и теми, кто был отдален от царя. Отметим также, что смерть царя была совершенно неожиданной и свидетелем ее стал очень узкий круг приближенных. Все это, вместе взятое, и сделало возможным возникновение удивительной, фантастической легенды об «уходе» императора и житии его в Сибири под именем старца Федора Козьмича.
Легенда
Вскоре после смерти императора по Руси пошло великое множество слухов; некий дворовый человек Федор Федоров заполнил ими целую тетрадь с характерным заглавием: «Московские новости или новые правдивые и ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утверждать ни одних не могу, но решился на досуге описывать для дальнего времени незабвенного, именно, 1825 года, с декабря 25 дня». Государь не умер, в гробу, привезенном в Петербург, не его тело, он «скрывается» — вот при всем разнообразии сопутствующих деталей основной сюжет большинства этих записей (всего их в тетради — пятьдесят одна). Затем постепенно слухи утихли, чтобы с новой силой заявить о себе в шестидесятых — семидесятых, в последние годы жизни Федора Козьмича и после его смерти. «Скрывшийся» царь был обнаружен…
В конце XIX — начале XX века в печати появился целый ряд любопытных публикаций, связанных с кончиной императора и житием старца. Большой интерес, в частности, представляли приложения к фундаментальному труду Н.К. Шильдера «Император Александр I, его жизнь и царствование», опубликованному в 1904 году. И, кстати, сам Шильдер, очень серьезный и компетентный историк, допускал возможность «ухода» Александра Павловича. Затем стали появляться работы, специально посвященные легенде. Одни авторы приходили к выводу о несомненном тождестве Александра с сибирским старцем, другие не менее решительно отвергали такую возможность. «Царственный мистик» В.В. Барятинского, — очевидно, самая яркая книга в пользу легенды. Противоположную точку зрения защищал великий князь Николай Михайлович — «Легенда о кончине императора Александра I»; после революции с развернутой аргументацией, направленной против сторонников легенды, выступил К.В. Кудряшов в работе «Александр I и тайна Федора Козьмича».
Вот узловые пункты этой многолетней дискуссии. Прежде всего вставал вопрос: зачем вообще Александру нужно было инсценировать свою смерть? Те, кто считал легенду истиной, писали о духовном кризисе Александра, о его стремлении искупить свои грехи отказом от власти. Барятинский на первых же страницах своей книги давал целую сводку отрывков из воспоминаний близких к Александру людей, из которой следовало, что мысль об «отставке» постоянно занимала Александра в последние годы: «Я устал и не в силах сносить тягость правительства».
Из лагеря противников следует возражение, что подобное желание Александр выражал не только в последние годы, но и на протяжении чуть ли не всего своего царствования, благополучнейшим образом оставаясь при этом на престоле.
Первостепенное значение в этом споре имел анализ обстоятельств смерти Александра. Здесь позиция сторонников легенды была, пожалуй, наиболее уязвима. Дело в том, что существует целый ряд документов — дневник и письма Елизаветы Алексеевны, записки и письма Волконского, записи Я.В. Виллие, лечившего Александра, воспоминания другого врача, бывшего при царе, Д.К. Тарасова, — по которым весь ход болезни императора прослеживается в мельчайших деталях. Если эти документы подлинны, тогда ни о какой достоверности легенды не может идти и речи. Развивать рассуждения на тему «Александр — Федор Козьмич» можно было, только преодолев это препятствие, что не без лихости и попытался сделать Барятинский.
Его соображения заключались в следующем: 1) во всех вышеупомянутых документах есть целый ряд различий в описании общего хода событий, развития болезни Александра, бытовых подробностей и т. д.; 2) дневник Елизаветы Алексеевны неожиданно обрывается на записи 11 ноября: «…Около пяти часов я послала за Виллие и спросила его, как обстоит дело. Виллие был весел, он сказал мне, что у него (императора — А. Л.) жар, но что я должна войти, что он не в таком состоянии, как накануне». Исходя из этого, Барятинский делал смелый вывод: именно 11 ноября между Александром и его супругой состоялось решительное объяснение — царь объявил о своем намерении уйти. Дальнейшие записки в дневнике императрицы содержали рассказ об этом, почему и были уничтожены впоследствии. Все же прочие документы, начиная с 11 ноября, создавались задним числом их авторами, близкими к Александру людьми, взявшимися «прикрыть» уход обожаемого императора, вот откуда их взаимная противоречивость.
По мнению оппонентов Барятинского, его рассуждения в высшей степени эфемерны. Что касалось несовпадений в рассказе о последних днях Александра, то наиболее серьезные из них содержались в воспоминаниях Тарасова, написанных в отличие от других свидетельств много лет спустя после этих событий, и здесь необходимо было делать скидку на несовершенство человеческой памяти. Подавляющее большинство других различий объяснялось противниками легенды либо плохой осведомленностью того или иного автора, либо незначительностью описываемого. Предположение же Барятинского о том, что дневник Елизаветы Алексеевны не оканчивался на 11 ноября, не требовалось и опровергать, поскольку сам Барятинский никаких достаточно серьезных обоснований этой догадке в своей книге не привел.
Дальше вставал вопрос о теле, подвергнутом вскрытию, положенном в свинцовый гроб и отправленном в Петербург. Сторонники легенды, естественно, утверждали, что в гробу лежало отнюдь не тело императора. Они предлагали на выбор три версии: императора «заменил» фельдъегерь Масков, погибший у него на глазах от несчастного случая — вывалившись из коляски и разбив голову; в гроб было положено тело запоротого насмерть солдата или — несколько измененный вариант — тело солдата, умершего от болезни. Два последних предположения, судя по всему, основывались исключительно на слухах, ходивших после смерти императора. При этом оговаривалось некоторое сходство покойника с Александром — оговорка необходимая, иначе пришлось бы значительно увеличить число посвященных в тайну «ухода» за счет разных лиц, так или иначе видевших тело, то есть медиков и фельдшеров, вскрывавших его и готовивших к перевозке, таганрогской и столичной прислуги, не говоря уж о всех членах императорской семьи, прощавшихся с покойным в Петербурге.
Кстати, Барятинский обращал внимание на навязчивые восклицания при этом прощании вдовствующей императрицы: «Да, это мой сын, мой дорогой Александр!», Мария Федоровна-де, посвященная в суть дела, сознательно искажала истину.
Вообще энтузиазм, с которым Барятинский стремился обернуть в пользу легенды чуть ли не любой, даже явно противоречащий ей эпизод, просто поразителен. В то же время именно в этом вопросе он добился, пожалуй, наиболее любопытных результатов. Барятинский провел своеобразную экспертизу: изъяв из официального протокола о вскрытии царского тела все, что могло бы подсказать, о ком идет речь, он разослал копии четырем врачам — светилам в медицинской науке того времени. Обращаясь к ним с просьбой установить причину смерти, Барятинский указал предполагаемые варианты: малярия или брюшной тиф (в пользу этих причин свидетельствовал весь документально зафиксированный ход болезни императора); сотрясение мозга в результате несчастного случая (Масков); телесное наказание (вариант с запоротым солдатом). Ответы медиков были просто поразительны! Один из них, хирург К.П. Домбровский, ссылаясь на скудость данных, сообщаемых протоколом, отказался делать положительный вывод, но тем не менее решительно заявил, что смерть произошла не от малярии и не от брюшного тифа. Это, кстати, было общим мнением всех четырех корреспондентов Барятинского. Однако коллеги нерешительного хирурга оказались смелее, с редким единодушием они определили причину смертельного исхода: запущенный сифилис… Авторитетность вывода подчеркивалась тем, что один из опрошенных — М.М. Манассеин — был как раз известным сифилитологом. Подобный результат действительно «путал концы». Барятинский совершенно справедливо писал по этому поводу: «… Если даже допустить, что император Александр когда бы то ни было и где бы то ни было заразился сифилисом (что совершенно не соответствует тому, что о нем известно), то весь ход «болезни» все-таки не соответствует такому исходу».
Правда, экспертизе, проведенной Барятинским, его главный оппонент Кудряшов попытался противопоставить свою — он обратился за помощью к авторитетному патологоанатому Ф.Я. Чистовичу. Последний решительно опроверг своих предшественников, заявив, что никаких данных, указывающих на заболевание сифилисом, в протоколе нет. Чистович считал, что «Александр I страдал какой-то инфекционной болезнью, протекающей с желтухой и нагноительным типом лихорадки». Отметим, однако, что Кудряшов в этом случае действовал не вполне добросовестно: из его собственных слов следует, что Чистович не только знал, о ком идет речь в протоколе, но и был познакомлен со всей совокупностью материалов, рассказывающих о последних днях императора.
Другой комплекс спорных вопросов был связан уже непосредственно с Федором Козьмичем. Здесь противники легенды безоговорочно отвергали все рассказы и предания об обмолвках старца, случаях «узнавания», посещения его загадочными «высшими особами» и прочее, относя все это к сфере безудержной народной фантазии. «В такой стране, как Россия, — писал Николай Михайлович, — уже с древних времен народ часто поддавался самым нелепым слухам, невероятным сказаниям и имел склонность придавать веру всему сверхъестественному. Стоит только вспомнить появление самозванцев… Этому обычно способствовала внезапная кончина или наследника престола, или самого монарха, как это было при убийстве царевича Дмитрия, казни Алексея Петровича и насильственной смерти Петра III». В ответ на это справедливое в принципе замечание Барятинский не менее справедливо писал, что в истории Федора Козьмича есть свои особенности, главная из которых — старец ни в коем случае не был самозванцем. Напротив, он старательно скрывал свое происхождение, в корне пресекая всякие домыслы на этот счет. И, тем не менее, слухи о том, что Федор Козьмич — добровольно отрекшийся от власти царь, оказались настолько устойчивы, что пережили старца и сохранились в народной среде вплоть до начала XX века. Уже одно это, по мнению Барятинского, заставляет отнестись к ним с особенным вниманием, а не отвергать гуртом, без всякого анализа.
Конечно же, особый интерес для исследователей представляли описания внешнего облика старца и всей его повадки. Начиная с официального установления примет Федора Козьмича красноуфимским судом, описания эти, если и не полностью идентичны внешности императора, то, несомненно, в основном ей соответствуют. То же можно сказать и о самом распространенном портрете старца и о рукописном его наследстве. Это две записки, найденные в мешочке, висевшем у изголовья Федора Козьмича, про который он, умирая, сказал: «В нем моя тайна». Записки представляют собою шифр. На лицевой стороне одной из них значится:
«видишили на какое вас безсловесие счастие славо изнесе».
На обороте:
«Но егда убо А молчат П невозвещают».
На лицевой стороне второй записки:
1,2, 3,4
о, в, а, зн а крыют струфиан
Д к ео а м в р
С 3 Д Я
На обратной:
во во
1837 Г. Мар. 26 в «вол 43 Пар;
Что писать цифровые и буквенные «ребусы» было в обычае старца, подтверждается целым рядом свидетельств. Трудно сказать, имеет ли шифр разгадку или представляет собой мистификацию со стороны человека, твердо решившего сохранить тайну и после смерти. Предлагаем читателям поупражнять свои логические способности и самим разгадать сей секрет; надо надеяться, что достигнутые результаты будут более осмысленны и не так произвольны, как совершенно нелепые «разгадки» Барятинского («Царственный мистик», стр. 141–143) и некоего И.С. Петрова (великий князь Николай Михайлович, «Легенда о кончине императора Александра I, стр. 48–49).
Но, помимо темного смысла, в записках, казалось бы, должно быть и нечто бесспорное — почерк. К тому же кроме таинственных записок сохранились еще и написанные рукой Федора Козьмича несколько изречений из Священного писания. Однако и мы едва ли можем прийти к однозначному результату. Без всякой экспертизы очевидно, что почерк, которым написаны изречения, не схож с почерком Александра I. Однако Барятинский справедливо обратил внимание, что он не так уж безусловно похож и на почерк шифрованных записей. Скажем, написание буквы «д» — хвостик книзу с росчерком — здесь куда более близко Александру, в записи же изречений у этой буквы тщательно вырисовывается закрученный кверху хвост. По мнению Барятинского, старец сознательно менял свой почерк, и здесь тщательно оберегая свою тайну.
Такова в общих чертах легенда об императоре всероссийском, добровольно отказавшемся от своей неограниченной власти и ушедшем бродяжничать и молиться во имя искупления своего греха, во имя духовного совершенствования и укрепления веры. Мы видели, сколько слабых сторон в доказательствах достоверности этой легенды. И в то же время надо признать, что история смерти, «ухода» Александра сложна, запутана и до сих пор ее едва ли можно оценивать однозначно, безоговорочно отвергая как бессмысленную выдумку. Смысл в ней как раз был. Ведь легенда эта интересна прежде всего тем, что возникла и существует до сих пор. В ее содержании как в капле воды отразилась вся фантастичность, сказочность, особность русской истории. В какой еще европейской стране XIX века можно было отыскать правителя, подобного Александру, — образованного, утонченного, светского и в то же время способного породить в народе веру в такое своеобразное самоубийство, точнее, цареубийство? Превращение сперва в нищего бродягу, безропотно сносящего телесные наказания а затем в блаженного старца? И где еще можно сыскать народ, способный так искренне и надолго поверить в это?
Трудно сказать, будет ли легенда когда-нибудь опровергнута или, что еще менее вероятно, появятся убедительные свидетельства ее истинности. Но не случайно ведь в свое время Лев Толстой писал «дневник» Федора Козьмича, не случайно Даниил Андреев в своей вдохновенной «Розе мира» возвел Александра — Федора Козьмича в сонм небесных праведников, поставил его во главе «просветительных сил России». Легенда эта всегда будет волновать историков, писателей, мыслителей и просто всех, кто хочет понять эту удивительную страну.
Анатолий Смирнов Разгадка смерти императора
Внезапная кончина 18 февраля 1855 года Николая I породила легенды. Одна гласила, что Николай не мог пережить неудачи Крымской кампании и покончил с собой, другая обвиняла лейб-медика Мандта, иностранца, в том, что он «уморил царя». При всей несовместимости легенд слухи совпадают в главном — в убеждении о неестественности смерти государя. Легенды эти, распространившиеся с молниеносной быстротою, были настолько тревожны, что уже в первые дни после кончины Николая потребовалось правительственное оповещение о событии 18 февраля, чтобы их пресечь. 24 марта 1855 года «с Высочайшего соизволения» вышла книга на русском, польском, английском и французском языках — «Последние часы жизни Императора Николая Первого» (без указания автора и издателя, с пометою типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии), как выясняется, принадлежавшая перу главного управляющего II Отделением графа Д. Н. Блудова. Характерен эпиграф: «Блаженни мертвии, умирающий о Господе». Книга сия была направлена к тому, чтобы, кратко изложив ход болезни императора, его просветленную кончину, рассеять сомнения в неестественности его смерти.
Для успокоения умов была напечатана записка доктора Мандта «Ночь с 17-го на 18-е февраля 1855 года», первоначальная редакция которой была, однако, исправлена и дополнена в духе политической необходимости момента. Позже Мандт издал весьма ценную, с точки зрения сообщаемых сведений, статью «О последних неделях императора Николая I». Об этих документах — разговор позже.
Уже после революции многочисленные источники на эту тему пополнились новыми, найденными в архивах. В 1918 году в архиве графа П. Д. Киселева, человека умного и наблюдательного, была обнаружена рукопись, принадлежавшая его перу, освещающая последние часы Николая I.
В рукописи Киселева сильно выражено непосредственное чувство полной неожиданности, внезапности кончины Николая, что обычно скрывалось в воспоминаниях современников. Эта неожиданность тем более знаменательна, что автором рукописи был граф П. Д. Киселев, генерал-адъютант, министр, чрезвычайный посол и прочее — лицо, близкое ко двору. Была ли смерть следствием осложнившегося гриппа или Николай не сохранил сил душевных и оборвал сам нить своей жизни?
Литература — и официальная, и мемуарная — представляет кончину Николая следующим образом: «Сей драгоценной жизни положила конец простудная болезнь, сначала казавшаяся ничтожною, но, к несчастью, соединившаяся с другими причинами расстройства, давно уже таившимися в сложении, лишь по-видимому крепком, а в самом деле потрясенном, даже изнуренном трудами необыкновенной деятельности, заботами и печалями, сим общим уделом человечества и, может быть, еще более Трона». Это — граф Блудов. А вот что пишет доктор Мандт: «В Гатчине государь стал неузнаваем: душевное страдание сломило его прежде, чем физическое. Если бы Вы его видели при получении каждой плохой вести! Он был совершенно подавлен, из глаз его катились слезы, и часто он слишком обнаруживал овладевавшее им отчаяние. Но эти минуты бывали для государя нечеловеческим мучением…» В более поздних заметках о Николае мы находим указание на то, что в Гатчине, где он тогда жил, «помнят про его бессонные ночи, как он хаживал и клал земные поклоны перед церковью».
Что же так угнетало властелина? Но — все по порядку.
«Не желая отказать графу Клейнмихелю в просьбе быть посаженным отцом у дочери его, государь поехал на свадьбу, несмотря на сильный мороз… — пишет В. Панаев, директор канцелярии императора. — Этот вечер был началом его болезни: он простудился. Возвращаясь, ни на что не жаловался, но ночь провел без сна… Другую и третью ночь провел тоже беспокойно, но продолжал выезжать. Ни в городе, ни даже при дворе не обращали внимания на болезнь государя; говорили, что он простудился, нездоров, но не лежит… Государь не изъявлял опасения насчет своего здоровья, потому ли только, что в самом деле не подозревал никакой опасности, или же, вероятнее, и для того чтобы не тревожить любезных своих подданных. По сей последней причине он запретил печатать бюллетени о болезни его. Сия болезнь продолжалась с разными изменениями от последних чисел генваря до 9-го февраля».
Наиболее точную датировку развития болезни мы находим в камер-фурьерском журнале, начиная с 5 февраля.
Суббота, 5 февраля: «Сего числа Его Величество почувствовал себя несовершенно здоровым. Прогуливаться не выходил».
«То же 6—7-го по несовершенному здоровью прогуливаться и принимать с докладами никого не изволил».
Но уже 8 февраля, во вторник, царь выезжал на манеж, а к концу недели явно окреп и даже делал смотр войск. В камер-фурьерском журнале в записи за 11 февраля есть намек на то, что в этот день Николай чувствовал недомогание: «Его Величество по пробуждении чувствовал себя слабым и потому изволил приказать послать к Отцу Духовнику и сказать, что он по несовершенному здоровью слушать утреню и часы не может, но постарается быть к Преждеосвященной Литургии». Вечерняя запись говорит, что «по причине лихорадки Его Величество в церкви быть не мог и вечером». Полного исцеления еще не было.
С 12 февраля Николай «с докладами г.г. Министров принимать не изволил, но отсылал дела к Его Высочеству Государю-Цесаревичу»; однако из записи за тот же день явствует, что от одиннадцати часов «были у него на посещении» граф Орлов и министр двора граф Адлерберг. В табели за воскресенье 13 февраля на полях помечено: «Его Величество заболел 10 февраля лихорадкой, которая 11-го числа повторилась. Ночью на 13-е число было мало сна. Лихорадка менее. Голова свободнее. Его Величество выхода к Литургии иметь не изволил». В записях за 14 февраля, понедельник, читаем: «Его Величество ночью на 14-е число февраля мало спал, лихорадка почти перестала. Голова свободна». С 10 по 15 февраля недомогание, временами усиливаясь, все же шло на убыль: «Голова свободна», «Лихорадки нет». Но именно эти-то факты и обходят преднамеренно царедворцы-мемуаристы.
И Блудов, и Панаев, и Мандт, давшие наиболее полное описание последних дней Николая, как будто не замечают улучшения состояния его здоровья с 12 по 17 число и берут все развитие болезни за одни скобки — с 9 по 17 февраля. Но и они не отрицают важный факт — гнетущее впечатление, которое произвела на Николая телеграмма о поражении русских войск под Евпаторией, полученная им 12 февраля. Почти оправившийся от гриппа Николай переживает новый кризис — нравственный, физическое недомогание сменяется душевными муками и слезами отчаяния. Для Николая, всегда гордившегося своей невозмутимостью, это состояние необычно. Его терзает тревога за армию, за исход войны.
В 10–11 часов ночи с 17 на 18 февраля Мандт, как он пишет, не терял надежды на выздоровление государя и, сделав все нужные медицинские предписания, не раздеваясь, прилег отдохнуть до трех часов в одной из комнат дворца, оставив у постели больного доктора Карелля. В половине третьего ночи, когда он встал, чтобы идти на смену Кареллю, ему подали записку от фрейлины Антонины Дмитриевны Блудовой следующего содержания: «Умоляю Вас, не теряйте времени ввиду усиливающейся опасности. Настаивайте непременно на приобщении святых Тайн. Вы не знаете, какую придают у нас этому важность и какое ужасное впечатление произвело бы на всех неисполнение этого долга. Вы — иностранец, и вся ответственность падет на Вас. Вот доказательство моей признательности за Ваши прошлогодние заботы. Вам говорит это дружески преданная Вам А. Б.». Вот в этом пункте (описание ночи с 17 на 18 февраля) официальные источники и доктор Мандт начинают сбиваться.
Мандт пишет, что он поспешил к Николаю и после осмотра его, убедившись в том, что его положение крайне опасно, что у него начало паралича, приступил к возложенной на него миссии. Николай I мужественно выслушал диагноз Мандта и попросил позвать наследника.
Почему вдруг паралич, при гриппе, почти залеченном?
Современники самым подробным образом описывают последние минуты Николая, мольбы императрицы о принятии святых Тайн, прощание с сем ей, находившимися во дворце сановниками и слугами, обряд исповеди и затем кончину его в 12 часов 20 минут пополудни 18 февраля. Но причина внезапного «паралича от этих описаний не становится понятней, скорее, наоборот. Закрадывается сомнение, что власти хотят что-то скрыть, «заговорить», отвлечь внимание.
Первый бюллетень о его болезни от 13 февраля (запись в камер-фурьерском журнале 13 февраля) появился в газетах только 18-го, когда Николай уже умирал. В прибавлениях к тому же номеру газеты был приложен бюллетень № 2 о состоянии здоровья 17 февраля в одиннадцать часов вечера, подписанный лейб-медиками: «Лихорадка Его Величества к вечеру усилилась. Отделение мокроты от нижней доли правого легкого сделалось труднее». В субботу, 19 февраля, в отделе внутренних известий газеты повторили бюллетень № 2. Бюллетень № 3 от 18 февраля, четыре часа пополуночи: «Затруднительное отделение мокроты, коим страдал вчера Государь Император, усилилось, что доказывает ослабевающую деятельность легких и делает состояние Его Величества весьма опасным». И № 4 от того же числа, девять часов пополуночи: «Угрожающее Его Величеству параличное состояние легких продолжается» с припискою после подписей врачей: «Государь Император сего числа, в 3 72 часа пополуночи, изволил исповедаться и причаститься святых Тайн в полном присутствии духа». И только 21 февраля, на четвертый день после смерти Николая, был опубликован манифест о его кончине. Это невероятно. В памяти невольно встают события марта 1953 года, когда все мы читали сообщения о болезни другого властелина, тоже уже усопшего.
Естествен и логичен ход болезни императора только до 12 февраля, так говорят факты. А 12 февраля Николай получает известие из-под Евпатории, которое, по свидетельству Мандта, «положительно убило его… тут ему был нанесен последний удар». «Сколько жизней пожертвовано даром, — эти слова и эта мысль постоянно возвращались к нему. — Бедные мои солдаты!» У всех авторов воспоминаний и записок, не исключая и Киселева, остается пробел с 12 по 17 число. Это явно преднамеренное умолчание многозначительно. Камер-фурьерский журнал свидетельствует об улучшении самочувствия Николая с 13 по 16 февраля: лихорадка прошла, голова перестала болеть, ночами он не спал, но бессонница была следствием уже морального беспокойства, а никак не физического недуга.
До вечера 17 февраля, с которого Мандт начинает описание знаменательной ночи, во дворце все спокойно, спокойно именно потому, что до самой ночи и сам Мандт продолжал всех уверять, что опасности нет. Наследник, императрица, не говоря уж о дворе и широкой публике, и не подозревают о возможности скорого смертельного исхода. Но дальше начинается преднамеренный туман, пробел в изложении лейб-медика.
Он получил записку Блудовой с просьбой «не терять времени ввиду усиливающейся опасности», но каким образом Блудова могла знать о тяжелом положении больного и сообщить об этом его врачу до того, как этот врач осмотрел его и убедился, что кризис наступил? Здесь кроется неточность, точнее — умолчание. В «Воспоминаниях» Панаева мы находим следующее интересное сообщение. Когда Панаев наскоро набросал свое описание последних дней Николая I, Александр II дополнил его некоторыми деталями. Запомним: сын лично просматривает и редактирует информацию о смерти отца. Затем Панаев снова редактировал эту «удачную в литературном и политическом отношении», по выражению правительственных кругов, статью и в два часа ночи по высочайшему повелению лично распорядился в редакции четырех газет, чтобы вынули часть набранного на завтра материала и заменили привезенным им. Далее «потребовано было, — пишет Панаев, — от доктора Мандта подробное описание хода самой болезни государя; он составил его (разумеется, на немецком языке). Надобно было, для соблюдения верности, перевести его буквально, что поручил я одному из чиновников канцелярии, хорошо знавшему по-немецки, а потом исправил или, лучше сказать, вовсе переделал в слоге, что уже я должен был взять на себя при помощи доктора Енохина, так как многие медицинские термины были мне неизвестны. Мы проработали с ним часа три, не вставая с места, и успели в том, что статья Мандта появилась вслед за моею статьею».
Прочтя это сообщение, мы уже совсем иначе, с другой степенью доверия — а точнее, недоверия — подходим к оставленному Мандтом документу, зная, что редакция Панаева могла и записку Мандта еще более изменить в надлежащем политическом направлении.
Взяв под сомнение записку Мандта, можно позволить себе привести свидетельство некоего «неизвестного лица», сообщенное со слов доктора Карелля, коллеги лейб-медика Мандта. Это лицо рассказывает, что «17-го февраля он (Карелль — А. С.) был потребован к Императору Николаю ночью и нашел его в безнадежном состоянии и одного — Мандта при нем не было. Император желал уменьшить свои сильные страдания и просил Карелля облегчить их, но было уже поздно, и никакое средство не могло спасти его. В таком положении Карелль, зная, что не только в городе, но даже во дворце никому не известно об опасности, отправился на половину Наследника-Цесаревича и потребовал, чтобы его разбудили. Пошли разбудить и Государыню и немедля отправили напечатать два бюллетеня за два предшествующих дня». Очень интересный факт. Запомним, что будят Карелля вне очереди и зовут к умирающему, где должен был быть (но не был) дежурный врач Мандт.
Если допустить, что приведенная здесь ссылка на свидетельство Карелля достоверна, тогда так называемая записка Мандта теряет все свое значение и дело в связи с данными камер-фурьерского журнала принимает иное освещение.
События могут представляться следующим образом. В начале февраля Николай заболевает простудой, настолько, однако, незначительной, что почти не нарушается обычный ход его жизни: с 7 по 10 февраля никаких указаний на развитие болезни не встречается в камер-фурьерских журналах. И никаких жалоб для публики не дается. 10–11 февраля простуда обнаруживается легкой лихорадкой и проходит. Далее, 12-го числа Николай получает известие из Евпатории: неприятель прочно закрепился в Крыму. Это означает, что война по существу проиграна. Мало того, рушится вся внешняя и внутренняя политика и сами основы миропонимания императора Николая I. Было от чего впасть в тяжелые раздумья и оказаться во власти ночных кошмаров. Чтобы скрыть это тяжелое настроение, овладевшее Николаем, во дворце поддерживают разговоры о лихорадке, о его нездоровье. Двор обеспокоен затворничеством царя, ежедневно съезжаются во дворец лица, близкие царской фамилии, в ночь с 17-го на 18-е во дворце остается на ночь великий князь Константин Николаевич и министр двора граф Адлерберг. Предположим, что Николай действительно принял в эту ночь яд. Этим мы как будто противоречим главному нашему источнику — камер-фурьерскому журналу, который начинает бить тревогу еще 17 февраля днем.
Но на полях того же журнала встречаются три бюллетеня, содержание которых указывает на то, что во дворце ночной кризис не был неожиданностью: «Вчера была сильная лихорадка с страданием правого легкого. Всю ночь лихорадка продолжалась и мешала спать Его Величеству; извержение мокроты свободное, заметно, что и подагра участвует в болезни». «Болезнь Его Имп. Величества началась легким гриппом, а 10-го же февраля при слабых подагрических припадках обнаружилась лихорадка». «С появлением вчера страдания в правом легком лихорадка была довольно сильна. Ночь Его Величество провел без сна. Сегодня лихорадка несколько слабее и извержение легочной мокроты свободно» (на подлинном подписали: Мандт, Енохин, Карелль).
Самым важным вопросом при определении создавшегося в действительности положения является вопрос, когда камер-фурьер заносил записи в журнал? Ровность почерка, выдержанность стиля каждой ежедневной записи говорят за то, что они делались им поздно вечером, когда жизнь во дворце замирала и можно было подвести итоги дню, или на другой день поутру. При внимательном рассмотрении страниц журнала за 17 и 18 февраля можно легко заметить, что запись касательно молебна о здравии больного сделана свежими черными чернилами до слов «читана была молитва об исцелении от тяжкой болезни Государя Императора»; эта же фраза и последующие написаны явно в другой прием, везде иными, бледными, разбавленными водою, чернилами. Далее, все сообщения и бюллетени о болезни Николая за эти дни вписаны на полях журнала, тогда как вообще поля оставались чистыми и в продолжении нескольких недель на них делались записи только о событиях, пропущенных камер-фурьером.
Возникает гипотетическое, но очень соблазнительное предположение: не были ли вписаны бюллетени за 17 февраля и часть событий за этот день задним числом, то есть 18 февраля? Впечатление явно вписанного позже, текста производит только бюллетень от 18 февраля (напечатанный в газетах под номером 3): «Затруднительное отделение мокроты, коим страдал вчера Государь Император, усилилось, что доказывает ослабевающую деятельность легких и делает состояние Его Величества весьма опасным».
Когда мы рассматриваем далее страницы этого журнала, то видим, что три предыдущих вышеприведенных бюллетеня написаны тем же почерком и чернилами, что и явно вписанный бюллетень за 18 февраля. Можно предположить с достаточным основанием, что после того как 18 февраля камер-фурьер закончил свои записи, ему велели вписать на полях табели за 17-е число три бюллетеня и за 18-е — один. Чернилами, разбавленными водой, писать неудобно, и он берет свежие чернила, отчего разницы между текстом, написанным тоже свежими чернилами (текст за 17-е), и бюллетенями как будто нет, но она сразу бросается в глаза при взгляде на запись за 18 февраля и вписанный на ее полях бюллетень.
Это предположение можно, конечно, оспорить, и вписанный бюллетень, быть может, объясняется каким-нибудь случайным фактом, но, вчитываясь в бюллетень № 3 от четвертого часа пополуночи 18 февраля, удивляешься его содержанию: ведь он написан после того, как Мандт убедился, что у Николая начался паралич, после приобщения умирающего; написан тогда, когда он находился уже в агонии, а содержание бюллетеня весьма осторожно, это наводит на мысль, что все четыре бюллетеня были написаны сразу с целью создать иллюзию, что болезнь развивалась постепенно.
Конечно, чтобы утверждать это, необходим, быть может, более подробный анализ записей камер-фурьера, но сомнения в достоверности официальных сообщений о кончине Николая уже посеяны, и мысль о его самоубийстве и прямом участии Мандта в этом не оставляет исследователя.
Более или менее определенные намеки об отравлении Николая нередки в мемуарной и исторической литературе, но наиболее авторитетными из них, наводящими на определенные пути «искания истины», представляются записки А. Пеликана, старого петербуржца, дипломата, а позже цензора. Сообщив некоторые данные, касающиеся биографии Мандта и обстановки кончины Николая, Пеликан пишет: «Вскоре после смерти Николая Павловича Мандт исчез с петербургского горизонта. Впоследствии я не раз слышал его историю. По словам (моего) деда (имеется в виду Пеликан, Венцеслав Венцеславович (1790–1873), председатель медицинского совета, директор медицинского департамента военного министерства, президент Медико-хирургической академии), Мандт дал желавшему во что бы то ни стало покончить с собою Николаю яду. Обстоятельства эти хорошо были известны деду благодаря близости к Мандту, а также и благодаря тому, что деду из-за этого пришлось перенести кой-какие служебные неприятности. Незадолго до кончины Николая I профессором анатомии в академию был приглашен из Вены прозектор знаменитого там профессора Гиртля, тоже знаменитый уже анатом Венцель Грубер. По указанию деда, который в момент смерти Николая Павловича соединял в своем лице должность директора Военно-медицинского департамента и президента Медико-хирургической академии, Груберу поручено было бальзамировать тело усопшего императора. Несмотря на свою большую ученость, Грубер в житейском отношении был человек весьма недалекий, наивный, не от мира сего. О вскрытии тела покойного императора он не преминул составить протокол и, найдя протокол этот интересным в судебно-медицинском отношении, отпечатал его в Германии. За это он посажен был в Петропавловскую крепость, где и содержался некоторое время, пока заступникам его не удалось установить в данном случае простоту сердечную и отсутствие всякой задней мысли. Деду, как бывшему тогда начальником злополучного анатома, пришлось оправдываться в неосмотрительной рекомендации. К Мандту дед до конца своей жизни относился доброжелательно и всегда ставил себе в добродетель, что оставался верен ему в дружбе даже тогда, когда петербургское общество, следуя примеру двора, закрыло перед Мандтом двери, дед один продолжал посещать и принимать Мандта. Вопрос этический, выступавший с такой рельефностью в данном случае, не раз во времена студенчества затрагивался нами в присутствии деда. Многие из нас порицали Мандта за уступку требованиям императора. Находили, что Мандт как врач обязан был скорее пожертвовать своим положением, даже своей жизнью, чем исполнить волю монарха и принести ему яду. Дед находил такие суждения слишком прямолинейными. По его словам, отказать Николаю в его требовании никто бы не осмелился. Да такой отказ привел бы еще к большему скандалу. Самовластный император достиг бы своей цели и без помощи Мандта: он нашел бы иной способ покончить с собой, и, возможно, более заметный».
А допустимо ли психологически самоубийство Николая? Когда мы задумываемся над биографией и всей историей царствования самолюбивого самодержца с присущей ему своеобразной идеологией, сначала полного самоуверенности: «Берегитесь, народы, и трепещите», а затем униженного, сознающего, что «все царствование его было ошибкой», сломленного и переживающего это как личную трагедию, то надобно сказать: да, допустимо.
Автору этих строк удалось найти некоторые данные, подтверждающие версию о самоубийстве Николая I.
Передо мной воспоминания Ивана Федоровича Савицкого, человека весьма близкого в те дни к наследнику-цесаревичу Александру. Савицкий — полковник Генерального штаба, адъютант цесаревича Александра по части Генерального штаба. Он родился в 1831 году в Литве в старинной дворянской семье, окончил пажеский корпус, позже — Академию Генерального штаба. Еще будучи пажем, был приближен ко двору, стал участником детских забав, отроческих игр наследника и его брата, окончил с отличием академию и оказался на правах друга детства в свите цесаревича.
Его прямые обязанности как одного из старших адъютантов штаба гвардии требовали обязательного присутствия всюду, где бывал командующий гвардией — наследник: на всех приемах, парадах, маневрах и церемониях; принимать участие в составлении программ многих придворных празднеств, составлять отчеты об их проведении. Ему многое пришлось увидеть и пережить. Он видел жизнь за дворцовыми кулисами, недоступную для всех остальных.
Позже Савицкий вышел в отставку, принял активное участие в восстании 1863 года и остался в эмиграции. Свои воспоминания он писал вдали от голубых мундиров, совершенно свободный от цензуры. И потому, конечно, у воспоминаний этих особый колорит. Послушаем же осведомленного участника событий:
«Тридцать лет это страшилище в огромных ботфортах, с оловянными пулями вместо глаз безумствовало на троне, сдерживая рвущуюся из-под кандалов жизнь, тормозя всякое движение, безжалостно расправляясь с любым проблеском свободной мысли, подавляя инициативу, срубая каждую голову, осмелившуюся подняться выше уровня, начертанного рукой венценосного деспота.
Окруженный лжецами, льстецами, не слыша правдивого слова, Николай I очнулся только под гром орудий Севастополя и Евпатории. Гибель его армии — опоры трона — раскрыла царю глаза, обнаружив всю пагубность, ошибочность его политики.
Но для одержимого непомерным тщеславием, самомнением деспота легче оказалось умереть, наложить на себя руки, чем признать свою вину. Военные демонстрации союзнического флота на Балтике, в Черном море, у дальневосточных берегов ясно показали уже к весне 1855 года полное преобладание союзников на море, а их десант в Крыму и неудачная попытка сбросить его в море показали, что и на суше союзники также имеют решающее превосходство. И хотя война еще длилась, более того, борьба шла по нарастающей, ее исход был ясен для Николая I».
Савицкий далее пишет: «Немец Мандт — гомеопат, любимый царем лейб-медик, которого народная молва обвинила в гибели (отравлении) императора, вынужденный спасаться бегством за границу, так мне поведал о его последних минутах:
«После получения депеши о поражении под Евпаторией вызвал меня к себе Николай I и заявил:
— Был ты мне всегда преданным, и потому хочу с тобою говорить доверительно — ход войны раскрыл ошибочность всей моей внешней политики, но я не имею ни сил, ни желания измениться и пойти иной дорогой, это противоречило бы моим убеждениям. Пусть мой сын после моей смерти совершит этот поворот. Ему это сделать будет легче, столковавшись с неприятелем.
— Ваше Величество, — отвечал я ему. — Всевышний дал Вам крепкое здоровье, и у Вас есть и силы и время, чтобы поправить дела.
— Нет, исправить дела к лучшему я не в состоянии и должен сойти со сцены, с тем и вызвал тебя, чтоб попросить помочь мне. Дай мне яд, который бы позволил расстаться с жизнью без лишних страданий, достаточно быстро, но не внезапно (чтобы не вызвать кривотолков).
— Ваше Величество, выполнить Ваше повеление мне запрещают и профессия и совесть.
— Если не исполнишь этого, я найду возможным исполнить намеченное, ты знаешь меня, вопреки всему, любой ценой, но в твоих силах избавить меня от излишних мук. Поэтому повелеваю и прошу тебя во имя твоей преданности выполнить мою последнюю волю.
— Если воля Вашего Величества неизменна, я исполню ее, но позвольте все же поставить в известность о том Государя-Наследника, ибо меня как Вашего личного врача неминуемо обвинят в отравлении.
— Быть по сему, но вначале дай мне яд».
Свидетельство Савицкого уникально. Оно совпадает с вышеприведенными косвенными данными, но новым светом освещает их, существенно дополняет и окончательно снимает сомнения.
«Было это 3 марта 1855 года (по н. ст.), — продолжает Савицкий, — Александр, узнав о случившемся, поспешил к отцу, рухнул к нему в ноги, обливался слезами. Врач оставил сына наедине с отцом. О чем они говорили, что порешили, осталось между ними. Вскоре Александр, в слезах, опечаленный, вышел из кабинета отца.
А Николай I слег и уже не встал более.
В ту же ночь во дворце узнали, что царь тяжко занемог. Вызвали придворных лекарей на консилиум, признаки отравления были так явны, что врачи отказались подписать заготовленный заранее бюллетень о болезни. Тогда обратились к Наследнику и по его повелению придворные врачи скрепили своими подписями бюллетень, отослали его Военному министру. Так в полночь высшие сановники империи были осведомлены, что всемогущий, едва ли не бессмертный повелитель уже одной ногою в гробу».
Дальнейшее нам уже известно из ранее опубликованных материалов. Императора срочно соборовали, внесли соответствующие записи в камер-фурьерский журнал задним числом, придав невинной простуде видимость неизлечимого недуга…
Обо всем случившемся, а главное — о беседе с императором и его приказе лейб-медик Мандт написал позже брошюру и хотел издать ее в Дрездене, но московское правительство, узнав о его намерении, пригрозило лишением весьма солидной пенсии, если он немедленно не уничтожит написанное. Мандт выполнил это требование, но опасаясь быть обвиненным в отравлении венценосного пациента, рассказал во всех подробностях о случившемся избранному кругу заинтересованных лиц, Савицкий был одним из них.
«Утром, когда Николай еще лежал в своем кабинете, — свидетельствует Савицкий, — я пошел взглянуть на него. Страшилище всех европейских народов покоилось на ложе своем, прикрытое одеялом и старым военным плащом, вместо халата долго служившим хозяину. Над кроватью висел портрет рано умершей дочери Александры Николаевны, которую усопший очень любил, облаченной в гусарский мундир. Николай даже женскую прелесть без мундира не воспринимал.
В глубине кабинета стоял стол, заваленный бумагами, рапортами, схемами. В углу стояло несколько карабинов, которыми в свободное время тешился император. На столах, этажерках, консолях стояли статуэтки из папье-маше, изображающие солдат разных полков, на стенах висели рисунки мундиров, введенных царем в армию. У кровати сидел ген. Сухозанет и вытирал платком свои сухие глаза. Заявил мне, что дни и часы неотступно находится у тела императора без еды и воды, хотя при жизни и не любил покойного. На суровом лице усопшего выступили желтые, синие, фиолетовые пятна. Уста были приоткрыты, видны были редкие зубы. Черты лица, сведенного судорогой, свидетельствовали, что император умирал в сильных мучениях.
Александр ужаснулся, увидя отца таким обезображенным, и вызвал двух медиков — профессоров Медико-хирургической академии, повелел им любым путем убрать все признаки отравления, чтобы в надлежащем виде выставить через четыре дня тело для всеобщего прощания согласно традиции и протоколу. Ведь все эти фатальные признаки неопровержимо подтвердили бы молву, уже гулявшую по столице, об отравлении императора.
Последней волей Николая I был запрет на вскрытие и бальзамирование его тела, он опасался, что вскрытие откроет тайну его смерти, которую хотел унести с собой в могилу.
Два ученых, вызванных, чтобы скрыть подлинную причину смерти, буквально перекрасили, подретушировали лицо и его надлежащим образом обработали и уложили в гроб. Исследованный ими новый способ бальзамирования тела не был еще отработан должным образом и не предотвратил быстрое разложение тела; тогда обложили последнее ароматическими травами, чтобы заглушить зловонье».
Из Зимнего дворца тело покойного надлежало перевезти в Петропавловскую крепость, в царскую усыпальницу. Войска шпалерами встали от Зимнего до Петропавловки, и между стройными рядами застывших гвардейских полков двинулась в путь траурная процессия.
Во главе процессии шел царский двор, за ним — старший генералитет с ассистентами, неся на подушках короны и ордена, полученные едва ли не от всех европейских монархов, затем целая армия священников и катафалк, за которым шествовал молодой император с братьями своими, герольды, солдаты, одетые в древние мундиры. Идущая во главе процессии раззолоченная толпа держалась в высшей степени неприлично, мало того что всю дорогу в ней не прекращался говор и смешки, курили сигары и папироски, вызывая тем возмущение у сгрудившихся по обочинам улиц простолюдинов.
По отбытии императора из крепости начался воистину театральный разъезд. После рукопожатий и пожеланий, которыми обменивались разъезжающие, храм опустел, в нем осталось лишь смердящее тело покойного да гвардейский караул.
Четыре дня продолжались траурные богослужения, поутру и вечером повторялись одни и те же сцены, на пятый день гроб с пением «Вечная память» водрузили рядом с гробницей Петра III и Екатерины II.
Андрей Левандовский Конец реформатора
Катастрофа
В 1881 году первый весенний день пришелся на воскресенье. В Петербурге стояла ясная морозная погода. На центральных улицах города было людно: на Екатерининском же канале, в двух шагах от Невского лишь изредка попадались случайные прохожие; здесь никто не жил, никто не вел торговлю, да и для прогулок эта часть канала представлялась не очень привлекательной: с одной стороны — решетка набережной, с другой — высокий забор, угрюмые казенные здания… Именно здесь метальщики «Народной волн» Рысаков и Гриневицкий перехватили царский выезд в этот день; вошедший в историю как день последней облавы на государя императора всея Руси Александра Николаевича…
Царская карета в окружении конвойных казаков показалась из-за угла в начале третьего; следом за ней сани полицмейстера. На крутом повороте с Инженерной улицы кучер с трудом сдержал лошадей, и они пошли шагом. Карета не успела еще набрать полный ход, как первый из метальщиков, Николай Рысаков, бросил под нее, небольшой сверток. Раздался взрыв…
Царь с помощью полицмейстера выбрался из поврежденного экипажа; он был цел и невредим… Около кареты лежал в беспамятстве контуженный взрывом казак; рядом бился, кричал от боли мальчик — случайный прохожий. Вокруг собиралась толпа. Царь подошел к Рысакову, схваченному сразу же после взрыва, задал ему несколько вопросов, а затем снова направился к экипажу. И тут пришел черед второго метальщика, Гриневицкого…
Новый взрыв был страшен: он произошел, среди окружавшей царя толпы, и эхом ему прозвучал вопль боли и ужаса. Дым, взметнувшиеся к небу комья снега, клочки обгоревшего платья — все это на несколько мгновений скрыло от глаз катастрофу… Когда же дым рассеялся, те, кто остался в живых, среди тел, лежавших на мостовой, увидели царя…
Александр сидел, откинувшись назад, прислонясь спиною к решетке канала; обеими руками он упирался в панель. Шинель с царя сорвало взрывом, от нее остались лишь обгорелые, окровавленные клочья. Александр тяжело дышал. Ноги его, обнаженные выше колен, были раздроблены, мясо висело на них кусками, струилась кровь… Полицмейстер, оглушенный взрывом, с трудом поднимаясь на ноги, услышал тихое: «Помоги» — и бросился к царю. Александра окружили; кто-то подал царю платок, которым он закрыл искаженное от боли лицо… «Холодно, холодно…» — шептал царь.
Пока Александра несли к саням, он оставался в сознании; когда кто-то из окружающих предложил перенести царя в один из ближайших домов, у него еще хватило сил приказать: «Во дворец… Там — умереть…» Это были последние слова Александра.
Царь еще дышал, когда его привезли в Зимний. Врачам удалось остановить кровотечение из артерий, но изуродованный, обескровленный царь был заведомо обречен: «Конечностей левой стопы совсем не было, обе берцовые кости до колен раздроблены, мягкие части, мускулы и связки изорваны и представляли бесформенную массу, выше колен до половины бедра несколько ран…» Через «час с небольшим после взрывов на Екатерининском канале царь скончался…
Тернистый путь
А как прекрасно начиналось это царствование! Вступив на престол в тяжелейшее для России время, Александр сумел вывести страну из застоя на единственно верный путь реформ. Это было тем более замечательно, что новый царь не имел, казалось, ни способностей, ни склонностей к серьезным преобразованиям. Он не обладал ни глубоким умом, ни сильным характером; его политические воззрения целиком и полностью укладывались в узкие рамки официальной идеологии, провозглашавшей самодержавно-крепостнический строй единственно возможным для России. Будучи наследником престола, он искренне преклонялся перед отцом — императором Николаем, который все силы своей незаурядной натуры вкладывал в укрепление «устоев».
Но даже Николай, этот замечательный в своем роде человек, никогда не знавший сомнений, вынужден был, в конце концов, признать очевидное: бескомпромиссная борьба, которую он вел на протяжении всего своего царствования против «губительного духа перемен», привела Россию к развалу. Крымская война подвела печальный итог его тридцатилетнему правлению: техническая отсталость армии и флота, совершенно фантастическое казнокрадство, немощь бюрократических структур — все эти и многие другие пороки, скрытые, раньше под покровом лжи и славословий, вышли теперь наружу. Николай умер, сломленный сознанием тщетности всех усилий; умер, успев сказать наследнику: «Сдаю тебе команду не в полном порядке…» Порядок предстояло наводить Александру…
Для того чтобы разобраться в происходящем и найти пути выхода из жестокого кризиса, новому царю прежде всего нужно было вырваться из тесноты и духоты собственного мировоззрения, возводившего неподвижность в идеал. Ему предстояло совершить этот духовный подвиг, не имея к тому никакой подготовки, без всякой поддержки со стороны — в окружении Александра, унаследованном им от батюшки, невозможно было отыскать мудрых сановников-реформаторов. И тем не менее этот флегматичный, казавшийся многим недалеким человек сумел на какое-то время преодолеть себя, сумел осознать всю опасность создавшегося положения и разобраться в его причинах. Знаменитая речь, произнесенная Александром в марте 1856 года в Москве перед предводителями дворянства, несомненно, стоила царю не одной бессонной ночи. Главе верховной власти нужно было передумать и перечувствовать многое, прежде чем заявить во всеуслышание: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока его отменят снизу».
У Александра хватило сил и для того, чтобы от слов перейти к делу. В 1861 году в значительной степени благодаря его последовательности был устранен корень всех зол, терзавших Россию, — многовековое крепостное право, затем подготовлен и проведен целый комплекс реформ: судебная, земская и многие другие, открывавшие путь к созданию нового, более прогрессивного государственного устройства. Казалось, Россия выбирается из полосы длительного застоя и готова семимильными шагами устремиться вперед, в будущее…
Но великие реформы требуют великих сил — и физических, и духовных. Их не было у Александра. Как и многие слабые люди, он ждал от своих действий немедленных благодетельных результатов. Между тем преобразования порождали массу новых проблем, которые, в свою очередь, требовали радикальных решений. Так, крестьянская реформа, при проведении которой власть всеми силами стремилась соблюсти интересы помещиков, подорвала-таки достаток и благополучие «благородного сословия», предопределив в то же время обнищание значительной массы крестьянства; новые учреждения, созданные судебной, земской, городской реформами, никак не вписывались в старый административно-бюрократический строй, вызывая глухое недовольство.
Путь реформ, на который так решительно вступил в начале своего царствования Александр, оказался воистину тернистым. Но, как выяснилось, свернуть в сторону — означало вообще потерять тропу под ногами. А что может быть, страшнее российского бездорожья с его лесами дремучими, песками зыбучими, тревожным вороньим граем да болотными огнями, манящими в самую топь…
Отщепенцы
По мере отказа от последовательных преобразований страны высшая бюрократия во главе с самим царем начала ощущать глухую, постоянно растущую угрозу и тому неустойчивому, парадоксальному государственному порядку, который возник в России в результате ее противоречивой политики, и своим собственным покою и безопасности. Угроза эта исходила не от разрозненных крестьянских волнений, стихийно возникавших в стране в первые пореформенные годы, — с ними справились без особого труда и надолго. Не могла всерьез пугать могущественную бюрократию и либеральная оппозиция, сложившаяся в это время в России. Ее представители, так или иначе, вписывались в существующую систему, подчиняясь закону, даже если считали его неправедным, и действовали исключительно в рамках дозволенного. Власти же все больше пугали люди, которые не хотели признавать вообще никаких рамок.
В 1866 году в Петербурге вышла книга, в которой как нельзя лучше определялись характерные черты этих действительно опасных смутьянов и бунтарей. Написана она была известными радикальными публицистами — Н.В. Соколовым и В.А. Зайцевым — и называлась «Отщепенцы». «Есть люди, поклявшиеся жить свободно… Они не хотели смешаться с толпою и взять в жизни номер. Пошлость рутинной практической жизни была им невыносима: они не могли долго терпеть ее, расходились с обществом и отрешались от него… Я называю их «отщепенцами».
…Отщепенцы — спокойные безумцы, восторженные труженики, мужественные ученые, которые проживают свою жизнь, отыскивая причины общественных зол и бедствий, проповедуя великую республику, блаженное социальное устройство, личную свободу, гражданскую солидарность, экономическую правду.
Отщепенцы — беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, воображающие, что им непременно нужно выполнить какое-то призвание, совершить какое-то священнодействие, защитить какое-нибудь знамя…
Отщепенцы — все те, кто не думал, не умел или не желал подчиниться общей доле…»
Вся эта книга была, по сути, компиляцией из работ европейских мыслителей и публицистов; в частности, вышеприведенные строки заимствованы авторами из памфлета французского радикала Ж. Валлеса, но именно у русского интеллигентного читателя они должны были вызывать особенно сильные чувства. Ведь в этих строках сжато и ясно формулировалось то, что ему, читателю радикальной публицистики, на протяжении целого десятилетия внушали «властители, дум» — сперва Чернышевский, затем Писарев, чуть позже — Бакунин, Лавров, Ткачев; внушали как идеал, более того — как единственно честный, единственно праведный образ жизни. Не идти на компромиссы, не сотрудничать с властью, не входить в систему обыденных служебных и бытовых отношений, не преобразовывать существующее путем повседневной «рутинной» деятельности, а бить его насмерть, разрушать беспощадно, во имя светлого будущего: «блаженного социального устройства, личной свободы, гражданской солидарности» и прочее, и прочее…
Наверное, «отщепенство» — явление закономерное для самых разных времен и народов, более того — необходимое: как нечто сверхординарное, будоражащее мысли и чувства, не дающее закоснеть в ленивой неподвижности. Но не дай бог «отщепенцам» из исключения превратиться в правило, стать определяющей силой… Нечто подобное и произошло в пореформенной России, придав ее истории неизъяснимо трагический характер.
В народе
Противостояние власти и «отщепенцев» возникло сразу же после отмены крепостного права. Возмущение массовыми экзекуциями при подавлении крестьянских волнений, возникших при проведении крестьянской реформы в жизнь, настоящий шок, вызванный полицейскими репрессиями против студентов во время беспорядков в Петербургском и особенно Московском университетах — все эти тяжелые чувства, испытанные интеллигенцией в начале 1860-х, очень быстро заставили ее наиболее радикальных представителей забыть о всех надеждах, возлагавшихся на Александра и его сановников. С лета 1861 года в интеллигентной среде возникают кружки, готовые к нелегальной деятельности; в столицах начинают распространяться прокламации, содержащие самую резкую критику власти и призывы передать дело преобразования страны в руки «общественности»; в конце 1861 года появляется «Земля и воля» — первая революционная организация пореформенной России. И хотя она никакими серьезными действиями себя не проявила, начало непосредственному и губительному процессу революционизации «образованного меньшинства» было положено: «отщепенцы», ушли в подполье — началась необъявленная война…
В 1860-х русское «отщепенство» пережило очень яркий и выразительный, хотя и несколько сумбурный, период революционного самоопределения. На этом пути «беспокойным людям» пришлось миновать немало крутых поворотов и глухих тупиков. Им суждено было пройти через «все отрицающий» и все разрушающий нигилизм; из их лагеря 4 апреля 1866 года раздался первый выстрел в царя, тогда ужаснувший многих — именно по поводу покушения Дмитрия Каракозова Герцен писал: «Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами»; в их среде вырос и сформировался С.Г. Нечаев — человек, готовый «освобождать» Россию любыми средствами, вплоть до массовых убийств, поджогов и пьяных бунтов… Но к началу 1870-х все это было пережито и, казалось, изжито бесповоротно; революционное движение в России постепенно обрело цельность, стройность, ясное сознание целей, и вполне конкретную программу действий. Выстраданное в тяжких умственных усилиях и душевных муках народничество стало идеологией подавляющего большинства революционно настроенных «отщепенцев».
Не вдаваясь в подробный разбор этого ярчайшего явления истории русского общества, отмечу только, что при всех своих ошибках и иллюзиях, заставлявших видеть в черной крестьянской избе прообраз завещанного Чернышевским «алюминиевого дворца с мраморными колоннами», народничество было движением потенциально здоровым и в самом себе содержало возможность выбраться из рокового подполья: искреннее стремление опираться на народ, жить его интересами, прежде всего улучшить его положение — все это, казалось бы, должно было привести к решительной переоценке ценностей. И в самом деле, сокрушительные неудачи хождения в народ в 1874 году с призывами к немедленному восстанию, а затем, в середине 1870-х, к «перманентной» революционной пропаганде заставили народников всерьез задуматься о том, что нужно в действительности возлюбленному ими крестьянству. Но в поддержку их революционных устремлений выступила… власть.
Посеешь ветер…
В самом деле перестройки России власть все больше и больше внимания обращала на совершенствование охранительных органов. Уже в 1862 году, были реорганизованы обветшавшие структуры «явной» полиции, в 1867 — аналогичная операция проведена и с органами политического сыска: в губернских городах образовывались губернские полицейские и жандармские управления, в уездных — уездные полицейские управления и жандармские наблюдательные пункты. На службу полицейскому надзору были поставлены и новорожденные органы управления пореформенного крестьянства: сельским старостам, сотским и десятским вменялись в обязанность шпионство и доносы — и на своих односельчан и, прежде всего, на «посторонних», то есть на образованных людей, по тем или иным причинам появлявшихся в деревне. А в городе те же обязанности были вменены дворникам… Паутина политического надзора в «освобожденной» России стала куда более частой, чем в суровые николаевские времена.
Отлавливая «потрясателей основ», власть затем судила их, и был тот суд иногда скорый, нередко — затяжной и почти всегда — неправый и немилостивый… Судебные уставы 1864 года, в которых были заложены самые прогрессивные и демократические принципы: полная гласность судопроизводства, несменяемость — а значит, и независимость следователей и судей, институты адвокатуры и присяжных заседателей, состязательность судебного процесса, казалось бы, должны были умерять произвол власти. Не тут-то было… Как только к тому представился повод, власть с поразительной легкостью стала нарушать ею же введенные законы.
С 1871 года расследование политических дел перешло из рук следователей к жандармам; рассмотрение же этих дел, как правило, стало производиться не в суде присяжных, а в специально создаваемых судилищах, основным из которых с 1871 года стало так называемое Особое присутствие правительствующего сената (ОППС). Именно через ОППС прошли знаменитые «массовые» процессы, связанные с народнической пропагандой, — процессы пятидесяти, ста девяноста трех; именно ему в речи подсудимого Ипполита Мышкина была дана убийственная и во многом справедливая характеристика, которая ставила ОППС ниже дома терпимости: «Там женщины из-за нужды торгуют своим телом, здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью»…
В середине 1870-х годов смертные приговоры еще не практиковались, но общий дух политических процессов был таков, что из всех возможных мер наказания подсудимые почти всегда приговаривались к наиболее жестоким.
Распространена была и так называемая административная ссылка. Хотя опять-таки из контекста судебных уставов следовало, что все политические дела должны решаться только по суду, на практике выходило иное: с 1871 года жандармские и полицейские офицеры на местах получили право не только арестовывать подозреваемых в совершении преступлений против власти, но и определять любому из них в качестве исправительной меры ссылку в места весьма отдаленные… Для осуществления этой меры на практике нужно было, правда, испросить через «особое совещание» министра юстиции и шефа жандармов «высочайшее соизволение», то есть согласие царя, которое, как правило, давалось почти автоматически. Поначалу бессудной ссылке подвергались десятки, затем сотни, а к концу 1870-х, по некоторым данным, счет пошел уже на тысячи. В административную ссылку обычно шли те, кого, вообще невозможно было отдать под суд за отсутствием каких бы то ни было доказательств их вины; в эту ссылку попадали по анонимным доносам, по ничем не обоснованным указаниям власть имущих — за неосторожно сказанное слово, за строптивый характер и просто «подозрительное» поведение. Нередко этой мерой «исправляли» судебные приговоры: так, из 90 человек, оправданных по процессу ста девяноста трех, 80 были тут же высланы административным порядком. Надо ли говорить, что подобная политика вызывала соответствующую реакцию среди тех, против кого она была направлена.
Террор
«Отщепенцы» взялись за оружие… В январе 1878 года Вера Засулич в Петербурге стреляла в градоначальника Трепова, подвергшего телесному наказанию политического заключенного; в феврале в Киеве совершено неудачное покушение на товарища прокурора Котляревского; в мае убит глава Одесского жандармского управления Гейкинг. Борьба явно вступала в новую фазу.
Характерно, что не только сами революционеры, но и значительная часть общества восприняла эти первые, единичные террористические акты как справедливое возмездие наиболее ретивым исполнителям карательных «предначертаний власти». В столице после покушения на Трепова в ходу было такое четверостишие:
Грянул выстрел-отомститепь, Опустился божий бич — И упал градоправитель, Как подстреленная дичь.Присяжные же, суду которых в качестве редкого исключения было доверено дело Засулич, оправдали подсудимую по всем пунктам, то есть публично одобрили стрельбу по градоначальнику.
Чем-то вроде «бича божия» считал себя, очевидно, и Сергей Кравчинский, который в августе того же года, через день после казни народника Ковальского, заколол кинжалом шефа жандармов Мезенцева — среди бела дня, в самом центре Петербурга, на многолюдной площади перед Михайловским дворцом. Брошюра, написанная им в обоснование убийства, так и называлась — «Смерть за смерть».
«Террор созревал в долгие годы бесправия» — это замечание В.Г. Короленко как нельзя лучше определяет главную причину тех страшных кровавых событий, которые потрясли Россию на рубеже 1870–1880-х годов.
2 апреля 1879 года горькую чашу смертного ужаса пришлось испить самому царю: этот уже пожилой, обладающий спокойной, величественной осанкой человек вынужден был несколько долгих минут бежать по Дворцовой площади, подобно зайцу, бросаясь из стороны в сторону, чтобы уберечься от пули, — за ним, стреляя на ходу, гнался террорист… Из пяти выстрелов, произведенных Александром Соловьевым, ни один не попал в цель; пострадала лишь царская шинель. Но каково было это пережить! А самое главное — как теперь было жить дальше? Как управлять Россией?
Первые террористические акты застали власть врасплох. С грехом пополам справляясь с идеалистами, бродившими по деревням в поисках мифического мужика — «революционера по преимуществу», охранительные органы дрогнули при столкновении с противником, готовым отвечать на удар ударом. Всеподданнейший доклад преемника убитого Мезенцева, генерала Селиверстова, где должны были быть предложены конкретные меры по борьбе с террористами, звучал, как вопль отчаяния. Сказывалось, что органы политического сыска, еще недавно казавшиеся всемогущими, ничего не знают о тех, кто выступил против власти с оружием в руках, и, более того, узнать почти не надеются. Полную неосведомленность в делах и планах подполья Селиверстов оправдывал ссылкой на авторитетное мнение своего заместителя, начальника III отделения Шульца, утверждавшего, что «агентов-сыщиков и вообще агентов в России невозможно найти»… Все, что мог предложить генерал, — это меры, так сказать, тотального характера: слежку за всеми приезжающими в Петербург и выезжающими из оного, опросы всех столичных дворников о подозрительных лицах, повальные обыски и аресты этих подозрительных.
И хотя очевидно было, что подобным образом бороться с индивидуальным террором столь же разумно, как рыбацкой сетью ловить змей, власть в конце концов пошла именно по этому пути, очень быстро добравшись до чрезвычайного положения. 5 апреля 1879 года, через три дня после, покушения Соловьева, в царском указе правительствующему сенату было заявлено о необходимости «прибегнуть к исключительным мерам»: Россия в своей европейской части расчленялась на шесть временных генерал-губернаторств; лица, стоявшие во главе их, получали совершенно небывалые и невозможные в цивилизованном государстве полномочия: в полную зависимость от них попадали местные учреждения, учебные заведения, почта, телеграф — словом, всё, а главное — личное достоинство, свобода и даже жизнь местных обывателей, поскольку генерал-губернатор мог любого из них своей властью не только засадить на неопределенный срок в кутузку, но и предать военному суду, от которого пощады ждать не приходилось.
Все эти действия власти производили особенно жуткое впечатление. Сеть «исключительных мер» захватывала огромную массу случайных людей и среди них — лишь очень немногих деятелей, действительно прикосновенных к подполью. В результате генерал-губернаторские подвиги ожесточили все общество в целом, а красный террор тем временем обретал свою идеологию и организационные формы, становился все более серьезной силой.
Во второй половине июня 1879 года в одной из рощ на окраине Воронежа собрались члены «Земли и воли» — новой организации со старым названием, созданной народниками в 1876 году с целью объединить разрозненные силы подполья. Вопрос о причинах постоянных неудач их настойчивой пропагандистской деятельности в деревне был, несомненно, главным, определяющим для землевольцев. И вот на съезде впервые со, всей очевидностью выяснилось, что многие лидеры подполья решили для себя этот вопрос безоговорочно: нужен террор.
Ход рассуждений тех, кто требовал перейти к новым формам борьбы, был ясен и по-своему логичен. Прежде чем вести широкую социалистическую пропаганду, необходимо, добиться принципиальных перемен в государственном строе России, «дотянуть» страну до конституции, оттеснив от власти бюрократов. При этом, поскольку в массах «отщепенцы» никакой поддержки так и не нашли, им приходится рассчитывать только на самих себя. Единственное же действительно радикальное средство, с помощью которого несколько десятков человек могут нанести поражение мощному бюрократическому аппарату, — террор. Из средства самозащиты террор превращался в главное орудие борьбы.
При всем том у сторонников борьбы за политические преобразования оказалось немало оппонентов, самым энергичным из которых был ЕВ. Плеханов. Никакие конституции, по их мнению, не могли улучшить бедственного положения народных масс; террор же лишь отвлекал от главного дела — подготовки крестьянской революции. Споры между «деревенщиками» и «политиками»-террористами изначально были резкими и, по сути, непримиримыми. Правда, в Воронеже путем взаимных уступок удалось достичь компромисса, но это был худой мир; не прошло и двух месяцев, как противники пришли к доброй ссоре, — «Земля и воля» распалась на две самостоятельные организации. Одна из них — «Черный передел» — так незаметно и сошла на нет, лишний раз доказав своими неудачами, что у революционной пропаганды в деревне нет перспектив; зато другая — террористическая «Народная воля» — оставила по себе долгую память.
Великая паника
Осенью 1879 года в уездном городе Екатеринославской губернии Александровске появился новый обыватель — купец, Черемисов, прибывший сюда с супругой с целью основать в сем граде кожевенный заводик. Купец в короткий срок очаровал своих новых сограждан широтой натуры с веселым покладистым характером: дружился с ними, пил, кутил, не забывая, впрочем, и о делах — на отведенный ему для завода участок земли потихоньку свозили строительные материалы, там постоянно копошилось несколько пришлых, но уже примелькавшихся горожанам рабочих. И вдруг в одночасье все они — и супруги Черемисовы, и их рабочие — бесследно исчезли из города.
Через некоторое время, благодаря откровенным показаниям одного из случайно арестованных революционеров, выяснилось, что в Александровске «Народная воля» провела первое из череды неудавшихся покушений на царя. Под именем купца Черемисова скрывался один из главных вдохновителей и организаторов террора Андрей Желябов, роль его супруги играла Анна Якимова, рабочие тоже были свои — сочувствующие. В строительных материалах в Александровск, стоявший у железной дороги, террористы привезли динамит и под путями заложили мину. 18 ноября они предприняли попытку взорвать царский поезд, следовавший из Севастополя, — Желябов лично замкнул гальванической батареей концы проводников, идущих от заряда. Но мина не сработала.
Если об этом покушении власть узнала задним числом, то следующее, совершенное буквально на другой день, прогремело на: всю Россию. «Кожевенный завод» в Александровске был, как оказалось, не единственным предприятием народовольцев. Одновременно со строительными хлопотами купца Черемисова в Москве свое дело — лавку сыров — открыли супруги Сухоруковы (под их именами скрывались Софья Перовская и Лев Гартман); и находилась эта лавка в доме, расположенном у самой железной дороги все того же, южного направления. Из дома был произведен подкоп под железнодорожное полотно, подложена мина, и 19 ноября поезд, в котором, по расчетам террористов, должен был находиться царь, пошел под откос. Оказалось, что Александр следовал раньше, в подорванном же поезде ехала царская свита, из которой во время крушения никто серьезно не пострадал. Тем не менее, впечатление от этого дерзкого, оставшегося безнаказанным покушения (террористы и здесь, как и в Александровске, вовремя скрылись) было огромное.
После этого Александр получил передышку на несколько месяцев. 5 февраля 1880 года террористы произвели взрыв уже непосредственно в царской резиденции — Зимнем дворце. Александр, ожидавший прибытия знатного гостя, принца Гессенского, только что успел выйти ему навстречу, как зал, где членов императорского дома ожидал накрытый стол, был потрясен страшным грохотом, пол вздыбился и осел, вылетели оконные стекла… Взрыв произошел из подвального помещения и основной силой своей ударил все же не по приемному залу, а по находившемуся над ним караульному помещению — пострадали несшие караул солдаты Финляндского полка, среди них было несколько десятков убитых и раненых.
Расследование показало, что этот страшной силы взрыв подготовлен и произведен агентом «Народной воли» Степаном Халтуриным, который с сентября 1879 года работал во дворце столяром-краснодеревщиком и, понемножку принося туда динамит, складывал его в подвале, с тем чтобы, выбрав удобный момент, уничтожить Александра, а по возможности — и всю царскую семью. Арестовать Халтурина не удалось.
Так действовала «Народная воля». Ядро этой организации — так называемый исполнительный комитет — состояло из людей в высшей степени незаурядных: талантливых, умных, волевых и совершенно бескорыстных, не думавших о себе, искренне стремившихся действовать во имя общего блага. Александр Михайлов, Андрей Желябов, Николай Кибальчич, поразительные женщины «Народной воли» Фигнер, Перовская, Гельфман — все они и многие другие делали честь российскому «отщепенству»: Им впервые удалось создать организацию, казалось, невозможную для этих неприкаянных людей: максимально дисциплинированную, строго соблюдавшую правила конспирации, проникнутую духом согласия. Слившись в ней воедино, эти люди превратились в огромную силу, которую и посвятили «святому делу» — убийству старика в генеральском мундире, старика, которого по праву называли в стране Освободителем.
Поразительное это было время: казалось, вся Россия замерла словно в ступоре, в полной неподвижности, следя как завороженная за беспощадной схваткой власти с несколькими десятками загнанных в подполье «отщепенцев».
Конец венчает дело?
9 февраля 1880 года Александр объявил о создании Верховной распорядительной комиссии, глава которой получал диктаторские по сути полномочия. Идея создания подобного органа вышла из самых реакционных кругов, стремившихся собрать полицейские, карательные силы в один кулак и, используя все возможные средства, вплоть до самых исключительных, раздавить революционное движение. Однако во главе комиссии царь поставил человека, и мысли, и действия которого совсем не вписывались в эту погромную программу.
Михаил Тариэлович Лорис-Меликов, талантливый военачальник и незаурядный администратор, был плоть от плоти той либеральной бюрократии, которая, сыграв немаловажную роль в деле подготовки и проведения в жизнь «великих реформ», затем в тяжелые годы реакционного безвременья была почти начисто вытравлена из высших сфер. Лорис-Меликов твердо держался того убеждения, что единственное спасение для России — это вернуться на прежний путь — путь постепенных, последовательных преобразований, проводимых твердой рукой сверху, с высоты престола. Недаром в обществе, где очень скоро, ощутили, насколько не похож новый глава правительства, обладавший исключительной властью, на своих предшественников, его восприняли как «бархатного диктатора».
Лорис немедленно провел в жизнь ряд конкретных мер, несколько смягчавших произвол, царивший в России, и предложил Александру свой проект «конституции», по которому в подготовке новых реформ должны были участвовать не только чиновники, но и представители земства и выборные от городов. Эти действия вызвали благожелательный отклик в обществе, заметно сгладив здесь недовольство внутренней политикой власти.
На подполье диктатор произвел совершенно иное впечатление — его программа ни в коей мере не удовлетворяла народовольцев. Да и сам Лорис не собирался идти на компромиссы с революционерами, диктатор повел с ними совершенно беспощадную борьбу, которая к тому же была организована теперь значительно лучше.
Реформированный Лорисом сыск очень скоро показал когти. Во второй половине 1880 — начале 1881 года, отчасти благодаря возросшему профессионализму «сыскарей», отчасти из-за целого ряда трагических случайностей, исполнительный комитет «Народной воли» понес тяжелые, невосполнимые потери: арестованы, его подлинные лидеры — А. Михайлов, Желябов, Тригони, Колодкевич, Варенников. Окончательный разгром народовольцев был, казалось, не за горами.
Утром 1 марта 1881 года царь выразил желание созвать через несколько дней Совет министров для обсуждения проекта о «привлечении местных деятелей к совещательному участию в изготовлении центральными учреждениями законопроектов по тем вопросам, которые признаны будут подлежащими; ныне разрешению в видах развития и усовершенствования высочайше предначертанных преобразований». Поскольку проект этот был полностью одобрен Александром, дальнейший ход не вызывал сомнений. Утром 1 марта петербургский градоначальник генерал Фролов, собрав у себя на квартире полицейские чины — среди них находился и полицмейстер Дворжецкий, которому через некоторое время предстояло сопровождать царя в его воскресной поездке на развод войск, — сообщил им, «что главные деятели анархистов Тригони и Желябов арестованы и только остаётся захватить еще двух-трех человек, чтобы окончить дело борьбы с крамолою…» Всесильный министр внутренних дел мог праздновать успех всех своих начинаний…
Утром того же дня народовольцы — и немногие оставшиеся на свободе «старики», и зеленая, необстрелянная молодежь — заняли свои, заранее распределенные места.
Воскресный маршрут царя был изучен ими до тонкости. Михаил Фроленко отправился на Малую Садовую, в сырную лавку, из которой был сделан подкоп под улицу, — в случае проезда царя он должен был привести в действие заложенное там взрывное устройство. Софья Перовская, руководившая четырьмя метальщиками, перекрыла царскому экипажу все остальные пути. Напрягая последние силы, исполнительный комитет сделал все, чтобы не дать в этот день царю ни одного шанса на спасение.
И вот свершилось… «Тяжелый кошмар, — вспоминала Фигнер, — на наших глазах давивший течение десяти лет молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников — все искупила эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России».
Сейчас эти строки читать тяжело и горько — ясно ощущаешь, сколь глубоко было то роковое подполье, которое поглотило столько сил, столько талантов, столько жизней…
Отдавшись целиком террору, посвятив себя одной «великой цели» — убийству царя, народовольцы утратили чувство реальности. Их безоглядная и беспощадная борьба с властью постепенно приобретала иррациональный характер: она во все большей степени велась под диктовку не разума, а одного из самых разрушительных чувств, которые владеют человеком, — ненависти. Наверное, именно это помогло, исполнительному комитету — трем десяткам человек — добиться невозможного: внушить верхам ощущение кризиса, заставить их пойти на уступки… Но та же причина привела в конце концов, и к катастрофе на Екатерининском канале, последствия которой ни в коей мере не соответствовали радужным мечтам террористов: их ждали еще более жуткие, нежели прежде, «ужасы тюрьмы и ссылки»; Россия же обрекалась на многолетнюю полосу томительной, беспросветной реакции. И все же, наверное, не в этом был самый страшный итог эпохи Александра II, эпохи радужных надежд и безнадежных разочарований.
К пропасти
Еще не придя в себя от шока, вызванного 1 марта, власть поспешила организовать следствие, судебный процесс и — как их естественный и неизбежный результат — смертную казнь всех причастных к убийству на Екатерининском канале. С чисто практической стороны все эти процедуры были не слишком сложными; с моральной — они не вызывали у представителей власти ни малейших сомнений. Единственный в своем роде призыв Владимира Соловьева к новому царю — разорвать порочный «кровавый круг», встать выше мести, выше борьбы, ближе к Христу — был воспринят сыном убитого, Александром III? как проявление психопатии.
Противостоящая сторона отвечала власти взаимным чувством такой же силы. Вот любопытнейшие строки из «Истории моего современника» В.Г. Короленко — одного из тех, до сих пор не оцененных нами работников, который на протяжении всей своей жизни, без надрыва и истерик, в меру своих недюжинных сил и способностей пытался сделать Россию более культурной, более цивилизованной страной. Короленко вспоминает, как, узнав о смерти Александра, в ссылке, «среди пустынных и холодных берегов Лены», он начал сочинять поэму в прозе: «Александр II, молодой, одушевленный освободительными планами, и Желябов, его убийца, смотрят с далекой высоты на свою холодную родину и беседуют о далекой трагедии, обратившей их лучшие стремления друг против друга. Когда-то одна правда, хоть в разное время светила им обоим, но она затерялась во мгле и туманах. И две тени говорят о том, как разыскать ее…»
Подобная позиция для представителя радикального лагеря, для ссыльного, причем сосланного явно несправедливо, — совершенно уникальна; очевидно, что автор подобных строк органически не способен был стать «отщепенцем». Тем более характерно их продолжение: «Это было очень наивно, и поэма кончалась примечанием какого-то революционера, которому поэма автора, умершего в далекой ссылке, попадает в руки: «Господи боже, какой дикий бред!» А ведь когда-то наш товарищ был с очень трезвым умом»…
Как безжалостно стравила эпоха две силы, которым, казалось бы, сам Бог велел стремиться к максимальному взаимопониманию! И свернув, с пути преобразований, с единственного пути, на котором власть и интеллигенция могли найти общий язык, Россия и впрямь двинулась в бездорожье; изуродованный труп царя был первым, страшным предупреждением о том, к какой пропасти она бредет, — предостережением, которого почти никто из ратоборцев двух противостоящих лагерей не принял на свой счет.
Юрий Жук Убийство императора Николая II и его семьи
Отречение. Арест
Когда в Петрограде вспыхнули события Февральской смуты, Царская Семья была разделена: Государь, как Верховный Главнокомандующий, находился в то время в Своей Могилёвской Ставке, куда отбыл 8 марта 1917 года. (Здесь и далее все даты указаны по новому стилю.) А Государыня с детьми — в Царском Селе.
На следующий день по прибытии в Ставку, Государь получил две телеграммы от Военного Министра Генерала от Инфантерии М.А. Беляева, в которых сообщалось, что на заводах Петрограда начались забастовки и что среди рабочих растёт недовольство, вызванное нехваткой хлеба, повлёкшее за собой уличные беспорядки. Однако в этих же телеграммах М.А. Беляев сообщал, что серьёзных поводов для беспокойства нет и что данная ситуация находится под полным его контролем.
Но уже 11 марта тот же М.А. Беляев вместе с Командующим Петроградским военным Округом Генерал-Лейтенантом С.С. Хабаловым отправляют новою телеграмму, в которой указывают, что в некоторых воинских частях имеют место случаи применять оружие против рабочих, к которым присоединяется чернь.
В этот же день Председатель Государственной Думы М.В. Родзянко впервые телеграфировал о том, что, вышедшие из подчинения солдаты арестовывают офицеров и переходят на сторону рабочих и черни, для чего в самом срочном порядке необходима переброска в Петроград надёжных частей. А вечером того же дня и утром следующего, тот же М.В. Родзянко сообщал о том, что единственная возможность водворения порядка в столице — издание Государем Высочайшего Манифеста об ответственности министров перед Государственной Думой. Для чего необходимо увольнение в отставку всех министров и сформирование нового кабинета лицом, пользующимся общественным доверием.
12 марта родной брат Государя — Великий Князь Михаил Александрович вызвал к прямому проводу Начальника Штаба Ставки Верховного Главнокомандующего Генерала от Инфантерии М.В. Алексеева, в разговоре с которым подтвердил сообщённые М.В. Родзянко сведения, а также поддержал его предложение о формировании нового кабинета такими лицами, как Председатель Земского союза и Союза городов Князь Г.Е. Львов и М.В. Родзянко.
На основании полученных телеграмм, генерал М.В. Алексеев, по Высочайшему Повелению, разослал телеграммы командующим Западного и Северного фронтов о необходимости приготовления к отправке в Петроград некоторых воинских частей, общее руководство которыми по подавлению мятежа должен был взять на себя Генерал от Инфантерии Н.И. Иванов.
Ранним утром 13 марта Государь отбыл в Царское Село, согласно намеченному маршруту: Могилёв — Орша — Смоленск — Лихославль — Бологое — Тосно. Первым шёл Свитский поезд, а в расстоянии часа езды от него — Царский. По мере продвижения Свитского поезда, находящимся в нём стало известно, что в Петрограде возникла новая власть в лице Временного Комитета Государственной Думы. (10 марта 1917 г. Высочайшим Повелением Государя деятельность Государственной Думы была приостановлена, однако, не желая подчиниться монаршей воле, депутатами этого собрания был образован означенный комитет.) И что именно этим Временным Комитетом ГД было отдано распоряжение направить поезд Государя не в Царское Село, а в Петроград. В связи с этим обстоятельством, Государем было принято решение ехать на Псков, так как узловые пункты Любань и Тосно уже были заняты революционными войсками.
Удачно миновав Псков, Царский Поезд был блокирован на ст. «Дно», где Государь, оказавшись в руках изменников-заговорщиков был вынужден подписать Своё отречение от Престола Государства Российского 15 (2) марта 1917 года, передав Верховную власть Своему брату — Великому Князю Михаилу Александровичу.
Поздно вечером экс-Император возвратился в Могилёв, где 20 марта Им было собственноручно составлено прощальное обращение к Русской Армии.
21 марта в Могилёвскую Ставку прибыли члены Государственной Думы — А.А. Бубликов, В.М. Вершинин, С.Ф. Грибунин, С.А. Калинин. Там их ждали, так как думали, что они прибыли сопровождать экс-Императора в Царское Село. Но когда Государь сел в поезд, ими было объявлено, что он арестован…
В этот же день в Царском Селе состоялся арест Государыни, о котором Ей объявил Командующий войсками Петроградского военного Округа Генерал-Лейтенант Л.Г. Корнилов.
22 марта Государь прибыл в Царское Село, где Его на платформе уже встречал Полковник Е.С. Кобылинский, назначенный генералом Л.Г. Корниловым Комендантом Александровского Дворца, который теперь являлся местом заточения Царской Семьи и их верных слуг.
Вслед за арестом Царской Семьи, Постановлением Временного Правительства от 17 марта 1917 года была учреждена Чрезвычайная Следственная Комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомства, которая, помимо выполнения своей главной задачи, должна была также выяснить, какую непосредственно роль в управлении государственными делами играли Государь, Государыня и «члены её кружка». (Имеется в виду, т. н. «распутинский кружок», то есть кружок почитателей Г.Е. Распутина.)
Будучи арестованными, Государь, Государыня, Их дети и верные слуги теперь пользовались правом свободного передвижения только в пределах Александровского Дворца. А во время прогулок в прилегающем к нему парке должны были пребывать только на специально огороженных для этой цели территориях, находясь под охраной караула, который состоял из солдат бывших Лейб-Гвардии Стрелковых батальонов, дислоцирующихся в Царском Селе.
После прибытия Государя в Царское Село и воссоединения Семьи, всем находящимся при них слугам было объявлено, что они могут быть свободными. Те же, кто пожелают остаться, будут как и Царская Семья находиться на положении арестантов.
К великому сожалению Государя, в первые дни после отречения, его покинули многие из тех, кто был к нему наиболее приближен — Начальник Военно-Походной Канцелярии Е.И.В. Полковник К.А. Нарышкин, Командир Собственного Е.И.В. Конвоя Граф А.Н. Свиты Е.В. Генерал-Майор А.Н. Граббе-Никитин, Флигель-Адъютант Капитан 1-го Ранга Н.П. Саблин, Флигель-Адъютант Полковник А.А. Мордвинов, Флигель-Адъютант герцог Полковник Н.Н. Лейхтенбергский и др.
С другой стороны, остались верными до конца — Гофмаршал Двора Е.И.В. Князь В.А. Долгоруков, Граф И.Л. Татищев, Личная Фрейлина Государыни Графиня А.В. Гендрикова, Лейб-Медик Е.С. Боткин, Камердинер Государыни А.А. Волков, Камер-Юнгфера Государыни А.С. Демидова, Гоф-Лектриса Е.А. Шнейдер, Камердинер Государя Т.И. Чемадуров и многие др.
С самых первых дней Своего ареста Государь полагал, что движимый родственными чувствами и союзническими обязательствами, Его кузен Джорджи (Король Великобритании Георг V) предоставит им временное убежище в своей стране, вплоть до полной стабилизации политической обстановки в России. Однако этого не случилось, так как благодаря лоббированию своего особого мнения по данному вопросу главой британского кабинета министров бароном Д. Ллойд-Джорджем, все благие намерения Английского Королевского Дома были сорваны. Посему Царская Семья выражала надежду, что в довольно скоро будет отправлена в Ливадию, где и переживёт это «смутное время». Причём, в этом Ею были получены самые твёрдые обещания со стороны министра-Председателя А.Ф. Керенского. Но, как показали все дальнейшие события, мечты о любимой Ливадии и Крыме оказались, более чем призрачными…
Проживая в Царском Селе, Августейшая Семья не сидела без дела, а занимаясь различными хозяйственными делами: убирала снег, с целью заготовки дров спиливала засохшие деревья, а с наступлением весеннего тепла работала на огороде, который разбила по собственной инициативе под окнами Александровского Дворца.
До самого последнего момент от Романовых скрывали место Их дальнейшей ссылки. И только 28 июня 1917 года Государь узнал от Обер-Гофмаршала Двора Е.И.В. Графа П.К. Бенкендорфа, что Их «…направляют не в Крым, а в один из дальних губернских городов в трёх или четырёх днях пути на восток!»
Ссылка в Тобольск
Местом нового пребывания Царской Семьи был избран губернский Тобольск, расположенный вдали от центров, бурлящих революционными событиями. И к тому же этот город «славился» тем, что являлся местом ссылки декабристов, а также поляков — участников восстаний за свободу и независимость Польши с 1831 по 1863 годы. Посему официальной власти всегда можно было сказать, что «раньше царь ссылал борцов за народное счастье в Сибирь, а теперь мы сами сослали туда царя!». И только в день отъезда Царская Семья узнала Крестный Путь Ее дальнейшего следования.
Отъезд в Тобольск состоялся в 6 час. 10 мин утра 14 августа 1917 года с Императорского Павильона Царского Села, к которому были поданы два поезда. Первый — непосредственно, для Царской Семьи, сопровождавших Её слуг и 1-й Сводной роты 1-го Гвардейского Царскосельского Стрелкового полка, а второй — для 2-й и 4-й Сводных рот 2-го и 4-го Гвардейского Царскосельского Стрелкового полка, составлявших, т. н. «Отряда Особого назначения по охране бывшего царя и его семьи».
Двигаясь в сторону Тюмени, оба поезда, следовавшие в целях конспирации под японским флагом (как Миссии Красного Креста данного государства), делали небольшие остановки на малых станциях, а более продолжительные для прогулок — в поле.
19 августа прибыли в Тюмень, где Царская Семья и сопровождавшие Её слуги общей численностью около сорока человек, пересели на пароход с символическим названием «Русь», который повёз своих пассажиров в сторону Тобольска: сначала по реке Туре, а затем и Тоболу. Вслед за этим судном плыл буксирный пароход «Кормилец», который тащил за собой баржу с вещами, которые Романовы и Их слуги захватили с собой в изгнание. А на самом буксире ехала большая часть охраны, разместившаяся, по большей части, на палубе.
Прибыв в Тобольск, все с удивлением узнали, что отведённый для Царской Семьи Губернаторский дом, всё ещё не отремонтирован, посему Авгуостейшим Узникам несколько дней пришлось жить на пароходе, совершая длительные прогулки вдоль берега Иртыша.
26 августа 1917 года все ремонтные работы были закончены и арестанты, наконец-то, смогли расселиться по домам. Царская Семья вместе с частью приближённых — в Губернаторском доме, а остальная часть слуг вместе с охраной — в расположенном напротив доме рыбопромышленника В.М. Корнилова.
Первые полтора месяца пребывания Царской Семьи в этом городе были, едва ли не самыми лучшими в период их «тобольской ссылки». Ибо вся власть в то время была сосредоточена в руках Коменданта Александровского Дворца Полковника Е.С. Кобылинского, а местной власти он, в соответствии с полученными от А.Ф. Керенского инструкциями, подчинён не был.
Распорядок дня в Тобольске был такой же, как и в Царском Селе.
8 час. 45 мин — традиционный чай, который Государь всегда пил в Своём кабинете вместе со старшей дочерью — Великой Княжной Ольгой Николаевной.
После чая Он до 11 часов работал, приводя в порядок бумаги, а также заполнял или перечитывал Свои дневники. Затем — физическая работа на воздухе, во время которой экс-Император, как правило, пилил дрова.
В это же самое время Августейшие Дети (кроме В.К. Ольги Николаевны) занимались уроками с часовым перерывом, которые не прекращали, находясь и в ссылке. (В качестве педагогов выступали некоторые из приближённых, а также не желающие оставить семью иностранцы — Пьер Жильяр и Сидней Гиббс.)
В 13 часов был завтрак, после которого Государь и Княжны шли на воздух, где все они также занимались физическими упражнениями в виде заготовки дров. (Несколько позднее к ним присоединялся и Наследник Цесаревич, который по требованию врачей некоторое время отдыхал после завтрака.)
С 16 до 17 часов Государь преподавал Наследнику историю.
В 5 часов подавался чай, после которого Государь снова занимался различными делами в Своём кабинете.
В 20 часов подавался обед, во время которого собиралась не только вся Царская Семья, но и приглашённые к обеду, коими, как правило, были Князь В.А. Долгоруков, Граф И.Л. Татищев, Графиня А.В. Гендрикова, Е.С. Боткин, Е.А. Шнейдер, а также П. Жильяр и С. Гиббс.
Обеды эти стали традиционными, так как во время таковых, не только беседовали, но и проводили время за игрой, а также чтением вслух, что обычно любил делать Государь.
В 23 часа подавался чай, после которого, обычно все расходились отдыхать.
Развлечения, доступные для детей были весьма скромны — физическая работа по пилке и колке дров, качели — летом и ледяная горка — зимой, да ещё, пожалуй, любительские спектакли на английском и французском языках, в которых вся семья и приближённые принимали, как правило, самое живейшее участие.
По сравнению с жизнью под арестом в Царском Селе, пребывание в Тобольске имело некоторое преимущество: Царская Семья и верные слуги имели возможность посещать находящийся поблизости Храм. Всенощные же богослужение совершались прямо в Губернаторском доме, в специально оборудованной для этой цели комнате.
Следует также отметить, что население Тобольска относилось к заключённым с большим участием. Когда народ, проходя мимо дома, видел кого-нибудь из Романовых в окне, он, как правило, снимал шапки, а многие и крестили Августейших Узников. Помимо этого, различными лицами присылалась провизия, в обеспечении и доставке которой большое участие принимал Ивановский женский монастырь, куда Романовы даже одно время собирались перебраться на жительство.
В сентябре 1917 года в Тобольск прибыл назначенный Временным Правительством комиссар В.С. Панкратов вместе со своим помощником эсером А.В. Никольским. Сам В.С. Панкратов был человеком из числа бывших «народовольцев», который за убийство жандарма 15 лет провёл в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, а затем был сослан в Якутию, где пробыл 27 лет.
Характеризуя этих людей на допросе у следователя Н.А. Соколова, Полковник Е.С. Кобылинский показал: «Панкратов был человек умный, развитой, замечательно мягкий. Никольский — грубый, бывший семинарист, лишённый воспитания человек, упрямый как бык: направь его по одному направлению, он и будет ломить, невзирая ни на что».
Однако именно своей мягкостью и призрачными идеями «Народной воли» В.С. Панкратов постепенно расхолаживал солдат охраны, проводя с ними регулярные «душещипательные беседы», которые в конечном итоге привели к тому, что 9 февраля 1918 года, «обольшевичевшиеся в громадной массе» солдаты охраны, попросту выгнали обоих.
Маршрут последний: Тобольск — Екатеринбург
Начиная с апреля 1918 года, Президиум Исполкома Уральского Областного Совета начинает разворачивать активную кампанию по переводу Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург, в которую, с не меньшей энергией включается и центральная власть в лице Председателя ВЦИК Я.М. Свердлова.
Для доставки Августейших Узников в столицу Красного Урала, в Тобольск направляется московский посланец — известный уфимский боевик В.В. Яковлев (К.А. Мячин), который на время выполнения этого ответственного задания наделяется полномочиями Чрезвычайного Комиссара ВЦИК.
Необходимость в миссии комиссара В.В. Яковлева объяснялась, в первую очередь, тем, что между находящимися в Тобольске представителями Уральского и Западно-Сибирского Совдепов, их вооружёнными отрядами, а также «Сводным Гвардейским Отрядом по охране бывшего царя и его семьи» возникли серьёзные противоречия, которые в любой момент могли вылиться в вооружённое столкновение.
Прибыв в Тобольск вместе со своим отрядом 22 апреля 1918 года, В.В. Яковлев сумел быстро разобраться в причинах возникшего конфликта, а также понять всю серьёзность создавшегося положения.
Назначив отъезд на 26 апреля, он решает вывезти лишь троих членов Царской Семьи — Государя, Государыню и Великую Княжну Марию Николаевну, а остальных (в виду болезни Наследника Цесаревича) временно оставить в Тобольске, чтобы потом, с открытием весенней навигации, осуществить их дальнейший переезд. Решено было также, что сопровождать в дороге Августейших Особ будут Князь В.А. Долгоруков, доктор Е.С. Боткин, А.С. Демидова, Т.И. Чемадуров и И.Д. Седнев.
Приняв необходимые меры безопасности в пути следования (В.В. Яковлев был своевременно предупреждён, что во время этого переезда на членов Царской Семьи готовится покушение, а в случае помехи в этом с его — В.В. Яковлева стороны, — то и на него самого), он к вечеру 27 апреля доставляет Романовых в Тюмень, где их уже ожидает специальный Литерный поезд под № 42.
По прибытии в этот город, В.В. Яковлев почти сразу же идёт на телеграф и связывается с Я.М. Свердловым. Обрисовав вкратце ситуацию, он сообщает ему о единственном желании представителей Урала — покончить с «багажом» (так на условном языке именовалась Царская Семья), а также предлагает спрятать Её в Симском Горном Округе (горах Южного Урала).
Заручившись добром Председателя ВЦИК, В.В. Яковлев направляет свой поезд в сторону Омска, чтобы оттуда проследовать на Уфу.
Но об этих его действиях тут же стало известно членам Исполкома Уральского Облсовета, которые усмотрели в этом поступке посланца ВЦИК прямую «измену революции», посему в течение всего дня 28 апреля, вожди Красного Урала не отходили от телеграфа.
Разослав во все концы телеграммы о «преступном замысле В.В. Яковлева», а также потребовав от всех революционных организаций принять меры по задержанию его поезда, они выходят на связь с В.И. Лениным и Я.М. Свердловым, от которых требуют самых решительных действий, чтобы не допустить каких бы то ни было изменений маршрута следования. Требуют отдать немедленно распоряжение о направлении поезда В.В. Яковлева в Екатеринбург.
Не доезжая до Омска, В.В. Яковлев, оставил свой поезд в районе ст. «Куломзино», а сам, отцепив паровоз, прибыл на нем в Омск, ближе к полуночи 28 апреля, где, сам того не ожидая, встретился со своим давним товарищем В.М. Косаревым — Председателем Западно-Сибирского Совдепа. Выяснив и оговорив с ним все возникшие по вине уральцев недоразумения, они вместе проследовали на телеграф, откуда снеслись со Я.М. Свердловым.
На этот раз, Я.М. Свердлов приказывает В.В. Яковлеву остановить продвижение «царского поезда» в сторону Уфы и следовать в соответствии с изначально оговорённым вариантом маршрута на Екатеринбург.
Тем временем, по распоряжению Председателя Президиума Исполкома Уральского Облсовета А.Г. Белобородова, для встречи В.В. Яковлева и его отряда, был подготовлен специальный поезд, под командованием Инструктора Уральского Областного Военного Комиссариата С.С. Заславского, отряду которого днями ранее было поручено уничтожить Царскую Семью во время Её следования на Тюмень. (Именно С.С. Заславский и его люди должны были встретить поезд В.В. Яковлева в Тюмени, чтобы там получить из его рук, следовавший вместе с ним «багаж».)
Прибыв снова в Тюмень и встретившись там с С.С. Заславским, В.В. Яковлев в самой категоричной форме отказал ему в передаче кого бы то ни было из членов Царской Семьи и сопровождавших Её лиц. Однако он всё же согласился увеличить состав охраны Романовых за счёт 60-ти человек из отряда С.С. Заславского.
Уведомив об этом телеграфно представителей Исполкома Уральского Совдепа, В.В. Яковлев направил свой поезд на Екатеринбург (поезд с отрядом С.С. Заславского сопровождал его следом), в который и прибыл 17 (30) апреля в 8 час. 40 мин. утра по местному времени.
Передав членов Царской Семьи и прибывших с Ними лиц представителям Президиума Исполкома Уральского Совдепа и получив в том расписку за подписью А.Е Белобородова и Б.В. Дидковского, В.В. Яковлев вечером этого же дня «держал ответ за свои действия» перед членами Исполкома Уральского Облсовета. Дискуссия была жаркой, но, в конце концов, обвинение его в контрреволюционности было снято, после чего он отбыл в Уфу, откуда через несколько дней выехал в Москву, где полностью отчитался перед Я.М. Свердловым о ходе выполненной им миссии.
Дом инженера Н.Н. Ипатьева
Перевезённую часть Царской Семьи было решено разместить в доме инженера Н.Н. Ипатьева, принадлежавшего ему на правах собственности.
27 апреля 1918 года в него явился Уральский Областной Комиссар Жилищ А.Н. Жилинский и член Уральского Облсовета П.М. Быков, которые объявили Н.Н. Ипатьеву, что, начиная с 29 апреля, его дом будет занят для «нужд Совета».
Немало подивившись сказанному, Н.Н. Ипатьев, видимо, поначалу, растерялся. Ибо, будучи знакомым с большинством уральских вождей, он считал свою персону, в некотором роде, неприкасаемой. Поэтому, не найдя ничего иного спросил, может ли он рассчитывать на целостность вещей… В свою очередь, А.Н. Жилинский и П.М. Быков пояснили, что в его дом будут заселены такие жильцы, «которые вещей не испортят»…
На следующий день Н.Н. Ипатьеву было вручено предписание Комиссара Жилищ Екатеринбурга Е. Коковина, в соответствии с которым он должен был освободить дом к 15 часам указанного Дня.
Так как в распоряжении Н.Н. Ипатьева было слишком мало времени, он успел вывезти из дома лишь малую часть принадлежавшего ему имущества. Всему же остальному, остававшемуся в доме имуществу, в присутствии Н.Н. Ипатьева и двух прибывших на его квартиру ответственных лиц — Товарища Председателя Екатеринбургского Исполнительного Комитета Р.Ф. Загвозкина и члена Уральского Областного Совета П.М. Быкова была составлена соответствующая опись. (Переписав оное, Р.Ф. Загвозкин и П.М. Быков выдали Н.Н. Ипатьеву соответствующий документ, именуемый, как «Опись имущества оставленного в доме Н.Н. Ипатьева на Вознесенском просп. За № 49/9 и принятого на хранение Исполнит. Комитета Екатеринбургского] Совета Рабоч. [их] и Солдат[ских] Депутатов», предварительно скрепив таковой своими подписями.)
Определившись с местом содержания будущих узников, комиссар А.Н. Жилинский распорядился сделать копию его поэтажного плана, которая позже была представлена в Исполком Уральского Областного Совета, где хранилась в специальной папке под названием «О жильцах дома Ипатьева», содержавшей различную документацию, относительно членов Царской Семьи и находящихся вместе с Ней слуг.
В этот же день около дома Ипатьева были начаты строительные работы, в которых было задействовано около ста человек и большое количество лошадей. Все эти люди участвовали в строительстве дощатого забора, располагавшегося вдоль большей части фасада дома и его южной стены, до начала имеющейся садовой ограды.
Таким образом, вход в дом Ипатьева со стороны Вознесенского переулка, оказался за забором, а его парадный вход находился в непосредственной близости от построенного забора.
Начиная с 15 час. 00 мин. 29 апреля 1918 года по местному времени, дом инженера Н.Н. Ипатьева перешёл под полный контроль Президиума Исполкома Уральского Областного Совета и с этого момента начал именоваться, как Дом Особого назначения, или сокращённо — ДОН.
Под арестом в ДОН (первые дни)
В дом Ипатьева Августейшие Узники и их верные слуги были доставлены на двух автомобилях, которыми управляли шофёры Н.А. Самохвалов и Полузадов. А в качестве сопровождающих лиц, вместе с Ними к ДОН прибыли А.Г. Белобородов, Б.В. Дидковский и А.Д. Авдеев, назначенный впоследствии комендантом Дома Особого назначения. После того, как автомобили остановились у дома Ипатьева, рядом с ним постепенно начала собираться толпа любопытных, желающих посмотреть на арестованного Государя, которая по свидетельству А.Н. Жилинского, к 11 часам дня выросла до полутора тысяч человек.
По свидетельству упомянутого выше П.Т. Самохвалова, всем делом там «заправлял» Ф.И. Секретарь Уральского Обкома РКП (б) и член Президиума Исполкома Уральского Облсовета Ф.И. Голощёкин. Так, будучи допрошенным следователем Н.А. Соколовым, П.Т. Самохвалов в частности, показал:
«Опять мы поехали к тому самому дому, обнесенному забором, про который я уже говорил. Командовал здесь всем делом Голощекин. Когда мы подъехали к дому, Голощекин сказал ГОСУДАРЮ: «Гражданин Романов, можете войти». Государь прошел в дом. Таким же порядком Голощекин пропустил в дом ГОСУДАРЫНЮ и Княжну и сколько-то человек прислуги, среди которых, как мне помнится, была одна женщина. (А.С. Демидова — Ю.Ж.) В числе прибывших был один генерал. (Князь В.А. Долгоруков. — Ю.Ж.) Голощекин спросил его имя, и, когда тот себя назвал, он объявил ему, что он будет отправлен в тюрьму. Я не помню, как себя назвал генерал. Тут же, в автомобиле Полузадова, он и был отправлен. (…)
Когда ГОСУДАРЬ был привезен к дому, около дома стал собираться народ. Я помню, Голощекин кричал: «Чрезвычайка, чего вы смотрите?» Народ был разогнан».
А вот как запомнилось заселение Царской Семьи в ДОН А.Н. Жилинскому, рассказавшему об этом на «Совещании Старых Большевиков по вопросу пребывания Романовых на Урале» 1 февраля 1934 года:
«Начался момент их привоза. Приехали и осмотрели дом: Филипп (Ф.И. Голощёкин. — Ю.Ж.), Белобородов, Дидковский, Чуцкаев. Все нашли подходящим, сдали под охрану Родионову, который убит при Невьянском восстании. (…) Когда подошла машина, Родионов принимает ее на парадном крыльце, просит войти. Начинает обыскивать ее (Государыню. — Ю.Ж.), она начинает протестовать и говорит, что у нее здесь медикаменты, которые знает доктор Боткин и которые не подлежат осмотру со стороны мужчины. Родионов заявляет: «Я начальник караула и должен знать все, что есть у вверенных мне под охрану людей.
Александра начинает сильнейшим образом возмущаться, а Николай говорит: «Да, видимо я был некоторое время среди людей». Филипп делает такое замечание: «Гражданин Романов, если позволите себе выражаться в таком виде, мы немедленно Вас отправим в тюрьму». Николай удивленно спрашивает: «В тюрьму?» Филипп отвечает: «Да, в Ваш дом, который Вы построили». У Николая вид был чрезвычайно жалкий. Эту машину обыскали и отправили. Подходит вторая машина, в которой Боткин и князь… Первый выходит князь и хочет, чтобы его обыскали. Филипп говорит: «Вы отойдите налево». — Почему? «Вы поедете в другое караульное помещение». — В какое? «В тюрьму», — прямо режет Филипп. Боткин смутился и спрашивает: «Мне куда, направо или налево?» Филипп говорит: «Вы — прямо».
Убедившись, в том, что Августейшие Узники не выдвигают каких-либо жалоб, А.Г. Белобородов и Ф.И. Голощёкин уехали (вероятнее всего, вместе с ними уехал и Н. Родионов), поручив дальнейшую заботу о Царской Семье членам Исполкома Уральского Облсовета Б.В. Дидковскому и А.Д. Авдееву. (Б.В. Дидковский в этот день был дежурным от Исполкома Облсовета.)
Сразу же после их отъезда, Б.В. Дидковский и А.Д. Авдеев приступили к самому тщательному обыску личных вещей Царской Семьи.
Этот инцидент просто не мог не найти своего отражения в дневнике Государя, который, что называется, по горячим следам, так описал произошедшее:
«Долго не могли раскладывать своих вещей, так как комиссар, комендант и караульный офицер все не успевали приступить к осмотру сундуков. А осмотр потом был подобный таможенному, такой строгий, вплоть до последнего пузырька походной аптечки Алике. Это меня взорвало, и я резко высказал свое мнение комиссару».
Краткие дневниковые записи Государя существенно добавляют показания Его личного камердинера Т.И. Чемадурова.
Из Протокола допроса Т.И. Чемадурова 15–16 августа 1918 года:
«Как только Государь, Государыня и Мария Николаевна прибыли в дом, их тотчас же подвергли тщательному и грубому обыску; обыск производил некий Б.В. Дидковский и Авдеев — комендант дома, послужившего местом заключения. Один из производивших обыск выхватил ридикюль из рук Государыни и вызвал этим замечание государя: «До сих пор я имел дело с честными и порядочными людьми». На это замечание Дидковский резко ответил: «Прошу не забывать, что Вы здесь находитесь под следствием и арестом!».
Из Дневника Е.И.В. Государя Императора Николая II Александровича:
«17 апреля. Вторник.
(…) Дом хороший, чистый. Нам были отведены четыре большие комнаты: спальня угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик и с видом на низменную часть города, и, наконец, просторная зала с аркою без дверей. (…) К 9 час., наконец, устроились. Обедали в 4 ½ из гостиницы, а после приборки закусили чаем.
Разместились след.[ующим] образом: Алике, Мария и я втроем в спальне, уборная — общая, в столовой — Н. Демидова, в зале — Боткин, Чемодуров и Седнев. Около подъезда комната кар. Офицера. Караул помещался в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную и WC, нужно было проходить мимо часового у дверей кар. Помещения. Вокруг дома построен очень высокий дощатый забор в двух саженях от окон; там стояла цепь часовых, в садике тоже».
Таким образом, «заселившиеся» в дом Ипатьева «жильцы» на 17 (30) апреля 1918 года, распределились по комнатам следующим образом:
Комната VII (зал) — Е.С. Боткин, Т.И. Чемадуров и И.Д. Седнев;
Комната VIII (гостиная) — не занята;
Комната IX (столовая) — А.С. Демидова;
Комната X (гардеробная) — Великая Княжна Мария Николаевна;
Комната XIII (спальня) — Государь Император Николай II Александрович, Государыня Императрица Александра Фёдоровна.
Первое возникшее неудобство, с которым пришлось столкнуться Августейшим Узникам и Их слугам на новом месте, заключалось в неисправности водопровода, что в свою очередь исключало нормальную работу всей системы канализации. Но для Царской Семьи подобная ситуация была не нова: в первые дни Её пребывания в Тобольске, работа водопроводной системы Губернаторского дома также оставляла желать лучшего…
Комендант А.Д. Авдеев и Караульная Команда ДОН
Первым Комендантом ДОН был назначен член Исполкома Уральского Облсовета А.Д. Авдеев, можно сказать, выслужившим эту должность участием в «тобольской эпопее», связанной с перевозкой первой части Царской Семьи в Екатеринбург.
Александр Дмитриевич АВДЕЕВ (1887–1947) происходил из семьи потомственного старателя, проработавшего на золотоносных шахтах Урала, более 35 лет. Свою трудовую жизнь он начал с 9 лет, так как в их семье было шестеро детей и заработка отца явно не хватало для того, чтобы прокормить такую большую семью. Окончив в 11 лет начальную школу при прииске, он стал трудиться на подземных разработках золота, выполняя сначала посильную его возрасту работу, а затем работая забойщиком, откатчиком, молотобойцем, кочегаром или слесарем.
Ещё в юношеском возрасте Александр Авдеев попал под влияние социал-демократической пропаганды. А пользуясь тем, что он хорошо знал казахский язык, а также обычаи местного казахского населения, местные большевики зачастую прибегали к его помощи, пряча нелегальную литературу в казахских юртах. В 1912 году он становится членом РСДРП и уже в следующем году выступает одним из организаторов забастовки на прииске Канадка, которая, тем не менее, не получила особой поддержки в рабочей среде и поэтому не нанесла, сколько-нибудь, значительного ущерба производству. В силу этих обстоятельств, её организаторов просто уволили, а наиболее активных (в том числе и А.Д. Авдеева) рассчитали с «волчьим билетом», лишавшим возможности дальнейшего трудоустройства на золотые прииски. С этого момента А.Д. Авдеев, скрываясь от полицейского надзора, переходит на нелегальное положение. В годы Первой мировой войны Авдеев попадает по мобилизации на Исетский металлический завод (братьев Злоказовых), изготовляющий для фронта болванки 6-ти дюймовых артиллерийских снарядов. На этом предприятии он оказался, что называется, в своей среде. И буквально с первых дней работы, уже возглавляет заводскую группу большевиков, бывший руководитель которой С. Устинов незадолго до его приезда был арестован.
С началом событий Февральской смуты А.Д. Авдеев становится во главе Профсоюзного Комитета этого предприятия, а в апреле 1917 года избирается делегатом Екатеринбургского Совета, а также членом Екатеринбургского Городского Бюро Профсоюза Металлистов и Военной Секции Екатеринбургского Комитета РСДРП (б).
Примерно в это же самое время из рабочих завода был создан отрад Красной Гвардии, получивший название «Красная Гвардия 3-го Района рабочих завода Злоказовых», который к моменту Октябрьского переворота, насчитывал около 200 человек. Командиром этого красногвардейского отряда был также выбран А.Д. Авдеев. Он же стал и комиссаром завода и руководителем Комиссии Рабочего Контроля. А после того, как его отряд разросся до 500 человек, он становится членом Центрального Штаба Красной Гвардии гор. Екатеринбурга, отряды которого с беспредельной жестокостью подавляли любое сопротивление большевикам в близлежащей округе.
В марте 1917 года вскоре по прибытии из Петрограда, А.Д. Авдеев был приглашён к Ф.И. Голощёкину, от которого получил особое задание, предписывающее ему незамедлительно выехать в Тобольск, предварительно подобрав себе в помощь группу «надёжных товарищей». (Вместе с ним туда же были также направлены Уполномоченный ВЦИК матрос-балтиец П.Д. Хохряков и С.С. Заславский — большевик, присланный на Урал ЦК РСДРП (б), бывший токарь, избранный Председателем Надеждинского Совдепа.)
Специфика этого задания заключалась в ознакомлении с условиями содержания Царственных Узников, режимом Их охраны, политическими настроениями солдат «Сводного Гвардейского отряда по охране бывшего царя и его семьи», а также и военнослужащих Тобольского гарнизона, а также проникновении под любым предлогом на строго охраняемую территорию губернаторского дома, чтобы лично убедиться в очевидности проживания там Августейших Особ. А далее, опираясь на группу местных большевиков, все упомянутые лица должны были способствовать скорейшему переводу Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург, что, собственно говоря, и произошло, по прибытии туда Чрезвычайного Комиссара ВЦИК В.В. Яковлева.
Накануне вселения в ДОН Царской Семьи, уральскими властями была продумана система его охраны, которая подразделялась на наружный и внутренний караулы.
С самого начала наружный караул ДОН имел 6 сменных наружных постов, службу на которых несли различные воинские команды города, назначаемые в караул. (Подробное описание этим постам дал Н.А. Соколов в своей книге «Убийство Царской Семьи».)
В свою очередь, кадры внутренней охраны ДОН были подобраны лично самим комендантом А.Д. Авдеевым из числа рабочих завода братьев Злоказовых — людей, безусловно, хорошо знакомых большинство — из них помогало ему во время «тобольской эпопеи». Но, как оказалось в действительности, все эти «проверенные товарищи» на деле были не идейными борцами за дело революции, а самыми заурядными ее попутчиками, склонными к обычной уголовщине. Но, что самое худшее — нечистыми на руку, за что большая их часть с вступлением в должность коменданта Я.М. Юровского была уволена за кражи или другие вопиющие проступки дисциплинарного характера.
Постепенно общее число приближенных к А.Д. Авдееву лиц достигло 19 человек — этот список в своей книге приводит Н.А. Соколов. Однако неверным будет думать, что все они находились в ДОН в одно время.
Непосредственно в несении караульной службы на двух имеющихся в ДОН внутренних постах (тогда ещё не имевших нумерации) было задействовано 12 человек. А все остальные прибывали и находились в доме в разное время. Так, к примеру, А.М. Мошкин стал Помощником коменданта ДОН лишь с 10 мая 1918 года, А.А. Бабич — с 11 мая, а В.П. Логинов и И. Крашенинников были назначены на свои должности лишь с 21 мая. С.И. Люханов и вовсе не был задействован в службе, так как постоянно выполнял различные поручения А.Д. Авдеева, являясь, по сути, его личным шофёром.
Первый из упомянутых постов располагался сразу же за входной дверью парадного входа в особняк, а второй — в коридорчике верхнего этажа дома, из которого можно было проследовать в туалет или ванную, а также спуститься вниз по лестнице, ведущей на нижний этаж и во двор дома.
Надо сказать, что эти 12 человек находились всего на двух постах, так как непосредственно в самом ДОН имелись два пулемётных поста, службу на которых несли пулемётчики из числа лиц наружного караула. Эти 12 человек заступали на свои посты всего лишь раз в сутки на одну смену, продолжительностью в четыре часа. А остальное время — спали или бодрствовали.
В качестве комендантской комнаты А.Д. Авдеевым был использован бывший кабинет Н.Н. Ипатьева, в котором он пребывал большую часть светлого времени суток. На ночь — уходил домой, оставляя за себя кого-нибудь из помощников (К.И. Украинцева, А.М. Мошкина или А.А Бабича). Но бывало и так, что А.Д. Авдеев, как член Делового Совета завода братьев Злоказовых, часто отлучался по делам и днём. И тогда полновластным хозяином в доме становился кто-нибудь из дежурных комендантов.
А теперь прервём на время наш рассказ о внутреннем карауле и вновь обратим свои взоры к караулу наружному, изначальный состав которого не вызывал особого доверия у вождей «Красного Урала». В свою очередь, наиболее пролетаризованными с их точки зрения являлись рабочие расположенного рядом с Екатеринбургом Сысертского завода и находящегося в городской черте бывшего Завода братьев Злоказовых, из рабочих которого, как помнит читатель, уже были набраны кадры внутренней охраны ДОН.
С этой целью, по личному распоряжению Ф.И. Голощёкина, член Уральского Обкома РКП (б) С.В. Мрачковский в середине мая 1918 года приезжает в Сысерть, где начинает вести агитацию среди возвратившихся с Дутовского фронта местных рабочих-красногвардейцев, призывая, «наиболее сознательных из них» вступать в «караульную команду по охране бывшего царя».
Так, будучи допрошенным в ходе следствия, один из бывших охранников Ф.П. Проскуряков показал: «Запись происходила в доме Василия Еркова на Церковной улице, где помещался Совдеп. Ее принимал наш сысертский рабочий Павел Спиридонов Медведев. (…) Медведев сказал мне, что жалованья охране будут платить 400 рублей в месяц, что надо будет стоять на посту и не спать. Вот только эти условия он мне и сказал. Я тут же и записался».
В деле подбора кадров для наружной охраны ДОН, правой рукой С.В. Мрачковского был П.С. Медведев, который занимался непосредственным подбором кадра «Караульной команды по охране бывшего царя» из сысертских рабочих, в которую поначалу записалось 29 человек.
19 мая 1918 года все эти люди вместе с С.В. Мрачковским прибыли в Екатеринбург, где поначалу были размещены в здании Гостиного двора.
Несколько дней будущие караульные прожили, можно сказать, ничего не делая, так как, на следующий день после их прибытия в караул по охране ДОН заступила Особая караульно-конвойная команда под командованием Закиса. А, кроме того, всех прибывших сысертцев надо было ещё вооружить и обмундировать, что также требовало времени. А между тем, его-то как раз и не было, так как, буквально, днями из Тобольска в Екатеринбург выехала остававшаяся там часть Царской Семьи, которую после того как все Её члены соберутся вместе в доме Ипатьева, следовало охранять, уже этим «надёжным подразделением».
Наконец, к 23 мая 1918 года, когда все упомянутые предварительные приготовления были уже произведены, с участием будущих караульных провели общее собрание, на котором, вероятнее всего, присутствовал А.Д. Авдеев и которое посетил А.Г. Белобородов, выступивший перед собравшимися с напутственной речью.
Таким образом, 24 мая 1918 года отряд сысертских рабочих-красногвардейцев сменил бойцов Особой караульно-конвойной команды, заняв их место в комнатах нижнего этажа дома Ипатьева.
Первые сутки дежурств не показались прибывшим в ДОН сысертцам тяжелыми. Но по прошествии нескольких дней, когда пошли проливные дожди, караульная служба уже не стала казаться им такой лёгкой, как в начале. И «наиболее сознательные товарищи» заскулили…
Поэтому А.Д. Авдеевым было принято решение об увеличении количественного состава наружного караула на 10–15 человек.
30 мая 1918 года, за подписью Зам. Начальника Центрального Штаба Красной Гвардии гор. Екатеринбурга и члена Исполкома Уральского Облсовета К.И. Украинцева, в Штаб Красной Гвардии Злоказовского завода приходит бумага требующая предоставить для охраны Дома Особого назначения ещё десять человек рабочих-красногвардейцев. Судя по всему, в этот же день на завод на своём «личном автомобиле» приезжает и А.Д. Авдеев, где выступает на митинге среди местных рабочих, агитируя их записаться в «охрану царя». Однако, помимо набора общих трескучих и ничего не значащих фраз о «мировой революции», главным тезисом его выступления по-прежнему является «замануха» в виде посулов высокой заработной платы, бесплатного питания и обмундирования, а также обещание «показать царя».
И, разумеется, добровольцы не заставили себя ждать. Сразу после митинга в Караульную команду ДОН записалось ещё десять человек:
А через пять дней Караульная команда ДОН выросла ещё на 7 человек, всего оказалось в ней 47 караульных, не считая самого коменданта и двух его помощников.
Первое время вся наружная охрана размещалась в комнатах нижнего этажа дома Ипатьева. Причём, сысертские рабочие занимали две комнаты, а злоказовские — одну. Однако с пришествием в наружную охрану ДОН такого количества людей, число которых колебалось в разное время от 45 до 50 человек возникла проблема с их расселением — разместить так много народа в комнатах нижнего этажа дома Ипатьева было уже невозможно. Но выход нашёлся, и вскоре все сысертские красногвардейцы были переселены в строение, принадлежавшее домовладельцу В.Е. Попову, расположенное в Вознесенском переулке.
После того, как штат охраны был окончательно укомплектован, изменился и табель постам, насчитывающий уже 10 наружных и 10 внутренних постов.
А в довершение к этому, к большинству наружных постов ДОН были проведены провода звонковой сигнализации. То есть, в случае тревоги любой из часовых, посредством звонковой трели, мог подать в комендантскую комнату условный сигнал.
Помимо установленных средств местной и городской связи, порядок службы в ДОН и общения с заключёнными в нем лицами должен был осуществляться в строгом соответствии с должностными инструкциями, разработанными, скорее всего, к началу мая 1918 года.
Всего же таковых было семь:
1. Инструкция коменданту «дома особого назначения», служащего местом заключения бывшего царя Николая Романова и его семьи.
2. Инструкция: «Пропуск к заключённым посторонних лиц».
3. Инструкция: «Обращение с заключёнными».
4. Инструкция: «Переписка».
5. Инструкция: «Прогулки».
6. Инструкция: команде «дома особого назначения» по охране царской семьи.
7. Инструкция: «Режим».
А ещё в комнате коменданта находилась «Книга записей дежурств Членов Отряда особого назначения по охране Николая II», первая запись в которой была сделана 13 мая 1918 года.
Но, несмотря на все эти мероприятия, порядок и качество несения службы оставался крайне низким, так большинство красногвардейцев не только впервые столкнулось с этой, так сказать, «полувоенной службой», но и вовсе не умело обращаться с вверенным им оружием, в силу чего периодически происходили непроизвольные выстрелы и даже взрыв гранаты, к счастью, не приведший к жертвам.
Августейшие Узники и Их слуги (с 30 апреля по 23 мая 1918 г.)
Первое время, порядок содержания в ДОН Царской Семьи не регламентировался каким-либо специальным документом, в силу чего, он с самых первых дней был очень похож на привычный для Неё ритм жизни.
В середине мая 1918 года были разработаны инструкции, наименования которых упоминались в предыдущей главе. Была среди них, как помнит читатель, и инструкция «Режим», однако каких-либо указаний по поводу распорядка дня содержащихся в ДОН Августейших Узников она не регламентировала, посему таковой оставался прежний, установившийся с годами.
Таким образом, опираясь на показания Камердинера Государя Т.И. Чемадурова, можно сказать, что он выглядел следующим образом:
Подъем — 9.00
Утренний туалет — 9.00–10.00
Утренний чай — 10.00–11.00
Занятия по интересам — 11.00–14.00
Обед —14.00–15.00
Прогулка — 15.00 (16.00) — 16.00 (17.00)
Чай — 17.00–18.00
Занятия по интересам — 18.00–20.00
Ужин —20.00–21.00
Занятия по интересам — 21.00–23.00
Отход ко сну — 23.00
Таким образом, если вычесть время сна, принятия пищи и прогулок, то на «занятия по интересам» у Царской Семьи оставалось, никак не мене восьми часов.
Но об этом, немного ниже.
Каждый день к 9 часам утра в ДОН прибывал А.Д. Авдеев, который выслушивал доклад своего дежурившего в ночь помощника, после чего давал соответствующие указания.
После того, как Августейшие Узники и Их слуги вставали, совершали свой утренний туалет и готовились к завтраку, наступало время суточной смены караула и караульных начальников, происходившее обычно в 10 часов утра.
Ближе к 11, когда все узники уже успевали выпить свой утренний чай, а сменяющийся начальник караула в присутствии коменданта и его помощника, проходил в занимаемые арестованными комнаты и «предъявлял наличие таковых» вновь заступавшему на смену и всем, присутствующим при этом должностным лицам.
Затем, комендант и его помощник выслушивали жалобы и просьбы, содержавшихся под арестом лиц (если таковые имелись), после чего удалялись.
Из воспоминаний А.Д. Авдеева:
«Распорядок дня у арестованных был таков: вставали в 9 часов утра и в 10 часов пили чай, после окончания, которого производилась проверка, состоявшая в том, что комендант обходил комнаты, проверяя наличность заключенных.
На прогулку им полагалось 2 часа, причем они могли пользоваться ими по своему усмотрению, — иногда они гуляли по часу утром и до обеда. Завтрак был в 1 час дня и в 4–5 часов обед, в 7 часов чай, в 9 часов ужин. В 11 часов ложились спать. Между едой бывш. царь иногда читал Алексея Толстого, играл с дочерьми в карты или же беспрерывно ходил по столовой, напевая вполголоса военные марши и солдатские песни».
Однако то, что пишет А.Д. Авдеев, не всегда соответствовало действительности.
К примеру, в инструкции «Прогулки» ничего не было сказано о времени таковых, посему их длительность, порой, зависела, исключительно… от настроения А.Д. Авдеева и порой вместо двух часов доходила до 5 минут.
Ничуть не лучше, поначалу, обстояло дело и с питанием Августейших Узников и Их слуг.
Но этот вопрос — вопрос непростой, который требует особого рассмотрения, так как в большинстве источников, в которых он поднимался, имелась непременная ссылка на показания Т.И. Чемадурова, пояснившего на следствии:
«День проходил обычно так: утром вся семья пила чай — к чаю подавался черный хлеб, оставшийся от вчерашнего дня; часа в 2 — обеду который присылали уже готовым из местного Совета Р.Д.; обед состоял из мясного супа и жаркого, на второе чаще всего подавались котлеты.
Так как ни столового белья, ни столового сервиза с собой мы не взяли, а здесь нам ничего не выдали, то обедали на не покрытом скатертью столе; тарелки и вообще сервировка стола была крайне бедная; за стол садились все вместе, согласно приказанию Государя; случалось, что на семь человек обедающих подавалось только пять ложек.
К ужину подавались те же блюда, что и к обеду».
Такое безобразие с питанием для узников продолжалось вплоть до 11 мая 1918 года. То есть, до того дня, когда Товарищ Председателя Президиума Исполкома Екатеринбургского Городского Совета Р.Ф. Загвозкин, отвечавший за питание и бытовые условия арестованных, не написал на имя Уральского Областного Комиссара Продовольствия П.Л. Войкова отношение за № 2157, в котором попросил выдать продовольственные карточки на семь человек «жильцов дома Ипатьева».
Однако узники, устав от задержек с обедами и ужинами (начиная с 3 мая 1918 года), в дополнение к приносимой им «казённой» пище, решили закупать дополнительные продукты в магазинах города и на рынке. А с «заселением» в ДОН царского повара И.М. Харитонова стали делать это регулярно, постепенно перейдя на самостоятельное приготовление пищи.
Из воспоминаний П. Жильяра: «Про Чемодурова я могу сказать следующее. (…) Со мной он был откровенен. Он называл мне Авдеева, как главное лицо в доме Ипатьева. Он говорил, что Авдеев относился к семье отвратительно. Я точно и хорошо помню следующие случаи, о которых он рассказывал. Чемодуров говорил, что вместе с царской семьей за одним столом обедали и прислуга и большевистские комиссары, которые находились в доме. Однажды Авдеев, присутствуя за таким обедом, сидел в фуражке, без кителя, куря папиросу. Когда ели битки, он взял свою тарелку и, протянув руку между Их Величествами, стал брать в свою тарелку битки. Положив их на тарелку, он согнул локоть и ударил локтем Государя в лицо. Я передаю Вам точно слова Чемодурова».
А если так вёл себя комендант, то, что тогда можно было спрашивать с остальных, подчинённых ему людей?
Поэтому, чтобы там не говорили о дисциплине и бдительности красногвардейцев, охранявших Царскую Семью в доме Ипатьева, картину совершенно противоположную воссоздают оставленные ими на стенах дома и других местах надписи скабрёзного содержания, скрупулёзно зафиксированные впоследствии следователем Н.А. Соколовым в протоколе дополнительного осмотра дома Ипатьева.
Глядя на коменданта, соответствующим образом вела себя и команда.
Ещё одним испытанием для Царской Семьи стал продолжавшийся несколько дней досмотр и разбор принадлежавших Ей личных вещей, находившихся в многочисленных сундуках, сложенных в бывшем каретном сарае дома Ипатьева. Первое время все ключи от таковых, снабжённые бирками с номерами (точно такие же бирки с номерами были и на самих сундуках) находились у непосредственных владельцев, а затем по распоряжению С.Е. Чуцкаева были изъяты комендантом А.Д. Авдеевым. Однако этот, почти свободный доступ к вещам Царской Семьи был хорошим соблазном для лиц охраны, которые, беря пример с А.Д. Авдеева и его личного шофёра С.И. Люханова, стали постепенно подворовывать: сначала понемногу, а затем все больше и больше.
А уж сколько вещей было украдено из дома Ипатьева лишь некоторыми лицами караула, видно из описей, в многочисленных пунктах которых, числились сотни изъятых предметов. Описей, представленных к следствию Генерал-Лейтенантом М.К. Дитерихсом, и занесённых в протокол, составленный следователем Н.А. Соколовым.
Не меньшей неприятностью для заключённых в доме лиц было событие, которое произошло 15 (2) мая 1918 года — вдруг окна в комнатах были закрашены известкой и погрузились в туман. А в своём радении, выполнявший эту работу маляр, сам того не подозревая, лишил бывшую Императрицу даже такой маленькой радости, как ежедневное наблюдение за уличной температурой, которую она всякий раз отмечала в Своём дневнике.
Подлинным и единственным настоящим утешением Царской Семьи были церковные службы, которые совершались в доме Ипатьева, приходившими священниками. Ибо почти сразу же «по заселении» в ДОН, доктор Е.С. Боткин обратился с просьбой к коменданту А.Д. Авдееву, чтобы тот пригласил священника. Об этой просьбе А.Д. Авдеев доложил в Уралсовет, откуда вскоре было получено разрешение, однако лишь с тем условием, что все проводимые в ДОН церковные службы должны будут совершаться в присутствии коменданта или иных ответственных лиц. До приезда Августейших Детей было отслужено всего две службы.
Августейшие Узники старались как могли разнообразить свою жизнь. Почти каждый вечер Государь и Государыня играли в весьма популярную во Франции и Германии карточную игру на двоих, под названием «Безик». Или же, что также случалось нередко, Государь и Его Дочь Мария играли в трик-трак — сегодня более известную под названием нарды.
Немалое утешение Государыня и Великая Княжна Мария Николаевна находили в том, что писали письма Своим, оставшимся в Тобольске родственникам и знакомым.
Начиная со 2 мая (19 апреля) по 17 (4) мая 1918 года Государыня упоминает в Своём дневнике, что написала в Тобольск Детям 22 письма.
Ещё одним развлечением Царской Семьи в заточении было чтение духовных и имевшихся в доме книг. И, конечно, рукоделие, которым Государыня занималась, почти ежедневно.
Факт этот отмечает в своих воспоминаниях даже А.Д. Авдеев: «В отличии от своего мужа Александра Федоровна не сидела без дела. Она или вязала или вышивала что-либо, часто сидела за чтением книг, но эти книги были все вроде жития святых».
Приезд Августейших Детей
После отъезда из Тобольска части Царской Семьи в апреле 1918 года, П.Д. Хохряков и прибывший вскоре к нему на помощь с отрядом латышей Николай Родионов (временно назначенный Начальником Уральских отрядов находящихся в Тобольске), становятся безраздельными хозяевами города и властителями судеб остававшихся в нём Августейших Детей и верных слуг.
20 (7) мая 1918 года Августейшие Дети и часть слуг, пожелавших сопровождать их в дороге, были посажены на пароход «Русь», который 22 (9) мая доставил их всех в Тюмень, под надёжной охраной отряда латышских стрелков.
Прибыв в Тюмень утром, все упомянутые лица были пересажены на поезд, который, тотчас же отбыл в сторону Екатеринбурга.
Около 2-х часов ночи на 23 (10) мая 1918 года поезд с Августейшими Детьми и их слугами прибыл в Екатеринбург и остановился невдалеке от здания вокзала. Однако всем находившимся в нём лицам было запрещено покидать вагоны.
Около 9 часов утра к поезду подъехали несколько извозчиков и встали вдоль вагонов. Вместе с ними появились и представители местной власти — П.Д. Хохряков, Н. Родионов и уже упоминаемый С.В. Мрачковский, ему было поручено «рассортировать» приехавших, отправив, кого — в тюрьму, а кого — восвояси.
В один из поданных экипажей села Великая Княжна Ольга Николаевна и Н. Родионов, в другой — С.В. Мрачковский с Наследником Цесаревичем, а в третий — Великие Княжны Татьяна и Анастасия. Все они были доставлены в дом Ипатьева.
Приблизительно через полчаса извозчики вернулись, и комиссар Н. Родионов вызвал из одного вагона Графа И.Л. Татищева, Графиню А.В. Гендрикову, Е.А. Шнейдер, а из другого — А.А. Волкова, И.М. Харитонова, А.Е. Труппа и мальчика Леонида Седнева. Графа И.Л. Татищева и А.А. Волкова доставили в тюрьму № 2, куда ранее были доставлены Графиня А.В. Гендрикова и Е.А. Шнейдер, а остальные — в дом Ипатьева.
Жильцы дома Ипатьева (с 23 мая по 17 июля 1918 года)
День 23 (10) мая 1918 года был, пожалуй, самым счастливым днём в жизни Августейших Узников после Их отъезда из Тобольска. Так как ещё с утра, комендант А.Д. Авдеев несколько раз объявлял, что Их Дети находятся всего в нескольких часах езды от города, хотя на самом деле, доставивший их поезд прибыл в район станции «Екатеринбург — I», ещё в 2 часа ночи по местному времени.
Но вот, наконец-то, все ожидания и тревоги оказались позади и около 11 часов утра порог дома Ипатьева переступили: Наследник Цесаревич Алексей Николаевич и его Августейшие Сестры — Великие Княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна и Анастасия Николаевна.
Вместе с ними в ДОН также были доставлены Старший повар И.М. Харитонов и Поварской ученик Леонид Седнев. Все присутствующие имели при себе лишь ручную кладь, которая была подвергнута самому тщательному осмотру со стороны коменданта и его помощников. А весь остальной багаж (в том числе и походные кровати Великих Княжон) было обещано доставить позже.
Наряду с перечисленными лицами, дом Ипатьева наполнился радостным визгом и лаем, прибывших вместе с ними собак: русского спаниеля Наследника Цесаревича по кличке Джой, французского бульдога Великой Княжны Татьяны Николаевны по кличке Ортино, и рукавного пекинеса Великой Княжны Анастасии Николаевны по кличке Джимми.
Взаимным расспросам и восклицаниям не было конца. Почти сразу же выяснилось, что многое из того, что Дети писали из Тобольска, не дошло до адресатов. Но постепенно все утихомирились и прибывшие стали устраиваться на новом месте.
Следует отметить, что ещё накануне воссоединения Царской Семьи (21 мая 1918 года) комендант А.Д. Авдеев предложил Государю осмотреть две комнаты верхнего этажа, о чём Он даже сделал запись в Своём дневнике.
Посему в день приезда, то есть в ночь с 23 на 24 мая 1918 года 13 узников дома Ипатьева расположились следующим образом:
Комната X — Великие Княжны: Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна;
Комната XIII — Государь Император Николай II Александрович, Государыня Императрица Александра Фёдоровна, Наследник Цесаревич Алексей Николаевич;
Комната VII (зал) — Е.С. Боткин и Т.И. Чемадуров;
Комната VIII (гостиная) — И.Д. Седнев, Л. Седнев, И.М. Харитонов;
Комната IX (столовая) — А.С. Демидова.
Но не следует думать, что ночной отдых вновь прибывших был приятным. Более всего повезло больному Наследнику Цесаревичу Алексею Николаевичу, который был уложен на кровать Великой Княжны Марии Николаевны. Сами же Великие Княжны (которым так и не подвезли кровати) провели ночь на полу, используя в качестве ложа диванные подушки и плащи.
Поварской ученик Леонид Седнев и вовсе устроился на двух составленных стульях, а И.М. Харитонов — на короткой соломенной софе, которую Государыня привезла с Собой из Царского Села.
Утро следующего дня, скорее всего, началось с того, что доктор Е.С. Боткин осмотрел больного Наследника Цесаревича, так как тот ещё раз травмировал свою ногу, поскользнувшись накануне вечером. Проведя, фактически, бессонную ночь и осознав необходимость в постоянном уходе за Своим больным ребёнком, Государь и Государыня, попросили доктора Е.С. Боткина обратиться с ходатайством на имя А.Г. Белобородова допустить в ДОН учителей Алексея Николаевича — С. Гиббса и П. Жильяра, присутствие которых смогло бы значительно облегчить уход за больным мальчиком. Изложив в письменном виде свои соображения по этому поводу, Е.С. Боткин отнёс это ходатайство коменданту А.Д. Авдееву, который прежде чем передать таковое по инстанции, написал на нём собственную «резолюцию» следующего содержания:
«Просмотрев настоящую просьбу доктора Боткина, считаю, что из этих слуг один является лишним, т. е. дети все царские и могут следить за больным, а поэтому предлагаю Председателю Облсовета немедля поставить на вид этим зарвавшимся господам ихнее положение. Комендант Авдеев».
Разумеется, эта просьба осталась без внимания…
А вот идея разрешить посещение дома Ипатьева доктору В.Н. Деревенко (находившемуся в Тобольске в качестве врача Отряда «Особого назначения…»), видимо, пришлась А.Г. Белобородову по вкусу. Но не из человеколюбия, разумеется, а из возможности попытаться, что называется, нащупать через него «нити контрреволюционных и монархических заговоров», которые, по мнению уральских чекистов, буквально, тянулись со всех концов России к дому Ипатьева.
Уже на следующий день после своего приезда в Екатеринбург, доктор В.Н. Деревенко получил разрешение властей, и уже к вечеру посетил ДОН в сопровождении будущего Коменданта ДОН Я.М. Юровского, которого Романовы поначалу приняли за доктора.
Забегая вперёд, скажу: именно В.Н. Деревенко принадлежала идея передавать через монахинь Ново-Тихвинского женского монастыря яйца и молоко для Августейших Узников и… команды охраны. А так как жадность А.Д. Авдеева и его окружения была хорошо известна доктору, то на этом, собственно, и строился его расчёт…
Сестры с должным пониманием отнеслись к просьбе доктора В.Н. Деревенко и, начиная с 18 июня 1918 года послушницы этой обители А.В. Трикина и М.Л. Крохалова стали носить молоко, яйца и сливки, которые передавались в ДОН через наружную охрану.
Ещё накануне их приезда, Государь пообещал сильно расхворавшемуся к тому времени Т.И. Чемадурову, что отпустит его к жене в Тобольск, а вместо него возьмёт А.Е. Труппа.
С препровождением в ДОН последнего, старый царский слуга был приглашён в комендантскую комнату, где ему приказали раздеться, чуть ли не догола, после чего самым тщательным образом осмотрели его одежду и личные вещи, из-за опасения «налаживания связи с контрреволюционным подпольем».
Однако после того, как эта весьма неприятная процедура была завершена, Т.И. Чемадуров, вместо обещанной свободы, был посажен в экипаж, но доставлен не на вокзал, а в Тюрьму № 2, содержась в которой он чудом избежал смерти.
25 мая 1918 года в дом Ипатьева прибыл Председатель Президиума Исполкома Уральского Областного Совета А.Г. Белобородов с «двумя комиссарами», личности которых до сих пор не удалось установить. Однако можно допустить, что одним из этих людей вполне мог быть С.Е. Чуцкаев, который впоследствии контролировал разбор багажа Царской Семьи.
По мере своего поступления, багаж Царской Семьи складывался в бывший каретный сарай, где оный подлежал досмотру комендантом или его помощниками, после чего по сиюминутному настроению таковых выдавался арестованным.
Однако людская алчность и жадность, как известно, безгранична… Обнаглевшее авдеевское окружение, уже перестало стесняться воровать тайно, и предприняло попытку делать это открыто. Назревший инцидент произошёл днём 27 мая, когда проверявший комнаты А.М. Мошкин решил снять и присвоить себе золотую цепочку с крестиками и образками, висевшую над кроватью Наследника Цесаревича. Этому в резкой форме стали препятствовать бывшие матросы И.Д. Седнев и К.Г. Нагорный. Завязалась потасовка. О произошедшем инциденте было доложено А.Д. Авдееву, который, во избежание лишних разговоров, решил доложить о случившемся по инстанции. В результате этого, около 18 час. 30 мин. этого дня И.Д. Седнев и К.Г. Нагорный были под охраной доставлены для допроса в Исполком Уральского Облсовета, а оттуда препровождены в тюрьму и впоследствии расстреляны.
С появлением в доме И.М. Харитонова и произведённым ремонтом ранее дымившей плиты, узники перестали быть полностью зависимы от доставки блюд из «советской столовой». Теперь Старший повар готовил для них лично не только первые и вторые блюда, но даже выпекал хлеб.
О том, что подавали в то время к столу Августейшим Узникам, сведения почти не сохранились. Их пища не отличалась деликатесами и разнообразием. По получаемым из магазинов и лавок счетам, очевидно, что основным продуктом было мясо.
20 (7) июня случился очередной перебой в доставке мяса. Но не растерявшийся И.М. Харитонов приготовил для всех в этот день вкусный макаронный пирог. Не меньшую радость доставлял узникам и компот, приготовленный им из сухофруктов.
И, надо сказать, кулинарный талант и личный пример «повара-универсала» И.М. Харитонова так увлёк Великих Княжон, что те с самого первого дня взялись помогать ему не только в выпечке хлеба, но и во всей прочей стряпне.
Если учесть, что львиную долю всего приносимого из монастыря забирал А.Д. Авдеев «с товарищами», равно как и из всех других продуктов, доставляемых в ДОН из магазинов и лавок, то просто нельзя не отметить особого таланта И.М. Харитонова, способного выходить из любого сложного положения. После приезда Августейших Детей режим содержания арестованных в принципе не изменился и по-прежнему зависел от прихоти А.Д. Авдеева.
К наиболее значимым событиям этого времени можно отнести строительство большого наружного забора, опоясывавшего ДОН со стороны не только Вознесенского проспекта, но и Вознесенского переулка, которое началось 31 (18) мая 1918 года. Но и этого членам Президиума Исполкома Уралсовета казалось недостаточно.
Главным духовным утешением Царской Семьи и Её слуг по-прежнему оставались церковные службы, но их было очень мало — за это время в ДОН всего две службы.
Первая из них — обедница была отслужена протоиереем о. Иоанном (И.В. Сторожевым) и дьяконом В.А. Буймировым, 2 июня (20 мая) 1918 года, а 23 (10) июня о. Анатолием (А.Г. Мел единым) и дьяконом В.А. Буймировым было отслужено сразу две службы — обедня и вечеря.
Говоря же о досуге членов Царской Семьи, то здесь все оставалась по-прежнему.
Государь много читал. Государыня занималась рукоделием и обучала плетению кружев дочерей. Каждый день — неизменное Духовное чтение в кругу семьи.
В свою очередь, А.С. Демидова обучала Великих Княжон штопке и мелкому ремонту белья, о чем Государыня не раз отмечала в Своём дневнике.
Иногда все они пели под аккомпанемент Великой Княжны Ольги Николаевны, которая прекрасно играла на рояле. Но это продолжалось недолго, так как уже довольно скоро по распоряжению коменданта А.Д. Авдеева рояль был убран из залы и перевезён в соседнюю с комендантской комнату.
По вечерам Государь и Государыня играли в неизменный безик.
А у детей — Наследника Цесаревича и Леонида Седнева были свои развлечения. Когда Алексей Николаевич уже мог вставать с постели, его возили по комнатам верхнего этажа в принадлежащем Государыне кресле на колёсиках. А когда он почувствовал себя лучше, его стали выносить для прогулок в сад, и там они стреляли из детского лука или бузиной из трубочки.
Подготовка к убийству Царской Семьи
На V Чрезвычайном съезде Советов, который должен был проводиться в июле 1918 года планировалось обсудить вопрос суда над бывшим Самодержцем, который бы определил Его дальнейшую судьбу.
В свою очередь, на заседании Наркомата Юстиции Р.С.Ф.С.Р., состоявшемся 4 июня 1918 года, было вынесено решение о делегировании в распоряжение Совнаркома (по его просьбе) «в качестве свидетеля т. Багрова», с целью подготовки данного процесса. Главным обвинителем на этом подготавливаемом политическом судилище себя видел Л.Д. Троцкий, который не раз спорил с В.И. Лениным, доказывая «вождю мирового пролетариата» на необходимость этого «показательного суда».
На самом же деле, о готовящейся расправе над Царской Семьёй знал очень узкий круг лиц. Ибо В.И. Ленин прекрасно понимал, что при организации какого-либо суда над Романовыми, буквально, «притянув за уши», можно будет добиться смертных приговоров в отношении Государя и Государыни. Приговорить же к смерти Августейших Детей было невозможно, так как состряпать против них доказательства их вмешательств в политическую жизнь страны, было невозможно. А В.И. Ленин издавна мечтал уничтожить, извести под корень «всю большую ектенью», то есть, попросту говоря, весь Русский Императорский Дом Романовых.
И надо сказать, что вера в необходимости и правильности уничтожения всех членов Царской Семьи, как потенциального «знамени контрреволюции», настолько укрепилась в общественном сознании, что даже годы спустя бывший цареубийца Г.П. Никулин рассказывал:
«Иногда, я выступал с такими воспоминаниями. (Воспоминаниями об убийстве Царской Семьи. — Ю.Ж.) Это обычно бывало в санаториях. Отдыхаешь…
— «Ну, слушай, — подходят ко мне, — давай, расскажи!»
Ну, я соглашался, при условии, если вы соберите надёжный круг товарищей — членов партии… я расскажу.
Они [часто] задавали такой вопрос:
— «А почему всех? Зачем?»
Ну, я объяснял, зачем. Чтобы не было, во-первых, никаких претендентов ни на что.
Д.П. МОРОЗОВ:
— Ну, да. [Ведь] любой из членов фамилии мог бы стать претендентом.
Г.П. НИКУЛИН:
— Ну, да. Если бы даже был [бы] обнаружен труп (кого-нибудь из членов Царской Семьи. — Ю.Ж.), то, очевидно, из него были [бы] созданы какие-то мощи. Понимаете, вокруг которых группировалась [бы] какая-то контрреволюция. А если бы в живых оставить, то это был бы готовый царь, потому что ведь, по существу, за рубежом, — на почве того, кому быть царем: Николаю Николаевичу или, как его еще [кому]… Произошла же грызня? А то был готовый, так сказать, царь и наследник».
Таким образом, о пока ещё возможном плане уничтожения всей Царской Семьи знал лишь очень узкий круг лиц, во главе которого стояли В.И. Ленин и Я.М. Свердлов.
Доказательством того — телеграмма Управляющего делами СНК Р.С.Ф.С.Р. В.Д. Бонч-Бруевича на имя Председателя Екатеринбургского Совдепа (на самом деле — Председателю Президиума Исполкома Уральского Облсовета) от 20 июня 1918 года, в которой он просил сообщить имеющиеся у них сведения по поводу распространяемых в Москве слухов об убийстве бывшего Государя. Из-за неполадок со связью, телеграмма эта была принята в Екатеринбурге только через три дня.
Имеются также все основания для того, чтобы полагать, что уже в этот же день, Председатель СНК Р.С.Ф.С.Р. В.И. Ленин вёл переговоры по прямому проводу с Екатеринбургом. В пользу этого говорят свидетельские показания бывших работников Штаба Северо-Урало-Сибирского фронта. Вызвав к аппарату Командующего фронтом Р.И. Берзина, он приказал ему взять под свою личную охрану всю Царскую Семью, с целью недопущения над Ней какого-либо насилия.
И это справедливо, так как возможное «непослушание уральцев» сразу выбило бы из рук В.И. Ленина один из его главных козырей… Ибо в соответствии с его политическими прогнозами, Царская Семья должна была стать одной из главных ставок в затеянной им дьявольской игре с немцами, конечной целью которой было снижение размера контрибуции, оговорённой Брест-Литовскими соглашениями.
Точная дата разговора В.И. Ленина с Р.И. Берзиным неизвестна, но, есть все основания полагать, что таковой состоялся никак не ранее 20 июня 1918 года, то есть уже после опубликования статьи в газете «Наше Слово».
Выполняя распоряжение В.И. Ленина, Р.И. Берзин вместе с тремя членами Военной Инспекции Северо-Урало-Сибирского фронта, а также с Ф.И. Голощёкиным и представителем УОЧК (вероятнее всего, с Ф.И. Лукояновым) днём 22 июня 1918 года посетил ДОН.
Так что же на самом деле замышлял В.И. Ленин?
В 1964 году Первый Секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв после целого ряда событий отдал распоряжение Заведующему Отделом пропаганды и агитации ЦК СССР Л.Ф. Ильичёву выяснить роль «вождя мировой революции» в деле убийства Романовых. И после, более чем года проверок, его заместитель А.Н. Яковлев, фактически проводивший это расследование, пришёл к выводу, что обнаружить какие-либо документы, подтверждающие эту роль, вряд ли удастся.
И, надо полагать, что этот вопрос так бы и остался повисшим в воздухе, если бы не одно обстоятельство.
По сообщениям западных источников, в 60-е годы прошлого столетия один невозвращенец сумел вывезти из СССР весьма интересные документы, которые впоследствии были опубликованы в Париже.
Общеизвестно, что 19 мая 1918 года, то есть всего за несколько дней до того, как Президиум Исполкома Уральского Облсовета взял на себя контроль над всей Царской Семьёй, состоялось заседание ЦК РКП (б), на котором выступил Я.М. Свердлов с вопросом о дальнейшей судьбе бывшего Государя.
В документах также указывалось, что 23 мая состоялось закрытое заседание ВЦИК, в ходе которого ещё раз обсуждалась судьба Романовых. А далее, вопреки существующему мнению, говорилось, что далеко не все присутствующие на нем члены ВЦИК были единодушны в своём желании истребить Царскую Семью. Ибо на самом деле в их рядах произошёл глубокий раскол.
Принимая же во внимание то давление, которое оказывали на страну германцы, вопрос об участи Царской Семьи вызвал самые жаркие споры. И, в первую очередь, конфликт возник по вопросу: стоит или не стоит везти Николая Романова обратно в Москву для показательного суда, на котором так настаивал Л.Д. Троцкий? Или пока что «придержать царя на Урале»?
По этому поводу В.И. Ленин говорил очень мало и, очевидно, с трудом сдерживался, чтобы публично не рассказать о своей политике двурушничества и вымогательства, в которой Романовы продолжали использоваться в качестве заложников. Видимо, его стратегия заключалась в том, чтобы уговорить германцев не оккупировать центральную часть страны и получить отсрочки по выплате контрибуции в размере 300 миллионов золотых рублей, предусмотренных заключённым в марте Брест-Литовским мирным договором.
Но в то же время он стремился показать союзникам, что сотрудничает с ними, обещая передать Романовых в их руки. И под предлогом выкупа прогерманскими акционерами банков (которые он уже успел национализировать) получил от них 500 000 фунтов в дополнение к тем, что были переданы ему ещё в феврале.
Много споров разгорелось и по поводу иностранных долгов, принятых на себя Царским правительством. Ибо Л.Д. Троцкий твёрдо отстаивал позицию, что эти долги не должны быть признаны, посему в ходе означенных дебатов последний отчаянно боролся за показательный суд, на котором Николай должен быть осуждён, а затем казнён.
Дискуссия стала накаляться, но вмешательство Карла Радека — австрийского гражданина, вернувшегося прошлым летом в Россию вместе с В.И. Лениным и бывшего теперь одним из старейших членов Форин Офис (МИД Великобритании), сорвало все планы В.И. Ленина.
«Мои шведские информаторы, — говорил К.Б. Радек, — совсем недавно узнали, что глубокий интерес в палаче Николае был проявлен по ту сторону Атлантики. Если лондонское Сити заинтересовано в основном в сотнях золотых, спрятанных в подвалах Казани, то Уолл-стрит демонстрирует просто филантропический интерес к окончательно обесцененной личности главы Романовых. Эту операцию финансирует Национальный банк Сити; брокером является Томат Масарик, профессор, который готовится представить себя в качестве освободителя в Храдшине (замке) в Праге. Он является тем человеком, который из-за границы осуществлял руководство чешскими легионами в Сибири, и тем, кто обещал свое содействие в деле освобождения бывшего царя. Все поставки (снабжение), сделанные в кредит белогвардейцам (компаниями) «Ремингтон Арме» и «Металлик Картридж Юнион», зависят от скорости, с которой чехи достигнут Екатеринбурга и узников Ипатьевского дома. Три миллиона золотых долларов, а также пулеметы и винтовки в обмен на марионеточного Николашку — такую цену Масарик назначил за дело, предложенное ему американскими банкирами».
С высоты сегодняшнего дня, мы, конечно же, понимаем, насколько «хорошо» оказался осведомлённым К.Б. Радек в 1918 году. И насколько чехословаки «стремились» освободить бывшего Государя. Но тогда… Обстановка заседания накалялась все более. А К.Б. Радек, меж тем, успешно продолжал крушить все замыслы Ленина по передаче Царской Семьи германцам, посему к глубокой ночи В.И. Ленин был вынужден уступить. Но В.И. Ленин, которого мы знаем как опытного государственного деятеля и кон-спиратора, скорее всего, не принял это решение в качестве окончательного.
До ночи 17 июля в Екатеринбурге у него было ещё два месяца, чтобы, работая вместе с избранными соратниками, предложить Царскую Семью более выгодным покупателям.
Ибо В.И. Ленин продолжал рассматривать Царскую Семью, как предмет для сделки. И именно поэтому ещё накануне убийства, немецкая сторона получала заверения от советского полпреда в Берлине, Адольфа Иоффе, что намерением большевиков является обеспечение безопасности Царской Семьи и Её перевозка в Москву.
Другие заверения по этому же вопросу, поступали из Москвы от Комиссара Иностранных Дел Г.В. Чичерина, вследствие чего план по перевозке Царской Семьи в Москву по указке немцев мог выглядеть в их глазах как дело решённое. И, причём, решённое настолько, насколько что-либо можно было решить в царившей тогда в России обстановке хаоса, двойственности и страха.
Однако время шло, а Государь и Его Семья так и не прибыли в Москву.
Казалось, что В.И. Ленин продолжает торговаться и оттачивать свои планы, одним из пунктов которого являлось командирование Л.Д. Троцкого в Царицын, в связи с чем есть все основания полагать, что назначение это был задумано В.И. Лениным лишь для того, чтобы устранить одно из главных препятствий для осуществления своего плана. А для «присмотра» за строптивым Лейбой, в качестве своего соглядатая, в Царицын, был послан И.В. Сталин. И чтобы не быть голословным, следует упомянуть также и о том, что позднее, жалуясь на И.В. Сталина, Л.Д. Троцкий сообщал В.И. Ленину, что последний препятствовал его намерению осуществлять наступление на Урал. (Ведь невозможно, чтобы Л.Д. Троцкий вынашивал собственные планы по перемещению Царской Семьи без согласия В.И. Ленина?)
Но теперь, когда Л.Д. Троцкий уехал, В.И. Ленин вместе с Я.М. Свердловым и лидером уральских большевиков Ф.И. Голощёкиным мог работать над задачей освобождения Романовых в типично конспиративной манере. (Ведь Я.М. Свердлов, Ф.И. Голощёкин и И.В. Сталин, который более других принимал участие в переговорах с Т. Масариком по эвакуации чехословаков, были тогда ещё старыми товарищами, прошедшими через совместную ссылку в Нарыме и Туруханском крае. И к тому же, двое из них — Я.М. Свердлов и Ф.И. Голощёкин уже принимали непосредственное участие в более ранней попытке В.В. Яковлева по перевозу Царской Семьи в Москву.) А в июле, пока И.В. Сталин отвлекал Л.Д. Троцкого, они включились в новый виток событий, центром которого стал теперь Екатеринбург.
Фактически в то самое время, когда К.Б. Радек распространял сведения, касавшиеся Т. Масарика, Отдельный Чехословацкий Корпус начал «мятеж». Нам, живущим сегодня, конечно же, ясно, что чехословаки никогда не строили каких-либо планов по освобождению Царской Семьи, но тогда их планы для Советского правительства выглядели весьма туманно, в силу чего слова К.Б. Радека казались чуть ли не пророческими…
4 июля 1918 года в помещении Большого театра в Москве открылся V Чрезвычайный съезд Советов, работа которого совпала с выступлением левых эсеров, позднее получившим название «мятеж левых эсеров». Не разделяя соглашательских настроений большевиков с Германией, выступая против подписания ими Брест-Литовских соглашений, эсеры в самый первый день работы съезда выразили недоверие правительству В.И. Ленина — Л.Д. Троцкого и потребовали его немедленной отставки. Но так как им не удалось получить большинство делегатских голосов, их представители Я.Г. Блюмкин и А.Н. Андреев 6 июля 1918 года совершили убийство германского посланника графа В. фон Мирбаха, считая, что этот террористический акт приведёт к полному разрыву дипломатических отношений между Германией и Советской Россией.
Однако, левоэсеровский мятеж и смерть германского посланника обернулись для большевиков еще более пагубными последствиями, чем можно было предположить. Советское правительство было вынуждено подписать с Германией дополнительные соглашения о выплате ей ещё шести миллиардов марок. И кроме того, резко обостренная ситуация, связанная с действиями левых эсеров, сняла с повестки дня обсуждение дальнейшей судьбы бывшего Государя, равно как время предполагаемого над Ним суда — не до того большевикам было.
Приехавший на V съезд Советов в качестве делегата, Ф.И. Голощёкин остановился на квартире Я.М. Свердлова, с которым был знаком долгие годы по совместной революционной работе. И, конечно же, нельзя представить себе, чтобы между ними не шли разговоры о дальнейшей судьбе Царской Семьи. Вероятнее всего, именно тогда Ф.И. Голощёкин сумел убедить Я.М. Свердлова в том, что перевоз Царской Семьи в Москву может иметь самые непредсказуемые последствия, ввиду многочисленных контрреволюционных заговоров, коих, как показали дальнейшие события, и не было вовсе! Думается также, что все эти разговоры Я.М. Свердлов доводил до В.И. Ленина, который также не желал, чтобы захваченные по пути следования в Москву Романовы стали «живым знаменем в руках контрреволюционеров». А довольно вялая реакция Германии на убийство немецкого посла графа В. фон Мирбаха только лишний раз убеждала большевиков, что она уже не является тем мощным противником, представляющих для их власти какую-либо серьёзную угрозу.
А раз так, то с Романовыми можно было больше не церемониться. Тем более, что обстановка для этого складывалась, как нельзя более выгодная. Ведь перед лицом мировой общественности всегда можно было заявить, что в связи с «мятежом чехословаков» советские правительственные круги не имеют прямой телефонно-телеграфной связи с Уралом.
А для того, чтобы оградить себя лично и правительство В.И. Ленина от каких-либо возможных в дальнейшем нападок, Я.М. Свердлов рекомендует Ф.И. Голощёкину устроить в Екатеринбурге что-то вроде суда над Николаем II, в свою очередь, прекрасно понимая, что таковой никак не может состояться по целому ряду причин. Ну, а в случае, если он все же не получится, предлагает уральцам действовать по обстоятельствам или собственному сценарию, то есть, попросту говоря, даёт тем самым своё молчаливое согласие на уничтожение бывшего Государя.
В свою очередь, ничего не знавшие об этом уральцы разрабатывают собственный план ликвидации Романовых. А стремясь хоть как-то оправдать свои действия, изобретают подмётные письма и прочие материалы «контрреволюционного заговора», в которых вскоре и сами начисто запутываются.
Думается также, что обсудив вопрос уничтожения Романовых во всех подробностях, Ф.И. Голощёкин получил от Я.М. Свердлова устные инструкции, согласно которым он должен был действовать в том или ином случае, по возвращении на Урал.
Вероятнее всего, Я. М. Свердлов, следуя прямому указанию В.И. Лени-ша, рекомендовал «товарищу Филиппу» провести публичный суд над Николаем II в столице «Красного Урала», претворяя тем самым в жизнь более ранние Постановления СНК Р.С.Ф.С.Р. от 29 января 1918 года и 20 февраля 1918 года, а также Постановление НКЮ Р.С.Ф.С.Р. от 4 июня 1918 года.
Разумеется, и В.И. Ленин, и Я. М. Свердлов прекрасно понимали всю абсурдность данного мероприятия, так как, сложившаяся к тому времени обстановка на Урале — военное положение области, контрреволюционные выступления, сепаратизм на местах, общий антибольшевистский настрой крестьянского большинства населения и т. п. — уже сама по себе требовала от местных властей самых решительных действий. Для организации же подобного процесса, требовалось, как минимум, желание и время. Времени не было, а желание не бралось в расчёт, ввиду самых радикальных взглядов на данную проблему, решаемую, по мнению большинства уральских коммунистов, лишь однозначно, революционным способом.
Это обстоятельство, необычайно выгодное для центральной власти, увидевшей в нём редкую возможность, практически, в одночасье покончить сразу с 13-ю представителями Дома Романовых, освобождая себя при этом полностью от какой-либо ответственности, решил использовать Я. М. Свердлов. Прощаясь с Ф.И. Голощёкиным, он прямо говорит ему о том, чтобы действовал в соответствии с обстановкой, подчёркивая при этом особо, что ВЦИК Советов не даёт своей официальной санкции на расстрел Николая II.
4 июля 1918 года, находившийся в Москве Ф.И. Голощёкин получил телеграмму, в которой сообщалось, что Комиссар А.Д. Авдеев смещён, а вместо него Комендантом ДОН назначен Я.М, Юровский.
Яков Михайлович Юровский (1878–1938) был уроженцем Томска, часовщиком по специальности. В 1905 году он вступает в РСДРП и навсегда связывает свою жизнь с партией большевиков и ещё задолго до событий Февральской смуты поддерживает партийные связи со Я.М. Свердловым, Ф.И. Голощёкиным, С.М. Кировым, В.В. Куйбышевым и др. видными большевиками. За свою политическую деятельность, направленную против устоев государства, Я.М. Юровский неоднократно арестовывался, а в 1912 году был выслан на поселение в Екатеринбург. С началом Первой мировой войны ему, как лицу политически неблагонадёжному грозила высылка в Чердынский уезд Пермской губернии. Поэтому он записывается в 698 Пешую дружину Государственного Ополчения, которая дислоцируется в то время в Екатеринбурге, после чего оканчивает Школу фельдшеров и проходит дальнейшую службу в Военном лазарете. Во время событий Февральской революции 1917 года Я.М. Юровский избирается Гласным в Екатеринбургскую Городскую Думу, а после Октябрьского переворота состоит в должности Члена Коллегии Уральской Областной Чрезвычайной Комиссии и Председателя Следственной Комиссии Революционного Трибунала. Во время пребывания в ДОН Царской Семьи, Я.М. Юровский несколько раз посещает дом Ипатьева и контролирует сложившуюся там ситуацию. Пользующийся среди уральских вождей большим авторитетом, он видится им именно тем человеком, который способен навести в ДОН должный порядок, а в случае крайней ситуации, привести в исполнение приговор над бывшим Самодержцем.
Вступив в должность Коменданта ДОН, Я.М. Юровский произвёл в системе постов некоторые изменения, добавив ещё один пулемёт на чердак дома, а затем сменил весь штат внутренней охраны, заменив его на десять человек, пять из которых были этническими латышами, а пятеро — русскими. Некоторые изменения произошли также и в наружной охране. Так, П.С. Медведев был перемещён на должность Помощника Начальника караула, а его прежнюю должность занял А.А. Якимов.
12 июля 1918 года Ф.И. Голощёкин возвратился из Москвы в Екатеринбург.
Вечером этого же дня, в помещении бывшего Волжско-Камского банка, где тогда размещался Исполком Уральского Областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов состоялось его закрытое заседание под председательством А.Е Белобородова.
Заслушав доклад Ф.И. Голощёкина о его поездке в Москву (на V Всероссийском съезде Советов была принята 1-ая Советская Конституция Р.С.Ф.С.Р., а точнее, Конституционный Акт), а также обсудив создавшееся к 12 июля 1918 года положение на всех участках Северо-Урало-Сибирского фронта, грозящее неминуемой сдачей города в самые ближайшие дни, Исполнительный Комитет Уральского Облсовета (по предложению А.Е Белобородова и Ф.Ф. Сыромолотова) принимает решение о расстреле не только Государя, но и Его Семьи.
В соответствии с решением Исполкома Уральского Облсовета, Комендант ДОН Я.М. Юровский, почти сразу же, запускает механизм подготовки к расстрелу.
Около 9-10 часов утра 16 июля 1918 года в дом Ипатьева прибыл Ф.И. Голощёкин, который, переговорив с Я.М. Юровским о предстоящем расстреле, распорядился ближе к вечеру удалить из дома поварёнка Леонида Седнева. И сделать это так, чтобы Романовы ничего не заподозрили. А, кроме того, он уведомил коменданта о совещании Коллегии УОЧК, назначенном на вторую половину этого же дня (приблизительно, на 16 часов по местному времени), которое будет проходить в комнате № 3 бывшей «Американской гостиницы».
В назначенное время, в означенной комнате собрались все члены Коллегии УОЧК — В.М. Горин, М.А. Медведев (Кудрин) и И.И. Родзинский (за исключением И.Я. Кайгородова) во главе с Председателем УОЧК Ф.Н. Лукояновым. Помимо них, на этом же совещании присутствовали, практически, все члены постоянного Президиума Исполкома Уральского Облсовета — А.Г. Белобородов, Г.И. Сафаров, Ф.И. Голощёкин, а также комиссар П.Л. Войков и П.З. Ермаков.
Первым взял слово А.Г. Белобородов, который довёл до сведения собравшихся, вынесенное накануне решение расширенного Президиума Исполкома Уральского Облсовета, постановившего расстрелять всю Царскую Семью на территории дома Ипатьева.
Поддержав мнение Президиума Исполкома Уральского Облсовета, членами Коллегии УОЧК и Ф.Н. Лукояновым было внесено встречное предложение о расстреле, не только членов Царской Семьи, но и всех находящихся при Ней слуг, сделав исключение лишь для поварского ученика Леонида Седнева, в виду его «несознательного возраста».
Члены Президиума полностью поддерживают это решение, о чем А.Г. Белобородов делает соответствующую пометку в своей записной книжке, после чего участники совещания переходят к обсуждению кандидатур — непосредственных участников расстрела.
Главными лицами, ответственными за его проведение назначаются Комендант ДОН Я.М. Юровский и его помощник Г.П. Никулин. А ответственными за вывоз и тайное захоронение трупов казнённых — М.А. Медведев (Кудрин) (как представитель УОЧК) и П.З. Ермаков (как представитель РККА и человек, хорошо знающий городские окрестности).
К началу предстоящего совещания, комендант Я.М. Юровский, казалось, предусмотрел всё. К этому самому главному событию в своей жизни, он стал готовиться с особой тщательностью с того момента, когда на расширенном Президиуме Исполкома Уральского Облсовета было принято решение о ликвидации всех Романовых. Однако в ходе подготовки у него возникли серьёзные осложнения. Ведь поначалу он рассчитывал отобрать необходимое ему для этой цели количество людей из числа своих коллег — наиболее надёжных сотрудников УОЧК. Но, к его большому удивлению, поиски добровольцев не принесли желаемого результата, так как каждый сотрудник, к которому Я.М. Юровский обращался с подобным предложением, не проявлял на сей счёт должного энтузиазма и старался под любым предлогом отказаться от этой «почётной миссии».
Исключение составил лишь А.Т. Паруп (А.Я. Биркенфельд), хорошо знакомый М.А. Медведеву (Кудрину) по совместной подпольной работе в нелегальном Профессиональном Союзе моряков Каспийского торгового флота и 1-й Бакинской Городской группы РСДРП.
Таким образом, к моменту этого совещания в распоряжении Я.М. Юровского было только четыре человека, которые добровольно пожелали стать палачами.
Вот их имена:
— Я.М. Юровский — Комендант ДОН;
— М.А. Медведев (Кудрин) — член Коллегии УОЧК;
— П.З. Ермаков — Военный комиссар 4-го Района Красной Гвардии гор. Екатеринбурга;
— А.Т. Паруп А.Я. (А.Я. Биркенфельд) — работник Иркутского Совдепа, временно прикомандированный к УОЧК.
Ещё двух человек, членов Коллегии УОЧК — В.М. Горина и И.И. Родзинского, Я.М. Юровский, вероятнее всего, рассчитывал привлечь прямо по ходу этого совещания, учитывая, что отказаться в этой ситуации невозможно. И все-таки эти двое сумели отклонить столь «лестное» для них предложение коменданта, сославшись на мероприятия, связанные с арестом членов некой подпольной офицерской организации.
Юровскому не оставалось другого выхода, как предложить на этом же совещании кандидатуру своего помощника Г.П. Никулина, а также Помощника Начальника караула П.С. Медведева. Но и эта ситуация, как ни странно, устраивала Я.М. Юровского, который и в этом случае всегда смог бы сказать, что ещё заранее намеревался привлечь к расстрелу Царской Семьи некоторых лиц, состоявших во внутреннем карауле или в так называемой Особой охране ДОН. Но данное положение вещей осложнялось всё же тем, что таковые пока ещё не были намечены, а имевшихся в его распоряжении «добровольцев», явно не хватало и не соответствовало только что согласованному плану истребления Романовых.
Вспоминает М.М. Медведев:
«Отец говорил, что в «Американской гостинице» в эти дни было совещание. Его проводил Яков Юровский. Участие в расстреле было добровольным. И добровольцы собрались в его номере… Договорились стрелять в сердце, чтобы не страдали. И там же разобрали — кто кого. Царя взял себе Петр Ермаков. У него были люди, которые должны были помочь тайно захоронить трупы.
И главное, Ермаков был единственный среди исполнителей политкаторжанин. Отбывавший каторгу за революцию!
Царицу взял Юровский, Алексея — Никулин, отцу досталась Мария. Она была самая высоконькая».
Распределив роли, члены Президиума разъехались, а намеченные исполнители задержались на некоторое время в комнате Я.М. Юровского, чтобы уточнить некоторые детали.
16 июля 1918 года в 17 часов 50 минут по московскому времени на имя В.И. Ленина и Я.М. Свердлова полетела телеграмма, в тексте которой сообщалось, что условленный с «Филиппом» суд более нельзя откладывать по военным обстоятельствам, а также с просьбой телеграфировать, что если их мнение противоположно, незамедлительно сообщить об этом, вне всякой очереди. То есть, наиболее близкие к В.И. Ленину люди — Ф.И. Голощёкин и Г.И. Сафаров, которых он знал лично и которым доверял, подписав эту телеграмму, уведомляли последних, что для убийства Царской Семьи всё готово и что требуется лишь их окончательное согласие. Но из-за того, что не работала прямая связь с Москвой, телеграмма эта сначала поступила в Петроград на имя Председателя Петроградской Трудовой Коммуны Г.Е. Зиновьева (время её принятия — 21 час. 22 мин.) и лишь оттуда была передана означенным адресатам в Москву.
Время, когда эта телеграмма была получена в Москве, до сих пор не установлено, однако, думается, что она попала на стол В.И. Ленину или Я.М. Свердлову, не ранее 23 часов.
Ответ уральцам был составлен и отослан немедленно, но его текст или не сохранился, или не выявлен до сего дня.
Но по некоторым второстепенным источникам мы всё-таки можем предположить, что ответ В.И. Ленина и Я.М. Свердлова был послан в Екатеринбург около полуночи 16 июня 1918 года. То есть в то время, когда в Екатеринбурге было около 2-х часов ночи. Этим и объясняется задержка с убийством Романовых, намеченным к выполнению ещё 16 июля.
И тем не менее, дав, что называется, легальную отмашку на убийство Царской Семьи, В.И. Ленин, получив всего несколькими часами раннее телеграмму из Копенгагена, в которой высказывалась обеспокоенность слухами об убийстве Государя, цинично ответил, что все это ни на чем не основанная «ложь капиталистической прессы»…
Убийцы
Рассказывая о трагической гибели Царской Семьи, многие авторы вплоть до настоящего времени причисляют к Её убийцам людей, которые, либо не имели к этому преступлению никакого отношения, либо вообще являются вымышленными персонажами.
Первую путаницу в это дело внёс Генерал-Лейтенант М.К. Дитерихс, который в своей книге «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале» написал, что: «Из русских палачей известна фамилия одного — Кабанов. (…) Из пяти палачей нерусских известны фамилии трех: латыш Лякс, мадьяр Бархат и Рудольф Лашер. Называли еще фамилию латыша Берзина, но утверждать, что таковой был в составе внутренней охраны — нельзя».
Но если генералу М.К. Дитерихсу простительно допустить ошибки, ибо он, в отличие от современных исследователей, опирался лишь на имевшиеся в его распоряжении материалы Следственного Производства, то некоторым современным исследователям такие ошибки непростительны, так как каждый из них имел непосредственную возможность ознакомиться с документами и другими источниками.
Но, к сожалению, этого не произошло. И сейчас, именно этими самыми исследователями убийцы Царской Семьи поделены на две условные группы.
К первой из них относят С.П. Ваганова, Костоусова, кого-то из братьев Партиных (вот только не уточняя, кого именно: Алексея или Николая?), Ф.Н. Лукоянова и даже… отсутствующего в Екатеринбурге П.Д. Хохрякова.
А ко второй, как правило, причисляют бывших мифических венгерских военнопленных, списки которых приводит Й.Л. Мейер (правильно. — Майер!) в своих «воспоминаниях» «Как погибла царская семья».
А чтобы не быть голословным, автор позволит себе привести некоторые выдержки из ранее написанных работ по этой теме.
Из книги Г.Б. Зайцева «Романовы в Екатеринбурге»:
«Ясно, и как стояли палачи: справа у южной стенки, напротив Николая II, стоял Юровский. Левее него Никулин. Еще левее у северной стенки в ряд стояло четверо «латышей», а за ними еще трое. У дверей западной стенки кроме трех оставшихся «латышей» стояли Медведев, который, похоже, на время расстрела уходил. За ним, уже в прихожей, стоял любопытный Окулов, оставивший свой пост и Стрекотин. Справа от двери у западной стенки стояли Ермаков, Ваганов, Войков, Голощекин, Белобородов, Костоусов, Лукоянов и, возможно, Хохряков. У последнего опыта убийства тоже хватало, так что он вряд ли пропустил такой случай».
А уральский исследователь «царской темы» доктор исторических наук И.Ф. Плотников в своей книге «Правда истории. Гибель Царской Семьи» прямо заявляет, что, наряду с бесспорными для него фигурантами этого дела — Я.М. Юровским, Г.П. Никулиным, М.А. Медведевым (Кудриным), П.З. Ермаковым, С.П. Вагановым (которого М.К. Дитерихс, якобы, перепутал с А.Е. Костоусовым), А.Г. Кабановым и П.С. Медведевым, участие в этом убийстве, возможно, принимали также и «латыши» — В.Н. Нетребин и Я.М. Цалмс.
Годами же раннее, писатель-исследователь доктор экономических наук О.А. Платонов в своей первой книге, посвященной теме гибели Членов Дома Романовых на Урале — «Убийство Царской Семьи» поддержал «иностранную» версию Й.Л. Майера:
«Теперь иностранные наемные убийцы. Их в галерее семеро:
Андреас Вергази
Ласло Горват
Виктор Гринфельд
Имре Надь
Эммил Фекете
Анзелм Фишер
Изидор Эдельштейн.
Иностранные наемники старательно отрабатывают свой паек. А после убийства первыми принимаются грабить трупы».
А далее указанный автор, поверив в бредни Й.Л. Майера, вопрошает: «Большой вопрос о дальнейшей судьбе этих наемных убийц. Куда они делись, почему никто из них не оставил воспоминаний? Не исключено, что их товарищи-чекисты тогда сами устранили, по крайней мере, пятерых. В окрестностях «Ганиной ямы» были обнаружены трупы пяти мужчин, носивших австрийскую военную форму».
Таким образом, в большинстве случаев, в качестве убийц, приводятся, либо фамилии «признанных» убийц (Я.М. Юровского, Г.П. Никулина, П.З. Ермакова и пр.), либо упомянутых выше мифических «латышей».
Не желая затевать полемику по этому поводу, хочу лишь заметить, что уважаемый мной, ныне покойный Георгий Борисович Зайцев, проделавший в отличие от других авторов большую аналитическую работу, к сожалению, не увидел некоторых очевидных фактов.
Так, к примеру, Помощник Коменданта ДОН Г.П. Никулин, которого А.А. Стрекотин в своих воспоминаниях по ошибке называет «Окуловым», предстает у него в виде двух совершенно разных людей. Но если его версию о присутствии П.Л. Войкова и Ф.Н. Лукоянова среди палачей, ещё можно объяснить ссылкой на «рассказ Войкова» в изложении Г.З. Беседовского, то уж присутствие в качестве оных Ф.И. Голощёкина и А.Г. Белобородова — явный перебор.
Говорить же об участии в убийстве Царской Семьи В.Н. Нетребина и П.Д. Хохрякова, вообще, неуместно.
Так как первый, хотя и назвал свои воспоминания «Воспоминания участника расстрела Романовых Нетребина Виктора Ивановича», не говорит в них ни слова о своём личном участии в этом преступлении. Из всего рассказанного им можно лишь сделать вывод, что он присутствовал во время совещания в комнате коменданта.
А второй, ещё 12 (25) июня 1918 года, во главе отряда в 300 человек отбыл на поезде в сторону Тюмени, откуда должен был начать порученную ему «Карательную экспедицию тобольского направления», из которой он, как известно, не возвратился, будучи убитым в бою за станцию «Крутиха» Екатеринбургского Восточной магистрали.
Не менее интересны выводы и П.В. Мультатули, который в своей книге «Свидетельствуя о Христе до смерти» посвящает этому вопросу целый раздел одной из её глав. Однако каких-либо конкретных выводов не делает, считая, что некий «посланец из Москвы (…) привез с собой команду убийц».
Так кто же на самом деле был в числе убийц?
На мой взгляд, совершенно очевидным является тот факт, что ни А.Г. Белобородов, ни Ф.И. Голощёкин ни, тем более, П.И. Войков участия в убийстве не принимали. Равно как не принимали в нём участия П.С. Медведев, С.П. Ваганов и другие, такие, как «Партин», «Костоусов» и П.Д. Хохряков.
В настоящий момент не вызывает сомнений тот факт, что непосредственными участниками убийства Царской Семьи и Её верных слуг были: П.З. Ермаков, А.Е Кабанов, Г.П. Никулин, М.А. Медведев (Кудрин) и Я.М. Юровский. То есть, пять человек.
А далее начинаются расхождения, о которых уже говорилось выше.
По мнению же автора, с большой долей вероятности можно говорить о том, что убийц, как минимум, 8 человек из числа нижепоименованных лиц:
1. Бройдт С.А. — сотрудник УОЧК;
2. Ермаков П.З. — Военный Комиссар 4 Района Красной Гвардии г. Екатеринбурга;
3. Кабанов А.Г. — сотрудник УОЧК;
4. Медведев (Кудрин) М.А. — Член Коллегии УОЧК;
5. Медведев П.С. — Помощник Начальник караула;
6. Никулин Г.П. — Помощник Коменданта ДОН (был назначен, но не принял участия в убийстве);
7. Паруп А.Т. (А.Я. Биркенфельд) — работник Иркутского Исполкома, прикомандированный к УОЧК;
8. Юровский Я.М. — Комендант ДОН.
А косвенным доказательством сему — стенограмма записи беседы с Г.П. Никулиным:
М.М. МЕДВЕДЕВ (сын М.А. Медведева /Кудрина/):
— Значит, в расстреле принимали участие восемь человек?
Г.П. НИКУЛИН:
— Да.
Последующие слова Г.П. Никулина разобрать не удалось, ввиду того, что он произнес таковые в некотором удалении от микрофона. Вероятнее всего, М.М. Медведев еще раз спрашивал у Г.П. Никулина о запомнившихся ему участниках расстрела Царской Семьи.
— Вот, шестерых я помню, а двух не помню.
М.М. МЕДВЕДЕВ:
— Хорошо. [Назовите, кого помните.]
Г.П. НИКУЛИН:
— Фамилии?
М.М. МЕДВЕДЕВ, обращаясь к Д.П. МОРОЗОВУ и Г.П. НИКУЛИНУ:
— Можно еще раз [повторить], вот, эти фамилии [и] отчества?
Д.П. МОРОЗОВ (Начальник Секретной части радиокомитета):
– [А] он еще их помнит?
М.М. МЕДВЕДЕВ:
– [И] не только фамилии.
Г.П. НИКУЛИН:
— Якова Михайловича (Я.М. Юровского. — Ю.Ж.) помню.
Д.П. МОРОЗОВ констатирует:
— Яков Михайлович Юровский.
Г.П. НИКУЛИН:
— Михаила Александровича (М.А. Медведева /Кудрина/. — Ю.Ж.) помню. Себя помню. А остальных не помню. [Да, ещё] Павла Медведева помню.
Д.П. МОРОЗОВ:
— Хорошо.
Г.П. НИКУЛИН:
– [Ещё] Ивана (Алексея. — Ю.Ж.) Кабанова помню.
Д.П. МОРОЗОВ:
— А, вот видите, — Иван.
Г.П. НИКУЛИН:
— Если он только принимал участие. Да, кажется, он принимал. [Еще] Ермаков. Отчества [его я] не помню, звать только помню, как. Петр его звать».
Итак, Г.П. Никулин не запомнил фамилии только двух участников убийства.
И это не удивительно, так как с этими людьми он мог мало общаться по делам службы, или вовсе не общаться. Но сын М.М. Медведев утверждает со слов отца, что в ночь убийства в доме Ипатьева присутствовали С.А. Бройдт и А.Т. Паруп (А.Я. Биркенфельд). Причём, эту информацию он письменно подтвердил 31/VIII-1993 г. на оборотной стороне стенограммы записи беседы с Г.П. Никулиным, хранящейся в РГАСПИ:
«В ЧК работал Сергей Бройдо (его звали в просторечии Серёжка Бройд). Арнольд Биркенфельд пришёл в дом Ипатьева 16 июля под вечер с Ермаковым, Михаилом Медведевым (Кудриным) и Юровским. (Арнольд жил на квартире у Юровского).
Сергей работал позднее в Вятской ЧК у Медведева (Кудрина). А Арнольд — оставлен в Екатеринбурге для подпольной работы в Иркутске, где его арестовали колчаковцы, как и Карла Ильмера (чекист УралОблЧК)».
Это же самое обстоятельство, косвенно, подтверждает и П.З. Ермаков, в своих воспоминаниях «Расстрел бывшего царя», отрывок из которого привожу с сохранением орфографии подлинника:
«получил постановление 16 июля 8 часов вечера сам прибыл [с] двумя товарищами и др. латышем (вполне возможно, что именно этим латышом был Я.М. Цалмс, состоящий во внутренней охране ДОН. — Ю.Ж.), который служил в моем отряде, карательном отделе. прибыл [в] 10 часов в дом особого назначения, вскоре пришла мая машина малого типа грузовая».
Так кто же были на самом деле эти люди, поднявшие руку на Помазанника Божьего, и экс-Императора?
Убийство Царской Семьи и Ее верных слуг
О том, как провели свои предсмертные часы Царская Семья и Её верные слуги, мы знаем со слов Государыни, которая до самого последнего дня Своей земной жизни вела дневник.
Следуя многолетней привычке отмечать главное, Она и на этот раз сделала запись о том, что волновало Её больше всего, а именно такое событие, как увод из ДОН маленького поварёнка…
И действительно, вечером 16 июля, из дома Ипатьева, совершенно неожиданно для всех его узников, ученик повара, Леонид Седнев был удалён из дома. Причину объяснили тем, что мальчик был, якобы, отправлен для свидания со своим дядей И.Д. Седневым, которого ранее удалили из ДОН и дальнейшая судьба его для Августейших Узников и Их слуг, оставалась неясной. Причём, Государыня, волнуясь за судьбу Лики (так она называла Леонида Седнева в Своём дневнике) даже как-то немного попрекает его за то, что он столь поспешно убежал…
На самом же деле, как помнит читатель, И.Д. Седнев к тому времени был уже давно расстрелян, а причиной послужило решение все той же Коллегии УОЧК.
Из воспоминаний М.А. Медведева (Кудрина):
«Яков Юровский предлагает сделать снисхождение для мальчика.
— Какого? Наследника? Я — против! — возражаю я.
— Да нет, Михаил, кухонного мальчика Леню Седнева нужно увести. Поваренка-то за что… Он играл с Алексеем.
— А остальная прислуга?
— Мы с самого начала предлагали им покинуть Романовых. Часть ушла, а те, кто остался — заявили, что желают разделить участь монарха. Пусть и разделяют…
Постановили: спасти жизнь только Лене Седневу».
После окончания рабочего дня 16 июля 1918 года, приблизительно в 17 час. 30 мин. Я.М. Юровский, П.З. Ермаков, М.А. Медведев (Кудрин) и А.Т. Паруп встретились у входа в «Американскую гостиницу», после чего направились в дом Ипатьева.
Придя на место, они вместе с Г.П. Никулиным закрылись в комендантской комнате, где приступили к обсуждению собственного плана по ликвидации Царской Семьи, непосредственно, на территории ДОН.
Из воспоминаний М.А. Медведева (Кудрина):
«Закрыли дверь и долго сидели, не зная с чего начать. Нужно было как-то скрыть от Романовых, что их ведут на расстрел. Да и где расстреливать? Кроме того, нас всего четверо, а Романовых с лейб-медиком, поваром, лакеем и горничной — 11 человек!
Жарко. Ничего не можем придумать. Может быть, когда уснут, забросать комнаты гранатами? Не годится — грохот на весь город, еще подумают, что чехи ворвались в Екатеринбург. Юровский предложил второй вариант: зарезать всех кинжалами в постелях. Даже распределили, кому кого приканчивать. Ждем, когда уснут. Юровский несколько раз выходит к комнатам царя с царицей, великих княжон, прислуги, но все бодрствуют — кажется, они встревожены уводом поваренка.
Перевалило за полночь, стало прохладнее. Наконец во всех комнатах царской семьи погас свет, видно уснули. Юровский вернулся в комендантскую и предложил третий вариант: посереди ночи разбудить Романовых и попросить их спуститься в комнату первого этажа под предлогом, что на дом готовится нападение анархистов и пули при перестрелке могут случайно залететь на второй этаж, где жили Романовы (царь с царицей и Алексеем — в угловой, а дочери — в соседней комнате с окнами на Вознесенский переулок). Реальной угрозы нападения анархистов в эту ночь уже не было, так как незадолго перед этим мы с Исаем Родзинским разогнали штаб анархистов в особняке инженера Железнова (бывшее Коммерческое собрание) и разоружили анархистские дружины Петра Ивановича Жебенёва.
Выбрали комнату в нижнем этаже рядом с кладовой: всего одно зарешеченное окно в сторону Вознесенского переулка (второе от угла дома), обычные полосатые обои, сводчатый потолок, тусклая электролампочка под потолком. Решаем поставить во дворе снаружи дома (двор образован внешним дополнительным забором со стороны проспекта и переулка) грузовик и перед расстрелом завести мотор, чтобы шумом заглушить выстрелы в комнате».
Обсудив ещё раз некоторые детали предстоящего расстрела с пятью «добровольцами» /Г.П. Никулиным, П.З. Ермаковым, М.А. Медведевым (Кудриным), П.С. Медведевым и А.Т. Парупом/, а также окончательно установив, кто в кого должен стрелять, Я.М. Юровский решает увеличить их число ещё на пять человек, чтобы число палачей соответствовало числу намеченных жертв. Как и следовало ожидать, выбор коменданта пал именно на тех «латышей», которые относились к лицам нерусского происхождения. Приказав таковым собраться в комендантской комнате, Я.М. Юровский предложил им вынести всю имеющуюся в ней мебель, после чего (в присутствии их не-посредственного начальника Е.К. Каякса) произвёл «распределение ролей», указав «…кто кого должен застрелить».
Однако, к удивлению Я.М. Юровского, все «латыши» наотрез отказались принимать участие в расстреле, ссылаясь на то, что они не будут стрелять в девушек, так как нанимались охранять, а не выполнять функции палачей… Но, помимо этого, ежедневно общаясь с узниками, они проникались к ним всё большей и большей симпатией. Тем более, что среди них был их земляк А.Е. Трупп — совершенно безобидный человек пожилого возраста, оказавшийся в ДОН волею случая. А Великие Княжны, каждая из которых была по-своему прекрасна, своей всегдашней доброжелательностью и скромным поведением, просто не могли не вызвать у них взаимную симпатию, которая в конечном итоге и привела к отказу «стрелять в девиц».
Из воспоминаний Я.М. Юровского:
«Вызвав внутреннюю охрану, которая предназначалась для расстрела Николая и его семьи, я распределил роли и указал, кто кого должен застрелить. Я снабдил их револьверами системы «Наган». Когда я распределил роли, латыши сказали, чтобы я их избавил от обязанности стрелять в девиц, так как они этого сделать не смогут. Тогда я решил за лучшее окончательно освободить этих товарищей, в расстреле, как людей неспособных выполнить революционный долг в самый решительный момент».
Отстранив «отказников» от участия в «акте революционной мести» и разработав план дальнейших действий, Я.М. Юровский простился с П.З. Ермаковым, который должен был вернуться назад через несколько часов.
Согласно разработанному «сценарию», возвращение П.З. Ермакова было запланировано на 12 часов ночи, а условным паролем по его возвращению должно было стать слово «Трубочист». Прибыть же П.З. Ермаков должен был не один, а вместе с грузовиком, на котором сразу же после казни планировалось вывезти трупы казнённых. А, кроме того, П.З. Ермаков должен был привезти в ДОН постановление о расстреле Царской Семьи, заверенное подписями членов Президиума Уральского Облсовета.
После прибытия П.З. Ермакова, коменданту Я.М. Юровскому следовало разбудить всех узников ДОН, после чего проводить их вниз, в приготовленную для расстрела комнату, где уже должны были находиться «закалённые товарищи», заранее распределившие роли известным читателю образом.
Чтение привезённого П.З. Ермаковым Постановления являлось приговором и должно было явиться сигналом общей готовности для назначенных в расстрельную команду лиц.
Сразу же по его прочтению, все эти лица должны были одновременно выстрелить в сердце каждой из намеченных жертв, завершив тем самым (выражаясь словами Г.П. Никулина) «первый пункт программы нашей большевистской партии».
Однако в действительности все вышло далеко не так гладко, как планировалось в этом «сценарии».
Первая «неувязка», с которой пришлось столкнуться Я.М. Юровскому, заключалась в том, что возвратившийся в 10 часов вечера П.З. Ермаков, прибыл не на грузовике, а на легковой машине Р.И. Берзина. Вместе с ним в ДОН приехал и Ф.И. Голощёкин, а также сотрудник УОЧК С.А. Бройдт, временно сопровождавший последнего в качестве личного телохранителя.
Ф.И. Голощёкин вручил Я.М. Юровскому бумагу — Постановление Исполнительного Комитета Уральского Областного Совета, скреплённое печатью, а также подписанное членами его Президиума — им самим и Г.И. Сафаровым, — в котором, вопреки ранее принятому решению, говорилось о расстреле лишь одного Николая II, а не всей Царской Семьи, вместе с находящимися при Ней слугами.
Это обстоятельство вызвало «естественное» недоумение коменданта, имевшего на этот счёт, согласно предварительной договорённости, прямо противоположную точку зрения.
О том, что в тексте данного постановления говорилось о расстреле лишь одного Государя, упоминается и в воспоминаниях П.З. Ермакова.
«Когда я доложил Белобородову, что могу выполнить, то он сказал сделать так чтобы были все разстреляны... (Подчёркнуто мною. — Ю.Ж.) и «…тогда я коменданту в кабинете дал постановление облостного исполнительного Комитета Юровскому, то он усомнился, по чему (не) всех, но я сказал, нада всех и разговаривать нам свами долго нечего время мало пора приступать». (Подчеркнуто мною — Ю.Ж.).
Приведённая выше выдержка из воспоминаний П.З. Ермакова, говорит о том, что между Я.М. Юровским и Ф.И. Голощёкиным (действия которого в данном случае П.З. Ермаков выдаёт за свои собственные) имели место какие-то разногласия.
Это же самое обстоятельство косвенно подтверждает и сын М.А. Медведева (Кудрина) — историк-архивист М.М. Медведев, который делает справедливый вывод, что Ф.И. Голощёкин и Г.И. Сафаров, как люди, наиболее хорошо знавшие В.И. Ленина, были противниками оглашения в официальном Постановлении Президиума Исполкома Уральского Облсовета (являвшегося по сути приговором в отношении Государя) каких-либо упоминаний в отношении остальных членов Царской Семьи. Ибо, как помнит читатель, центральная власть официальной санкции не давала даже на расстрел Царя, не говоря уж о Его близких! Посему и подписали сей документ с упоминанием в нем имени лишь одного Государя, а все остальные, как бы подразумевались… Ибо все Они официально должны были быть отправлены в «надёжное место»… И это самое обстоятельство Ф.И. Голощёкин пытался, как мог, доказать Я.М. Юровскому, которого текст данного «приговора» никак не устраивал.
Предположив, что Ф.И. Голощёкин что-то не договаривает или же ведёт за спиной Президиума Исполкома Уралсовета какую-то свою игру, Я.М. Юровский, во избежание возможных недоразумений, решает пригласить в ДОН А.Г. Белобородова, подпись которого, кстати говоря, на этом документе отсутствовала.
С приездом последнего (прибывшего, чтобы лично проконтролировать казнь Романовых и Их слух) сложившаяся ситуация разъяснилась окончательно. Ибо А.Г. Белобородов пояснил всем присутствующим политическую ситуацию, которая была уч-тена членами Президиумом Исполкома Уральского Облсовета при составлении текста данного постановления, добавив также, что, несмотря на содержание данного документа, команде исполнителей следует действовать в строгом соответствии с решением, принятым на состоявшемся накануне совместном совещании.
Следует также отметить, что сам А.Г. Белобородов участия в расстреле не принимал и по одной из версий остался ночевать в комнате коменданта.
Вторая «неувязка» состояла в том, что ожидаемая Я.М. Юровским машина, прибыла в ДОН на полтора часа позже планируемого срока, что, естественно, сдвинуло время, намеченное для расстрела.
Отведённое для убийства тёмное время суток неумолимо заканчивалось, а это, в свою очередь, нервировало многих присутствующих, которые своим поведением только нагнетали и без того нервозную обстановку, сложившуюся вокруг ДОН за последние дни.
Ждать было больше уже нельзя, и комендант решил начинать…
Сразу же после того, как прибыл грузовик с водителем С.И. Люхановым, Я.М. Юровский разбудил доктора Е.С. Боткина и попросил его разбудить всех остальных. Необычность своей просьбы, комендант объяснил тем, что по имеющимся у него сведениям, в данную ночь ожидается нападение на дом анархистов, для чего все его «жильцы» в целях их же безопасности должны быть временно переведены в нижние этажи, а также быть наготове на случай возможного отъезда.
Минут через 40–50 минут Царская Семья и Её слуги были готовы, после чего все они, в сопровождении Я.М. Юровского, Г.П. Никулина, П.С. Медведева, двух лиц внутреннего караула, М.А. Медведева (Кудрина) и П.З. Ермакова, стали спускаться вниз по лестнице, насчитывающей 19 ступеней. (А не 23, как с лёгкой руки писателя-фальсификатора М.К. Касвинова наивно считают некоторые исследователи!) На руках у Великой Княжны Анастасии Николаевны была крохотная декоративная собачка Джимми, а Анна Демидова несла с собой две подушки.
Спустившись на первый этаж, следовавший во главе этой процессии Я.М. Юровский, открыл перед следовавшим за ним Государем (державшим на руках больного сына) дверь, выводящую во внутренний двор дома Ипатьева. Пройдя по нему всего несколько метров, все они вновь оказались перед дверью, которая со стороны этого двора вела в нижний этаж дома. Проследовав через анфиладу комнат первого этажа, Царская Семья и находившиеся при Ней слуги оказались в предназначенной для расстрела комнате и сразу ощутили беспокойство — в ней полностью отсутствовала какая-либо мебель.
Эту неловкую паузу помогла преодолеть находчивость Я.М. Юровского.
Из воспоминаний А.А. Стрекотина:
«Юровский коротким движением рук показывает арестованным как и куда надо становиться и спокойно, тихим голосом: «Пожалуйста вы встаньте сюда, а вы — вот сюда, вот так в ряд».
Все это время Наследник Цесаревич находился на руках Государя — мальчик был болен и мог передвигаться самостоятельно — и Государыня, которая страдала сильными болями в ногах, произнесла фразу: — Здесь даже стульев нет! — безусловно, обращённую, к коменданту.
Из записи беседы с Г.П. Никулиным:
«Когда мы спустились в подвал, мы тоже не догадались сначала там даже стулья поставить, чтобы сесть, потому что этот был… не ходил, понимаете, Алексей, надо было его посадить. Ну, тут моментально, значит, поднесли это. Они так это… когда между собой… Тут же внесли, значит, стулья, села, значит, Александра Федоровна, наследника посадили…».
После этого Я.М. Юровский приказал Г.П. Никулину принести стулья: один для мальчика, другой — для Александры Фёдоровны. Г.П. Никулин принёс два стула, на один из которых Государь посадил Сына, а на другой села Государыня.
Ближе к центру комнаты (в левой её части) был установлен стул, на который был посажен Наследник Цесаревич, под спину которого была подложена одна из принесённых А.С. Демидовой подушек. Рядом с Наследником (слегка прикрывая его) находился Государь, который изредка перебрасывался с Государыней отдельными фразами на английском языке. Позади стула расположился доктор Е.С. Боткин. В левом углу комнаты разместились Старший повар И.М. Харитонов и Лакей А. Е. Трупп.
В правой части комнаты также был установлен стул, на который села Государыня. Рядом с Ней встали три Её Дочери — Великие Княжны: Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна и Мария Николаевна. А за ними, прислонившись к косяку двери кладовой комнаты, расположились Великая княжна Анастасия Николаевна и находившаяся рядом с ней А.С. Демидова с подушкой в руках.
А напротив своих будущих жертв уже заняли места Г. П. Никулин, П.З. Ермаков, М.А. Медведев (Кудрин), а также, вполне возможно, что и А.Т. Паруп вместе с С.А. Бройдтом.
На какое-то незначительное время Я.М. Юровский выходит вместе с П.С. Медведевым из комнаты, прикрыв за собой двери. А сделал он это, вот по какой причине.
Почти в самый последний момент Я.М. Юровский вдруг вспомнил, что находящемуся возле пулемёта на чердаке дома А.Г. Кабанову, им же самим было строго-настрого приказано, открывать огонь без предупреждения, в случае появления на площади пред домом каких-либо посторонних лиц, во время проведения этой акции. И поэтому у него не было абсолютной уверенности в том, что Ф.И. Голощёкин, изъявивший желание выйти на эту самую площадь (чтобы послушать будут ли слышны выстрелы) не будет сражён меткой пулемётной очередью бывшего лейб-гвардейца, который попросту может и не узнать его в ночной темноте. К тому же и сам облик партийного властителя Урала, успевшего в царских ссылках обзавестись весьма заметным брюшком, более смахивал на сытого буржуа, нежели на вождя местных пролетариев. А так как А.Г. Кабанов прекрасно знал в лицо П.С. Медведева, которому подчинялась и вся наружная охрана ДОН, задачей последнего было предотвратить создавшуюся угрозу, что, собственно говоря, и было им проделано.
Воцаряется напряжённая тишина…
Через несколько минут Я.М. Юровский, стремительно распахивая двери, входит в комнату.
После того, как «латыши» выстраиваются в указанном для них месте, Я.М. Юровский, ещё раз оглядев всех присутствующих, просит сидящих встать.
Местное время — приблизительно 2 часа 50 минут пополуночи!
Из воспоминаний М.А. Медведева (Кудрина):
«…зло сверкнув глазами, нехотя поднялась со стула Александра Федоровна. В комнату вошел и выстроился отряд латышей: пять человек в первом ряду, и двое — с винтовками — во втором. Царица перекрестилась. Стало так тихо, что со двора, через окно, слышно как тарахтит мотор грузовика.
Юровский на полшага выходит вперёд и обращается к Государю…
Точный текст обращения Я.М. Юровского к Государю, вряд ли может быть когда-либо доподлинно установлен, так как был произнесён им, своего рода, экспромтом.
Однако суть его (со слов А.А. Якимова) остаётся, приблизительно, следующей:
— Николай Александрович!
Ваши родственники старались Вас спасти, но этого им не пришлось. И мы принуждены Вас сами расстрелять…».
Очень верно, на мой взгляд, трактует данную ситуацию Э.С. Радзинский в своей книге «Господи… спаси и усмири Россию», в которой он, в частности, пишет:
«…клочок бумаги, который прочел Юровский в ночь расстрела никакого отношения к официальному Постановлению Уралсовета не имел. Не только по убогой фразеологии, но и по существу дела. Юровский читал о казни Романовых, а официальное постановление было только о казни Романова».
Единственное, пожалуй, с чем можно не согласиться, так это, что Я.М. Юровский зачитывал какую-либо бумагу в принципе. Ибо, на мой взгляд, никакой бумаги в руках коменданта не было, а своё обращение к Государю он сделал исключительно произвольно.
В пользу этой версии говорят не только свидетельские показания, но и заявление непосредственно самого коменданта, а также его помощника:
«Он (приговор. — Ю.Ж.) был сказан на словах тут. Нет, на словах… так очень коротко».
На вопрос же М.М. Медведева о возможном отсутствии данного документа вообще, Г.П. Никулин пояснил:
«Нет. Там, может быть, в Президиуме документ, может быть, и был. А здесь, у нас на руках не было».
Как бы то ни было, факт остаётся фактом: 10 человек убитые в эту ночь вместе с Государем, пали жертвой не только абсолютного беззакония, но и полного произвола уральских властей, творящий таковой в угоду собственного изуверства.
Поначалу смысл сказанных Я.М. Юровским слов не дошёл до Государя, так как Он в тот момент, обращённый лицом к Государыне, перебрасывался с Ней короткими фразами на английском языке. Посему, обернувшись к Я.М. Юровскому, Он переспросил: Что? Что?
Не ожидая подобного поворота событий, Я.М. Юровский был вынужден повторить свои слова вновь. Обратимся еще раз к книге Э.С. Радзинского:
«Переспросил» — и «более ничего не произнес»! Так пишут Юровский и Стрекотин.
Но царь сказал еще несколько слов… Юровский и Стрекотин их не поняли. Или не захотели записать.
Ермаков тоже не записал. Но о них помнил. Немногое он запомнил, но этого не забыл. И даже иногда об этих словах рассказывал.
Из письма А.Л. Карелина (Магнитогорск): «Помню, Ермакову был задан вопрос: «Что сказал царь перед казнью?» «Царь, — ответил он, — сказал: «Вы не ведаете, что творите».
Нет, не придумать Ермакову эту фразу, не знал он ее — этот убийца и безбожник. И уж совсем не мог знать, что эти слова Господа написаны на кресте убиенного дяди царя — Сергея Александровича. Царь повторил их».
Сразу же после этого, М.А. Медведев (Кудрин), не дожидаясь, пока Я.М. Юровский повторит всё сказанное им прежде, опередив остальных на какие-то секунды, на глазах у всех первым стреляет в Государя, ибо прекрасно понимает, что судьба никогда уже больше не предоставит ему такой уникальной возможности «вписать своё имя в историю».
До самых последних дней своей жизни Я.М. Юровский не смог простить ему этой «непростительной выходки». Посему, описывая расстрел, во всех своих мемуарах ни разу не упомянул фамилии «настоящего цареубийцы» М.А. Медведева (Кудрина). И лишь только раз он написал: «Принимать трупы я поручил Михаилу Медведеву, это бывший чекист и в настоящее время работник ГПУ».
Вспоминает М.М. Медведев:
«Юровский никогда не спорил с отцом. Более того, однажды он сказал отцу: «Эх, не дал ты мне докончить чтение — начал стрельбу! А ведь я, когда читал второй раз ему постановление, хотел добавить, что это месть за казни революционеров…».
А после того, как раздались первые выстрелы М.А. Медведева (Кудрина), началась беспорядочная стрельбы по всем жертвам без разбора.
А теперь постараемся представить то, что могло произойти дальше.
Осознав, что его «опередили», Я.М. Юровский, видимо, забыв о находящимся в кармане Нагане, только тогда начинает вынимать свой Маузер из кобуры, машинально отступая с ним в правый свободный угол комнаты. И, вероятнее всего, именно тогда он делает свои первые выстрелы в сторону несчастных жертв.
Произведя эти выстрелы, Я.М. Юровский слегка перемещается в сторону дверного проёма, где и получает при попытке очередного прицеливания, лёгкое касательное ранение руки от пули нагана А.Г. Кабанова, а М.А. Медведев (Кудрин) получает от его же оружия лёгкое ранение шеи. А Кабанов, бывший «лейб-гвардеец», в силу ущемлённого самолюбия, а также «горя революционной ненавистью к кровавому тирану», не выполнив распоряжения коменданта (несмотря на запрет Я.М. Юровского, приказавшего ему во время расстрела находиться на своём посту и внимательно наблюдать за площадью перед домом), самовольно оставляет свой пост, чтобы принять участие в этом убийстве. Оказавшись в комнате, предшествующей той, где совершалось убийство, он «разрядил свой наган по осужденным». А так как А.Г. Кабанов находился позади любопытных, толпящихся в дверном проёме комнаты убийства, то стрелял он, что называется, поверх их голов, посему вместе с Романовыми, чуть не уложил и упомянутых лиц.
Опасаясь за безопасность вверенных ему людей, а также ввиду того, что в комнате уже стояла сплошная пелена из порохового дыма и известковой пыли, Я.М. Юровский даёт команду о прекращении огня, которая почти сразу же выполняется всеми, кроме П.З. Ермакова, который вошёл в раж, и поначалу не намерен был вовсе подчиняться каким-либо приказам…
Из Протокола допроса П.С. Медведева:
«…зайдя в ту комнату, где был произведен расстрел, увидел, что все члены Царской Семьи: Царь, Царица, четыре дочери и Наследник уже лежат на полу с многочисленными ранами на телах. Кровь текла потоками. Были также убиты доктор, служанка и двое слуг. При моем появлении Наследник еще был жив — стонал.
К нему подошел Юровский и два или три раза выстрелил в него в упор.
Наследник затих.
Картина убийств, запах и вид крови вызвали во мне тошноту».
Из воспоминаний Я.М. Юровского:
«Например, доктор Боткин лежал, опершись локтем правой руки, как бы в позе отдыхающего, револьверным выстрелом с ним покончил. Алексей, Татьяна, Анастасия и Ольга были живы. Жива была еще и Демидова».
Из письма А.Г. Кабанова М.М. Медведеву:
«Когда я вбежал в помещение казни, я крикнул, чтобы немедленно прекратили стрельбу, а живых докончили штыками. Но к этому времени [в] живых остались только Алексей и Фрельна (Фрейлина. — Ю.Ж.). Один из товарищей (П.З. Ермаков. — Ю.Ж.) в грудь фрельны стал во[н]зать штык американской винтовки Винчестер. Штык вроде кинжала, но тупой и грудь не пронзал, а фрельна ухватилась обеими руками за штык и стала кричать».
Из воспоминаний А.А. Стрекотина:
«Кроме того, живыми оказались еще одна из дочерей и та особа, дама, которая находилась при царской семье. Стрелять в них было уже нельзя, так как двери все внутри здания были раскрыты, тогда тов. Ермаков видя, что держу в руках винтовку со штыком, предложил мне доколоть оставшихся в живых. Я отказался, тогда он взял у меня из рук винтовку и начал их докалывать. Это был самый ужасный момент их смерти. Они долго не умирали, кричали, стонали, передергивались. В особенности тяжело умерла та особа — дама. Ермаков ей всю грудь исколол. Удары штыком он делал так сильно, что штык каждый раз глубоко втыкался в пол. Один из расстрелянных мужчин, видимо, стоял до расстрела во втором ряду и около угла комнаты, и когда их стреляли он упасть не мог, а просто присел в угол и в таком положении: остался умершим».
Из воспоминаний В.Н. Нетребина:
«Младшая дочь б/царя упала на спину и притаилась убитой. Замеченная тов. Ермаковым она была убита выстрелом в грудь. Он, встав на обе руки, выстрелил ей в грудь».
Выше уже говорилось, что после прекращения огня выяснилось, что некоторые из жертв оказались живы. В силу этих обстоятельств, Я.М. Юровский лично достреливает Е.С. Боткина и Великую Княжну Ольгу Николаевну, а П.З. Ермаков убивает штыком А.С. Демидову и достреливает Великую Княжну Анастасию Николаевну. Ещё одной неожиданностью для убийц стала «исключительная живучесть наследника», который вдруг зашевелился и тихо застонал…
Заслышав это, Я.М. Юровский, как говорится, уже не стал второй раз упускать свой шанс — «одним махом покончить с династией!» Подойдя к находившемуся без сознания 13-ти летнему раненному и безнадёжно больному ребёнку, он, вытащил из кармана револьвер Нагана и, приставив таковой к его голове, произвёл, не менее двух выстрелов.
После этого Я.М. Юровский предлагает П.З. Ермакову и М.А. Медведеву (Кудрину) (как представителям РККА и УОЧК) удостовериться в смерти каждой из жертв. А в случае проявления признаков жизни у кого-нибудь из них — добить.
Следуя примеру коменданта, М.А. Медведев (Кудрин) подошёл к лежавшей на полу лицом вниз, Великой Княжне Татьяне Николаевне (которая также вдруг стала подавать признаки жизни) и, вытащив из кобуры свой Кольт, выстрелил в неё один раз, так как к тому времени магазин его Браунинга был уже пуст.
Но картина этой зверской расправы не была бы полной, если бы вслед за ней не последовало вполне закономерное в таких случаях мародёрство.
И, конечно же, в числе его первых застрельщиков оказался П.З. Ермаков, который первым делом, вытащив у мертвого Государя золотой портсигар, положил его себе в карман.
«Почин» П.З. Ермакова был поддержан А.А. Стрекотиным и другими, не менее «закаленными товарищами», когда трупы казнённых стали переносить в кузов грузовика.
Узнав об этом, Я.М. Юровский остановил «товарищей» и, собрав всех участников, предложил немедленно вернуть награбленное, пригрозив расстрелом. Понимая, что комендант не намерен шутить, многие подчинились. Все они (включая и А.А. Стрекотина) были немедленно отстранены, а дальнейшая переноска трупов стала уже осуществляться под непосредственным контролем Г.П. Никулина (в комнате) и М.А. Медведева (Кудрина) (по пути следования к грузовику).
Почти сразу же после убийства возникла проблема: как переносить тела убиенных. Выход нашли быстро. Из каретного сарая были принесены две оглобли, к которым привязали простыни, соорудив, таким образом, нечто, подобное носилкам. Первым на них положили Государя. Следом за несущими Его бренное тело двинулся М.А. Медведев (Кудрин), который позднее вспоминал:
«Около грузовика встречаю Филиппа Голощекина.
— Ты где был? — спрашиваю его.
— Гулял по площади. Слушал выстрелы. Было слышно.
Нагнулся над царем.
— Конец, говоришь, династии Романовых?! Да…»
После того, как все тела были погружены на машину и накрыты шинельным сукном, П.З. Ермаков сел в кабину к шофёру С.И. Люханову, чтобы указывать дорогу, а М.А. Медведев (Кудрин) и двое, вооружённые винтовками, «латышей — Я.М. Целмс и А. Верхаш разместились в кузове, чтобы сопровождать останки Романовых к месту их последнего «упокоения».
Около 3 часов 30 минут утра 17 июля 1918 года, автомобиль, гружёный 11-ю телами расстрелянных, выехал из ворот дома Ипатьева на Вознесенский переулок, проехав который свернул на Колобовскую улицу, откуда двинулся в сторону Верх-Исетского металлургического завода.
Эпилог
17 июля 1918 года в Екатеринбурге было совершено преступление, оправдать которое, даже самыми «высшими целями во благо» невозможно. Ибо убийство Помазанника Божия не просто «преступная политическая акция», а отступление от всех норм Православного миропредставления: «Царь — устроение Божие»! И то, что случилось потом с нашей страной и людьми — все немыслимые мучения и страдания нашего народа, на мой взгляд, есть ни что иное, как кара Божия.
Когда весть об убийстве Царя (о смерти всех членов Семье тогда ещё не было известно) дошла до патриарха, он, Святейший Патриарх Тихон, произнёс в московском Казанском Соборе проповедь, в которой сказал:
«Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь Расстрелянного падёт на нас, а не только на тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего Государя: беспристрастный суд над Ним принадлежит истории, а Он теперь предстоит перед нелицеприятным Судом Божиим. Но мы знаем, что Он отрёкся от Престола, делая это, имея в виду благо России и из любви к ней… Он ничего не предпринял для улучшения Своего положения, безропотно покорился судьбе…
И вдруг Он приговаривается к расстрелу, где-то в глубинке России, небольшой кучкой людей (тогда ещё никто не знал, что инициатива убийства всей Царской Семьи исходила, непосредственно от Центральной власти. — Ю.Ж.), не за какую-то вину, а за то только, что его будто бы кто-то хотел похитить. Приказ этот приводится в исполнение, и это деяние, уже после расстрела, одобряется высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом как христиане, как сыны Церкви».
А задолго до него, тысячу раз прав был Святитель Земли Русской отец Иоанн Кронштадский (И.И. Сергиев), отразив в 1905 году в одной из своих проповедей саму суть приближающегося момента: «Если не будет покаяния у Русского Народа, конец мира близок! Бог отнимет у Него Благочестивого Царя и нашлёт самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами».
Точнее и не скажешь. Так и вышло. И продолжалось более семидесяти лет самозванной коммунистической диктатуры, ввергшей страну в хаос и экономический тупик.
За десять лет до падения коммунистического режима Государь Император Николай II был причислен клику Святых Русской Православной Церковью за Границей, а в 2000 году — Архирейским Собором Московской Патриархии.
Посему нам — живущим сегодня и переосмысливающим эту минувшую трагедию, следует помнить слова, написанные в Тобольске Великой Княжной Ольгой Николаевной после отъезда Её Августейших Родителей:
«Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь…»
Юрий Жук Жизнь и смерть Великого Князя Михаила Александровича
Штрихи к биографии
Великий Князь Михаил Александрович был четвёртым и самым младшим сыном Императора Александра III. Он родился в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге 4 декабря (22 ноября) 1878 года и был третьим по преемственности Престола Государства Российского после своих Августейших Братьев — Великих Князей Николая и Георгия.
По воспоминаниям знавших его людей из ближайшего окружения, Михаил рос умным и энергичным юношей высокого роста, крепкого телосложения и приятной наружности. С самых ранних лет его увлечениями была верховая езда, охота, спорт и театр, а позднее — вождение автомобиля и авиация.
Многие царедворцы также отмечали его воспитанность, скромность и даже застенчивость. В общении с людьми, независимо от их общественного положения, Михаил Александрович отличался своеобразным «демократизмом», предпочитая подчас общество своих наставников, а не царственных родственников. В силу этих обстоятельств, некоторые считали его безвольным и легко попадающим под чужое влияние. Но это абсолютно не соответствовало действительности, так как Великий Князь был способен принимать самостоятельные решения, а в силу необходимости пойти и на самопожертвование.
Полковник А.А. Мордвинов, состоявший до 1912 года в должности адъютанта при Великом Князе, впоследствии вспоминал:
«Многим Михаил Александрович казался безвольным, легко попадающим под чужое влияние. По натуре он действительно был очень мягок, хотя и вспыльчив, но умел сдерживаться и быстро остывать. Как большинство он также был неравнодушен к ласке и излияниям, которые ему всегда казались искренними. Он действительно не любил (главным образом, из деликатности) настаивать на своём мнении, которое у него всегда всё же было, и из этого же чувства такта стеснялся и противоречить. Но в тех поступках, которые он считал — правильно или нет — исполнение своего нравственного долга, он проявлял обычно настойчивость, меня поражавшую».
Наряду с этим, Михаил Александрович считался самым богатым среди Великих Князей Дома Романовых, но при этом, совершенно непритязательным.
И вспоминая об этом, всё тот же А.А. Мордвинов писал:
«Деньгами для себя лично он не придавал никакого значения, совсем плохо разбирался в относительной стоимости различных вещей и оставался совершенно безучастным ко всем докладам, говорившим об увеличении его материальных средств».
10 июля (18 июня) 1899 года во время совершаемой велосипедной прогулки близ местечка Абастумани Тифлисской губернии от приступа чахотки скоропостижно скончался Великий Князь Георгий Александрович. Посему, уже 7 июля 1899 года Своим Именным Указом Государь повелел: «доколе Господь Бог не благословит Нас рождением сына», впредь именовать Великого Князя Михаила Александровича «Государем Наследником и Великим Князем». Вместе с означенным титулом, Великий Князь Михаил Александрович унаследовал также немалую долю имущества своего покойного брата, но не получил титул «Цесаревич», который носил его покойный брат. И, несмотря на то, что факт сей, весьма долго обсуждался при Дворе Вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны, он, тем не менее, всё же легко объяснялся тем, что молодая Императрица не теряла надежду на то, что вскоре у Нее родится сын. А после рождения у Августейшей Четы Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, Великий Князь стал носить титул «Правителя Государства». (Имелось в виду, что он стал бы таковым в случае преждевременной кончины Государя и до достижения Наследником Цесаревичем возраста совершеннолетия.)
Путь служения Отечеству у Великого Князя, как и у всех Членов Императорского Дома Романовых, был один — служба в армии. Поэтому, начиная с рождения, Михаил Александрович был записан в целый ряд самых элитных подразделений Императорской Русской Армии — Лейб-Гвардии Преображенский полк, Лейб-Гвардии 4-й Стрелковый Императорской Фамилии батальон, Лейб-Гвардии Уланский Его Величества полк и др.
Вступив в службу в апреле 1900 года, он был приписан к расквартированному в Гатчине Лейб-Гвардии Кирасирскому Е.В. Государыни Императрицы Марии Федоровны полку, а через шесть лет, в марте 1906 года он был назначен командиром Первого эскадрона полка «Синих кирасир». (Так в обиходе называли эту элитную воинскую часть.)
«Эта любовь, подобно огню очистила меня…»
Великий Князь Михаил Александрович впервые познакомился с Натальей Сергеевной на праздничном фуршете, организованном в здании Полкового манежа «Синих кирасир», по окончании обеденной церковной службы на «Николу Зимнего». Следующая их встреча состоялась во время главного события светской жизни Гатчины — Рождественском балу «Синих кирасир». И для всего полкового сообщества был весьма удивительным тот факт, сколько внимания уделил брат Государя поручику В.В. Вульферту и его красавице жене.
К тому времени, Наталья Сергеевна Вульферт, дочь известного московского адвоката С.А. Шереметьевского, уже успела побывать замужем за С.И. Мамонтовым (аккомпаниатором в Большом театре и племянником мецената Саввы Мамонтова) и родить ему дочь Наташу (Тату). А оформив развод с С.И. Мамонтовым в 1905 году, сразу же вышла замуж за Владимира Владимировича Вульферта, начавшего службу в полку «Синих кирасир» Корнетом в 1900 году.
Наталья Сергеевна Вульферт была женщиной красивой и образованной, обладавшей каким-то особенным, присущим только ей шармом. И можно представить себе, как же она была хороша, если даже спустя двадцать лет Французский Посланник в России Морис Палеолог написал:
«Она прелестна. Ее туалет свидетельствует о простом индивидуальном и утонченном вкусе… Выражение лица гордое и чистое; черты прелестны; глаза бархатистые. Малейшее ее движение отдает нежнейшей грацией…»
С самого первого дня их знакомства, Великий Князь был пленен, поэтому нет ничего удивительного в том, что их роман развивался слишком бурно на глазах всего полка…
Сближению Михаила Александровича и Натальи Сергеевны способствовало также и то, что Великий Князь и В.В. Вульферт были знакомы ещё ранее по совместному серьёзному увлечению — фотоделом. А отец последнего — Владимир Карлович Вульферт был первым Председателем Русского Фотографического Общества, покровителем которого с 1902 года был Великий Князь Михаил Александрович. Поэтому они часто все вместе гуляли по Старой Гатчине, предпочитая места, связанные с детством Великого Князя.
Так прошёл весь 1908 год. Разумеется, особое Августейшее внимание не могло не тешить самолюбия Натальи Сергеевны. К весне 1909 года стало понятно, что их чувства становятся взаимными. Однако следует заметить, что Наталья Сергеевна неукоснительно выдерживала, положенную замужней женщине «дистанцию», не нарушая священных уз брака. В мае 1909 года противиться чувствам обоих более не стало сил, и она заявила мужу, что более не сможет с ним делить супружеское ложе. Владимир был потрясён и даже под угрозой пистолета совершил над ней насилие, которое привело к тому, что для Натальи уважаемого ею ранее мужа, более не стало… После этого Наталья Сергеевна не могла более оставаться в Гатчине и по совету Великого Князя на некоторое время уехала в Европу.
При встрече со своим Августейшим Братом, оправившись от потрясения, поручик В.В. Вульферт повёл себя достойно и при встрече один на один с Великим Князем заявил, что лишь при соблюдении двух условий готов предоставить своей супруге развод. Первое. Если Великий Князь даст слово жениться на Наталье Сергеевне. И второе — если Михаил оставит Наталью в покое и не посмеет пребывать с ней в близких отношениях. Если же Великий Князь предполагает иметь ее в содержанках, то он — поручик В.В. Вульферт не посмотрит на то, что он брат самого Государя, и вызовет его на дуэль. Естественно, что в данных условиях, ни один из «мирных вариантов» был не приемлем. Посему, оставалась только дуэль… И вот, когда уже были выбраны секунданты и приготовлена дуэльная пара пистолетов, неожиданно последовал вызов к Государю…
Государь выразил Свое крайнее недовольство тем шумом и сплетнями, которые возникли вокруг имени Великого Князя. И посему повелевает немедленно сдать командование эскадроном и немедленно отправляться в Орёл, где принять командование Черниговским Гусарским полком, Августейшим Шефом которого была в то время Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна.
В Орёл Великий Князь отправился незамедлительно, где и принял командование означенным полком.
Вызов на дуэль Великого Князя не прошёл бесследно и для поручика В.В. Вульферта, которому предложили подать рапорт об отставке по причине «недостойного поведения». Однако, понимая ситуацию, ему в виде компенсации было предложено одно из видных мест по Дворцовому Ведомству в Москве — работа в Оружейной Палате Московского Кремля с весьма приличным жалованием. Проживая в Москве, он снова сочетался браком с девицей купеческого сословия Верой Григорьевной Петуховой, известной своей красотой.
Следующая встреча Михаила и Натальи состоялась лишь 5 августа в Копенгагене, в «Королевских апартаментах» гостиницы «Англетер», где уже никто не мог помешать им. Восемь дней они пробыли вместе. Великий Князь писал в своем дневнике: «Эта любовь, подобно огню, очистила меня. Я стал человеком».
И, тем не менее, ситуация была безвыходной. Ибо любое покушение на незыблемые устои высшего общества не давали им ни малейшей надежды на взаимное счастье, статьи Свода Законов Российской Империи, гласили: «… никто из Великих Князей и Великих Княжон не может вступить в брак с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому».
Михаил и Наталья тосковали друг без друга. Так как Великий Князь должен был постоянно находиться в Орле (куда был запрещён въезд для его возлюбленной), а Наталья Сергеевна, по настоянию Государя не должна была проживать, не только в пригородах Санкт-Петербурга, но и в имении Брасово. Посему Великий Князь вынужден был приобрести для неё большую квартиру под Москвой, по Петербургскому шоссе, где они планировали свои встречи.
«Мой нежный друг сердечный, — писал в своём письме Великий Князь Наталье Сергеевне, — Боже мой, как я страдаю без тебя, не могу и выразить тебе того полного чувства ужасной, страшной тоски, которое переполняет мою душу и сердце. Сердце моё прямо разрывается от мысли, что я тебя долго не увижу. Я так тоскую и страдаю от чувства разлуки с тобой и так ясно чувствую, что жить без тебя не могу, просто не в силах! Я чувствую к тебе такую огромную любовь, такую привязанность, которую ещё никогда не чувствовал, и ни разу не тосковал по тебе до такой степени, как теперь, это просто что-то ужасное…»
Но подходило время очередного отпуска, и Государь не мог не дать таковой, хотя бы на двенадцать дней, которые любящие сердца провели вместе в октябре 1909 года, путешествуя между Санкт-Петербургом и Москвой, после чего Великий Князь вновь уехал в Орёл. А вскоре стало известно, что у Натальи Сергеевны будет ребёнок.
Но даже и в такой ситуации ничего нельзя было сделать, поскольку Наталья Сергеевна формально оставалась замужней женщиной, сочетавшейся церковным браком, посему все права на ещё не родившегося ребёнка мог иметь только её супруг В.В. Вульферт.
Однако за месяц до рождения ребенка дело, наконец-то сдвинулось с мёртвой точки — с разрешения Государя документы о разводе были переданы на рассмотрение в Священный Синод 25 июня 1910 года.
6 августа (24 июля) 1910 года родила сына Георгия, но развод с В.В. Вульфертом, которому Великий Князь заплатил «200 тысяч отступных», и тот взял эти немалые деньги, удалось окончательно оформить уже после его рождения.
Своим Указом Правительствующему Сенату от 13 ноября 1910 года, не подлежащего обнародованию, Государь предписывал: «Сына состоявшей в разводе Натальи Сергеевны Вульферт, Георгия, родившегося 24 июля 1910 года, Всемилостивейше возводим в Потомственное Дворянское Российской Империи Достоинство, с предоставлением ему фамилии Брасов и отчества Михайлович». А так как фамилия Брасов ранее не числилась в Родословных Книгах Российского Дворянства, то появлению таковой, младенец Георгий был обязан исключительно названию имения, принадлежавшего Великому Князю. А по прошествии немногим менее года, Государь согласился на предоставление Наталье Сергеевне Вульферт фамилии Брасова, а также разрешил ей жить в имении Своего брата — Брасово, где она наконец-то смогла почувствовать себя полноценной хозяйкой.
3 апреля 1911 года Великий Князь был переведён в Санкт-Петербург и назначен на должность Командира Кавалергардского Е.В. Государыни Императрицы Марии Фёдоровны полка. Своим местом жительства, Михаил Александрович избрал принадлежавший ему особняк, доставшийся ему по наследству после смерти дяди — Великого Князя Алексея Александровича, не оставившего после себя законных наследников. Расположенный на Английской набережной, особняк был по сути дворцом с весьма скромным внешним видом и роскошным внутренним убранством.
Черниговский Гусарский полк Великий Князь сдал 7 мая. Однако вплоть до осени 1911 года был вынужден оставаться в Орле, так как Высочайшим Указом от 3 сентября 1911 года возглавляемый им ранее полк переименовывался в Лейб-Гвардии Черниговский Гусарский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк. (Кстати сказать, Полковое Объединение этого воинского подразделения дольше всех смогло сохраниться в условиях эмиграции и отметить свой 300-летний юбилей в 1968 году).
Следует отметить, что перед прибытием в столицу, на протяжении всего 1911 года, Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна не раз и не два намекала сыну, чтобы он не вздумал приехать в столицу вдвоём со своей «гражданской женой». Однако Михаил и на сей раз не послушал свою Августейшую Мать и прибыл к новому месту службы вместе с Натальей Сергеевной. Посему престарелый Министр Императорского Двора и Уделов граф Б.В. Фредерикс был вынужден объявить Великому Князю, чтобы тот вместо дворца удовольствовался казённой квартирой на Шпалерной улице, что, собственно говоря, не встретило со стороны Великого Князя никаких возражений. А для своей Наташи и детей он снял достойную квартиру в доме № 16 по Литейному проспекту, которую та не замедлила обставить с присущим ей изысканным вкусом.
Но Свод Законов Российской Империи не был единственным препятствием на пути к вступлению в законный брак, так как Великий Князь незадолго до рождения сына был вынужден дать Государю слово никогда не предпринимать попыток к женитьбе на Наталье Сергеевне. Посему ее проживание с Михаилом Александровичем на положении «не жены и не вдовы» только ухудшило её положение в обществе, став одной из излюбленных тем для всевозможных сплетен…
В первых числах сентября 1912 года оба брата Романовы вместе со своими семьями разъехались в осенние отпуска. Великий Князь Михаил Александрович и Наталья Сергеевна выехали за пределы России, предполагая провести отпуск по маршруту: Германия — Австрия — Италия — Франция. Отправляясь в это путешествие, Михаил Александрович поставил в известность всех сопровождавших его лиц, что в Канны они прибудут к концу ноября и что он вместе с Натальей Сергеевной будут добираться туда самостоятельно на своём автомобиле.
Обладавший незаурядными способностями конспиратора, Великий Князь Михаил Александрович, находясь в Вене, за 1000 австрийских крон, пожертвованных им на сербский храм Святого Саввы, уговорил его настоятеля Мисича совершить между ним и Натальей Сергеевной обряд венчания. Что и произошло 16 октября 1912 года в присутствии свидетелей — церковного сторожа и супруги самого Мисича. А так как обряд венчания, сотворённый в любом из Православных Храмов, находящегося под юрисдикцией одного из славянских государств, не мог быть расторгнут Святейшим Синодом, то дело молодых было «беспроигрышным» и поставило всех перед свершившимся фактом…
Государь, получив телеграмму из города Бертехсгадена, был крайне возмущён поступком Своего брата, нарушившим своё слово и поступившим, не считаясь с интересами России. Дело в том, что Государь и Его Семья в это самое время находились в Спале, где с больным гемофилией Наследником Цесаревичем Алексеем Николаевичем случилось несчастье: в результате ушиба у него открылось сильное внутреннее кровотечение, с которым долгое время не могли справиться опытные врачи. Узнав об этом из газет, Михаил Александрович со всей очевидностью осознал, что здоровье его племянника находится в критическом положении, и что трагический исход может наступить в любой момент. Поэтому, раздумывая над тем, что если он вдруг будет объявлен Наследником Престола, то свои высокие обязанности Лица Императорской Крови он, безусловно, примет на себя, но уже находясь в церковном браке с Натальей Сергеевной. Посему и нарушил данное Государю слово и поспешил вступить в законный брак, закрепив таковой записью о венчании: «Дворянка Наталья Брасова, дочь Потомственного Дворянина Сергея Александровича Шереметьевского и Юлии Вячеславовны».
Ссылка на болезнь Алексея Николаевича возмутила Государя. Он Государь воспринял это как личное оскорбление, написав Матери: «между мною и им сейчас всё кончено. Ему нет дела до нашего горя, ни до скандала, который это событие произведёт в России. И в такое время, когда все говорят о войне, за несколько месяцев до юбилея Дома Романовых!»
Безмерно рассерженный, Он, в нарушение закона, а также данных обязательств, 15 декабря 1912 года подписал Указ Правительственному Сенату о передаче в опеку имущества Великого Князя Михаила Александровича, а 30 декабря с него было снято звание «Правителя Государства», а также объявлены предпринятые к нему самые суровые меры воздействия.
В силу именно этих обстоятельств, Великий Князь был вынужден жить за границей как частное лицо. Прожив некоторое время в Австро-Венгрии, Михаил Александрович с супругой и детьми переехали в Великобританию, где поселились в ранее приобретённом им замке Небворт, близ Лондона.
В Небворте, Михаил и Наталья, предоставленные самим себе, были счастливы. Говорят, что противоположности характеров притягивают людей друг к другу. Своенравная и немного капризная Брасова и мягкий, застенчивый, с радостью подчиняющийся ей Великий Князь прекрасно уживались друг с другом. В своём замке они часто принимали гостей из России, в числе которых был Ф.И. Шаляпин и балерина Т.П. Карсавина. Время от времени, супруги совершали путешествия во Францию, в Италию. По сей день в личном фонде Н.С. Брасовой одного из лондонских архивов сохранились толстые альбомы в переплётах из зеленой кожи, в которые Михаил Александрович аккуратно вклеивал многочисленные фотографии: супруги с друзьями в Венеции, Риме, Неаполе, Пизе. Она — в роскошных туалетах, он — в штатском, в котелке или светлом кепи.
Тоскуя по России, Великий князь, как-то поднявшись в Париже на Эйфелеву башню, написал на открытке: «С этой высоты можно увидеть Гатчину…»
На фронтах Великой войны
1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну.
Находясь в Великобритании, Великий Князь Михаил Александрович незамедлительно написал Государю письмо с просьбой разрешить ему вернуться на Родину.
«Меня можно в наказание лишить прав и имущества, связанных с моим рождением, — писал он в этом письме, — но никто не может лишить меня права пролить кровь за Родину!»
И Николай II, не задумываясь, дал Своё Высочайшее Соизволение, разрешив брату вернуться в Россию. Однако, ввиду военного положения, возвращение из Великобритании состоялось кружным путём: морем вокруг Скандинавии и далее через Норвегию и Финляндию.
Как только стало известно о возвращении Великого Князя, Наместник Кавказа и Командующий войсками Кавказского военного Округа, Генерал-Адъютант Граф И.И. Воронцов-Дашков подал Государю прошение о том, чтобы Его Высочество «в знак внимания и милости к народам Кавказа» был назначен Командиром вновь образуемой из кавказских горцев конной дивизии. Именно эта дивизия вскоре покроет себя неувядаемой славой. Командиром Кабардинского полка этого формируемого соединения был сын Наместника Кавказа, Полковник Граф Илларион Воронцов-Дашков, ранее состоявший в должности адъютанта Великого Князя в бытность его службы в Лейб-Гвардии Черниговском Гусарском полку, который, собственно говоря, и подсказал своему отцу идею этого назначения. Идя навстречу верному слуге Отечества, Государь Своим Высочайшим приказом по Действующей Армии от 23 августа 1914 года утвердил данное соединение под наименованием «Кавказской туземной конной дивизии». Она состояла из шести конных полков: Кабардинского, 2-й Дагестанского, Чеченского, Татарского, Черкесского и Ингушского.
23 августа 1914 года Великий Князь был произведён в чин генерал-майора с зачислением в Свиту Его Величества и 30 августа отправился на фронт в Галицию, командовать «Туземной», или как её чаще называли, — «Дикой дивизией».
По воспоминаниям современников, Великий Князь Михаил Александрович всегда с изумительным спокойствием и полным хладнокровием, не обращая внимания на пролетавшие пули и разрывы снарядов, смотрел в глаза смертельной опасности. Находясь почти всегда в самой гуще боя, он был бодр, весел и отважен, за что горцы полюбили его всем сердцем.
«Офицеры любили его за дивные душевные качества, — писал в своей книге воспоминаний генерал-майор А.И. Спиридович. — Дикие же горцы-всадники — за его храбрость и еще больше за то, что “наш Михаил — брат самого Государя”. Тут любовь переходила просто в обожание. Горцы его боготворили».
По сложившейся в «Дикой дивизии» традиции, рядовых конников не называли «нижними чинами», как это было принято во всех подразделениях Императорской Русской Армии, а величали «всадниками». А так как у горских народов не существовало обращение на «вы», то к своим офицерам, генералам и даже к самому Великому Князю всадники обращались на «ты», что нисколько не умаляло значения и авторитета командного состава в их глазах, а также никоим образом не отражалось на поддержании воинской дисциплины.
Вера в своего командира была так велика, что одним своим появлением в войсках, Великий Князь воодушевлял горцев.
«Через глаза нашего Михаила Сам Бог смотрит», — сказал как-то умиравший в госпитале горец, когда Великий Князь пришел его навестить.
Скоро вести о личной отваге и мужестве брата Государя вышли далеко за пределы его дивизии. Так, известный в начале минувшего столетия писатель и журналист Н.Н. Брешко-Брешковский писал:
«Он всегда там, где опасно и где противник развил губительный огонь. Толкает Михаила Александровича в этот огонь личная отвага сильного физически, полного жизни воина и кавалериста… Полки, видя Великого Князя на передовых позициях своих, готовы идти за ним на верную смерть».
А вот в своих письмах Наталье Сергеевне, которая в то время жила в Гатчине вместе с детьми, Великий Князь, наоборот, всячески скрывал от неё подстерегавшую его на каждом шагу смерть.
«Я больше сижу дома и страшно тоскую. Быть на войне и так мало пользоваться свежим воздухом даже глупо».
На самом же деле, «свежего воздуха» было, хоть отбавляй! Равно как и отсутствие неведомой ему скуки. Находясь постоянно на передовой, он зачастую лично водил свои войска в атаки, чуть ли не ежедневно рискуя собственной жизнью. В одном из таких боёв, возглавляемый Великим Князем передовой отряд дивизии, значительно оторвался от её основных сил и напоровшись в лесу на превосходившую численностью пехоту, состоящую из Тирольских стрелков, спешившись, принял неравный бой, в результате которого погибла большая часть этого отряда и почти все тирольцы, малой части из которых удалось спастись бегством.
В представлении о награждении Великого Князя Михаила Александровича, единогласно одобренного Георгиевской Думой Юго-Западного фронта, говорилось, что он представлен к Ордену Св. Георгия 4-й степени за отличие в боях за Карпатские перевалы в январе 1915 года, где он «подвергал свою жизнь большой опасности, вдохновляя и подбадривая своих солдат и офицеров примером личной храбрости и мужества под непрерывным вражеским огнём во время атак превосходящих сил противника, и, при переходе Русской Армии в наступление, своими активными действиями способствовал успешному развёртыванию маневров остальных войск».
Со слов родоначальника Русской военной авиации, Великого Князя Александра Михайловича, Михаил Александрович «…был всеобщим любимцем на фронте, и его Дикая дивизия, состоявшая из кавказских туземных частей и по сей день всё ещё не выходившая из боёв, считалась Ставкой лучшей кавалерийской боевой единицей».
Однако не следует забывать, что Государь Император Николай II был весьма и весьма щепетилен, когда дело касалось награждения кого-либо из его родственников. Однако в данном случае, Государь не смог отказать Георгиевской Думе, к тому же он и сам нисколько не сомневался в заслуженной им по праву награде. Посему 5 марта 1915 года Своим Высочайшим Повелением Государь утвердил таковое. Более того, Своим Указом Правительственному Сенату от 26 марта 1915 года дарует сыну Михаила Александровича титул Графа Брасова.
В 1915 году Великий Князь был награжден Георгиевским Оружием — шашкой офицерского образца с позолоченным эфесом с надписью «За храбрость». Пользуясь благоприятным моментом, он обращается к Государю с просьбой узаконить их брак с Натальей Сергеевной. Сменив гнев на милость, Государь к осени этого же года официально признаёт этот брак и дарует его супруге титул Графини Брасовой. А, кроме того, этим же Указом Правительственному Сенату прекращает «опеку над личностью, имуществом и делами Великого Князя». Наконец-то со всей семьёй Великий Князь, теперь уже на вполне законных основаниях, переезжает в свой дворец на Английской набережной.
Госпиталь на Английской набережной, Брасово и снова Гатчина
Следуя традиция Членов Императорского Дома Романовых, Великий Князь Михаил Александрович предоставил свой дворец под лазарет, носящий его имя, где лечились раненые на фронтах Великой войны. Непосредственно же сам госпиталь был утверждён Сергиевским Православным Братством, над которым Великий Князь покровительствовал с августа 1905 года.
Наталья Сергеевна не сидела, сложа руки, а с присущей ей энергией включилась в работу. Она закупала всё необходимое для госпиталя: от больничных коек до медицинского оборудования, нанимала персонал — врачей и сестёр милосердия. В результате уже довольно скоро госпиталь мог принять 100 раненых нижних чинов и 25 офицеров. Небольшой филиал этого госпиталя на 30 раненых был организован Натальей Сергеевной в Гатчине.
Последние годы перед революцией имение Брасово стало излюбленным местом отдыха для Натальи Сергеевны, где она по-настоящему чувствовала себя хозяйкой. Будучи натурой тонкой и образованной, она обладала отменным чувством прекрасного, поэтому её гостями часто бывали люди искусства. В брасовском имении подолгу работал Академик Живописи С.Ю. Жуковский, композитор С.В. Рахманинов был частым гостем в её доме.
Особыми праздниками для неё были те дни, когда в Брасово приезжал с фронта Михаил Александрович. В каждый свой приезд он непременно принимал крестьян и по возможности удовлетворял все их просьбы. На средства от имения содержался местный детский приют и богодельня — для калек и немощных. Из личных средств Великого Князя учителя местных школ получали приличную прибавку к жалованию, а сами школы бесплатно получали дрова.
После событий Февральской смуты Михаил Александрович официально передал брасовский дворец со всеми своими коллекциями серебра, фарфора и живописи местным крестьянам, которые по-прежнему относились к нему с теплотой и преданностью. И позже, во время революции имение не было ни разграблено, ни сожжено.
Начиная с весны 1915 года, Наталья Сергеевна вместе с детьми жила в Гатчине на Николаевской улице, в небольшом домике, похожем на английский коттедж, куда приезжал Великий Князь в свой краткосрочный отпуск.
Отречение, которого не было
В начале 1916 года Великий Князь покинул «Дикую дивизию» и получил назначение на должность Командира 2-го Кавалерийского корпуса, выведенного к тому времени в резерв войск Юго-Западного фронта. В числе прочих кавалерийских дивизий, попеременно входивших в состав этого соединения, её неизменным костяком оставалась Кавказская Туземная Конная дивизия, бойцы которой, как уже говорилось выше, просто боготворили своего командира. К своим новым обязанностям он приступил 4 февраля, то есть в то время, когда вверенный ему корпус находился в составе 7-й Армии.
За успешное командование корпусов в ходе летних боёв 1916 года, Великий Князь Михаил Александрович Высочайшим Повелением от 2 июля был воспроизведён в чин генерал-лейтенанта, а 1 сентября 1916 года — в генерал-адъютанты при Особе Его Императорского Величества.
В конце 1916 года Михаил Александрович заболел дифтерией, и некоторое время был вынужден лечиться, после чего в феврале 1917 получил отпуск по болезни, который намеревался провести на своей даче под Гатчиной, где его и застали события Февральской смуты.
По сей день многие исследователи, придерживающиеся советской историографии, считают Великого Князя Михаила Александровича «калифом на час, восседавшем на российском престоле всего один день» и отрекшимся уже на следующие сутки после отречения Императора Николая II.
Но существует и другое мнение, согласно которому провозглашённый Императором Михаилом II Александровичем, Великий Князь Михаил Александрович де-юре был таковым. И это справедливо, так как на тот момент, то есть на 14 (2) марта 1917 года Государь Император Николай II Александрович обладал высшей законодательной властью, и принятые Им решения не мог отменить никто. А о том, что отрекшийся Государь считал Своего Августейшего Брата Своим законным преемником, гласит отправленная Им телеграмма от 15 (3) марта, в которой Великий Князь именован уже Его Императорским Величеством Михаилом Вторым.
Передача Российского Престола Великому Князю Михаилу Александровичу, стала для него полной неожиданностью. Ибо, с одной стороны, нельзя было нарушать легитимную преемственность престолонаследия династии Романовых, а с другой, принять на себя всю полноту власти не позволяла сложившаяся в стране политическая ситуация — большинство граждан России требовали созыва Учредительного Собрания, которое в конечном итоге и должно было избрать окончательную форму политического правления в России. Посему, фактически поставленный перед фактом своего монаршего служения, новоявленный Император Михаил Второй, как человек чести и верный сын Отечества, долго колебался: принять таковой или же всё-таки подождать намечавшегося Учредительного Собрания и его решения. Останется ли Россия, как прежде монархией или же станет республикой с выборной формой правления. Вот, что необходимо было знать, чтобы принять решение. А так как было очевидно, что монархия не удержится, Император Михаил Второй почёл за благо не воспринять переданную ему верховную власть до созыва Учредительного Собрания, издав об этом соответствующий Манифест от 3 (15) Марта, заканчивающийся словами:
«Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и обеспеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего прямого и тайного голосования, Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа».
Однако из этого не следует, что после подписания этого манифеста Император Михаил Второй отрёкся от Престола, снова став Великим Князем. Нет! И ещё раз нет!
Не отрекаясь от Престола Государства Российского, он фактически не принял на время Верховную власть, продолжая, тем не менее, юридически оставаться Императором Всероссийским, вплоть до разгона Учредительного Собрания большевиками и прочими экстремистами левого толка, узурпировавшими власть в стране при помощи немецких денег.
Михаил Александрович был человеком высоких нравственных качеств, что отмечали не только его сторонники, но и политические противники. Большевик Владимир Гущик, будучи комиссаром Гатчинского дворца, в котором Великий Князь окажется впоследствии под домашним арестом, говорил: «Великий Князь имел три редких достоинства: доброту, простоту и честность. Ни одна партия не питала к нему неприязни. Даже социалисты всех тонов и оттенков относились к нему с уважением».
Посему, кажется очевидным, что решающим в оценке шансов Михаила Романова как нового политического лидера в то время, имел его неоспоримый авторитет и любовь к нему в войсках. И, конечно же, не следует забывать, что он покрыл себя неувядаемой славой, командуя знаменитой «Дикой дивизией», бойцы и командиры которой, не поддавшись революционной пропаганде, сохраняли до последних дней верность Долгу и Присяге. В воспоминаниях офицеров-горцев о том времени говорилось: «отречение Государя от Престола потрясло всех, и того “энтузиазма”, с которым якобы всё население встретило отречение, не было. Была общая растерянность, вскоре сменившаяся каким-то опьянением от сознания, что “теперь — всё позволено”. Всюду развевались красные флаги и пестрели красные банты. В Дикой дивизии никто их не надел — кроме обозников и матросов-пулемётчиков».
Однако, устойчивая и стабильная обстановка, сохранявшаяся после событий Февральской революции в Кавказской Туземной Конной дивизии, воины которой не привечали большевиков, устраивала далеко не всех. Реальной силы этой дивизии опасались в революционном Петрограде, находящемся во власти пьяного разгула, анархии и повсеместного беззакония. И вполне вероятно, что мог бы наступить такой момент, когда оставшиеся верными Престолу и Отечеству бойцы Русской Армии, ведомые своими командирами, прекратили бы пьяный разгул солдатских масс в столице бывшей Империи. Но именно этого, «восшествия на Престол посредством штыков», более всего и опасался Великий Князь, не пожелавший воспользоваться политическим моментом.
3 марта 1917 года в 10 часов утра на квартире Князя П.П. Путятина открылось совещание на котором обсуждался вопрос: объявлять или нет возложенные на Великого Князя обязанности Императора? Причём, многие из присутствующих, в числе них был и А.Ф. Керенский, прямо советовали Михаилу Александровичу не делать этого, считая, что новая власть в лице Временного Правительства не сможет гарантировать его личной безопасности. А значит — Натальи Сергеевны и всех остальных членов его семьи.
А.И. Гучков и П.Н. Милюков, наоборот, убеждали Великого Князя в том, что он не только может, но и обязан, взойдя на трон, принять верховную власть. Однако, прекрасно понимая, что в данный момент в стране нет реальной политической силы, на которую он мог бы опереться, Великий Князь подписал свой манифест о не восприятии верховной власти до созыва Учредительного Собрания.
Тексты Акта об отречении Императора Николая II и Манифеста Императора Михаила II были обнародованы одновременно 5 марта 1917 года в «Вестнике Временного Правительства» и стали, фактически, теми основополагающими документами, которые предрешили исторический выбор России в пользу парламентской республики.
Последние беспокойные месяцы семейного счастья
Уже на второй день после отречения Государя Императора Николая II от престола Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов вынес постановление об аресте Царской Семьи. В нём особо указывалось: «По отношению к Михаилу произвести фактический арест, но формально объявить его лишь подвергнутым фактическому надзору революционной армии».
В силу этих обстоятельств на заседании Временного Правительства 5 марта 1917 года рассматривалось письмо Михаила Александровича. В нем речь шла о том, что необходимо принять неотложные меры по должной охране всех Членов Императорской Фамилии. В вынесенном по этому поводу решении говорилось: «Поручить Военному Министру установить по соглашению с Министром Внутренних Дел, охрану лиц Императорского Дома».
С весны 1917 года Великий Князь Михаил Александрович, не принимавший никакого участия в политической жизни страны, жил на своей даче под Гатчиной, ведя незаметный образ жизни.
1 августа 1917 года с разрешения Министра-Председателя А.Ф. Керенского он прибыл в Царское Село попрощаться со своим Августейшим Братом, высылаемым в далёкий Тобольск, не подозревая ни на минуту, что всего через каких-то восемь месяцев он сам отправится в город Пермь, который станет последним местом его земного пристанища.
Однако бурные политические события лета 1917 года не желали обходить стороной Великого Князя. В дни, так называемого «Корниловского мятежа», некоторыми монархическими кругами в Москве и Петрограде были предприняты попытки наладить связь с высланной в Тобольск Царской Семьёй. Посему из частной поездки в Тобольск бывшей личной фрейлины Вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны М.С. Хитрово был раздут контрреволюционный заговор. Новая власть заявила, что целью его было похищение Царской Семьи. Ни сном ни духом не ведая об этом, в числе «заговорщиков» оказались Великий Князья Павел Александрович со своей морганатической супругой графиней О.В. Палей и их сыном — графом В.П. Палей, а заодно с ним и Великий Князь Михаил Александрович вместе с Натальей Сергеевной, в отношении которых Временное Правительство приняло постановление об их аресте.
Вследствие этого, вечером 21 августа 1917 года у обоих Великих Князей были произведены обыски, за которыми наблюдал сам А.Ф. Керенский, прибывший для личного в них участия.
Явившись на дачу Михаила Александровича, А.Ф. Керенский объявил ему, что с сего числа он вместе с членами своей семьи находится под домашним арестом, вплоть до выяснения всех обстоятельств дела. А так как «монархический заговор» на деле не существовал, то, выражаясь современным языком, дело было прекращено «за отсутствием состава преступления».
Но пришедшие к власти большевики не забыли о Михаиле Александровиче. Почти сразу после Октябрьского переворота Петроградский Военно-Революционный Комитет на своём заседании от 13 ноября 1917 года занялся рассмотрением вопроса о переводе Михаила Александровича из Петрограда (точнее, из его пригорода), непосредственно в саму Гатчину или Финляндию, вследствие чего было принято решение, закреплённое в протоколе:
«Комиссар Гатчины Рошаль удостоверил, что Гатчина и линия железной дороги всецело в наших руках. Постановили: Военно-Революционный Комитет возражений против перевода его под домашний арест в Гатчину [не имеет]».
Известно также, что в ноябре 1917 года Великий Князь Михаил Александрович, добровольно явился в Смольный и имел встречу с Управляющим Делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичем. Он обратился к нему с просьбой узаконить его положение в Советской Республике, чтобы заранее исключить нежелательные инциденты. И Бонч-Бруевич выдал «добровольно отрекшемуся» Великому Князю документ на официальном бланке СНК Р.С.Ф.С.Р. дающий ему — рядовому гражданину Советской Республики, Михаилу Александровичу Романову разрешение на «свободное проживание».
Не успокоившись на достигнутом, «рядовой гражданин Р.С.Ф.С.Р. М.А. Романов» в конце 1917 года подаёт в СНК Р.С.Ф.С.Р. официальное прошение с просьбой о перемене «императорской фамилии Романов» на фамилию «Брасов». А так как подобный случай являл собой своего рода прецедент, Нарком Госконтроля Р.С.Ф.С.Р. Э.Э. Эссен доложил об этом В.И. Ульянову-Ленину в ходе личной беседы. На что «вождь мирового пролетариата» ответил, что «этим вопросом он заниматься не будет».
«Страсти по Михаилу»
Придя к власти 25 октября 1917 года, большевики почти сразу же заявили, что выходят из войны. Не согласовав это с бывшими союзниками, вожди Советской России объявили о полной демобилизации Царской Армии. Оголялся Восточный фронт, немецкие части вдруг оказались перед пустыми окопами. В силу этих обстоятельств, Германия предлагала молодой Советской Республике заключить перемирие, чтобы вслед за ним начать переговоры. Они начались в декабре в Брест-Литовске. Советскую сторону представляла делегация, возглавляемая одним из первых лиц государства — Л.Д. Троцким. Германская сторона требовала непомерно высокой контрибуции, а также отторжения от России территорий Прибалтики, Украины, Белоруссии и русской части Польши. В ответ на эти требования Л.Д. Троцкий предложил всем странам, воюющим против Германии, немедленно заключить мир «без аннексий и контрибуций». Видя, что переговоры заходят в тупик, немцы предъявили советской делегации ультиматум: либо Советская Россия принимает германские условия, либо Германия продолжает войну. В ответ на это Троцкий потребовал «ни мира, ни войны», и советская делегация вместе со своим лидером покинула Брест-Литовск. Иными словами, мы не ведём войны, но и не подписываем никаких мирных соглашений. Срок данного ультиматума истекал 17 февраля, посему уже 15 февраля В.И. Ульяновым-Лениным был подписан Декрет об образовании Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
По окончании обусловленного срока Германия вновь начала наступление. Но так как противник по существу отсутствовал, всё наступление свелось к продвижению эшелонов воинских частей на Восток и оккупации никем не защищаемых территорий. Испугавшись дальнейшего захвата незащищенных территорий, а оккупированы были к тому времени уже Белоруссия, Латвия и Эстония, Советское правительство 19 февраля 1918 года сообщило по радио о своём согласии на условия, выдвинутые Германией. Германские войска уже стояли в непосредственной близости от Петрограда, 25 февраля был занят Псков, и красные властители, опасаясь прорыва к «колыбели революции», сочли за благо перебраться в Москву, Разумеется, в строжайшей тайне, поздним вечером 10 марта 1918 года.
Большевики боялись, что в случае прорыва к Петрограду немецких войск Великий Князь может быть захвачен и в дальнейшем использован в качестве нового Правителя России, поэтому 7 марта 1918 года Михаил Александрович, его секретарь Н.Н. Джонсон, а также некоторые лица из его ближайшего окружения были арестованы по постановлению Гатчинского Совдепа и доставлены в Петроград, в помещение Петроградской ЧК, располагавшейся тогда в доме № 2 по Гороховой улице.
9 марта 1918 года на заседании Малого Совнаркома Председатель Петроградского ЧК М.С. Урицкий предложил выслать «бывшего великого князя Михаила Александровича» и других лиц в пределы Пермской губернии. Вот выписка из протокола: «Слушали: «О высылке [великого] князя Романова и других лиц в Пермскую губ.[ернию]. (Докладчик — Урицкий). Постановили: Принять проект постановления с внесёнными поправками. Высылку М.А. Романова поручить т. Урицкому».
И дальше: «Бывшего великого князя Михаила Александровича Романова, его секретаря Николая Николаевича Джонсона (…) выслать в Пермскую губернию впредь до особого распоряжения. Местожительство в пределах Пермской губернии определяется Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, причём Джонсон должен быть поселён не в одном городе с бывшим великим князем Михаилом Романовым». Подписано — В.И. Ульянов-Ленин.
Верный Джонни
Н.Н. Джонсон (в некоторых источниках он назван Брайаном Джонсоном) был Управляющим и личным секретарём Великого Князя. Некоторые исследователи называют его английским подданным. Однако это не соответствует действительности, так как его отец Николай Крутиков был русским, а мать — Анна Крутикова-Джонсон — англичанка по происхождению, русская подданная. О его отце мало что известно, а сведения о матери ограничиваются лишь тем, что она была «преподавателем музыки при царском дворе».
Сам Николай Николаевич родился в России и был крещён по православному обряду. Как и Великий Князь Михаил Александрович, он окончил Михайловское Артиллерийское Училище и в дальнейшем проходил службу в одной из артиллерийских частей. Должность Личного Секретаря Великого Князя Н.Н. Джонсон занял в 1912 году.
И, надо признать, что секретарь из Джонни (так дружески называл его Великий Князь) получился замечательный, просто незаменимый. Николай Николаевич знал три языка, причем, по воспоминаниям современников, на английском говорил с акцентом и гораздо хуже самого Михаила Александровича, который говорил на нём столь безукоризненно, что вполне мог сойти за англичанина. Некоторые черты личности Джонсона мы можем представить по воспоминаниям, письмам, фрагменты которых приведены в самом полном исследовании супругов Кроуфорд «Михаил и Наталья». «Круглолицый, среднего роста, общительный и улыбчивый, Николай Николаевич был очень музыкален, собственно, они и с Михаилом так быстро сблизились благодаря любви к музыке. Известно, что великий князь в молодые годы с увлечением занимался композицией, написал неплохой вальс, арию, он хорошо играл на разных инструментах, предпочитая, однако, гитару. Джонсон часто аккомпанировал Михаилу на рояле».
Во всех делах Великого Князя Н.Н. Джонсон принимал самое живое участие, выполняя также самые щепетильные его поручения. А в его отсутствие, фактически на правах члена семьи, всегда находился рядом с Натальей Сергеевной, поддерживая её словом и делом в трудных ситуациях.
В дни Февральской смуты Н.Н. Джонсон также неразлучен с Михаилом Александровичем. В самые критические моменты быстро и без проволочек выполняет все его поручения, ставшие уже тогда историческими. 3 марта 1917 года, находясь вместе с Великим Князем на квартире Князя П.П. Путятина, он осуществляет его связь по телефону с юристом А. Матвеевым во время обсуждения деталей предстоящего Манифеста. И именно Н.Н. Джонсон 31 июля 1917 года убеждает Министра-Председателя А.Ф. Керенского разрешить Михаилу Александровичу увидеться со своим братом — экс-Императором, перед самой отправкой всей Царской Семьи в далёкую Сибирь.
А когда в дни так называемого «Корниловского мятежа» Великий Князь был подвергнут, по распоряжению А.Ф. Керенского, аресту, Н.Н. Джонсон трогательно и энергично опекал своего господина, у которого от перенесённых волнений открылась язва. Несколько раз он ездит в Петроград, в Штаб Петроградского военного Округа, и добивается, в конце концов, перевода Михаила Александровича под домашний арест, в квартиру его юриста Алексея Матвеева на Фонтанке. Помимо этого Н.Н. Джонсон вступает в контакт с Британским Посланником, сэром Джорджем Бьюкененом, благодаря ходатайствам которого Великий Князь был выпущен из под ареста. Однако принять «опального Великого Князя» правительство Великобритании всё-таки не решилось, чем в немалой степени оказалось виновно в его последующей гибели. Во время этих встреч Дж. Бьюкенен настоятельно рекомендовал Н.Н. Джонсону покинуть Россию, на что тот ответил: «Я не оставлю Великого Князя в такой тяжёлый момент».
Путь на Голгофу
Собираясь в пермскую ссылку, которая, как полагал Великий Князь, могла продлиться долго, он, помимо личного багажа, взял с собой большую сумму денег, много книг, аптечку и даже один из принадлежавших ему автомобилей — «Роллс-Ройс». А на все просьбы супруги Натальи Сергеевны, желавшей разделить участь своего супруга, отвечал категорическим отказом, ссылаясь на то, что сейчас их дети как никогда нуждаются в её присутствии.
На основании всё того же Постановления Пермь высылался бывший Начальник Гатчинского Жандармского Отделения по Балтийской Железной Дороге, полковник по Отдельному Корпусу Жандармов П.Л. Знамеровский (он отбыл в ссылку вместе с супругой) и делопроизводитель Гатчинского дворца А.М. Власов. А вместе с Великим Князем в добровольную ссылку отправился не только верный Н.Н. Джонсон, но и личный камердинер Великого Князя В.Ф. Челышев, и шофёр П.Я. Борунов.
Для охраны ссыльных в столь длительной дороге были назначены латышские стрелки, вероятнее всего из состава Комендантского взвода Петроградской ЧК: Квятковский, Менгель, Эглита, Лейнгарт, Элике, Гинберг и Шварц.
По пути в Пермь Н.Н. Джонсон каким-то образом узнал, что ему предписывалось в дальнейшем проживать с Михаилом Александровичем в раздельных городах. Посему он во время стоянки на станции «Шарья» отправил телеграмму на имя Председателя СНК Р.С.Ф.С.Р. В.И. Ульянова-Ленина, в которой просил не разлучать его с его со своим патроном:
«Постановлением Совнарком(а) по прибытии в Пермь меня распоряжением разлучают (с тем), у кого я (состою) секретарём; не прибыли еще даже (в) Вятку несмотря на четырехнедельное томительное путешествие, совершающееся при самых тяжелых условиях. Прошу вас и Совет (Народных Комиссаров) принять (во) внимание расстроенное его здоровье, усугубленное таким путешествием. (Прошу) телеграммой отменить состоявшееся Постановление о разлучении».
Точно с такой же просьбой, ввиду собственной «болезни и одиночества», Великий Князь обратился к Управляющему Делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичу, на что последний дал своё согласие.
В связи с прибытием арестованных столь высокого ранга, накануне их приезда, на заседании Пермского Губисполкома от 17 марта 1918 года было принято решение:
«§ 4. Вопрос об аресте Романова и др.
[П о с т а н о в л е н о: ] заключить Романова в тюремную больницу, остальных в тюрьму на общий тюремный режим и информировать об этом Комиссариат внутренних дел».
Поэтому сразу же по прибытии в Пермь их обоих сразу же поместили в больничное отделение Пермской Губернской тюрьмы (в то время — Пермского Исправительного Дома). Поэтому Великий Князь вновь был вынужден обратиться к В.Д. Бонч-Бруевичу с телеграммой следующего содержания: «Сегодня двадцатого (марта) объявлено распоряжение местной власти немедленно водворить нас всех (в) одиночное заключение (в) пермскую тюремную больницу, вопреки заверению Урицкого о жительстве (в) Перми (на) свободе, но разлучно с Джонсоном, который телеграфировал Ленину, прося Совет (Народных Комиссаров) не разлучать (нас) ввиду моей болезни и одиночества. Ответа нет. Местная власть не имея никаких директив центральной (власти), затрудняется, как поступить. Настоятельно прошу незамедлительно дать таковые.
Михаил Романов».
А на следующий день за подписью не только Великого Князя, но и всех этапированных с ним лиц, в адрес центральной власти полетела еще одна телеграмма: «Одновременно посланы телеграммы (Бонн) Бруевичу, Урицкому (с) просьбой принять меры по оставлению нас (на) свободе (в) Перми ввиду состоявшегося Постановления местной власти (в) одиночное заключение (в) тюремную больницу (за) отсутствием Директив Центральной власти. Убедительно просим оказать скорое содействие облегчению судьбы.
Михаил Романов, Джонсон, Власов, Знамеровский».
Ответы из Москвы пришли уже 25 марта 1918 года. В адрес Пермского Совдепа была получена телеграмма:
«В силу Постановления, Михаил Романов и Джонсон имеют право жить на свободе под надзором местной Советской власти.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Владимир Бонч-Бруевич».
Теперь местным властям, поставленным перед фактом, не оставалось ничего иного, как разрешить «гражданину Романову» свободное проживание в городе. Чтобы лишний раз его унизить, Великий Князь должен был к 11 часам утра являться в Пермский Губернский Чрезвычайный Комитет для ежедневной регистрации.
Первое время Михаил Александрович проживал в номерах гостиницы бывшего Благородного Собрания, где в то же самое время жили местные советские и партийные работники. Одним из таких был В.Ф. Сивков, который впоследствии вспоминал:
«Осталась в памяти встреча с Михаилом Романовым, который жил в номере напротив моего, до того, как его перевели в бывшие Королевские номера. Произошло это утром. Когда я уходил на работу, одновременно со мною в коридор вышел стройный высокий блондин с военной выправкой, в сером свободном плаще, в фуражке военного образца и начищенных сапогах. При виде его невольно возникло представление о гвардейце.
Заинтересовавшись этим человеком, явно не из нашей среды, я пошёл за ним, и так мы дошли до губчека. Там он зашел в комнату дежурного коменданта, а я прошёл к Малкову (Председатель Пермской ГубЧК — Ю.Ж.), и рассказав о встрече, спросил, кто это такой.
Павел Иванович улыбнулся, спокойно ответил мне, что это калиф на час, Михаил Романов, в пользу которого Николай II отказался от престола. Он здесь в ссылке и обязан утром и вечером регистрироваться в нашей комендатуре. За ним установлено наблюдение».
Приняв к руководству указания центральной власти, Пермский Совет предупредил Великого Князя, что он снимает с себя какую-либо ответственность за его личную безопасность, если он намерен свободно прогуливаться по городу.
Совсем по-другому, нежели В.Ф. Сивков, описывает свои впечатления сам Михаил Александрович, оставив об этом, весьма красноречивую запись в дневнике за 21 (8) мая 1918 года: «В 11 час. Дж.[онсон], Василий [Челышев] и я отправились в Пермскую Окружную Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией. Я получил бумагу, в которой мне предлагается являться туда ежедневно в 11 час. (Люди добрые, скажите, что это такое!) После этой явки я отправился домой (…)».
Проживая в Перми, Великий Князь, несмотря на предупреждение, зачастую сопровождаемый кучкой зевак, свободно гулял по городу, посещал театр, заводил новые знакомства.
Прожив совсем недолго в гостинице Благородного Собрания, он перебрался в «Королевские номера», располагавшиеся в центре города на Сибирской улице. Жил более чем скромно, занимая вместе с Н.Н. Джонсоном на третьем этаже две небольших комнаты. Не раз и не два Великий Князь захаживал в магазин Добрина, а на вопрос одного из доверенных лиц владельца, почему же он, пользуясь свободой, не предпринимает попыток к побегу, Михаил Александрович ответил: «Куда я денусь со своим огромным ростом? Меня немедленно обнаружат».
Безусловно, пользуясь относительной свободой, Михаил Александрович мог скрыться в любое дневное время. Однако прекрасно осознавал, что его побег может осложнить положение всех его родственников, находящихся во власти большевиков. И, в первую очередь — его семьи и Царской Семьи.
Находясь под надзором, Михаил Александрович, тем не менее, вёл активную переписку со своими друзьями и близкими. И, в первую очередь, с Натальей Сергеевной, которая в первых числах мая приезжала к нему в Пермь, где они вместе провели несколько дней.
Во время её пребывания в Перми супруги много гуляли, принимали визитёров и навещали новых знакомых Великого Князя. Так прошло несколько последних дней их совместной жизни, ибо свидание это было последним. 18 (5) мая Наталья Сергеевна уехала, чтобы уже больше никогда не увидеться с любимым человеком.
Кроме верного Н.Н. Джонсона, в прогулках по городу и по реке Каме на моторной лодке Великого Князя часто сопровождал П.Л. Знамеровский. А незадолго до своей гибели Михаил Александрович, не желавший привлекать к себе внимания, приобрёл на местном магазине простые солдатские сапоги.
Последнюю весточку от Натальи Сергеевны, телеграмму, в которой она сообщала, что уже находится в Москве, Михаил Александрович получил 30 (17) мая. А потом в связи с началом выступления чехословаков корреспонденция в Пермь стала приходить всё реже и реже.
7 июня (25 мая) в помещении Пермской ГубЧК Великий Князь впервые столкнулся с Г.И. Мясниковым, пермским большевиком, Председателем Мотовилихинского РК РКП (б), известным своей грубостью, перешедшего на службу в ЧК как раз накануне этого дня. Тогда, встретив его и напоровшись на его грубость, Михаил Александрович и подумать не мог, что именно этот хам и грубиян, «товарищ из ЧК», всего через несколько дней осуществит свой дьявольский план по его убийству, навсегда войдя в историю, как один из самых жестоких и циничных цареубийц.
Ганька
Гавриил Ильич Мясников родился 25 февраля 1889 года в многодетной крестьянской семье, проживавшей в деревне Берёзовка Чистопольского уезда Казанской губернии. Его отец держал небольшую лавку, в которой торговал предметами первой необходимости. Так как школы в Берёзовке не было, то по достижении восьми лет Гавриил уезжает в Чистополь, где поступает в Чистопольскую школу ремесленных учеников. Учился хорошо, проявляя завидную тягу к наукам. В годы учёбы проживал у знакомых и родственников, снимая угол с кроватью. Однако часто менял место жительства из-за своего неуживчивого характера.
Чистопольскую школу Гавриил Мясников оканчивает в 13 лет. Но к родителям не возвращается и начинает самостоятельную жизнь. Некоторое время он батрачит у частных лиц, а затем, скопив деньги на дорогу, весной 1905 года приезжает в Пермь, где и поступает учеником слесаря в Снарядный цех № 2 Пермского Пушечного Завода, в пригородном посёлке Мотовилиха.
С первого дня все стали звать его Ганька. И это прозвище настолько приросло к нему, что годы спустя, даже В.И. Ульянов-Ленин однажды написал «Гавриил Ильич Мясников (Ганька)», вероятно посчитав это прозвище партийной кличкой. Впрочем, так оно и было.
В заводской рабочей среде Ганька сразу стал своим. Все оценили его старания подражать во всём рабочим постарше и даже перенимать их привычки и манеру говорить. Начало ганькиной работы в какой-то мере совпало с началом революционного подъёма среди рабочих, посему он и оказался, можно сказать, в самой гуще всех происходивших впоследствии событий.
Из автобиографии Г.И. Мясникова:
«Как губка впитывает воду, так и я жадно вбирал в себя всё дотоле невиданное и неслышанное. Я искал правду. Я вступил в члены партии социалистов-революционеров. Это было в мае 1905 года, а в сентябре я покидаю ряды этой партии и вступаю в члены РСДРП. Но внутри социал-демократической партии не было единомыслия: шла борьба между большевиками и меньшевиками. Мне всё было нипочём. Забастовка. Бегу на собрание, раздаю прокламации. Кидаю гайки в стариков-штрейкбрехеров, что остались у станков. Выгоняем их с завода… Волнуюсь, слушаю, учусь, читаю».
Он дал себе довольно точную характеристику, таким он и был — самоуверенный, всегда готовый доказывать свою правоту кулаками.
В декабре 1905 года Ганька в числе дружинников небезызвестного на Урале боевика А.М. Лбова принимает активное участие в вооружённом восстании в Мотовилихе. Он строит баррикады и разоружает охранников. А из 12 отобранных у них револьверов один достаётся ему. Полученное оружие было тут же пущено в ход. «Мы стреляли из дома, — напишет он позднее в своей биографии, — убили двух казаков. Дом разгромили, я был схвачен и избит до полусмерти».
Его подобрали и поместили в больницу, таким образом он избежал ареста и дальше продолжил работу в составе местной партийной организации, которую после разгрома возглавил Я.М. Свердлов.
Не дремали и жандармы, которые летом 1906 года провели хорошо подготовленную акцию и ликвидировали Пермскую организацию РСДРП, результатом чего стал арест 54-х человек, в числе которых оказался и Г.И. Мясников. Состоявшийся суд приговорил Г.И. Мясникова к 2-м годам и 8-ми месяцам каторжных работ в Иркутской ссылке. Но не таков был Ганька, чтобы смириться с судьбой. Прибыв на место, он продал всё имевшееся в его распоряжении имущество, включая и арестантскую одежду, купил на вырученные деньги лодку и бежал… Но был арестован в Тюмени, имея при себе подложный паспорт на имя Агапита Мягкова. По дороге Ганька снова бежал, но вновь был арестован уже на Ленских золотых приисках. Однако и там успел обзавестись документами на имя Нестора Попова и, доставленный в Бодайбо, был освобождён под надзор полиции. И снова побег, теперь он в Баку. После разгрома Бакинской организации РСДРП, последовавшего в 1910 году, он уже в 1911 году организовывает Бакинскую Городскую организацию РСДРП, куда в 1912 году были приняты будущие цареубийцы — чистополец М.А. Медведев (Кудрин) и рижанин А.Я. Паруп (А.Т. Биркенфельд).
В 1913 году он был вновь арестован и по Приговору Выездной Сессии Тифлисской Судебной Палаты получил за антиправительственную деятельность и многочисленные побеги 6 лет каторжных работ, из которых 3 — в кандалах.
Находясь в местах заключения, он занимается самообразованием — много читает, заказывая себе самую различную литературу: от трудов Маркса до Священного Писания.
Из тюрьмы Ганьку освободили события Февральской революции. В марте 1917 года он возвращается в ставшую родной Мотовилиху.
Весенние и летние месяцы 1917 года вынесли Ганьку, старавшегося быть «популярным в народе», на гребень революционной волны. В мае 1917 года Г.И. Мясников был впервые избран в Мотовилихинский Совдеп. А проходившая в стране подготовка к Октябрьскому перевороту и вовсе выдвинула его в число первых политических руководителей — Председателем Мотовилихинского поселкового Совдепа, а также членом Мотовилихинского РК РСДРП (б), равно как и депутатом всех проходивших в Перми партийных конференций и общегородских совещаний. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в октябре 1917 года ЦК РСДРП (б) рекомендовал Г.И. Мясникова от Мотовилихи в Учредительное Собрание, а после захвата власти большевиками — кооптировал в члены ВЦИК.
Первые шаги на пути к убийству
О том, что в Перми проживает высланный из Петрограда Великий Князь Михаил Александрович, причём не только не содержится в тюрьме, а свободно разгуливает по городу без всякой охраны, Мясников узнал случайно, и это известие поразило его как громом: как так, ему — члену ВЦИК, и не сообщили об этом! Поразмыслив, понял, что от него сознательно скрывали этот факт, опасаясь каких-либо нежелательных инициатив с его стороны.
Прошло несколько дней. И как-то при встрече со своим давним недругом, Председателем Пермского Городского Совдепа А.Л. Борчаниновым, Ганька спросил: «А вот скажи-ка, когда привезли Михаила?»
Узнав точную дату приезда Великого Князя, а также и то, что ему официально разрешено свободное проживание в городе и его окрестностях, Ганька пришёл в бешенство. Загородные прогулки с катанием на лодке далеко за его пределами, проживание в лучшей гостинице. Это что же получается? Сняли надзор из-за того, что Губчека всерьёз не считает Михаила Романова контрреволюционером?
Чем дольше он обдумывал эту ситуацию, тем яснее понимал, что если местные по собственному почину расправятся с Великим Князем, то центральная власть, по всей видимости, посмотрит на это обстоятельство сквозь пальцы. А придя к этому выводу, Ганька стал искать пути к его осуществлению.
В написанных Г.И. Мясниковым уже в эмиграции воспоминаниях, которые носят характер исповеди, под названием «Философия убийства или почему и как я убил Михаила Романова», он довольно подробно описал свои внутренние сомнения и переживания в тот момент.
«Что делать? С кем поговорить? На что решиться?
Явное и очевидное преступление против революции неустанно и настойчиво куется чьими-то таинственными руками.
Этот вихляющийся, жидконогий, весь изломавшийся от упоения своей властью председатель Губчека Лукоянов Фёдор, интеллигентик; явное дело, что бьет на то, чтобы казаться страшным и жестоким, хочет грозой быть и головотяпит. Он именно тот, о которых Ленин позже сказал, что к нам, победившим, примазывается всякая сволочь.
Недавний молодой меньшевик и без году неделю большевик.
Но что же делать? Ведь даже поговорить не с кем.
Борчанинов? Нет. Приказ свыше для него — все, это материал неподходящий. Туркин? Выпивает. Не годится. Он хорош трезвый. Молчать где нужно умеет, но пойдет ли он против приказов, если будет нужно? А ведь если есть хотя бы самое малое сомнение, то лучше отбросить. Надо думать одному и делать одному.
Но как делать? Если пойду в «Королевские номера» и просто пристрелю Михаила, то?..
Кто поверит, что я, член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, действовал самостоятельно, без предварительного обсуждения с верхами? Не поверят. Будут шуметь, кричать, и вместо того, чтобы убрать эту падаль с дороги революции, может получиться, что труп Михаила будет превращен в баррикаду мировой буржуазии. Баррикаду контрреволюции. А после моего выстрела будут продолжать расстреливать рабочих. В этом вопросе — что делать? Как выпрямить линию?
Если нельзя ничего сделать с тем безвозвратным, то надо, непременно надо что-то сделать, чтобы этого не было в будущем…»
И Ганька решил действовать.
Встретив Секретаря Пермского Губкома РКП (б), он заявил ему, что хочет перейти на работу в ЧК для «выправления линии». Немало подивившись этому, М.П. Туркин согласился, получив заверения Ганьки, что работа эта будет для него временной.
Следующим шагом было устранение А.Л. Борчанинова, который мог помешать задуманному. И подходящий момент не заставил долго ждать. Зайдя в один из вечеров в Горисполком, Мясников застал А.Л. Борчанинова сильно пьяным. Не мешкая, Ганька вызвал наряд милиции, который и увёз Лукича в отделение «проспаться»… А последствия были самые жестокие — постановлением Пермского Совдепа и Пермского Бюро Губкома РКП (б) А.Л. Борчанинов был снят с занимаемой должности и направлен на фронт.
В первый же день своей работы в ЧК Мясников потребовал у Ф.Н. Лукоянова отчёта о работе, и было принято решение перестроить работу ЧК коренным образом, а именно:
1. Рабочих и крестьян впредь не расстреливать;
2. Определить конкретно, кто подлежит расстрелу: высшие чины полиции, жандармы, шпики, провокаторы;
3. Общая линия ЧК — борьба против буржуазии и священнослужителей.
Все три предложения были приняты безоговорочно, а также произведена кадровая перестановка: мешавший Ф.Н. Лукоянов был направлен на повышение в Екатеринбург, на должность председателя вновь созданной Уральской Областной ЧК, его заместитель П.И. Малков стал председателем. Сам же Г.И. Мясников, хотя и мог возглавить ЧК, но так как это не входило в его планы, выбрал для себя должность его первого заместителя, каковым, по сложившейся в чекистской среде традиции, всегда был Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией.
Заговор убийц
Ганька начал с того, что стал исподволь распространять слухи о «вольной жизни» Михаила Романова в Перми. Рабочие начали роптать и даже собирать по этому поводу митинги. Одна из резолюций такового, попавшая в Пермской Городской Совдеп, гласила: «Если органы власти не посадят Романова-младшего под замок, рабочие сами с ним разделаются».
Всё это как нельзя лучше подходило к планам Ганьки, решившего покончить с Великим Князем. Поначалу он хотел его просто расстрелять. Но вызвав на собеседование в ЧК Михаила Романова и Николая Николаевича Джонсона, понял, что без убийства Н.Н. Джонсона в этом деле не обойтись. А так как Николая Николаевича упорно продолжали считать английским подданным, ясно было, что дело это может закончиться международным скандалом. Поэтому для того, чтобы сгладить эти, с позволения сказать, острые углы, Ганька решил организовать похищение Великого Князя под видом якобы действующей в Перми подпольной офицерской организации. Самим же «похищаемым» следовало сказать о том, что их переводят вглубь России в связи с выступлением чехословаков. А вывезя намеченные жертвы в хорошо известные ему окрестности Мотовилихи, покончить с ними одним махом, после чего объявить о побеге Великого Князя и произвести аресты всех лиц из его ближайшего окружения, после чего — расстрелять уже, так сказать, в официальном порядке…
Когда план был готов, Ганька приступил к выбору подельников в этом деле.
Из воспоминаний Г.И. Мясникова:
«Какой же план? Ввиду приближения фронта, необходимо эвакуировать в глубь России. Это будет написано в мандате того товарища, который войдет к нему и прикажет собираться. От кого мандат? От ЧК. Кто подпишет? Поддельный. Печать? Бланк? Приготовлю заранее. Кто напечатает мандат? Я сам нахлопаю.
Сколько нужно человек? Чем меньше, тем лучше. А сколько? Один пойдет с мандатом в его комнату. Другой будет наблюдать с лестницы, и передавать вниз третьему, а один в запасе: четыре, и я пятый. Достаточно.
Сколько лошадей? Две. На каждой по три человека. Лошади без кучеров. Кучера наши, из этих четверых.
Куда его везти? В Мотовилиху. А где ему могилу сделать? За Малой Язовой. Да это неважно. Да только надо точно знать и определить, чтобы бестолковщины и суетни не было.
Приготовить ли заранее яму или нет? Не нужно. Будут разговоры, догадки. Это не так сложно.
Кого наметить на это дело? Нужно твёрдых, настрадавшихся от самодержавия, видевших все ужасы, все бичи и скорпионы, готовых зубами глотку перегрызть. Нужно людей, умеющих молчать и, в-третьих, верящих мне больше, чем себе, и готовых на всеу если я скажу, что это надо в интересах революции. Таких людей в Мотовилихе немало. Но надо, чтобы они были простыми рабочими, свободными от всяких ответственных постов. Это на всякий случай, чтобы нельзя было свалить на советскую власть, если даже все это всплывет наружу, что прямо невероятно. Итак, берем двух лошадей без кучеров. К 12 часам ночи подъезжаем к Королевским нумерам и действуем. Мандат надо приготовить. Хотя? Ведь я буду работать в ЧК и все сделаю в один вечер.
Как будто план уже есть?
В первую очередь Николай Жужгов. Рабочий. Был в каторге. Видел все прелести царского режима. 7 лет работал в каторге. Все видел. Все испытал. И злоба у него не кипит, нет, а злоба какая-то холодная, расчетливая, не волнующаяся, а постоянная, пропитывающая все его существо. Он будет казнить, не волнуясь, как будто браунинг пристреливает. (…) Это был мститель народный, заряженный на всю жизнь ненавистью к эксплуататорам. Лучшего для моего дела не найти. К тому же он связан со мной дружбой 1905 и 1906 года.
Второго? Василий Иванченко. Тоже коренной мотовилихинец. Рабочий, токарь по металлу. (…) Он всегда ровный, спокойный, ласковый, но за этой ласковостью его тенорового разговора есть большая решимость и бесстрашие. В 1906 г. он был арестован за убийство двух казаков и приговорен к 15 годам каторжных работ. Из каторги он явился в Мотовилиху в 1917 г.
Тов. Иванченко был из тех мотовилихинских коренников, которыми держалась наша организация. Его рабочие знали. Ему они верили. С ним они могли говорить по всем вопросам, по самым щекотливым и деликатным. Они в нем чувствовали своего друга и товарища, целиком преданного им. Он теоретически слабый и еще слабее как оратор. Но он мог объединять вокруг себя рабочих, как редко кто может. В это время он работал на заводе.
Это уже два. Два каторжника. Хорошее начало.
А кто еще двое? Андрей Марков. Подходит. (…) Рубаха-парень. Любит свое ремесло. Работает мастером в одном из орудийных цехов завода. В 1906 году был в тюрьме. Сидел некоторое время со мной, а потом получил административную ссылку. Член партии с 1905 года. Участник всех боев, которые пришлось вести передовикам Мотовилихи. Знает на практике все прелести царского режима и горит огнем злобы и мести. (…)
А это все, что мне нужно.
Четвертый? Колпащиков. Рабочий. Это не коренной мотовилихинец. (…) Сидел в тюрьме. В 1917 году был всегда в Комитете как красногвардеец и забывал всего себя, отдаваясь самой кропотливой, тяжелой и черной работе. (…) Работал на заводе, а все остальное время был всегда на боевом посту, выполняя самые опасные и сложные поручения. Что он пойдет со мной куда угодно, я не сомневаюсь. А большего для меня и не требуется».
Решив для себя кандидатуры будущих подельников, Ганька собрал их всех в будке киномеханика мотовилихинского синематографа «Луч». Вкратце рассказав свой план, спросил, что они думают по этому поводу. И все четверо, нимало не смутившись, согласились принять участие в этом готовящемся преступлении. А на вопрос Мясникова, согласны ли они, И.Ф. Колпащиков ответил за всех: «Согласны, Ильич. Что разговаривать. Что с этой гадостью церемониться».
«Если не поторопимся, Михаила выкрадут, а он станет знаменем контрреволюции», — подытожил разговор Ганька. И далее указал на то, что надо всё это дело обустроить таким образом, чтобы у всех сложилось впечатление, что Михаилу Романову помогли бежать «свои» офицеры, для чего всем участникам надо принять соответствующий вид.
Убийство
Задуманное заговорщики претворяли в жизнь, согласно своему сценарию. Накануне преступления из заводской конюшни по распоряжению Мясникова ими были взяты две лошади, запряжённые в крытые фаэтоны, рассчитанные на двух седоков и кучера.
Вечером 12 июня 1918 года все пятеро подъехали к зданию Пермской ГубЧК. Оставив лошадей во дворе, зашли в помещение, где А.В. Марков сел печатать подложный мандат об аресте Великого Князя. Под мандатом должна была стоять подпись П.М. Малкова, но за него, как его заместитель, расписался Г.И. Мясников. (Согласно другой версии, этот документ лично П.И. Малков заверил печатью, а также своей подписью, умышленно изменив таковую.) Когда печатался «мандат», в комнату неожиданно зашли П.М. Малков и новый Председатель Пермского Губсовета В.А. Сорокин. Ордер на арест им не показали, как и не посвятили в свои планы. Но те и без слов поняли, какое затевается дело.
Из воспоминаний Мясникова. Он произнёс: «Вот что, товарищи, Малков и Сорокин. Мы сейчас отсюда уходим, а вы должны остаться здесь и не выходить отсюда в течение двадцати минут. Не выходить, несмотря ни на что: будут ли выстрелы, будут ли вызовы по телефону — вас здесь нет, вы ничего не видали и не знаете. Поняли? После двадцати минут вы свободны. Дадите ли мне слово, что вы исполните мои требования?
Вид их был необычайно растерянный; и тот и другой — бледный-бледный. Видно было, что они нервничали. Но я себя не видал, и не знаю, какой вид был у меня. (Потом мне рассказал кое-что тов. Иванченко.) Но было, должно быть, у меня на лице и в фигуре достаточно решительности, что оба председателя без всякого промедления и размышления дали мне свое слово».
Приказав И.Ф. Колпащикову и В.А. Иванченко выводить лошадей и ехать, Ганька пешком пошёл к «Королевским номерам», желая быть сторонним наблюдателем происходящего.
В это же самое время к операции был подключён помощник В.А. Иванченко — милиционер В.А. Дрокин, он дежурил в отделении и в случае звонков из «Королевской гостиницы» с заявлением об аресте Великого Князя должен был… не принимать никаких мер. А в случае возможной погони, направить таковую по ложному следу.
В 12 часов 10 минут в ночь на 13 июня 1918 года Н.В. Жужгов и И.Ф. Колпащиков вошли в фойе гостиницы. Н.В. Жужгов проследовал в номер к Великому Князю, а И.Ф. Колпащиков остался внизу, заняв позицию рядом со швейцаром, в непосредственной близости от которого имелся телефон.
В описываемые дни Великий Князь Михаил Александрович невыносимо страдал от застарелой болезни — язвы желудка и уже собирался ложиться спать, как вдруг в дверь его номера раздался стук. Представившись и предъявив «мандат», Н.В. Жужгов тоном, не требующим возражений, предложил ему собираться и пройти вместе с ним. Михаил Александрович категорически отказывался, ссылаясь на недомогание, а также требовал вызвать «товарища Малькова». Н.В. Жужгов настаивал. Начавшийся разговор происходил на повышенных тонах, что в свою очередь привлекло внимание постояльцев соседних номеров. А слуги В.Ф. Челышев и П.Я. Борунов спустились на первый этаж и стали звонить в милицию. Но, как и было задумано заранее, их звонок принял В.А. Дрокин с вытекающими последствиями.
Наблюдавший за происходившим В.А. Колпащиков вызвал «подкрепление» в лице А.В. Маркова, после чего уже вместе с ним проследовал в номер Великого Князя. Без каких-либо увещеваний, А.В. Марков сразу же пригрозил Михаилу Александровичу револьвером и гранатой, после чего тот стал одеваться. Его последним условием было желание проследовать вместе с верным Н.Н. Джонсоном, на что, конечно же, было получено согласие — об этом заранее договорились заговорщики.
Выйдя из гостиницы, стали рассаживаться в пролетки. В одну из них был посажен Великий Князь вместе с В.А. Иванченко, а место кучера занял Н.В. Жужгов. Во вторую усадили Н.Н. Джонсона, место рядом с которым занял А.В. Марков, а за кучера — И.Ф. Колпащиков. По команде Ганьки тронулись в путь, предварительно договорившись ждать его у здания Мотовилихинской милиции.
Он отправился туда и рассказал об истинном положении вещей дежурившему там В.А. Дрокину, приказав запрячь для него лошадь, чтобы ехать в Мотовилиху. Прибыв туда, Ганька дал последние напутствия своим подельникам, которые уже успели положить в притороченные к задним частям фаэтонов коробки, топор и лопаты.
После их отъезда Ганька подумал: «Свершилось. История Романовых написана до последней строчки».
Из воспоминаний А.В. Маркова:
«Сначала похищенные вели себя спокойно и, когда приехали в Мотовилиху; стали спрашивать куда их везут. Мы объяснили, что на поезд, что стоит на разъезде, там в особом вагоне их отправим дальше, при чем я, например, заявил, что буду отвечать только на прямые вопросы, от остальных отказался. Таким образом проехали керосиновый склад (бывший Нобеля), что около 6 верст от Мотовилихи. По дороге никто не попадался; отъехавши еще с версту от керосинового склада, круто повернули по дороге в лес направо. Отъехавши сажень 100–120, Жужгов кричит: «Приехали — вылезай!» Я быстро выскочил и потребовал, чтобы и мой седок то же самое сделал. И только он стал выходить из фаэтона — я выстрелил ему в висок, он качаясь, пал. Колпащиков тоже выстрелил, но у него застрял патрон браунинга. Жужгов в это время проделал то же самое, но ранил только Михаила Романова. Романов с растопыренными руками побежал по направлению ко мне, прося проститься с секретарем. В это время у тов. Жужгова застрял барабан нагана (не повернулся вследствие удлинения пули от первого выстрела, т. к. пули у него были самодельные). Мне пришлось на довольно близком расстоянии (около сажени) сделать второй выстрел в голову Михаила Романова, отчего он свалился тотчас же. Жужгов ругается, что его наган дал осечку, Колпащиков тоже ругается, что у него застрял патрон в браунинге, а первая лошадь, на которой ехал тов. Иванченко, испугавшись первых выстрелов, понесла дальше в лес, но коляска задела за что-то и перевернулась, тов. Иванченко побежал ее догонять и, когда он вернулся, уже все было кончено. Начинало светать. Это было 12 июня, но было почему-то очень холодно. Зарыть трупы нам нельзя было, так как светало быстро и было недалеко от дороги. Мы только стащили их вместе, в сторону от дороги, завалили прутьями и уехали в Мотовилиху. Зарывать ездил на другую ночь тов. Жужгов с одним надежным милиционером, кажется Новоселовым.
Когда ехали обратно, то я ехал с тов. Иванченко, вместе разговаривали по этому случаю, оба были очень хладнокровны, только я замерз, т. к. был в одной гимнастерке, с часами на левой руке, почему меня, когда мы были еще в номерах, приняли за офицера, почему потом из показаний бывших в номерах и говорили, что Михаила Романова похитили какие-то офицеры. Это, конечно, с испугу и быстроты похищения».
Не обошлось, конечно же, без традиционного мародёрства, хотя Ганька приказал им всем строго-настрого «все личные вещи сбросить в могилу».
Вещи убитых были разделены между исполнителями и организаторами похищения и убийства. В частности начальнику Пермской Губернской милиции В.А. Иванченко достались золотые, червонного золота карманные часы шестиугольной формы, на одной из крышек которых было написано «Михаил Романов», начальнику Мотовилихинского Отделения Милиции А. Плешкову досталось золотой именной перстень и штиблеты Великого Князя. Комиссару по национализации и управлению культурно-просветительными учреждениями Перми А.В. Маркову — наручные серебряные часы Н.Н. Джонсона, полукруглой формы, которые тот носил до конца своих дней. А милиционеру при Мотовилихинском заводе И.Г. Новосёлову — плащ и другие носильные вещи Н.Н. Джонсона. Не говорит ли это, что мотивом совершённого убийства, выдаваемое всеми его участниками за «акт революционной мести и политической необходимости», был самый банальный разбой!
Дезинформация
13 июня 1918 года из Перми в Петроград полетела телеграмма нижеследующего содержания: «Москва. Совнарком. Чрезком. Петроградская коммуна. Зиновьеву. Копия Екатеринбург облсовдеп. Чрезком. Сегодня ночью неизвестными (в) солдатской форме похищены Михаил Романов и Джонсон. Розыски пока не дали результатов, приняты самые энергичные меры.
Пермский округ Чрезком.»
В этот же день Пермской Губернской ЧК было возбуждено Следственное дело «О похищении б. Великого князя Михаила Александровича Романова из Гостиницы «Королевские номера», на основании которого были арестованы верные слуги Великого Князя — В.Ф. Челышев и П.Я. Борунов, а также и.о. управляющего «Королевскими номерами» И.Н. Сапожников и бывший жандарм П.Л. Знамеровский. Все они, вместе с другими лицами, взятыми позднее в заложники, были расстреляны.
А ещё через день 15 июня 1918 года в местной газете появилась статья «Похищение Михаила Романова», рассказывающая о похищении Великого Князя неизвестными лицами. То есть, всё разворачивалось так, как того хотел Ганька. И даже более того.
Газета «Свободный путь» от 2 июля 1918 года, под заголовком «Михаил Романов» сообщала:
«Москва. 21 июня. «Нашей Родине» сообщают из Вятки: Здесь распространились слухи, что Михаил Романов находится в Омске, и принял главенство сибирскими повстанцами. Им якобы издан манифест к народу с призывом к свержению Советской власти и обещанием созвать Земские соборы для решения вопроса, какая власть необходима России».
Выпущенный из бутылки «джин» в виде дезинформации, с каждым днём набирал обороты. Истинные представители Русского Народа всерьёз верили в чудесное избавление Великого Князя. И чтобы пресечь это, газета «Известия Пермского уездного Исполкома Совета крестьянских и рабочих депутатов» от 18 сентября 1918 года опубликовала сообщение Пермской Губернской ЧК «Задержание Михаила Романова»:
«После побега бывшего великого князя Михаила Романова контрразведкой Пермской губернской Чрезвычайной Комиссии были разосланы агенты по всем направлениям для задержания Михаила Романова. 12 сентября в [10] верстах от Чусовского завода, по Па[шийскому] тракту, одним из посланных агентов было обращено внимание на двух проходящих по направлению к Пашийскому заводу лиц, которые держали себя довольно подозрительно. Один из них, высокого роста, с русой бородой «буланже», особенно обратил на себя внимание. Агент потребовал от этих лиц предъявления документов. Последние показались ему сомнительными, а потому вышеуказанные лица были задержаны и препровождены в Пермскую губернскую Чрезвычайную Комиссию для выяснения личности. После ряда сбивчивых показаний при допросе, а также ненормальности лица (по наблюдению, лица у них были загримированы), им предложено было назвать свои фамилии и снять свой грим (…). После снятия грима нами были опознаны в них бывший великий князь Михаил Романов и его секретарь Джонсон, каковые тотчас были заключены под сильную охрану.
По делу побега ведется в спешном порядке следствие, результаты допроса будут опубликованы».
Однако сенсация не удалась. Ибо по указанию свыше напечатанная статья была забита чёрной типографской краской, а в остальных губернских газетах за этот день остались белые места, наглядно свидетельствующие о том, что переданный материал был снят из номера в самый последний момент.
Но было поздно. 20 сентября 1918 года по прямому проводу из Москвы в Киев, который в тот момент был столицей признаваемого большевиками независимого государства, была отправлена телеграмма РОСТА следующего содержания: «Пермь, 18 сентября. В 10 верстах от Чусовского завода агентом Пермского Губчрезкома задержаны Михаил Романов и его секретарь. Они препровождены в Пермь».
Это дало историкам основание утверждать, что кампания по дезинформации специально разрабатывалась и велась из какого-то центра.
Договорились даже до того, что Великий князь, якобы, проживает в Сиаме, для чего понадобилось официальное опровержение в виде Отношения Российской Дипломатической Миссии в Сиаме за подписью Генерального Консула:
«Считаю своим долгом покорнейше просить посольство, если то будет признано желательным во избежание распространения ложных слухов, опровергнуть в печати помещённое газетой «Фигаро» в № 277 от 4 октября с.г. и перепечатанное потом другими органами прессы сообщение Н.Н. Брешко-Брешковского о том, будто бы великий князь Михаил Александрович спасён и нашёл убежище при Дворе Сиамского Короля. Российская Миссия в Бангкоке может удостоверить, что Великий князь не находится в Сиаме и сюда не приезжал.
Управляющий Миссией.
Генеральный Консул (подпись)».
Как известно, слухами земля полнится, посему вера в чудесное спасение в «Царя Михаила Второго» ещё много лет жила в народе, дав тем самым повод для появления всякого рода авантюристов и самозванцев, выдававших себя за Великого Князя Михаила Александровича.
Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Послесловие
Когда Наталья Сергеевна уже собрала чемодан, чтобы ехать к мужу в Пермь, ей принесли телеграмму от верных людей из Перми: «30 мая (по старому стилю) Великий Князь и его секретарь Джонсон бесследно исчезли». Н.С. Брасова выехала в Петроград и сумела добиться приёма у М.С. Урицкого, в кабинете которого закатила истерику, требуя сведений о муже. Ей объявили, что в Петроградской ЧК никто не знает ничего определенного. Но на всякий случай, слишком экспансивную посетительницу решили арестовать — ей сразу же вменили в вину собственное участие в исчезновении Великого Князя.
Просидев в тюрьме на Шпалерной улице девять месяцев, она добилась перевода в тюремную больницу, а из больницы однажды ночью вырвалась на волю. В одежде сестры милосердия Н.С. Брасова добралась в Киев, затем в Одессу, а оттуда на английском судне «Нереида» вместе с дочерью отплыла в Константинополь, где в то время находилось множество беженцев из России. И почти каждого встречного Наталья Сергеевна расспрашивала о судьбе своего мужа. Но добрых вестей никто сообщить не мог, а плохим она не верила.
Переехав на жительство в Англию, Наталья Сергеевна и приехавший к ней из Датского Королевства сын Георгий, каждый день ждали известия, что Великий Князь жив. Но оно всё не шло и не шло… А с выходом книги «Пролетарская революция на Урале», в которой сообщалось о гибели Царской Семьи и убийстве Великого Князя Михаила Александровича, последние иллюзии были утрачены навсегда.
С 1926 года Наталья Сергеевна обосновалась во Франции, жизнь здесь была дешевле. Выйдя замуж за небогатого англичанина, вопреки воли матери, дочь Тата навсегда прервала с ней отношения. А обучение сына Георгия в закрытой школе для английской элиты Хэр-Роу, отбирала у Натальи Сергеевны последние средства к существованию.
Когда в Датском Королевстве умерла Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна, она завещала своему внуку Георгию некоторую сумму денег, которой хватило, чтобы осуществить его давнюю мечту — купить спортивный автомобиль «Крайслер» последней модели.
К тому времени Георгий учился в Сорбонне и жил с матерью в Париже. На выпускные экзамены в июле 1931 года Георгий с приятелем решил ехать на автомобиле, чтобы удивить своих сокурсников. Спустя несколько часов после их отъезда раздался телефонный звонок из города Сансе: мчавшийся на бешенной скорости автомобиль врезался в дерево. Приятель Георгия погиб на месте, а он сам, управлявший авто, был доставлен в больницу в безнадёжном состоянии.
Ещё до конца не осознавая случившегося, Наталья Сергеевна помчалась в Сансе — утром, не приходя в сознание, Георгий умер у неё на руках. Перевезя тело усопшего сына в Париж, она похоронила его на кладбище Пасси, купив рядом место и для себя.
Оставшись без гроша, Наталья Сергеевна была вынуждена снимать убогую комнатку у одной из своих соотечественниц, невзлюбившей ее и завидующей её былой красоте и роскоши прежней жизни. Внучка Паулина Грэй (дочь Таты), навестившая её уже по окончании Второй мировой войны, была поражена нищенской одеждой и убогим видом бабушки. С тех пор она стала посылать ей из Лондона 4 фунта в месяц, отрывая их от своего скудного жалования.
В конце 1951 года Наталья Сергеевна серьёзно заболела — рак молочной железы. Узнав об этом, хозяйка её выгнала, и теперь её, бесприютную старуху, поместили в больницу для бедных, где она и скончалась 26 января 1952 года. Церковная община собрала деньги на похороны. На надгробную плиту средств не хватило, и вместо неё поставили простой деревянный крест.
Шли годы, неухоженная могила Натальи Сергеевны и Георгия ветшала, а время неумолимо стирало надписи с их именами. В 1965 году кладбище Пасси посетил какой-то приезжий из Советского Союза. Уходя, он зашел в кладбищенскую контору и сказал: «Грош цена русской эмиграции, если она допустила такое ужасное состояние могилы жены и сына Михаила Романова». Пристыженные эмигрантские активисты собрали деньги, и могилы Графини Н.С. Брасовой и её сына Георгия украсило красивое надгробие, пребывающее там и поныне.
Эпилог
1 ноября 1981 года Великий Князь Михаил Александрович был причислен Русской православной церковью заграницей к Лику Святых Мучеников, открыв своим именем скорбный синодик членов Императорского Дома Романовых, безбожной властью убиенных в 1918–1919 году.
В 2009 году Великий Князь Михаил Александрович и лица его окружения были реабилитированы постановлением Генеральной Прокуратуры РФ, после чего в Пермь приезжали прокурорские работники, которые провели там несколько недель в поисках захоронения Великого Князя Михаила Александровича и Н.Н. Джонсона.
Захоронение искали в двух местах, которые, по заявлению директора пермского Государственного Архива новейшей истории, являются наиболее вероятными местами сокрытия трупов — в Красном логу, возле бывших керосиновых складов и в районе Архиерейской дачи, однако, положительных результатов поиски эти не дали…
И как ни прискорбно, но приходится признать — что где-то в пригороде современной Перми находится и по сей день не найденная могила последнего Российского Императора Михаила Второго Александровича — Верного Сына Отечества и Героя Великой Войны 1914–1918 гг.
Примечания
1
В. Ленин Полное собрание сочинений, т.24, стр. 441
(обратно)2
В. Ленин Полное собрание сочинений, т.36, стр. 200
(обратно)3
Сведения Ольги Григорьевны Шатуновской, члена «комиссии Шверника», созданной по распоряжению Хрущева для расследования преступлений культа личности после XX съезда партии.
(обратно)4
Впрочем, все та же справедливость требует признать, что тень на образ Дмитрия бросает убийство сына и вдовы его предшественника, Бориса, — вина, хотя и не доказуемая спустя четыре столетия, но весьма вероятная.
(обратно)5
Кобрин В. Б. Смутное время — утраченные возможности. — История Отечества. Люди, идеи, решения. Москва, 1991 год.
(обратно)6
Старинное русское слово «товарищ» употреблялось между казаками и вообще свободными людьми, добровольно объединившимися с себе подобными ради общего дела в станицу, артель, дружину — «товарищество».
(обратно)7
В новом «Кратком курсе», который готовится к изданию методом зеркального отражения предыдущего, можно будет прочесть, что до прихода демонических большевиков на «Святой Руси» существовала некая «православная (то есть христианская) монархия» — «калька устройства небесного». Но видимо, возникнут сложности с указанием конкретных монархов, которые являются «калькой» с Христа. Иван Калита? Иван Грозный? Петр? Его жена Екатерина? Или Николай II? К сожалению, христианин, забывающий, что ответил Сын Человеческий на вопрос о динарии кесаря, очень скоро вместо Христа начинает молиться Нерону. А многие наши «христианские демократы», не говоря уже о «христианских патриотах» читают Евангелие так же внимательно, как иерархи XVII века.
(обратно)8
Учрежден 8 февраля 1726 года, в составе девяти человек, среди которых были А. Д. Меншиков, П. Д. Толстой, Д. М. Голицын, генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, герцог Голштинский, канцлер Г. И. Головкин.
(обратно)9
Я. П. Шаховской, Записки, СПб., 1872.
(обратно)10
С. М. Соловьев, История России.
(обратно)11
С. М. Соловьев, История России.
(обратно)12
С. М. Соловьев, История России.
(обратно)13
С. М. Соловьев, История России.
(обратно)14
С. М. Соловьев, История России.
(обратно)15
С. М. Соловьев, История России.
(обратно)16
В 1742 году умер последний представитель Анхальт-Цербстского княжеского дома, и братья Иоганн-Людвиг и Христиан-Август (отец Фике), князья из побочной линии, Цербст-Дорнбургской, стали соправителями крошечного княжества Анхальт-Цербст.
(обратно)17
Один аршин равен 71,1 сантиметра, один вершок — 4,4 сантиметра. Следовательно, рост Федора Козьмича был около 1,7 метра.
(обратно)


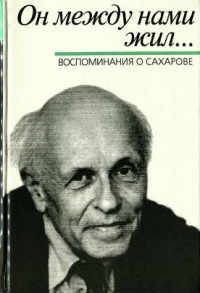
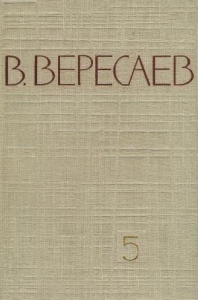

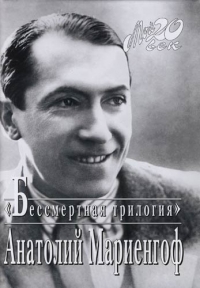
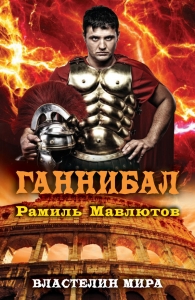

Комментарии к книге «Убийства в Доме Романовых и загадки Дома Романовых», Владимир Александрович Тюрин
Всего 0 комментариев