Жан-Франсуа Солнон Венценосные супруги. Между любовью и властью. Тайны великих союзов
Jean-François Solnon
LES COUPLES ROYAUX DANS L’HISTOIRE: LE POUVOIR À QUATRE MAINS
Перевод с французского Е.В. Матвеевой Оформление обложки А.И. Орловой
Печатается с разрешения автора и издательства Perrin, dept of PLON-PERRIN. Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат ООО «Издательство АСТ».
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Perrin, 2012 (ООО «Издательство АСТ»)
© Е.В. Матвеева, перевод на русский язык
© ООО «Издательство АСТ», перевод на русский язык
Предисловие Супруги на троне
«Королева, коронованная только для потехи, принесет погибель народу, который ее кормит».
Аббат ДенуаерВ современной Франции у супруги президента Республики нет официального статуса. Традиционно она выполняет представительскую роль и при желании занимается благотворительностью. Если она начнет участвовать – или даст повод себя в этом заподозрить – в политике или дипломатии, либо станет давать советы своим близким, занимающим высокие посты, все сочтут это недопустимым.
Не только во Франции первой леди положено держаться скромно. Во всем мире, как правило, принято, что супруга президента или правителя играет по большей части чисто официальную роль. Исключение составляли лишь Элеонора Рузвельт (1884–1962) в США, Ева Перон (1919–1952) в Аргентине и в коммунистическом Китае госпожа Мао (1914–1991), четвертая жена «великого кормчего» и вдохновительница культурной революции.
Во времена империй и монархий не было недостатка в женщинах, державших в руках верховную власть. Были среди них и замужние, и те, кто правил в одиночку. В качестве примера обычно приводят государынь эпохи Просвещения – российскую Екатерину II, а также английскую «королеву-деву» Елизавету I и ее шотландскую соперницу Марию Стюарт, Марию Тюдор Кровавую или Марию Терезию Австрийскую. Судьба не раз поворачивалась так, что на некоторое время власть получали королевские вдовы. Во Франции можно вспомнить регентш Бланку Кастильскую, мать Людовика IX Святого, Екатерину Медичи, Марию Медичи и Анну Австрийскую[1]. Да и во всем остальном мире женщины не раз принимали регентство – особенно примечательна Цыси (также ее называли по клановому имени Ехэнара). Одни становились временными правительницами, другие – полноправными королевами, и некоторые из них считали, что выполняли мужскую работу. «Я простая женщина, – скромничала Мария Терезия, – но у меня сердце короля». Разве не говорят принцессе, наделенной твердым характером, но окруженной безвольной родней, что она – единственный мужчина в семье? Разве искусство государственного управления является исключительно мужской привилегией? Жены монархов, сумевшие заполучить политическую власть, доказывают обратное.
Эта книга – не сборник рассказов о правителях в юбках или регентшах, не говоря уж о фаворитках, у которых голова закружилась из-за близких отношений с влиятельным человеком. Она посвящена в первую очередь королевским союзам, которые делили власть друг с другом так, что оба супруга участвовали в государственных делах. О политической роли этих законных жен успели забыть. Со Средних веков до конца XIX в. часто упускали из виду, что супруги многих правителей получали право выполнять государственные обязанности благодаря своему характеру, национальным обычаям или повороту истории. Мы поговорим о парах, где королева не удовлетворялась закулисными интригами, выходила на сцену и отказывалась ее покидать, предпочитая не сидеть за вышиванием, а делить с супругом скипетр. Таким образом, власть оказывалась в четырех руках.
Историки до сих пор слабо интересовались подобными брачными союзами. До недавнего времени история считалась мужским делом, и о прекрасной половине человечества говорили мало, а то и вовсе ничего, хотя с 1970-х гг. выходит все больше серьезных работ о женщинах. После книг о великих женщинах, которых широкая публика уже знает и любит – царица Клеопатра, феминистка Олимпия де Гуж, ученые Мария Кюри или Мари Бонапарт, – появляются исследования о женщинах, проявивших себя в войне или революции, в искусстве или промышленности и тысячу лет назад, и в эпоху Просвещения. Вслед за социальной историей женщин в 1980-е гг. в Америке возникла идея гендера (гендерной истории). Она акцентирует взаимоотношения, как индивидуальные, так и коллективные, как реальные, так и символические, между мужским и женским[2]. Биографии королевских жен, которые вместе с монархами и государями занимались управлением, очень интересны и малоизучены.
* * *
Главной задачей королевской супруги являлось обеспечение государства наследником, а не разделение с мужем священных властных обязанностей. Раньше так прямо и говорили: главное – выбрать живот. Поэтому из игры исключались принцессы, не достигшие половой зрелости либо имевшие явные признаки слабого здоровья. Брать жену старались из сильной, плодовитой семьи. Интересам продолжения рода подчинялось все. Когда более чем за двадцать лет брака Анна Австрийская, которой было уже под сорок, так и не родила наследника, Людовик XIII грозился с ней развестись, несмотря на то что она была испанской принцессой. Браки с габсбургскими принцессами отныне не считались залогом богатого потомства. Эрцгерцогиня Мария Антуанетта родилась в большой семье: она была предпоследним ребенком из шестнадцати детей императрицы Марии Терезии. Тем не менее Франции пришлось семь лет в нетерпении ждать наследника. Более того, королевам полагалось рожать мальчиков, ведь светский закон позволял возводить на трон только мужчин! Жена русского императора Николая II почему-то заупрямилась и в течение десяти лет рожала царю одних дочерей. Когда наконец-то на свет появился царевич Алексей, это выглядело чуть ли не чудом. А категорическим императивом матери стала забота о хрупком здоровье наследника[3].
Супруга монарха олицетворяла будущее династии, на нее было возложено множество почетных, но нелегких представительских дел. В обязанности «правильной» королевы входило: управлять двором, сопровождать царственного супруга на официальных мероприятиях, возглавлять высшее общество, принимать визиты королевских особ и вельмож, участвовать в праздниках и других развлечениях, время от времени покровительствовать искусствам и оказывать протекцию писателям и художникам. В конце XVIII в. на все лады расхваливали Марию Лещинскую – благовоспитанную и плодовитую супругу Людовика XV за то, что она создала в Версале бесконечно благополучную семью (с довольно суровыми порядками). «Вот бы все королевы были такими», – говорили набожные иезуиты. Все мужчины-очевидцы поведение государыни одобряли: она не «вмешивалась в государственные дела» и держалась в стороне от дворцовых интриг.
Кандидаток на доску почета для королев, не имевших влияния, немало. Многих, по всей видимости, устраивала та скромная роль, которую им отводили муж и общественное мнение эпохи. Но не будем воспринимать буквально парадоксальные слова королевы Виктории: «Мы, женщины, не созданы для того, чтобы править». Она сказала так, когда однажды подустала от своих обязанностей, которые долгое время отказывалась разделить со своим мужем принцем Альбертом. Зато многие из королей, отстранявших жену как можно дальше от государственных дел, подписались бы под суровым заявлением прусского короля Фридриха Вильгельма I, прозванного «солдатом». Он советовал «держать жен в послушании, иначе они начнут плясать на голове у мужа».
О таких королевах, не имевших ни политического влияния, ни амбиций, история зачастую не помнит, ничего кроме умения элегантно носить туалеты или изящно танцевать, перечня любовников или констатации факта ее верности. Другие же принцессы были переполнены решимости руководить страной вместе с супругом, жаждали царить и править. Иногда это вменялось им в обязанности по законам страны, иногда вынуждали превратности жизни.
* * *
В странах, где не действует салический закон[4], женщины обладают естественным правом полностью принимать на себя королевские обязанности. В Кастилии Изабелла правила с 1474 г. после смерти брата. Ее муж Фердинанд, хоть и являлся королем Арагона (с 1479 г.), в женином государстве не имел никаких прав помимо тех, что она соизволила ему пожаловать. Он не мог что-то предпринимать без согласия супруги. Та же самая Великобритания разрешала женщинам занимать трон, и Виктория взошла на него в 1837 г. после многочисленных монархов-мужчин, а ее муж при этом занимал пост принца-консорта и всячески старался помогать жене.
В других странах необходимое пространство для маневров, чтобы частично или полностью взять в свои руки королевскую власть, появлялось у женщин благодаря характеру супруга или обстоятельствам. Бывало, что монарх был не способен править. Душевная болезнь Карла VI, первые признаки которой появились через двенадцать лет после его коронации, заставила Изабеллу Баварскую, родившую ему множество сыновей, управлять государством в то время, когда с королем случались приступы безумия. Из-за нерешительности и малодушия прусского короля Фридриха Вильгельма III или Фердинанда IV Бурбонского королевы Луиза и Мария Каролина проявили инициативу, каковой жизнь обделила их слабых мужей – они, словно Омфала облачились в львиную шкуру и взяли в руки палицу, усадив Геракла прясть шерсть.
Случалось, что супруги правили совместно, когда трону угрожала серьезная опасность. Мария Антуанетта покинула Трианон с его пустыми развлечениями, когда Людовик XVI был свержен в ходе Великой французской революции. Русский император Николай II и его жена Александра вместе старались защитить гибнущую монархию и спасти сына от страшной болезни. Французская императрица Евгения хотела передать сыну-наследнику авторитарную и победоносную империю, какой та была в первые годы своего существования.
Любовь к супруге, помноженная на уважение ее талантов, заставляла Наполеона III, которому было необходимо получить ее прощение за свои любовные похождения, прислушиваться к советам жены. А австрийскому императору Францу Иосифу, преданному и несчастному мужу, приходилось терпеть от вечно отсутствующей Сисси упреки и ультиматумы в отношении венгерского вопроса.
В отношениях Людовика XIII и его первого министра Ришелье не нашлось места для Анны Австрийской, покинутой жены, долгое время не имевшей дофина. Неосмотрительные поступки Анны, которые так волшебно описал в своих романах Александр Дюма, заработали ей злопамятность мужа и недоверие кардинала. Вместо того чтобы делить с королем бремя его власти, она сохранила верность интересам своей родной Испании и втягивалась в заговоры против Франции.
Любовь не играла большой роли при создании семейного союза. Политические интересы всегда стояли выше сердечных устремлений. И браки по душевной склонности были исключением. Так очарованный прекрасной Феодорой император Юстиниан сделал свою любовницу императрицей. Карл VI с первого взгляда полюбил Изабеллу. Франц Иосиф предпочел выбрать Елизавету Баварскую вместо ее старшей сестры, которую сватали ему в жены. Будущий Николай II, с рождения склонный к скуке, слабовольный, сумел преодолеть сопротивление собственных родителей и сделал своей женой девушку, которая многих не устраивала. Продиктованные соображениями дипломатии браки по расчету не исключали появления семейного союза в полном смысле слова. Некоторые из них даже приводили к счастью. Конечно, случались и полные фиаско. Несхожесть характеров так и не позволила найти общий язык Людовику XIII и Анне Австрийской или Фердинанду IV Неаполитанскому и Марии Каролине.
Общественное мнение, как правило, негативно относилось к женщинам, разделившим с мужем королевскую власть. Феодору ругали за сомнительное происхождение: бывшая танцовщица из дурного круга заполучила императорский пурпур. Изабеллу Баварскую осуждали за то, что, злоупотребив недееспособностью Карла VI, она лишила собственного сына наследства и продала французское королевство англичанам. Недобрая память об этой королеве отразилась в памфлетах, где Мария Антуанетта объявлялась наследницей Изабеллы. Скрупулезный летописец Старого режима[5] мадам де Шастене подмечала, какими злыми словами поливали версальскую чету. «Людовик XIII, – пишет она, – муж молодой и прекрасной королевы… кажется одновременно ее рабом и жертвой». Печальная судьба постигла Наполеона III, слушавшегося жену и измученного болезнью. Он уступил диким требованиям Евгении, толкавшей его в рукопашный бой с Пруссией. Анну Австрийскую считали предательницей королевства, и она на своей шкуре поняла, какой опасности подвергается королева, возжелавшая власти.
Эти обвинения в дурном происхождении, попытки морализаторства часто уступали место спорам и временами культивировали банальное женоненавистничество. Они не учитывали разницу в менталитете наших предков и всю сложность исторических ситуаций, и, как правило, сейчас нуждаются в тотальном пересмотре. Так, они не учитывали супругов, имевших одинаковые взгляды, или ситуаций, когда жена помогала, воодушевляла царственного мужа, сотрудничала с ним, предлагала инициативу, совершала какие-то действия. Хорошо это или плохо, Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, названные Католическими королями[6], выступали настолько единодушно, что, как известно, было трудно отличить, где чье решение. Никогда Людовик XVI и Мария Антуанетта не были так едины, как защищая то, что оставила им от былой власти революция. В Пруссии королева Луиза энергично сопротивлялась революционной заразе и наполеоновским войскам. Сисси сумела убедить Франца Иосифа, который долго не мог принять решение, чтобы он дал ее любимой Венгрии новое место в своей империи.
* * *
Мы были ограничены объемом книги, поэтому в ней сказано не все. Речь пойдет об одиннадцати супружеских парах с VI в. по начало XX в. Большая часть из них знаменита, другие известны меньше. Три четы правили старорежимной Францией, к ним примыкают монархи Второй империи. Мы поговорим о самых прекрасных частях Европы, от Испании до России, от Италии до Англии. Знаменитые мозаики в Равенне, изображающие Юстиниана и Феодору, не дают забыть об этих византийских правителях. Присутствие принца-консорта на британском троне рядом с королевой Викторией добавляет чисто английского шарма чете, где муж играл вторую скрипку, а жена – первую.
Автору пришлось пробежаться взглядом по множеству столетий, заглянуть в самые разные эпохи, и своих героев он выбирал в зависимости от качества исторического прецедента, который определил тему данной книги. В любой паре чувствуется сильный характер, где честолюбие, отвага, самоотверженность стараются взять верх над трусостью, неумелостью, скрытностью, злопамятностью. Каждому довелось пережить эти выдающиеся моменты – когда раскрывается личность, – и все они очень красочны, не банальны. Политический кризис, начало мятежа или революции, защита верховной власти, угроза вражеского вторжения, гражданская война или конфликт с иностранной державой объединяли либо разобщали пары, которым было отказано в безмятежном счастье. Однако никто из наших героев не стремился узурпировать власть у второй половины: нас не интересует Агриппина, отравившая мужа, императора Клавдия, дабы сделать цезарем своего сына Нерона. Мы говорим о том, как Католические короли вместе строили современную Испанию, или как героически держались вместе правители царской России перед лицом смерти.
Иногда говорят, что власть не делится, но ее можно делегировать, когда правитель доверяет первому министру или фавориту значительную часть своих полномочий. Сюлли, Ришелье или Кольбер именно так и правили французским королевством – только потому, что с ними поделились. Букингем в Англии, Оливарес или Годой в Испании, Кончини или Деказ в Париже пользовались «королевским расположением», применяя свое воздействие (или злоупотребляя им) для того, чтобы влиять на политический курс, но не находились с правителем в тех близких отношениях, которые подразумевает брак. Пары, где жены вмешиваются в политику, учат другому. Таинство венчания, которое связало супругов, любовь, дети, рожденных от их союза, коронация королевы, – все это одновременно и долговечнее, и таинственнее власти, которой пользуются в четыре руки. Монарх избавляется от некомпетентного министра, отправив в немилость фаворита, возомнившего себя хозяином. Супругу, влезшую в интриги или совершившую ошибки, можно просто вернуть к монотонной жизни. Разделяя величие правителя и приходясь матерью наследника, королева, захотев публичной власти, рискует получить обвинение в ошибках или отмену ее действий, но ее не станут преследовать, как вульгарного соучастника преступления.
Многие женщины помогали мужьям оборонять попавшую под угрозу власть. Среди них и Феодора, вдохновившая Юстиниана оказать сопротивление во время крупного восстания 532 г., и Александра, которая уговаривала Николая II погасить набирающую обороты революцию. Редко встречаются те женщины, которые делили с супругом весь спектр полномочий, и могли бы заявить, что в равной мере с мужем управляли страной. Разделяя с мужчиной королевские обязанности, женщина, как правило, направляла силы на один из аспектов публичной жизни: Сисси волновала судьба Венгрии, императрица Евгения отстаивала интересы католиков. Способов прорваться к власти было бесконечное множество. Однако об указаниях, советах, мольбах, конфронтации или шантаже историкам известно мало. Образованные пары делили власть, но modus operandi[7] каждого из супругов оставался покрыт тайной.
* * *
Выбор королей был велик. Претендентка отодвигала принцесс, обладательниц земельных владений и выходила замуж за монарха, но власти над королевством, правительницей которого она официально становилась, у нее не было. Чтобы вступить в брак с французским королем Людовиком VII, а затем с английским Генрихом II Плантагенетом Элеонора Аквитанская (1122–1204) согласилась править только собственным герцогством и не вмешиваться во внутренние дела английской и французской монархии. Анна Бретонская (1477–1514) стала самой страстной сторонницей независимости своей провинции, будучи королевой владений Карла VIII и Людовика XII, ее первого и второго мужей. В 1554 г. Лондонская свадьба Марии Тюдор (1516–1558), дочери Генриха VIII и правительницы Англии и Ирландии с будущим Филиппом II Испанским не привела к появлению сдвоенной монархии: каждый из супругов руководил только своими землями.
В эту книгу мы специально не стали включать истории о Ливии Друзилле, вступившей в брак с императором Октавианом Августом; Ядвиге, провозглашенной «королем» Польши в 1384 г.[8], жене Владислава Ягайло, великого князя литовского; Сулеймане Великолепном и Роксолане, брака с которой невзирая на османские обычаи добивался султан; Антуане де Бурбоне и Жанне д’Альбре, родителях Генриха IV; Вильгельме Оранском и Марии II Стюарт, которых вместе объявили королем и королевой Англии в 1689 г. Кроме того, мы не стали писать о Филиппе V Испанском и его второй жене Изабелле Фарнезе, которые неустанно искали престолы для своих сыновей; Карле IV Испанском и Марии Луизе Пармской, чей безжалостный портрет написал Гойя; Максимилиане I Габсбурге, императоре Мексики, и его жене бельгийской принцессе Шарлотте, которую чуть не свела с ума мексиканская авантюра; или бельгийском «короле-рыцаре» Альберте I, которому во время Первой мировой войны превосходно помогала Елизавета.
«Искусство быть скучным, – уверял Вольтер, – состоит в том, чтобы говорить обо всем». Щадя читателя и поддакивая автору «Кандида», тем, кого не включили в эту книгу, придется еще немного подождать.
N.B. После названия каждой главы идут две даты. Они относятся ни к рождению правителей или их восхождению на престол, а к продолжительности их семейной жизни: первая – это год вступления в брак, вторая – год смерти одного из супругов.
Юстиниан и Феодора (524–548) Опозоренный пурпур
«Теперь я считаю необходимым вкратце рассказать о содеянном ею и ее мужем, ибо они в своей совместной жизни ничего не совершали друг без друга».
Прокопий КесарийскийВ сказках принцы часто женятся на пастушках. Но никто не осмелится сочетать браком правителя и жрицу любви, пусть даже и бывшую. Подобный союз шокирует и юных читателей, и их родителей. Кто поверит, что возможно так нарушить общепринятые устои?
Вы подумаете: в истории такого прецедента нет и не было. Конечно, в 1936 г. британский кабинет министров заставил отречься Эдуарда VIII, вздумавшего жениться на миссис Симпсон. Она, по их мнению, была повинна в двух предыдущих разводах. И если хорошенько подумать, то можно припомнить в прошлом немало скандальных браков. Во Франции, например, общественное мнение с трудом терпело королевскую любовницу, которая не имела благородного происхождения, и поносило правителя, взявшего фаворитку из буржуа. Уж точно, ни один государь не позволил бы себе взять в жены куртизанку. Людовик XV скандализировал общество, когда представил Версалю мадам Дюбарри, а ведь он и не помышлял о том, чтобы сделать ее королевой Франции. Точно так же баварскому Людвигу I, большому ценителю прекрасного пола, пришлось пожалеть о том, что он привез в Мюнхен танцовщицу Лолу Монтес[9] и завел с ней бурный роман.
Расплачиваться за свой поступок королю пришлось отречением от престола в 1848 г. Хотя немолодой король пожаловал фаворитке только звание баварки и титул графини.
Совершенно непостижимым в этой связи представляется брак античного правителя и проститутки. Такой союз не просто свидетельствовал о «малодушии» супруга, но и клеймил бесчестьем подданных. Летописи уверяют нас, что такой позор случился. Это было давным-давно, в VI в. нашей эры, но память о той истории сохранилась. Около 524 г. или чуть позже в Константинополе будущий император Юстиниан (482–565 гг.), самый знаменитый из басилевсов[10], прославивших Византийскую империю, женился на Феодоре (ок. 490– 548 гг.), бывшей гетере. И та, что «лишь продавала свою юную красоту, служа своему ремеслу всеми частями своего тела»[11], стала императрицей. Но не для того чтобы жить в царской роскоши и купаться в народной любви, а дабы разделить власть с мужем.
В наше время все представляют Юстиниана и Феодору неразлучной парой. Услышав о Юстиниане, сразу вспоминаешь Феодору – как Давида и Вирсавию. Не верите – взгляните на мозаику в базилике Сан-Витале в Равенне, навечно сохранившую память о легендарных супругах.
Пурпурная мантия означает императорский сан, нимб вокруг головы – божественную природу государевой власти. В руках у Юстиниана – большой золотой дискос, который он использует в богослужении. Император изображен на левой стене абсиды. Его окружает группа высоких сановников. Рассмотрим внимательнее мозаику с Феодорой. Ее портрет поместили на правой стене, симметрично портрету императора. Одинаковые пропорции, одинаковое расположение – между главным алтарем и сферическим сводом абсиды, где изображен Спаситель, одинаковый фон из квадратной золотой мозаики. Феодора, как и муж, облачена в пурпур, увенчана роскошной диадемой, из всей свиты ее тоже выделяет нимб над головой. В руках у Феодоры золотая чаша, инкрустированная драгоценными камнями. Кажется, что это портрет какой-то святой. Феодора – настоящая басилисса.
В те далекие времена две роскошные мозаики свидетельствовали о силе любви, связывавшей супругов в коллективной памяти. Яркость цветов, богатство палитры в портрете Феодоры, от которого невозможно оторвать глаз, должны были, по всей видимости, убедить зрителя, что в империи эта женщина не играла роли второй скрипки.
Девка
В античном Константинополе не было более презренной профессии, чем актерская. Так считала публика, жадная до игрищ и развлечений, состязаний колесниц и выступлений актеров. Из этой «позорной среды» происходила Феодора. Ее отец был смотрителем животных в цирке; тем же занимался ее отчим, за которого, овдовев, мать вышла замуж. Девочка родилась ок. 490 г., и ее детство прошло в обществе служителей цирка – иными словами, париев[12]. Во время представлений они теснились по краям огромного стадиона, способного вместить до полутора тысяч человек, рукоплеская участникам забегов и сражений, восхищаясь отвагой акробатов и от души хохоча над комическими сценками. Но когда выступление заканчивалось, те, кто развлекал толпу, снова становились безымянным отрепьем.
Из всех актеров худшее положение было у женщин. Зачастую вступить в законный брак танцовщицы и музыкантши не могли и становились куртизанками. Юная Феодора, дочь акробатки, стала плясуньей, участвовала в представлениях мимов и, возможно, исполняла «стриптиз» – смелые эротические танцы. Занималась ли она проституцией? Прокопий Кесарийский, автор во многом спорной книги о Юстиниане, упорно доказывает, что да, занималась, сгущая краски утверждениями, что Феодора была проституткой самого низкого пошиба. Но стоит ли ему верить?
Прокопий был вхож в имперский дворец, поскольку служил секретарем у самого прославленного из императорских генералов. Он оставил потомкам подробный и точный отчет о военных кампаниях Юстиниана, которым он не уставал восхищаться. Но другая его книга – «Тайная история» – посвящена в первую очередь императорской чете. Прокопий безжалостно обвиняет ее во всех грехах, не гнушаясь преувеличениями и выдумками. Современные историки не скупятся на похвалы военному отчету, блестяще составленному этим очевидцем, восторгаются трудом «О постройках» – там Прокопий перечисляет и описывает главные здания страны – но не считают, что «Тайная история» заслуживает доверия как источник.
Памфлет следует традиции обличающей литературы – это основной его мотив. Сексуальные истории он, возможно, сочинил сам, либо пересказал выдумки мужчин того времени. Получается, что Прокопий сыграл на руку врагам императора, стремившимся приписать тому обвинения потяжелее и скомпрометировать его жену. Для современников Прокопия мир актеров и мир проституток были примерно одним и тем же, а публичный танец женщины мог быть лишь прелюдией к платной любви[13].
В глазах византийской верхушки Юстиниан согрешил дважды: женился не на юной девушке из благородной семьи, с хорошим образованием и незапятнанным именем, а на артистке, а потом позволил ей встревать в государственные дела. Феодору считали очень порочной.
Впрочем, хотя в юности Феодора не была пай-девочкой, это никак не помешало ей в дальнейшем. Считается, что, когда будущая басилисса встретила Юстиниана, она успела порвать со своим скандальным актерским окружением, стала жить добродетельной жизнью и зарабатывала прядением шерсти. Отредактированная версия не очень-то красивой реальности. Феодора, напротив, отправилась вслед за кем-то из любовников в Ливию, а затем, спасаясь от преследований, добралась до Египта, потом до Сирии и обосновалась в Антиохии, которая славилась своей ночной жизнью. Там она сошлась с неким танцором и переехала в Константинополь, где ей посчастливилось познакомиться с Юстинианом, и она стала его любовницей. В 521 г. Юстиниану было 39 лет, и будущий император как раз получил консульское звание. В честь этого он устроил на константинопольском ипподроме пышные игры. Юстиниан приходился племянником правившему в тот момент императору Юстину I (518–527 гг.), который усыновил его и пообещал посадить на трон.
Все современники единодушно вспоминают о красоте Феодоры. Даже Прокопию тут нечего было возразить. «Феодора была красива лицом и к тому же исполнена грации, – писал он, – но невысока ростом, бледнолица, однако не совсем белая, но скорее желтовато-бледная; взгляд ее из-под насупленных бровей был грозен». Такой взгляд – а он показан на равеннской мозаике – свидетельствует об уме и силе духа. Феодора была не просто привлекательной. Женщина с характером: она умела остроумно разговаривать, шутить, никогда не лезла за словом в карман[14].
Юстиниан был покорен ею и думал только об одном: о женитьбе. Правящая императрица, супруга Юстина, воспротивилась этому браку, позабыв, что сама в прошлом – солдатская жена и происходит родом из рабов. Но вскоре она умерла, и препятствий к свадьбе больше не было. Юстиниан с легкостью добился принятия нового закона, по которому сенатор имел право жениться на артистке. Ни сенат, ни армия, ни церковь, ни народ ему не возражали, по крайней мере открыто.
Юстин, которому было уже 77 лет, вскоре умер. В последние несколько месяцев его жизни Юстиниан успел подняться до соправителя. После смерти дяди 1 августа 527 г. он стал единственным басилевсом. Но коронацию он принял вместе с Феодорой, объявленной тогда же Августой.
Любовь поднялась над общественными предрассудками. Молодая изящная женщина облачилась в торжественное дворцовое одеяние. Бывшая пария теперь пользовалась всеобщим уважением. Бродячая акробатка стала «политическим животным»[15].
Императорские почести
Аристократы-сенаторы смирились бы с императрицей скромного происхождения, если бы она играла роль незаметную, и ее не волновала судьба империи. Никто, даже вредный Прокопий, не осудил бы такое поведение. Вступив в брак, Феодора вела себя безупречно. Но из-за роскоши, которой она себя окружила, и почестей, которые супруг велел ей расточать, ее разлюбили в народе. Шептались, что император подарил жене дворец, и она уезжала туда из императорских покоев всякий раз, когда желала подчеркнуть свою независимость. Феодора ревниво относилась к своим прерогативам, переделала этикет и требовала тех же почестей, что полагались императору. Каждый сановник, получивший дворец, должен был отдать земной поклон басилевсу, а затем басилиссе. Раньше целовали лишь пурпурную туфлю императора. Отныне такой же знак уважения следовало оказать императрице. А если она отправлялась в имперские провинции, то ее сопровождала бесчисленная свита. И толпы народа дивились, какие высокие почести получала императрица, как много у нее слуг, и как великолепен ее кортеж.
По воле Юстиниана портреты Феодоры были повсюду, на всех печатях и мозаиках. Правда, украшать ими монеты он не рискнул. Имперским управленцам пришлось принести ей присягу. На всех документах имя Феодоры стояло рядом с именем Юстиниана. В ее честь возводили статуи. Не счесть городов, которые Юстиниан назвал в честь жены и самого себя.
Почему он так почитал ее? Неужели только потому, что любил? Да, Юстиниан любил Феодору. Это очевидно. Но дело еще и в том, что он, усердно трудившийся во славу империи, успел заметить, что у жены талант к государственному управлению, что она способна помочь ему. Юстиниан помнил, как через пять лет после коронации, Феодора спасла ему трон, пошатнувшийся из-за страшного восстания «Ника».
Бежать или остаться?
Первые годы правления супругов прошли мирно. За тем благополучием, в котором жила царственная пара, скрывалась, наверное, неприязнь патрициев к тому, кого они считали выскочкой, женившемся на бедной девушке. Вероятно, трудности в снабжении города, вызванные постоянными засухами, породили возмущение у жителей Константинополя, и без того уставших от налоговых поборов. Но в других районах страны было спокойно. Ничто не предвещало того ужасного мятежа, в ходе которого всего за неделю столицу разграбили, а власть и жизнь басилевса оказались под угрозой.
Все началось на ипподроме – одном из центров общественной жизни – с потасовки «голубых» и «зеленых». Это были не политические партии, как ошибочно думают некоторые, а просто группы, поддерживавшие разные команды наездников. Во время состязаний они так бурно болели за «своих», что спортивные страсти нередко перерастали в мятеж. Бунтовщики не лезли в политику, пока некто вдруг не поднял больной общественный или религиозный вопрос. Потасовка, начавшись на ипподроме, вскоре перекинулась в город. Бились с остервенением, мужчины и женщины, «голубые» с «зелеными», не на жизнь, а на смерть. «Они сражаются, – рассказывал Прокопий, – со своими соперниками, не ведая, из-за чего подвергают себя подобной опасности… Эта вражда к ближним родилась безо всякой причины и останется вечно неутоленной».
В первые дни января 532 г. начались забеги, а вместе с ними – привычные стычки между «голубыми» и «зелеными». Что предприняли стражи порядка? Трех особо ярых зачинщиков арестовали, одного повесили, а двое избежали смерти благодаря оборвавшимся веревкам. Люди запросили пощады. Солдаты отказались и погибли от рук толпы. Насилие порождает насилие. «Голубые» и «зеленые» объединились против власти. И начался бунт.
В следующие дни он не утихал. По всему городу бунтовщики грабили и поджигали дома, церкви, лавки, общественные здания. Никогда раньше мятежники не покушались на императорскую власть. Их лозунгом было «Ника!», что означало «Побеждай!». Обычно так на состязаниях болельщики подбадривали команду. В январе 532 г. слово стало девизом повстанцев, объединившихся против властей. Столпившись у входа во дворец, восставшие требовали разжалования советников. Император уступил, но этот жест бунтовщиков не успокоил. Императорский дворец оказался под угрозой захвата. Юстиниан попытался задействовать армию. Безуспешно. Это только раззадорило мятежников. Константинополь превратился в один большой костер, и ветер все сильнее раздувал пламя. «От города, – писал один из очевидцев, – осталась лишь груда почерневших холмов… Он весь в дыму и золе. Запах гари проникал повсюду, от него не было житья. Городские улицы у тех, кто видел их, вызывали ужас, смешанный с жалостью». Разрушение, смерть, паника. Столица, погрязшая в анархии, была словно охвачена каким-то самоубийственным безумием. Юстиниан укрылся в осаждаемом дворце. Вызванное подкрепление вступило в город поздно и не сумело дойти до центра.
В воскресенье 18 января – мятеж полыхал пять суток – император обратился к народу с ипподрома[16], держа в руках евангелие. «Клянусь святым евангелием, – объявил он, – я прощаю вам все ваши преступления, я не арестую ни одного из вас, если вы успокоитесь». В ответ толпа осыпала его бранью: «Ты лжешь, осел! Ты даешь ложную клятву!» Мятежников не получалось утихомирить ни силой, ни убеждениями. Ситуация казалась безвыходной.
Юстиниан, фактически утративший власть, велел своим советникам бежать из города. Бунтовщики угрожали захватить дворец, а сам император рисковал пасть от убийц. И это были не пустые страхи. Некоторые представители знати затеяли заговор, с целью низвергнуть Юстиниана и поставить на его место одного из полководцев, приходившегося племянником покойному Юстину. Императора объявили узурпатором, выбрали вместо него нового правителя и приготовились возвести его на трон. Казалось, для Юстиниана все кончено.
Остаться – означало погибнуть или по меньшей мере попасть в плен. Бежав, император получал шанс найти подкрепление в провинции, чтобы затем попытаться перехватить инициативу. Но полностью быть уверенным в успехе он не мог. В такие моменты сомнения охватывают даже самого решительного правителя. Что делать: остаться на месте, не давая кому-либо оспорить свое право на власть, или бросить трон, спасая жизнь и лелея надежду на реванш? Юстиниан всегда относился к своим обязанностям серьезно и достойно. Он вынашивал грандиозные замыслы: отнять у варваров провинции, отвоеванные в свое время у Римской империи, которую он мечтал восстановить, провести внутренние государственные реформы. В начале правления он начал было административные реформы и создал комиссию, которой поручил привести в порядок действующее законодательство. В результате был разработан свод законов, названный в его честь[17]. Юстиниан трудился до изнеможения, воздерживался от обычных удовольствий, избегал излишеств и «никогда не спал» – у него были самые возвышенные представления об императорском долге и обязанностях. Но сейчас он колебался.
В конце концов, Юстиниан решился. Он велел погрузить на большой корабль сокровища, с помощью которых он намеревался собрать армию. Капитан получил приказ подготовиться к отплытию. Юстиниан собрался бежать. Но вскоре отказался от этой мысли.
Феодора затею с отъездом не одобрила: императрица сочла такое бегство постыдной политической ошибкой. Покинув столицу, император отказывался от власти, предавал саму суть монархии, которую «установил Господь». Бежать от опасности – позор для басилевса, «наместника Бога на земле», преемника римских императоров. Кроме того, постыдный отъезд отнимал у Юстиниана возможность взять ситуацию в свои руки. Феодора доказывала: император достаточно богат, чтобы собрать войска, каковые утихомирят народ. В соседних морских водах стоит множество верных кораблей, к ним можно обратиться за подкреплением. А бежать, продолжала она, государю негоже. Самой ей было бы невыносимо прожить хоть один день без того, чтобы ее не назвали Августой. Так что императрица призывала остаться во дворце и оказать сопротивление.
Ее доводы поразили императора и его окружение. Перед лицом опасности неприметная, презренная танцовщица превратилась в благородную даму и пробудила в сердцах угасающую смелость. Феодора так сказала мужу: «Тому, кто появился на свет, нельзя не умереть, но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо… Если ты желаешь спасти себя бегством, василевс, это нетрудно.… Но смотри, чтобы тебе, спасшемуся, не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть – прекрасный саван!» Ее последние слова, достойные лучших античных ораторов, изменили ход событий. Юстиниан решил не уезжать и дать бой.
Дворцовые двери вот-вот должны были рухнуть под ударами мятежников. Но в этот миг верные полководцы Велизарий и Мунд перекрыли все входы и выходы к ипподрому. Бунтовщики оказались в западне. В здание вошли солдаты и, обнажив мечи, безжалостно убили толпу, собравшуюся на арене и ступенях. Говорят, что погибло тридцать тысяч человек. Полководца, которого восставшие выдвинули в императоры, арестовали. Юстиниан собирался помиловать его. Но Феодора отговорила мужа, и несостоявшегося узурпатора казнили.
Получается, что Феодора спасла империю? По меньшей мере она помогла это сделать. Дабы отбить у народа желание бунтовать вновь были устроены жестокие репрессии. А затем следовало восстановить разрушенный город. В пожаре пострадал Софийский собор, и уже через месяц его начали восстанавливать.
Если раньше у супругов были разногласия о том, как надо себя держать, то теперь, пройдя через испытание, они сплотились. Юстиниан осознал, что он может получать помощь и поддержку не только от своих советников, что он не одинок. Его любимая наделена немалым мужеством. Хладнокровие императрицы, ее политическое чутье и уверенность в силах империи вызывали восхищение. И в январе 532 г. Феодора добилась своего: отныне и до самой смерти ее называли Августа.
Подстроенная опала
Многих уже давно раздражало, то каких общественных высот достигла Феодора. Все знали, что хотя сам Юстиниан и наделен могучей волей, он слушался жену, которая вмешивалась в дела страны. Лучшие законники с удовольствием напоминали всем, что в империи женщин не допускают до государственных обязанностей. Как смогла женщина, да еще столь презренного происхождения, привязать к себе басилевса так, что он сделал ее соправительницей империи? Императрица своим происхождением унижала сенаторскую знать, не знавшую, как подсунуть кого-нибудь из своих дочек в императорскую постель, а активное участие Феодоры в государственных делах возмущало абсолютно всех.
У Феодоры всегда хватало врагов. Да и сама она ненавидела многих министров и советников Юстиниана. Императрица убирала с пути тех, кому была не по вкусу ее влиятельность, пребывая в немилости у соперников, отодвигала соперниц. Она покровительствовала только богачам, и ей приписывали преступления, которых она не совершала.
Поговаривали, что Феодора организовала убийство прекрасной Амаласунты, дочери готского царя Теодориха. Но это неправда. Во время трудной войны, которую Амаласунта вела против готской знати, возражавшей против ее политики союзничества с византийским императором, злосчастная правительница попросила убежища в империи. Юстиниан согласился. Феодоре не понравилось, что приехала женщина знатного происхождения, царица, «хороша собой», которая, как все знали, «необыкновенно изобретательна в путях и средствах к достижению желаемого ею». Византийская императрица понимала, насколько мужественна и обаятельна итальянская регентша, поэтому она решила «злоумышлять против той, не останавливаясь и перед ее убийством». И она поручила черное дело послу, отправленному Юстинианом в Равенну.
Скорее всего Феодора действительно заревновала, но как бы не упражнялся в злословии Прокопий, она не убивала слишком красивую царицу. Дело в том, что Амаласунта передумала уезжать в Византию. Она осталась на троне, несмотря на врагов. Много лет спустя, во время другого восстания, ее действительно то ли задушили, то ли утопили. Но убийство совершила не византийская императрица.
Феодора отличалась злопамятностью. Ее жертвой стал Иоанн Каппадокийский, один из министров Юстиниана и префект Востока. У него были все основания пользоваться неприязнью императрицы. Грубый, необразованный, суеверный и развратный сановник слишком уж напоминал ей о той постыдной среде, откуда ей посчастливилось сбежать. Он без зазрения совести хвастался огромным, нечестно нажитым богатством. Пустой нувориш, но хороший слуга империи. Его поразительное знание финансовых вопросов, управленческое чутье и энергию Юстиниан ценил в течение десяти лет и пожаловал Иоанну титул префекта, примерно соответствующий премьер-министру. Когда чиновник в рекордное время приводит государственные финансы в порядок, его надо беречь, а к его мнению стоит прислушиваться. Так Иоанн получил возможность свободно излагать свои взгляды. Он был совершенно лишен светскости, высказывал то, что думал прямо у трона, и всякий раз сообщал о презрении к той, что носила звание императрицы. Феодора тоже не любила его.
Талантливый, но бессовестный Иоанн Каппадокийский постоянно расширял свои полномочия и превратил вверенную ему префектуру в альтернативное государство. Феодора заметила опасность раньше Юстиниана. Среди врагов Каппадокийца поговаривали, что он рвется к императорским почестям. Чтобы избавиться от такого соперника, императрица задумала хитрость.
Иоанн нежно любил свою дочь Евфемию, а та разделяла отцовскую неприязнь к Феодоре. Императрица поручила своей близкой подруге Антонине, супруге полководца Велисария, завоевать доверие девушки и наговорить ей, как она якобы обижена на царствующих супругов. Женщины начали часами поливать грязью Юстиниана и Феодору. Евфимии казалось, что Антонина ненавидит императрицу и ее мужа не меньше, чем она сама. Убежденная в надежности новой подруги, девушка сумела убедить отца, чтобы он тайно пришел к Антонине.
Встреча состоялась в загородной вилле неподалеку от столицы. Неизвестно с какими намерениями, Иоанн согласился на нее. Возможно ли, что он с самого начала помышлял о дворцовом перевороте, о том, чтобы сбросить императора, которому он верой и правдой служил столько лет и который осыпал его милостями? Или он хотел заставить Антонину повторить то, что она говорила против Юстиниана, вывести ее на чистую воду и не позволить интриганке скомпрометировать Евфимию?
Явившись на встречу, Иоанн попал в западню. Феодора спрятала в доме двух доверенных сановников. Что за разговор они подслушали? Точно неизвестно. Зато известно, что они тут же выскочили. Начался бой. Каппадокийцу удалось скрыться, но он, потеряв хладнокровие, совершил ошибку и укрылся в соседнем храме. Бегство и попытка попросить в церкви убежища были позже истолкованы как доказательство вины.
Феодора взяла реванш. Но она прекрасно знала, что, несмотря на то что участие Иоанна в вымышленном заговоре было якобы доказано, она еще не избавилась от врага. Против Каппадокийца не нашлось ни одной серьезной улики, которая заставила бы императора отвернуться от префекта и лишить его полномочий. Иоанн Каппадокийский был не из тех сановников, кого можно арестовывать только из-за одной подозрительной встречи. Его любили в народе, уважали за суровость в отношении богатых налогоплательщиков, а недавняя поездка на Восток прошла триумфально. Поэтому Феодора ужесточила обвинение, вменив Каппадокийцу убийство одного епископа, с которым он был не в ладах. В мае 541 г. Иоанна арестовали, посадили в тюрьму и подвергли пыткам. Как ни странно, его так и не обвинили в измене и потому не приговорили к высшей мере наказания. Префекта выслали в Египет, и он пробыл в заключении около трех лет. Слишком много для невиновного, слишком мало для преступника. Каппадокиец вернулся из изгнания только после смерти Феодоры, но в политике так больше и не участвовал.
На протяжении этой непонятной истории Юстиниан хранил молчание. Долгое время он видел в Иоанне ценного единомышленника и грамотного сановника, но при этом едва терпел его независимый характер. Император боялся и той любви, что к Каппадокийцу питали в народе, и его жадности до власти. Вероятно, Юстиниан тогда предоставил Феодоре полную свободу действий.
Опозоренный велисарий
При Юстиниане вчерашним писателям и художникам особенно запомнился один человек. Это был не император или его жена, а главный полководец страны Велисарий (ок. 494– 565 гг.), победивший вандалов и готов. Как забавен, подчас, ход истории: драматурги и романисты придумывали сюжеты, как Феодора приревновала знаменитого воина, а тот сумел перешагнуть через свою любовь, пал жертвой мстительной императрицы и был приговорен к смерти по приказу императора. Другая легенда полюбилась самым разным художникам – Ван Дейку[18], Сальватору Розе и, особенно, Жаку-Луи Давиду. Они изображали Велисария опозоренным, слепым, вынужденным просить милостыню. На самом деле знаменитый полководец не питал презрения к Феодоре, равно как не докатился в старости до нищеты. Однако из-за императрицы он в 542 г. действительно попал в опалу.
Сразу было понятно, что Велисарий – герой. Его эффектная наружность подтверждала мнение, распространенное в те времена: внешняя красота отражает моральные качества человека. Вежливого, простого в общении, энергичного, преданного, во всем умеренного, всегда великодушного, смелого Велисария (если верить Прокопию, служившему у него секретарем) природа, казалось, наделила всеми возможными добродетелями. Где только не воевал этот знаменитый стратег. Он не раз выходил победителем, а в бою старался беречь солдат. Те его обожали. Юстиниан ценил Велисария по заслугам: щедро платил ему, жаловал самые высокие имперские награды, а за победу над вандалами в Африке удостоил триумфа на константинопольском ипподроме – эту честь долгое время никому в империи не даровали.
Богатый и влиятельный Велисарий, возможно, испытывал искушение стать первым человеком в империи при помощи семи тысяч всадников, содержавшихся за государственный счет. У него хватило бы сил провести переворот и отнять у императора трон. Велисарий мог бы с легкостью поставить свою огромную популярность на службу своим же амбициям и пойти против Юстиниана, который никогда не бывал на полях сражений и не умел толком командовать армией. Но несмотря на такие козыри, полководец ничего не предпринимал. Велисария связывала присяга на верность, принесенная басилевсу, к тому же он плохо разбирался в политике. Полководец руководил войсками и управлял захваченными территориями, и могущества у этого человека было больше, чем у многих царей. И, когда Велисарию, завоевавшему Италию, побежденные готы предложили корону, он отказался и тут же заявил: он верно служит Юстиниану и доказал это во время восстания «Ника».
И такая верность не нравилась Феодоре. Слишком уж баловала судьба этого полководца, слишком часто он одерживал победу! Слишком много у него богатств: вот бы присоединить их к казне! Слишком уж любил его император! Феодора приписывала Велисарию ту же жажду верховной власти, что снедала ее саму. Столь влиятельный человек мог представлять собой только смертельную опасность! Верный слуга казался императрице соперником, который угрожал ее собственному возвышению при дворе Юстиниана. Феодора не допустила бы, чтобы кто-то встал между нею и мужем. Она задумала подвинуть Велисария.
В 542 г. в Константинополе разразилась эпидемия чумы. Юстиниан серьезно заболел. Все думали, что царские дни сочтены. Феодора перехватила управление делами и приготовилась принять верховную власть в случае кончины императора. По городу пополз слух: Велисарий и еще несколько полководцев объявили, что не признают ее преемницей Юстиниана и не выйдут из казарм. Этот жест неповиновения Феодора истолковала как свидетельство опасного заговора. Выказав подобное непочтение, Велисарий поступил по меньшей мере неосмотрительно. Впрочем, нет свидетельств, что за такими разговорами военных стояло что-то серьезное. Но, поскольку такие слова были направлены против августы, «а она как и сам император была почти равна богам», то их сочли кощунственными и мятежными. Своим развязным замечанием полководец совершил преступление против государства.
Феодора отстранила Велисария и его опрометчивых коллег от занимаемых должностей и велела провести расследование. Она занялась этим делом в одиночку, отправив Юстиниана за город, где он медленно поправлялся. Феодора не обошла обычные в таких случаях процедуры. Имущество «виновного» было конфисковано, его лишили всех полномочий и отняли право иметь личную гвардию. Великий человек стал никем. Как пишет Прокопий, Велисарий ходил по городу «как простой человек, почти в одиночестве, вечно погруженный в думы, угрюмый и страшащийся коварной смерти».
Неужели Велисарий подвергся столь жестокому наказанию только из-за нескольких необдуманных слов? Феодора давно хотела избавиться от влиятельного полководца, но у нее не было повода. Но если верить Прокопию, была еще одна причина, подтолкнувшая императрицу к подобным действиям. У Велисария была жена по имени Антонина, и он очень любил ее. Но она изменяла ему с неким Феодосием. Обманутому мужу сообщили об этом, тот взял в плен юношу и заключил в далекую, никому не известную тюрьму. Но Феодора крепко дружила с Антониной и ради подруги разыскала и освободила пленника. Красавца Феодосия привезли во дворец, и императрица велела позвать Антонину.
«О, дражайшая патрицианка, – сказала Феодора, – вчера в мои руки попала жемчужина, подобно которой никто никогда не видел. Если же ты желаешь, я не откажу тебе в этом зрелище и дам тебе ею полюбоваться».
При виде любовника «Счастье до такой степени переполнило Антонину, что вначале она замерла, открыв рот. Затем она призналась, что та [Феодора] оказала ей огромную милость и принялась называть ее своей спасительницей, благодетельницей и истинной владычицей».
Феодора победила. Она решила простить Велисарию его мятежные речи, но не из справедливости, а ради своей подруги Антонины. Императрица велела полководцу, который несмотря ни на что очень любил жену, возобновить супружескую жизнь.
Была у царицы еще одна причина радоваться. Юстиниан болел и потому не мог вмешаться в интригу. И Феодора решила поквитаться с опрометчивым генералом. Она снова, в интересах своей верной Антонины, помирила ее с мужем. Так она вернула Велисария жене и заставила могучего военачальника не просто стать уступчивее, а вдобавок чувствовать благодарность за то, что его простили.
Жажда власти горела в Феодоре на протяжении всей ее долгой жизни. Не обладая верховными полномочиями, она добивалась своего интригами – например, подстроив опалу Иоанну Каппадокийскому, а затем Велисарию. Оба они представляли угрозу для императрицы: уменьшали ее влияние на Юстиниана и побуждали довольствоваться чисто представительской ролью. Феодора боялась, что они слишком сблизятся с императором. Например, в военачальнике Германе, приходившемся родней басилевсу, она разглядела возможного преемника и поспешила избавиться от него. Ничто не должно было мешать ее участию в государственных делах или стоять между ней и Юстинианом.
Некоторых своих врагов Феодора покарала очень сурово. Говорят, что она устроила во дворце «тайные комнаты», и объекты ее ненависти, если не умирали, могли гнить там годами, позабытые всеми.
Одних Феодора губила, а других, своих фаворитов, возвышала: например, менялу Петра Варсима (он стал кем-то вроде министра финансов, должность его называлась «глава сокровищниц») или полководца Нарсеса, армянина по происхождению, воевавшего в Александрии и Италии. Желая поставить на все имперские должности верных людей, Феодора советовала выбирать на епископские посты тех церковнослужителей, что были ей преданы. Хотя по ее мнению, религиозные дела не составляли прерогативу басилевса, несмотря на то что он считался «наместником Бога на земле».
Опека еретиков
В Константинополе было принято, что император имеет право вмешиваться в жизнь церкви и влиять на ее решения[19]. Басилевс, являлся посредником между Богом и людьми и играл ключевую роль в религиозных структурах. Юстиниан, по всей видимости, отличался пылкой верой: по приказу императора возводились многочисленные церкви, их сверху до низу заполняли драгоценные реликвии, до глубокой старости он совершал паломничества и поклонялся святыням. Юстиниан был набожен не только внешне; его вера сочеталась с глубокими познаниями в религиозных тонкостях. Всю жизнь он, как говорил кардинал Даниэлу, был «неисправимым богословом».
Более ста лет христианство являлось государственной религией империи, и церковь занимала привилегированное положение. В обществе господствовала «православная» вера; ее последователи без колебаний расправлялись с «еретиками», сторонниками запрещенных маргинальных религиозных течений, которые подвергались преследованию. И те, и другие не раз были осуждаемы вселенскими соборами и восточными патриархами[20], решения которых утверждал император. Арианство, «где Иисус играл роль второстепенного божества»[21], которое приняли многие варварские цари, было раскритиковано на Никейском (325 г.), а затем на Константинопольском (381 г.) соборах. После 536 г. Юстиниан искоренял распространение этой антитринитарной доктрины в завоеванных провинциях Африки и Италии, где она имела распространение.
Куда большую опасность представляло для церкви монофизитство. У него было множество последователей, в некоторых областях империи составлявших большинство населения, и они были готовы рьяно защищать свои убеждения. В отличие от арианства, это учение говорило о превосходстве божественной природы Христа над его человеческой сущностью. В 451 г. Халкидонский собор объявил монофизитство ересью, но при этом оно составляло серьезную конкуренцию ортодоксальной церкви. С ним, к большому удовольствию Рима, боролся предшественник Юстиниана. Из-за монофизитства произошел раскол среди восточных епископов и монахов; его последователи, спасаясь от преследований, бежали в Египет.
Через четыре года после восхождения на трон в 531 г. Юстиниан смягчил репрессии против еретиков и позволил священнослужителям вернуться из изгнания в свои приходы. Император всегда старался действовать сообразно обстоятельствам, но также прислушивался к жене. До свадьбы Феодора помогала монофизитам. А став императрицей, начала оказывать им протекцию. Однажды Феодора приняла во дворце как минимум пятьсот монахов, прибывших из Месопотамии, и разместила их в монастыре. После восстания Ника на одном из совещаний завели речь о сближении православного христианства (в трактовке Халкидонского собора) и учения монофизитов. Хотя дело закончилось ничем, император, в отличие от остальных, остался при своем мнении и выражал готовность заключить соглашение: казалось, сейчас подходящее время для компромиссов. Феодора заняла противоположную позицию, не желая договариваться ни при каких условиях: ей нравились более решительные монофизиты, и она хотела, с помощью своего положения, помочь им стать господствующей религией. Тут супруги разошлись во взглядах. Соперничающие религиозные учения вызвали раскол в царской семье.
А в это время с новой силой разгорелся кризис в отношениях восточных патриархов и святых отцов, а также папы. Исходя из своих полномочий и интереса к богословию, император хотел объединить и тех и других, но императрица не позволяла ему это сделать, во всем поступая наперекор мужу. Хитроумные богословские споры, которыми сопровождался кризис, не брезговали ни подлостью, ни предательством, отправляли в тюрьму неугодных с такой яростью, словно они вели не ученые размышления о двойственности божественной и человеческой природы Христа, а самые грубые политические войны.
Феодора вовсе не стремилась мирить враждующих. В 535 г. она употребила свое влияние, чтобы, вопреки политике Юстиниана, патриархами Александрии и Константинополя назначили двух монофизитов. Это вызвало столько возражений, что первого пришлось привозить силой, а второго – защищать от папы, который объявил выдвижение незаконным[22]. Опираясь на солидную поддержку со стороны царицы, монофизиты, казалось, семимильными шагами мчатся к успеху. Показателен неожиданный скачок в карьере монаха Севира. Он принадлежал к умеренным монофизитам, получил антиохийскую кафедру, затем ее у него забрал император Юстин. Севир бежал в Египет, потом вернул себе кафедру благодаря милости Феодоры, которую он посвятил в свое учение. Но успех его оказался недолгим.
В это же время митрополита Анфима стараниями императрицы назначили патриархом Константинополя. Папа заставил его уйти с должности, чтобы поставить нового, целиком и полностью православного патриарха. Анфим тут же сбросился к своей покровительнице. И случилось так, что понтифик неожиданно заболел и умер в имперской столице, куда он опрометчиво вернулся в апреле 536 г. Поговаривали – но улик тому не было – что папу велела отравить Феодора. Собор, подготовленный покойным папой тем не менее продержался всю весну. Он подтвердил: выгнанный патриарх-монофизит отлучается от церкви, а та поддерживает трактовку православия, принятую в Халкидоне в 451 г.[23] Казалось, что монофизиты проиграли.
Феодора никогда не признавала поражения. В июне 536 г. новым папой избрали Сильверия, и царица надеялась, что он вернет ее протеже Анфиму константинопольскую кафедру. Как раз тогда Велисарий сумел отвоевать Италию у готов: в декабре 536 г. он вступил в Рим. Полководец-победитель, как поспешила нажаловаться императрице его супруга Антонина, надавил на папу, дабы тот восстановил Анфима, но понтифик отказался. И против него замыслили коварную интригу. Папу ложно обвинили в желании сдать Рим врагам империи. И его с легкостью удалось сместить с престола (в марте 537 г.) и отправить в изгнание. Так Феодора отомстила. Скоро Велисарий заставил выбрать новым папой Вигилия, который несколькими годами ранее служил у Феодоры советником и обещал ей при случае содействовать восстановлению монофизитов в правах.
В Александрии Феодора в 535 г. поставила монофизита Феодосия. Но патриарх продержался на посту всего несколько дней. Народ возмутился, и прелату пришлось бежать. Ему удалось получить убежище у императрицы. Его александрийский преемник Павел Тавеннисиот, назначенный Юстинианом, был халкидонийцем, то есть православным. Он тут же при поддержке солдат велел закрыть все монофизитские церкви. Гонения развернулись до самого Египта. Тут-то монофизиты и потерпели поражение. Императрица предприняла несколько попыток их защитить. К концу 539 г., громогласно осуждая жестокие методы патриарха Павла, Феодора сумела сместить его. Но ей не удалось остановить гонения во всех имперских провинциях, в Сирии, а также в Месопотамии и даже в Египте.
А потом, после 540 г. Юстиниан изменил свою позицию и, видя, что жесткие меры себя не оправдали, попытался всех помирить. Как можно догадаться, его к этому подталкивала Феодора. Ведь диалоги и компромиссы – это лучший путь к союзничеству. Юстиниан издал указ о примирении. Между императором, которого поддерживала императрица, и папой вспыхнула борьба. Понтифика низложили и насильно увезли в Константинополь пленником. Под нажимом он утратил способность сопротивляться и в апреле 548 г. окончательно сдался. Так за несколько недель до собственной смерти Феодора в последний раз одержала победу.
Всю свою долгую жизнь императрица оставалась верна монофизитам, которых она безустанно опекала, заставляя супруга менять курс религиозной политики. Их с Юстинианом расхождение во взглядах не раз интересовало историков. Как его понимать? Что это было – серьезная проблема в механизме власти на самом верху государственной системы? Или слабое место в имперской политике, с которым так и не удалось справиться? Некоторые додумались до версии, что чета разделила государственные обязанности в соответствии со своими интересами. Юстиниан защищал православие, стремясь сделать его более терпимым, а Феодора опекала еретиков, составлявших немалую часть общества. Оба они стремились к большей имперской славе и царскому могуществу. Такая интерпретация кажется слишком уж сложной, но сбрасывать со счетов ее не стоит. Остается вопрос: знал ли Юстиниан, чем занимается императрица, что она тайно привечает во дворце еретиков, ссорится с Римом, интригует? С трудом верится в незнание или слепоту императора. Следует, пожалуй, признать: в супругах были одинаково сильны религиозные чувства, и в этой области их мнения оставались противоположны. Юстиниану приходилось мириться с силой характера жены, с ее независимостью.
Забота о падших женщинах
Если верить хроникам, государственная жизнь никогда не утомляла Феодору. Тем не менее портрет, нарисованный Прокопием Кесарийским, не лишен некоторых противоречий. За собой, как с усмешкой пишет Прокопий, «за телом своим она ухаживала больше, чем требовалось… Ранее раннего она отправлялась в бани и очень поздно удалялась оттуда. Завершив омовение, она направлялась завтракать, позавтракав, отдыхала… Сон же у нее всегда был очень продолжительным, днем до сумерек, ночью – до восхода солнца». При таком распорядке дня у правителя не останется времени на управление страной. Однако в других местах «Тайной истории» Прокопий говорит, что «эта женщина притязала на то, чтобы самовластно распоряжаться государственными делами. Ибо она ставила и должностных лиц, и священников… И все браки она устраивала с неким божественным могуществом». У нее всегда находилось время, чтобы устранить тех, кто ей не по нраву, поставить на нужные места фаворитов, защитить монофизитов и подавить восстание «Ника».
Те сегодняшние историки, кто признает значение той политической роли, которую играла Феодора, не склонны ее переоценивать. Влияние, которое Феодора оказывала на Юстиниана, не имело ничего общего с домашней тиранией. Да, императрица покровительствовала монофизитам, но эта ересь так и не восторжествовала над государственной церковью и не раз подвергалась гонениям. Замыслы Юстиниана о территориальном восстановлении Римской империи и уничтожении варварских государств Феодора не одобряла. Но войн за утерянные земли – против вандалов в северной Африке, готов в Италии, вестготов в Испании – меньше не стало. Иногда складывается впечатление, что Феодора вела собственную дипломатию, параллельную официальному курсу императора. Временами такое действительно случалось. Впрочем, безуспешно. Кроме того, в конце 539 г., опасаясь нового столкновения с персами, императрица написала письмо министру Великого царя[24], где просила его о мире, но ее старания ни к чему не привели. Следующей весной неприятельская армия напала на Византию.
Неужели Феодора занималась одними лишь дворцовыми интригами? Нельзя недооценивать ее роль во внутренних реформах государственного строя. Как вы помните, император никогда не бывал на полях сражений, поскольку считал, что он денно и нощно размышляет, какие действия «будут угодны Богу и полезны для подданных». Феодора размышляла с ним вместе. В предисловии к длинному документу, обнародованному 15 апреля 535 г., который сообщал о новой административной реформе, которая запрещала продажу должностей, Юстиниан не раз говорит, насколько значимую роль сыграла в этом замысле его жена.
«По природе своей, – отмечал Прокопий, – Феодора была склонна помогать женщинам, попавшим в беду». Императрица и вправду не жалела сил, стараясь улучшить положение женщин, и ее усилия получили юридическое оформление в знаменитом «Своде Юстиниана». Замужние женщины должны были во всем повиноваться супругам, но их личное имущество отныне было надежно защищено[25]. Кроме того, Феодора выкупила множество проституток и многим из них дала убежище у себя во дворце[26]. Она еще не позабыла собственной молодости и подтолкнула императора принять закон, отменяющий дискриминацию артисток. Женская супружеская измена больше не каралась смертью, но оставалась причиной для развода. Теперь точно такой же причиной стала мужская измена. Заручившись поддержкой церкви, Феодора добивалась нерасторжимости брака. Раньше, чтобы осуществить развод, ветреному мужу можно было просто отказаться от жены. И эти отвергнутые жены не имели возможность получать помощь благотворительных институтов, скатывались в нищету и проституцию.
Конечно, женщины оставались зависимыми, подчиненными, унизительно недееспособными, но все же их положение (равно как положение рабов) несколько улучшилось. Это преобразование – одна из самых ярких перемен, совершенных в правление Юстиниана, и во многом оно состоялось благодаря Феодоре. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть слова Прокопия: «В те времена нравственность почти всех женщин оказалась испорченной». Уличенные в измене «немедленно обращались к василисе, добиваясь полного поворота дел, подавали встречный иск и привлекали своих мужей к суду несмотря на то что никакой вины со стороны тех не было». Скорее всего это едкое замечание свидетельствует о том, что Прокопий, а возможно, и не он один, не испытывал восторга по поводу брачного законодательства, которое царь принял под влиянием жены.
* * *
Юстиниан и Феодора – это супруги в полном смысле слова. Император в очередной раз доказал всем – если это нуждалось в доказательствах – свою искреннюю любовь к жене, когда та скончалась. 29 июня 548 г.[27] Феодора, прожившая с Юстинианом четверть века, умерла от рака. Феодора так и не подарила Юстиниану ребенка. Император неутешно горевал о ней, замкнувшись в себе, он редко показывался на людях, почти все время проводил у себя во дворце, изредка покидая его для совершения официальных церемоний. До самой смерти (умер Юстиниан в 565 г.), на протяжении семнадцати лет он оплакивал танцовщицу с ипподрома, которая стала императрицей Византии, торжественно и тихо встав рядом с ним на прекрасной мозаике в равеннской церкви Сан-Витале – чтобы последующие поколения помнили о супругах, двадцать один год деливших царскую власть.
Карл VI и Изабелла Баварская (1385–1422) Непредсказуемость безумия
«Вы можете стать врачом и лекарством для этого больного королевства, в это израненное время».
Кристина Пизанская, Послание королевеТы, королева, благородная Изабелла, облачена в уродливую кожу.
Автор неизвестен1368 год. Тридцать лет шла война, еще не успевшая получить прозвище Столетней. Французы против англичан. Исход непредсказуем. И все-таки у Французского королевства есть повод радоваться. В конце этого года 3 декабря у короля Карла V (1364–1380) и королевы Жанны де Бурбон родился дофин, будущий Карл VI, первый сын, появившийся на свет после трех дочерей, которые умерли в раннем детстве. Карл страстно мечтал о мальчике-наследнике. «Дофин родился! Родился дофин!», – кричали по всему Парижу. Столица остро нуждалась в хороших новостях, которые развеяли бы страхи, предшествовавшие появлению долгожданного младенца. Шептались, что коронованная чета уже несколько лет как не жила вместе и собиралась развестись. Они уже обратились с соответствующей просьбой к папе, но тот посоветовал им возобновить супружескую жизнь и предсказал рождение сына. Карл и Жанна послушались понтифика. Новорожденного называли «сыном папы Урбана»[28].
Юный король неспокойного королевства
Если крепкий малыш Карл выживет, а его мать подарит Короне[29] и других детей, страна вновь могла обрести надежду. Долгие годы законность династии Валуа, одной из ветвей семейства Капетингов, оспаривалась английским монархом[30], претендующим на корону и доказывающим свое право на нее. Ему помогали деньгами феодалы Гиени и кое-кто из фламандцев, и это соперничество привело к войне. Поэтому рождению дофина радовались и придворные и простой народ Франции. Но оно не могло затмить суровых испытаний: военные неудачи в Слейсе, Креси, Кале, Пуатье, эпидемия чумы, с которой никак не удавалось справиться, пленение короля Иоанна Доброго в 1356 г., восстание парижан под предводительством Этьена Марселя, а за ним – страшная крестьянская Жакерия. В 1360 г. по договору, подписанному в Бретиньи, Франция потеряла около трети своих земель, которые перешли в полное владение английскому королю. Дела королевства шли все хуже. С тех пор как в 1364 г. Карл V взошел на престол, он только и делал что латал дыры.
Опираясь на мудрых советников и коннетабля Бертрана дю Геклена, он пытался вытащить Францию из навалившихся бед и отвоевать утерянные провинции. Результаты были следующие: военный – королевство избавили от отрядов наемников – банд, созданных феодалами и солдатами, которые продолжали вести войну сами за себя; дипломатический – была сорвана свадьба Маргариты Фландской с одним из сыновей английского короля, вместо этого устроили ее брак с братом Карла герцогом Бургундским Филиппом Смелым, что, среди прочего укрепило союз между Фландрией и Бургундией к немалой выгоде для французского короля. Карл V, получивший прозвище «Мудрый» с того самого года, как родился сын, изо всех сил старался возобновить войну с Англией. Его братья – Иоанн, герцог Беррийский, Людовик, герцог Анжуйский, и Филипп Смелый, так называемые «принцы флер-де-лис» – попытались вернуть часть земель, захваченных англичанами во французском королевстве. И к моменту смерти короля в 1380 г. англичане уже лишились «шерстяного» порта Кале, «винного» порта Бордо и торгового порта Байонны.
Надолго ли установилось перемирие? Появление по младенцу на противоположных берегах Ла-Манша давало надежду, что надолго. В Лондоне Эдуард III, скончавшийся в 1377 г., оставил наследником 10-летнего Ричарда II. Ненамного старше был Карл V (1380–1422). К счастью для обеих стран, малолетство обоих правителей предвещало, что пауза в войне будет долгой. Но оно же грозило стать причиной множества внутренних проблем для королевств.
У Карла не было королевы-матери (она умерла раньше мужа), и поэтому власть в Париже забрали дяди юного короля: герцоги Беррийский, Анжуйский и Бургундский. Их интересовало не наследство покойного монарха, а возможность проводить собственные политические линии, приводившие к постоянным конфликтам. Авторитет королевской власти подрывало и то, что подданные не видели от нее ничего, кроме увеличивающихся налогов: принцы пытались насытить свои непомерные аппетиты. Во время их регентства по стране постоянно вспыхивали восстания.
Король подрастал. Он превратился в крепкого юношу, умело обращавшегося с оружием и обожавшего охоту. Первым его наставником стал полководец и писатель Филипп де Мазьер, но после смерти Карла V место отца для мальчика занял дядя Филипп Смелый. Говорят, что образованием Карла VI занимались мало, и к роли короля он был подготовлен плохо. Чепуха! Карл действительно не соответствовал идеалу принца, который законники того времени списали с его отца, «короля юристов и ученых». Сын его был совсем другим: набожным, но при этом интересовался придворной жизнью, очень любил физические упражнения и игры, особенно игру в мяч, хорошо ездил верхом. Принц-шевалье, очень похожий на романных героев того времени. Все обещало, что правление его будет счастливым, но после смерти Карла V в королевстве начались волнения из-за того, что люди отказывались платить налоги. В крупных городах вроде Парижа вспыхивали восстания, в целом жизнь была неспокойной. А когда стало чуть полегче, опекуны задумались о том, как бы устроить брак 17-летнего короля.
Принцесса «для королевского удовольствия»
Для того чтобы выполнить волю покойного короля и обеспечить союз с германскими государствами, на роль невесты подбирали принцессу-немку. Рассматривали кандидатуру дочери графа Баварского Изабеллы (1370–1435), но ее отец от такого брака мог быть не в восторге. Стоило ли искать других невест в Англии, Шотландии, Кастилии, Лотарингии? В качестве свата выступил Филипп Смелый. Он заказал портреты трех главных претенденток. «Эти портреты, вспоминал один из современников, были показаны королю, и он выбрал госпожу Изабеллу Баварскую 14 лет от роду, сочтя, что она намного превосходит остальных по красоте и изяществу»[31]. Очевидцы были единодушны: один нашел, что девушка «прекрасна, молода, благородна и превосходно воспитана», второй, что в ней «премного благородства». Карл сгорал от нетерпения, так ему хотелось поскорее заполучить обещанную жемчужину. «Когда я увижу ее?» – повторял он.
Ради племянника герцог Бургундский устроил тайную встречу в Амьене под предлогом, что Карл приедет поклониться святому Иоанну Крестителю. Если Изабелла понравится монарху, она станет королевой Франции, а если нет – свадьбу отменят, даже не замолвив слова о приданом. Баварский герцог Стефан III очень боялся этой встречи и признался тому, кто должен был сопровождать девушку в Амьен:
«Если король Франции откажется от нее, она будет обесчещена на всю жизнь. Подумайте еще раз, прежде чем уезжать. Если вы вернете ее мне, я стану вашим заклятым врагом». Изабелла о назначении встречи не знала: она думала, что едет в паломничество, а не на смотрины. За время трехнедельного путешествия в Пикардию, ей спешно рассказали о некоторых обычаях двора Франции и немного обучили французскому языку, на котором она не знала ни слова. Одежда Изабеллы выглядела слишком скромной, и девушку нарядили по парижской моде. Свадьба должна была состояться. Иначе отринутой невесте грозил монастырь.
Молодые люди встретились 14 июля 1385 г. Их словно молния поразила. Как пишет Фруассар, Карл «нежно посмотрел ей в глаза. Он почувствовал, что она ему очень приятна и что его сердце наполняется любовью к этой молодой и красивой девушке. Он мечтал лишь об одном, чтобы она скорее стала его женой». А ведь Изабелла не отвечала канонам женской красоты тех времен, ценивших блондинок с бледной, полупрозрачной кожей. Она была миниатюрной смугловатой брюнеткой, с яркими чертами лица. Но Карл был покорен. Природа наградила его всем, для того чтобы завоевать женщину. Король был красив: выше среднего роста, с мощным туловищем, с живыми глазами, светлыми волосами. Жених и невеста друг другу понравились, тут же решили играть свадьбу. Герцог Бургундский уже подготовил в Аррасе торжество. «Зачем ждать?» – спросил король. И свадьба состоялась в Амьене через три дня после знакомства молодых. «Будьте уверены: в эту ночь им было очень хорошо», – заверял нескромный Фруассар.
Изабелла и Карл поженились по любви или как минимум по взаимному влечению. В королевской среде редко бывает, чтобы к алтарю приходили из-за чувств. Но тем не менее король увлекся юной баваркой по-настоящему. И мешать этому раздражительному юноше, рвавшемуся вступить в брак, не стоило. Нетрудно заметить в этом союзе и дипломатические мотивы: он укреплял связи между династиями Валуа и Виттельсбахов перед лицом английской угрозы. Король не желал иной супруги. И женившись на немецкой принцессе, выполнил предсмертную волю отца.
Обеты королевы
Изабелла была ослеплена. Молодой муж осыпал ее подарками. Роскошные королевские резиденции заставили позабыть о скромных замках, где прошло ее детство: Венсен, где Карл V любил жить больше всего, соседний Ботэ-сюр-Марн, построенный на опушке леса и обставленный роскошной мебелью, отель Сен-Поль, стоявший в конце улицы Сен-Антуан в Париже. Эти дома выглядели очень непривычно, в них было множество пышно украшенных залов, к ним примыкали бани, вокруг цвели огромные сады, был устроен знаменитый зверинец, главной достопримечательностью которого являлись львы. К Изабелле были приставлены десятки слуг, и ее новая жизнь совсем не напоминала заточение в монастырь. Пока король пропадал на охоте, она изучила и другие дома – Мелён и Сен-Жермен, Мобюиссон и Монморанси. Казалось, что юной баварке, прилежно учившей французский язык и историю ее новой родины, уготована сладкая жизнь. Юные супруги любили друг друга. Когда король уезжал в военные походы, они постоянно переписывались. Изабелла уже ждала ребенка. Их брак оказался богоугодным: родился мальчик. Он прожил всего несколько месяцев, но потом пошли еще дети: всего за двадцать шесть лет их было двенадцать, шесть девочек и шесть мальчиков.
Во французском дворе правила бал молодость. Королевской чете не было и двадцати лет, а единственный брат Карла Людовик, будущий герцог Орлеанский, был на три года младше его. Молодые люди росли вместе и получили одинаковое образование. Людовик отличался красноречием, часто устраивал ученые споры и тонко разбирался в культуре. В 1387 г. он обручился с Валентиной Висконти – свадьбу сыграли через два года, – и в честь этого устроили празднество на радость молодой королеве. Старшее поколение составляли королевские дяди:
Иоанн Беррийский и Филипп Бургундский, чей возраст приближался к пятидесяти[32]. В королевстве их не любили, и Карл VI задумал избавиться от их опеки. В ноябре 1388 г. король решил править самостоятельно, опираясь на помощь своего брата Людовика, верных военачальников и знаменитых «мармузетов»[33]. Появление на свет других детей – увы, это оказались три девочки подряд, – решительный настрой монарха лично заниматься государственными делами, перемирие с Англией, куда более долгое, чем ожидалось, давали повод для радужных прогнозов. Придворные празднества сообщали всем, что в жизни наступил просвет. В августе 1389 г. в столице прошла пышная церемония: в Париж торжественно вошла королева, облаченная в платье из синего бархата, расшитое золотыми лилиями, а вслед за тем ее короновали в Сен-Шапель, принадлежавшей королевскому двору. Целую неделю шел незабываемый праздник с играми, танцами и застольями. И все видели в этом свидетельство любви короля к молодой королеве.
От Изабеллы Карл не просил ничего, кроме представительских функций в промежутке между беременностями. Она «владела учением», то есть была хорошо образована, имела коллекцию рукописных книг, как на религиозную, так и на светскую темы и увлеченно читала, став главным украшением королевского двора. Она любила музыку, сама умела играть и, как положено благородной даме, много вышивала. Изабелла, как все средневековые люди, отличалась набожностью и верила в небесные знамения. Летом 1390 г. на Сен-Жермен-ан-Ле, где жила королевская семья, обрушился ураган. За несколько минут он разбил витражи в королевской часовне, сорвал с петель окна комнат, вырвал с корнем деревья. Вскоре все стихло, но перепуганная Изабелла (она была в очередной раз беременна) дала обет. Сей природный катаклизм, как она объяснила королю, означает, что на небесах гневаются, оттого что народ задавлен высокими налогами. И как добавляют летописцы, «по настоянию королевы, которая должна была скоро родить, король вскоре стал добиваться отмены этого дела [повышения поборов]».
«Все глубоко скорбели о болезни короля»
Недолго длилось счастье четы. 5 августа 1392 г. в лесах Мана с королем случился приступ безумия. Во время прогулки неожиданно появился человек и предупредил короля, что готовится измена. Встревоженный Карл съехал с дороги. Вдруг посреди леса появился луг, залитый полуденным солнцем. В то лето стояла страшная жара. Один из пажей задремал и шумно уронил копье на шлем ехавшего впереди. Карла охватил страх, он кинулся на слугу и убил его. Монарха оттащили. Карл не узнавал ни свиту, ни брата, который ударил его, ни дядю. В конце концов, его связали и отвезли на колеснице в Ман. Два дня Карл был не в себе. Умрет ли он?
Растерявшиеся современники думали, что им удалось поставить диагноз – «разлитие черной желчи и возбуждение». Они считали, что в этом заключается причина болезни, и та неопасна. Сегодняшние медики предполагают шизофрению. Король Франции сошел с ума, но безумие было не постоянно. Во время кризиса он забывал, как его зовут и какого он звания, не узнавал никого из близких. «Что это за женщина, которая преследует меня?» – спрашивал он о королеве. Мало того, что Карл утратил способность управлять, он еще представлял опасность, как для самого себя, так и для окружающих[34]. Потом он пришел в себя и вновь стал королем и любящим супругом.
Первый приступ длился всего три дня. Однако болезнь снова заявила о себе на следующий год в середине июня и тянулась до самого января 1394 г. Отныне существование Карла VI определялось сменяющими друг друга кризисами и ремиссиями, без надежды на выздоровление. Больной, его супруга и окружение жили в постоянном ожидании следующего приступа. В 1403, 1405 и 1409 гг. их насчитывается не меньше четырех, при том, что нередко за один год безумие нападало на короля по три раза. Судя по летописям, один кризис длился от нескольких дней до девяти месяцев; со временем ремиссии становились все короче и короче, болезнь брала свое. В то печальное лето 1392 г. ничто не предвещало, что король погрузится в свое состояние на тридцать долгих лет.
Изабелла могла лишь беспомощно наблюдать. В надежде на выздоровление она покаялась в грехах, читала молитвы, раздавала милостыню, посещала мессу, ходила на крестный ход, приглашала чудотворцев и других фокусников. Небеса оставались глухи к ее мольбам. Стоило королю прийти в себя, как супруги снова начинали жить (почти) нормальной жизнью! С 1393 по 1407 г. королева родила еще семь детей. Несмотря на сплетни, обвинявшие Изабеллу в том, что она бросила мужа, она оставалась рядом с ним и не переставала любить его, пусть даже ее чувства блекли со временем. Болезнь короля стала ее крестом. В состоянии безумия Карл ломал все, что его окружало, пачкал одежду, а жену в лучшем случае не замечал, в худшем – оскорблял и угрожал. Единственным человеком, способным утихомирить монарха, оказалась его невестка Валентина Висконти. В течение шести лет Изабелла во время приступов болезни исполняла исключительно супружеский долг. Так появились на свет Екатерина, второй ребенок и будущая королева Англии, а также будущий Карл VII. Чтобы облегчить жизнь Изабеллы, королю с ее согласия в 1405 г. подыскали любовницу по имени Одетта де Шамдивер, которую прозвали «маленькой королевой». Она искренне любила Карла до самой его смерти, чем позже восхищались любители романтики.
Какой толк от душевнобольного короля? Стоило ли отстранить его от власти, низложить? У кого хватит смелости отважиться на такое кощунство? А тем временем государством надо было управлять. Людовику, герцогу Орлеанскому и брату Карла, было 20 лет, его считали слишком молодым. От его кандидатуры отказались. Так же как от кандидатуры 22-летней Изабеллы. Дяди короля, герцоги Беррийский и Бургундский, взяли реванш. Четыре года назад Карл VI отказался от их помощи. 5 августа 1392 г. они тут же отправились к нему, чтобы объявить о своем праве опекать короля, который через несколько дней пришел в себя, но был слишком слаб, чтобы руководить государством. Волю Карла признали его жена и брат. Он правил сам, когда был здоров, а во время приступов болезни его замещали дяди[35].
Но вдруг король умрет? В феврале 1392 г. у него родился второй сын. Но ему было пока всего несколько месяцев, а совершеннолетие для королей наступало, как известно, в четырнадцать лет. Следовало предусмотреть установление опеки или регентства, при этом они должны быть четко отделены друг от друга. В связи с этим, в январе 1393 г., во время первой ремиссии Карла, вышло два указа. Вдовствующей Изабелле поручалась забота о детях (в тексте говорилось: «опека, содержание и воспитание»), и она должна была отчитываться перед Беррийским и Бургундским принцами, а также перед Людовиком, герцогом Бурбонским, королевским дядей по материнской линии, и собственным братом Людовиком, герцогом Баварским, которые помогали ей и руководили ее действиями. В случае если король умирал до совершеннолетия наследника, регентство получал брат Карла VI Людовик Орлеанский, а не вдова, поскольку Франция «слишком благородное королевство, чтобы ею вертели как веретеном и отдавали в руки бабы». Но это решение обнародовано не было. Уже при правлении Карла V в 1374 г. «возможность управлять королевством, заботиться о нем и защищать его» (слово «регентство» не употреблялось) в случае кончины короля доверялась его брату, а опека над королевскими детьми – их матери. Изабеллу не обидели. Она выполняла лишь почетные обязанности, вроде главенства на семейном совете, не имея реальной власти, но ее это вполне бы устроило[36].
Занятая «представительской ролью», материнскими заботами и благотворительностью королева и не думала оспаривать власть у дядей и брата Карла. Куда важнее для нее была финансовая независимость. Она ее получала, поскольку король оставил жене право самостоятельно распоряжаться расходами, которые отныне покрывались из королевской казны. Щедрый супруг вручил Изабелле замок Сен-Уэн. Тот переходил в собственность королевы, и эта земля давала ей в будущем денежную автономию, гарантирующую политическую свободу. Изабелла пока что не приобщилась к настоящей власти, но и не вела себя пассивно: она переписывалась со всеми влиятельными людьми как из Берри, так и Орлеана, собрала сведения о дипломатических переговорах, стараясь не занимать откровенно ни одну сторону. При всем при этом, она очень любила герцога Бургундского, который в свое время устроил ее замужество, и часто обменивалась с ним письмами[37]. Тот продолжал играть видную роль в королевстве. Разве не он в 1395 г. выдал замуж ее дочь Изабеллу (6 лет) за Ричарда III Английского (28 лет)? Она не участвовала ни в одном подготовительном совещании, и ее подпись на государственных документах не была обязательна, к ним прилагали руку только принцы. Ни один из летописцев не счел нужным сообщить, как она отнеслась к тому, что ее дочь Жанна была обещана герцогу Бретонскому, чтобы не допустить союза этой провинции с Англией. Отец Изабеллы Стефан III Баварский приезжал в Париж и предлагал возвести на трон представителя Виттельбахов. Герцог встречался с королем, когда тот был в состоянии выполнять свои полномочия, но дочь до переговоров не допускал. От Изабеллы требовалось лишь рожать детей, и за пять лет она произвела на свет четверых, двое из них – девочки.
Изабелла – посредница между принцами
Настоящую власть королева приобрела во время кризиса, который начался в 1396 г., когда столкнулись интересы брата короля Людовика Орлеанского и его дяди Филиппа Смелого. Людовик пытался подмять ситуацию под себя и проводил личную политическую линию, обслуживавшую интересы его родни со стороны жены – Висконти, правивших в Милане. А Изабелла затаила злобу на тех, кто совсем недавно низверг и убил ее дедушку по материнской линии. Она изо всех сил старалась помешать их амбициям на полуострове, что злило ее деверя. С последним они вообще постоянно ссорились. Их стычки становились ожесточеннее день ото дня.
Но никто, кроме герцога Бургундского, не сумел бы противостоять планам Людовика Орлеанского. Они принадлежали к разным поколениям. Их интересы не совпадали. Оба не хотели делиться властью с соперником. В декабре 1401 г. образовалось две враждующие партии, и каждая стремилась как можно убедительнее продемонстрировать силу. Конфликт был неизбежен. Для того чтобы сохранить мир в королевстве, требовался посредник. Изабелла нашла свое призвание.
Женщина, доселе не занимавшаяся ничем, кроме воспитания королевских детей, стала последней надеждой страны. И она трудилась, не щадя себя: устраивала встречи, на которых стороны пытались договориться, закатывала «роскошные празднества», где соперники отдыхали (но тем не менее предусмотрительно приводили с собой охрану). Соглашения удалось достичь в 1402 г. орлеанцы и бургиньоны решили помириться, оставив все обиды в прошлом, вскоре забыв об обещании. Но Изабелла показала всем, как она умеет быть настойчивой. Баварская принцесса оправдывала доверие короля. В марте следующего года Карл V издал указ, предоставляющий Изабелле все властные полномочия в случае «отсутствия» короля (так стыдливо называли его приступы болезни), чтобы она в будущем решала все распри, мирила враждующих и вершила правосудие[38].
Изабелла, не теряя времени, ухватилась за новые возможности. Одиннадцатая беременность вымотала ее. Пятый сын королевы родился 22 февраля 1403 г. Будущее династии было обеспечено, поскольку младенец, названный Карлом (будущий Карл VII), стал третьим по счету выжившим инфантом мужского пола[39]. Изабелла так тяжело поправлялась после родов, что государственные дела ей пришлось на время позабыть.
Этим воспользовались принцы и снова взялись за интриги, пытаясь наверстать упущенное время. Ухудшение состояния Карла было им на руку. В период с мая по октябрь 1402 г. один за другим случились три приступа. В 1403 г. было еще хуже: болезнь началась в апреле, обострилась в июне, тянулась с июля по октябрь, а в декабре вспыхнула снова. Король болел на протяжении десяти лет. Надолго ли его еще хватит?
Следовало еще раз обговорить вопрос о наследовании. Стараниями принцев в апреле 1403 г. были обнародованы два указа, меняющие – в их интересах – аналогичные распоряжения прошлого года. Изабелла теряла верховную власть, которую ей пожаловал муж. Когда Карл болел, ее верховная роль в Совете была чисто символической. Принцы добились для себя еще одной выгоды: в случае смерти государя, его дофин тут же проходил коронацию и вступал на престол, даже если он не успел достичь совершеннолетия. Кроме того, регентство должно было осуществляться особой комиссией, и право распоряжаться им единолично теряли все – от королевы, до герцога Орлеанского. Весной 1403 г. судьба благоволила герцогу Бургундскому, одному из главных вдохновителей апрельских указов. Если бы брат короля сумел удержать себя в руках, вечно уставшая Изабелла, судя по всему, смирилась бы с новым поворотом событий.
Но небесам претила удача бургундского герцога: в следующем году 62-летний Филипп Смелый скончался.
Плачьте, королева, горюйте О том, кто возвел вас на трон!В этих двух строках Кристина Пизанская напоминает Изабелле о ее долге перед герцогом, который устроил ее брак. Смерть Филиппа обрадовала его соперника Людовика Орлеанского, но она же дала королеве большую свободу действий.
Орлеанцы – новые союзники королевы
Изабелла нуждалась в опоре. Времена дядей Карла закончились. После кончины Филиппа Смелого остался только жадный до роскоши Иоанн Беррийский – слабый 64-летний старик, уже мечтавший о смерти. Теперь на сцену выходило следующее поколение. Сын и наследник герцога Бургундского Иоанн Бесстрашный, в 1396 г. отличившийся в крестовом походе против турок в Никополе, был того же возраста, что король с королевой. Но он редко бывал в столице, предпочитая ей Дижон, а позже Артуа и Фландрию, и не имел никакого веса в королевском совете. Да и прежде чем добиваться чего-либо, ему следовало привести в порядок денежные дела. Казалось, что удача на стороне Людовика Орлеанского – король прислушивался к брату чаще, чем ко всем остальным, тот обожал праздники, славился как прекрасный оратор, отличался «красноречием, естественно украшенным риторикой» и был прирожденным обольстителем. Невзирая на все недавние разногласия, Изабелле пришлось стать его союзницей. А герцог Орлеанский не мог пренебрегать той, что обеспечивала законность власти во время «отсутствия» короля. Их союзничество было вынужденным.
Что общего у них было? Оба культивировали вкус к роскоши и развлечениям. Ходили слухи об их любовной связи. Впрочем, никто из современников не стал бы обвинять королеву в адюльтере. Но в народе Изабеллу и ее деверя не любили все больше. Герцог Орлеанский успел наделать множество финансовых ошибок. Англичане нападали на королевство со всех сторон, и из-за военных расходов приходилось повышать налоги. Но простые люди были убеждены, что денежные поборы идут в карман алчной королевы и принца и транжирятся на королевские празднества. Изабеллу и Людовика на чем свет стоит ругали за то, что они плохо управляют страной и ненасытно жадны. «И, – как пишет один монах из Сан-Дени, – я часто слышал, как видные люди открыто обвиняют их в том, что они не положили ни одного экю в сундуки Казны, которая была совершенно пуста»[40].
У истоков этой брани и злословия стоит пропаганда бургиньонов, которая настраивала парижан против королевы, обвиняя ее в том, что она не заботится о муже, забыла о своих заботах, махнула рукой на детей. Ремиссии Карла VI всякий раз были недолгими, Людовик Орлеанский и Изабелла правили единолично, не обращая внимания на мнение королевских кузенов и членов Совета. Но пробыли они у власти совсем немного. В августе 1405 г. Иоанн Бесстрашный вступил в Париж, приведя с собой значительную армию, намереваясь совершить переворот. Каждая из враждующих сторон взяла себе по яркой эмблеме, которая должна была прибавить ей силы. Людовик Орлеанский держал новый скипетр, каковой символизировал желание победить бургиньона, а вооруженный «рубанком и стружкой» Иоанн Бесстрашный хотел «пригладить» неотесанный чурбан[41].
По пути в Мелён отважный Иоанн захватил в плен дофина, который должен был встретиться там с матерью, и отвез его в столицу, где у короля тянулся один непрерывный приступ безумия. Предприимчивый бургиньон был близок к тому, чтобы произвести государственный переворот. Вооружившись, Иоанн Бесстрашный лишил королеву возможности прикрываться детьми и поместил наследника короны в Лувр под надзор своих людей. Его оправдания не смогли ничего изменить: в глазах своих врагов бургундский герцог совершил преступление: оскорбил короля.
Назревала гражданская война. Изабелла старалась предотвратить ее и помирить соперников. Король дал ей все полномочия, чтобы выступить посредницей между двумя принцами крови. Ведь она так успешно справилась с этим в 1402 г. Компромисса удалось достичь в октябре 1405 г., и парижане, забыв, как еще вчера поливали Изабеллу грязью, поздравляли ее. Было бы наивным верить, что стороны заключили прочный союз, но когда у Карла VI болезнь ненадолго отступила, он хотел на это надеяться. Иллюзорное равновесие! Иоанн Бесстрашный возвращался во Фландрию, а Людовик Орлеанский ставил своих людей в Совет, убежденный, что тот, кто держит Совет в своих руках, тот и правит страной[42].
Ему не удалось вкусить плодов своей удачи. Вечером 23 ноября 1407 г., когда Людовик Орлеанский, простившись с королевой, ехал по старой храмовой улице и возле ворот Барбет был убит. Убийцы столкнули его с лошади и били по голове так, что «мозг вытек на мостовую, а от того, кто был самым большим человеком в королевстве после самого короля и его детей, в самое короткое время ничего не осталось»[43]. Через два дня герцог Бургундский взял ответственность за убийство на себя и бежал во Фландрию. Изабелла не знала, как действовать. Она «испыт[ывала] столь сильные страх и ужас», что велела увезти себя в отель Сен-Поль, где находился король, «ради большей безопасности». Брат французского короля убит по приказу собственного кузена, и преступление это было совершено в Париже, несмотря на присутствие короля! «Новый саженец вкопан в землю»: торжественно говорили друг другу преданные герцогу Бургундскому парижане. Будущее выглядело мрачно. Что осталось от превратившейся в посмешище королевской власти? У погибшего герцога остался 16-летний сын, и те, кто поддерживал его, думали только об одном – как отмстить за его отца. Привычное разногласие между принцами грозило обостриться неискупимой кровной местью. Сумела ли Изабелла, при всей ее ненависти к бургиньонам, не допустить гражданскую войну?
Вынужденный союз
Казалось, что у королевы есть козыри: король официально подтвердил ее превосходство, в случае если он умрет или будет «отсутствовать», герцог Бретонский выразил готовность оказать военную помощь. Но Иоанн Бесстрашный был серьезным противником. В Париже его поддерживали, и горожане сразу же собрались бы под его знамена. Впрочем, бургундский герцог нашел в себе достаточно смелости, чтобы приехать в столицу и оправдаться в совершенном убийстве. Людовика Орлеанского, – утверждал он, – убрали за то, что он был тираном. 9 марта 1408 г., всего через 3 месяца после преступления, герцог сумел получить королевское письмо о прощении. Шептались, что вскоре он мог стать главой страны. Поэтому его враги предусмотрительно старались уехать из Парижа.
Из ненависти к бургундскому герцогу королева поспешила вместе с детьми удалиться под защиту милёнских стен, добиться отмены письма о прощении, обнародованного в марте, и подтвердить в сентябре, что в случае болезни мужа, она получает власть в полном объеме. Но все было зря. Париж приготовился восстать по первому требованию герцога. Подчинившись уговорам Изабеллы, Карл VI 3 ноября уехал из столицы в Тур и жил там вместе с королевой и дофином до марта следующего года. Герцог Иоанн не сумел заручиться поддержкой королевской семьи.
Тем временем соотношение сил стало настолько неравным, что Изабелла поняла: лишь пойдя на сделку с врагом, она сумеет спасти самое главное. Ведь никто больше не смог бы поддержать ее и править так, как надо ей: Карл Орлеанский, сын погибшего у ворот Барбет, был слишком молод, а герцог Беррийский – слишком стар, дофину едва исполнилось 12 лет, а она могла рассчитывать на супруга лишь в моменты его просветления. Да и стоило ли ей договариваться с теми, кого еще вчера она ненавидела? В начале 1409 г. состоялись встречи представителей королевы с послами герцога Бургундского, переговоры, обещания забыть прошлое и жить в мире и согласии. А в конце марта Изабелла подписала личное соглашение с герцогом Бургундским. Королева добилась от него признания своих прав и согласилась на предложенную им программу денежных реформ. Бургиньон прибрал страну к рукам. Благодаря собственной ловкости и народной поддержке ему удалось также взять на себя заботу о дофине, выведя его, таким образом, из-под материнской опеки.
Итак, отныне королевством правила Бургундия. Но это нравилось не всем. Против герцога Иоанна образовалась партия во главе с Бернаром, графом д’Арманьяк, крупным феодалом из Гаскони. В очередной раз гражданская война охватила королевство. Размах и продолжительность, а также участие Англии – иностранной державы – сделали ее одним из самых трагичных событий средневековой Франции: против бургиньонов отныне стояли арманьяки. Изабелла пыталась помирить стороны и при этом соблюсти свои интересы. В ноябре 1410 г. было объявлено о прекращении боевых действий. Король возвестил, что перемирия удалось добиться благодаря «нашей дражайшей и любимой супруге-королеве, которая по нашему волеизъявлению и дозволению трудилась над ним»[44].
Перемирия устанавливались лишь затем, чтобы их кто-то нарушил. Исключений из этого правила не было. А Изабелла безустанно трудилась над тем, чтобы шпаги и кинжалы оставались в ножнах. Тщетно. Чувствуя угрозу со стороны Парижа, который пребывал в руках сторонников герцога Бургундского, королева старалась оставаться под защитой стен Мелёна или Венсена, в то время как король с сыновьями находились в столице на положении пленных.
Когда Иоанн Бесстрашный вступил в Париж 23 октября 1411 г., горожане с восторгом встречали его как освободителя. С самого начала военных действий против арманьяков герцог сумел не только вырвать столицу из военных тисков орлеанцев[45], которые попытались морить горожан голодом, но и отвоевать у врага близлежащие города. Казалось, ему сопутствует успех. К тому же король пожаловал ему большие воинские полномочия. Но финансирование войны против англичан, до сих пор остававшихся на французской земле, очень быстро разозлило налогоплательщиков. Для дополнительной помощи созывались отряды наемников, и это грозило еще сильнее увеличить налоговое бремя.
Перед тем как монархии пришлось раскошелиться на войну, весной 1413 г. в Париже вспыхнуло знаменитое восстание кабошьенов. Его название происходит от имени Симона Кабоша – мясника с большой бойни святого Якова[46]. В этом городе, «более бургиньонском, чем сама Бургундия», Иоанн Бесстрашный подстрекал бунтовщиков, обещая им долгожданные реформы. Однако бунт вышел из-под контроля. Восставшие ворвались в Отель де Гиень, где жил дофин, и гнались за приближенными принца до самых его покоев. Много людей погибло. На следующий день толпа собралась напротив Бастилии, потребовала выдачи парижского прево и, устроив шутовской суд, расправилась с ним. Герцог Бургундский оказался в положении ученика чародея, который не сумел справиться с джином, которого сам же выпустил из бутылки. День за днем полыхало восстание. В начале мая после двух штурмов бунтовщики взяли даже отель Сен-Поль и приказали дофину избавиться от неугодных советников, а на их место поставить вождей восстания.
Кабошьены взяли город в свои руки. От Иоанна Бесстрашного больше ничего не зависело. Каждый день кого-то грабили, убивали. Требования восставших выросли вдвое. В конце мая мятежники вступили в резиденцию королевы и объявили об аресте королевской гвардии и брата Изабеллы Людовика Баварского. Изабелла держалась весьма достойно, а вот дофин ушел в соседнюю комнату поплакать. Королева попыталась договориться. Кабошьены потеряли терпение и стали угрожать, что войдут в королевские покои и захватят тех, кто им нужен. Изабелле, хоть она и показала мятежникам свое мужество, пришлось уступить. Ее брат, его родня и придворные дамы были арестованы. Париж скатывался в анархию.
Восстание закончилось, потому что оно парижанам надоело. В июне на смену весенним выступлениям поднялось антикабошьеновое движение. Поскольку Иоанна не было, представители столичной буржуазии средней руки открыли городские ворота арманьякским принцам. Ветер переменился. Судьба повернулась к бургиньонам спиной. А Изабелла заключила соглашение с орлеанскими принцами. Королева снова сменила лагерь. И встала на сторону арманьяков. Выставив герцога Бургундского врагом престола, Изабелла дала законный повод начать против него военную кампанию.
В Вербное воскресенье король, королева и дофин вернулись в Сан-Дени, чтобы торжественно поднять знамя, когда перед королевством встала опаснейшая угроза, и пришлось отправить армию в Санлис. Цель: земли графа Бургундского. Король лично встал во главе армии арманьяков. Изабелла отправилась вместе с ним. Нечасто королевская чета вместе возглавляла войска. И это воодушевило солдат. Полководцы отказывались вставать под бургиньонские знамена.
Победы шли одна за другой: Компьень капитулировал, Суассон сдался, Лан пал. Приблизились к Аррасу. И тут победоносное шествие замедлилось. Аррас выстоял, и благодаря этому наступил мир. Переговоры о нем начались 4 сентября 1414 г. Стороны тщательно обсуждали условия мира, и те никому не нравились – ни Иоанну Бесстрашному, поскольку они угрожали обобрать его дочиста, ни арманьякским принцам, снедаемым жаждой мести, – и ничего не решали. Кроме того, герцог Иоанн старался заключить союз с королем Англии, и это представляло опасность для хрупкого мира. Потерпев так много поражений, бургундский герцог полагал, что единственный выход из положения – это дружба с англичанами. Но английский король Генрих V Ланкастерский, отличавшийся изрядной хитростью, колебался: он рассчитывал жениться на дочери Карла и Изабеллы Екатерине, однако полагал, что бургундский правитель поможет ему завоевать французское королевство.
После жестокого поражения при Азенкуре 25 октября 1415 г., когда английские стрелы поразили столько же бургиньонов, сколько арманьяков, королевство столкнулось с очередным испытанием. Казалось, Изабелла осталась в одиночестве, не имея никакой поддержки. Приступы безумия поражали короля все чаще, а его племянника Карла Орлеанского, попавшего в плен в Азенкуре, увезли в Англию, и там он, замечательный поэт, на протяжении двадцати пяти лет изливал в балладах и рондо горечь изгнания, и так появилась книга «Глядя на французскую землю». Изабелла рассчитывала опереться на Бернара д’Арманьяка, который отныне стал единственным главой орлеанской партии. Король назначил его коннетаблем Франции и поручил управление финансами. Он должен был противостоять двойной угрозе: как со стороны англичан, так и бургиньонов[47].
На самом деле королева – как ей подсказывали возраст и жизненный опыт – боялась как арманьяков, так и бургиньонов. Иоанн Бесстрашный замыслил было переворот, но в итоге от этой затеи пострадали и он сам, и другие принцы. Махинацию раскрыли на Пасху в 1416 г., заговорщиков, которых обвинили в том, что они замышляли убийство Изабеллы, вовремя разоблачили и арестовали. Королева ощущала себя в безопасности, лишь находясь в луврской крепости или венсенском замке. Помимо всего прочего Изабеллу беспокоили притязания Бернара д’Арманьяка на собранную ею сокровищницу из драгоценностей и золотых монет, ведь они так нужны государству, во главе которого он встал. Королева открыто объявила о враждебности по отношению к бургундскому герцогу, к арманьякам она тоже питала подозрительность. Изабелла мечтала создать своего рода «третью партию», которая предотвращала бы крайности и служила интересам королевских сыновей.
Ничто не предвещало того простого решения, которое Иза белла назвала своей последней волей. Двое ее сыновей только что умерли. Последний мальчик, будущий Карл VII, которому было тогда 14 лет, получил титул дофина в 1417 г. В 1413 г. он заключил помолвку с Марией Анжуйской, укрепив тем самым связи с лагерем арманьяков. Чтобы оградить подростка от опасностей, угрожавших ему в Париже, его вывезли в Анжу. Мальчик почти четыре года жил у будущих тещи и тестя. Создание государства, на которое надеялась Изабелла, отодвинулось еще дальше.
Цена бургиньонского союза
Коннетаблю д’Арманьяку казалось, что ничего невозможного не существует. Когда дофин вернулся в Париж, он взял мальчика в заложники и удалил из столицы его мать. В конце весны 1417 г. Изабеллу выслали в Тур, определив ей там резиденцию. Ничто не должно было стоять на пути нового государя, уже успевшего «прибрать к рукам» и душевнобольного короля, и его 14-летнего сына. Не зря Изабелла тревожилась: коннетабль так остро нуждался в деньгах, что, не задумываясь, обобрал бы и ее. Он уже успел захватить мебель и драгоценности в ее парижском доме и изо всех сил искал сокровища. Но Изабелла предусмотрительно увезла казну, спрятав в одном из монастырей. На страну обрушился арманьякский кулак. Слишком тяжелый, чтобы не разбудить сторонников герцога Бургундского. Слишком бесстыдный в отношении королевы, чтобы не заставить ее искать союза с давним врагом Иоанном Бесстрашным. В который раз карты Изабеллы оказались биты, и понимая, что ее жизнь находится под угрозой, она уехала из Парижа. Чтобы не потерять богатства, она была вынуждена сменить лагерь.
Неизвестно, кто именно – королева или герцог Бургундский – сделал первый шаг. Их союз казался настолько необходимым, что мысль о нем посетила Изабеллу и Иоанна одновременно. Королеве требовалась поддержка, а бургуньон, благодаря ней, обеспечивал законность своим действиям. С помощью герцога Изабелла сбежала из Тура 2 ноября 1417 г. и скрылась за стенами Шартра, обратившись оттуда ко всем законопослушным жителям французских городов с воззванием. Напоминая о том, что она «от имени господина короля управляет и властвует в этом королевстве»[48]. И стоило королеве отменить все налоги, за исключением пошлины на соль, как к ней стали стремительно стекаться сторонники. Вместе с новым союзником она проехалась по Босу и Гатине, сделала остановку в Осере и расположилась в Труа, где собрала «альтернативное» правительство с советом министров и верховным судом, целиком и полностью состоявшее из бургиньонов.
Реакция арманьяков не заставила себя ждать. 6 ноября Карл VI, чьими действиями руководил коннетабль, подписал указ, который аннулировал передачу власти собственной жене и наделял ею дофина Карла. Королевский брак, и без того потрепанный бесконечной болезнью монарха и беспокойной общественной жизнью, казалось, распался. Отныне волей короля, покорно выполнявшего все просьбы новой власти, юный Карл объявлялся регентом и главой Совета в случае недееспособности отца. На самом деле подросток стал не более чем инструментом в руках Бертрана д’Арманьяка. Королева же, со своей стороны, тщетно старалась принять послов и завести переписку с захватчиком, признавая, что он единственный, кто имеет власть в отсутствие герцога Бургундского, и она находится в его руках. Разве не ему дала она все полномочия на то, чтобы «управлять и руководить» королевством?
Англичане неуклонно захватывали Нормандию: один за другим крупные города сдавались Генриху V Ланкастерскому, готовившемуся взять Руан. Королевское правительство было вынуждено противостоять этому вторжению, а также сопротивляться военным наступлениям бургиньонов вокруг Парижа. Но тут последним улыбнулась удача: в мае 1418 г. сторонники герцога Иоанна взяли столицу, арестовали и перебили арманьяков, убили коннетабля и заставили дофина бежать до самого Буржа. 14 июля Изабелла и Иоанн Бесстрашный вступили в Париж, где оставался король.
Законная власть снова перешла к другому лагерю. Круг замкнулся. Королева и ее союзник избавили государственные институты от арманьяков. Но, кроме того, Изабелла должна была как-то договориться с сыном-дофином. Почему бы ему не объединить силы с матерью и герцогом Иоанном, чтобы вместе прогнать англичан? Карл обзавелся в Бурже правительственным Советом, парламентом и отчетной палатой, и ему не хотелось стать игрушкой в чужих руках, тем более в руках герцога Бургундского. Он не только отказался заключать компромисс с матерью – не стал встречаться ни с ней, ни с отцом, – но и присвоил себе титул регента. Поскольку в одиночку он бы не выстоял, для борьбы с бургиньонами ему требовались союзники. Карл решил сблизиться с англичанами, заручившись их поддержкой. С Генрихом V «заигрывали» два лагеря: бургиньоны обещали ему перемирие, а дофин – союзничество. Это давало английскому королю возможность выступить в роли посредника, что позволило бы впоследствии прибрать власть к своим рукам. Именно это он и собирался предложить той партии, что первой сумеет с ним договориться!
Изабелла металась: то ли помириться с сыном, то ли заключить пакт с заморским врагом. 30 мая 1419 г. в сопровождении мужа и герцога Иоанна она встретилась с английским королем в местечке между Мёланом и Понтуазом. Генрих V требовал Нормандию и Аквитанию. Благодаря женитьбе на дочери Изабеллы Екатерине он стал бы тестем Карла VI и шурином дофина. Четырехчасовая беседа окончилась ничем. Стороны договорились о продолжении перемирия. Что ж, может, с дофином Изабелле повезет больше?
Встречу Карла-младшего и Иоанна Бесстрашного запланировали на 8 июля. Изабелла тоже присутствовала. Снова неудача, несмотря на то что разговоры длились 5 часов. Вторая беседа, устроенная через три дня, казалась более удачной. Дофин Карл и Иоанн Бесстрашный объявили, что их дружба восстановлена, а обиды позабыты, и обменялись поцелуем мира. Все, начиная от простых людей и заканчивая военными, хотели верить в примирение. Успех англичан пугал всех. Не находится ли Париж в опасности? Угроза была так велика, что королю, королеве и их дочери Екатерине пришлось из соображений безопасности уехать из Парижа и занять Труа. А тем временем Карл вовсе не стремился помогать бургиньонам в освобождении Парижа и возвращаться к родителям. И герцог Иоанн не питал к нему ни малейшего доверия.
10 сентября собирались организовать третью встречу с дофином. Но на сей раз в ход событий вмешалась смерть. Произошла она не из-за провала переговоров. Герцог Бургундский попал в настоящую западню. Стоило ему преклонить колено перед дофином, как один из людей Карла ударил его топором. Иоанн Бесстрашный упал с расколотым черепом. Наследник французской короны задумал и осуществил убийство принца крови! «Его гибель, – пишет Бертран Шнерб, – обернулась для королевства катастрофой»[49]. В Монтеро дофин Карл совершил свою самую грубую политическую ошибку. Та подтолкнула Изабеллу к союзу с английским королем.
Меньшее из зол
Насилие в политике никого не удивляло. Резня, смерть, убийство были обычным делом в те жестокие времена. Когда одна из соперничающих партий занимала место во главе государства, для ее врагов это означало смертный приговор. Когда арманьяки захватили Париж в августе 1413 г., они начали охоту на бургиньонов; когда в мае 1418 г. бургиньоны вступили в столицу, они в тот же день пошли резать арманьяков. И те и другие убийствами не гнушались. Влиятельные феодалы за участие в политике расплачивались жизнью. Гражданская война не утихала почти никогда, и одними из последних жертв уже стали брат короля Людовик Орлеанский и коннетабль д’Арманьяк.
Но гибель герцога Бургундского повергла королеву в «полное замешательство». Она поторопилась вернуть себе Труа, стараясь, несмотря ни на что, сохранить хотя бы видимость королевской власти[50]. Смелая женщина: король душевнобольной, дофин совершил преступление, Филипп Бургундский по прозвищу «Добрый», сын убитого герцога, готовился отомстить за отца, а англичане стояли на французской земле. Кругом одни неприятности! Может, единственный, кто способен помочь справиться с врагами, – это английский король? Но теперь за союз заморский монарх требовал цену подороже, чем кусок королевства. Он захотел получить корону Франции. Как дать отпор таким аппетитам. В сравнении с английской мощью, королевство лилии выглядело слабым и разобщенным. Кто – дофин, бургундский герцог или королева – сумеет первым заключить с Генрихом V Ланкастерским сепаратный мир?
Каждый пытался договориться. Наверное, кто-то размышлял: будет ли Филипп Добрый виновен в оскорблении короля, и совершит ли он «ошибку», если заключит союз с врагом королевства Генрихом V. Но реалистичнее было объяснить, если Генрих V «силой оружия» требует корону Франции, то «все погибло, и надо смириться». Вместо того чтобы смотреть, как победивший английский король будет расправляться с Карлом VI, лучше переговорить с заморскими гостями о союзничестве. Все остальные решения представлялись тупиковыми.
Со своей стороны, Изабелла, хоть и разуверилась полностью в возможности примирения между дофином и бургиньонами, не поддавалась английскому «искушению». Казалось, разум настаивает на подобном альянсе, но щепетильность сдерживает королеву. Изабелла не попала в зависимость герцога Филиппа, приходившегося, кстати, ей зятем, и отказала ему в титуле королевского наместника, который принадлежал его отцу. И она не стала поддаваться английским требованиям. Как свидетельствуют документы, она не стала рвать все связи с дофином. Ненависть, которую она якобы к нему питала, – просто легенда.
С декабря 1419 г. Филипп Добрый первым принял условия мира, выдвинутые Генрихом V, и поклялся добиться, чтобы король и королева их одобрили. Изабелла никак не решалась. Время шло. Бургиньоны нажимали на нее. В Совете они говорили одно: в казне не осталось ни су, расходы оплачивать нечем. Финансовая помощь бургиньонов спасла Изабеллу. Потребность в деньгах, как пишет Франсуаза Отран, развеяла последние сомнения. Королеве пришлось поддержать выбор Филиппа Доброго.
25 декабря 1419 г. герцог именем французского короля подтвердил договор с Англией. Дабы окончательно всех успокоить, он сообщал, что Генрих V женится на дочери Карла VI и Изабеллы Екатерине де Валуа, а сестра герцога Филиппа Бургундского вступит в брак с братом английского монарха. Таким образом, союз становился династическим.
И он представлял военную угрозу для дофина: перемирие между воюющими не распространялось на армию Карла, который теперь был вынужден держать оборону как против англичан, так и бургиньонов.
Изабелла приняла решение. 17 января 1420 г. грамота, выпущенная в Труа именем короля, объявляла, что Карл не достоин французской короны в связи с преступлением в Монтеро. Его назвали «отцеубийцей, виновным в оскорблении короля, разрушителем и врагом общества… врагом Господа и правосудия»[51]. Разрыв с дофином свершился. Изабелла признала, Генриха V в качестве сына Карла VI «согласно брачном договору между ним и нашей дочерью [Екатериной]», и это стало прелюдией мира.
Английский монарх согласился на трехмесячное перемирие; за этот срок канцелярии двух королевств должны были подготовить договор. Хотя считается, что Изабелла тут же бросилась в руки Англии, на самом деле это не так – переговоры потребовали некоторое время. Герцог Бургундский прибыл в Труа 23 марта: он должен был убедить Совет в обоснованности условий договора. Изабелла и король приняли соглашение 6 апреля. 20 мая прибыл и Генрих V. Принимающая сторона, состоящая из его новых союзников, казалось, чувствовала себя не в своей тарелке. Высокомерие победителя всех злило. Но раздумывать было некогда. На следующий день в соборе Труа торжественно подписали договор. Зачитали его тридцать одну статью. Король Англии принес присягу. Вслед за ним – Изабелла, выступавшая от имени Карла VI. Чтобы ни говорили злые языки, королева, подписывая документ, лишавший ее сына права на престол в пользу Генриха V Ланкастерского, не продемонстрировала никакой радости[52].
Договор провозглашал смену правящей династии: Капетингам, представленным домом Валуа, наследовали Плантагенеты, представленные Ланкастерами. Надо четко понимать причины, приведшие к подписанию такого документа. Официально законный наследник терял право на корону, поскольку совершил политическое преступление. В реальности же у юного Карла не хватало сил, чтобы одержать верх над английским королем. И Генрих V приобретал в будущем французский трон как муж Екатерины де Валуа, а не как потомок Филиппа Доброго и его дочери Изабеллы, состоявшей в браке с английским королем Эдуардом II[53].
Пока Карл VI был жив, Генрих не мог претендовать на титул короля Франции: он был просто наследником. Но после подписания договора он получал властные полномочия, которые делил с Советом, ввиду душевной болезни короля. В будущем Англия не присоединяла «королевство лилий» к своим владениям. Два государства образовывали «двойную монархию».
После подписания договора традиционных празднеств устраивать не стали. Все лето новоиспеченные союзники были заняты войной против «мнимого» дофина. Генрих V провел вдоль Сены наступление на сторонников Карла. Его сопровождали Филипп Добрый и король с королевой. Город пал, затем настала очередь Монтеро и Мелёна. К концу осени в руках англичан и бургиньонов уже были окрестности Парижа. 1 декабря Генрих вступил в столицу вместе с Карлом VI. На следующий день их догнали Изабелла вместе с дочерью Екатериной.
Во всем виновата Изабелла
После подписания «позорного договора в Труа» в народе и среди некоторых историков стали говорить, что его подстроила Изабелла Баварская, бесчеловечная королева, лишившая сына наследства и продавшая Францию Англии. Ее обвиняли в том, что она ненавидела дофина Карла и, снедаемая алчностью, отдала собственную дочь английскому королю, а из-за болезни мужа распалила в себе жажду власти. Да еще и происхождение – немка! – как позднее говаривала «австрийка» Мария Антуанетта, усугубляло вину. Изабелле приписали все смертные грехи. Погрязнув в адюльтере, она родила Карла от одного из многочисленных любовников. Отныне дофин не считался сыном короля. И тем, кто подписывал договор в Труа, не составило никакой сложности согнать бастарда с французского трона.
Хотя в договоре не было и намека на якобы незаконное происхождение дофина – немыслимо, чтобы дипломатический документ стал бы так позорить королеву Франции, – слухи не унимались и посеяли-таки сомнения в будущем Карле VII, который, стал бастардом, не имея права ни на какие государственные действия. Точно так же никто из современников не обвинял Изабеллу в продаже англичанам королевства, поскольку зачатки патриотизма перевешивало острое желание мира. Однако присущая всем французам любовь к романтике вынуждала их противопоставлять ту, что по причине собственной порочности потеряла королевство, девственнице и мученице Жанне, которая, несколько лет спустя, спасла страну. Сентиментальную сказку об иностранке, которая с готовностью предала национальные интересы, и пастушке, воплотившей в себе вечные ценности Франции, слышали все.
В реальности все было по-другому. Известно, что Изабелла, на которую нажимали бургиньоны, а деться ей было некуда, «отреклась от сына не по своей воле, не по своей прихоти»[54]. Сторонники союза с англичанами повторяли: «Из двух зол надо выбирать меньшее». Примерно то же самое говорили в народе, уставшем от войны. Страх перед солдатами, грабежами, чередой несчастий вынуждал принимать как хорошие, так и плохие стороны договора в Труа. Парижане верили, что нашли, кто виноват во всех бедах: Карл, «мнимый дофин». Анонимный летописец, известный под прозвищем «парижский буржуа» сетовал: никогда «Франция не была так опустошена и разобщена, как сегодня, ведь дофин день и ночь только и занимался тем, что губил страну своего отца огнем и кровью»[55].
Если на Карла, лишенного наследства и изгнанного из королевства, несчастья так и сыпались, то союзникам улыбалась удача. Генрих V захватил последние бастионы, которые оставались у сторонников дофина на севере Луары, а молодая жена Екатерина подарила ему сына, нареченного Генрихом. Теперь, поскольку «самозваный сын Франции» 19 лет от роду не успел жениться, династия Ланкастеров закрепила свои позиции. И очень вовремя: 31 августа 1422 г. Генрих V скончался в Винсене от болезни, поразившей его при осаде города Мо. Его наследнику Генриху VI был всего 1 год, поэтому назначили регентство. Отныне трон Англии, а также право на французский престол перешли к внуку Карла VI. Всего через 2 месяца, 21 октября смерть поразила короля в Париже. Его оплакивали в народе, потому что он до сих пор оставался популярным. Дофин Карл тут же провозгласил себя королем Франции под именем Карла VII, а брат покойного Генриха и регент Англии герцог Бедфорд признал правителем двух стран Генриха VI в соответствии с договором, подписанным в Труа.
Смерть французского короля положила конец его странному браку с Изабеллой. Тридцать семь лет супруги делили все горечи жизни, и свадьба, сыгранная по любви в Амьене, стала далеким воспоминанием. Жизнь Карла VI была сплошной мукой, а судьба Изабеллы, хоть и расцвеченная праздниками, которые королева так любила, явилась непрерывной борьбой за выживание, необходимость менять союзников дабы не пасть жертвой. Жертва многочисленных беременностей, из-за которых Изабелла страшно располнела, нехватка денежных средств (а она так любила богатство), бесплодные попытки лавировать между арманьяками и бургиньонами, политические виражи, за которые ее потом так осуждали потомки: Изабеллу не считали великой королевой. Да и супруга из нее вышла так себе. Она была матерью дофина, но обстоятельства не позволили ей занять место регентши. После 1422 г. Изабелла стала просто вдовствующей королевой. Конечно, она приходилась бабушкой королю Генриху VI, но регентства, которое она надеялась разделить со своей дочерью Екатериной, она не получила. Англичане не захотели.
Изабелла вдовела тринадцать лет. Бывали в ее жизни и радости: например, в 1423 г. родился внук, будущий Людовик XI – и печали: когда англичане стали злобно муссировать тему законнорожденности Карла VII, о котором она «зело тревожилась и печалилась в своем сердце». Изабелла доживала свой век в покоях дворца Сен-Поль, получая скромную пенсию. Гости, навещавшие ее чаще, чем официально полагалось, да редкие праздники скрашивали ее однообразную жизнь. Как Изабелла реагировала на политические события – неизвестно. Наверное, она не осталась равнодушна, когда Жанна д’Арк сняла осаду Орлеана, когда короновали «милого дофина» в Реймсе в 1429 г., когда Жанну сожгли на костре, и когда в 1431 г. в соборе Парижской Богоматери короновали Генриха VI. В хрониках говорится, что примирение Карла VII с Филиппом Добрым в Аррасе доставило Изабелле столько радости, что от избытка чувств она через девять дней скончалась.
Даже ее смерть осталась незамеченной. Как уверяет парижский буржуа, когда горожан спрашивали, «где сейчас королева, они не знали, что и сказать, потому что это мало кого интересовало». Саму Изабеллу забыли быстро, а вот неприглядные легенды о ней сохранились надолго. Даже сегодня многие осуждают ее за то, что она примыкала к партии победителей и была главным устроителем договора в Труа, который в реальности был просто сделкой между англичанами и бургиньонами[56]. «Поговаривали, – продолжает летописец, – что она являлась причиной большого зла и горя для тех, кто живет на земле».
Карла VI, несмотря на болезнь, в народе любили, а Изабелле Баварской приписывали всевозможные грехи. История слишком быстро позабыла, сколько трагедией ей пришлось выдержать, сколько раз она старалась примирить враждующие стороны, а по течению судьбы она поплыла и совершила ошибочный выбор лишь под конец жизни.
Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский (1469–1504) Католические короли
«Кто сравнится с королевой Изабеллой Испанской?
– Король Фердинанд, – ответил синьор Гаспаро.
– Я его не оспариваю, – добавил Великолепный, – … Я убежден, что репутация, которую он приобрел благодаря ей, представляет собой приданое, не менее ценное, чем Кастильское королевство.
– Более того, по-моему, – ответил синьор Гаспаро, – именно королева Изабелла стоит за многими действиями короля Фердинанда».
Бальдассаре Кастильоне«То, что многие важные синьоры не могли совершить годами, одна женщина сделала в самое короткое время благодаря своим стараниям и искусству управлять».
Эрнандо дель ПульгарВ хоровой капелле кафедрального собора в Толедо под роскошными креслами на пятидесяти четырех деревянных панно воспевается слава королям-католикам, победившим мусульманскую Гренаду. Созданные резчиком Родриго Алеманом изображения Изабеллы Кастильской (1451–1504) и Фердинанда Арагонского (1452–1516) составляют центральный мотив практически всех эпизодов войны, которая тянулась почти десять лет и 2 января 1492 г. увенчалась взятием Альгамбры, что положило конец восьмивековому мавританскому владычеству. Реконкиста свершилась. Король лично участвовал в тридцати четырех операциях, а королева, хоть и имела право отстраниться, – в шести. И пусть вклад супругов в это общее дело был неравным, все-таки война – это мужское занятие, история предпочла свести их вместе и воспевала чету при каждой возможности. Современник пары Эрнандо дель Пульгар, автор монументального труда «Хроники католических королей», описал единодушие, связывавшее супругов так: «одна воля в двух людях».
А как писали в официальных документах того времени? Они на все лады восхваляют свершения супругов: «король и королева сделали…» или «король и королева решили…». Невозможно понять, где заканчивается муж и начинается жена. Даже сами испанцы над этим посмеивались и насмешливо говорили: «Сегодня король и королева родили дочь!» Взгляните на дошедшие до наших дней памятники в их честь, например, те, что находятся в Королевской капелле в Гренаде, где похоронена чета. Гербы супругов соприкасаются друг с другом либо переплетаются, словно в любовном объятии: ярмо и гордиев узел Фердинанда и связка стрел Изабеллы. Им приписывают в качестве девиза слова: «Tanto monta» (Все едино). Их писали на зданиях и наградах. Полным вариантом фразы ошибочно считают «Tanto monta, monta tanto Isabel como Ferdinand». Но как сообщает Жозеф Пере, по-испански эти слова не имеют никакого смысла, и они никогда не служили девизом Католических королей[57].
В народной памяти Изабелла называла мужа Фердинанд-Изабелла. Невозможно разграничить их деяния, понять, кому именно принадлежала та или иная инициатива, определить оттенки их искусства управлять государством, отследить тонкости, отыскать разногласия в совместных поступках четы, создавшей современную Испанию. Кажется, ни один министр, ни один советник не смог бы встать между супругами. Католические короли правили единовластно и, будьте уверены, между ними царило полное взаимопонимание.
«У короля, – убеждают нас в хрониках, – не было иного фаворита, кроме королевы. А у королевы – никого, кроме короля». Получается. Изабелла и Фердинанд действительно делили власть пополам?
Наследство еще надо отвоевать
Все современники поражались, насколько единодушно правят Изабелла и Фердинанд, но они не могли не знать, сколько интриг понадобилось сплести, сколько козней посеять, в скольких сражениях выстоять пришлось каждому из них, прежде чем удалось взойти на престол. Корону им не фея в колыбель положила. Изабелле, чтобы добиться кастильского трона потребовалось проявить столько же упрямства, сколько уступчивости, а когда за Фердинандом признали право наследовать вслед за отцом арагонскую корону, это спровоцировало десятилетнюю гражданскую войну[58].
Испания в те времена была раздробленной. По всему полуострову долгая реконкиста земель, которые занимали арабы с 711 г., сопровождалась созданием многочисленных христианских государств. Взятие Толедо, Сарагосы, Лериды, Кордовы, Валенсии и Севильи отодвинуло исламскую границу от Дуэро к Тахо, а потом от Тахо к Гвадалквивиру. Из всех христианских королевств, появившихся на отвоеванных территориях, наиболее примечательны Кастилия, Португалия, Наварра и Арагон. К концу Средневековья из всех стран у арабов оставалась только Гренада.
Периоды кризисов, как известно, показывают, кто есть кто в государственной системе. Анархическая атмосфера, царившая во владениях кастильской короны во второй половине XV в. позволила Изабелле, несмотря на ее юный возраст, проявить выдающийся политический талант. Она приходилась сводной сестрой правящему королю Энрике IV (1454–1474), и ни за что ей было не видать престола, если бы кастильская знать не восстала против государя, если бы второй ее брат Альфонсо, потенциальный преемник опозоренного Энрике IV, не скончался бы скоропостижно в возрасте 15 лет от чумы. В детстве на Изабеллу постоянно сыпались несчастья. В 4 года она потеряла отца, а мать, заболевшая душевной болезнью, не заботилась о девочке. В 13 лет на нее обратил внимание Энрике IV и забрал в свой двор в Сеговии. Не слишком порядочное место! Король вел распутную жизнь (впрочем, наверное, слухи о его безнравственности преувеличены врагами) и, поскольку он не умел заставить людей подчиняться, его авторитет оспаривали чуть ли не ежедневно. Государство погрязло в анархии, разбилось на соперничающие фракции, Кастилия находилась на грани раскола и гражданской войны. Одна из партий сделала ставку на Изабеллу, надеясь, что по молодости и неопытности, она позволит собой манипулировать.
Кастильская монархия не признавала салическое право, и трон могла занимать женщина. Но неужели, прежде чем заинтересоваться Изабеллой, знать не рассматривала в качестве кандидатки на престол дочь Энрике IV Хуану? Та носила прозвище Бельтранеха, и от этого клейма эй было никуда не деться. Оно означало «дочь Бельтрана». Девочка появилась на свет от незаконной связи супруги короля и одного из ее фаворитов Бельтрана де ла Куэва. Враги Энрике IV под предлогом внебрачного рождения Хуаны (что осталось недоказанным) выдвинули кандидатуру Изабеллы. Обстановка была неблагоприятная, королевскую власть постоянно дискредитировали, и Энрике не оставалось выбора, как лишить дочь наследства – однако, ее незаконнорожденность он так и не признал. В 1468 г. после гибели Альфонсо и отстранения Хуаны перед Изабеллой словно открылся путь к короне. И тогда она продемонстрировала благоразумие и ловкость, каких совсем не ждешь от 17-летней девушки.
Несколькими годами раньше партия дворян заочно низложила Энрике IV, объявив, что он не достоин оставаться на троне, но Изабелла от предложенного трона Кастилии отказалась. Она не стала вставать во главе ни одной из фракций, оспаривать права сводного брата или еще как-то участвовать во всеобщем хаосе. Изабелла позволила считать себя наследницей короны только после смерти Альфонсо и лишения Бельтранехи права на трон. Государственному перевороту, который бы низложил правящего монарха и усилил бы раскол в стране, она предпочла терпение. И объявила себя не королевой или простой инфантой, а «принцессой и законной наследницей королевств Кастилии и Леона». Энрике IV, понимая, что он полностью утратил королевское влияние, признал Изабеллу принцессой Астурийской, то есть наследницей короны. Похоже ее устраивало, что для того, чтобы занять трон, ей надо дождаться смерти монарха, который был старше ее на 20 лет. В свою очередь, Изабелла пообещала не вступать в брак без согласия короля или против его воли.
В Арагоне Фердинанду, будущему мужу Изабеллы, чтобы получить корону не пришлось маневрировать с такой ловкостью, но его притязания на отцовское наследство привели к гражданской войне. У его отца Хуана II был сын от первого брака принц Вианский, которому и полагалось наследовать корону. Сам Фердинанд родился у второй жены короля. Их соперничество было недолгим: в марте 1461 г. принц Вианский умер, предположительно, был отравлен. Фердинанду не было еще и 10 лет. Вместо войны за преемничество в Каталонии, где было много сторонников покойного принца, началась гражданская война, поставившая под угрозу единство арагонской короны. Победителем из нее через 10 лет вышел Хуан II. Разница в судьбе Фердинанда и Изабеллы состоит в том, что если бы две монархии[59] оказались под угрозой раскола, арагонский принц не мог бы претендовать на трон. Лишившись соперника, Фердинанд стал единственным наследником после своего отца.
Политический брак
Претендентов на руку Изабеллы, кастильской наследницы, нашлось более чем достаточно. В том числе – один француз, герцог Гиеньский, брат короля Людовика XI и правитель Португалии Афонсу V. Испанский гранд дон Педро Жирон до самой смерти в 1466 г. верил, что у него есть шанс. Как известно, Изабелла вышла за Фердинанда Арагонского. Инициатива исходила от нее, а не от жениха. Дело в том, что Кастилия держала бесспорное первенство на Пиренейском полуострове. Она превосходила Арагон в три раза по площади, в пять или шесть раз по количеству населения, и развивалась куда динамичнее благодаря промышленным городам, животноводству и торговле шерстью, составлявшей ее главный экспортный продукт. Кастилия занимала настолько выгодное положение, что наследник арагонской короны столь прибыльный брак упустить не мог.
Чем объяснялся выбор Изабеллы? Она настолько полюбила Фердинанда? Так хочется верить всяким романтикам, растроганным прочностью этого союза. На самом деле решение Изабеллы не имело никакого отношения к любви. Семью в те времена создавали, с чувствами не считаясь. И наши молодые до свадьбы ни разу не виделись. Оба они были среднего роста, Фердинанд – жгучий брюнет, а Изабелла – блондинка. Эрнандо дель Пульгар рассказывает о своей королеве с большой теплотой: «Хорошо сложенная и стройная… взгляд добрый и открытый, черты лица правильные, лицо – красивое, смеющееся»[60]. Впрочем, возможно, его пером двигала лесть. По крайней мере Фердинанд аналогичного портрета не удостоился.
Получается, что брак, который объединит Испанию, представлял собой плод долгих расчетов и размышлений о будущем? Есть такое мнение. Современная Испания, ее национальное единство – это детище брачного союза Католических королей. Но все это не более чем рассуждения апостериори. Во-первых, кастильскую и арагонскую короны объединять не стали, и во-вторых, Изабелла, выбирая Фердинанда, не получала для своей страны особых выгод. Получается, что из всех претендентов она выбрала наименее сильного, ведь от каталонского процветания, на котором зиждилась арагонская корона, давно остались только воспоминания, и обидчивые каталонские и арагонские подданные, ревниво охраняя свои привилегии, упорно пытались игнорировать авторитет короля, пытавшегося призвать их к порядку. К тому же интерес Каталонии к Кастилии как-то не увязывался с желанием заключить союз с Португалией.
Любителей романтики, а заодно тех, кто стремится найти в прошлом прогнозы будущего, придется разочаровать. Выбор Изабеллы объясняется в первую очередь политической обстановкой и ее личными интересами. Когда брат объявил ее наследницей престола, она стремилась положить конец размежеванию кастильской знати на враждующие партии, поскольку в будущем это могло бы помешать ей получить корону. Кое-кто из дворян остался верен Бельтранехе. Хотя король лишил ее наследства, некоторые считали, что девушку все равно удастся использовать в своих целях. Изабелле пришлось примкнуть к другой придворной партии. Ее возглавлял толедский архиепископ дон Альфонсо Каррильо и адмирал Энрикес, и она поддерживала ее право на корону. В этой партии думали о потенциальном браке с Фердинандом – собственно, поэтому она и называлась арагонской – с подачи посланников Хуана II, отца будущего жениха. Чтобы заручиться их помощью и занять престол, Изабелле пришлось уступить и взять Фердинанда в мужья. Как же она обрадовалась, когда увидела, что жених хорош собой да еще и ее ровесник – португальскому претенденту было под 40, – но, как бы мило это ни было, это было не главное. Выбрав Фердинанда, Изабелла продемонстрировала практичность: вступая с ним в брак, она заботилась в первую очередь о своих интересах.
Она не стала препоручать супругу свою судьбу. Условия брачного договора, которые Изабелла представила Фердинанду, представляли собой длинный список обязанностей мужа. «В том, что касалось будущего скипетра, – заметил один современник, – все складывалось очень благоприятно для принцессы»[61]. Фердинанд не терял никаких прерогатив, но только Изабелла становилась обладательницей короны, а ее супруг довольствовался титулом принца-консорта[62]. Иными словами, девушка не собиралась никому отдавать свое право на власть.
Мало какой королевской свадьбе удавалось создать столь напряженную ситуацию. Выбор Изабеллы усилил политический кризис в Кастилии, а Фердинанд, согласившись на такой брак, спровоцировал в своей стране раскол среди грандов. Выходя за Фердинанда, Изабелла нарушала обещание, данное собственному брату Энрике IV: не заключать супружеский союз без его согласия. Чтобы не попасться разгневанному Энрике и сторонникам Бельтранехи-соперницы, принцесса поспешила покинуть двор и укрыться в Вальядолиде, а Фердинанд должен был приехать к ней. Все, кому не нравился этот брак, постарались помешать принцу выехать из Кастилии, даже угрожали его жизни. Но несмотря на риск, Фердинанд в одиночку пустился в путь, переодеваясь то торговцем, то погонщиком мулов. Он прибыл во Вальядолид 14 октября 1469 г. ближе к полуночи. Через четыре дня сыграли свадьбу. О церемонии ходит немало легенд, но прошла она тихо, без народного ликования. Вся ее романтика состояла больше в тайном приезде жениха, нежели в огромной любви будущих супругов.
Изабелла уже успела продемонстрировать свое упрямство, доходившее до отрицания христианской морали. Сначала она махнула рукой на клятву, данную брату. Затем, когда потребовалось разрешение папы римского на брак в связи с тем, что жених приходился невесте двоюродным братом, Изабелла его подделала. А когда 12 декабря 1474 г. в Мадриде скончался Энрике IV, юной принцессе представилась исключительная возможность показать всем силу своего характера.
Королева Кастилии и ее муж
Изабелла узнала о смерти короля, находясь в замке Сеговии, где она чувствовала себя в безопасности. Она жила одна – Фердинанду пришлось вернуться в Арагон, чтобы помогать престарелому отцу вести борьбу против французов. Хладнокровно и незамедлительно, как положено истинному государственному деятелю, Изабелла уже на следующий день, даже не дожидаясь мужа, объявила себя королевой Кастилии. Она принесла присягу и получила титул «королевы и защитницы королевства», подразумевая, что Фердинанду придется довольствоваться – он признавался «ее законным супругом» – званием принца-консорта. На поспешной коронации присутствовало несколько малозначительных дворян, и не было ни одного испанского гранда. Однако на церемонии провели древний ритуал: перед молодой королевой пронесли меч правосудия, который держали за острый конец, подняв его кверху, что символизировало угрозу кары для вассалов. Традиционно это предназначалось для короля. Гордому Фердинанду пришлось проглотить обиду и досаду. Надо ли понимать происходящее так, что жена его элементарно не уважает? Изабелла забыла о том, как они вместе противостояли врагам, стоило удаче ей улыбнуться? Изабелла Кастильская – неблагодарная?
Фердинанд поспешил в Сеговию. Он попенял королеве за ее торопливость, выказал недовольство и представил свои требования. Между супругами произошел бурный обмен мнениями. Изабелла не собиралась терять ни капли только что приобретенной власти, а ее муж, который, как было прописано в брачном договоре, занимал чисто формальное положение, думал, что жена с ним поделится. Столкнувшись с сопротивлением Изабеллы, Фердинанд пригрозил уехать в Арагон. Пришлось договариваться. 15 января 1475 г. выпустили официальный документ, названный «Сеговийский договор». Отныне вопрос был решен в пользу королевы. «Мы полагаем, – писал Эрнандо дель Пульгар, – что эти королевства должны вернуться к государыне несмотря на то что она женщина… и что корону нельзя отдавать никакому другому наследнику, хотя бы и мужчине, по непрямой линии». Напомним, что салическое право, действовавшее в Арагоне, не имело силы в Кастилии, и Фердинанд имел меньше прав, чем его жена, поскольку он принадлежал к младшей ветви дома Трастамара, а Изабелла – к старшей.
Фердинанд получал лишь те властные привилегии, что Изабелла желала ему дать. Он командовал армией (как положено мужчине) и наказывал мятежников. Но только королева назначала наместников крепостей, ведала организацией войск и сбором податей. Она же руководила всеми вопросами финансов и вооружения. Некоторые назначения на городские и церковные должности, а также судебные дела совершались от имени, как Изабеллы, так и Фердинанда, но с уточнением: «от имени и с согласия королевы». Изабелла могла отменить решение короля. Супруги обсудили: должно ли в официальных документах, выпущенных от имени их обоих, имя короля стоять раньше имени его жены. Сошлись на компромиссе: имя королевы будет предшествовать имени короля везде, кроме документов, связанных с армией. И все понимали: сеговийский договор закрепил преимущество Изабеллы в Кастилии, а Фердинанду осталось лишь звание принца-консорта[63].
Так чета преодолела первый серьезный кризис в своей жизни. Изабелла не пожалела сил, чтобы поставить мужа на место. Пока что у супругов был всего один ребенок – пятилетняя дочь по имени Изабелла. Королева искусно воспользовалась правом наследия по женской линии, чтобы подтвердить свое превосходство перед Фердинандом. Признание такового обеспечивало девушке в будущем право на власть, исключая возможность каких-либо притязаний со стороны супруга-иностранца.
«Есть вероятность, что после нас – объяснила Изабелла Фердинанду, – появится некто, кто объявит себя мужским потомком кастильской королевской семьи и отнимет корону несмотря на то что он происходит из побочной ветви, у вашей дочери-принцессы на том основании, что она женщина, пусть даже из прямых наследников. Видите, сир, какие неудобства придется терпеть нашим отпрыскам».
Кроме того, если отнять у женщины право на власть в полном объеме, то возникнет угроза ее брака с принцем-чужеземцем, «который может потребовать передать управление королевствами, крепостями и государственными доходами людям из его народа, не-кастильцам, и тогда королевство может попасть в руки иностранной семьи, и виноваты в этом страшном преступлении будем мы».
Изабелла успешно отстояла свою позицию. «Было бы неплохо, – добавила она, – если бы возникающие вопросы решались сообразно праву этих королевств». Отныне ни что не бросит тень на их союз. «Теперь все решено… Хорошо, что было сделано это дополнение, оно поможет избежать возможных недоразумений». Историк Эрнандо дель Пульгар с удовлетворением заключает: «Король выслушал доводы королевы, признал, что они обоснованы и объявил о своем согласии; и отныне он и она принимали решения, не тратя времени на споры».
Королева, главнокомандующая и дипломат
Итак, Изабеллу объявили королевой Кастилии, сеговийский договор подписали, осталось решить все остальное. Сторонники соперницы Изабеллы Бельтранехи не оставили надежды на реванш. Среди грандов произошел раскол не столько в связи с набившим оскомину вопросом о законнорожденности, сколько в связи с будущим характером королевской власти. Сторонники принцессы Хуаны, судя по всему, выступали за раздел власти между дворянами и короной. Им противостояла группировка, считавшая необходимым иметь сильную монархию, которая будет сохранять в неизменном виде существующий порядок. Какую роль будет играть знать: станет ли она посредницей или даже участницей политических игр или же, напротив, подчинится королевским прерогативам? Ситуация постоянно переигрывалась. Гранды меняли лагеря, ставя будущее под вопрос и плодя неясности. Испания не могла решиться. Толедского архиепископа, до недавнего момента поддерживавшего Изабеллу и считавшего, что она справится с королевскими обязанностями, теперь раздражала ее независимость. «Когда я взял ее на руки, она занималась тем, что пряла, – не подумавши, бросил он, – я и отправлю ее назад к прялке». Юные супруги так крепко держались за свое место, что архиепископ перекинулся во враждебный лагерь. Кастилия не отвергала Изабеллу. Но и падать перед ней единодушно и незамедлительно она не стала.
Настоящая опасность исходила от португальского соседа. Лиссабонское королевство лелеяло мечту об объединенном полуострове и надеялось воплотить ее в жизнь, заключив союз с Кастилией и оставив Арагон в изоляции. Эти планы рухнули в день свадьбы Изабеллы и Фердинанда, а после коронации Изабеллы от них и вовсе ничего не осталось. Возродить их можно было лишь силой оружия. Португальский король Афонсу V не стал медлить – в мае 1475 г. он вторгся в Кастилию. В качестве предлога для интервенции он поднял вопрос о законности престолонаследия, предварительно женившись на Бельтранехе. Перед Изабеллой и Фердинандом встала задача одновременно выстоять и в гражданской войне, и в войне с соседом.
Со всей энергией, присущей юности, чета бросилась в бой. На полях сражений Фердинанд показал себя прекрасным военачальником. Когда король ведет войну, королева обычно остается просто зрительницей. Но Изабелла не пряталась во дворце и узнавала новости о сражениях, укрывшись за толстыми стенами. Она действовала. Побывав почти на всех фронтах, она заручилась лояльностью со стороны городов, которые должны были защитить ее от португальского нашествия. Как известно, решающей победы добился Фердинанд. Возле местечка в Кастилии под названием Торо 1 марта 1476 г. вражеская армия под командованием Афонсу V потерпела поражение. Несмотря на неудачу португальский король верил в возможность переговоров. Фердинанд колебался, он был готов пойти на соглашение. Изабелла же не желала ничего слышать: она ни за что не уступит ни клочка своих земель врагу-португальцу[64].
Это разногласие не омрачило радость победы. Молодым королям улыбнулась удача. Фердинанд подчеркнул, что сослужил жене большую службу. «Говорю вам, – заметил он ей, – что в этот вечер Господь вручил вам королевство Кастилию». Вместе они решили в знак благодарности Богу построить в Толедо монастырь, который станет вечным памятником победе. Там появился Сан-Хуан-де-лос-Рейес, подаренный францисканскому ордену, шедевр стиля, названного «исабелино» в честь королевы.
Когда восторги поутихли, Изабелла и Фердинанд стали по-разному оценивать последствия победы. Король полагал, что победа в сражении у Торо заодно помогла утихомирить Кастилию. У него не было никакой нужды там задерживаться. Лично ему требовалось заполучить большую часть Касти-лии, находившейся под угрозой французского вторжения. Практичная и последовательная Изабелла хотела для начала обчистить карманы своих противников, еще остававшихся в королевстве. Такое несовпадение в целях супругов мешало им определиться, куда и как именно направить армию. Нас уверяют, что это было последним разногласием между Изабеллой и Фердинандом. Один из государственных мужей, как раз получивший аудиенцию у королевы, потом рассказывал, что Изабеллу охватила такая ярость, что она отказалась принимать у себя кого бы то ни было, а Фердинанд, чтобы успокоиться, отправился на охоту[65].
На самом деле выбора не было. Следовало одновременно дать отпор французским войскам, уже успевшим пройти Андай, и побыстрее разобраться с несогласными в Кастилии. Изабелла, действуя то в одиночку, то вместе с королем, направила войска на свои мятежные земли. Ее видели в Галисии, в Эстремадуре, в районе Мурсии, в Андалусии, где она триумфально вступила в Севилью 25 июля 1477 г., не забыв ударить в тыл португальской армии. 26-летняя женщина стремительно ездила по своим владениям, организовывала снабжение, выступала перед народом, командовала солдатами, отдавала приказы о штурмах, отправляла мятежников палачам, начинала то гонения, то переговоры, перетягивала на свою сторону тех, кто сомневался, награждала тех, кто был ей верен. Изабелла окружила себя советниками, но решения зачастую принимала самостоятельно, так как Фердинанд был далеко и встретиться супругам удалось лишь несколько месяцев спустя[66].
За четыре года войны удалось установить в королевстве мир и добиться однозначного признания прав Католических королей. Уже перед окончанием сражений в 1479 г. были приняты меры, чтобы прекратить беспорядки внутри страны и обуздать мятежную знать. Тогда же была создана «Святая эрмандада» (т.е. Братство) – что-то вроде сельской жандармерии, которая боролась с извечным бандитизмом, дабы установить порядок в испанских областях, а также занималась искоренением последних противников Изабеллы. Идея была стара как мир, предложили ее, видимо, сами монархи, а практическое воплощение разработали посланники Бургоса, направленные к кортесам. Создателем этой организации – по происхождению она была кастильской – являлась в большей мере Изабелла, нежели Фердинанд; впрочем, в Арагоне Эрмандаду тоже использовали.
Именно королева задумала подмять под себя военные ордена – Калатраву, Сантьяго и Алькантару, – возникшие во времена Реконкисты, поскольку их могущество представляло собой серьезную угрозу для королевской власти, а великие магистры открыто вмешивались в политику. Изабелла решила установить контроль над этими образованиями, поскольку те могли легко взбунтоваться и, по сути, являлись государством в государстве. Повод представился, когда в ноябре 1476 г. умер магистр ордена Сантьяго. По обычаю должен был собраться капитул ордена и выбрать нового служителя. Уже объявили двух кандидатов. К главному замку ордена в ламанчском Уклесе съезжались рыцари. Изабелла решила тоже наведаться туда. Ее резиденция располагалась в Торо, но королеву не пугали ни расстояние, ни опасности такого путешествия, надо было пересечь заснеженную цепь Гвадаррамы и преодолеть верхом огромный путь, не останавливаясь даже на ночлег – лишь бы прибыть вовремя.
Представ перед капитулом, Изабелла не стала просить ничего лично для себя, но предложила назначить великим магистром Фердинанда. Элементарное чутье ей подсказывало: ни один папа римский ни за что бы не одобрил выбор, сделанный женщиной, в отношении главы братства рыцарей-монахов. Но Изабелле удалось убедить рыцарей: разве королю не следует вмешаться в ход затянувшейся гражданской войны? Сам факт присутствия королевы в Уклесе, ее настойчивость, несколько умелых нажимов помогли ей добиться своего, и Фердинанд стал главой ордена, сначала на ограниченный срок, а с 1493 г. пожизненно. Всего через несколько лет Калатрава, а затем Алькантара признали короля великим магистром.
Возможно, за планом о подчинении военных орденов стояли не оба супруга, а Изабелла самостоятельно все продумала, совершила необходимые маневры и пришла к нужной цели. Однако не ясно одно: вышли бы ордена из-под влияния короны в случае смерти Фердинанда? Изабелла не могла не учесть такую вероятность, ведь она бы погубила все ее старания. Может быть, папа римский, согласившийся признать короля главой орденов, рассчитывал получить от овдовевшей королевы эту привилегию? Испанский посланник в Риме сумел преодолеть все препятствия, и в 1501 г. Александр VI удовлетворил прошение Католических королей. В случае если Фердинанд умирал раньше Изабеллы, ордена оставались под ее началом в лоне испанской короны.
Инквизиция: сомнения и решимость
Когда Изабелла в июле 1477 г. добилась победы в Севилье, ее упрекнули в том, что она выдвинула на один из министерских постов выкреста[67]. Не слишком ли много было, – сказали ей, – этих евреев, принявших католичество, во время гонений в конце XIV в.? Возникали сомнения в том, что они сменили веру искренне и не продолжают тайно следовать иудаизму. «Коренные» севильские христиане, которых также называли «старыми христианами» заметили королеве: разве она сама не множит зло, принимая в свой совет очередную подозрительную личность, при том, что там уже есть три или четыре выкреста? Изабелла пропустила все мимо ушей и поставила на должность нужного ей претендента.
Предъявленные ей претензии не отличались новизной. Последние несколько лет религиозные общины, особенно доминиканцы, призывали ее обратить внимание на опасность. Кое-как обращенные в католичество выкресты являются не только еретиками, но и вероотступниками, поскольку не придерживаются данным при крещении обетам и не соблюдают христианские законы, которые они якобы приняли. В лучшем случае они уже не иудеи, но еще и не христиане в полном смысле слова. Многие остаются в душе приверженцами иудаизма и зачастую втайне следуют моисеевым законам. Их надо бы покарать за отступничество. Иначе все испанское общество – от простого ремесленника до знатного дворянина – будет заражено такими вероотступниками. Это зло повсюду, и оно идет рука об руку с преступлением.
Изабелла больше не могла закрывать глаза на то, как эти мнимые христиане празднуют шаббат, отказываются употреблять в пищу свинину и втайне читают еврейские молитвы. Она не могла больше слышать, как богохульный шепот раздается на мессе в момент освящения. Оставит ли она безнаказанными осквернение облаток и ритуальные преступления? «Как известно Вашему Высочеству, – предупреждал Изабеллу один из андалузских наместников, – здесь двое или трое врат ада, где поклоняются дьяволу и бесчестят Господа Нашего и Пресвятую Богородицу. День за днем творится вероотступничество и кощунство». Изабеллу настойчиво призывали принять меры.
А она тем временем колебалась. На просьбу севильского приора доминиканцев о срочной реакции Изабелла ответила с пренебрежением. Помимо нее сомнения мучили некоторых придворных, личного исповедника королевы (он тоже был из выкрестов) и севильского архиепископа. Всем не хотелось начинать гонения. Изабелла отказалась отдавать соответствующий приказ впопыхах: поспешность – как все знали еще с тех пор, как она отказалась принимать корону после смерти своего брата Альфонсо – не была присуща ее стилю руководства. Королева размышляла, советовалась, собирала сведения.
Но Фердинанд ее нерешительность не разделял. Его религиозные взгляды были однозначны: евреев надо прижать. С начала XIII в. на родине Фердинанда в Арагоне действовала епископская инквизиция (направленная в то время против катаров). Король хотел развить эту структуру: из простого суда, проводимого руками епископов, превратить ее в государственный механизм, подчиняющийся непосредственно государю. Заодно этой организацией обзаводилась Кастилия, до тех пор как-то без нее обходившейся. Но Изабелла заставила короля принять ее правила игры. Первые четыре года после коронации она отвергала предлагаемые им радикальные меры. Более того, она старалась переманивать иудеев в католичество при помощи религиозного просвещения и велела кардиналу Мендосе проповедовать катехизис, который покажет «долг истинных христиан, верных Господу в каждое мгновение, каждый день своей жизни до самой смерти». Все церкви королевства, вплоть до самых маленьких, должны были получить что-то вроде «карманного справочника доброго христианина». Изабелла считала, что обращать в христианство надо мирно.
А тем временем сторонники жестких мер, в основном доминиканцы и францисканцы, с удвоенной силой собирали доказательства тому, что выкресты двуличны, дурны и завистливы. Находясь в Эстремадуре, а затем в Андалусии королева только и делала, что выслушивала жалобы и призывы к решительным действиям. Сгущалась атмосфера в Севилье. Позже, когда Фердинанду понадобилось как-то оправдать гонения, он признал: «У нас не было возможности поступить по-иному; нам столько рассказали в Андалусии, что, даже если бы это касалось нашего сына принца, мы не смогли бы помешать тому, что случилось».
Вернувшись в Севилью, короли решили получить у понтифика разрешение на создание инквизиционного суда, который подчинялся бы только им, в соответствии с замыслом Фердинанда. Король так ловко повел разговор, что несмотря на нежелание терять папские прерогативы Сикст IV дал добро. Булла от 1 ноября 1478 г. позволяла Изабелле и Фердинанду назначать в своих владениях инквизиторов, которые будут заниматься исключительно обузданием тайных иудеев.
Несмотря на устоявшееся мнение будущий грозный великий инквизитор Томас де Торквемада, который стал символом антиеврейских гонений, к появлению инквизиции не имел никакого отношения. Конечно, этот доминиканец, и сам происходивший из крещеных евреев, часто бывал при дворе, несмотря на то что служил приором в сеговийском монастыре Санта-Крус, однако личным исповедником Католических королей он стал позднее. Подобно многим другим представителям нищенствующих орденов Торквемада был убежден в неискренности выкрестов и давно уже предлагал правителям свое содействие, но специальной юрисдикции пока не требовал. Активно участвовать в событиях он стал только с 1482 г.[68].
Изабелла выждала еще два года. Ей было неприятно пускать в ход жуткий смертоносный механизм? Она предчувствовала, что репрессии затянутся? В окружении королевы ее сомнения разделяли. Но хватало и догматиков – к их числу принадлежал Фердинанд, – которые твердили о том, что проповедями и богословскими учениями число иудеев сократить не удалось. «Это ни к чему не привело», – был вынужден признать даже Эрнандо дель Пульгар, сам из выкрестов и противников инквизиции[69].
Весной 1480 г. короли председательствовали на толедских кортесах. Вопрос об инквизиции не поднимался. Изабелла пока была не готова пойти на такой шаг. Но ей со всех сторон звучали призывы действовать. В ноябре королева решилась. Обнародовали папскую буллу и назначили двух инквизиторов. Потянулась мрачная череда допросов, арестов, приговоров. В феврале 1481 г. запылал первый костер. За ним и другие. Их было много. Начались такие репрессии, что умеренно настроенные граждане обратились к папе римскому с просьбой остановить адскую машину. Сикст IV отменил выпущенную в 1478 г. буллу и велел собрать суд епископов, который традиционно вел дела на протяжении уже трех веков, назначая судей, которые подчинялись исключительно им. Фердинанд такого не ожидал. Он рассердился и стал возражать. Папа римский сдался, подтвердив буллу 1478 г.
На каждом из этапов этой истории Католические короли, в равной мере ответственные за создание испанской инквизиции, шли тем не менее не в ногу. Изабелла, казалось, хотела избавиться от епископского трибунала в пользу мирной проповеди. Она не торопилась с назначением судей, размышляла, не вызовут ли гонения сложности в стране и, возможно, мятежи. Испугавшись первых приговоров, она вмешалась и обязала предоставлять подозреваемому месяц на раскаяние. Позже, после завоевания Гренады, она изо всех сил старалась заставить Фердинанда выполнить давнее обещание: упразднить инквизицию как минимум за сорок лет. Тщетно.
Король, напротив, кипел энергией. Он сумел убедить жену, отодвинуть в сторону папу римского, учредить новую организацию в Арагоне, Барселоне и Валенсии, несмотря на сопротивление местных структур, державшихся за свои юридические привилегии. Он участвовал в каждом этапе событий. Архивы тому свидетельство: именно Фердинанд регулярно переписывался с членами суда, где говорил о себе только в первом лице, стараясь не упоминать имя королевы. Он же посоветовал своим приемникам сохранять созданную организацию; мнение Изабеллы на сей счет неизвестно. Все говорит о том, что инквизиция – это целиком и полностью детище арагонского короля[70].
Изабелла не меньше Фердинанда хотела уменьшить количество тайных иудеев. Но методы супругов кардинально различались.
Общая ответственность
Через год после выхода папской буллы, санкционировавшей инквизицию, Фердинанд после смерти отца стал королем Арагона. Кроме того, в 1479 г. закончилась война за кастильское наследство, и был подписан мирный договор с Португалией. Последние надежды сторонников Бельтранехи рухнули. Принцесса удалилась в монастырь, а Изабелла хотела, чтобы она оттуда больше не возвращалась. Восхождение Фердинанда на трон – через пять лет после коронации Изабеллы и через десять лет после их свадьбы – не делало Испанию политически единым государством. Обе короны объединялись только личными связями монархов. Каждая из стран сохраняла автономию. Ни институты, ни валюта, ни тем более язык и таможня не были общими. Кроме того, властные механизмы каждой из корон на подчиненных территориях отличались друг от друга. На всей Кастилии от Галисии до Андалусии действовали одни и те же институты, общая законодательная и налоговая система, а в Арагоне, Каталонии и королевстве Валенсии институциональная, юридическая и финансовая структуры были в каждой стране свои. Изабелла и Фердинанд ни разу не сделали и шага к единому государству. Более того, как пишет Жозеф Перес, «эта мысль, судя по всему, даже не приходила им в голову»[71].
Брак двух правителей ни в коей мере не умалял стремление каждого из них сосредоточить в руках всю верховную власть в своем королевстве. Изабелла – в Кастилии, Фердинанд – в Арагоне. Вместе они стояли у руля своих владений. В Кастилии Фердинанд добился королевского признания с таким же весом и полномочиями, что и у его супруги. Да, чета уделяла больше внимания Кастилии – богатой, динамичной и перспективной, – а арагонскими владениями, напротив, занималась мало: Изабелла и Фердинанд бывали там короткими наездами, а управление препоручили вице-королям. Но на крупных торжествах, если одному из супругов обстоятельства не позволяли присутствовать, то второй его замещал. В 1481 г. на заседании кортесов в Сарагосе, когда Фердинанда задержали дела в Барселоне, Изабелла в одиночку председательствовала на совете, несмотря на то, что в этом королевстве действовало салическое право.
А внешней испанской политикой ведал скорее Фердинанд. У Арагона была цель – Средиземное море. Был и враг: Франция. С ней шел спор по поводу Наварры, Руссильона и расположенного на юге Италии Неаполитанского королевства. Несмотря на то что Кастилия давно уже поддерживала прекрасные отношения с капетингским королевством, Фердинанд только и мечтал о том, чтобы найти союзников против Парижа в Англии и среди Габсбургов.
Но не надо думать, что король, в одиночку ведавший внешней политикой двух монархий, был готов ради Арагона принести в жертву интересы Кастилии, воспользовавшись равнодушием Изабеллы. Кастилию влекла Африка, и Изабелла распорядилась установить опорные пункты по берегам Магриба, особенно в Мелилье, в 1494 г. Династические браки двоих детей Изабеллы и Фердинанда с принцем и принцессой Габсбургскими[72] были полезны для экономики, поскольку открывали возможности для экспорта шерсти во Фландрию. Судя по всему, направленность внешней политики целиком и полностью лежала на Фердинанде. Впрочем, Изабелла тоже ею занималась, хоть и менее активно; инертность ей была несвойственна.
Тем не менее она, как всеми признано, сыграла одну из главных ролей в крупномасштабной авантюре, предложенной Христофором Колумбом. Принято считать, что Католические короли, в отличие от соседей, поверили в безумный замысел генуэзца о том, что можно найти на западе морской путь в Азию. На самом деле Изабелла в большей мере, чем ее муж, проявила интерес к идеям знаменитого мореплавателя и щедро поощряла его, а Фердинанд лишь высказывал одобрение. Колумб дважды удостоился аудиенции у монархов. В январе 1486 г. в Алькале-де-Энарес, что возле Мадрида, ему удалось обратить на себя особое внимание королевы, несмотря на то что она была занята войной с Гренадой. «Все, – позже писал Колумб, – насмехались над моим замыслом. Лишь Ее Высочество сразу же проявила веру и упорство и, озаренная Святым Духом, ни разу не поддалась сомнениям». Изабелла пожаловала ему небольшую пенсию и отдала колумбов проект на рассмотрение научной комиссии во главе с ее духовником братом Эрнандо де Талаверой, будущим архиепископом Гренады. Колумб ездил вслед за королевским двором из города в город, ожидая решения. Затяжное молчание нервировало его. Он пытался заинтересовать королей Португалии, Англии и Франции. Безуспешно. Ответ комиссия дала однозначный: нет.
Ничто не могло бы переубедить мореплавателя. Даже когда его проект после второго рассмотрения получил снова отказ. Он снова обратился к испанским королям. Они как раз ликовали по поводу завоевания Гренады, и Колумб решил вновь попытать счастья. Ему удалось попасть на прием во второй раз в королевском лагере в Санта-Фе, построенном для осады мавританского города. Его снова выслушали, но опять он никого не убедил. Его настойчивость раздражала. Колумбу вежливо отказали. Но вдруг, словно в театральной пьесе, снова позвали. Изабелла выслушала его. Дала согласие. Профинансировала экспедицию. Контракт между королями и генуэзцем был подписан 17 апреля 1492 г. 3 августа от Палоса стартовали «Пинта», «Нинья» и «Санта-Мария» – две каравеллы и одна каракка. Путешествие через океан началось.
Было ли чудом это согласие, полученное сразу вслед за отказом? Похоже, Колумб верил в это, поскольку благодарил Бога за то, что тот открыл королеве «весь свет разумности этого предприятия». Впрочем, Изабелла и без подсказок Святого Духа задумывалась о подобном плавании, надеясь на вполне земные выгоды. Королева предпочла выслушать не ученых, указывавших ей на ошибки этой концепции и техническую невозможность воплотить ее в жизнь, а брата Хуана Переса, своего старого духовника, воспитателя своих сыновей доминиканца Диего де Десу, будущего архиепископа севильского, Луиса де Сантагеля, служившего казначеем у Фердинанда, кардинала Педро Гонсалеса де Мендосу, примаса Испании и главного советника Католических королей. Всех их поразили страсть и упорство генуэзца, потрясла его уверенность и удивила смелость замыслов.
Судя по всему, следует списать первый отказ Изабеллы, сделанный в 1486 г., на войну с андалусийскими маврами, которая забрала все силы. Куда проще объяснить то доверие, которое она продемонстрировала Колумбу через шесть лет, наличием свободного времени, возникшего после взятия Гренада. И еще религиозным восторгом, сопровождавшим последние месяцы войны, с особой силой разгоревшемся после взятия города. Изабелла только и говорила, что о крещении неверных, триумфе христианства и победе Креста. Провидение позволило католикам одолеть мусульман. И оно даст Кастилии и новые знаки, сообщающие о своей заботе. Разве Колумб не является орудием божественной воли? Доминиканец Диего Деса объяснил Изабелле, какую службу сослужит она Богу, церкви и христианству, насколько сильнее станет Испания, какая слава ждет тогда королеву. Ему вторил казначей Сантангель, доказывавший, что затраты на экспедицию – скромны в сравнении с прибылями, каковые сулит такое предприятие[73].
Перспектива принести Евангелие на новые земли привлекала больше Изабеллу, чем Фердинанда. Именно она поддержала будущего покорителя Атлантического океана. Вряд ли стоит верить легенде, что Изабелла не то продала, не то заложила свои украшения, дабы помочь экспедиции. Но доподлинно известно, получив от папы римского разрешение на поиск новых земель, она пообещала обратить в христианство тех, кто там живет. И, как писал Лас Касас, Изабелла не уставала «просить, чтобы с индейцами обходились мягко, чтобы старались осчастливить их»; в завещании она повторила, что желает, дабы с ними поступали гуманно. А в 1496 г. королева осудила предложение Колумба продать в Кадис триста порабощенных индейцев. «По какому праву адмирал, – возмутилась она, – превращает моих подданных в рабов?»
Хотя большинство внешнеполитических инициатив принято приписывать Фердинанду, Изабелла тем не менее сыграла свою роль – и не маленькую – в открытии новых территорий, которые, как до самой смерти верил гениальный мореплаватель, находятся где-то на морской периферии Азии.
Считается, что за решением об изгнании евреев из Испании, принятым 31 марта 1492 г., в большей степени стоял Фердинанд, чем Изабелла. Это подтверждают еврейские источники, сообщающие, что королева долгое время покровительствовала иудеям. «Все евреи королевства мои, и находятся под моей опекой, – объявила Изабелла в 1477 г. – Мой долг – обеспечить их защитой и правосудием». В 1492 г. король Арагона остался глух к просьбам видных иудеев, посуливших короне солидные денежные суммы в обмен на отмену приказа об изгнании. Современные историки считают, что Католические короли сыграли примерно одинаковую роль в этом мероприятии, и, отодвинув такие объяснения как королевская алчность, демагогия или расизм, признают официальную версию о причинах изгнания. Наличие на испанской земле иудеев поощрило бы новоиспеченных выкрестов, приходившимся им родственниками, друзьями, товарищами по работе, и дальше исповедовать их презренную религию, но втайне. Это оправдание стало неотъемлемой частью политики, которая практиковалась следующие четырнадцать лет, а начало ей положили (и активно в ней участвовали) Фердинанд с Изабеллой.
Через тридцать лет пребывания на престоле Изабелла скончалась в Медина-дель-Кампо в 1504 г. Так подошел к концу знаменитый союз длиной в тридцать пять лет. Фердинанд пережил жену на двенадцать лет. Сразу после ее смерти встал вопрос о наследниках.
Казалось, что теперь союз двух корон, основанный на личной связи монархов, распадется. Единственным сыном Католических королей, имевшим возможность получить трон как в Кастилии, так и в Арагоне, был принц Хуан, который умер в 1497 г. На следующий год ушла в мир иной его сестра Изабелла, а ее сын Мигель, двухлетний дофин – в 1500 г. Тогда наследницей Кастилии стала принцесса Хуана, третий ребенок Изабеллы и Фердинанда. Но поскольку ее душевное здоровье внушало опасения, Изабелла написала в завещании, что в случае недееспособности Хуаны от ее имени будет править Фердинанд. После смерти матери Хуана вместе с мужем, бургундским герцогом Филиппом Красивым, вскоре стали королевой и королем Кастилии. Фердинанду пришлось уехать из страны, которой он управлял вместе с женой с 1474 г., и отныне в его распоряжении остался лишь Арагон.
Но судьба вновь перетасовала карты: Филипп Красивый, собиравшийся воспользоваться привилегиями жены и забрать в свои руки власть в полном объеме, неожиданно скончался в сентябре 1506 г. Фердинанду поторопились сообщить, что его дочь, законная правительница страны, не способна управлять своими владениями по причине душевной болезни. Фердинанд запер дочь в замке Тордесильяс и, став регентом, правил Кастилией до самой смерти в 1516 г. Так что отсутствие «арагонца», как называли его враги, продлилось не больше двух лет.
Посмертная память
Редко случается так, что чету монархов помнят не по именам, а по прозвищам. В народе многие забывали, что испанских королей конца XV в. звали Изабеллой и Фердинандом, но все знают про Католических королей – под этим прозвищем супруги вошли в историю. Это звание преподнес им папа Александр VI Борджиа 19 декабря 1496 г., и была в нем определенная двусмысленность. Вроде как оно должно было напоминать о стремлении к единству веры, создании инквизиции, изгнании евреев, взятии Гренады и последующем насильственном крещении мусульман. Кроме того, понтифик, таким образом, подчеркивал набожность Изабеллы (больше ее, чем Фердинанда), и теперь все должны были знать: королева, заслужившая такое звание, была ревностной (если не сказать больше) католичкой.
На самом деле все было не так. Что бы ни утверждали легенды, личность и поступки Изабеллы нельзя свести к одному только католическому пылу. Ее страстная (тут все верно) забота о католицизме смешивалась (не преобладая) с жаждой авторитарной политической власти. Именно благодаря последней Изабелла состоялась как королева и оставила след в истории. Один из советников государыни Гомес Манрике предупреждал: «Никто не захочет знать, как вы были набожны или насколько привержены дисциплине; с вас спросят, бесстрастно ли вы вершили правосудие, выносили ли приговоры виновным, терпели ли воров; вот по чему о вас будут судить»[74]. Он был уверен, что потомкам будет интереснее восхвалять сильного монарха, нежели восхищаться богобоязненностью королевы-ханжи. Изабелле следовало быть сначала государыней, а уж потом ревностной христианкой.
Папа римский наградил Изабеллу и Фердинанда данным титулом по причинам вполне земным. Он сообщал не об их религиозном рвении, а об огромной услуге, которую чета оказала Александру VI: из-за победоносной высадки французского короля Карла VIII в Италии, Испания пришла на помощь понтифику и заставила захватчиков Папской области и Неаполитанского королевства, оплота Святого Престола, отступить. Так что папская награда, хоть и формально объяснялась причинами религиозного характера, на самом деле имела политическую подоплеку.
Несмотря на общий титул, Католические короли не были взаимозаменяемыми. Конечно, они всю жизнь старались демонстрировать свое единодушие, вместе трудились, вдвоем принимали и мелкие, и крупные решения, даже если находились вдали друг от друга. Они напоминали музыкантов, вместе играющих партитуру. Изабелла и Фердинанд старались убедить всех: между ними нет места разногласиям или размолвкам, даже в мелочах. В первую очередь они муж и жена, а уж затем короли. Известно, что на самом деле это было не так.
Даже современники сомневались в идеальной гармонии этого союза. И замечали, в чем супруги непохожи. Фердинанд считался бесспорным вдохновителем всех больших политических решений, мозгом семьи. Макиавелли, так ценивший политический успех, разделял это восторженное мнение. В XXI главе своего главного труда «Государь» (1513) он берет за образец того, чьи заслуги, по его мнению, достойны уважения. «Его можно было бы назвать новым государем, ибо, слабый вначале, он сделался по славе и блеску первым королем христианского мира; и все его действия исполнены величия, а некоторые поражают воображение»[75]. Изабелла не удостоилась ни слова похвалы. Макиавелли эта королева неизвестна. В конце XV в. и на протяжении всего следующего столетия все лавры доставались Фердинанду. «Мы всем ему обязаны», – признавал Филипп II, младший из внуков арагонского короля. А Филипп IV называл его не иначе как «королем королей». Несмотря на инквизицию, Фердинандом восхищался Вольтер. Арагонскому монарху досталась вся слава.
В те далекие времена Изабелла оставалась в тени. Ее час наступил с началом эпохи романтиков. Тогда кастильскую королеву начали на все лады воспевать и идеализировать. Фердинанд мало-помалу ушел в тень, а образу Изабеллы доставались все самые яркие краски. В 1815 г. король Испании Фердинанд II создал орден «Изабеллы Католички», который стал нести служение в американских колониях, а позже, с 1847 г. ведал всеми гражданскими и военными награждениями. Только при режиме генерала Франко королеву начали усиленно называть образцом сильной и якобы центристской политики. Франкисты использовали образ не только одной Изабеллы, а обоих королей. Даже флаг и синие рубашки фалангистов были украшены символом Католических королей – ярмом и стрелами.
В конце XX в. испанский епископат отдавал приоритет Изабелле. В начале 1970-х гг. в Рим было направлено предложение о ее беатификации[76]; его приняли к рассмотрению и вернулись к нему только через двадцать лет. В 1991 г. председатель собрания испанских епископов, а затем в 1997 г. архиепископ Вальядолида снова представили Святому Престолу этот проект. Предлогом послужило то, что в ноябре 2004 г. должна была состояться пятисотлетняя годовщина смерти Изабеллы. Тут же нашлись противники этого замысла, Рим проигнорировал проект, и дело закрыли.
Сторонники беатификации Изабеллы напоминали, что завоевание Нового Света считалось частью миссии по распространению христианства среди коренного населения Америки, которую требовал папа римский. Королева советовала относиться к индейцам по-доброму, и она же освободила тех, кого Христофор Колумб привез в Испанию, чтобы продать в рабство[77]. Те, кто был не согласен с этим проектом, говорили о подлых преступлениях, совершенных против индейцев, создании инквизиции и изгнании евреев. Доводы епископов в пользу Изабеллы, к чьим добродетелям приписывается и способность к чудесному исцелению, историков не убеждают. Если королеву поставят на алтарь, придаст ли это ей дополнительный религиозный авторитет? Папа римский назвал чету Католическими королями. Значит, теперь их надо будет именовать Очень Католическими королями. Или, если сторонники беатификации победят, Фердинанд останется Католическим королем, а Изабелла станет Блаженной?
Ни у Изабеллы, ни у Фердинанда не было ни персональных сфер деятельности, ни отдельных государственных обязанностей. Когда они выполняли какое-то дело, никогда не уточнялось, кто именно из них им занимается. Можно говорить, что внешней политикой занимался преимущественно Фердинанд, однако известно, что Изабелла тоже принимала в ней какое-никакое участие. Сама она сосредоточила в своих руках внутреннюю политику, но впрочем, делила власть с королем и действовала только в согласии с мужем. Царственная чета трудилась солидарно и, как говорят сегодня, представляла собой слаженную команду. Можно выискивать, кто и где больше себя проявил, и кому принадлежала инициатива в том или ином решении; все их поступки были направлены на то, чтобы подчеркнуть царившее в семье согласие. Отдавать приоритет Фердинанду или Изабелле, вплоть до затушевывания фигуры одного из них, или выискивать различия в их методах управления? Пожалуй, это несправедливо в отношении этой четы, постаравшейся войти в историю именно так, а не иначе.
Людовик XIII и Анна Австрийская (1615–1643) Взаимное недоверие
«Владычество кардинала Ришелье показалось такой вопиющей несправедливостью, и я решил для себя, что партия королевы – единственная, к которой по долгу чести мне подобает примкнуть. Королева была несчастлива и гонима».
Ларошфуко[78]«Мы обещаем никогда больше не совершать подобных ошибок и жить с королем, как подобает жене, у которых нет иных интересов, помимо его особы и его Государства».
Анна Австрийская10 сентября 1626 г. молодая жена Людовика XIII Анна Австрийская вышла из своих покоев в южном крыле Лувра и отправилась в кабинет, где ее ждал король. Высокая, хорошо сложенная, она была уверена в своей красоте. Всех восхищали ее руки, отличавшиеся исключительной белизной. Нос был, пожалуй, великоват и несколько утяжелял лицо, но его уравновешивал нежно улыбающийся рот, «маленький и алый». Анна покоряла сердца. Никто не мог устоять перед ее обаянием. Никто, кроме того, кто ждал ее в королевском зале.
Анна (1601–1666) состояла в браке с Людовиком XIII (1601–1643) на протяжении уже одиннадцати лет, но счастья пока не видела. Неужели ей мало титула королевы Франции? Ее свадьба сопровождалась пышными праздниками и роскошными торжествами, подобающими ее званию – испанской инфанты, которая вышла замуж за французского монарха, дабы установить мир по обе стороны Пиренеев. С 1615 г. дочь Филиппа III Габсбургского правила из Парижа самым прекрасным из королевств. Но она не была счастлива. Людовик, приходившийся Анне ровесником, отличался даже большей красотой, чем она, но имел хрупкое здоровье и не торопился сделать ее женщиной. Спустя четыре года после свадьбы, чета все еще жила как брат и сестра. Все неустанно превозносили красоту королевы, но собственного мужа Анна не привлекала. Фаворит Людовика герцог Люинь рассказывал, что однажды вечером в январе 1619 г. короля в прямом смысле затащили в кровать супруги, дабы брак стал настоящим. Отвращение к жене сошло на нет, и Людовик принялся активно выполнять супружеский долг в надежде на наследника. Но Анну, видимо, пугала его красота и раздражала фривольность, поэтому она не получала никакого удовольствия от его общества. Муж и жена оставались чужими друг другу и виделись днем только на официальных встречах, как того требовал этикет, а вечером их общение зиждилось исключительно на стремлении продолжить династию. Анне не хватало тепла.
Направляясь к королю, она боялась худшего. Надежда на беременность уже не подкрепляла союз Анны и Людовика, и брак из-за отсутствия наследника рисковал распасться. Гордость испанской инфанты была уязвлена: временами возникали слухи, что ей грозит развод. В царившей атмосфере недоверия Анна однажды в марте 1622 г. совершила случайную ошибку, которую ей потом вменяли в вину. Будучи, наконец-то, беременной она, возвращаясь с праздника вместе с двумя подругами, поскользнулась в большом зале Лувра и потеряла ребенка. А ведь ее уверяли, что будет сын. Людовик не простил Анну. Брак, и без того непрочный, затрещал по швам.
Взаимоотношения между супругами осложнились еще больше спустя три года после случая в Амьене. Однажды в Париж прибыл красавчик герцог Бекингем[79], фаворит английского короля. Поговаривали, что он приехал за женой для своего хозяина, сестрой Людовика XIII Генриеттой Французской. Анна влюбилась в герцога с первого взгляда. Почти целую неделю королеве не раз представлялась возможность видеть на праздниках и приемах прекрасного англичанина. Бекингем, встречаясь с красавицей, знал, как ей понравиться. Он завел с Анной свою привычную игру, и сам влюбился в нее. 24-летнюю женщину, отвергнутую собственным мужем, тронули непривычные для нее чувства. Анна и герцог общались совершенно невинно, но взгляды их выдали. У королевы возникли серьезные неприятности. Людовика охватила ревность, которую он потрудился скрыть, но велел окружению Анны ограничить ее встречи с этим самонадеянным совратителем.
Ни приличия, ни страх перед дипломатическим скандалом не останавливали Бекингема. Скоро влюбленным пришлось выдержать испытание. Анна должна была проводить золовку до самой Булони. Неприятный инцидент случился в Амьене. На вечерней прогулке по саду дворца, где остановился кортеж, Анна вдруг ненадолго осталась наедине с герцогом. Он, кажется, объяснился в любви, попытался поцеловать или даже больше. Пораженная такой дерзостью, королева подняла крик, на который сбежалась прислуга. Наглец тут же напустил на себя вид скромного обожателя. Бекингем вернулся в Лондон, а Анна – в Париж. Людовик XIII, уже надлежащим образом осведомленный, не смог подавить в себе гнев на жену, фактически ставшую жертвой предприимчивого донжуана. Теперь Анна стала еще и объектом злобы собственного мужа. Идя по коридорам к кабинету короля, женщина думала о том, что в прошлом Людовик никогда не выплескивал раздражение непосредственно на нее.
Даже когда король кипел самой черной ревностью или самой жгучей злобой, он продолжал наносить жене визиты – как подобает по этикету, – но почти не разговаривал с ней. Однако он никогда не осыпал ее упреками, а лишь был нарочито холоден. Когда у Анны случился роковой выкидыш, Людовик, находившийся не в Париже, приказал удалить от нее подруг, которые были настолько легкомысленны, что своими забавами помешали рождению дофина. Свое мнение о прискорбной сцене в Амьене он опять же не стал высказывать королеве в лицо. Людовик сообщил Анне через ее духовника, какие санкции он предпримет в отношении тех, кто допустил, чтобы Ее Величество оказалась в обществе герцога одна или, что еще хуже, потакала этому позору.
Когда 10 сентября Анну пригласили в кабинет короля, ей в голову полезли самые тревожные мысли. Дело касалось не обвинений в ребячестве или прикрытия невинных любовных увлечений королевы. Анна знала, что ей сейчас предстоит оправдываться перед обвинениями, которые выдвинули брат короля Гастон Орлеанский и граф де Шале. Теперь история оказалась политической и потому опасной.
В королевском кабинете Людовик ждал Анну не один. На сей раз он высказал свои претензии жене. Но сделал это в обществе матери и премьер-министра. Мария Медичи не питала откровенной враждебности к снохе, но типично-испанская надменность Анны подчас раздражала «дюжую банкиршу». Именно Мария постаралась загладить амьенский скандал, мудро заметив, что «все это мелочи». Королеву-мать снедало одно желание – власть. Она оспаривала ее у собственного сына с оружием в руках. Отношения Марии и Людовика почти всегда были бурными. В 1617 г., когда устранили Кончини, фаворита матери, Людовик XIII сослал ее в Блуа, откуда она сбежала и устроила две успешные войны против монарха. Но спустя шесть лет! – мать и сын помирились, а верный слуга Марии кардинал Ришелье вошел в Совет и стал там премьер-министром. Торжественное возвращение Марии Медичи задвинуло Анну в тень. Государственными делами ведали король, его мать и господин кардинал. Анне в этой троице места не нашлось. Правящая королева почти не имела влияния в сравнении с королевой-матерью. И когда говорили «королева», то имели в виду не Анну Австрийскую, а Марию Медичи.
Не приходился ли Анне врагом Ришелье? Кардинал знал, как она осрамилась с Бекингемом. Прежде Ришелье уже советовал ей не уезжать из Парижа, пока придворные будут провожать Генриетту Французскую до Булони, дабы Анна не встретилась с герцогом. Но Анна ни во что не ставила мнение кардинала, и он об этом знал. Как и многие другие мужчины, Ришелье был неравнодушен к красоте и обаянию королевы. Может, он тоже мечтал соблазнить ее? Может быть, его сжигала тайная страсть к королеве, позже превратившаяся в неприязнь? Ришелье, несмотря на кардинальскую мантию, не чуждался любовных похождений, однако его увлечение Анной остается лишь гипотезой, причем маловероятной.
Надо отметить, что Людовик весьма сурово относился к окружению королевы, боясь, что приближенные дурно повлияют на Анну. Всего через два года после свадьбы он велел испанцам из ее свиты вернуться на родину, запретил посланнику из Мадрида свободно входить в покои королевы, а позже удалил двух ближайших подруг Анны – одной из которых была Мария де Роган, ставшая герцогиней де Шеврёз, знаменитая интриганка. Когда в 1620 и 1622 гг. Людовик из-за войны с протестантами королевства, был вынужден ненадолго доверить Анне управление страной в связи со своим отсутствием, он не дал ей ни капли реальной власти, заранее ограничив любые проявления инициативы. Анна Австрийская была женой чисто формально и рисковала никогда не стать матерью. Людовику она казалась чужой.
В кабинете короля Анну поприветствовали Его Величество, королева-мать и господин кардинал. Но она понимала, что стоит перед судьями. Как и положено обвиняемой, Анне предложили не кресло с подлокотниками, а простой табурет, который обычно давали титулованным дамам; для королевы он считался неподходящим. Знакомая и с жестким испанским этикетом, и с придворными обычаями Франции, она тут же поняла смысл этого маленького унижения: ее считают виновной уже до того, как она даст объяснения.
Ей тут же сообщили о подробностях судебного процесса, начатого в Нанте в отношении графа Анри де Шале, молодого дворянина из дома Талейран-Перигор. Юного отпрыска благородных кровей признали виновным в оскорблении короля и казнили. На суде граф уверял всех, что французская королева знала о заговоре, который он вместе с сообщниками плел против короля и господина кардинала. Но одного признания обвиняемого мало. И тогда Ришелье предложил выслушать Анну на предмет показаний брата Людовика XIII Гастона (он же Месье), замешанного в заговоре. Он тоже компрометировал ее. По двум обвинениям уже можно было привлекать к суду.
Все начиналось самым заурядным образом. Королева-мать Мария Медичи хотела женить Гастона на его двоюродной сестре Марии де Монпелье, самой богатой наследнице в королевстве. Потенциальную невесту этот замысел не заинтересовал ни капли; она целиком и полностью предавалась тем радостям, какие сулит жизнь молодой и незамужней девушке. Да и при дворе нашлись противники такого брака: ведь Гастон мог бы обзавестись детьми раньше короля, а тот был женат уже одиннадцать лет, и наследника все не было. Анна, которой угрожал развод, не скрывала неприязни к этому плану, король же, напротив, воспринимал его спокойно. Появилась «партия врагов свадьбы», состоящая из самой разношерстной публики. Ведущие роли в ней играли герцогиня де Шеврёз, нашедшая себе лишний повод предаться своей любимой игре – интригам, маршал д’Орнано, придворный Гастона Орлеанского (граф де Шале), семья де Конде, два брата де Вандом, внебрачные сыновья Генриха IV. Все они по разным весомым и не очень причинам пылали жаждой мести – одни к королеве-матери, другие к кардиналу. Задуманная свадьба явилась поводом выказать свое недовольство. Герцогиня, самая предприимчивая в этой компании, была убеждена, что вскоре короля погубит болезнь. По ее мнению, овдовевшая Анна могла бы выйти за Гастона, и Ришелье тогда бы не на кого было опереться.
Вскоре к плетению козней подтянулись остальные дворяне королевства. Назревал заговор. Его участники перетянули на свою сторону наместников провинций, способных собрать войска, заключили союз с протестантами, завязали отношения за границей. «Партия» королевы избавилась от своей вдохновительницы и теперь ставила себе целью, не много ни мало, убийство Ришелье. Но заговор был разоблачен. Многих арестовали либо отправили в изгнание. Гастона многократно допросили, а графу де Шале отрубили голову. И несмотря на все мольбы Анны Австрийской, 5 августа 1626 г. состоялась свадьба Месье с Марией де Монпелье.
Единственная вина Анны состояла в том, что она примкнула к партии противников этого брака. Может, она действительно думала в случае смерти мужа выйти за его брата? Гастон не отказал себе в удовольствии сообщить Людовику, что против его свадьбы возражали якобы потому, что «если король умрет, то королева сможет заключить брак с ним». Шале подтвердил, что такие цели ставились, и, по требованию судей, добавил, что заговорщики хотели низложить короля в пользу Месье, и королева об этом знала. Все предпочли закрыть глаза на то, что, восходя на эшафот, Шале отказался от показаний и признал, что солгал.
Король, чье лицо было сумрачно как никогда, королева-мать и кардинал, сохранявший спокойствие, поскольку он знал о заговоре все, потребовали у Анны Австрийской объяснений. Странное, невиданное доселе зрелище: королева Франции, сестра самого могущественного правителя Европы должна оправдываться и отчитываться в своих действиях перед людьми, составлявшими одновременно совет семейный и, учитывая присутствие кардинала, совет государственный.
Сейчас все зависело не от уловок, а от четких ответов, поскольку обвинение опиралось не на слухи или придворные измышления, а на официальные данные, полученные судом.
Несмотря на мизансцену, которая по замыслу тех, кто ее устроил, должна была сбить королеву с толку, Анна держалась хорошо. Она ничего не признала, потому что признаваться ей было не в чем. Нет, она ничего не знает про заговор. Нет, она никогда не помышляла о том, чтобы выйти замуж за господина Гастона в случае смерти короля. Анна, не теряя самообладания, отважно заявила, что в гипотетическом браке с Гастоном она бы «слишком мало выиграла от такой перемены». Судьи напрасно рассчитывали, что Анна сконфузится. Даже на импровизированной скамье подсудимых королева не теряла привитую еще в детстве гордость: она перешла в нападение – но не на короля, а на его мать. Она стала упрекать Марию Медичи во «всей этой травле, которую она и кардинал ей устроили»[80]. Анна Австрийская оказалась непоколебимой, а вовсе не слабой или легкомысленной, как все думали! Людовик XIII, встревоженный тем, что кто-то может ждать его смерти, хотел надавить на жену морально. А она оказалась сильной, решительной и своенравной. Король и господин кардинал ошиблись в расчетах.
Анна не уступила. Противостояние должно было закончиться. Чтобы все участники диалога сохранили лицо, королеве-матери пришлось в мирном, немного нравоучительном, но почти нежном тоне поговорить со снохой, убеждая ее жить так, как жили до нее все остальные королевы Франции. Она пообещала любить ее и в приступе искренности даже призналась, что не всегда питала к ней это чувство. Людовик тоже не остался в стороне: он объявил, что уберет из материалов суда все, что касается королевы. Разбирательство, изначально ставившее целью доказать вину Анны, оказалось коротким и закончилось решением о том, что состава преступления нет. «Скромность одержала верх», – заключил один из современников. Анна отделалась нотацией, и короля это вполне устроило. Он то ли не хотел, то ли не имел возможности разбираться дальше. Доказательств в пользу виновности королевы не было. И Анна сохранила корону и вскоре родила сына.
Вечно подозреваемая
Чета не сумела залатать мелкие трещины в отношениях, и те превратились в разрывы. У каждого из супругов были свои козыри. Людовик действовал не один, ему помогали мать и кардинал.
Король пользовался любым случаем, чтобы засвидетельствовать Марии Медичи свое почтение. В конце того же 1626 г. он пригласил мать вместе с ним заседать на вновь собранной ассамблее парижской знати: отсутствие правящей королевы не прошло мимо внимания собравшихся. В Лувре, в повседневной придворной жизни Людовик куда чаще наносил визиты Марии, нежели собственной жене. Он совещался с ней по каждому поводу и даже приглашал ее в свои покои в Люксембургском дворце, который только что построили. А когда война заставила монарха покинуть столицу, он поручил регентство королеве-матери, хотя в прошлые годы аналогичные властные полномочия доставались Анне. Во время осады Ла-Рошели в период с сентября 1627 по февраль 1628 г. (когда заболевший король был вынужден вернуться в Париж и препоручить войну кардиналу Ришелье), а также во время похода в Пьемонт до Казале в марте 1629 г. Мария Медичи получила от сына право на верховную власть. Конечно, не бесконтрольно – она постоянно получала от него инструкции и отчитывалась за каждое принятое решение – но ясно, что тем не менее Людовик вполне ей доверял[81].
Роль Анны была второстепенной в сравнении с тандемом Людовика XIII и Ришелье. Осада Ла-Рошели, их совместное предприятие, укрепила отношения короля и министра, который на протяжении четырех лет возглавлял Совет, удостоился многих милостей, а в ноябре 1629 г. получил звание Первого министра государства. Хотя кардинал временами попадал в немилость, ему удалось завоевать доверие (не безусловное, конечно) короля. Трижды – два раза в 1629 г. – он просил об отставке и уходе на покой. Трижды король отказывал ему. Ришелье стоял во главе правительства, а также был главнокомандующим армии Его Величества, победил протестантов в таком процветающем королевстве как Италия. Он доказал, что он незаменим.
Не надо думать, что в триумвирате короля, его матери и Ришелье царило полное согласие. Между последними двумя его участниками не раз возникали разногласия. Не столько по поводу политики в целом, сколько по каким-то нюансам. Но те часто перерастали в крупные конфликты. Поначалу их стычки происходили тихо, но потом переросли в открытую войну. Королева-мать возглавляла партию ревностных католиков и рассчитывала на полное истребление гугенотов, требуя внутренних реформ и стараясь сблизиться с Габсбургами, которые составляли единственный оплот контрреформации в христианском мире. Ришелье возглавлял иной проект: в случае прихода к власти герцога Мантуи, можно было бы вторгнуться в северную Италию, чтобы укрепить позиции французов относительно испанцев, которые уже хозяйничали в Милане, а затем пойти против протестантов в Лангедоке. Людовику XIII и Ришелье надо было сделать выбор. Его остановили на варианте кардинала. Пропасть между кардиналом и Марией Медичи разверзлась непреодолимая[82].
Анна Австрийская приходилась дочерью и сестрой королю-католику и, естественно, склонялась к союзничеству с Мадридом. Именно это и сулил в свое время ее брак с французским королем. Может, она найдет себе союзника, воспользовавшись разногласиями между королевой-матерью и Ришелье?
Раньше ей не удавалось получить при дворе поддержку. Ее испанское окружение давно уже отослали домой. Анне оставалось только вспоминать счастливое детство в Испании. Остроту воспоминаниям придавала неприязнь к конфликту с родиной королевы, к которому призывал Ришелье. Анна жила в Лувре практически в одиночестве. Ей не хватало той любви, которая окружала ее в детстве. Она тосковала по отцу Филиппу III, умершему пять лет назад. Самую близкую подругу, герцогиню де Шеврёз ждало изгнание. Анна не просто жила как в пустыне, обделенная нежностью, рядом с равнодушным и подозрительным мужем, но и чувствовала, что ее окружали враги, дирижировал которыми кардинал.
Супруги относились к Ришелье по-разному: недоверие Анны вносило дополнительные сложности в общение короля с министром. Королева знала, что вокруг нее вились шпионы, подосланные прелатом даже в ее самое ближайшее окружение. Поставил же он в ее фрейлины мадам дю Фаржи, близкую подругу своей племянницы, рассчитывая в ответ получать какие-то сведения. Анна Австрийская всегда была у Ришелье под подозрением. Она никогда не была ему соперницей: ни разу не стремилась поучаствовать в заседаниях Совета. Но она охотно общалась с противниками министра, выслушивала их жалобы, с кем-то даже переписывалась. Невзирая на приказ короля, Анна ухитрялась втайне обмениваться письмами с герцогиней де Шеврёз, которая, несмотря на суд в Лотарингии, где ее приговорили к изгнанию, взялась за планы по свержению кардинала. Снова по стечению обстоятельств королева, замученная подозрениями, дала пищу домыслам.
А летом 1628 г. не одну Анну снедало недоверие к кардиналу. Мария Медичи и партия католиков во главе с кардиналом де Берюлем и хранителем печати Мишелем де Марийяком озаботились итальянскими корнями Ришелье. Все были убеждены: смертельной опасностью грозит европейскому католичеству набирающий обороты протестантизм. Естественно, Анна Австрийская стала отстаивать свое мнение, ей казалось, что ее задача убедить всех: необходимо любой ценой воздержаться от войны с Испанией, добиться падения ее вдохновителя и разрушить его планы. В этом интересы двух королев совпали, и отныне они стали союзницами.
В сентябре 1630 г. они сумели достигнуть своего. Король, всегда отличавшийся слабым здоровьем, тяжело заболел после поездки в Леон. Многие в его окружении были уверены, что он скоро умрет. В конце месяца Людовику стало так плохо, что он принял соборование. У изголовья стояли Анна Австрийская, Мария Медичи и Ришелье. Король готовился уйти, как положено христианину, и покаялся в грехах. Он признался жене, как сожалеет о том, что «не пожил с ней по-хорошему». Людовик плакал, а Анна сказала ему, что прощает его, и сумела вырвать обещание, что если он выздоровеет, то удалит от себя кардинала. Людовик пообещал. Мария Медичи, мечтавшая о бесчестии кардинала, уже собрала тех, кто арестовал бы его. Обсуждали: стоит ли заключить его в тюрьму, изгнать или зарезать[83]. Ожидание смерти короля, назначившего приемником своего брата Гастона Орлеанского, словно заставило врагов кардинала сбросить маски. Но они поторопились.
Против всех ожиданий Людовик поправился. Двум королевам пришлось еще долго терпеть присутствие первого министра. Если Анна отступила, то Мария оружия не сложила и подталкивала сына к тому, чтобы он порвал с Ришелье и выбрал мир с Испанией. Вечером 11 ноября 1630 г., в так называемый «День одураченных», Людовик XIII, который накануне собирался отправить Ришелье в опалу и передать дела Мишелю де Марийяку, объявил, что кардинал сохраняет все свои обязанности, а в немилость попадает происпанская партия католиков.
Эти драматические события, происходили сначала в Люксембургском дворце (резиденции Марии Медичи), а затем в небольшом Версальском замке (куда отправили королеву).
Анне не довелось ни видеть, ни участвовать в них. Лишь обычный триумвират находился на сцене. Не вмешиваясь в происходящее, королева оберегала себя от вспышек гнева Людовика, которые иначе могли обрушиться на нее. Ведь он сам как-то повторял, что после его кончины жена выйдет за его брата Гастона, нового правителя. Теперь, когда врагов Ришелье арестовали, королеву-мать заключили в Компьень (правда, потом она сбежала оттуда), Гастон скрылся за границей, Людовик желал быть уверенным, что Анна никак не свяжется с заговорщиками. Стоило ли опять вычистить из дома всех, кто внушал подозрение?
Все, кому Анна доверяла, тут же попали в категорию подозреваемых. В доме королевы царила невыносимая атмосфера. Ришелье дошел до того, что стал подозревать аптекаря Анны в том, что тот вместе с лекарствами, настойками и пилюлями, выписанными Ее Высочеству, передавал письма. За ним установили слежку. Измученная королева заявила во всеуслышание, что кардинал задумал поставить на место ее слуги одного из своих доверенных людей и поручил отравить ее. Пахло психозом. Ришелье повсюду видел врагов, королеве казалось, что она окружена шпионами. Какая была кардиналу выгода от убийства Анны Австрийской? – вопрошали здравомыслящие люди. Чтобы пристроить за короля свою племянницу мадам де Комбале, чтобы она стала женой Людовика, – отвечали сумасшедшие.
Королева обдумывала месть. Вопреки желанию Анны бегство Марии Медичи и Гастона Орлеанского за границу превратило ее в своего рода магнит, притягивающий ко двору врагов кардинала. Герцог Ларошфуко, будущий автор знаменитых «Максим», не любивший влиятельность Ришелье, признался: «Партия королевы – единственная, к которой по долгу чести мне подобает примкнуть»[84]. После «Дня одураченных» триумвират перестал существовать, однако отсутствие при дворе Марии Медичи никак не помогло королеве заполучить власть. Людовик правил вместе с Ришелье. Лишь они распоряжались судьбой королевства. Анне Австрийской доставалась только представительская роль, в политику ей было запрещено вмешиваться. Однако ненависть, которую она испытывала к кардиналу, продолжала привлекать тех, кого не устраивало владычество Ришелье.
Холодная война при дворе
Разрыв с матерью на какое-то время сблизил Людовика с женой. Король проявил добрую волю с расчетом заставить Анну забыть былые обиды: он велел вернуть герцогиню де Шеврёз. Это разрешение, наверное, стоило Людовику больших усилий, поскольку он был уверен, что эта женщина «наделала больше зла, чем кто-либо другой». Но Анна была так привязана к герцогине, что заявила: она предпочла бы никогда не иметь детей, но лишь бы не расставаться с подругой[85].
Даже Ришелье переменил отношение. Он дал добро на возвращение красавицы герцогини. Кардинал, считавший, что нельзя быть излишне самонадеянным, старался смягчить королеву. Прощение интриганки должно было этому поспособствовать. Кардинал успел внести немало раздоров в королевскую семью – изгнание Марии Медичи, размолвка с Гастоном Орлеанским – и теперь хотел помирить супругов. Но чтобы умилостивить Анну Австрийскую одного возвращения герцогини де Шеврёз было мало.
Анна не могла рассчитывать, что перемирие с мужем будет долгим. Семейная жизнь четы оказалась снова в опасности, поскольку Людовик XIII увлекся молоденькой придворной дамой по имени Мария де Отфор. К фарфоровому личику этой голубоглазой блондинки, как всем казалось, должно бы прилагаться чистое сердце. С влюбленностью короля было все понятно – он видел себя «рыцарем», который должен служить «своей даме», но не больше, – и Анна, по крайней мере поначалу, не испытывала особой ревности. Потом ее тревоги и вовсе поутихли. Людовик был влюблен, но не нарушал никаких приличий. Королева не пропускала праздников и развлечений, которые устраивал в Лувре монарх, еще недавно отличавшийся нелюдимостью. Теперь же он, стремясь угодить своей пассии, заставил себя изменить характер, полюбил веселиться и радовать придворных. Мало-помалу Анна успокоилась в отношении Марии де Отфор: та, кого она считала своей соперницей, вела себя со своим царственным воздыхателем насмешливо, если не сказать нагло. Она подшучивала над ним, подчас не по-доброму. Ирония судьбы: Мария сдружилась с королевой, стала ее подругой, и они вместе полюбили посмеиваться над слабостями Его Высочества[86].
Людовик XIII был не в восторге от того, что жена окружила себя интриганками. Анна Австрийская снова стала принимать в Лувре близких друзей, в том числе герцогиню де Шеврёз, тем самым, давая повод для новых подозрений. Из-за переписки с мадам дю Фаржи ее могли счесть соучастницей любого нынешнего или будущего заговора. Летом 1631 г. Ришелье перехватил множество писем, написанных фрейлиной, которую он заставил шпионить в доме королевы. Ни одно из этих посланий не было адресовано государыне, однако их содержание заставило предположить, что есть и другие письма, и в них обсуждалось что-то против Ришелье. Судя по ним, старый замысел еще был в силе – поженить Анну и Месье в случае смерти короля.
Людовик XIII и министр решили еще раз поговорить с королевой. В покои Анны Австрийской отправились Ришелье, хранитель печатей Шатонёф и два французских маршала. Теперь королева была не допрашиваемой, а скорее свидетельницей. Узнает ли она письма мадам Фаржи? Знала ли она, кто скрывался за вымышленными именами? Анна активно помогала установить подлинность писем и расшифровать их смысл. Она даже возмутилась, увидев, что опять пошли слухи о ее потенциальном браке с Гастоном. Со всей подобающей серьезностью Ришелье спросил у Анны, могла ли она за что-то на него жаловаться. Анна ловко ответила, что она не стала бы этого делать, «поскольку он ни разу не совершил того, что было бы ей не по нраву»[87]. На этом и остановились. Королева поняла, что она у кардинала «под колпаком», но в итоге, как писала Симона Бертьер, «сделала опрометчивый вывод, что ей ничего не грозит, и продолжила жить со всем размахом».
Опасность, грозящая королеве, заключалась не в компрометирующих письмах, которыми она обменивалась с прекрасными недоброжелательницами кардинала. Она таилась в куда более простой причине, начинавшей занимать все умы: королеву подозревали в бесплодии. Размолвка между супругами противоречила их мимолетному примирению на смертном одре. Дофина заждались! Но казалось, что чета распалась еще в 1631 г. Анна жила в страхе развода. Слухи о нем, причем довольно настойчивые, уже ходили и за границей, например в Риме и Мадриде. В моменты отчаяния Анна подумывала о том, чтобы уйти в монастырь, или представляла, как могла бы служить собственной родине, сменив на троне свою тетю, которая правила в испанских Нидерландах.
В другое время она пыталась взять себя в руки и скрыться от этого безумного кошмара. Никто не станет разводиться с инфантой. Анна полагала, что она может рассчитывать на родственников, на брата – могущественного короля Испании, на папу римского, который из уважения к Католическим королям не стал бы аннулировать женитьбу. Кроме того, Людовик XIII отличался религиозностью, слишком глубокой, чтобы попрать таинство брака. Анна Австрийская осталась королевой Франции и, в конце концов, подарила короне наследника. Вместе с королем она прошла курс лечения в Форж-лез-О, минеральные источники которого славились благотворным влиянием в излечении от бесплодия. Это давало надежду на рождение ребенка, раз уж заступничество святых, несмотря на упорные молитвы, ничем не помогло.
19 мая 1635 г. была объявлена война Испании. Ее давно ждали, но тем не менее она поколебала позиции Анны и огорчила ее. Если Ришелье предпочел бы выиграть время, то Людовик XIII торопился ввергнуть свои владения в конфликт, который обернется затяжной дуэлью между Францией и Габсбургами. В Лувре только и говорили, что о стратегии, военном деле и усилении союзных связей, дабы посрамить надменную Испанию и ее наводящие на всех ужас терции[88]. Анна, которую не любил муж и держал под колпаком кардинал, приходилась сестрой Филиппу IV, врагу страны, в которой она правила! Долг обязывал ее оставаться в первую очередь королевой Франции, но в душе она была испанской инфантой.
Первые сражения на границе испанских Нидерландов обернулись для Анны тяжким испытанием. Сразу на следующий день после объявления войны французская армия встретилась в льежских землях с испанским корпусом на юге от Юи. Узнав, что враг повержен, Париж возликовал. Людовик XIII тут же велел исполнить «Te Deum» во всех церквях королевства. Анна же не смогла сдержать слез. И все тут же поняли: в глубине души королева осталась испанкой. О чем же она плакала? О личном поражении брата Фердинанда Австрийского, так называемого кардинала-инфанта и признанного блестящего военачальника? О смерти соотечественников? Хоть она и оплакивала проигрыш испанцев, но при этом не сожалела, что французам досталась такая победа. Анна разрывалась на части. Людовик не понимал ее. В ярости он швырнул в огонь кипу бумаг, разбросанных на его рабочем столе. «Вот, – вскричал он, – пламя радости от победы над испанцами против горя королевы!»[89]
Первые военные успехи закончились следующим летом, когда три крепости в Пикардии сдались врагу практически без боя. Одно из укреплений, Корби, открыло испанцам путь в Париж. Парижане спешно покидали столицу, а страна по призыву короля собирала силы, чтобы избежать худшего. Никто из хроникеров не говорит о настроении в тот момент Анны Австрийской. Может, она сумела спрятать свою радость, лучше, чем год назад? Анна успела стать настоящей француженкой? Молчание тех, кто был в курсе луврской жизни, позволяет предположить, что королева как минимум официально разделяла страстное желание короля защитить французские владения. Людовик достойно принял вызов, не поддался панике, и, собрав новые войска, обратился за помощью к зажиточным гражданам и лично повел контрнаступление. 1 сентября он вышел из Парижа, полный решимости вернуть Корби. Людовик XIII был по натуре солдатом, и нигде ему не было так хорошо, как в походе.
Раз уж государь шел в бой, поставив на него все, что у него было, рискуя быть убитым или попасть в плен, то он должен был оставить столицу на кого-то из королевской семьи. По настоянию Ришелье Гастона Орлеанского назначили главнокомандующим пикардийской армии и отправили на север. Армия принца Конде, первого принца крови, потерпевшего поражение перед Долем, столицей испанской области Франш-Конте, сражалась в Бургундии, которая должна была не пропустить имперцев. Оставалась королева. До сих пор ей регентство не доверяли, но раз уж Мария Медичи сбежала за границу, то выхода не было. Людовику XIII пришлось назначить Анну. Судя по всему, его подтолкнул к этому Ришелье, желавший убедить общественное мнение в единодушии царской семьи.
Строго говоря, Анне поручили не собственно регентство, а управление Парижем. Столица чересчур уж жаждала вмешаться в дела государства. Обязанности Анны являлись по большей части чисто административными. Она просто заведовала текущими делами, не имея никаких правительственных полномочий. В 1620 г. король поручал жене куда больше.
Людовик XIII не доверял Анне. И скандал, разразившийся на следующий год, убедил его в собственной правоте.
Компрометирующая переписка
С самого отъезда во Францию Анна много переписывалась с родителями. Отцу она рассказывала, как тоскует по родине, насколько мрачен Лувр по сравнению с Прадо или Эскориалом, как однообразна придворная жизнь Парижа. Ей не хватало привычных с детства развлечений: костюмированных балов, комедий, корриды. Филипп III уговаривал Анну совершенствовать французский язык и радовался ее постепенным успехам. К небольшим подаркам, которые отец отправлял дочери, он иногда добавлял кое-какие карманные деньги. Письма были переполнены советами. Филипп писал, чтобы Анна общалась только с мужем и свитой, старалась не походить на свекровь, и выражал довольство, когда она сопровождала короля на охоту[90].
Католический король осуждал зятя за равнодушие к государственным делам, подозревал, что тот, возможно, человек слабый (поскольку зависит от матери) и даже незрелый. Кроме того, Филипп III просил, чтобы дочь повлияла на политику своей новой страны, так как это было бы выгодно Испании. Об этом свидетельствовали его советы. Как подобало католической принцессе, Анна поддерживала борьбу против протестантской ереси в королевстве нантского эдикта и стремилась сохранить мир и согласие между главными католическими державами: врагам Испании во Фландрии, Германии и Италии она старалась помешать заключить союз с Францией, которая очень этого желала. Королева регулярно обменивалась письмами со своими родителями-Габсбургами, родными братьями и кузенами в Вене – императором и его эрцгерцогами – а также тетушкой Изабеллой Кларой Евгенией, правившей испанскими Нидерландами, и поддерживала в христианском мире связи, необходимые для защиты интересов ее родных и святой Церкви[91].
Анна давно переписывалась с Мадридом, Брюсселем и Веной. Никто бы и не счел подозрительным обычный обмен письмами между родственниками, тем более естественный, когда Франция и Испания были союзницами или поддерживали хорошие отношения. Конечно, черный кабинет старался быть в курсе содержания этих посланий, а Ришелье, постоянно подсылавший своих шпионов в окружение королевы, перехватывал письма, которыми королева регулярно обменивалась с маркизом де Мирабель, испанским послом, Филиппом IV и кардиналом-инфантом. Министр снимал с них копии и клал их к своим материалам.
Кардинал и король не могли допустить, чтобы эта переписка продолжалась во время открытой войны между Францией и Испанией. И в начале лета 1637 г. агенты Ришелье на брюссельской почте перехватили одно из писем королевы Мирабелю. Кардинал с прошлого года подозревал Анну в том, что она поддерживала контакт с заграницей, но у него не было доказательств. Тайные встречи королевы и ее верного слуги Ла Порта усиливали эти догадки. Может, это «связной агент» Анны? И откуда писала она свои письма, ведь в Лувре агенты кардинала удвоили внимание? Перехваченное письмо казалось безобидным, но оно наводило на мысль: есть и другие послания. Ришелье давно уже решил разоблачить то, что казалось ему целой организацией.
Ла Порта арестовали и бросили в Бастилию. 13 августа король велел архиепископу парижскому и канцлеру Франции Пьеру Сегье провести обыск в монастыре Валь-де-Грас, где Анна обычно отдыхала после совершения религиозных обрядов[92]. Естественно, ею двигала типичная испанская набожность. При этом королева любила хоть чуть-чуть побыть вдали от придворной жизни и насладиться миром и одиночеством в монастыре, который она очень любила, украшала его на свои деньги и всячески одаривала своей милостью. Для нее были приготовлены комната и келья. Здесь не было назойливых шпионов и осведомителей, и Анна вкушала свободу, какой не знала в Лувре. Она дружила с монахинями, а настоятельница Луиза де Мийе, происходившая родом из Франш-Конте, разделяла ее любовь к Испании. Анна могла, ничего не боясь, написать послание на испанском языке и прочесть ответы от своих верных корреспондентов: братьев – короля Филиппа IV и кардинала-инфанта, первого министра Оливареса, дипломата Мирабель и герцогини де Шеврёз. Осторожность не была лишней, и Анна просила расшифровывать письма верного Ла Порта, использовавшего, среди прочего, симпатические чернила. Так Валь-де-Грас, предназначенный для духовных практик, стал самым прозаичным почтовым ящиком.
Чтобы попасть в Мадрид, тайная корреспонденция королевы проходила через английское посольство в Париже. Письма, отправленные в Лондон, переадресовывались в Брюссель, принадлежавший испанцам, а оттуда их доставляли в Кастилию. Для осуществления всех этих пересылок в Лотарингию или Тур (где томилась герцогиня де Шеврёз) требовалось немало сообщников и искусных гонцов.
Король приказал обыскать монастырь не из-за случайной находки или внезапного разоблачения. С прошлого года Ришелье питал уверенность, что не одно религиозное рвение приводило Анну Австрийскую к бенедиктинкам, и что Валь-де-Грас – это самое сердце паутины. Старательные люди кардинала не пропустили ни одного уголка: они залезли везде и допросили всех, начиная с настоятельницы. Обыск не дал абсолютно ничего: не было найдено ни одного письма, ни одного свидетельства переписки.
В тот же день, 13 августа, канцлер Сегье по приказу Людовика отправился в Шантийи к королеве и стал настойчиво задавать вопросы. Анна отвечала надменно и настаивала, что она с мадам де Шеврёз не переписывалась. Сегье угрожал открыть ее шкатулки и обыскать шкафчики, чтобы обнаружить письма, адресованные и другим корреспондентам. Анна была готова держать пари, что он ничего не найдет. Тогда Сегье помахал перед нею письмом, предназначенным для кардинала-инфанта через Мирабеля – письмо к врагу! Королева отпрянула и стала снова уверять, что эта переписка не имела значения и не составляла государственного преступления. Ла Порт в своих «Мемуарах» утверждал, что канцлер якобы сунул руку Анне за корсаж, пытаясь отнять записку, которую она хотела спрятать. Но сам Ла Порт при этом не присутствовал.
Никогда, подумала Анна Австрийская, ни одна королева не подвергалась такому унижению. Вокруг нее постоянно шептались: брак скоро распадется, и она получит развод, ее заключат в крепость или сошлют в какой-нибудь провинциальный монастырь. В отчаянии Анна попросила принца де Марсийака похитить ее и препроводить в Брюссель, где она была бы в безопасности. Ларошфуко признавался, что в то время он был в том возрасте, «когда жадно рвутся к делам необыкновенным и поразительным». Пожалуй, он несколько буквально понял письмо, написанное расстроенной женщиной[93]. Ничего совсем уж серьезного Анне Австрийской не угрожало.
Следователям отказы Анны показались неубедительными. Дело в том, что Ришелье затеял расследование, закрыть которое он уже не мог, поскольку «у него в руках, – как пишет Симона Бертьер, – был конец клубка, распутать который мог только он сам – либо король». Королевство было в состоянии войны, французская королева себя скомпрометировала, король жаждал знать правду, даже если для этого надо вывести на чистую воду собственную жену! В Бастилии Ла Порта раз за разом допрашивали, но он ничего не сказал. Его пытались то подкупить, то запугать, но все было напрасно.
Королева, уверенная, что Ришелье заранее знал о ее шагах, потребовала очной ставки: она пригласила кардинала к себе. Анна приготовилась к разоблачениям. Ришелье явился к ней 17 августа в сопровождении двух государственных секретарей[94].
Признания королевы
Ришелье не стал выступать перед королевой заурядным, терпеливым следователем. Он обрушил на подозреваемую шквал вопросов, несколько раз прибегал к запугиваниям и один раз к шантажу. Кардинал объявил, что принес от короля известие: пусть Ее Величество признается во всем и получит прощение! В который раз Людовик не стал конфликтовать с женой самостоятельно и передал всю грязную работу кардиналу. Тот расписал будущую сцену в подробностях. Анна должна признать, что переписывалась со своим братом доном Фернандо, кардиналом-инфантом, правителем Нидерландов, выдающимся полководцем и непримиримым врагом Франции. Но королева стояла на своем: письма эти – несущественны.
«Это еще не все, мадам!» – спокойно, неумолимо и настойчиво ответил кардинал.
Да, согласилась Анна, она писала и во Францию. «Это еще не все, мадам!» То была сущая пытка. Анна попросила государственных секретарей выйти, чтобы рядом с ней остался лишь суровый исповедник. Королева вновь была один на один с беспощадным кардиналом. Заранее ища оправдание своим совершенным ошибкам, Анна списала все на унизительную ситуацию, в которую ее поставили при дворе. Да, в этих письмах она выразила свое неудовольствие и написала маркизу Мирабелю в «выражениях, которые королю не понравятся».
«Это еще не все, мадам!» Мало-помалу Анна, рыдая, уступила. Она созналась, что ее келья в Валь-де-Грас использовалась для написания писем, что Ла Порт – один из ее посланников, что английская дипломатическая почта, циркулирующая между Парижем и Брюсселем, помогла избежать слежки. В завершении королева сказала, что в письмах были и политические сведения. Она предупредила своих мадридских адресатов, что в Испанию собирается один французский дипломат и «надо держать ухо востро и остерегаться его замыслов». Она сказала испанскому послу, что Франция старалась сблизиться с герцогом Лотарингским, который до настоящего момента являлся союзником Испании, и что «надо быть настороже». Анна не раз слышала, что Англия хочет заключить с Францией союз в ущерб Испании, и призналась, что хотела бы этому помешать[95].
Анна была разбита. Перед своим исповедником она покаялась за то, что «принесла все эти клятвы, противоречащие тому, в чем она созналась». Ришелье напустил на себя сочувствующий вид. Он заверил ее – ведь он был единственным свидетелем, – что она еще будет его благодарить.
Но на этом все еще не закончилось. Королеве надо было изложить признания письменно и адресовать королю, который был даже холоднее обычного. Снова Анне пришлось унизиться. Она подписала длинный текст, где перечисляла все свои ошибки. Этот документ, заранее подготовленный министром, представлял собой не признания из тех, что сообщали в тихом кабинете тет-а-тет, а бумагу публичного, официального характера, в своей категоричности напоминающей королевский указ. Он напоминал об обещанном Людовиком прощении, «лишь бы только мы [т.е. королева] признали чистосердечно тайные сношения, которые могли бы иметь место без ведома или вопреки воле Его Высочества, как в самом королевстве, так и за его пределами».
Дальше больше: «Мы, Анна, милостью Божьей, королева Франции и Наварры, признаемся по собственному выбору, без какого-либо принуждения, в том, что многократно писали господину кардиналу-инфанту нашему брату и маркизу де Мирабелю, Джербьеру – одному англичанину, живущему во Фландрии, – и часто получали письма от них». Дальше шел список ошибок, которые Анна обещала впредь не повторять.
Людовик XIII подписал документ, тем самым заверив его подлинность и обозначив основания для прощения. «Ознакомившись с откровенным признанием, которое наша дорогая супруга королева сделала в отношении того, что, возможно, было нам неугодно в ее поведении в течение некоторого времени, и, будучи уверенными в том, что отныне она будет вести себя так, как велит ее долг в отношении нас и Государства, мы объявляем, что полностью забываем то, что было в прошлом, и желаем жить с ней как подобает жить доброму королю и доброму мужу с его женой». Людовик счел необходимым уточнить, какие ограничения впредь накладывались на королеву: запрет на частную переписку, особенно с мадам де Шеврёз, запрет посещать какой бы то ни было монастырь. Анне пришлось подписаться еще раз, под обещанием повиноваться: «Я обещаю королю свято следовать вышеизложенному».
Никогда еще королева Франции не терпела таких страданий. Но надо признать и то, что никогда она еще не осмеливалась мешать политике собственного мужа. Получая от Анны подписанное признание в публичной форме, король желал понизить ее статус в королевстве и за границей. Отныне ни один противник правительства или враг Франции не смог бы провернуть свои дела через Анну Австрийскую. Королева, считающаяся, со всеми поправками, разоблаченными агентом секретных служб, была потеряна для всех, кто надеялся потеснить кардинала и ждал если не победы Испании, то хотя бы возвращения Франции в лоно католицизма.
Больше, чем предательство: ошибка
Совершила ли Анна предательство? Казалось, именно в этом уличали ее собственные признания: она подтвердила, что не просто в разгар войны переписывалась с врагами королевства, а еще предупредила испанскую корону о дипломатических виражах Франции в отношении Лотарингии и Англии, которые до сих пор состояли в союзе с Мадридом. Впрочем, она не выдала ни одной секретной стратегии, которые готовили для наступления королевских армий, ничего не говорила о том, есть ли у Франции материальные ресурсы для продолжения войны или наоборот.
«Вздор!», – писал главный испанский министр Оливарес, когда посол Франции в Мадриде заговорил о корреспонденции с Анной Австрийской. Испания располагала, признал он, сетью осведомителей, которая работала достаточно успешно, чтобы иметь возможность не привлекать сестру Филиппа IV. Компрометировать королеву, рисковать ее разоблачением, потенциальным осуждением и разводом, казалось нелепым, учитывая, какие скромные результаты сулило такое предприятие. Король Испании не настолько слаб или жесток, чтобы ставить сестру в неприятное положение. Впрочем, как все знали, власть во Франции принадлежала только королю и кардиналу, Анна же не играла никакой роли, ей не доверяли. Никогда, полагал Оливарес, Испания не стала бы искать конфиденциальные сведения, пользуясь посредничеством французской королевы.
Отрицая любое участие Анны Австрийской, испанский министр играл положенную ему роль. Никому не запрещалось думать, что Мадрид не придавал особого значения посланиям из Валь-де-Грас, поскольку те были совершенно безобидны. Действительно ли Анна, когда сообщала о своих страхах в связи со сближением с Англией или военной оккупацией Лотарингии, рассказывала засекреченные дипломатические и военные сведения? Она больше опасалась, чтобы не были разрушены курьерские линии, проходившие через английское посольство в Брюсселе, при помощи которых она общалась с герцогиней де Шеврёз в Нанси.
Шпионка из Анны Австрийской была никакая. Она не была виновна в сотрудничестве с врагами. Сведения, которые она сообщила, совершенно ничего не значили. Королева не участвовала в политических решениях короля и кардинала. Ее глубокая вера, а также верность родине, диктовали ей мнение, открыто выражать которое Анна опасалась: «истинный католик» ввязался в союзы с протестантскими государствами, чтобы воевать против Католического короля. Ошибка Анны Австрийской заключалась в том, что в разгар войны она поделилась своими взглядами с врагами Франции. Королева примыкала к партии католиков, которая политически погибла после «Дня одураченных», но тайные ее сторонники еще существовали. Людовик XIII порвал с ней в 1630 г., но Анна сохранила верность отвергнутому королем идеалу.
Ее письма свидетельствовали, насколько сильно она привязана к родным. И все-таки королева не совершала предательства: ее оплошность состояла в том, что, в противовес политике Людовика, она мечтала о мире и победе католичества над ересью. Если бы шпионы Ришелье не обнаружили ее эпистолярных экзерсисов, она, возможно, рисковала бы в один прекрасный день стать опорой для внутренней оппозиции или для Мадрида.
Анну Австрийскую ни разу не допустили к участию в государственных делах наравне с мужем. Она неудачно попыталась выразить недовольство. Анна словно прикрывала собой меч в руках короля. Стоило ей отойти, как меч обнажился против врага.
Ребенок-чудо
Было ли у Анны Австрийской будущее? Людовик простил ее, но ничего не забыл. По его приказу окружение королевы подверглось новой чистке. Всех, чьи имена упоминались в письмах, заставили покинуть Лувр и никогда больше не общаться с государыней. Анне же отныне были закрыты двери Валь-де-Грас. Королева поняла, что семья не способна поддержать ее по-настоящему. Больше она не рассчитывала ни на Оливареса, ни на Филиппа IV. В войне против Франции Габсбург даже не думал как-то помочь сестре, даже не догадываясь хотя бы поинтересоваться, как к ней относились.
В этой атмосфере недостатка доброты и нежности королева, у которой до сих пор не было ребенка, могла рассчитывать только на мужа. Злопамятного, неразговорчивого, нелюбимого. И все же ее судьба зависела только от него. Анну и Людовика не связывало ничего. Лишь рождение наследника могло бы как-то сгладить их разногласия. Осенью 1637 г. король снова разделил ложе с женой.
Обоим супругам уже минуло 36. Время поджимало, здоровье короля оставалось все таким же хрупким. Вскоре по кулуарам Лувра поползла новость, она вышла на улицы и площади, добралась до провинции, о ней узнали за границей: королева ждала ребенка. Стоял январь 1638 г. Милостью провидения или благодаря талантам королевских медиков, сумевших укрепить здоровье четы, беременность Анны, состоявшаяся спустя девятнадцать лет супружеской жизни, была самым желанным событием во время правления Людовика, надеждой королевства; она сулила полное примирение мужа и жены. Становясь матерью, Анна отныне превращалась в королеву в полном смысле слова. Чтобы выносить ребенка, ей пришлось забыть о том суровом обращении, какое ей пришлось вытерпеть из-за собственной неосмотрительности. Тогда она чуть не потеряла все: теперь она возвращала себе свои права.
Однако Людовика XIII счастье не заставило отказаться от привычной злопамятности. Хотя он был доволен, что станет отцом, его раздражало внимание, которое оказывали его беременной жене, ему не нравилось женское окружение Анны и казалось, что родов приходилось ждать слишком долго. 19 августа его пригласили в Сен-Жермен, чтобы помогать при родах. Почему? «Мне было неприятно, что королева родит лишь для того, чтобы отправить меня в Пикардию или еще куда-нибудь: лишь бы был подальше от всех этих женщин, а где – не важно». Накануне столь долгожданного дня жизнь Анны оказалась в опасности из-за родовых мук. Людовика, казалось, это вовсе не тронуло. Плачущей Марии де Отфор он заявил, что не понимает, о чем она печалится: «Я был бы вполне доволен, если спасут ребенка; а вам, мадам, представят повод скорбеть о матери»[96].
Дофин! Родившийся 5 сентября 1638 г. Луи, будущий Людовик XIV, которого французы тут же прозвали Дьедоне (т.е. Богоданный), заставил обычно мрачного короля показать всем свою радость. Надо ли было «просить его, чтобы он подошел [к королеве] и поцеловал ее», как позже вспоминала мадам де Монтвилль? Большинство очевидцев рассказывали о сдержанных чувствах Людовика, который остался верен себе и резко сказал венецианскому посланнику: «Вот чудо, свершившееся по воле Господа Бога. Как ни чудом назвать этого прекрасного ребенка, появившегося спустя двадцать два года брака и четыре прискорбных выкидыша у моей супруги»[97].
Когда схлынула первая волна радости, публичная жизнь напомнила о своих правах. Столь долгожданное рождение не сумело принести семье согласия. Сразу после родов жены Людовик XIII занялся перестройкой ее особняка. Тех, кто стал выхаживать младенца – то есть воспитательницу и няню, – король выбрал сам. По мере того, как инфант подрастал, отец назначал ему наставников, не советуясь с королевой.
Из Анны получилась хорошая мать. Современники и биографы в один голос заверяли, что рождение дофина ее преобразило. Она очень любила сына, посвятила ему всю себя. Ей довелось проявить материнскую нежность и во второй раз: в 1640 г. она подарила жизнь второму сыну, названному Филиппом. Если юные принцы выживут, то о судьбе трона можно было не беспокоиться. Во всем королевстве, несмотря на бесконечную войну и ту череду несчастий, что она несла, народ ликовал.
Король, казалось, был счастлив. Но он не хотел делиться им с женой и признавать ее заслуги. Примирение не состоялось. Интриги, в которые ее еще недавно пытались впутать, больше не занимали ее, все интересы матери отныне заключались в сыновьях. Любовь, которую Анна недополучила в юности от родителей, в которой ей отказывал муж, при виде мальчиков переполняла ее до краев. Вечно больной Людовик XIII завидовал безмятежному счастью, расцветшему в его жене. Король мучил Анну то своим скверным настроением, то обидными остротами. Когда в ноябре 1641 г. в Брюсселе скончался кардинал-инфант, Людовик не потрудился как-то подготовить жену к печальному известию. «Ваш брат умер», – вот все, что он сказал.
Его снедали подозрения, и он вечно подсылал к Анне шпионов. Теперь Анна Австрийская, окончательно устав от заграничной переписки, больше не радовалась испанским успехам. Но Людовик всегда находил, чем помучить жену. Из-за болезненной мнительности он страшно разобиделся, когда дофин, которому было всего два года, расплакался, увидев суровое лицо и грозные усы отца. Король объявил, что сын лил слезы из-за нелюбви к нему, и приучила его к этому мать. «Мой сын, – заявил он ей однажды, – не переносит моего вида. Какое странное воспитание. Но теперь-то я наведу порядок»[98]. Анну удручали эти туманные угрозы отобрать ребенка.
И чтобы быть готовой к такому повороту событий, она стала искать союзника. Думала ли она в тот момент о том, чтобы заключить союз с Ришелье или хотя бы заручиться его помощью? Новый заговор против кардинала предоставил ей такую возможность.
Неисправимая заговорщица
У Ришелье всегда хватало врагов, а заговоры против его власти происходили до самой его смерти. В заговоре, который готовил в 1641 г. в Седане граф де Суассон, принц крови, собираясь низложить кардинала в пользу испанских интересов, королева не участвовала. Но зато в следующем году она знала о готовящемся заговоре Сен-Мара. Красавчик фаворит Людовика XIII, сменивший Марию де Отфор в сердце государя, решил, что у него хватит сил сбросить кардинала-министра, и полагал, что займет его место, когда тот умрет. В заговоре, как всегда, приняли участие смутьяны вроде Гастона Орлеанского и герцога де Буйона. Сен-Мар также получил финансовую и военную помощь Испании, которая до сих пор вела войну с французским королевством. 13 марта был подписан секретный договор с министром Оливаресом, где стороны обещали в случае успеха немедленно заключить мир и обменяться захваченными городами.
По пути из Лиона в Нарбонн Ришелье почувствовал, что против него готовился заговор. Шпионы приносили ему сведения недостоверные, путанные, но тревожные. Министр опасался погибнуть насильственной смертью, впрочем, малярия и абсцесс одной из рук грозили, что его жизнь закончится по естественной причине. Отправляясь на юг Франции, Ришелье продиктовал свою последнюю волю.
Королева, которую всегда считали врагом кардинала, узнала о заговоре от свояка Гастона Орлеанского. Анна повторила прошлые ошибки: поддержала этот замысел и даже пригласила участвовать в нем своего верного друга принца де Марсийака. Она чуть не подписала неосмотрительно гербовые бумаги, которые люди Сен-Мара подготовили для показа части войск. Единственная предпринятая королевой предосторожность – она попросила Месье и Сен-Мара не разглашать ее участие в заговоре. В конце концов она узнала о договоре, который мятежники собирались подписать с Испанией[99]. Королева Франции, мать наследника королевства снова уступила место отчаянной заговорщице.
11 июня в Арле Ришелье получил доказательства заговора, ему в руки попал договор, подписанный Оливаресом. На следующий день все стало известно королю, и он приказал арестовать Сен-Мара и его соучастников. Допросили Гастона. Он признался во всем, рассказал все про Сен-Мара, но, верный слову, не выдал королеву. Удалось ли единственным осведомителям кардинала предоставить ему не только доказательства заговора и список участников, но и договор с Мадридом? Современники были уверены, что утечка информации произошла из-за какого-то влиятельного человека, и многие подозревали королеву.
Сегодня, кажется, ни у кого нет сомнений, что разоблачение заговора произошло из-за Анны Австрийской. Но нет единого мнения о причинах этого. Одни полагают, что Анну отпугнула несостоятельность устроителей. Заговор стремительно приближался к провалу: королева оказалась бы скомпрометирована. Лучше уж свернуть его подобру-поздорову. Другие считают, что Анна хотела сохранить те возможности, что сулило ей будущее. Хроническая болезнь короля не оставляла сомнений в его скорой кончине: маячило регентство. Мудрость подсказывала беречь кардинала (впрочем, он тоже был плох), который обязательно бы помог сохранить права дофина. Есть и третье объяснение: королева предупредила кардинала, чтобы получить от него взамен услугу. Но какую?
Весной 1642 г. Людовик XIII приказал жене оставить сыновей в Сен-Жермене, а самой уехать в Прованс. Анна испугалась расставания с мальчиками, ведь король хотел, чтобы воспитанием занимался только он один. Под предлогом болезни королева отсрочила отъезд и задумалась, как бы вообще избавиться от такой напасти. Она отправила к Ришелье посланника, чтобы через него упросить кардинала походатайствовать перед Его Высочеством, чтобы ей оставили детей. Поначалу кардинал ничего не обещал и, наоборот, советовал Анне покориться мужу. После двух попыток, 7 и 9 июня королева написала «клятву верности кардиналу», где убеждала, что «остается твердо верна всем его интересам и никогда не изменит им, понимая, что [Ришелье] так много сделал для нее и никогда ее не предаст». 13 числа Анне сообщили, что Людовик позволил ей остаться в Сен-Жермене вместе с сыновьями. Она поблагодарила кардинала за доброе дело и пообещала… вечно быть его должницей.
Гипотеза о том, что испанский договор против кардинала доставила заинтересованным лицам сама королева, не лишена белых пятен. Если посмотреть на календарь, возникает вопрос: было ли у гонцов достаточно времени, чтобы преодолеть сотни лье от Парижа до Прованса и выполнить такое задание? Ведь Людовик позволил Анне не покидать Сен-Жермен еще до того, как она спасла Ришелье. По каким причинам решил он уступить жене? Если он знал о существовании договора, то неужели стал бы оказывать такую милость той, что постоянно впутывается в интриги? Успех Ришелье заставляет предположить, что кардинал сознательно не стал сообщать королю о соучастии его собственной супруги.
Чувствовалось, что скоро правление Людовика XIII закончится; король ощущал, что и у него, и у кардинала стремительно иссякали силы; казалось, что все карты перемешались. Людовик и Ришелье перестали находить общий язык. Король высказывал массу претензий к первому министру! А тот упрямо предлагал государю самые разные меры для предотвращения потенциальных заговоров! Доверие, дружба между королем и кардиналом закончились. Они перестали встречаться, не разговаривали[100].
Зато сблизилась с министром Анна Австрийская. Если король умрет первым, то королева будет нужна Ришелье не меньше, чем он ей, как минимум для того, чтобы ему не пришло в голову поставить рядом с малолетним королем кого-то, кроме Анны. Гастон Орлеанский слишком скомпрометировал себя частыми заговорами и был вне игры: король официально объявил, что он лишает брата всех государственных полномочий в вопросе регентства. И Ришелье, забыв о расшатанном здоровье, решился претендовать сам на эту должность. Он немедленно взялся за дело и принялся убирать все препятствия на пути к цели: запретил парижскому парламенту вмешиваться в государственные дела, попытался напоминать о средневековом порядке, чтобы приучить всех к мысли о том, что в перспективе регентство достанется министру[101]. Содействие Анны Австрийской было неоценимым: под ее чисто номинальным началом он прибрал к рукам власть.
Так осенью 1642 г. случилось немыслимое: Анна Австрийская и кардинал, замолчавший о роли королевы в заговоре Сен-Мара, стали союзниками. Они продемонстрировали всем, что былые обиды начисто позабыты: 30 октября 1642 г. королева согласилась посетить Рюэй, где министр устроил ей пышный прием. Однако провидению было угодно, чтобы кардинал ушел в могилу раньше короля: 4 декабря того же года Ришелье не стало. Королеве, которая «не была сильно удручена», теперь нужно было самостоятельно убедить короля поручить ей регентство.
Вечно опекаемая
Итак, получила ли Анна в ближайшее время королевскую власть? Разделила ли верховные полномочия со своим малолетним сыном та, что в прошлом запросто уступала дела Марии Медичи, запутывалась в придворных интригах и сомнительных заговорах, наконец-то, пережив мужа? Закон предусматривал порядок управления при несовершеннолетнем короле. Но однозначных правил не было, и в зависимости от обстоятельств, регентство могло достаться брату, вдове либо кузену покойного короля. Могла ли Анна надеяться, что Людовик оставил распоряжение в ее пользу? Месье официально лишили прав, кардинал умер. Кто был способен оспаривать регентство у матери будущего Людовика XIV?
Знатоки не ошиблись: в Париже Анну «любили все, от мала до велика», и ее двор в Сен-Жермене неуклонно разрастался. Регентство обещало быть долгим, «ее считали своим солнцем все; особенно те, кто надеялся урвать себе какую-нибудь выгоду»[102]. Но согласие короля еще нужно было получить. В феврале 1643 г. от Людовика XIII осталась лишь тень. Болезнь терзала тело, давно уже подводившее хозяина: приступы лихорадки, рвота, боли в животе, разлитие желчи случались каждый день. Но, несмотря на слабость и ожидание худшего, Людовик намеревался править до самого конца. Близость смерти не заставила его примириться с королевой. Он уже давно не питал к ней ни капли нежности, хотя она и подарила ему двух сыновей. Королю была от природы свойственна подозрительность, а с ней и недоверие. Легкомысленная, оставшаяся в душе испанкой, непредсказуемая, любящая интриги, внушаемая, склонная поддаваться самому дурному влиянию Анна, в глазах Людовика, совершенно не годилась для управления королевством, до сих пор воевавшим с Габсбургами. Среди прочего, король подозревал жену в желании подписать с ее братом Филиппом IV мир на условиях, неблагоприятных для Франции.
Чтобы ослабить предубеждения мужа, Анна нуждалась в союзниках. Государственные секретари, «имевшие вес во всех вопросах», дали «надежду, что удастся убедить короля учредить регентство». Кроме того, королева должна была уговорить Людовика помириться с нею. Она отправила к нему господина де Шавиньи, поручив ему от ее имени «попросить прощения за все, что могло быть неугодно ему» и убедить, что она не причастна к интригам былых времен. Но монарх спокойно ответил Шавиньи: «В моем нынешнем положении я должен ее простить, но я не обязан ей верить»[103].
Умирающий Людовик ничего не забыл. Хотя время от времени он дарил жене одно-два ласковых слова, супруги так и не смогли возродить отношения. Не имея ни капли уверенности в будущем, Анна ждала доброй воли Его Величества. Тот уже был прикован к постели, но не выпускал бразды правления из рук и предложил разделить регентство между Месье и королевой.
20 апреля он, наконец-то, назначил Анну Австрийскую регентом, но окружил ее советом из шести человек (кроме королевы, туда входил Месье, – отныне главный военачальник королевства – принц Конде, Мазарини, канцлер Сегье, господа Бутийе и де Шавиньи), где решения принимались большинством голосов, но решающего голоса не имел никто. Королеве власть досталась в ограниченном объеме, почти сведенном к представительской роли. Известно, что, стоя одной ногой в могиле, Людовик стремился обеспечить преемственность своей политики посредством назначения четырех государственных секретарей.
Анна Австрийская со слезами гнева встретила решение короля. Она не получила полноценного регентства. Видимо, Людовик, столь ревностно оберегавший власть, пока был жив, не хотел отдавать ее жене даже после смерти. Всегда считалось, что Анна – это несмышленыш, что ее надо вечно опекать, что за этой принцессой надо постоянно следить, надо руководить ею, направлять. Чтобы парировать удар, она поторопилась составить и отнести к нотариусу тайное опротестование, где говорилось, что она подписала королевский указ против своей воли. Людовик скончался 14 мая 1643 г. после затяжной агонии.
Не прошло и четырех дней, как парламент Парижа на заседании от 18 числа отменил последнюю волю покойного короля. Регентша получила «право свободно безусловно и полно распоряжаться делами королевства», не будучи обязанной подчиняться «большинству голосов». Месье, а также принц Конде уже дали согласие и выразили надежду «воздействовать на эту неопытную женщину, производящую впечатление беспечной»[104]. Аналогично думали придворные и государственные мужи: Людовик никогда не допускал королеву к делам, она связывалась с мелкими интрижками, годами прозябала в тени кардинала Ришелье, и вдруг стала регентшей. Значит, ею будет легко крутить.
А вечером 18 мая Анна Австрийская, согласно воле усопшего короля, к изумлению Двора и всего города объявила первым министром Мазарини. У Ришелье был преемник, и регентша, чтобы справиться с государственными делами, нуждалась в твердой руке. Раньше она вела игру против собственного мужа. Теперь же она в большой политике и будет ревностно защищать интересы сына. Вместе с Мазарини она, наконец-то, от имени малолетнего Людовика XIV, прибрала к рукам власть, к которой не подпускал ее покойный король. Родилась новая Анна Австрийская.
Фердинанд IV и Мария Каролина Австрийская (1768–1814) Огонь и вода
«Во всем королевстве Фердинанд меньше всех знает, что творится в государственных делах».
Шарль Алькиэ«Страной правит королева Неаполитанская, и ей помогает советами мой друг генерал Актон».
Лорд ГамильтонТакие непохожие!
Трудно представить более неподходящую пару. Фердинанд (1751–1825) – апатичный, необразованный, безалаберный, беспечный раб собственных страстей. Пошлые вкусы подчас толкали его на недостойные монарха поступки. Размышлениями Фердинанд себя не утруждал, обязанности короля игнорировал. Он производил впечатление вечного подростка. Ему нравилось общество простолюдинов, их нехитрые развлечения, он охотно убивал с ними время. А Мария Каролина (1752–1814) отличалась решительностью, своеволием, кипучей энергией и убежденностью, что она создана, чтобы править.
Характеры у супругов были совершенно несхожие, но вместе пара смотрелась хорошо. Высокий, стройный, голубоглазый блондин Фердинанд относился к разряду красивых мужчин. Черты лица он имел правильные, только вот из-за длинного носа заработал прозвище «Re Nasone» (Носатый король). Мария Каролина не уступала ему. У нее были красивая фигура, величественная и одновременно грациозная походка, прозрачная кожа, светло-русые волосы, нежное лицо, несмотря на рот: несколько надменный, но обнаруживающий «отличные белые, ровные зубы». К тому же она была «достаточно полная, чтобы не казаться тощей»[105]. На знаменитом портрете четы в окружении детей, написанном в 1783 г. Ангеликой Кауффман[106], мы видим очень приятное семейство; несхожесть в характерах не показана.
Потомок Людовика XIV Фердинанд Бурбонский приходился сыном дону Карлосу, правившему Неаполем под именем Карла VII (1734–1759), а затем Испанией под именем Карла III (1759–1788). Фердинанд родился в 1751 г. Ему было 8 лет, когда отца пригласили на мадридский трон: сменив его на престоле, он стал самым юным королем Неаполя. От его имени правил регентский совет, но малолетнего монарха к руководству страной не готовили. Глава Совета – тосканец Тануччи, один из самых видных государственных деятелей Италии XVIII в. – не намеревался делить огромную власть с коронованным подростком и старался не давать ему образования. А наставник Фердинанда принц Сан-Никандро занимался исключительно физическим развитием воспитанника при помощи постоянных упражнений и совершенно не занимался интеллектуальной подготовкой. Юный король, получивший мало пользы от преподанных уроков, проводил время за верховой ездой, охотой и рыбалкой, посещал представления и злачные места. Из Фердинанда сговорились сделать короля-бездельника, который плясал бы под дудку властного и честолюбивого министра. Ему было достаточно «влачить жалкое существование день за днем, изображать императора Иосифа II, приходившегося ему шурином, и думать о том, как убить время». По характеру, который потрудились воспитать в Фердинанде наставники, он был склонен к тем нехитрым радостям, что нравились простым неаполитанцам. В народе короля всегда любили. Фердинанд с удовольствием разговаривал на столичном диалекте и считался другом лаццарони[107]. Его так и называли – король лаццарони (Re lazzarone).
Полную его противоположность являла не позволявшая себе ничего забыть Мария Каролина, дочь императрицы Марии Терезии. Она гордилась, что происходила из блистательного дома Габсбургов-Лотарингских, что ее мать – великая императрица Мария Терезия, брат – император Иосиф I, а сестра – французская королева Мария Антуанетта. Если Фердинанда, отчаянно не любившего учиться, устраивали самые заурядные занятия, то Мария Каролина, получившая, в отличие от него, немалое образование, была женщиной утонченной, умной и воспитанной. Он питал равнодушие к государственным делам, а у нее был к ним вкус; он был лишен инициативы, у нее хватало честолюбия на двоих.
В те времена браки устраивали по расчету. Юному Фердинанду задумали дать в жены принцессу из Габсбургов. Выбрали эрцгерцогиню Йоанну, но та скоропостижно скончалась от оспы. Тогда присмотрели ее сестру Йозефу, отличавшуюся замечательной красотой, несмотря на свои 13 лет. Посватали, стали готовить свадьбу, но она тоже умерла. Однако в «курятнике» Марии Терезии, родившей одиннадцать дочерей[108], еще оставались невесты. «Вообще-то я могу предложить вам двоих», – написала императрица отцу Фердинанда. Стали выбирать между Марией Амалией и Марией Каролиной. Отправили их портреты в Неаполь. Выбор пал на Марию Каролину.
Хорошо хоть, пристроили ее не за старика: будущие супруги были ровесниками. Нравились ли они друг другу? Во время сватовства показывали портреты, которые часто были приукрашены и не точно отражали действительность, а рассказы о распрекрасном нраве жениха или невесты были нередко далеки от истины. Впрочем, невеста Фердинанда была достойной и интересной девушкой. Юный король являлся, как уже сказано, психологически незрелым, откровенно неотесанным и вспыльчивым парнем. Поговаривали, что он был склонен к жестокости. Не стоило сильно ожидать супружеского счастья. Невзирая на материнские чувства, Мария Терезия пожертвовала дочь в угоду политике. Эрцгерцогиня себе не принадлежала.
Свадьбу сыграли 12 мая 1768 г. Муж показался Марии Каролине отталкивающим: хлыщеватым, наивным и неуклюжим; но по характеру куда более симпатичным, чем ей рассказывали. Она признала, что не любит его, но со временем начнет питать теплые чувства. Фердинанда же, напротив, восхитила эта красавица, только-только созревшая, живая, импульсивная, уверенная в себе, в которой «сила являла контраст настоящим отсутствием инициативы». Он полагал, что она влюблена в него, и это было ему приятно.
Юная королева тут же лишилась своего австрийского окружения. Она приехала в Неаполь, вооруженная лишь бесценными советами матери. Императрица научила дочь, как достичь супружеского счастья: быть верной и добродетельной, ведь без добронравия «не будет счастья и спокойствия нигде, особенно в браке», всегда стремиться к доверию с мужем: «Вам известно, что женщины подчиняются мужьям, их воле и даже их причудам, если те невинны». В управлении государством Мария Каролина должна оставаться в тени короля! «Если он захочет… сообщить вам о делах, поговорить о них и даже посоветоваться, держитесь как можно тише»[109]. Молоденькая Мария Каролина была очень привязана к матери, но, как и сестра Мария Антуанетта, постоянно получала выговоры от императрицы – за то, что она ни во что не ставила ее поучения. У нее было несколько любовников, она держала мужа под каблуком и правила страной вместе с ним, а нередко и вместо него.
Не странно ли, что Мария Терезия советовала дочери, чтобы та воздерживалась от государственных дел, но при этом прописала в брачном контракте ее политическую роль? Мария Каролина должна была войти в состав Государственного совета, когда родит наследника мужского пола. Этого момента ей пришлось ждать семь лет, но она с самого начала заставила короля лаццарони уважать себя. Так открылся путь к совместному управлению неаполитанским королевством.
«Бумажный король»
Фердинанд любил жену. У него были какие-то связи со служанками, но насколько известно, титулованных любовниц он не заводил, или по крайней мере хорошо это скрывал. У них с Марией Каролиной за двадцать один год родилось семнадцать детей – десять девочек и семь мальчиков, – и Фердинанд по количеству потомков обогнал свою тещу императрицу Марию Терезию. Королеве понадобилось совсем немного времени, чтобы оценить, насколько у мужа скудный интеллект. Фердинанд возглавлял королевство с пятью-шестью миллионами подданных, а его столица была самым густонаселенным итальянским городом, но править он не правил. Неаполь фактически подчинялся Мадриду, и король-инфант находился под опекой уехавшего отца. Перебравшись из Неаполя в Испанию, Карл III официально отказался от короны Двух Сицилий[110], но в реальности неаполитанские дела забрасывать не стал.
Его сын взошел вместо него на трон под именем Фердинанда IV, но, пока он не повзрослел, всеми вопросами ведал регентский совет во главе со всемогущим Тануччи, полностью подчинявшийся Мадриду. Фердинанд достиг совершеннолетия в 1767 г., через несколько месяцев после свадьбы, но ничего в управлении страной менять не стал. Он, даже не помышляя взять власть в свои руки, пожаловал Тануччи титул первого государственного секретаря и передал ему все полномочия. Тануччи действовал в Неаполе по указке Карла III. Фердинанд получал сведения о делах исключительно через него. Ни одно решение не принималось без письменного обсуждения между первым министром и королем Испа-нии. Не проходило и дня, чтобы Фердинанд не написал письмо отцу. Неаполь покорно выполнял повеления Мадрида.
Стоило Марии Каролине приехать в королевство, как стало понятно, что одной представительской роли ей мало. Сыновняя зависимость мужа от отца раздражала ее, а чрезмерное влияние Мадрида, равно как всемогущество Тануччи шли вразрез с ее собственным честолюбием. Королева осознавала свой ранг и намеревалась участвовать в делах своей новой страны, некогда принадлежавшей ее родине[111]. Она мечтала править наравне с мужем, но понимала, что тот равнодушен к королевским обязанностям и попытается заменить мадридскую опеку венской. От Фердинанда, в ком Мария Каролина успела разглядеть апатичный нрав, она могла ожидать определенной покорности. Король восхищался женой и любил ее. Самым главным было отодвинуть Тануччи, замешанного во всех интригах. Министр ставил себя выше короля и считал себя незаменимым. Находясь проездом в Неаполе, император Иосиф II резко отозвался об этой чрезмерной власти. «Если король, – написал он, – желает отобедать в саду, он должен получить разрешение у Тануччи»[112].
Терпение не относилось к главным добродетелям королевы, но она не могла пренебречь необходимой последовательностью событий. За четыре года брака Мария Каролина так и не родила наследника королевства. В 1772 г. ей удалось произвести на свет только дочку, крещенную Марией Терезией в честь бабушки, но рождение принцессы, согласно брачному контракту, не давало ей возможности попасть в Совет. На следующий год появилась Мария Луиза, а за ней – сын, но он вскоре умер. Мария Каролина волновалась. В крайнем случае, чтобы пробиться к государственным делам, можно было повести игру против первого министра. «Я устрою Тануччи столько неприятностей, нанесу столько оскорблений, что ему еще как придется уступить мне место… Я никогда не стану королевой, пока при дворе Тануччи… Слушать Тануччи и Испанию – значит слушать дьявола!» Необходимо было чаще пускать шпильки, провоцировать по мелочам, доводить до белого каления министра, считающего, что без него не обойтись. Первый залп, выпущенный Марией Каролиной, продемонстрировал ее целеустремленность, и склонность к интригам.
Тануччи считал, что тайное общество франкмасонов подрывало религию и политику. Тут же королева – а ведь ее набожная мать считала масонов воплощением зла – стала не просто поддерживать Братство, но и чуть ли не участвовать в их собраниях. Чтобы достичь цели, она принялась осаждать короля, и сконфуженному Фердинанду пришлось признаться Карлу III: «Могу сообщить вам, что моя жена из кожи вон лезла, чтобы попасть в ложи, и мне, чтобы сохранить мир, пришлось ей это позволить». В 1775 г. Тануччи запретил масонскую деятельность и обвинил вольных каменщиков в оскорблении Его Величества, но королева продолжала оказывать им честь своим присутствием. На следующий год она добилась успеха: Тануччи лишился портфеля (ему исполнилось 78 лет), хоть и сохранил место в Совете. Правление знаменитого неаполитанского министра подошло к концу.
В 1778 г. у королевы, наконец-то, родился сын, и она смогла войти в Совет[113]. Фердинанду очень хотелось отсрочить это событие, но упрямство жены заставило его сдаться. Ей было 24 года. Короля любил народ его небольшой страны, а Мария Каролина уверенно опиралась, поддерживаемая масонами, на самые сливки общества. Фердинанд тратил время на развлечения, она занималась государством.
С самого приезда в Неаполь ее брат Иосиф II предлагал ей снабдить королевство флотом, которого до сих пор там почему-то не было. Создан он был в итоге трудами Джона Актона. Этот англичанин родился в Безансоне, служил во французском флоте, а затем, на кораблях великого герцога Тосканского. Его назначили министром флота, а затем поручили ему заведовать всеми военными вопросами. 43 года, красивый, неженатый, трудолюбивый: он сразу понравился Марии Каролине. Поговаривали об их любовной связи. Если таковая и была, то недолго. Королева постоянно вынашивала детей от законного мужа. Актона и Марию Каролину связывала симпатия и прежде всего общность политических взглядов, заставлявшая их вместе противостоять Испании. Влияние Актона неуклонно росло по воле Марии Каролины, и параллельно уменьшалась власть Карла III. Старый король сердито пенял из Мадрида безвольному сынку: «Они сделают из тебя бумажного короля».
Враги Актона не брезговали никакими средствами, чтобы отнять у него власть, используя для интриг личную жизнь Марии Каролины. Они действовали по указаниям из Мадрида, посол Карла III в Неаполе объединил их в происпанскую партию. Обманным путем удалось заполучить четыре письма с почерком королевы, недвусмысленно доказывающие ее слабость к красавцу англичанину. Ревнивый Фердинанд разозлился. Последовала бурная сцена выяснения отношений.
В гневе Мария Каролина выпустила когти, закатила истерику, залилась слезами, бушевала, говорила грубости, издевалась над легковерностью мужа, обвиняла во всех грехах врагов, клялась, что она не при чем, сумев убедить Фердинанда. Тот покорился жене и успокоился, больше не сомневаясь в ее верности. Актон был спасен. На него посыпались милости и титулы, дававшие понять, что угроза миновала.
Если королева, всем известная любительница пококетничать, и поддалась заигрыванию министра, то ее измена явилась не более чем кратким эпизодом. Мария Каролина предпочитала удовольствиям власть. Ничто не могло и не должно было угрожать ее превосходству над мужем. Мария Каролина была хорошей женой – за девять лет она родила восемь детей[114] – и заботливой матерью (она пеклась об их здоровье, занималась воспитанием, оплакивала умерших малышей), но в первую очередь она была королевой. Не будет преувеличением сказать, что, опираясь на верного Актона, на его советы, Мария Каролина стала подлинной государыней. Она участвовала во всех заседаниях Совета, председательствовала на них в отсутствие короля, читала депеши, напрямую общалась с иностранными посланниками, особенно маркизом де Галло, отправляла собственных послов в Вену, знала все и не пренебрегала ничем. Впрочем, надо признать, что европейскими делами она занималась больше, нежели внутренней политикой[115]. Власть имела для Марии Каролины первостепенное значение, и поэтому она, понимая, как важно сохранять лицо, на словах поддерживала превосходство мужа. Написанные приказы укрепляли королевский авторитет. Ведя переписку, королева старалась не забывать формулировки, показывавшие уважение к закону и льстящие обидчивому Фердинанду: «Король даст вам указания» или «мои приказы /…/ всегда подчинены приказам короля». Находясь рядом с никчемным королем, Мария Каролина научилась быть то целеустремленной, то гибкой, то львицей, то лисой.
«Гнусный народ»
Мария Каролина овладевала секретами власти, и с каждым днем ее влияние росло. Она научилась плести интриги и вертеть мужем, не питавшим интереса к королевским обязанностям. Но прогремевшая в Париже революция погубила монархию, считавшуюся самой могущественной в мире; Людовик XVI и Мария Антуанетта были низложены. Мария Каролина напрочь забыла о дипломатической осторожности. Она не стеснялась в выражениях по поводу событий, уничтоживших королевскую власть во Франции и представлявших опасность для родственников неаполитанской королевы. Национальное учредительное собрание? «Гидра о тысячу двести голов». Парижские революционеры? «Орда негодяев, сборище бездельников». Патриоты, задумавшие освободить народ от «тиранов»? «Банда бешеных солдафонов».
Неаполь боялся, что революционная зараза перекинется на него. Королевство закрыло границы для потенциальных разжигателей, выдворило подозрительных иностранцев, усилило цензуру, установило наблюдение над всеми собраниями, щедро привечало французских беженцев. Мария Каролина и представить не могла, что Франция, где правил Людовик XIV, получит конституцию, а ее зять Людовик XVI выразит готовность присягнуть ей, после унизительного возращения из Варенны! У нее болело сердце за Марию Антуанетту, спасти которую, казалось, может лишь чудо. В апреле 1792 г. Законодательное собрание объявило войну королю Богемии и Венгрии. Значит, племянник и зять Марии Каролины император Франц II Габсбургский, который и носил этот титул, должен был встретиться с революционными войсками[116].
Во Франции все были осведомлены, кто именно правит Неаполитанским королевством, и прекрасно знали, как ревниво оберегает свою власть королева. Кто как ни она рассердилась, заподозрив, что король попал под влияние ее дорогого Актона? Мария Каролина не любила делиться. Тем более что министр флота и военных дел, милостью Фердинанда допущенный в Министерство иностранных дел, стремился уменьшить австрийское влияние. Марии Каролине, написавшей: «Моя главная цель [заключалась в том, чтобы] служить императору, моему брату [т.е. Леопольду II], которого я люблю всем сердцем; за него я охотно пролью кровь», дипломатические инициативы Актона были весьма не по нутру. Королева утверждала, что министр «устроился подле короля, и в отношении ее способен на самую черную неблагодарность». Но международные события заставляли ее беречь Актона.
В Париже знали, что королева симпатизирует австрийцам. Дюмурье (министр иностранных дел, занимавшийся отношениями Франции и Неаполя, бывший граф де Мако) должен был добиваться, чтобы королевство Двух Сицилий не заключало союз с Веной и сохраняло нейтралитет. Для выполнения этой деликатной задачи де Мако получил приказ о том, что он должен обратиться в первую очередь к Марии Каролине, а уж затем к Фердинанду, которого не считали заслуживающим внимания. Французский дипломат должен был успокоить страхи королевы, польстить ее тщеславию, расписать опасности войны, грозящие ее королевству[117]. Первая встреча была ледяной. Как только де Мако, которого Мария Каролина называла «негодным истуканом», вышел из кабинета, она в ярости, до этого мгновения сдерживаемой, отшвырнула веер.
Королевская чета опасалась военно-морского наступления на Неаполь. Мария Каролина изо всех сил старалась защитить королевство. Она заделалась интенданткой, вербовщицей и министром снабжения. Она умоляла о помощи венский Двор: «Постарайтесь… как можно раньше прислать нам столько пушечных ядер, сколько вы можете; отправьте их морем вместе с порохом… Еще нам понадобятся ружья». Она просила, чтобы император командировал в Неаполь самого лучшего военачальника: «Уже пятьдесят лет, как в этой стране не звучало ни одного ружейного выстрела; мы совершенно не умеем воевать». Мария Каролина высчитывала, сколько продуктовых запасов надо на случай осады, показывала примеры экономности, пожертвовала часть своего столового серебра, часами переписывалась с монархами других стран. Короче говоря, правила. 17 декабря 1792 г. перед Неаполем появилась французская эскадра. Уже боялись худшего, но флот ушел без боя. Вернется ли он?
Все содрогнулись от жуткой новости о казни Людовика XVI. «Какой гнусный народ!» – Мария Каролина волновалась о сестре, заключенной в Тампле. – Всякий раз, стоило ей услышать какой-нибудь шум или крик, или когда в комнату входили, моя бедная сестра становилась на колени, молилась и готовилась к смерти. Бесчеловечные скоты, окружавшие ее, потешались». А тем временем к страданиям неаполитанской королевы постоянно добавлялись новые испытания. Вопреки воле Фердинанда, желавшего придерживаться нейтралитета, Мария Каролина заставила королевство войти в коалицию во главе с Англией. Союзный договор подписали 12 июля 1793 г. Неаполь прекращал все торговые отношения с Францией и должен был открыть порты английскому флоту. В соответствии с этим документом, капитан Нельсон в сентябре обратился к неаполитанским судам за поддержкой, чтобы оборонять Тулон от французских роялистов. Но блестящий офицер-артиллерист по имени Бонапарт захватил форт, который удерживал порт, провел бомбардировку вражеских судов на рейде и занял город. Английскому флоту пришлось поднять якоря, и неаполитанцы вернулись на родину.
Якобинские интриги в столице королевства Двух Сицилий, продовольственный кризис, страх увидеть, как вернулась в бухту французская эскадра ничего не значили в глазах Марии Каролины. Последняя беременность стоила ей многих сил, помимо этого королеву печалила потеря ребенка. Новость о том, что 16 октября 1793 г. казнили ее сестру Марию Антуанетту – с которой они детьми играли вместе в Вене – подкосила Марию Каролину окончательно. Ее охватила ненависть к парижским цареубийцам: «Я желаю, чтобы этот бесчестный народ изрубили на куски, стерли с лица земли, опозорили, не оставя от него ничего, по крайней мере в ближайшие пятьдесят лет. Надеюсь, что божественный гнев обрушится на эту Францию». Под гравюрой с портретом любимой сестры королева написала: «Я буду мстить до гроба». И до самой смерти не утихла ее скорбь, не зарубцевались раны.
Тем не менее неудачи и страдания не укротили неуемную энергию Марии Каролины. «Господу угодно покарать нас, – снова написала она. – Но, пока в моей лампе остается масло, я буду выполнять свой долг». Поступали дурные вести: в конце 1793 г. Коалиция[118] терпела одно поражение за другим. Было и отчего гневаться: Генуя объявила о нейтралитете, зять королевы эрцгерцог Тосканский питал слабость к Франции. Казалось, сам Везувий записался в союзники постылой Республики: в июле 1794 г. страшные извержения, сопровождавшиеся землетрясением, посеяли в стране панику. Мария Каролина была несокрушима. «Я буду скорбеть, – повторяла она, – но выполнять свой долг до самой смерти».
Утешительницей королевы явилась ее новая фаворитка леди Гамильтон. Эмме, которая была поначалу любовницей, а затем стала женой английского посла в Неаполе Уильяма Гамильтона, едва минуло 30, и многим кружили голову ее «небесная» красота, талант певицы, искусство изображать в «позах», завернувшись в драпировку на манер греческой статуи, шедевры самых известных художников античности. Ее обожал немолодой муж, которым она крутила, как угодно, и восхищалось небольшое неаполитанское общество. Леди Гамильтон стала доверенным лицом Марии Каролины и ее неразлучной подругой. Во дворце, в театре, на публичных прогулках красавица Эмма была подле королевы. «Уже долгое время, – говорила та, – я живу возле нее, и наша близость длится больше двух лет». Враги королевы были даже уверены, что двух женщин соединяет сапфическая любовь. Но в те трудные времена их связывала в первую очередь политика. Леди Гамильтон признавалась в одном из писем: «В результате ситуации, в которой я тут нахожусь, я попала в политику. [Королева] любит Англию и выказывает большую привязанность нашему ведомству; она желает продолжать войну, поскольку это единственное средство извести отвратительную банду французов»[119]. Обеих женщин одолевала ненависть к революционной Франции.
Мария Каролина не любила всех, кто заключал какие бы то ни было договоры с ее врагом. А победы, которые одну за другой одерживала Франция (оккупация Бельгии, Ниццы и рейнских стран) разбили Коалицию и заставили ее участников хором молить о мире. Пруссия, Голландия, а затем Испания подписали каждая в период с апреля по июль 1795 г. по договору с Республикой. Из противников Франции оставались только Англия, Пьемонт, Австрия и Неаполь. Мария Каролина злилась на испанского короля Карла IV, которого она всегда терпеть не могла, и не утруждала себя подбором слов: «Испания показывает себя дурно… Она спекулирует миром… Она потеряна, обесчещена для друзей и врагов». Эти твердые решения предназначались и для тех, кто, в свою очередь, поддавался аналогичному искушению заключить мир. Мария Каролина старалась как можно громче заявить о своем негодовании, поскольку она успела понять, что, соблюдая максимальную секретность, Фердинанд и министр Актон уже пробовали обсуждать с французскими дипломатами сепаратный мир. Ее успели обойти король, которому было милее спокойствие, нежели дальнейшее сопротивление врагу, и его первый министр, в очередной раз показавший свою неблагодарность. «Я от всего сердца желаю, чтобы ничего не изменилось», – отчеканила Мария Каролина.
Тайные переговоры, проводимые Фердинандом, сорвались. В Париже в октябре 1795 г. распался Конвент, уступив место Директории. От этого нового правительства Мария Каролина не только ничего не ждала, но и предостерегла сторонников мира против видимости перемен. «Совет Пятисот или Конвент, Директория или Комитет общественной безопасности, одетые кто в синее, кто в зеленое – это все, – говорила королева, – одни и те же люди, одна и та же система, одни и те же демократические принципы… Мысль о заключении мира с Республикой убивает меня». Для Марии Каролины, как позже для Клемансо, Французская революция была равносильна преступлению.
«Дело – дьявольское», но человек – великий
Вопреки Фердинанду, королева собиралась остаться в вой не вместе с Австрией и Англией. Это намерение плохо сочеталось с той блестящей кампанией, что провел в Италии молодой французский генерал 28 лет от роду. За считанные недели Наполеон Бонапарт во главе армии из «голых и голодных» солдат разбил пьемонтцев и австрийцев. 15 мая 1796 г. он вступил в Милан, и, по словам Стендаля, показал «миру, что спустя много столетий у Цезаря и Александра появился преемник»[120]. Ошеломленные столь неожиданными поражениями, король Пьемонта и Сардинии, герцоги Пармы и Модены тут же взмолились о перемирии. Где остановятся французы, кто станет их новой жертвой? Бонапарт уже звал армию идти дальше: «Да, солдаты, вы хорошо потрудились, но разве у вас не осталось больше никаких дел? Не скажут ли о нас, что мы сумели победить, да не сумели воспользоваться плодами победы?» Итальянская армия рвалась к Флоренции и Риму. Пощадила ли она Неаполь?
Впервые так много опасностей одновременно пошатнули решимость Марии Каролины, но она взяла себя в руки при страшной мысли, что королю придется договариваться с удачливым генералом. Фердинанд беспокоился. Его кавалерийские полки воевали на стороне австрийцев, что могло рассердить французов. Подобно другим итальянским монархам, король Неаполя попросил мира и получил его. Франция поставила вполне приемлемые условия: увести неаполитанские войска с севера Италии и отозвать корабли, плавающие вместе с английским флотом. Эти уступки – мягкие, если сравнивать с теми, что были заключены с папой – Мария Каролина тут же сочла непомерными: «Это [перемирие] – на руку этим несчастным, которые только и желают, что разграбить и разорить Италию». Дипломаты короля Фердинанда старались превратить перемирие в договор о мире, но ни одно из условий, выдвинутых Парижем, не нашло одобрения у королевы.
Снова между супругами возник разлад. Король стремился как можно скорее разрешить вопрос о мире и вернуться к внутренним делам страны. Мария Каролина беспокоилась, неистовствовала, воображала, как французы опять потребуют чего-то чрезмерного, столь же неожиданного, сколько жестокого. «Многое еще до сих пор неизвестно. Я вижу, как меня за то, что я женщина, выгонят из Совета. Но это ни к чему не приведет, поскольку, учитывая те доверие и уважение, каким я пользуюсь у своего мужа, чтобы от меня избавиться, надо отправить меня на пенсию и выслать обратно на родину». И в состоянии сильнейшего возбуждения она предрекала: «Я жду, как они выстрелят в меня, ударят ножом или подкинут яд».
Но Марию Каролину не убили, а Фердинанд 10 октября 1796 г. подписал с Францией Парижский договор, требовавший, чтобы Неаполь как можно строже воздерживался от вмешательства в итальянские дела. Портам запрещалось принимать любые военные суда, был заключен торговый договор на выгодных для Франции условиях и (этот пункт был строго засекречен) король обязался выплатить компенсацию в восемь миллионов. Неаполитанские дипломаты хорошо поработали. Фердинанд получил повод для переговоров. Бонапарт еще щадил Неаполь. Мария Каролина смирилась: «Нельзя сказать, что договор позорный или дурной. В любом случае, для меня он прискорбен… но тут хотят мира любой ценой – из страха, лени, себялюбия, скупости, общей нехватки смелости и силы». Этот шквал упреков предназначался мужу королевы?
Успех способствовал Бонапарту не только на полях сражений, но и на дипломатической арене. Папе римскому пришлось подписать с ним договор, куда более кабальный, нежели неаполитанский, а австрийцы в Кампо-Формио (октябрь 1797 г.) сдались на милость победителя. В своей корреспонденции королева не могла не признать, что теперь восторгается Бонапартом, и щедро сыпала восхвалениями: «Он – Аттила, бич Италии, но я питаю к нему искреннее уважение и глубокое восхищение. Это самый великий человек из рожденных за последние столетия… Я хотела бы, чтобы Республика рухнула, а Бонапарт остался».
Постоянно перечисляя достоинства французского героя, Мария Каролина методом от противного показывала, чем обделен ее собственный супруг: «Счастлива страна, которой правит подобный человек! Нет нужды бояться, что ее победят или завоюют». И королева объявила, что такой человек достоин подражания. «Но для этого необходимо обладать его талантом, его характером, его волей, его силой, его гением… Ведь воистину великий человек не оглядывается на министров и государей с представлениями ничтожными, узколобыми». Фердинанд IV рядом с таким полководцем казался карликом. «И я говорю, что когда он умрет, следует истереть его в порошок и дать по горсти каждому из государей… и будет от этого польза». Если Мария Каролина и вправду думала вручить сей волшебный порошок правителям, подписавшим мир с победоносным генералом, то, несомненно, первую порцию получил бы Фердинанд.
Этот король был всегда готов вести переговоры, и Марии Каролине представился новый случай насолить его политике. Местом действия стал Рим, где папские войска подавили разнообразные выступления якобинцев. Париж уже приказал генералу Бертье промаршировать по Вечному городу. Пий VI должен был покинуть Ватикан и укрыться в Сиене. 15 февраля 1798 г. провозгласили Римскую республику. Неаполитанские войска были приведены в состояние боеготовности и размещены у границ. Франция возмущенно заявила, что желает мира, и сочла эти военные предосторожности проявлением неприязни. Новый французский посол, некто Гара, отправился в Неаполь, чтобы получить разъяснения, подписать торговый договор, о котором было условлено шестью месяцами ранее, а также изучить обстановку при Дворе на предмет дружбы двух стран. Фердинанд был открыт для подобных переговоров и расположен к заключению союза с Францией. Мария Каролина стала ему в очередной раз возражать: «Торговый договор не обязательно влечет за собой заключение договора о союзе». Королева не только не желала сокращать вооруженные силы в своих владениях, но хотела вызвать «народную ненависть, ибо это единственная преграда и единственный заслон, которые мы можем противопоставить их враждебным намерениям, их аппетитам, их попыткам грабежа». От такой линии поведения она не отходила никогда: «Всегда быть настороже и никогда, ни при каких условиях, не заключать с ними союза».
Фердинанд, как всегда, уступил жене: Неаполь не стал разоружаться, отверг предложения Парижа и, напротив, заключил новый оборонный союз с Австрией. Довольная Мария Каролина сделала еще несколько ходов. Она объявила, что, когда французская экспедиция по пути в Египет заняла Мальту, то она совершила акт нападения на Неаполитанское королевство. Английский флот под руководством Нельсона охотился на Бонапарта в Средиземном море, и Мария Каролина решила ему помочь. К ее удовлетворению, 1 августа 1798 г. Нельсон одержал в Абукире блестящую победу, разбив французскую эскадру. В Неаполе адмирала встретили триумфом, а Мария Каролина, восторженная больше обычного, не уставала превозносить его.
Опьяненный победой Нельсон остался в Неаполе, где красавица Эмма Гамильтон стала его любовницей. Он жаждал продолжить войну против французов, выгнать их из Рима и освободить Италию. Фердинанд, как обычно, сомневался. Горячий англичанин сердился: если король «ждет, пока королевство будет завоевано, вместо того чтобы завоевать самому Папскую область, то не надо быть пророком, чтобы увидеть, как королевство уже разрушено, а монархия погублена»[121]. «Этот Двор, – бушевал адмирал, – настолько беспечный, что упустит благоприятный момент». Мария Каролина, как правило, отличавшаяся импульсивностью, на сей раз взвесила все риски военной экспедиции: «Нам остается полагаться лишь на собственные силы, а они невелики, поэтому мы обязаны серьезно поразмыслить»[122]. В Вене королеве советовали поступать осмотрительно, и Мария Каролина последовала совету императора Франца[123].
Фердинанд же, напротив, решил воевать. Он во второй раз вступил в Коалицию – ее как раз создавали Россия и Англия. Короля подтолкнули к этому шагу Нельсон, Гамильтоны и Актон. 24 октября 1798 г. неаполитанские войска, которыми номинально командовал Фердинанд, перешли границу. Поначалу все выглядело своеобразной военизированной прогулкой. Мария Каролина оставалась в Неаполе, в одиночку руководила страной и удостоилась похвалы Нельсона: «А из нее получился великий король». 27 ноября освободили Рим, французы отступили к северу. Но всего через несколько дней армия генерала Шампионне перешла в наступление и разбила неаполитанцев. Фердинанд IV поспешно покинул Рим и удрученно вернулся в собственное королевство. В этой неудаче государь, несправедливый как все трусы, обвинял жену: «Я вам уже говорил, мадам, что наши подданные больше любят танцевать, чем сражаться».
Неудачно он выбрал время для сарказмов: Шампионне, преследуя неаполитанскую армию, вторгся в королевство. Шансов выстоять в вооруженном сопротивлении не было. Наполеон успел нарисовать новую карту Италии. Пьемонт, хоть и сохранял независимость, но все же был оккупирован. На свет появились «республики-сестры»: Лигурийская (со столицей в Генуе) и Цизальпинская; провозгласили Римскую республику. Не захваченными оставались только Тоскана и – до злополучного похода Фердинанда IV в Рим – Неаполитанское королевство. Дни последнего были сочтены в декабре 1798 г. французы с Шампионне во главе подступили к воротам столицы. Падение казалось неизбежным. Королевская семья решила покинуть город. Воспоминания о том, какая трагедия случилась с Марией Антуанеттой в Париже, убеждали Марию Каролину пуститься в бегство. Неаполитанские Бурбоны прихватили королевскую казну и хоть не сразу, но вышли в море 23 декабря 1798 г. на кораблях английского флота[124]. Они собирались найти убежище в другой – островной части – королевства Сицилия.
Неаполь возвращен законным владельцам
Жизненные испытания иногда вынуждают помириться рассорившихся супругов. Однако Фердинанда и Марию Каролину вынужденное пребывание в Палермо, напротив, лишь еще больше разобщило. У королевы иссякли силы. Ей приходилось в одиночку принимать решения, собственноручно проводить приготовления к отъезду, не получая никакой помощи от апатичного как никогда мужа. Во время путешествия жизнь Марии Каролины и ее близких не раз подвергалась опасности из-за страшных штормов, а 6-летний сын королевы принц Альберто умер в пути. В Палермо королева продолжала пребывать в шоке из-за бегства, которое означало поражение. Она постоянно думала о том, как континентальное королевство в январе 1799 г. по воле неаполитанских якобинцев стало Партенопейской республикой (получившей название от древнего имени столицы), последней из «республик-сестер», образованных под патронажем Франции и получивших конституцию на манер французской, принятой в III г.
С Марией Каролиной часто случались приступы тревоги или слезливости, не находившие ни малейшего отклика у ее супруга. Его больше интересовала дичь, водящаяся в лесах Сицилии, чем возможность отвоевать обратно собственные владения на полуострове. Казалось, что Фердинанда совершенно не задевало происходящее, и Мария Каролина писала, что ему «нравится находиться в безопасности, выходить в свет, посещать театр, ездить в леса, он совершенно не огорчен… Его ничего не удручает… он не думает, что наши доходы сократились на три четверти, что мы обесчещены, несчастны и втянули в свою беду других». Неаполь захлестнула анархия, опасность подстерегала со всех сторон. Австрия оставалась глуха к мольбам о помощи Марии Каролины. Две области – Апулия и Калабрия – сохранили верность монархии и ожидали от своего короля жеста поддержки, а Фердинанд каждый вечер развлекался в опере или на костюмированном балу, был весел и всем доволен, не давал аудиенций, не наносил визитов и злился, если кто-нибудь заговаривал с ним об оставленной столице.
Мария Каролина, напротив, развела вдвойне бурную деятельность. Она писала письма своему зятю императору Францу II, советовала королю поддерживать союзные отношения с Россией и Турцией[125], показаться в Калабрии, поехать в Мессину, созвать парламент в Палермо с целью укрепления лояльности сицилийцев, вести себя как подобает королю и отцу… «Я предложила сотню вещей, без которых Неаполь будет потерян навсегда… но нет, нет… театр, столица, забавы, развлечения! Ничего не делается!» Бездействие короля выводило Марию Каролину. Она страдала от суровой зимы, когда снег валил безостановочно. «Никогда, – признавалась она, – я не знала такого холода. Ни одно окно нельзя закрыть… у меня насморк и жар, от них помогает только опий». Фердинанд ничуть не беспокоился: «Король в превосходном состоянии, я ему завидую. Происходящее его совершенно не волнует. Раздражает его лишь то, что он постоянно видит меня в слезах». Супруги избегали друг друга. Неужели Мария Каролина утратила все влияние?
Слезы королевы сделали свое дело или просто Фердинанд очнулся? Вскоре он начал отвоевывать Неаполь у якобинцев. Руководство контрреволюционным движением королевская чета доверила совершенно неожиданному кандидату. Прелат и кардинал Фабрицио Руффо, калабриец по происхождению и народный вождь, предложил поднять восстание в Калабрии, сохранившей верность монархии, и оттуда начать восстановление королевской власти в Неаполе. Момент был выбран отлично. В Италии росло сопротивление французской оккупации: мнимые освободители угнетенных народов на самом деле жили за счет страны. Грабежи и вымогательства замарали знамена свободы. Нарушения общественного порядка не встречали доброжелательного отклика у местного населения; особенно плохо оно относилось к выпадам против католической церкви. Волнения вспыхивали с самой первой итальянской кампании 1796 г. Когда в 1799 г. война началась снова, и французы стали терпеть поражения, ветер мятежей снова задул в Тоскане и южной Италии.
Кардинал Руффо объединил недовольных из крестьян и духовенства и повел контрреволюционное движение во имя «святой веры», сторонники которого получили прозвище «санфедисты». Он одержал победу над республиканцами, те сдались ему 19 июня 1799 г. Партенопейская республика просуществовала еще полгода. Настало время репрессий, слепых, жестоких, нескончаемых. Ими руководила из Палермо королевская чета, в которой на сей раз царило единодушие. «Ни перемирия, ни прощения, ни договоров с нашими негодяями», – возвестила Мария Каролина накануне полной капитуляции якобинцев. Фердинанда тут же охватила жажда мщения.
Мнения короля и королевы совпали ненадолго. Ферди-нанд приказал Высшему суду придумать показательное наказание для мятежников, но лично участвовать в работе отказался. После капитуляции Мария Каролина стала нажимать на мужа, чтобы он немедленно вернулся в Неаполь. Он отказался. Когда же в июле Фердинанд с неохотой решил возвратить себе столицу, он отправился туда на кораблях Нельсона, но по прибытии на место сходить на землю не стал. В течение почти месяца, находясь на судне, он требовал усилить репрессии, а потом отбыл обратно в Палермо! Он, видите ли, не мог пропустить осеннюю охоту!
Мария Каролина мечтала полностью восстановить прежний режим в своих владениях, Фердинанда же нисколько не тянуло отвоевывать Неаполь; его устраивало играть в домашнего тирана в Палермо. «Королем, – писала его жена, – невозможно руководить. Он ничем тут не занимается: леса, охота… У него нет ни принципов, ни правил, он самодур, озлоблен чуть ли не на весь мир, он творит немыслимые вещи, и никто не осмеливается сказать ему хоть слово поперек… Он и слышать не желает о том, чтобы возвратиться в Неаполь, говорит, что хочет умереть здесь, что не станет покидать Сицилию. Это сущая беда». Палермо для Фердинанда обладал привлекательностью Капуи.
Марии Каролине было на Силиции нехорошо. Она призывала действовать, но Фердинанд не реагировал. Королева просила также у английского короля оставить в Неаполе Уильяма и Эмму Гамильтонов. Тот из чувства противоречия отказал ей. После стольких лет под солнцем Италии, подле самых драгоценных памятников античности немолодого посла отозвали в Лондон. И даже командование Нельсона подошло к концу. Королева рисковала остаться на Сицилии в полном одиночестве. А тут Фердинанд отказывался взять Неаполь назад! Причиной тому стала его любовь к спокойствию. Впрочем, имел место и страх столкнуться с недовольством разгневанных неаполитанцев. Один английский дипломат говорил: «Правда в том, что Его Величество умеет очень чутко чувствовать опасность. Иными словами, он трусоват».
Семья не приносила Марии Каролине ни капли утешения. Когда французы заняли Неаполь, она не дождалась никакой помощи от зятя императора Франца II. Королева старательно заботилась о своих детях; как раз пришла пора пристроить замуж дочерей. Но останься она в Палермо, шансы найти подходящих женихов ничтожно малы. И королева решила вернуться в Вену: для поиска выгодных партий было необходимо дипломатически сблизиться с Австрией. Мария Каролина оставила мужа в Палермо и в июне 1800 г. отправилась в родной город. На дорогу до Шёнбрунна ушло два месяца. Королева встретилась со старшей дочерью Марией Терезией и внуками. Вопреки ожиданиям, ее постигло разочарование. Зять держался особняком и не ладил с женой. Ему дали понять, что теща в Вене задержится. Мария Каролина расплакалась и, поддавшись чувствам, написала решительные слова: «Я вижу, что меня избегают, что моя родня от меня открещивается, что меня считают ответственной за все». Или: «Моя дочь объявила о желании, чтобы я ушла… Она ненавидит нас – и своих сестер, и меня, – и она настраивает против нас своего мужа. Отныне она умерла для меня».
Мария Каролина отказывалась понимать причины, заставлявшие Франца II старательно избегать любых союзов с Неаполем против французов. Столкнувшись в Баварии и Италии с французскими армиями Моро и Бонапарта – успевшего вернуться из Египта и стать Первым консулом – Австрия терпела одно поражение за другим: при Маренго в июне 1800 г. (как раз тогда Мария Каролина уехала из Палермо в Австрию, и именно это усложнило маршрут) и в Хоэнлиндене в декабре. Что оставалось австрийскому императору, кроме как добиваться мира? Прямолинейность и радикальность неаполитанской королевы доходили до безумия. И чуть ли не на следующий день второй Итальянской кампании французская армия заняла часть неаполитанских владений.
В январе 1801 г., не в силах сопротивляться французам и дальше, Австрия подписала договор о перемирии и стала вести переговоры о мире, каковой и был заключен в феврале в Люневиле. А тем временем Фердинанд из Палермо велел старшему сыну Франциску тоже подписать соглашение о перемирии. Мария Каролина была вне себя от злости, называла документ позорным и осыпала насмешками тех «героев», что его утвердили. «Я больна от ярости…, – писала она. – Я решила не возвращаться сейчас в Неаполь, ибо умру там от скорби». Не меньше горя испытала она, когда эрцгерцог Тосканский, второй ее зять, потерял Тоскану, которая вскоре стала королевством Этрурия. И в довершение, ее собственный муж в марте подписал мирный договор, вынуждавших королевство Обеих Сицилий отказаться от определенных земель, закрыть порты для английских судов и согласиться на оккупацию Абруццо и области Отранто французскими войсками. Марию Каролину это добило окончательно. «Позорный договор», «унизительная, жестокая подлость», «гибельный мир»… Ей не хватало слов. «Я невыносимо краснею и мне страшно стыдно… Неаполитанское королевство потеряно».
Россия Александра I и даже Оттоманская империя заключили с Францией мир. Вслед за ними Англия в марте 1802 г. подписала в Амьене договор. А тем временем французская армия начала занимать неаполитанские территории. Бонапарт уже победил. Вся Европа радовалась миру, пришедшему на смену десяти годам войны. Но Мария Каролина в Вене не разделала это ликование. Фердинанд мог хотя бы вернуться в Неаполь. Месяцами жена побуждала его к такому шагу, дабы «в столице, наконец-то, был государь, которому положено там находиться».
27 июня 1802 г., через три с половиной года отсутствия Фердинанд IV прибыл в столицу, где незлопамятные горожане бурно приветствовали его. Разве он не король лаццарони? Его супруга покинула Вену и приехала к мужу 17 августа того же года, но столь же восторженного приема не удостоилась: «Меня встретили и приняли поистине дерзко». Чета воссоединилась. Королева нашла, что Фердинанд стал «более честолюбивым, деспотичным и горделивым». Сразу после прибытия Марии Каролины, монарх в одиночестве отправился во дворец в Казерте, что к северу от Неаполя, и в тамошние загородные резиденции с единственной целью, как рассказывал французский посол Шарль Алкье, «удалиться от женщины, чей нрав стал ему невыносим… Их разлад был откровенно заметен, они держались друг с другом холодно и скованно и даже не скрывали этого».
Из-за пребывания в Австрии влияние Марии Каролины ослабло. Оказавшись снова дома, она попыталась вернуть его, участвовала в Совете, высказывалась твердо, сообщала свои мнения, как всегда категоричные. Она терпеть не могла министра Актона, наушничавшего королю. Мария Каролина попыталась отослать его, но Фердинанд не позволил. Значит, политическая карьера нашей героини подошла к концу? Алкье хотелось бы в это верить: «Она была бы безупречной женщиной, если бы ограничилась ролью жены и матери, но природа диктовала ей иное, а привилегии высокого ранга лишь усиливали природную страстность». А у короля, получается, «веления природы» ограничивались любовью к охоте? Фердинанд опять прекратил заниматься делами, с нежностью вспоминал жизнь в Палермо и без меры предавался излюбленным развлечениям. Заброшенную мужем королеву потянуло к красивому и молодому французскому офицеру-иммигранту, воспитателю ее последнего из сыновей маркизу де Сен-Клеру. Видя, что Фердинанду совершенно не интересны обязанности монарха, Марии Каролине не терпелось забрать бразды правления государством. Алкье пишет: «Власть целиком и полностью перешла в руки королевы. Государственные секретари отчитывались только ей. Король получал сведения о событиях во время получасовой аудиенции, каковую королева условилась проводить с ним по понедельникам, и ради этого ей пришлось искать его по загородным домам, в которых он жил». Такое «политическое животное», как Мария Каролина, даже будучи раненым, боролось до последнего.
«Правление неаполитанской династии подошло к концу»
Жизнь неаполитанской королевы оказалась, как выразился современник «сплошным утекающим дымом». Добавляли, что жизнь короля – долгий политический сон. И Марии Каролине, и Фердинанду наполеоновская эпопея принесла еще много мучений. Фердинанд, отличавшийся то ли непобедимым оптимизмом, то ли совершенной слепотой, привык к ним, а для пылкой Марии Каролины они стали адом.
У неаполитанских властителей имелись все основания бояться Франции. Хозяина нельзя обмануть безнаказанно. Официально сохранявшее нейтралитет неаполитанское королевство в реальности поддерживало тесные связи с Англией, уже десять лет как представлявшей собой главного врага Республики. Тайное соглашение, заключенное с Лондоном, предусматривало, что страна вступит в войну, едва представится случай, и позволит британскому флоту использовать Мессину в качестве базы. Не потому ли Бонапарт, надлежащим образом проинформированный секретными службами, в 1803 г. решил оккупировать Апулию, что явилось весьма болезненным ударом для государства, и без того испытывающего финансовые затруднения. Фердинанд и Мария Каролина попытались, каждый на свой манер, в двух письмах склонить Бонапарта к милосердию. И получили хлесткий ответ: «Я уже решил считать Неаполь страной, где правит министр-англичанин [он имел в виду Актона]».
Как только королевство приготовилось войти в коалицию против Франции, Париж разгадал эти намерения. Наполеон немало возмутился двоедушием неаполитанского правительства, которому он адресовал немало извещений и предупреждений. «Редчайшее и необычное явление» – новый французский император дублировал официальные письма Фердинанду посланиями к королеве, где выражался куда непосредственнее[126]. В общении с королем, которому не нравилось, что вновь возникшие затруднения на международной сцене мешают ему предаваться любимым развлечениям, Наполеон выражался дипломатично, умиротворяюще, но иногда добавлял, как может позволить себе монарх с монархом: «Если Ваше Высочество позволит мне заметить, ему дают дурные советы». С Марией Каролиной он вел себя куда менее почтительно и намного жестче, предлагал ей вспомнить, как она уже однажды потеряла свое королевство. Новая военная авантюра может стать для нее фатальной. «Пусть Ваше Величество выслушает одно пророчество, – писал Наполеон, – пусть выслушает спокойно: в первой же войне, причиной которой она станет, она и ее потомки потеряют корону».
В мае 1805 г. Наполеона короновали в Милане королем Италии, и это встревожило неаполитанских Бурбонов. Несмотря на уверения в нейтралитете, выставив себя на посмешище, они кинулись к Лондону[127], а также затеяли переговоры с Россией, в итоге которых 10 сентября 1805 г. был создан союз. В этот день царь заключил договор с Англией, а Австрия выразила намерение присоединиться к Коалиции. И одновременно, погрязший в лицемерии Неаполь согласился обсудить с Наполеоном договор о нейтралитете, который подписали 22 сентября. Эта двойная игра, которая подошла к концу с вступлением Неаполя в третью коалицию 19 ноября на стороне Австрии и России, финансово поддерживалась Лондоном.
Это стало возможным благодаря тому, что между супругами не было согласия. Фердинанд приказал начать диалог с русскими дипломатами. Мария Каролина связалась с самим Талейраном[128] в Париже. Но в самый разгар переговоров король бросил то, что сам же начал. Под предлогом, что из-за нездоровья вынужден отбыть в одну из загородных резиденций, «он подготовил циркулярное письмо для всех министров и уехал. В этом письме, уверяла королева, он велел им во всем слушаться меня… пока он сам будет развлекаться».
Опрометчивая до безрассудства Мария Каролина жаждала войны. Из-за ненависти к Франции, темперамента и желания потягаться с этим «корсиканским мерзавцем», с этой «корсиканской собакой». Она с радостью встретила первый русский отряд в неаполитанском заливе, приветствовала высадку английских солдат. Фердинанд проявлял боuльшую осмотрительность и реалистичность. После прибытия союзных подкреплений в неаполитанцах с новой силой вспыхнула надежда: Франция только что потерпела сокрушительное поражение в Трафальгарском сражении (21 октября 1805 г.), в котором встретил свою смерть Нельсон. Но неаполитанские монархи упускали из виду, что Наполеон накануне выиграл у австрийского генерала Мака битву под Ульмом, вступил в Вену и направился в Моравию. Королева Неаполя загорелась мыслью о подготовке к войне, когда осознала поражение русских и австрийцев под Аустерлицем (2 декабря 1805 г.). Новость об этом произвела эффект вулканического извержения. Подавленность овладела правительством, когда оно узнало, что австрийский император Франц II попросил о перемирии, и в Пресбурге был подписан мирный договор на условиях, навязанных Вене Наполеоном.
Мария Каролина, охваченная стыдом, напрасно старалась молить «французское чудовище» о милосердии. Через несколько дней после Рождества вышел императорский вердикт: «Солдаты!… Правление неаполитанской династии подошло к концу. Ее существование несовместимо со спокойствием в Европе и честью моей короны. Идите, швырните в море эти жалкие батальоны морских тиранов, если они осмелятся вас дождаться! Покажите миру, как мы караем клятвопреступников! Поскорее сообщите мне, что вся Италия покорилась законам Империи и моих союзников!»[129] Все были уверены: неаполитанское королевство будет захвачено, его дни сочтены.
Одна против всех
Во многом можно упрекнуть Марию Каролину: в безрассудстве, интриганстве, нетерпении, безрассудной экзальтированности, жгучей ненависти, толкании других на ошибки, бестактности, не вовремя предложенных идеях, неудачных решениях. Но королева была натурой цельной. И ей были присущи и положительные качества, и недостатки. Марии Каролине не доставало политической тонкости, но решительный отказ склониться перед врагом придавал ее поступкам благородство великих дам Фронды. С приходом оккупационных войск французов она стала оказывать сопротивление, беря пример со своей матери, императрицы Марии Терезии, выступившей в 1741 г. против врага.
В первые январские недели 1806 г. сорок тысяч человек под командованием Жозефа Бонапарта, старшего брата императора, приготовились вступить в королевство, по которому уже разбрелись англо-русские войска, отвечающие за оборону. «Это позор, каковой нельзя выразить словами, – возмущалась королева. – Моя англомания кончилась». Королевству оставалось рассчитывать только на себя. Даже от короля не было проку. Не успел французский авангард приблизиться к границе, как Фердинанд в ночь с 23 на 24 января в очередной раз сбежал из Неаполя на Сицилию. Королева осталась в столице и взяла на себя королевские полномочия, которые ей приходилось делить с сыном Франциском, имевшим титул «главного наместника и главнокомандующего королевства».
Король пребывал «в отчаянии», его жена «жертвовала собой, чтобы спрятать государя в надежном месте», т.е. на Сицилии. И как, написала Мария Каролина, он «с готовностью на это согласился». Такой странной была эта чета, уже более тридцати лет правившая королевством и сдавшая столицу врагу семью годами ранее. Мария Каролина не сдавалась. Впрочем, северная граница уже перешла в руки завоевателя. Зато в Абруцции и Калабрии население должно было подняться против неприятеля. «Это безумие!», – писали ей дети, боявшиеся за свою жизнь. Французская армия шла вперед, не нанося ни одного удара. Вот уже знать принесла присягу Жозефу Бонапарту. Для Марии Каролины было потеряно все, кроме чести. И она тоже 11 февраля отплыла в Палермо. По крайней мере она не сбежала первой. Через четыре дня Жозеф Бонапарт вступил в Неаполь. Он не встретил и малейшего сопротивления.
Уже в марте Наполеон пожаловал Жозефу неаполитанскую корону, но в июле 1808 г. ему пришлось уступить ее Мюрату (эту политическую чехарду высмеял Шатобриан), а королевская семья тщетно пыталась худо-бедно устроиться в Палермо. Мария Каролина мечтала о реванше и приходила в отчаяние от известий о новых победах французского императора и обрадовалась, когда Бонапарт увел из ее владений часть войск, чтобы укрепить армию, занятую боевыми действиями. Останется ли в безопасности сицилийское пристанище Марии Каролины и Фердинанда? Наполеон перекраивал карту Европы, присоединял к Франции новые территории, а теми, что не аннексировал, все равно правил, превращая государства в протектораты, ставил немецких герцогов во главе королевств, раздавал короны тем, кто был ему верен, отнимал престолы у старых династий. Император Священной Римской империи Франц II уже вкусил последствия германской политики Франции: он отрекся от своего титула и стал просто императором Австрии. Бурбоны остались только в Тоскане и Испании. В ноябре 1807 г. пришлось покинуть Флоренцию, а в мае следующего года низложили вторых[130]. Судьба Фердинанда и Марии Каролины целиком и полностью находилась в руках Наполеона.
Не имея возможности отвоевать столицу, неаполитанские правители должны были защитить от французских аппетитов землю, где они нашли убежище. Наполеон потребовал отдать Сицилию Жозефу, новому королю Неаполя. В Палермо они с опозданием, из чужих разговоров узнали о намерениях врага. Каждый день дворец наводняли то слухи, то их опровержения, то ложные вести. Низложенную королевскую чету уверяли, что император то думает пожаловать ей крошечное княжество в северной Германии или в Далмации и даже Албании, то не собирается дать ей ничего. Более вероятными казались разговоры, что Наполеон планировал завоевать Сицилию, единственные укрепления которой контролировал английский флот, намеревавшийся сохранить господство на Средиземном море.
Фердинанд и Мария Каролина по-разному реагировали на эту угрозу. Первого, казалось, жизненные перипетии не трогали. В дневнике одной из дочерей четы Марии Амалии, будущей французской королевы есть немало записей, навеянных постоянными страхами матери и детей: «Наше положение – отчаянное». А также рассказывающих о мирных занятиях, коим предавался король: «Мы пошли встретиться с папой и нашли его в превосходном здравии, довольным охотой»[131]. А ведь тревог, обманов, затруднений было немало.
Стоило ли всерьез рассчитывать на содействие англичан в возвращении Неаполя? Походу в Калабрию, который предпринял летом 1806 г. генерал Джон Стюарт, поначалу сопутствовала удача, но затем он провалился. Возможно ли было ожидать помощи от России? По условиям Тильзитского мира (июль 1807 г.) царь Александр стал союзником Наполеона и признал все французские завоевания, в том числе и захват неаполитанского королевства. Беда не приходит одна. Россия объявила войну Англии, и Сицилия, состоявшая в союзе с англичанами, оказалась втянута в боевые действия против царя. К Австрии же, державшейся после Аустерлица, тише воды, ниже травы, Мария Каролина отныне питала презрение. Ведь император имел наглость обратиться в письме к Фердинанду с одним лишь титулом – «король Сицилии». Более того, «французский императришка», как прозвала его Мария Каролина, в апреле 1810 г. не отказался отдать свою дочь Марию-Луизу – Габсбургскую! – корсиканскому чудовищу в качестве «постыдной наложницы [sic] для негодяя, покрывшего себя всеми преступлениями, на которые способен человек».
В конце концов, даже Англия стала раздражать королеву, которой повсюду мерещились предатели. «Матушка, – писала Мария Амалия, – разразилась перед нами ужасающей вспышкой гнева на англичан и говорила, что давно знала, что они отнимут у нас Сицилию, что предадут нас самым подлым образом». У Марии Каролины больше не осталось союзником. Принять помощь англичан она больше не могла.
Жених Марии Амалии герцог Орлеанский, будущий Людовик-Филипп I, которого королева приняла с большой неохотой, предостерег ее от намерения повысить налоги. И они тут же разругались.
Мария Каролина только и делала, что злилась, сходила с ума, язвила, сыпала упреками. Она изводила тех, кто окружал ее, раздражала даже самых терпеливых своих близких. В конце концов, вулканический темперамент королевы начал угрожать ее здоровью? 16 сентября 1811 г. она на целый день потеряла сознание из-за приступа конвульсий. Провели соборование. Мария Каролина выкарабкалась, но была очень слаба. Ей регулярно давали опиум, и он создавал иллюзию улучшения. Но вскоре последовали новые заболевания.
Никогда еще чета не была настолько разобщена. Супруги жили в отдельных резиденциях, и Фердинанд подумывал «бросить все, передать управление сыну Франциску и уехать в Англию на покой». Король жаловался, что ему не позволили отречься от престола, когда он хотел, а потом делал вид, что не хочет больше ничего слышать или обсуждать. Он жил в загородных домах, не возвращаясь в Палермо и заранее давая одобрение решениям, которые принимали жена или сын. Однако в январе 1813 г. он изменил отношение, снова взялся за управление страной и объявил, что желает оставаться государем. Тут же, как вспоминала дочь, «произошла бурная сцена между королем и королевой, которой он запретил даже говорить о делах. Разгневанная матушка ушла к себе».
Атмосфера ухудшалась. Королева хотела прибрать к рукам весь мир и жаждала наказать всех, кто хоть в чем-то виноват: английского посланника лорда Бентинка, сицилийцев – «плохую копию французов, которых поддерживают англичане», собственного сына Франциска, которого в июне 1812 г. Фердинанд назначил «наместником всего королевства с полномочиями alter-rego». Казалось, Марией Каролиной овладело безрассудство. «Матушка, – рассказывала Мария Амалия, – только и делала, что плакала, рыдала и говорила, что запрется в склепе и никогда оттуда не выйдет, чтобы не слышать, как после стольких лет ее гонят из родного дома, что Франциск вонзил ей кинжал в сердце и окружил ее шпионами».
Мария Каролина становилась все надоедливее. Лорд Бентинк полагал, что ее необходимо отправить домой; того же требовали сицилийские бароны. В марте 1813 г. Фердинанд написал ей письмо, где просил уехать: «Как друг я вам советую, как муж прошу, как король вам приказываю». Марии Каролине, волей неволей, пришлось собираться в путь. Из-за нездоровья отъезд пришлось задержать, однако 14 июня 1813 г. королева взошла на корабль. Накануне она симулировала острую зубную боль, чтобы еще хоть чуть-чуть задержаться на острове. Капитан подошел к ней на набережной, показал на часы и объявил, что если через тридцать минут королева не поднимется на фрегат, он уйдет без нее[132]. Плыть предстояло в Вену.
Минуя остров Закинф, где Марии Каролине пришлось выдержать карантин, Стамбул, Черное море, Россию и Польшу, королева месяцев через восемь прибыла в австрийскую столицу, пережив штормы на море, снегопады и поломки кареты на земле. Иногда Марию Каролину, как подобает по рангу, принимали в замках, стоящих на маршруте. Несколько раз она останавливалась в сомнительных гостиницах или скрывалась от бурь в лачугах, состоявших всего из одной комнаты. И там она «не показала ни удивления, ни отвращения». Королева с радостью узнала, что Наполеон потерпел поражение в Лейпциге, и союзники вошли во Францию. 2 февраля 1814 г. она разместилась в замке Хетцендорф, что в парке Шёнбрунн.
Радостные вести поступали одна за другой. Наполеон проиграл во Франции, ему пришлось отречься. Антифранцузская коалиция заняла Париж. Прежние правители снова садились на троны. Внучка неаполитанской королевы Мария Луиза, не стала сопровождать мужа в изгнании на остров Эльбу, получила герцогства Парма и Пьяченца и возвратилась в Вену вместе с сыном, бывшим королем Рима. Но что будет с Неаполем? Австрия заключила союз с Мюратом и перемирие с Англией. В обстановке всеобщей реставрации не представлялось возможным терпеть этого узурпатора в Неаполе. Так заключили между собой французские, английские и русские министры. Мария Каролина имела полное право надеяться, что вернет престол.
В соответствии с ее нравом, она не могла надеяться молча. Мария Каролина вооружилась пером и написала Талейрану письмо, где сообщила об убежденности, что «влияние в Европе, которое Франция вернет себе с полным на то правом, обещает нам, что в связи с заинтересованностью в нас, она поддержит наши законные права». У Марии Каролины были основания для надежд. В конце сентября 1814 г. в Вене собрался конгресс коронованных особ. Он должен был непременно восстановить Бурбонов в Неаполе, как уже восстановили во Франции и Испании. Но провидение распорядилось по-другому. Утром 8 сентября с королевой случился новый удар. Ей было 62 года. Последнему из тех, кто заходил справиться о ее здоровье, Мария Каролина объявила: «Я слишком много пережила».
Фердинанд без Марии Каролины
Как отреагировали на смерть Марии Каролины ее близкие? В Вене чуть всплакнули, но большого траура устраивать не стали. Многие, узнав о смерти королевы, вздохнули с облегчением. Кое-кто даже полагал, что теперь Фердинанду будет проще вернуться в Неаполь. Чтобы не говорили, короля, казалось, это совершенно не тронуло. Всего через три месяца, как Фердинанд похоронил супругу, он вступил – в морганатический брак – с любовницей, вдовой одного неаполитанского князя Лючией Мильяччо, каковой пожаловал титул герцогини Флоридии; она была на двадцать лет моложе его. Мильяччо была приветливой и скромной, как и Фердинанд совсем не питала интереса к политике. Полная противоположность Марии Каролины.
Еще в Палермо король способствовал развалу французской империи в Италии. Парма перешла в руки австрийцев, Генуя досталась прежнему правителю Сардинского королевства, возвратившему престол, Ломбардию получил Евгений Богарне. Лишь Мюрат в Неаполе еще верил в судьбу и мечтал объединить Италию под своей властью. Отречение Наполеона ничего не изменило: Иоахим Мюрат трон сохранил. Но в Вене, конгресс, созванный по инициативе канцлера Меттерниха, дабы восстановить Европу, хотел вернуть Неаполь «законному государю». Триумфальное возвращение императора с Эльбы воодушевило Мюрата, и он повел войска против австрийцев, дойдя до самых берегов По. 2 мая 1815 г. он потерпел поражение в Толентино, отправился во Францию, затем на Корсику. Авантюра одного из самых блестящих кавалеристов империи закончилась в Калабрии, где его расстреляли за попытку, столь же нелепую, сколько отчаянную, отвоевать собственное королевство.
В Неаполе на протяжении нескольких недель потешались над Мюратом и рукоплескали Фердинанду. Все давно ждали, когда вернется старый король. Его сын Леопольд явился чуть раньше него, 22 мая, благодаря австрийской армии и английскому флоту, иными словами, воспользовавшись помощью из-за границы. Фердинанд, тоже приплывший на английском судне, сошел в Портичи 7 июня. Его встретили триумфом, люди ликовали. «Народ Неаполя, – возвестил Фердинанд, – вернись в мои объятья! Я родился на твоей земле. Я знаю и уважаю твои обычаи, твой нрав, твой жизненный уклад». Он снова стал королем лаццарони[133]. Овдовев, Фердинанд словно ожил. Управлять страной он доверил Луиджи Медичи, старому проверенному слуге. Тот получил функции первого министра, а король вернулся к охоте, рыбалке и ложе в Сан-Карло, где он восхищался балеринами, аплодировал Россини и великой Кольбран, знаменитой примадонне. Несмотря на тесные связи с Австрией и Меттернихом, которому Фердинанд фактически позволил установить над своими владениями протекторат, его интересовали лишь отношения между неаполитанским королевством и Святым Престолом[134].
Судьбе было угодно, чтобы правление Фердинанда никогда не проходило спокойно. В июле 1820 г. в Неаполе вспыхнуло восстание, вслед за Испанской революцией, случившейся в Мадриде, и в подражание ей же. Два-три года в королевстве кипело недовольство. Впрочем, ограничивавшееся, по большей части, пасквилями и плакатами. Противников режима объединило тайное политическое общество карбонариев. Они призывали обязать короля ввести конституцию, чтобы таким образом ограничить абсолютизм. Во главе офицеров, которые, среди прочего, были недовольны опекой со стороны Вены, стоял и руководил восстанием генерал Гульельмо Пепе. Мятежники представили Фердинанду проект либеральной конституции. Король был поражен происходящим и вовсе не жаждал создавать новое правительство из карбонариев. Он думал лишь о том, как бы покинуть Неаполь и укрыться под защитой австрийской армии. Меттерних предоставил ему такую возможность. Договорившись с русским царем и королем Пруссии, он пригласил Фердинанда на совещание в Лайбах (современная Любляна), что в Словении. 13 декабря неаполитанский король отплыл в новое изгнание. «В третий раз, – написал Меттерних, – я ставлю Фердинанда на ноги. У него досадная склонность к падениям. Он думает, что в 1821 г. его все еще ждут и жаждут увидеть на троне».
Мир решительно отказывался принимать короля лаццарони всерьез. Когда встала угроза австрийского вмешательства, повстанцы разбежались, и 3 марта 1823 г. императорская армия вступила в Неаполь. Фердинанд, как обычно, не торопился в свою столицу. 15 марта его встретили с большой радостью. Конечно, ему было неприятно видеть, что власть в стране прибрали к рукам австрийцы, и они «проникли повсюду, вмешиваются во все подряд, но он не отказался посетить по приглашению Меттерниха конгресс в Вероне, потом в Венеции. Там он побывал в церкви капуцинов на могиле Марии Каролины. Через девять месяцев он вернулся в Неаполь. Он сохранил превосходное здоровье, его страсть к охоте нисколько не утихла. Но вскоре после очередной вылазки Фердинанд слег в постель с простудой. Он тихо умер в ночь с 3 на 4 января 1825 г. Причиной стал апоплексический удар, как и у той, что была ему женой. Фердинанду было 75 лет, он на одиннадцать лет пережил свою королеву, с которой провел бурные полвека.
Людовик XVI и Мария Антуанетта (1770–1793) Бессильная чета
«Единственным мужчиной, рядом с королем, оказалась его жена».
Мирабо«Я убеждена, что лучший способ возненавидеть все, что здесь есть – это делать вид, что все хорошо; это покажет, что ничего не может случиться».
Мария Антуанетта«Бич французов»
«У вас перед Революцией были политические связи с королем Богемии и Венгрии, и эти связи противоречили интересам Франции, которая так щедро одаривала вас… Именно вы научили Людовика Капетинга этому искусству глубокой скрытности, при помощи каковой он давно обманывал добрый французский народ… Именно из-за ваших советов и вашей назойливости захотел он бежать из Франции и оказался во главе негодяев, вздумавших извести нашу родину».
Такими словами 12 октября 1793 г. примерно в 6 часов вечера гражданин Эрман, глава революционного трибунала и правая рука Робеспьера, обратился к Марии Антуанетте, которую теперь называли Капетингской вдовой. Она прекрасно понимала, что «тайный допрос» устроили лишь затем, чтобы предъявить ей обвинение. На встрече, предварявшей официальное судебное заседание, которое было запланировано на послезавтра, присутствовали глава трибунала, публичный обвинитель Фукье-Тенвиль и секретарь. Марии Антуанетте было страшно уже сейчас. Эрман не занимался расследованием. Он добивался признания и подбирал такие пункты обвинения, которые позволили бы осудить стоящую перед следователями королеву. Мария Антуанетта все отрицала: «Мне запретили вести какую-либо личную переписку с заграницей, и я никогда не вмешивалась во внутренние дела».
Никогда, продолжала королева, не имела она тайных агентов для переписки с родственниками и не передавала деньги своему брату-императору. Она, пребывая в Тюильри, не готовила заговор против Революции и не подстрекала мужа бежать из страны.
14 числа утром поседевшая и изнуренная королева предстала перед официальными судьями в большом приемном зале Дворца. Ее опять объявили в сговоре с врагом, а также в том, что она расточила «совершенно отвратительным способом денежные средства Франции, заставляла народ лить пот ради своих удовольствий и интриг». Она всем напоминала «Мессалину, Брунгильду, Фредегонду и Медичи [sic]».
Мария Антуанетта ответила достойно: «Я просто была женой Людовика XVI, и от меня требовалось только подчиняться его воле». Прокурор Фукье-Тинвиль заключил, что Антуанетта была «заклятым врагом французского народа», а потом Эрман охарактеризовал ее «соучастницей или даже подстрекательницей большей части преступлений, в которых сочти виновным последнего тирана Франции».
16 октября Марию Антуанетту казнили на гильотине. Значительная часть обвинений, выдвинутых этими судьями, повторяли содержание памфлетов, песенок и пошлых пасквилей, которыми сопровождалось все правление королевы. Ходили истории о преступных влюбленностях Марии Антуанетты и ставилась под сомнение законорожденность ее детей. Ее называли нимфоманкой и лесбиянкой. «У королевы, – писала мадам Кампан, – всегда были какие-то противники». По ее мнению журналист Эбер, чтобы оправдать заключение королевы в Тампль, пытался выставить ее чудовищем, совратившим дофина.
«Если я не отвечаю [на оскорбление], – заметила с негодованием Мария Антуанетта, – то лишь потому, что сама природа отказывается отвечать на подобные гнусные обвинения в адрес матери. Я призываю всех, кто может, явиться сюда».
Главными пунктами обвинения были следующие два: расточение королевской казны, которое стало причиной финансового кризиса в государстве и снискало Марии Антуанетте прозвище мадам Дефицит; и политические интриги, которыми занималась она, иностранная принцесса, урожденная Габсбург-Лотарингская, поскольку, несмотря на то, что была королевой Франции, любила родину куда больше. Она была австрийкой, которая поначалу преданно служила венской дипломатии, а потом звала правителей вражеских государств совершить вторжение во Францию, чтобы уничтожить Революцию и восстановить абсолютную монархию.
Кроме того, Мария Антуанетта чересчур вмешивалась в политику, опустошала государственные сундуки и тратила их содержимое на легкомысленные прихоти, ставила и убирала министров, пеклась исключительно об интересах своей семьи. Говорили, что она злоупотребляла влиянием и вечно помыкала королем. Ведь сказала же Людовику XVI, когда он еще пользовался народной любовью, одна простая женщина через два дня после взятия Бастилии: «Скажите вашей королеве, чтобы она больше не встревала в управление нами».
Нельзя писать историю, ссылаясь на памфлеты. Из всех королев Франции Марию Антуанетту, пожалуй, не любили больше всех. На нее лились потоки совершенно беспочвенной клеветы. «Что же я им сделала?», – простодушно спрашивала она, когда приезжала в столицу, а парижане оказывали ей ледяной прием. Стараниями тех, кто ругал королеву за легкомыслие и неумеренный вкус к развлечениям, и тех, кто считал ее Макиавелли в придворных одеяниях, мы мало что знаем о ней настоящей. Безвольная и расточительная королева? Заложница собственного окружения, искушавшего ее властью? Она умело вертела собственным мужем, которого принято считать нерешительным?
12 октября на обвинения Эрмана по поводу политических связей с братом-императором Францем II королева отвечала, что до Революции никогда не вмешивалась в политику, а после ей запретили вести какую-либо переписку с приемником австрийского правителя Леопольдом II. Она отрицала, что вдохновляла контрреволюцию.
Мария Антуанетта солгала по всем пунктам обвинения. Да, процесс был организован кое-как, доказательств не хватало, вердикт вынесли авансом, а сами по себе обвинения были весьма безосновательными.
Чтобы ни утверждали враги Марии Антуанетты – называвшие ее «Австрийской эрцтигрицей» и «пиявкой, присосавшейся к французам» – и защитники обвиняемой, историк должен постараться быть объективным[135].
Двойная ошибка
Не каждый день женишься на дочери императора. Следовало вести род от Карла IX, одного из последних представителей рода Валуа, чтобы состоялся подобный союз между королем Франции и принцессой из венских Габсбургов[136]. Замысел поженить дофина, внука Людовика XV и эрцгерцогиню Марию Антуанетту, приходившуюся пятнадцатым, предпоследним ребенком Францу I и Марии Терезии Австрийской был очень выгоден для французского двора. Этот престижный брак должен был укрепить союз между Бурбонами и Габсбургами, существовавший с 1756 г. Союз столь же удивительный, столько неожиданный. Настоящая «дипломатическая революция». Ведь раньше между этими домами существовало старинное, казавшееся непримиримым соперничество. Договор положил конец двухсотлетней борьбе против Габсбургов, а свадьба закрепила примирение, так потрясшее Европу.
Нечасто невеста встречала в Версале столь нерадостный прием. Причина крылась не в юном возрасте принцессы – Марии Антуанетте было 14 с половиной лет, а придворные обычаи не запрещали жениться на едва оформившихся девушках. Дело было в неприязни к родовому врагу, которую недавно заключенный союз вовсе не умерил. С самых первых переговоров о браке в 1764 г. мать будущего Людовика XVI Мария Жозефа Саксонская желала сосватать сына за какую-нибудь саксонскую принцессу, а отец – дофин Людовик – до самой смерти (унесшей его в следующем году) горячо возражал против договора с австрийцами, подписанного в 1756 г. Оба они не любили герцога де Шуазеля, который был министром при Людовике XV и организовал подписание договора о будущем союзе. Стараниями дочерей правящего монарха – мадам Аделаиды, Виктории и Софии – королевская семья (за исключением самого Людовика XV) разделяла враждебные предрассудки, присущие значительной части французского общественного мнения, которое, встревоженное недавней перетасовкой союзов, оставалось антиавстрийским.
Несмотря на препятствия, переговоры о браке продвигались успешно. Посол Марии Терезии в Париже граф де Мерси-Аржанто регулярно встречался с Шуазелем. Воспитателем будущего дофина назначили аббата де Вермона. Тот оставил пост библиотекаря в парижском коллеже Четырех Наций и в ноябре 1768 г. уехал в Вену, чтобы обучать Марию Антуанетту истории и обычаям ее новой страны. О свадьбе условились в мае 1770 г.
Будущий жених не испытывал ни капли радости. 15-летний Людовик был стеснительным, неуклюжим. Его подавляло величие стареющего деда. Его родители рано умерли и он вырос, не зная их любви, а потом замкнулся в себе, когда скончался его старший брат и он стал дофином[137]. Хилый (позже он превратился в великана), неразговорчивый подросток, не обладавший ни величием, ни элегантностью – Людовик плохо танцевал и ходил вразвалку – нашел убежище в учебе и в результате получил отличное образование.
14 мая 1770 г. в Компьеньском лесу молодые люди в первый раз встретились, и будущий Людовик XVI познакомился со своей суженой. Скорее очаровательная, нежели хорошенькая Мария Антуанетта сразу понравилась королю, но оставила его внука равнодушным. Спустя день их обвенчали в Версале. Маленькая эрцгерцогиня австрийская после счастливого и беззаботного детства в Вене стала женой дофина, ее ждал трон Франции, и ей приходилось соответствовать высокому положению под безжалостными взглядами тех, кто знал обычаи самого элегантного двора в Европе.
Родня не оставила ее без попечения. Трое человек следили за каждым шагом Марии Антуанетты: мать, тревожившаяся за будущее своей младшей, последней дочери, что вышла замуж так рано, а также австрийский министр Кауниц и посол Мерси-Аржанто, которые то в письмах, то при личном общении щедро давали Марии Антуанетте советы, подсказывали, как избежать опасностей, предостерегали от ошибок. Иногда эти наставления не отличались логикой или последовательностью. В первую очередь Марии Антуанетте советовали угождать королю. Тут она преуспела: Людовик XV обожал свою юную сноху. Самым сложным являлось предписание не связываться ни с какими группировками. Едва приехав в Версаль, жена дофина вошла в партию врагов мадам Дюбарри, королевской фаворитки, и засвидетельствовала почтение герцогу де Шуазелю, который устроил ее брак, но через семь месяцев после свадьбы утратил расположение Людовика XV. Каждая жена должна слушаться мужа. Мария Антуанетта получила этот наказ в одном из первых писем матери.
В Вене Мария Терезия мечтала как можно скорее узнать, что дочь беременна. Недостаток внимания со стороны мужа, «что на людях, что наедине», рисковал задержать появление ребенка. Конечно, чета была очень молода. Но проходили месяцы, а за ними годы. Стало казаться, что брак так и не будет осуществлен. Дофин, в конце концов, придумал, как договориться со своей очаровательной супругой. Людовик переступил через себя и стал брать уроки танцев, чтобы понравиться жене. Впрочем, Мария Антуанетта была пока очень молода. И она вовсе не рвалась становиться матерью. Для счастья ей было достаточно развлекаться, танцевать, радоваться жизни на балах в Опера. «Надо хорошенько повеселиться, ведь молодость так коротка», – любила повторять она.
Юный возраст служил Людовику и Антуанетте оправданием их неопытности, когда смерть Людовика XV 10 мая 1774 г. сделала их новыми государями. «Мы восходим на престол слишком молодыми», – заявил Людовик XVI, которому не исполнилось еще и 20 лет. «Какое бремя! – добавил он, обращаясь к жене. – Однако неосмотрительно взяв его на себя, вы поможете мне его нести». Оба они не были готовы к управлению. В последние годы власти покойного короля Людовика держали подальше от государственных дел. Мария Антуанетта считала, что новый ранг сулит независимость нового масштаба. Еще сильнее, чем раньше, она нуждалась в руководстве. «Следует уметь играть свою роль, если вы хотите, чтобы вас уважали», – в поучениях матери слышался призыв взять себя в руки.
В Версале обезоруживающая кротость Людовика XVI наводила всех на мысль, что монарх пребывает под каблуком у жены. Когда король назначил графа де Морепа государственным министром и главным советником, австрийский дипломат посетовал, что Мария Антуанетта не приняла в этом никакого участия. Морепа, служивший министром флота при Людовике XV, был достаточно силен для своих 73 лет и рассчитывал подмять под себя неопытного короля, пользуясь поддержкой трех мадам – сестер покойного короля. Они, особенно Аделаида, были готовы опекать царственного племянника. Мария Антуанетта очень уважала посла и старалась помочь королю противостоять такому влиянию. «Завоевывать авторитет монарха», – не уставал повторять в Вене канцлер Кауниц. В одной из записок по поводу достойного поведения королевы он советовал ей вдохновлять мужа на различные решения, но так, чтобы он об этом не догадывался, и использовать его доверие, чтобы назначать на министерские посты нужных людей[138].
Однако у юной королевы отсутствовали и необходимые полномочия, и стремление к настоящей власти. Ее мать оказалась проницательнее собственных советников. «Я подозреваю, – писала она послу, – что она не будет особо принимать участие в делах… нерадивость всегда слишком мешала ей». Слабость дочериного характера не позволила бы ей руководить королем. Да и она не предпринимала для этого никаких усилий. «Он любит меня и делает все, что я хочу», – пыталась заверить мать Мария Антуанетта. Оптимизму де Мерси, уверенному, что обаяние юной королевы позволит ему забрать в свои руки политические дела королевства, Мария Терезия противопоставляла свойственные дочке безалаберность, отсутствие вкуса к серьезным занятиям, нежелание прилагать к чему-то усилия. Чтобы служить интересам Вены императрица, знавшая собственных детей, свела роль королевы к двум функциям: угождать мужу и родить сына.
Знавший Версаль де Мерси был уверен, что Мария Антуанетта научится влиять на короля, поскольку тот вел себя удручающе. Склонность к задумчивости, переходившая в нерешительность, и слабая воля вынуждали сомневаться в способностях Людовика XVI. Королева «обладает абсолютной властью над мужем», спешили заключить многие. На самом деле, несмотря на внешнее впечатление, монарх не был человеком нерешительным. Он любил свою жену, но не допускал, чтобы она или ее родня влияли на него. Людовик сам признался Морепа – впрочем, возможно, он просто хвастался – «что он никогда не говорит с королевой о делах государства»! Кое-кто думал, что монарх держал жену подальше от политики, когда был занят корреспонденцией или принимал министров. Людовик опасался легкомысленного и увлекающегося характера королевы, старался не допустить, чтобы Вена давила на него при помощи императорской дочки. Едва взойдя на престол, король научился не поддаваться Марии Антуанетте. И нарочито-пассивным поведением он лишал ее возможности манипулировать собой.
Королева должна была добиться, чтобы герцога Шуазеля вернули. «Ведь это он нас поженил», – напоминала она. Немолодого министра любили, но Людовик XVI отказался вручить портфель тому, кто превратил принадлежавшее ему поместье Шантелу в очаг оппозиции покойному королю. Приказ о ссылке отменили, но никаких милостей герцог не получил. В честь коронации в Реймсе в июне 1775 г. Мария Антуанетта получила разрешение провести с Шуазелем аудиенцию. «Я ваша должница; благодаря вам, я стала самой счастливой женщиной», – нежно сказала она герцогу, который тут же решил, что эти слова дают ему право критиковать политику правительства и советовать королеве взять над мужем верх, «хоть при помощи нежных взглядов, хоть при помощи страха». Несмотря на старания жены, Людовик XVI настойчиво отказывался дать приглашение Шуазелю и при встречах обращался с ним холодно. Старый министр скончался через девять лет. Он страдал от разочарования, но был уверен, что Мария Антуанетта влияла на короля слабо. «Королева, – говорил он, – не будет править вместе со своим унылым супругом».
В этом пророчестве он опирался на неудачный личный опыт, а также создание первого правительства при новом монархе. Через три месяца после коронации Людовик XVI избавился от министров, служивших при деде: предупрежденный об отставке герцог д’Эгийон, бывший министром иностранных дел, уволился в июне, канцлер Мопу и генеральный контролер финансов Терре последовали его примеру 24 августа. То, что позднее назовут – с некоторым преувеличением – «Варфоломеевской ночью министров». Марию Антуанетту никак не затронуло. Кто их мог заменить? Двор и город гудел слухами, волновались различные группировки: шуазелистам, выступавшим за сохранение союза с Австрией, противостояла партия ревностных католиков во главе с тетушками правящего короля и его братом, графом Прованским.
В отсутствие Шуазеля, которого не допустил до политики монарх, Мария Антуанетта не была готова вмешаться в происходящее и поддержать нужного кандидата на должность министра иностранных дел: она симпатизировала барону де Бретейлю, при том, что Вене нравился кардинал де Берни. В итоге выбрали профессионального дипломата Вержена. Это назначение явилось неожиданностью для всех, включая его самого: он вовсе не стремился на это место. Людовик XVI послушался совета Морепа. Возглавлять финансы поручили Тюрго, до настоящего момента вполне довольного постом интенданта в Лимузене. Королеву это устроило. Он – «очень честный человек», – только и повторяла она. Мария Антуанетта не проявила в отношении выбранных кандидатов ни враждебности, ни особой радости.
Король всем демонстрировал, что не позволит жене играть какую бы то ни было роль в государстве. Когда та выразила желание поучаствовать в небольших министерских комитетах, Людовик отказал ей. Зато он поручил супруге руководить организацией придворных развлечений. Немалая ответственность для двадцатилетней королевы, не имеющей опыта и незнакомой с обычаями страны. После последних лет царствования Людовика XV, выставлявшего напоказ скандальную связь с мадам Дюбарри, после обязательного траура в связи с его смертью версальская жизнь мало-помалу приходила в себя и давала королеве прекрасные возможности для того, чтобы найти себе полноценные занятия и создать свою независимую нишу. По силам ли это Марии Антуанетте? Людовику хотелось в это верить, но самой королеве этого было мало.
Молодую женщину снедала политическая жажда. Ей хотелось не участвовать в делах или правительственной рутине – это не интересно, – а выбирать кандидатов на высшие посты, возвышать друзей, отправлять в немилость тех, в ком она видела врагов. Интрига, игры группировок, кулуарные заговоры, великие судьбы. Король ухитрился увернуться от настойчивых советов жены, но все же пообещал вернуть титул сюринтендантки дома ее близкой подруге принцессе де Ламбаль. Вместе с этими полномочиями Людовик, знавший цельный и кипучий характер жены, доверил ей почетную представительскую роль, чтобы таким образом, держать ее подальше от дел. Австрийская партия ошибочно считала Людовика слабым, а королева недооценивала, насколько она могла влиять на мужа. Из-за этой двойной ошибки посол Мерси подталкивал Марию Антуанетту, чтобы она взяла короля в оборот, считая, что она сильнее его по характеру и из нее выйдет Ментор в юбке.
В поисках семейного счастья
Поверхностный характер королевы заметили и ее мать, и ее брат император Иосиф II. И со временем их письма запестрели выговорами. Манера, с какой Мария Антуанетта подчас осмеливалась разговаривать с мужем, казалась им недопустимой. Гордясь, что ей удалось добиться у короля санкции на встречу с Шуазелем в Реймсе, она похвалилась успехом в письме, адресованном одному австрийскому дипломату, другу ее матери: «Я так хорошо все провернула, что этот бедолага [Людовик XVI] самолично устроил мне самое удобное время для встречи с ним [Шуазелем]». Эти строки были зачитаны Марии Терезии по ее повелению, и она принялась отчитывать дочку: «Что за манеры! Что за легкомыслие! Что за слог! Бедолага! Где уважение и признательность? Хотя это слово было сказано просто в шутку и означало, что Мария Антуанетта «сыграла на всей своей женственности, чтобы добиться того, что ей надо»[139], ее долго потом попрекали им.
Более однозначным стало еще одно суждение о Людовике, которое Мария Антуанетта беззастенчиво высказала в другом письме. «Мои вкусы, – говорила она, – не совпадают со вкусами короля; его интересуют только работа и механические конструкции. Согласитесь, мне не пойдет стоять возле кузницы». Неблагоразумие этого послания и его непристойность разозлили Иосифа II. Он тут же довел до сведения королевы свое негодование: «Куда вы суетесь, моя дорогая сестра: смещать министров, раздавать кому-то земли, вручать одному или другому должности, одерживать победы, придумывать новые, разорительные для собственного Двора расходы…. Спросили ли вы себя хоть раз, по какому праву вы суетесь в государственные дела и французскую монархию? Кто вас этому научил? Что вы знаете, что осмеливаетесь думать, что ваши взгляды или мнения могут принести какую-то пользу?» Иосиф не стал отсылать этот нагоняй. Через какое-то время он отправил сестре другое письмо, не столь резкое, но оно до наших дней не сохранилось.
Когда Мария Антуанетта хотела дать отпор родственным упрекам, она напомнила, как Вена сама подталкивала ее отстаивать интересы родины. Габсбургские правители, их канцлер и посол отныне зареклись высказывать королеве претензии поучительным тоном, забыв, что они сами ее провоцировали на подобное поведение. И какое у них право возмущаться несправедливыми словами Марии Антуанетты в адрес мужа, когда они сами нарисовали ей такой нелестный портрет Людовика?
И в Версале, и в Шенбрунне всех волновало одно: после долгих лет брака у королевской четы не было ребенка. Марию Антуанетту муж не сильно привлекал в физическом плане, да и он, в свою очередь, нередко ее игнорировал. «Удвойте нежности», – посоветовала дочери Мария Терезия. Ведь двор только и судачил об этом бесплодном союзе, а в министерствах из-за него сходили с ума от волнения. Виновен ли в бездетности Людовик? Императрица была в том уверена. Дофин, а затем король прошел четыре курса осмотра у лучших хирургов. Все они заключили, что он нормально сложен и «нет никаких физических препятствий для супружеской жизни». Монаршеский фимоз и помощь, оказанная ловким движением ланцета – не более чем плод воображения Стефана Цвейга[140].
Но ожидание уже казалось вечным. Граф д’Артуа, второй брат короля, женившийся раньше Людовика, успел обзавестись сыном, герцогом Ангулемским, пока монарх безуспешно силился стать мужем собственной жены. В апреле 1777 г. Иосиф II решил, что он обязан нанести визит в Версаль и разобраться с тайной. Побеседовав без ложной скромности с четой, австрийский император поставил собственный решительный диагноз: «Это двое неопытных юнцов». Сексуальность проснулась в короле с опозданием, его потребности отличались скромностью. Долгое время считали (с легкой руки его брата Прованса) что он в данной области глух. А у Марии Антуанетты, по свидетельству Иосифа II, было «мало темперамента»: «Проявляете ли вы, сестра моя, привязанность, нежность, когда он подле вас?.. Не холодны ли вы, не отстраняетесь ли, когда он ласкает вас, говорит с вами?.. Не создаете ли вы впечатление, что вы раздосадованы или даже что вам неприятно?»
И Людовик, и Мария Антуанетта вступили в брак слишком рано, их невезучие (и болезненные) попытки в постели привели к тому, что они совершенно утратили веру в себя. Эти неудачи, ранящие их целомудрие, происходящие под нескромными или насмешливыми взорами придворных, порождали в супругах чувство стыда и вины. После книги Стефана Цвейга, омытой фрейдистскими настроениями эпохи автора, многие писатели видели в этом причину, определившую отношения четы. Людовик сбрасывал физическое напряжение во время охоты и компенсировал свою брачную «несостоятельность» тем, что закрывал глаза на женины капризы, а Мария Антуанетта забывалась, развлекаясь в своем маленьком кружке, и проводила ночи, не ища общества мужа.
Ситуация разрешилась в августе 1777 г. Ликующая королева сообщила матери: «Я испытываю самое большое счастье за всю свою жизнь. Вот уже более девяти дней, как наш брак состоялся… Я не уверена, что уже беременна, но хотя бы у меня есть надежда, что это однажды свершится». Ей был всего 21 год.
20 декабря 1778 г. родилась девочка, будущая старшая дочь короля. В 1781 г. появился дофин Людовик Жозеф, а в 1785 г. последовал второй сын – он стал Людовиком XVII, и еще через год – София. Через семь лет ожидания Мария Антуанетта подарила монарху и королевству детей. С рождения уже первого ребенка Мария Терезия могла радоваться: ее дочь не только не отвергли, но она стала матерью, завоевала уважение при дворе, и союзу с Австрией больше ничего не угрожало. Вена рассчитывала, что новое положение королевы даст ей кое-какие выгоды.
Обманчивые видимости
Долгое ожидание наследника компрометировало Марию Антуанетту. Ее вкус к независимости и отказ подчиняться требованиям шокировали общественное мнение. Еще будучи женой дофина, она бегала по парижским спектаклям в компании придворной молодежи. Став королевой, она не собиралась отказываться от таких развлечений и заявляла, что «веселится на балах в Опера так же скромно, как последняя женщина королевства». Образ молодой четы, дружной и добродетельной, хоть и пока бездетной тут же пошатнулся, а потом и вовсе рассыпался. В самом Версале, где она откровенно показывала, как тяжелы для нее обязанности, налагаемые королевским рангом, – равно как в Париже, где ей нравилось быть без короля и это давало пищу всяческому злословию, – Мария Антуанетта вызывала неодобрение. Милости, которые она бездумно расточала, доделали остальное.
Вокруг королевы немедленно собрался «легкомысленный народец», развязный, насмешливый, жадный до монаршеских подарков, выпрашивающий должности, который она опекала в ущерб обычных хозяев двора. К этой группе примкнули, помимо Артуа, приходившегося деверем нашей героине, герцог Куаньи, графы Гинский и Адемарский, Водрей, принц де Линь – «австриец во Франции и француз в Австрии», барон де Безенваль, умевший так хорошо веселить Ее Величество, Лозен, фамильярный до неприличия. А первое место занимала принцесса Ламбаль, сюринтендантка дома с 1774 г., а затем оно досталось Полиньяк. С 1775 г. в фавор попала Йоланда де Поластрон, герцогиня де Полиньяк, который продлился пятнадцать лет. В 1782 г. ее назначили гувернанткой французских инфантов, эту обязанность она превратила для себя в синекуру. Ее муж, граф Жюль занимал пост первого оруженосца, а в 1780 г. получил герцогский титул. Вместе с Дианой де Полиньяк, фрейлиной графини де Артуа, а затем сестры короля мадам Элизабет, чета сумела сдружиться с королевой. Мария Антуанетта была готова удовлетворить любые, даже самые непомерные аппетиты своих друзей. А если те пересекались с государственными делами, то королева тут же бросалась уговаривать министров, плести интриги и осаждать монарха. По тому, как она хлопотала для графа де Гин, было видно, что Мария Антуанетта интересовалась политикой только в связи с амбициями ее любимчиков.
Де Гин пользовался немалым влиянием. Он служил послом в Лондоне, где его в свое время обвинили в растратах и «преступном использовании секретных сведений». Следствие по этому делу шло в Большом Шатле с 1771 г. Никто не мог предсказать его итог. Дело тянулось долго, и непосредственный начальник дипломата, герцог Эгийонский, который раньше поддерживал своего подчиненного, теперь стремился доказать его вину. Гин считал, что пострадал из-за махинации, устроенной врагами Шуазеля, который оказывал ему протекцию. С самой коронации Людовик XVI унаследовал это запутанное дело, где ответчик из кожи вон лез, пытаясь выставить себя жертвой мнимых мстителей. Под давлением окружения Мария Антуанетта, не знавшая де Гина и не имевшая никакого интереса в данном деле, вмешалась и стала защищать его. Дипломат выиграл процесс. Королева на этом не остановилась и стала преследовать д’Эгийона. Тот предпочел уйти в отставку. Марии Антуанетте этого было мало, и она добилась, чтобы король отправил герцога в изгнание. Но не в Турень, как надеялся д’Эгийон, а в далекую Гасконь. Королева в открытую праздновала успех. «Его отъезд – целиком и полностью плод моих усилий, – писала она – Он получил по заслугам; этот наглец … не раз пытался проявить дерзость в отношении меня». В народе устоялось мнение, что королева раздавала и забирала министерские посты.
Через четыре года в 1775 г. Гин снова впутался в неприятности, на сей раз куда более серьезные. До сих пор он служил послом, и ему сообщили, что его собирались освободить от официальных полномочий. Ведь он успел выразить личное сочувствие испанцам в связи с тем, что Франция собиралась пренебречь интересами Мадрида, несмотря на Фамильный договор, и обещал англичанам, что французы не станут вмешиваться в их борьбу с американскими мятежниками. В Версале королевский совет единодушно обвинил дипломата в том, что тот ведет собственную политическую игру, но только Малезерб, министр королевского Двора, и его друг Тюрго открыто попросили отозвать Гина. Чем разгневали королеву. Мария Антуанетта стала хлопотать перед королем, дабы тот пожаловал Гину компенсацию и покарал Тюрго, которого она считала виновным в отзыве ее протеже. Малезерб ушел в отставку сам, и 12 мая 1776 г. стало известно, что Тюрго сняли, а граф де Гин стал герцогом.
Следует ли винить Марию Антуанетту в немилости Тюрго? Масштабный замысел экономического и социального обновления Старого режима потерпел крах из-за каприза молодой королевы, взявшей верх над малодушным монархом?
Хотя в свое время Мария Антуанетта тщетно возражала против вручения министерской должности Малезербу, к назначению Тюрго она отнеслась равнодушно. Ее нисколько не интересовали реформы, предпринятые тем, о ком говорили, что он «жаждет общего блага». Что значили для королевы отмена цехов или свободная торговля зерном?
У министра финансов хватало и других врагов: его привилегии мешали их интересам, Шуазель вечно был настороже, парижский парламент внимательно присматривался к проектам о реформе муниципалитетов. Морепа завидовал сопернику, король, в конце концов, лишил Тюрго права проводить реформы и отнял все его полномочия. «Господин Тюрго хочет быть мной, – недовольно заявил Людовик XVI, – а я не желаю, чтобы он стал мной».
В истории с Тюрго Мария Антуанетта сыграла роль назойливой мухи. Ее старания несколько повлияли на исход, добились которого другие люди, несмотря на то что она сулила министру страшную кару, если он осмелится ей противоречить. Дарование Гину герцогского титула, которое королева буквально выжала из супруга, было негативно встречено общественным мнением. В народе громко заявили о своем недовольстве и винили во всем посредничество Марии Антуанетты, осуждали ее за то, что она стала заложницей собственного окружения, а короля – за то, что плясал под дудку жены. Никто не хотел видеть, что незаслуженная милость была сделана из тактических соображений: она затыкала рот нескромному человеку, слишком хорошо знавшего секреты французской дипломатии. Торжествуя в связи с отзывом всеми любимого министра и наградой, пожалованной сомнительному кандидату, Мария Антуанетта беззастенчиво хвасталась перед всеми своей властью над королем.
Переоцененное влияние
Стремилась ли королева попасть на политическую арену? Именно такое впечатление складывается, когда читаешь признания министров и фаворитов, торопившихся приписать все назначения и отзывы воле государыни, а не заслугам тех, кто удостоился награды, и ошибкам тех, кто попал в немилость. Одни говорили, что Мария Антуанетта собирала в своих покоях всех государственных деятелей, которых она считала своими врагами, и разносила их в пух и прах. Несчастным оставалось лишь согнуть спину и ждать, пока утихнет буря. Другие утверждали, что королева использовала положение жены, и матери, чтобы добиваться своего. В 1775 г. Мария Антуанетта сообщила престарелому Морепа, что хотела бы убрать г-на де ля Врийера из королевской свиты: «Я желаю передать его место господину де Сатрину… Предупреждаю вас, что сегодня вечером скажу это королю, а завтра повторю свое желание»[141]. В результате, ей пришлось объясняться в присутствии короля.
Многие из современников свидетельствуют, что Мария Антуанетта держалась с королем развязно, а ее насмешки и непочтительность показывали презрение, которое она к нему питала. И действительно, Людовик XVI гордился женой, ее элегантностью и королевским величием; он потакал ей и был готов простить что угодно. Кое-кто уверяет даже, что он ее побаивался. «Видно было, – утверждает аббат де Вери, – что он держится так же весело и даже более непринужденно в обществе, где ее нет». Однако легкомыслие мешало Марии Антуанетте заниматься политикой последовательно. Она была импульсивной, могла внезапно изменить мнение, яростно поддерживала одного кандидата сегодня, а завтра так же страстно начинала выступать за другого. Королева любила удовольствия и не утруждала себя разгадыванием тайн политики или долгими размышлениями, прежде чем примкнуть к какой-то партии. Зачастую подобные назначения на государственные посты оставляли ее равнодушной. Так случилось, когда в 1777 г. Неккер занялся финансами, а в 1783 г. оставил пост, и тот перешел к Калонну.
Если кое-кто из современников, наименее знавших реальное положение вещей, и приписывал королеве власть и влияние, то это лишь потому, что сама Мария Антуанетта их в этом убедила. Двор, всегда бывший рассадником слухов и интриг, за каждым решением видел заговор. Королева была постоянно на виду, она не умела притворяться, имела склонность к категоричным суждениям. Она с легкостью могла сойти за всемогущую волшебницу. Многие думали, что она стоит за каждым назначением, за каждой немилостью. И весьма преувеличивали ее влияние. На самом деле все было не так. Сама Мария Антуанетта признала это в одном из писем к брату, и тот поразился, какую ясность сознания проявила та, кого он еще недавно называл «ветреной головой»: «Я не обманываю себя по поводу своих возможностей, я знаю, что, особенно в политике, не обладаю большим влиянием на мнение короля… Не имея намерения похвалиться или ввести кого-то в заблуждение, я заставила общество поверить, что обладаю большей властью, чем на самом деле, поскольку, если в это не будут верить, от моей власти вообще ничего не останется». Это трогательное признание показывало, что легкомыслие Ее Величества было мнимым, и она понимала границы своих возможностей. «Будет ли благоразумно с моей стороны, – добавляет Мария Антуанетта, – устраивать сцены с министром Его Величества по поводу вещей, в связи с которыми он почти точно уверен, что король меня не поддержит?» Королева признавала: Людовик XVI умел дать ей отпор.
Он постоянно отказывал ей, когда она заводила речь о возвращении Шуазеля. Говорят даже, что однажды чета поссорилась из-за этого. И Людовик якобы сказал жене: «В стране может быть только один хозяин, и этим хозяином, мадам, буду я»[142].
Король держал подле себя графа де Морепа вплоть до самой его смерти в 1781 г., несмотря на то что Мария Антуанетта не доверяла наставнику, временами пыталась оспаривать его авторитет, общалась с ним жестким «деспотичным тоном».
В 1775 г. Людовик назначил в министерство военных дел графа де Сен-Жермен, при том, что его супруга настаивала на маркизе де Кастри. Приемником Вержена, скончавшегося в 1787 г. был выбран граф де Сен-При, хотя королева хотела дать эту должность Монморину. По собственному признанию, она не могла «идти против мнения короля». Когда в 1780 г. понадобилось вручить кому-то портфель министерства флота, участия Марии Антуанетты не потребовалось: король самолично решил назначить Кастри.
В этом списке неудачных попыток участия в политике, есть одно исключение: трижды королева, под нажимом родственников, просила отозвать графа де Монбари, государственного секретаря военных дел. Этот легкомысленный и всеми ругаемый человек совершил большую ошибку – «проталкивая» своих протеже перед любимцами Марии Антуанетты. В конце концов, королева своего добилась, и, невзирая на старания Морепа, желавшего дать пост Пюисегюру, должность с огромным трудом досталась графу Сегюру. Чтобы убедить короля, его супруга явилась к нему однажды в декабре 1780 г. в семь утра и вызвала Морепа. Тот, не вполне пришедший в себя спозаранку, был в состоянии привести против кандидата Ее Величества лишь самые слабые доводы. «Королева, – написал Безенваль, – с легкостью разбила его наголову и почти заставила его закрыть рот». При дворе знали, что успех Марии Антуанетты – это также успех Неккера, хотя правительство и списывало все на шуазелистов. Но тут же пошли разговоры, что выбор в пользу Сегюра – дело рук партии с Марией Антуанеттой, Полиньяком и Безенвалем во главе. «Королева… – радовался последний, – прекрасно знала, когда ей надо, и как использовать средства для убеждения и успеха». Сегюр стал министром, получившим пост благодаря прямому вмешательству государыни.
Своим назначением на должность генерала-контролера в 1783 г. Калонн обязан больше клану Полиньяков, нежели королеве, поддерживавшей возвращение Неккера. Сам король считал, что лишь он один сумеет навести порядок в государственных финансах. Вскоре Мария Антуанетта невзлюбила Калонна[143]. Когда тот решил созвать совет государственных деятелей, чтобы добиться проведения реформ в финансовой сфере, королеве это так не понравилось, что она отказалась присутствовать на открывающем заседании в феврале 1787 г. Кастри нужно было срочно найти приемника Калонна, и он нажимал на королеву, а Мария Антуанетта не скрывала желания убрать генерала-контролера. Тот отправился к королю с жалобой на его супругу. «Людовик поначалу пожал плечами при мысли, что королева (женщина, как он ее называл) рискнула составить мнение по данному вопросу». Затем он попросил позвать Марию Антуанетту, сделал ей упреки в присутствии министра и сурово отругал ее за то, что она вмешивается в дела, «на которые женщине и смотреть нечего». Он взял ее за плечи и вывел, как напроказившего ребенка. «Мне конец», – вдруг догадался Калонн[144]. 8 апреля он попал в опалу.
Подчас было неблагоразумно получать правительственную должность, не заручившись одобрением Марии Антуанетты. Опасно было – и министр это уже понял – настроить ее против себя. Получается, что весной 1787 г., за два года до того, как разразилась революция, королеве удалось, наконец, добиться политической власти?
Миф об австрийской партии
Несмотря на собственные предостережения, Мария Терезия Австрийская приходила в отчаяние из-за легкомыслия и «беспутности» дочери, поскольку сомневалась, что однажды та сумеет «правильно воспользоваться своим влиянием на короля». Ведь посол Мерси так и не сумел заручиться ее помощью, чтобы провести в министерство нужных кандидатов. Когда Мария Антуанетта вмешивалась в назначения, она следовала, как все понимали, своим капризам или мнениям свиты, а не инструкциям Вены[145]. В памфлетах ее окружение ошибочно окрестили «австрийской партией». Во внешней политике Мария Антуанетта и вовсе не преуспела: ее защита семейных интересов, вопреки надеждам Вены, не превратила Францию в покорного союзника Австрии.
Многие забывают, что Людовик XVI сделал дипломатию исключительно своей прерогативой. Он хорошо разбирался в ней и, опираясь на качественную помощь Вержена, выдвигал четкие замыслы, знал, как принимать решения. Оценив шансы на успех, он поставил страну на сторону американских мятежников. В феврале 1778 г. он подписал с ними договор о союзничестве, а в июле следующего года объявил войну Англии. «Окончательно решение принимал король, – сказал его министр иностранных дел. – Влиянию министров он не поддавался… Я могу достоверно заявить, что Его Величество придал нам всем мужества».
Королевская воля не встретила ни согласия, ни неудовольствия со стороны Марии Антуанетты. Дело, не касавшееся австрийской династии, нисколько не интересовало ее. Но, поскольку брат королевы Иосиф II хотел заручиться поддержкой Франции на случай, если в Баварии разразится открытый спор о преемственности, и занять герцогство, чтобы открыть на Шельде торговые пути, его сторонники активно склоняли Марию Антуанетту, чтобы она повлияла на Людовика XVI в нужном направлении.
Мария Антуанетта затаила обиду на нелицеприятное обращение брата в те времена, когда она только перебралась в Версаль в 1777 г. Она успела заметить импульсивность, с которой Иосиф II вел дела, его нетерпеливость и внезапные капризы, и публично заявляла, что сомневалась в том, что «ее брат на ее стороне». Известно, что эти слова разозлили де Мерси, он сделал королеве выговор и продемонстрировал печальные последствия ее ветрености. Если бы королевские министры, сказал он, узнали бы о ее страхах, она потеряла бы «средство для употребления своего влияния на то, чтобы поддерживать союз двух дворов». Опытная Мария Терезия добавила небольшой, но действенный шантаж: «Перемены в нашем союзе погубят меня, а я ведь так нежно вас люблю». Двойной упрек сработал: отныне Мария Антуанетта, пусть неохотно, но старалась служить интересам Вены.
В 1778 г. Иосиф II подумал, что своих целей лучше всего добиваться силой. Императорские войска вторглись в Баварию. Тут же прусский король Фридрих II решил вступить в вой ну против Австрии. Иосиф II рассчитывал на военную помощь Франции, с которой состоял в союзе с 1756 г. Но Людовик XVI, не желавший, чтобы Австрия разрасталась, предпочел сдержать территориальные амбиции императора. Король потрудился выслушать Марию Антуанетту, сообщил ей основное содержание переговоров, не скрывая, насколько сомнительными являлись австрийские притязания. Он постарался аккуратно растолковать супруге ситуацию и попросил Вержена сделать то же самое. Причиной такой деликатности была не слабость, а положение Марии Антуанетты: она, наконец-то, ждала ребенка. Людовик был готов оберегать ее от всякой неприятности. И как сообщал Мерси, он сказал ей, что «ему невыносимо видеть ее в таком большом волнении, что он хочет сделать все на свете, лишь бы утешить ее боль, что он готов на все», но ни в чем не уступил, потому что «благо его королевства не позволяет ему сделать больше, чем он уже сделал».
Монарх отказался втягивать себя в конфликт и припугнул императора, упускавшего Баварию из рук, что подпишет мирный договор с прусским королем. Людовик уже научился противостоять королеве, не уязвляя ее самолюбие. Послу Марии Терезии пришлось признать, что он сам «не сумел, ни в коей мере, добиться от королевы действий, настолько четких и настолько последовательных, насколько требовали бы обстоятельства». Мария Антуанетта была слишком занята последней стадией беременности и не настаивала. В конце 1778 г. она произвела на свет своего первого ребенка, будущую старшую сестру короля.
Император Иосиф II снова прибег к оружию в 1784 г. Он хотел выступить против Голландии, чтобы открыть Шельду, уже более века закрытую для судоходства, в обмен на австрийские Нидерланды и порт Антверпен. Франция, выступавшая поручительницей в Вестфальских договорах 1648 г., которые определяли данные границы, играла роль посредницы. Она занималась этим и год спустя, когда Иосиф II предложил обменять австрийские Нидерланды, где Габсбургов никогда не любили, на столь желанную Баварию.
Чтобы убедить голландцев открыть Шельду, Иосиф II снова обратился к Франции за помощью. Королева постаралась переговорить с мужем. На сей раз она не прибегала к слезам или недовольным гримасам: родив стране инфантов, Мария Антуанетта укрепила свое положение и могла говорить громко. С Верженом она держалась надменно, призывала его «вмешаться в ситуацию, дабы на деле доказать свою преданность союзу». Беседуя с королем, который был согласен со своим министром, Мария Антуанетта использовала различные методы, задевавшие его самолюбие – не кажется ли он в глазах всего мира игрушкой собственных советников? – или устраивала бурные сцены, предрекая, что король растеряет всех своих союзников в Европе. Людовик XVI дал буре побушевать, но уступать не стал: Франция не будет хлопотать за императора перед голландцами.
Иосиф II тем временем попробовал применить силу: он подготовил восемьдесят тысяч человек для похода в Голландию. Ситуация в Европе резко накалилась. Пруссия и Англия объявили, что дадут агрессору отпор. Война казалась неминуемой. В Париже поговаривали, что Мария Антуанетта науськивала брата начать вторжение, нашептывая ему, что Франция не станет поддерживать Амстердам. В кулуарах гуляли слухи и сплетни. Кое-кто даже утверждал, что королева изъяла фонды, предназначенные для покупки замка Сен-Клу, чтобы заплатить императорским войскам.
В Версале министры решительно не соглашались с авантюрной политикой Иосифа II вплоть до того, что рассматривали вопрос о заключении франко-прусского договора. Людовик XVI был в растерянности. Он отправил шурину личное письмо с предупреждением, но предварительно дал жене его прочесть. Она убедила его не торопиться и смягчить условия. Король представил Совету итоговое решение: он решил поддержать Голландию и, в случае каких-либо действий со стороны императорских войск, мобилизовать армию. Иосиф II отступил. Мария Антуанетта злилась на Вержена и «лицемеров», но не знала, что делать. Ей приходилось признать, что во внешней политике у нее влияния мало.
Император хотел загладить неудачу и задумал новое предприятие: он обменяет Нидерланды на Баварию, чтобы сделать свои владения более цельными. От этого нарушения равновесия в Европе Людовику XVI не было никакой выгоды, и Вержен тоже не поддерживал этот замысел. Однако первый не хотел огорчать жену и портить отношения с шурином, и ловко приостановил свое соглашение с прусским королем и немецкими принцами, так чтобы вовсе забыть об императорской затее. Второй, вынужденный следовать столь противоположным целям, официально отказался участвовать в предприятии Иосифа II, что фактически означало крах его амбиций, каковые Вержен находил противоречащими интересам королевства. Мария Антуанетта хотела добиться от мужа нужного решения и открыть ему двуличие министра. 27 декабря 1784 г. она ворвалась в кабинет, где работали Людовик и Вержен[146]. Королева с таким ожесточением обрушилась на министра, что тот счел необходимым пообещать ей уйти в отставку. Людовик молчал. Всего один раз он попробовал утихомирить жену, заговорил о недоразумениях, попытался оправдать министра. Мария Антуанетта опять завела обличительную речь, снова вспыхнула, начала превозносить выгоды союза с Австрией, напомнила, как огорчили ее брата дипломатические настроения Франции. Но Людовик XVI не стал ничего обещать.
Иосиф II отказался от своего замысла, и королеве, решившей, что король стал игрушкой в руках министров, пришлось в очередной раз признать поражение.
Во время обострения отношений с Иосифом II общественное мнение волновали не столько его проигрыши, сколько сохранение союза с Австрией. Впрочем, самые умные считали, что надо от него постепенно отходить и сближаться с Пруссией. В противовес этому, королева выступала за неизменную дружбу с Веной, необходимую, по ее словам, «для счастья и спокойствия». И Мария Антуанетта стала настолько непопулярной, что ее обвиняли в том, что она из королевской казны компенсировала императору убытки.
Обвинение это было несправедливым, но в него поверили надолго – глава революционного трибунала повторил его в октябре 1793 г. Именно из-за него укоренилось убеждение, что Мария Антуанетта помыкала мужем, пользуясь его безволием, чтобы тратить ресурсы страны на интересы своих родственников.
Тем не менее все свидетельствовало, что невзирая на постоянные вмешательства, выпады против министров, устроенные королю сцены, Мария Антуанетта так и не сумела как-то воздействовать на французскую дипломатию. Она ни разу не смогла ничего добиться. Уговаривая короля как-то поучаствовать в судьбе австрийского императора, она провоцировала все большую нелюбовь в народе. Общество шокировали ее выступления против Вержена; Марию Антуанетту обвиняли, что она влезла в королевский совет и, по слухам, вертела Людовиком, как ей надо, не давая работать министрам. Говорили, что супруга монарха «не любит французов». Все поспешили забыть, что подробности дипломатических дел королеве никто не сообщал, и закрывали глаза на то, что «королева тщетно металась между желанием не огорчить Иосифа II… и не оскорбить общественное мнение»[147].
Она сама понимала, насколько слабо ее влияние. «Признаюсь вам, – говорила она брату, – что в политических [т.е. иностранных] делах я наименее властна». Королева была права: никогда внешняя политика королевства не делалась в будуаре Марии Антуанетты.
Доверенное лицо королевы
В самый разгар лета 1785 г. счастье королевы, которая едва успела стать матерью сына, получившего титул герцога Нормандского, резко оборвалось: 15 августа разразился скандал в связи с королевским ожерельем. Это знаменитое мошенничество переросло в дело государственной важности и серьезно подмочило репутацию королевы, хотя она была ни в чем не виновата. 31 мая следующего года парижский парламент вынес оправдательный приговор одному из участников дела – кардиналу Рогану – и французская корона оказалась опозорена. «Идите жаловаться на вашу оскорбленную королеву, жертву интриг и несправедливости», – простонала Мария Антуанетта перед мадам Кампан, своей горничной.
Изменил ли как-то королеву данный инцидент? Об этом свидетельствовало многое. После последнего баварского предприятия Мария Антуанетта освободилась от австрийского влияния. Она сама признала, насколько слаб ее авторитет у короля. Казалось, она стала зрелой личностью. Чем ближе надвигалась буря, тем больше Мария Антуанетта осознавала свой долг матери и королевы.
«Разве вы не знаете, что говорите с сестрой императора?» – однажды заявила она Вержену. Но тот был не склонен потакать ее капризам. «Я знаю, – спокойно отвечал министр, – что разговариваю с матерью французского дофина».
Мария Антуанетта урок усвоила. Она должна быть в первую очередь француженкой, а уж затем габсбургской принцессой.
Иосиф II и его посол Мерси были вынуждены признать, что многочисленные вмешательства королевы оказались бесплодными. Нужных им кандидатов на министерские посты в Совет не пускали; ни разу им не удалось получить дипломатической помощи, на которую они рассчитывали. Император не списывал неудачи на непослушание сестры. Единственную причину он видел в ее неопытности. Как ни странно, как только Вена разочаровалась в Марии Антуанетте, та начала принимать полноценное участие в государственных делах.
Министр финансов Калонн попал в немилость 8 апреля 1787 г. За этим стояла королева. Кто сумел занять его место и сократил огромнейший дефицит в королевской казне? Мария Антуанетта подумывала о тулузском архиепископе Ломени де Бриенне, которого ей представили как нового Шуазеля, но в кандидаты его пока не выдвигала. Король, казалось, совсем не справлялся с ситуацией, не знал, кому доверить финансы, однако отказывался препоручить заботу о них Неккеру, как ему советовали супруга и некоторые министры. Столкнувшись с монаршим упрямством, члены Совета предложили Ломени де Бриенна. Людовик питал немало предубеждений в отношении этого прелата, который, кажется, не верил в Бога, однако недостатки остальных кандидатов и острое неприятие Неккера заставили его, в итоге, согласиться с Королевским советом по вопросу финансов.
Роль Марии Антуанетты свелась к тому, что она поддержала мнение советников короля, но общественное мнение приписало назначение прелата ей. Отныне Бриенна называли «доверенным лицом королевы». Разве она не сказала: «Мы дали королю хорошего министра?» Только это мы означало не лично ее величество, а трех или четырех единодушных министров. Королева в этом кружке не состояла – из-за опалы Калонна у нее охладели отношения с Полиньяком. Она успела осознать текущие затруднения, поставила интересы королевства ниже своих дружеских связей и, как и Людовик XVI, ждала от Ломени де Бриенна смелых шагов.
Совпадение взглядов у супругов стало очевидным: неожиданно Марию Антуанетту позвали присутствовать 23 апреля на приеме министра у короля. И когда Бриенн предложил монарху вернуть Неккера, которого он поддерживал, и созвать Генеральные штаты, король, давая отказ, сослался и на супругу: «К реформам, экономии мы с королевой совершенно готовы, но, умоляю вас, не требуйте ни Неккера, ни Генеральных штатов»[148]. Их Величества стремились заявить о своем единодушии.
По воле Людовика королеву отныне стали приглашать к участию во внутренних делах государства. Король давал ей советы и звал даже на заседания министерских комитетов. Бриенн искал ее поддержки и старался держать в курсе своих действий. Он подумывал ввести ее в королевский совет, а ведь такой привилегии не знала ни одна королева, не считая регентш. Мария Антуанетта, казалось, хотела избавиться от репутации фривольной, легкомысленной, расточительной королевы. Теперь она разделяла желание министров сократить непомерные расходы королевского дома. Мария Антуанетта уменьшила личные расходы на девятьсот тысяч франков, упразднила сто семьдесят три расходных статьи своего дома, заставила близких отказаться от многих привилегий. Перестала ли она быть королевой Трианона, главой группки, жадной до дорогих развлечений? Окружение Марии Антуанетты, привыкшее к ее милостям, не скупилось на упреки. «Мадам, – осмелился заметить барон де Безенваль, – страшно жить в стране, где нет уверенности, что завтра ты будешь владеть тем, чем владел накануне. Так бывает только в Турции»[149].
Место, которое Людовик XVI отвел жене, было тем более странным, потому что король, казалось, старался уйти от управления страной. Людовика охватила своеобразная депрессия, парализовавшая волю. Впервые его задевала народная нелюбовь. Все было против него: восстание парижских магистратов летом 1787 г., враждебные пасквили, которые писались в его адрес, а затем «королевское» заседание парламента 19 ноября, когда кузен Людовика герцог Орлеанский осмелился оспаривать монарший авторитет, постоянные волнения, которыми сопровождались все указы Бриенна, дефицит, день ото дня становившийся все катастрофичнее.
На долю четы выпадали суровые испытания: в 1787 г. 18 июня скончалась младшая дочь Софии, а 23 декабря – ее тетушка Луиза; да еще и здоровье дофина давало серьезные поводы для беспокойства[150]. Людовика XVI охватила растерянность. Современники сохранили множество свидетельств о том: король забывался изнурительными выездами на охоту, откуда возвращался, еле волоча ноги, а потом тонул в алкогольной бездне. Затем следовали, как пишет Морепа, «трапеза столь неумеренная, что подчас вызывала потерю рассудка» и частая, неуместная дремота. Приступы слезливости, периоды апатии, постоянное замыкание в себе, и непреходящая тоска отнимали у теряющего власть монарха уверенность и стойкость духа, уступая место равнодушию и досаде.
Со смертью Верженна в феврале 1787 г. Людовик XVI потерял второго наставника[151]. Король был не способен в одиночку руководить происходящим в государстве. И 26 августа 1787 г. он назначил Ломени де Бриенна премьер-министром[152]. Королева, не принимавшая никакого участия в этом назначении, могла только радоваться. Она неустанно помогала Бриенну, одобряла его попытки взять парламент в железные тиски, поддерживала юридическую и политическую реформу, запущенную на «королевском» заседании парламента 8 мая 1788 г. Этот «жест Его Величества» забирал значительную часть законодательных полномочий у парламентов в пользу сорока семи окружных судов и, самое главное, лишал их права регистрировать и издавать королевские указы, передавая эту обязанность Общей палате. Данный акт – «последний шаг просвещенного деспотизма» – казался Марии Антуанетте необходимым. Но поддерживать его было несколько рискованно. Нелюбовь, которую питали к Бриенну, перекинулась на королеву. Здоровье ее с тех пор пошатнулось.
Пасквили становились все наглее. Недовольные магистраты находили союзников среди духовенства, державшегося за свои привилегии, и среди знати, возмущенных новыми поборами. «Парламенты, знать и духовенство осмелились возражать королю, – предрек хранитель печати Кретьен-Франсуа де Ламуаньон, – меньше чем через два года не останется ни парламентов, ни знати, ни духовенства». Раз уж верхушка общества взбунтовалась, не поискать ли королю общий язык с третьим сословием?
Финансовый кризис ускорил события. Людовик XVI, как всем казалось, перестал препятствовать созданию Генеральных штатов и пообещал учредить их к 1792 г., а в августе 1788 г. заявил, что они появятся к 1 мая уже следующего года. 16 августа государство уже не могло покрывать даже текущие расходы: казна опустела, ссудодатели испарились. Бриенну пришлось приостановить государственные выплаты. Назревало банкротство. В результате придворной интриги, возглавляемой братом короля герцогом д’Артуа и Полиньяками первый министр был побежден. Бриенном пришлось пожертвовать: 25 августа он, к огорчению короля и королевы, ушел в отставку.
«Я очень несчастна», – призналась Мария Антуанетта, которой следовало задуматься о преемнике. Трогательное признание королевы, не способной занять место супруга, ревностно оберегающего свою власть, и еще нерешительность и слабость женщины, оказавшейся один на один с драматической ситуацией. Лишившись первого министра, который координировал все его государственные действия, Людовик XVI, погрузившийся в депрессию и замкнутость, казался парализованным. Марии Антуанетте пришлось принимать решения, как выйти из тупика и попытаться вернуть на свою сторону общественное мнение. Спасение она видела только в Неккере и, несмотря на нежелание короля, добивалась его возвращения. Оно состоялось 26 августа. Удастся ли теперь перетянуть мнение народа на свою сторону?
Немолодой директор финансов получил от короля всего одну ноту. Но написана она была рукой королевы. Мария Антуанетта обещала Неккеру место в Совете, в котором ему было отказано в 1781 г. 27 числа государь вместе с женой принял его в кабинете королевы. Испытывающий неловкость, ворчливый и удрученный Людовик признался, что он более не имел права выбора: «Меня заставили позвать Неккера. Я этого не хотел. Но скоро всем придется в этом раскаяться. Я сделаю все, что он скажет, и мы увидим, к чему все приведет». Вскоре практичный женевец взял на себя обязанности премьер-министра. Французы уже посмеивались над тем, как потеснен монарх. «Представляю вам месье Неккера, короля Франции», – иронизировал Мирабо.
В первый раз Мария Антуанетта приняла важное и ответственное решение вместо мужа: фактически навязала ему нового министра вопреки его воле[153]. Тот станет консультировать ее по всем вопросам, а к концу года даст санкцию на присутствие в Совете. Как же далеко те времена, когда молоденькая королева пыталась, зачастую безуспешно, добиться министерского портфеля для кого-то из своих сторонников! Остались в прошлом сцены, которые она устраивала мужу, а тот всегда умел поставить ее на место! У Марии Антуанетты не было ни политического опыта, ни практических решений кризиса, но она упрямо смотрела на приближающуюся бурю и надеялась спасти то, что можно. «Я трепещу при мысли, – написала она Мерси, – о это я настояла на его [Неккера] возвращении. Мой рок – приносить несчастье, и, если вновь коварные интриги помешают ему осуществить задуманное для спасения королевства или же он нанесет ущерб авторитету короля, меня возненавидят еще больше»[154]. Пока монархия была абсолютной, Мария Антуанетта ничего из себя не представляла. Она стала личностью, когда монархия обессилела.
Объединенные бурей
Королева не ошиблась. За пять месяцев, предшествовавших походу на Версаль, она стала объектом все возрастающей всеобщей ненависти. Во время процессии 4 мая 1789 г., накануне открытия Генеральных штатов, толпа встретила Марию Антуанетту злым молчанием; королю при этом рукоплескали. А когда епископ, проводивший мессу, стал в проповеди поносить расточительность Двора и тех, кто на нем бессовестно наживался, Мария Антуанетта тут же поняла, что речь идет о ней. Ее ненавидели все больше и больше. На следующий день после взятия Бастилии за голову королевы назначили цену. 6 октября стали кричать: «Смерть Марии Антуанетте!» Каждый день звучали речи, изобличающие в ней душу «заговора аристократов».
В июне 1789 г., когда депутаты от третьего сословия пригласили знать и представителей духовенства присоединиться к ним, королева отвергла все умиротворяющие действия, предложенные Неккером. 17 числа третье сословие провозгласило Национальное собрание, и король на чрезвычайном Совете, собравшемся в Марли, выразил желание последовать советам министра. Но Мария Антуанетта проявила невиданную доселе инициативность и остановила заседание, уговорив Людовика выйти вместе с ней. Совместно с деверем Артуа она целый час упрашивала мужа не уступать.
Отставка Неккера 11 июля обрадовала королеву. В Совете Мария Антуанетта только и думала, что о реванше над теми, кто якобы олицетворял народ, и даже была согласна на размещение иностранных полков вокруг Парижа, чтобы обеспечить безопасность своей семье. Она была готова покинуть Версаль, при условии, что король последует за ней.
Приказывая своему небольшому окружению бежать за границу, она при этом с радостью председательствовала на банкете, который спровоцировал 5–6 октября поход на Версаль и отъезд королевской семьи из Парижа. Мария Антуанетта выбрала лагерь контрреволюционеров. В народе ее обвиняли в желании прибегнуть к силе, уморить столицу голодом, уничтожить Собрание, отравить короля с целью занять его место (sic) и не находили слов, чтобы заклеймить ее пагубное влияние.
Время и терпение. Именно они были, по словам Марии Антуанетты, союзниками королевской четы, вынужденной под надзором поселиться в резиденции в Тюильри, пока шли безумные революционные дни. Измученные монархи старались вернуть доверие народа. Людовик выразил солидарность с Конституцией, которую как раз разрабатывали, и заявил, что так же думала его жена. «В согласии с королевой, которая разделяет мои чувства, – провозгласил он в Собрании в феврале 1790 г., – я буду готовить к нужному часу дух и сердце моего сына для нового порядка вещей, сложившегося по воле обстоятельств». Мария Антуанетта показалась перед парижанами, притворяясь, что не понимает тех немецких слов, которые ей адресовали, сообщая, что она стала доброй француженкой и позабыла родной язык.
Были ли монархи искренны? Действительно ли они желали удачи новой Франции? Одним хотелось в это верить: Людовик утвердил действия, принятые на голосовании в Собрании; чета осудила воинственные заявления герцога Артуа, сбежавшего в Турин. Другие, напротив, сомневались и подозревали, что за спиной королевы прятался опасный «австрийский комитет», готовый взяться за оружие. На самом деле и Людовик и Мария Антуанетта слишком волновались о своей безопасности, чтобы заниматься каким-нибудь вредительством. Напротив, они надеялись, что конституция даст им возможность удержать хоть какую-то власть.
Однако чтобы изменить ход работы Собрания в пользу усиления королевских полномочий, следовало наладить связи в депутатской среде. Как раз тогда Мирабо и сделал чете деловое предложение. Политический идеал трибунала мог вывести к конституционной монархии, наделенной исполнительной властью, а сам граф имел лишь честолюбивое желание служить в качестве премьер-министра. Мирабо, ненавидевший и контрреволюцию, и народную диктатуру, хотел олицетворять примирение монархии и революции. На мгновение оцепенев, Людовик и Мария Антуанетта дали согласие. Король доверил жене организацию встречи с посредником, графом де Ла Марком – бельгийским дворянином, дружившим с депутатом.
В апреле 1790 г. был разработан пакт: Мирабо, получивший щедрое вознаграждение, повлиял на работу Собрания в нужном королю направлении. Он регулярно сообщал королеве, надзор за которой был слабее, чем над королем, обсуждаемые вопросы и давал ей советы, как действовать дальше. Первая записка поступила к Марии Антуанетте 10 мая. 3 июля королева – вместе с королем – в самой секретной обстановке встретилась с Мирабо в Сен-Клу. В письме, которое спустя четыре дня она отправила своему брату императору Леопольду II, выражалась надежда на успех этого странного сотрудничества – «Мы уверены, что все спасено» – и совпадение взглядов между ней и королем – «Возле меня все крепко надеются, что со временем все удалится». Мария Антуанетта не вела личной политики. Она действовала заодно с мужем. К чете вернулась надежда. На празднике Федерации 14 июля 1790 г. государыня показала дофина рукоплескавшей толпе. Раздавались крики: «Да здравствует король! Да здравствует король!»
К осени ни одно из обещаний весны не осуществилось. В Собрании депутаты-«патриоты», невзирая на старания Мирабо, добивались сокращения королевских полномочий, и без того урезанных в пользу Учредительного собрания. Людовик упрекал себя за то, что утвердил гражданскую Конституцию духовенства, которую осудил папа. Присяга на верность, навязанная церковным служителям, принесла немало неприятностей, сбор налогов шел плохо, ассигнации обесценивались. «Вот и начался хаос и все, чего мы боялись!» – написала королева. Супруги тревожились все больше, а парижане относились к ним все недоверчивее. В искренности короля сомневались, за распоряжениями королевы видели «австрийский комитет». Чета подумывала о бегстве за границу. Мирабо работал над этим. Однако 2 апреля 1791 г. трибун скончался. А 18 числа, когда король и королева выразили желание вернуться в Сен-Клу, свою прежнюю резиденцию, народ запротестовал. Людовик и Мария Антуанетта больше не были уверены в своей безопасности, поэтому решили уехать в Монмеди. Организовывать путешествие должна была Мария Антуанетта при помощи шведского графа Акселя фон Ферзена. Вечером 20 июня в Варенне попытка бегства провалилась.
Вернувшись в Париж, король и королева, понимая, что им угрожало потерять корону, попытались удержать трон, то есть вернуть власть, скомпрометированную их бегством, и нашли преемника Мирабо. Депутат Барнав, которому Собрание поручило препроводить королевскую семью в Варенн, предупредил обо всем Марию Антуанетту. В дорожной карете депутат, поддавшись очарованию королевы, завел с ней беседу. Мария Антуанетта узнала, что вместе со своими политическими соратниками Адриеном Дюпором и Александром де Ламетом – труимвирами – молодой гренобльский адвокат готов сблизиться с королевской четой и спасти монархию. Королева с легкостью убедила его завести с ней секретную переписку. Кроме того, Барнав стал тайным советником Людовика и его жены. Причина, заставившая адвоката ввязаться в столь опасное предприятие, заключалась не в его нежных чувствах к несчастной королеве. Все дело было в политических интересах. Умеренное течение, к которому принадлежал Барнав, нуждалось в монархе, договорившемся с народом по поводу пересмотренной Конституции. Триумвиры хотели не допустить дальнейших революционных событий.
Королева стала рассказывать Барнаву о том, что она думала, а тот в ответ сообщал, какие у Собрания планы в отношении монархов. Мария Антуанетта пообещала поддержать умеренных, депутат щедро давал ей советы, уговаривал короля искренне согласиться на роль конституционного монарха, приглашал королеву, чтобы она убедила императора признать новый режим. Союз принес определенные плоды: комиссия по расследованию бегства королевской семьи, несмотря на все свидетельства, заключила, что короля «похитили». Повторяя, как любят французы своего правителя, она потребовала внести в Конституцию пункт о неприкосновенности монарха. Несмотря на Робеспьера и Дантона, несмотря на возмущение парижан, Барнав заставил Собрание признать короля неприкосновенным. «Все в мире должны почувствовать, – заявил он, – что всеобщий интерес заключается в том, чтобы революция остановилась»[155].
С июля по декабрь 1791 г. Барнав стоял за королевской политикой и составил текст многих его выступлений. Была ли Мария Антуанетта искренна в этой игре? В письмах она не упускала возможности пожаловаться на убогие результаты, которых удалось добиться ее советчику, она не слушала его рекомендаций и даже лгала ему, что не получала помощи, при том, что постоянно переписывалась с Ферзеном, горячо ее поддерживавшим. Общение Марии Антуанетты с Барнавом проходило в одном ключе: она ждала от него сведений и услуг, пыталась выиграть время, в надежде, что заграничные монархи придут к ней на помощь, давала мало, ждала многого, равнодушно относилась к судьбе самого депутата, которого уже обвиняли в предательстве соратников.
В конце концов, советы Барнава стали раздражать королеву. Тот понял, что им играли. К письму, составленному под диктовку, которое Мария Антуанетта отправила императору, дабы объяснить ему, что король поддерживал новый режим по причине своего миролюбия, она приложила второе послание, адресованное Мерси: «Кажется, я должна уступить желаниям руководителей партии, которые и дали мне черновик этого письма». Мария Антуанетта цинично признавалась своим заграничным друзьям: «Для меня крайне важно, чтобы хотя бы некоторое время они верили, что я разделяю все их взгляды». Королевская чета полагала, что можно обойтись без Барнава и даже сторонников конституционной монархии. Депутат понял, что над ним вечно насмехались. Союз распался.
Двойная игра
Марию Антуанетту любят выставлять агентом контрреволюции. Ей даже приписывают склонность к политике по принципу «чем хуже, тем лучше». Кто-то говорит, что рядом с безвольным мужем, Мария Антуанетта оказалась единственной, кто был готов заняться спасением того, что еще можно было спасти. На самом деле все было по-другому. Людовик и Мария Антуанетта придерживались примерно одинаковых взглядов на судьбу новой Франции. Официально они поддерживали Конституцию, принятую Собранием 3 сентября 1791 г. 14 числа в присутствии королевы Людовик репетировал текст присяги на верность, который, хоть и сохранял «королю французов» роль столпа институционной структуры, не давал ему права на верховную власть и лишал большинства привилегий. Людовик, как и Мария Антуанетта, был вынужден уступить обстоятельствам: ни первый, ни вторая не признали за Конституцией право служить сводом законов. Ее использование на практике, предсказывали они, обнажило бы все ее недостатки. В декабре в одном из писем к барону Бретейлю Людовик назвал документ «бессмысленным и отвратительным, который поставил меня ниже польского короля», а Мария Антуанетта сердилась на «эту наглую систему и ее бессмысленную чепуху».
Равно как мнение о Конституции, отношение к эмигрантам у супругов было одинаковым. Король, отказавшийся утвердить декрет Собрания, который запрещал эмигрантам возвращаться во Францию, не поддержал также – вместе с королевой – бредовые заявления и самоубийственные замыслы своих братьев, графов Прованского и д’Артуа, скрывшихся за границу. Кроме того, он решил отказаться от идеи о всеобщем контрреволюционном восстании, которое должно было помочь королевской семье скрыться от надзоров и отвоевать Париж. Ведь если бы этот план был запущен, он поставил бы под угрозу безопасность монархов и политическую линию, которую вели гости Тюильри.
Зато, когда депутаты позвали короля приказать принцам Священной империи и избирателям Трира и Майенна, чтобы те разогнали эмигрантские группировки, Людовик и Мария Антуанетта сделали вид, что согласны с точкой зрения Собрания. Монарх стал изо всех сил стараться успокоить заграничные дворы, оправдываясь обстоятельствами, которые не позволяли ему «поступить по-другому», и заверяя, что он примет «всегда с радостью и признательностью то, что они могли бы для него сделать». Мария Антуанетта, тайно переписывавшаяся с Австрией с 1790 г. рассчитывала на монаршескую солидарность. «Наша участь, – писала она Мерси, полностью находится в руках императора. От него будет зависеть наше будущее существование: я надеюсь, что он проявит себя нашим братом и настоящим другом и союзником короля».
Аналогичная двусмысленность звучала, когда 20 апреля 1792 г. Людовик предложил Законодательному собранию (и то с энтузиазмом согласилось) объявить войну молодому королю Богемии и Венгрии Францу II, приходившемуся Марии Антуанетте племянником. Как при удачном, так и несчастливом исходе война виделась королю лучшим средством для того, чтобы восстановить свой авторитет в стране. Его расчеты не встретили одобрения королевы. «Эти дураки, – написала она Ферзену об участниках конфликта, – не видят, какую службу это может нам сослужить». Оба они отвергали мысль о том, что победа в войне «как минимум невероятна», поскольку Франция не способна сейчас устроить полноценную кампанию. «Мы хотим идти в атаку без армии, без дисциплины, без денег!», – иронизировала Мария Антуанетта.
И Людовик, и его жена вели двойную игру, уверенные, что ничто в столице «не помешает их связям с заграницей». Дело в том, что с самого начала военных действий королева сообщала Мерси и Ферзену о всех перемещениях армии. «Вот итог вчерашнего Совета, – писала она австрийскому дипломату. – Г-н Дюмурье [министр, занимавшийся иностранными делами] имеет замысел сделать первый шаг, совершив нападение на Савойю, а также на Льеж. Вторую атаку поручили армии Лафайета… Стоит знать об этом замысле, чтобы быть настороже и принять все соответствующие меры». Ферзену она уточнила: «Турин я предупредила три недели назад».
Осенью 1791 г. королева мечтала, что европейские монархи соберутся на военный совет с целью задавить Революцию. Королевских особ смущал и злил текст присяги, которую Людовик должен был принести Конституции. Супруг поручил Марии Антуанетте вернуть доверие иностранных монархов. Она изо всех сил рассылала гонцов и посланников к Дворам Мадрида, Стокгольма, Санкт-Петербурга и Вены, дабы признаться в двойной игре, которую вынужден вести Людовик, и заручиться их помощью. «Если император встанет во главе остальных держав и покажет свою силу, силу внушительную, я вас уверяю: все вздрогнут», – написала королева брату в феврале 1792 г.
После революционных событий 20 июня, когда толпа ворвалась в Тюильри, 4 июля Мария Антуанетта отправила просьбу о безотлагательной помощи. Вот бы Австрия и Пруссия стали угрожать королевству наказанием! Ведь «эти мятежники желали республики любой ценой; и для этого они решили убить короля!»[156] 24 числа, встревоженная угрозами умертвить королевскую семью, Мария Антуанетта снова запросила о помощи: военные заявления иностранных держав объединили, полагала она, «многих людей вокруг короля, обеспечив ему уверенность в завтрашнем дне». 28 числа Париж узнал о манифесте, подписанном за три дня до этого, герцогом Брауншвейгским, где французскую столицу угрожали «разрушить до основания», если в отношение короля будет применено какое-либо насилие. Эффект этого громогласного заявления оказался противоположным ожидаемому. Отныне в Людовике видели соучастника врагов народа. Конечно, манифест нельзя считать причиной событий 10 августа, положивших конец монархии; однако поводом к ним он стал.
Хотя обычно супруги шли в ногу, сейчас их мнения о том, какого рода власть они должны отвоевать, разделились. Людовик, казалось, хотел примкнуть к умеренным, служить изо всех сил новым институтам, которые были ему навязаны, «какое бы отвращение он к ним ни испытывал», чтобы спасти трон и укрепить свои позиции. Манифест, которого он ждал от иностранных держав, не должен был грозить королевству жестокой местью или приказывать ликвидировать Конституцию. Королю было достаточно различать мятежных санкюлотов и простых людей. Как говорит Жан-Кристиан Птифис, Людовик XVI рисовал себе проект конституционной, а не абсолютистской монархии[157]. И в тексте есть указания на то, что в конце июля парижане не просто развили королевский замысел, но и сделали его более радикальным. Участвовала в этом процессе и Мария Антуанетта. Она мечтала приобрести, опираясь на помощь союзных войск, полномасштабный и единоличный политический авторитет. Такой, какой был у нее до 1789 г., контрреволюционный, по-бурбонски абсолютистский. Людовик, тонкий политик, понимал, что вернуть такое влияние трудно, практически невозможно. А импульсивная королева верила, что им удастся при помощи нескольких иностранных гренадеров за один миг перечеркнуть четыре года потрясений. Это стало единственным расхождением во взглядах четы, растерявшейся перед лицом трагических событий.
Печальный эпилог
Вечером 12 октября 1793 г. президент Эрман сумел-таки доказать двуличие королевской четы. Если в памфлетах королеву несправедливо обвиняли в том, что она манипулировала безвольным супругом, то судьи Марии Антуанетты совершенно верно определили ее роль, которую она играла рядом с Людовиком, стремясь прибрать к рукам власть. Современные историки убеждены: после возвращения из Варена Мария Антуанетта выполняла практически министерские функции, распоряжалась действиями информаторов, размышляла над полученными советами, неустанно вела переписку, пыталась добиться, чтобы ее услышали. Король и королева мастерски овладели искусством двойной игры.
Их двуличие не осталось незамеченным самыми наблюдательными из современников. Например, мадам Ролан отпускала колкости в адрес «несчастных интриганов» из королевской семьи и их «неискренних поступках и лживом поведении». Иногда Мария Антуанетта сама признавалась, что запуталась в обмане: «Иногда я сама себя не понимаю более и заставляю себя призадуматься, действительно ли я говорю такое. Но чего вы хотите? Все это необходимо, и поверьте мне, мы опустились бы еще глубже, чем сейчас, не обратись я сразу же к этому средству. Во всяком случае, время мы выиграли, а это все, что нам нужно»[158].
Чтобы как можно выгоднее сманеврировать при помощи тех узких возможностей, что давала Конституция главе исполнительной власти, Людовик и Мария Антуанетта, судя по всему, договорились с Мирабо, а затем с Барнавом, надеявшихся примирить короля и народ. Но, как мы уже знаем, подобный альянс был фальшивым. «Какое счастье, если б однажды, в один прекрасный день, я вновь стала сама собой и могла бы показать всем этим нищим, что не дала им себя одурачить»[159]. И чтобы обезопасить себя от радикально настроенных республиканцев и защитить свою жизнь, чета стала рассчитывать на вмешательство иностранных монархов и их армий. Королева лгала председателю революционного трибунала вплоть до того, что отрицала переписку с венскими родственниками. Она просила их о помощи и отправляла сведения, которые должны были способствовать их победе.
10 августа 1792 г. Собрание отстранило короля от дел, а потом объявило о низвержении монархии. Через три дня королевскую семью заключили в Тампль. В октябре Людовика разлучили с родными, в ноябре судили, а 21 января казнили на гильотине. Страдания «вдовы Капетинга» тянулись до осени 1793 г. «Австрийка» взошла на эшафот 16 октября. Правление четы составило восемнадцать лет.
Из неразумной девушки с «ветром в голове», игравшей судьбами близких, из молоденький королевы, пытавшейся, без особого успеха, раздавать и забирать министерские должности, и тщетно направлять французскую дипломатию в русло, выгодное ее родине, выросла зрелая женщина, осознававшая с 1787 г., что монархическое государство обречено и необходимо оздоровить его, правительница, сражавшаяся тем оружием, которое давали ей в руки обстоятельства, чтобы как можно раньше задавить революцию. Затеи молодой и легкомысленной Марии Антуанетты нередко раздражали монарха. Она выслушивала советы матери, но не позволяла решать вместо себя. Совпадение во взглядах и активное сотрудничество с мужем во время революции показывали единство четы перед лицом врага, которое однако не сумело изменить движение судьбы, завертевшей, а затем поглотившей их.
Потомки оценивали чету по-разному. Для некоторых сторонников возвращения Бурбонам французского престола, Людовик XVI и Мария Антуанетта стали почти что святыми. В январе 1815 г. их тела были эксгумированы и перезахоронены в Сен-Дени. Тогда же в Париже был заложен первый камень Часовни искупления. Ее поставил Людовик XVIII на месте кладбища Мадлен, где изначально тела монархов бросили в могилу. Открытие часовни состоялось в 1825 г. В честь короля-мученика было воздвигнуто немало памятников. Не забывали и о королеве. Единственное сохранившееся напоминание о ней – убогую камеру в Консьержери – с 1816 г. переделали в часовню. После революции 1830 г. культ Людовика и Марии Антуанетты пошел на спад, отношение к каждому из них сложилось особое. Короля стали изображать в карикатурном виде: он якобы погубил монархию по причине своей слабости и нерешительности. Из Марии Антуанетты сделали фигуру трагическую. Жена Наполеона III Евгения всячески этому способствовала. Она велела организовать в 1867 г. на Всемирной выставке первую ретроспективу, посвященную хозяйке Трианона и деревенской пастушке. Затем общественное мнение опять изменилось. Капризную и фривольную королеву объявили виновной в собственной судьбе, в слепоте, приведшей к падению монархии, а в короле обнаружили невиданные ранее личные качества и снова его полюбили. Видимо, Людовику и Марии Антуанетте, долгое время бывшим друг другу чужими, не суждено соединиться в людской памяти.
Фридрих Вильгельм III и Луиза Прусская (1793–1810) «Амазонка» и «тихоня»
«Она производила впечатление неземного существа, что проходило перед вами, не касаясь земли».
Шевалье Лэнг«Королева вела споры и давала советы с умом, точностью, независимостью и твердостью, какие восхитили бы меня даже в мужчине».
Фридрих Генц«Ей, поскольку она женщина, совершенно не было нужды интересоваться политическими вещами. Она была наказана за свое властолюбие».
Наполеон IТень великого Фридриха
В конце октября 1805 г. берлинцы стоически терпели дождь и холод ради того, чтобы оказать горячий прием одному знатному гостю. К королю Фридриху Вильгельму III и королеве Луизе прибыл царь Александр I. Балы, званые обеды и театральные представления, типичные для любого официального визита тем не менее не позволяли забыть о дипломатической цели приезда. Александр собирался вступить в новую коалицию с Наполеоном и заглянул в Пруссию, чтобы попробовать привлечь на свою сторону Фридриха.
На протяжении десяти лет Берлин предусмотрительно избегал вмешиваться в войну, где столкнулись пол-Европы и революционная Франция. Многие считали позорным нейтралитет, который упорно поддерживали прусские правители.
Все помнили, что в свое время Фридрих II (1740–1786) сделал свои владения могущественнейшей державой. Великого Фридриха, завоевавшего австрийскую Силезию, победившего французов в битве при Росбахе (1757) и объединившего часть Германии, уважали и боялись; он считался одним из лучших монархов страны. О нем постоянно вспоминали те, кто глядел на завоевательные победы Франции во главе с Наполеоном Бонапартом, этим, по выражению мадам де Сталь, «Робеспьером на коне» и мечтал потягаться с его славой.
Кроме того, с Фридрихом был связан еще один договор, объединивший осенью 1805 г. Пруссию и Россию. В ночь с 4 на 5 ноября, невзирая на ледяной холод, Фридрих Вильгельм, Луиза и Александр вошли в потсдамскую Гарнизонную церковь и спустились в подвал, где вот уже более двадцати лет покоился великий Фридрих. При свете факела, который держал один из слуг, они подошли к бронзовой усыпальнице. Царь взял за руку короля и королеву, прижался губами к склепу и попросил великого Фридриха засвидетельствовать их дружбу, скрепленную клятвой.
Подробности этой церемонии, якобы устроенной тремя монархами, остались неизвестны. Но хотя история обросла легендами, все-таки за ней бесспорно стояли реальные факты. Ритуал не просто связал двух правителей, стремившихся заключить союз, но объединил иностранного царя с королем и королевой Пруссии. Ведь супруга Фридриха Вильгельма вполне могла бы удовлетвориться ролью безупречной хозяйки и спокойно ожидать в обществе придворных дам возвращения мужа и Александра. Однако ее присутствие у могилы Фридриха II вполне естественно, ведь Луиза активно проявляла интерес к государственным делам. Из рассказов о той ночной сцене даже самый последний подданный королевства узнал о роли, которую начинала играть королева, полюбившаяся в народе. Все свидетельствовало о том, что Пруссией правили оба супруга. И оба правителя находили необходимым заручиться дипломатическим согласием накануне борьбы против Наполеона.
Десять лет Пруссия довольствовалась ролью наблюдательницы за ходом истории. Ее король смотрел на все отрешенно. Он позволил Австрии в одиночку противостоять революционной армии. В 1803 г. Фридрих Вильгельм согласился впустить французских солдат в Ганновер, т.е. отдал им порт. Когда Бонапарт, наводивший ужас на старинные монархические дома, приказал похитить, а затем казнить герцога Энгиенского, король и глазом не моргнул. Равнодушный к возобновлению войны между Англией и Францией, он, казалось, стремился к миру, когда в августе 1805 г. Лондон создал новую коалицию с Веной и Санкт-Петербургом. Значило ли это, что Пруссия будет вечно оставаться на задворках?
На короля давили со всех сторон. Министры стран, враждующих с Наполеоном, злились на безучастие Фридриха и не скупились на сарказм. «Добрый буржуа, добрый отец семейства, но ни в коем случае не король, отвечающий нынешнему времени», – заключил в свое время посол Австрии в Берлине. Но бездеятельного, малодушного короля задеть было сложно. Когда же внучатый племянник Великого Фридриха перестанет строить из себя кроткого князька?
Александр прибыл в Берлин 25 октября 1805 г. и провел там десять дней. Город навсегда сохранил память об этом визите. В честь царя площадь Святого Георгия, находившуюся в восточной части столицы, переименовали в Александерплац[160]. Монархи встречались и раньше. Королевская чета познакомилась с царем в Мемеле, неподалеку от русской границы в июне 1802 г. Как с тех пор все изменилось! Тогда все надеялись, что Фридрих Вильгельм пригласит Александра участвовать в союзе с Францией. А королева записала в дневнике (она вела его на французском языке), насколько галантным показался ей царь: «Он много разговаривал со мной, был весьма учтив, ежеминутно выказывал добросердечие и благородный образ мыслей». Луиза щедро демонстрировала ему свое расположение и не скупилась на восторженные похвалы. Вспоминая о встрече, она называла Александра «единственным», говорила, что он «распространяет вокруг себя счастье и благословение каждым своим решением. Каждый его взгляд делает людей счастливыми, благодаря той небесной доброте, которой он лучится… Встреча в Мемеле – это божественный промысел»[161]. В тот раз прусский король потерпел неудачу: Александр остался союзником Англии и врагом Наполеона.
Через три года, в октябре 1805 г. настал черед царя выступить в качестве просителя. Приехав в Берлин, он рассчитывал убедить короля отказаться от нейтралитета и войти в коалицию. Александр полагал, что добиться этого ему поможет королева. Впечатление, которое он произвел на нее в Мемеле, никуда не ушло. Царь и королева регулярно обменивались письмами: Луиза до сих пор была очарована. Александр показал, что умел располагать к себе. И что в Берлине, что в Потсдаме сторонники сохранения мира с Францией беспокоились. В личном общении Луиза делала антифранцузские заявления, признавалась, что вела переписку о заключении союза с Англией, порицала мужа за нейтралитет. Прусское королевство больше не могло оставаться островком мира посреди бурь. Военные министры, напротив, видели в Луизе союзницу, а в окружении царя считали ее своей надеждой.
И они не остались разочарованы: 3 ноября Фридрих Вильгельм согласился выступить посредником перед Наполеоном, сделать предложения о мире в Европе и взяться за оружие в случае, если французский император откажется идти навстречу. Луиза могла радоваться: в начале ноября Пруссия, наконец-то, вступила в большую дипломатическую игру.
Неподходящая пара
Фридрих Вильгельм фон Гогенцоллерн (1770–1840) и Луиза Мекленбург-Стрелицкая (1776–1810) составляли чету с одной стороны любящую, с другой – плохо друг к другу подходящую. Он – замкнутый, спокойный, с трудом выражающий свои мысли, неуверенный в себе. Она – живая, импульсивная, любящая повеселиться до такой степени, как едко заметил один из современников, «что с радостью и гордостью влюбилась бы в лакея или нищего». «Поразительно красивая», «очаровательная» Луиза нравилась всем, кто оказывался рядом с ней. Наплевательское отношение к этикету заработало ей народную любовь, а выдумки Луизы забавляли ее мужа. Об их браке условились в 1793 г., не спрашивая согласия молодых. Однако позже супруги по-настоящему полюбили друг друга. Конечно, сильная страсть Фридриха Вильгельма не снедала. Но, хотя чета не выставляла чувства напоказ, их любовь не была от этого менее искренней, верной и крепкой. Луиза отличалась романтичностью, но научилась заботиться о муже. Они разделяли вкус к простой жизни – например, решили говорить друг другу «ты» – и обрели мирное счастье в семье, в окружении девяти детей.
Нежную жену Фридриха Вильгельма раздражала в муже всего одна черта: его нерешительность. Король Пруссии вечно не мог определиться, постоянно сомневался, колебался, не мог выбрать какую-то из сторон или сделать окончательный вывод. Его сердце желало одного: мира. Он был глубоко верующим и считал войну страшнейшим из зол. «Всем известно, – признавался он, – что война страшит меня, что я не знаю большего блага для человечества чем мир и спокойствие». Упрямо держась мира, когда вся Европа объединилась против Наполеона, Фридрих бросал вызов остальным монархам. Сумеет ли Пруссия Великого Фридриха сохранить нейтралитет, когда весь мир горит в огне войны?
Луиза, склонная к беззаботности, хоть и была слишком часто «занята вопросом, хорошо ли она танцевала или ехала верхом», осознавала, в какой тупик загнал себя король. Нейтралитет, за который он так цеплялся, был бесславным и небезопасным. Королева прислушалась к тем, кто, считая необходимым готовиться к войне, был склонен взять события в свои руки. Фридрих же, напротив, стремясь убежать от суровой реальности, был согласен плыть по течению. Считается, что в ледяную ночь 4 ноября 1805 г. королева Луиза вернула Пруссии престиж, утерянный за десять лет нейтралитета.
«Амазонка» и «тихоня»
Фридрих Вильгельм прослыл мастером в искусстве уклончивости и двойной игры. Он не любил во что-то ввязываться, а когда он все-таки принимал решение, то в любой момент мог остановиться на полдороге. В ноябре 1805 г. он пообещал царю военную помощь, если Наполеон откажется уйти из Швейцарии, Голландии и Неаполя. Но французский полководец узнал об этом слишком поздно. Когда прусский посол – предусмотрительно неторопливо – добрался до генерального штаба французов, Наполеон успел 2 декабря навязать австрийскому и русскому императорам битву при Аустерлице. Вместо ультиматума, который должен был выдвинуть Фридрих Вильгельм, посол представил победителю королевские поздравления. «Вот комплимент, направленный судьбою не по указанному адресу», – иронически заметил Наполеон[162].
Разбитый наголову царь поспешно бежал с поля битвы, а император Габсбургский принял суровые условия, навязанные Наполеоном. Отстранившись от проигравшей коалиции, прусский король забыл об ультиматуме и пожелал подписать союзный договор с Францией. Наполеон пообещал ему Ганновер в обмен на уступку маленьких княжеств в западной Германии. Тем не менее Фридрих Вильгельм продолжил бы их финансировать[163]. Документ объединял два государства в оборонный и наступательный альянс. Прусский король ратифицировал его через несколько недель, но – в соответствии с привычкой увиливать – позаботился, чтобы в отношении его страны слова «оборонный и наступательный» были заменены на «нейтралитет»[164].
Королева Луиза перестала поддерживать вечные двусмысленности мужа, его нерешительность, уловки с целью выиграть время. До весны 1804 г. она почти не занималась политикой: теперь она думала лишь о том, как дать отпор «людоеду Европы». Луиза была не одна. Ее стойкость находила все больший отклик в общественном мнении. Луиза стала символом сопротивления Наполеону. Вокруг нее собирались те, кто разочаровался в королевской политике, или выступал за войну против Франции – двоюродный и два родных брата короля, высшие офицеры, дипломаты, писатели, художники, надеявшиеся увидеть, как Пруссия сойдет с позорного пути. В своих заявлениях они и не пытались критиковать короля. О нем попросту не говорили. Луизу же, напротив, превозносили на все лады. «Самый умный и энергичный человек во всем генеральном штабе», – говорили о ней. Ее стойкость, глубина чувств и достоинство свидетельствовали, по всеобщему мнению, о том, что королева – «мужественная женщина».
При каждом появлении Луизы толпа рукоплескала ей. Драгунский полк попросил оказать ему честь, разрешив сменить имя и отныне называться в честь королевы. Та стала носить форму и проводила смотр войск под их восторженные крики. Офицеры тяжелой кавалерии, гордые, что Луиза почтила их своим присутствием, прошлись перед французским посольством, достали сабли и заточили их о ступени. Наполеону доложили об этих провокациях. Он в гневе обрушился на «пагубное влияние женщин». Возможно, он бы и сумел напугать этим вечно нерешительного Фридриха Вильгельма. Но главным своим врагом император теперь видел эту целеустремленную и всенародно любимую королеву.
Летом 1806 г. пруссаки невзлюбили Францию еще больше. Наполеон создал Рейнский союз, объединив под своей властью несколько государств центральной и южной Германии и мимоходом вручив королевский титул вюртембергскому и баварскому герцогам. Многие в Пруссии увидели в этом французском протекторате угрозу закабаления всей Германии. Фридрих Вильгельм, с которым никто не посоветовался, судя по всему, не разделял таких опасений. Его жена, напротив, открыто говорила о своих страхах, настаивала, чтобы король выступил против императорских начинаний и подписал с соседями военные соглашения. «Мне будет приятно, – писала она мужу, – увидеть, как их войска объединятся с нашими и прогонят бесчестных французов, принесших всей земле одно горе». Подталкиваемый королевой, вдохновленный предложением царя воссоздать военный русско-прусский союз, Фридрих Вильгельм изменил мнение и обратился к России с мыслью собрать новую коалицию против Франции. Понимая, как важна для него помощь, предложенная Александром I, король пошел еще дальше и согласился ввести Луизу в совет министров. Пруссия сошла с накатанной дороги?
8 августа объявили всеобщую мобилизацию. Страна ликовала. Королева энергично работала, уверенная в своем влиянии на офицеров, которые были убеждены в непобедимости армии, созданной Великим Фридрихом. Наконец-то Пруссия положила конец десятилетию бесславного нейтралитета. Только король и кое-кто из советников тут же стали сомневаться в способности победить. Но в атмосфере всеобщего возмущения французской наглостью, уверенности в победе, о которой говорили все вокруг, у Фридриха не было сил сопротивляться. «…Произошел общий взрыв настроений против Франции, – писал в Берлин генерал Марбо, – королева, принц Людвиг[165], вся знать, армия и все население потребовали громогласно объявления войны»[166].
Какой же, все-таки, необычной была эта королевская чета! Фридрих Вильгельм, до наваждения чтивший славу Фридриха, осознавал недостатки своей армии, ее техническую и тактическую отсталость. Но, когда жена заставила его взять себя в руки, он, в конце концов, втянул королевство в крупный конфликт. Луиза, уставшая от проволочек супруга и ослепленная воспоминаниями о прусской победе при Россбахе[167], торопилась выступить против Наполеона на стороне царя. Осенью 1806 г. она добилась своего. Пруссия двинулась в рукопашный бой. В Александре она рассчитывала встретить идеального союзника. «Мне необходимо, – писала она ему, – повторить вам, что я верю в вас как в Бога и моя дружба к вам может закончиться только вместе с моим счастьем. Я сердцем и душой – ваша». Влюбленная Луиза! Страстная патриотка! Или, как заметил Наполеон, выдавая свою растерянность: грозная «амазонка».
Луиза слушала только собственный антифранцузский пыл. В конце сентября она покинула Берлин, чтобы сопровождать короля в походе. По письмам видна ее уверенность. «Мы идем дорогой чести, она диктует наши шаги и велит скорее умереть, чем отступить», – между строк звучит осуждение официальной королевской политики, до сих пор колеблющейся. У селения Россбах в память о победе над французами Луиза написала: «Всякий постарается отдать заслуженную дань славе своих предков, побывав, если можно так сказать, на святой земле, где находятся души храбрых, умерших за родину, покрытых почетом и славой»[168]. Королева, присутствовавшая на заседаниях штаба и выступавшая перед войсками, словно генерал горела мыслью о победе. Король же думал только о грозящих опасностях.
Катастрофа разразилась в момент наивысшего упоения патриотизмом. 14 октября 1806 г. в Йене, где Наполеон победил князя Гогенлоэ и в Ауэрштедте, где Даву разбил войска герцога Брауншвейгского и тот встретил свою смерть, армия Пруссии была уничтожена. Сто двадцать тысяч убитых и раненых с прусской стороны устилали два поля битвы, девятнадцать тысяч попали в плен. За несколько часов королевство потерпело одно из самых сокрушительных поражений в истории. Города и крепости тут же попали в руки французов. Через неделю Пруссия сдалась. Горе побежденным! Наполеон приказал захватить королеву. Началось стремительное бегство к областям, где пока французов не было. Преследуемая врагом Луиза сумела занять Берлин, а потом отступила на восток – сначала в Щецин, а потом вместе с королем в Кенигсберг, что в восточной Пруссии, чтобы дождаться русских в ойск. В бюллетене Великой армии, выпущенном в Веймаре, победоносный Наполеон на все лады ругал «амазонку»: «Она здесь, чтобы раздувать пламя войны. У этой женщины хорошенькое личико, но мало мужества, она не способна предвидеть последствия того, что натворила… Ее должна мучить совесть за то, что она сделала своей родине, и за то влияние, что она оказывала на своего мужа короля, которого мы согласились считать совершенно порядочным человеком».
Несдающаяся
В конце октября 1806 г. Наполеон вошел в Берлин, прошел под Бранденбургскими воротами, увез оттуда квадригу Виктории в Париж[169] и, в свою очередь, поклонился могиле Фридриха II в Потсдаме. При этом он прихватил с собой его шпагу, орденскую ленту… и будильник, который позже увез с собой на остров Святой Елены. В обращении к офицерам: «Господа, если бы он был здесь, то нас бы здесь не было», – он недвусмысленно выразил презрение к политике потомков великого Фридриха.
Когда император сообщил, на каких именно условиях он готов остановить свой триумфальный поход, королевская чета ответила единодушно. Фридрих Вильгельм, как и Луиза, отказывая французским требованиям, сослался на обещания русского царя. Несмотря на двойное поражение 14 октября, война все-таки должна была продолжиться. Но большинство сочло, что за упорством короля стоял твердый отказ королевы вступать в переговоры с врагом. Наполеоновская пропаганда сделала Луизу единственной, кто был виноват в поражении и в продолжении сражений: «Она так хорошо руководит монархией, что очень скоро приведет ее к гибели». Поговаривали и о слабохарактерности ее мужа, похожего на Людовика XVI: «Как несчастны принцы, которые позволяют женам влиять на себя в политических делах».
Ничто не могло бы сломить Луизино сопротивление Наполеону. В Кенигсберге она заболела и слегла, чуть не умерла. Но когда продвижение французских войск заставило королевскую семью отступать дальше на восток, к Мемелю[170], она рассказала о своих тревогах врачу: «Я предпочитаю попасть в руки Господа, нежели в руки этого человека [Наполеона]». Даже после победы в битве при Эйлау, что к югу от Кенигсберга в феврале 1807 г. Луиза упрямо отвергала предложения о мире. С генералом Бертраном, которому поручили переговоры, она общалась так нахально, что француз – «просто ужасный генерал», как заявила она – не выдержал и резко сказал, что «не дело, когда женщины занимаются вопросами мира и войны».
Луиза выполняла функции монарха. Она рассчитывала только на помощь России: с ней она связывала все надежды, и Александр должен был стать ее спасителем. При поддержке русского царя Луиза вмешалась в государственную организацию и стала требовать возвращения Гарденберга[171] на пост министра иностранных дел и изгнания генерала фон Цастрова, сторонника мира. По тону писем к Фридриху-Вильгельму видно, как Луиза позволяла себе общаться с мужем: «Если ты не накажешь его [Цастрова], как он того заслуживает и как того требует твоя честь, долг и твой собственный престиж, ты окажешь ему услугу и единственное, чего добьешься, – позволишь интриговать против правого дела… Умоляю тебя, будь тверд, будь мужчиной!»
Король сомневался. Как и жена, он надеялся на Россию, несмотря на то что пока что они не получили от царя ничего, кроме красивых слов. И замысел французов выглядел не так уж плохо: союз с Наполеоном против России и Англии помог бы Пруссии вернуть кое-какие земли. Фридрих Вильгельм не отказывался от переговоров. Предложения французов, которые королева не желала и слушать, королю казались интересными, он отвечал на них вежливо, надеясь выиграть время. При этом, одновременно он подписал секретный договор с Александром, где обоим правителям запрещалось соглашаться на сепаратный мир, и они обещали отодвинуть французские войска за Рейн. Прусский король благоразумно старался предусмотреть все сценарии событий.
Фридриха Вильгельма и Луизу ждало жестокое разочарование. После очередной победы французов под Фридландом в июне Александр взмолился о мире. За три месяца он написал прусскому королю: «Ни один из нас не сдастся сепаратно. Мы сдадимся оба, либо не сдастся ни один». Теперь же он говорил так: «Мне больно, что я потерял все, вплоть до надежды быть вам полезным, как того желало мое сердце». Александр не сдержал данные обещания, поправ те нежные чувства, что выказывал Луизе, нарушил и клятву, данную у гроба Великого Фридриха, и секретные соглашения! Царь попросил у Франции мира и пожелал встретиться с императором. Он даже учтиво поинтересовался, не желал ли Фридрих Вильгельм к нему присоединиться. И король Пруссии согласился. Изумление королевы тут же превратилось в ярость. Ее слова, обличающие Наполеона, с трудом прятали то разочарование, что причинил ей Александр, которым она так восхищалась, которого так любила: «Это чудовище [Наполеон] нашло средство разобщить, разорвать самые невинные отношения».
Встреча трех правителей проходила с 25 июня по 7 июля 1807 г. на знаменитом плоту на Немане у Тильзита. Луизу туда не пригласили. Но она от своих взглядов не отступилась, замучив мужа предостережениями, а своими письмами царя, чтобы напомнить последнему его же обещания.
Тильзитская пощечина
Луиза открыто выражала ненависть к Наполеону: «Вот источник зла! беда всей земли», – но за злыми словами скрывался страх. Страх, что муж уступит французским требованиям. Луиза не одобряла тильзитскую встречу: «Если вы вместе с царем обязаны встретиться с Дьяволом, – с болью писала она Фридриху Вильгельму, – то, наверное, стоит верить, что от этого будет хоть какое-то благо». Боясь слабохарактерности короля, в письмах она отчитывала его, уговаривала не отступать, предупреждала о том, чем он рисковал, если решит сдаться. «Осмелюсь во второй раз просить тебя, – настаивала Луиза, – чтобы ты собрал все силы, на какие способен… Будь тверд». Она диктовала ему, как вести себя, как выбирать: кого из министров оставить при себе, а кого уволить: «Не жертвуй Гарденбергом, ибо, если вернутся Гаугвиц или Цастров, ты станешь рабом французов, человеком проигравшим и опозоренным».
К Александру она обращалась с мольбой: «Мой дорогой кузен, не покидайте нас!» – и надеялась на его сочувствие: «Мое здоровье несколько расстроилось из-за всех этих тревог», но она упорно стояла на своем: «И все равно я уверена, что вы и король выстоите, несмотря ни на что».
У прусской королевы были причины для беспокойства. В Тильзите Наполеон скверно обошелся с Фридрихом Вильгельмом, которого держал его за «простака», отведя ему роль статиста. На самой первой встрече царя и императора французов, состоявшейся 25 июня 1807 г., его отстранили от участия в переговорах и оставили… на берегу. Узнав об этом, Луиза не могла успокоиться. На следующий день Фридриху Вильгельму все же позволили подняться на плот. Однако во время переговоров между тремя правителями Александр вел себя с ним высокомерно, а Наполеон вовсе ни во что ни ставил: повернулся спиной и прогнал с последующего ужина. Луиза не могла стерпеть такое унижение. Когда она узнала, что павильон, где встречались монархи, был украшен только вензелями Наполеона и Александра, она громко заявила, не в самых дипломатических выражениях, что «это совершенная грубость и насмешка».
В Тильзите с Фридрихом Вильгельмом не считались. Наполеон не испытывал к нему ничего, кроме презрения, и, когда он охарактеризовал пруссаков «народом трусливым и тщеславным, не обладающим ни характером, ни мужеством, вечно побитым и неизменно нахальным», то он подразумевал их правителя. Одному из современников, простому гвардейцу Фридрих Вильгельм показался «побежденным королем, который явился попросить осколок разбитой короны». Королевской чете не пришло в голову, что Наполеон уже подумывал низложить ее. Разве не он прогнал из Неаполя короля Фердинанда IV Бурбонского и поручил управление королевством своему брату Жозефу Бонапарту? В отношении Пруссии император французов был настроен менее радикально. Наверное, этим он хотел угодить Александру, который, заступаясь за давнего союзника, пытался хоть как-то загладить свое недавнее предательство. Потому Пруссию и не зачеркнули на европейской карте. Но перед ней стояла угроза раздела. Договор был готов. Перед тем как поставить последнюю подпись, Наполеон захотел встретиться с Луизой. Пожелал быть представленным женщине, чью красоту превозносили все? Стало любопытно взглянуть на упрямую королеву? Или то была жажда унизить и без того поверженного врага?
Побежденный и оскорбленный Францией Фридрих Вильгельм не мог не восхищаться гением Наполеона. Это чудовище очаровало его, король был словно околдован. И к этой победе император хотел добавить королеву. Он предложил Фридриху Вильгельму позвать ее в Тильзит. Король написал жене: «Он спрашивает у меня, что у вас нового, и сказал мне, что знает, как вы его не любите, но не желаете ли вы заключить с ним мир, как я?» Королева рассвирепела, пообещала, что не примет приглашения но, в конце концов, согласилась приехать – в надежде спасти то, что можно.
Встреча состоялась 6 и 7 июля[172]. Она была разыграна в три акта с прелюдией: Луиза пригласила бывшего министра Гарденберга с тем, чтобы перечислить ему вопросы, которые она собиралась задать Наполеону. Она тщательно подготовилась к встрече с дьяволом и не стала заранее отрицать, что тот лишен обаяния. Одна из дам королевской свиты вспоминала, что «никогда не видела ее такой прекрасной, как в те столь трудные для нее дни». Сумела ли всеми превозносимая красота покорить непреклонного победителя? Луиза преисполнилась решимости и стала собираться с силами: «Я должна все забыть, не думать о том, что он сказал обо мне, забыть о дурном и думать только о муже, о королевстве и о детях».
6 июля перед императором предстала мать и супруга. Много раз пыталась она заговорить о политике, но Наполеон переводил разговор на пустые темы. Однако под ее напором он, в конце концов, не выдержал: «Вы просите слишком многого, но я обещаю вам, что подумаю». Такие слова ни к чему не обязывали. Встречу, которая продлилась больше часа, прервало несвоевременное появление Фридриха Вильгельма – его не столько обеспокоил неуместный жест Наполеона в отношении его жены, сколько он приревновал, что она удостоилась личной аудиенции, а ему пришлось довольствоваться не более чем взглядом в свою сторону. Прусскому королю уже пришлось почувствовать, как им пренебрегали в пользу Александра на плоту в Тильзите. И теперь это повторилось.
За ужином Луизу посадили между Наполеоном и царем. И она, отказавшись от строгих манер королевской супруги, принялась игриво кокетничать, что умела делать с большим мастерством. Император галантно предложил ей розу. Она приняла ее и ловко ответила: «Да! Но с Магдебургом», пытаясь добиться, чтобы Пруссия избежала раздела и не потеряла свои владения к западу от Эльбы. Собеседник уклонился от ответа.
На следующий день император сообщил свои условия на бумаге, которую следовало тут же подписать. Пруссия теряла практически половину своих владений в западной Германии в пользу новорожденного Вестфальского королевства, которым будет править Жозеф Бонапарт, а в польских областях в пользу герцогства Варшавского, на некоторое время оживившего Польшу. «Оба крыла прусского орла» оказались сломаны. Луиза не сумела спасти Магдебург. Унизительный договор, названный кем-то из дипломатов «шедевром разрушения», подписали 9 июля. Королевство потеряло 5 миллионов подданных, его владения сократились до ста шестидесяти тысяч квадратных километров. Пруссия должна была выплатить огромнейшую компенсацию за ущерб, причиненный войной, а численность ее армии сокращалась до сорока двух тысяч человек. Менее чем через год от детища великих прусских монархов – Великого курфюрста, короля-солдата и Фридриха II – ничего не осталось[173]. «Королева Луиза приехала в Тильзит слишком поздно. Все уже было решено», – признался Наполеон на острове Святой Елены.
Фридрих Вильгельм, которому пришлось выступить просто-напросто статистом, возлагал на супругу последнюю надежду. Сумеет ли она смягчить требования французов? В этом решающем маневре королевская чета проявила поразительную наивность. Наполеон не был дураком. «Я не сделаю ради прекрасных глаз королевы Пруссии того, что не мог позволить по дружбе вашему императору Александру», – заявил он одному из советников царя. Любезность Луизы не могла бы смягчить имперскую волю. В связи с этим Наполеон заверил свою жену Жозефину: «Мне пришлось обороняться, поскольку она пыталась выжать из меня кое-какие уступки ее мужу, но… я держусь своей линии… Я как клеенка, по которой все это только скользит. Мне слишком дорого обошлось бы быть ее поклонником»[174]. И в заключение император добавил, что женщины в политике бесполезны: «Государства идут к собственной гибели, как только женщины вмешиваются в управление делами».
Разочарования
Такая череда унижений и испытаний могла бы разбить не одну пару. Но брак Фридриха Вильгельма и Луизы она лишь укрепила. Судя по записям прусской королевы, их счастье не пострадало. «Король, лучший из людей, – признавалась она, – самый лучший и любимый как никогда… Мне сладко осознавать, что… с годами он стал более близким благодаря моей глубокой любви. Мы стали одним целым, и воля одного – это воля и другого».
Счастливая в браке – в 1808 г. и 1809 г. родились последние двое детей – Луиза так же ясно мыслила в политике. Падение Пруссии, считала королева, произошло по внешним причинам. Наполеоновские войска обрушились на королевство, ошибочно полагавшее, что оно так же неуязвимо, как в былые времена. Королевская чета теперь это поняла. «Мы почивали, – написала Луиза, – на лаврах Фридриха Великого, который, властвуя в свой век, создал новую эпоху. Мы не шли с ней в ногу, и потому она затопила нас. Никто не удостоверяет это яснее, чем король».
Фридрих Вильгельм и Луиза разделяли горькое чувство в отношении царя. После Тильзитского мира они ощущали, что Александр бросил их. Они упрекали его в «долгом молчании» – он не написал им даже самого короткого письма – и, самое главное, в верности Наполеону. Когда первые неудачи в Испании подтолкнули Австрию к тому, чтобы возобновить борьбу против Франции, Наполеон, осознавая опасность, созвал осенью 1808 г. в саксонском городе Эрфурте своих немецкого и русского союзников. Кенигсберг, где жила королевская чета, находился на пути царя. В письмах, предшествовавших встрече, Луиза снова призвала Александра к сопротивлению, советовала ему не поддерживать Наполеона против Австрии. «Будьте начеку с этим искусным лгуном и прислушайтесь к моим словам, ведь я хлопочу только ради вас и вашей славы… Не позволяйте втягивать себя в какое-либо предприятие против Австрии». Луиза апеллировала к мужеству Александра, к его благородству и их дружбе.
Долгожданная встреча состоялась 18 сентября и принесла Луизе немало боли. Александр повторил свой отказ вступить в союз с Австрией и остался равнодушен к увещеваниям королевы. А та придала их политическим разногласиям сентиментальный оттенок. Всегда уверенная в своей красоте и неотразимости Луиза обнаружила, что та больше не действует. Раньше она идеализировала Александра, считала, что влюблена в него, теперь же она видела перед собой сфинкса, которого более заботили интересы собственной страны, нежели возможность угодить очаровательной женщине и заодно требовательной правительнице. Луиза, которая не раз справлялась со слабовольным мужем, не смогла на сей раз убедить того, кого считала своим воздыхателем. «Он не знал, как любить меня, – признавалась она близкой подруге, – он не знал, что такое настоящая любовь, что это – любовь душ». Казалось, что давным-давно было время – хотя прошло от силы год или два, – когда Луиза повторяла, что верит в него, как в Бога, что надобно его «узнать, чтобы поверить в него до конца», что у него «счастливое влияние» на ее существование, что она «сердцем и душой» принадлежала ему. Теперь же она говорила, что «Господь поставил его на моем пути словно злого демона».
Она заболела от тоски, представив, как два императора договаривались в Эрфурте за спиной Пруссии. Луиза не видела, что царь не плясал под дудку французов: он заключил союз, чтобы выиграть время, но отказался уступить всем требованиям. Когда «сам Бонапарт» потребовал разоружения Австрии, он ответил, что не станет в нем участвовать. И по поводу войны с Англией он не дал четкого ответа. Как бы Луизе было приятно услышать разгневанного Наполеона. «Ваш император Александр упрям как мул, – заявил он Талейрану. – Он глух к вещам, которые не желает слышать»[175]. В Эрфурте этот мул не забыл про Пруссию. Царь не поднял вопрос о выводе оккупационных войск французов, но добился уменьшения компенсационных выплат для Пруссии и продления их срока. Произошло это не столько из-за просьб Луизы, сколько по причине предательства Талейрана, который подсказал царю, чтобы тот не шел на поводу у Наполеона. Известны слова дипломата, потерявшего пост министра иностранных дел: «Французский народ цивилизован, французский же государь – нет. Русский государь цивилизован, русский же народ – нет. Значит, русский государь должен быть союзником французского народа».
На обратном пути Александр еще раз остановился в Кенигсберге. Едва заметив его, Лиуза забыла все огорчения и приняла официальное приглашение в Санкт-Петербург. Фридрих Вильгельм, вечно одержимый сомнениями, увидел в этом поначалу только источник дополнительных расходов, но затем уступил воле жены. Поездка состоялась в январе 1809 г., но русская столица, где в течение трех недель шли нескончаемые празднества – там играло «много турецкой музыки», – не понравилась гостям. Несмотря на роскошные подарки хозяина, королева испытывала массу затруднений. Ей, физически хрупкой, было тяжело. Ее самолюбие было задето: присутствие царской любовницы Марии Нарышкиной раздражало ее так, что она начала изображать дружеские чувства к царевне Елизавете. Королевская гордость тоже пострадала: теплый прием, который встретила Луиза, лишь подчеркнул положение побежденных монархов.
Любезность царя в отношении Фридриха Вильгельма казалась ей показной, опекающей, неискренней. Луиза осталась при убеждении (ошибочном), что Александр неизменно верен Наполеону. Уезжая из Санкт-Петербурга, она записала в личном дневнике: «От этих ярких праздников у меня остались лишь усталость да горечь… Я уезжаю с тем же, с чем приехала… Отныне ничто не ослепит меня; мое королевство умерло». Луизе оставалось жить всего полтора года. Полтора года борьбы и разочарований.
Последний бой
Вернувшихся в Кенигсберг, разочаровавшихся в царе и страдавших из-за успехов Наполеона, Фридриха Вильгельма и Луизу тревожили мысли о будущем. Королева от упадка сил слегла. Доверие, дружба, любовь, которые она преподнесла Александру, не были ответно вознаграждены. Луизино умение нравиться куда-то ушло, она считала его бесполезным. Она узнала, что ее несправедливо осуждали некоторые из министров, раньше разделявшие ее ненависть к Наполеону и стремление заключить союз с Австрией. Барон Штейн, суровый инициатор первых государственных реформ после Тильзита, которого в ноябре 1808 г. по приказу императора изгнали, не скрывал своих мыслей. Он называл Луизу поверхностной кокеткой, мотовкой и невеждой.
Дошло до того, что король и королева боялись потерять корону. Им удалось избежать низложения после Йены, когда Наполеон отказался от мысли отнять у них престол. На сей раз опасность пришла изнутри: супруги опасались восстания офицеров, которые устали от задержки жалованья. Союзу с Россией, оказавшемуся столь невыгодным, Пруссия предпочла соглашение с Австрией. Страной, залечившей раны Аустерлица и готовившейся, благодаря модернизации армии, снова потягаться с Наполеоном. Фридрих Вильгельм чувствовал, как бурлило общественное мнение: «Я рискую всем, если не стану на сторону, которую предпочитает народ». Но как обычно нерешительное общество опасалось следовать собственным выводам и провоцировать императора.
Инициатива майора Фердинанда фон Шилля вскрыла неоднозначные аспекты королевской политики. В конце апреля 1809 г. этот гусарский командир попытался вовлечь прусскую армию во всеобщее восстание, которое должно было заставить короля вступить в антифранцузскую коалицию[176]. Фридриха Вильгельма этот бунт, естественно, возмутил. У него было достаточно причин для обиды: он завидовал его авторитету, ему подчинялись в армии, он угрожал рассердить Наполеона. Луиза же, очарованная авантюрой, которую официально осудила, считала Шилля персонажем романтическим, который предвещал, что Пруссия распрямит спину.
Царь призывал прусского короля к благоразумию, которое тот и так всю жизнь культивировал. Последнее предательство Александра ударило по нему особенно больно. Дело в том, что в мае 1809 г. Александр объявил войну Австрии. Его заставил Наполеон. Разумеется, царь не торопился привести войска в движение, те промедлили с переходом границы и избежали столкновения с врагом. Но в Пруссии помощь России французам посчитали политическим ударом в спину. Луиза стала тут же добиваться союза с габсбургским императором. Король, как всегда, колебался, но его нерешительность оказалась к месту. Великая армия вошла в Вену и разбила Австрию в Ваграме 6 июля. Затем последовал договор, обернувшийся для австрийского монарха тяжелыми территориальными потерями, а царь, сомнительный союзник Франции, получил небольшую земельную компенсацию[177] за скромное участие в войне.
Прусские правители были разбиты. Фридрих Вильгельм переживал за свой трон, Луизу мучили страшные приступы астмы, добавлявшиеся к ее черным мыслям. Принесет ли Наполеон новые несчастья стране? «Все зависит от его хорошего или дурного настроения, от насущного интереса, от его личной злобы», – объявила, покоряясь судьбе, королева. Смирится ли Луиза? Подавленная несчастьями она, в конце концов, заразилась бездействием мужа, который говорил, что «политическое существование, сколь скромным бы оно ни было, лучше, чем полное отсутствие существования». Компенсационные выплаты, наложенные Францией, заставляли страну тратить много сил, а королевскую чету сильно экономить. «Нам пришлось, – заметила королева, – продать все столовое серебро, все бриллианты, чтобы выплатить часть контрибуций». Единственной радостью стало возвращение супругов в Берлин 23 декабря 1809 г., где их приветствовала восторженная толпа. В народе чету до сих пор любили. Однако вернуться ее вынудил Наполеон.
Континентальная Европа принадлежала французам, Россия стала блистательным помощником Наполеона, Австрию укротили, Пруссию заставили склонить голову. Все стремились найти свое место в наполеоновской системе, и казалось, что той ничто не угрожало. Тем временем прусские правители копили обиду, возмущенные затеями хозяина Европы. Мысль о браке «минотавра» и молодой эрцгерцогини Марии Луизы возмутила Луизу[178]. Французские притязания на прусскую область Силезию с целью увеличения владения Великого герцогства Варшавского встретили народное недовольство.
Хотя прусское правительство надеялось обсудить с Наполеоном уступку этой территории в обмен на отмену компенсационных выплат, Фридрих Вильгельм упорно от этого отказывался. Луиза поддерживала его. Даже сильнее, чем раньше она мечтала о военном восстании против французов, представляла, как армия освободит ее страну. Но одновременно она подумывала съездить в Париж и вымолить у императора смягчение контрибуций, которые опустошали казну и душили прусский народ.
Последний раз Луиза была счастлива, когда гостила у отца. Но в Стрелице у нее началась лихорадка, боли в груди стали невыносимы. Через три недели состояние больной ухудшилось. Фридрих Вильгельм, опасаясь осложнений, поспешил к жене. «Там, где она, – написал он, – там и я. Она для меня – все! Мое единственное счастье на земле!»
Приступы удушья становились все страшнее. 19 июля 1810 г. в фамильном замке Хоэнцириц Луиза Прусская скончалась после тринадцати лет правления. Ей должно было исполниться 34.
Легенда
Скоропостижная смерть королевы всколыхнула всю Пруссию. Фридрих Вильгельм погрузился в скорбь и смятение. Король только что потерял любовь всей своей жизни, которая к тому же давала ему ценные советы. Потерянный, он передал управление делами канцлеру Гарденбергу, главному стороннику реформ, которые могли помочь стране привести себя в порядок. Несмотря на враждебное отношение к Франции, министр хладнокровно проанализировал ситуацию. Хотя впереди маячила угроза франко-русской войны, Наполеон имел в распоряжении все средства, чтобы отбить у Пруссии желание вступать в союз с царем. Ведь у самой страны расположился маршал Даву. Если Берлин и Санкт-Петербург о чем-то смогли бы договориться, его армия тут же заняла бы прусскую столицу!
Осознавая эту смертельную опасность, Гарденберг склонял короля к союзу с Францией, но так, чтобы правитель позаботился конфиденциально донести до сведения других европейских монархов свои истинные чувства в отношении Наполеона. И король и канцлер строили разговор сообразно ситуации: с патриотами они говорили на языке патриотизма, с французским посланником они целиком и полностью были за Францию[179]. Фридрих Вильгельм сделал терпение добродетелью, а двойную игру возвел в принцип работы правительства.
Поняла бы его Луиза, будь она жива? Подписала бы она союзный договор, который в феврале 1812 г. ее супруг заключил с «демоном», при том что король секретно предупредил царя, что в столкновении с русскими войсками прусские корпуса Великой армии ограничатся имитацией боя? Допустила бы ее страстная натура эти пустые разговоры, что сбивали с толку офицеров, которые не знали премудростей политики, и оттого кое-кто предпочел уйти со службы? В мае 1812 г. Фридрих Вильгельм отправился в Дрезден, чтобы поприветствовать Наполеона, который принял командование «Армией двадцати народов», чтобы промаршировать к Неману. После переправы через эту реку начинался поход в Рос-сию. В сентябре прусский король поздравил Наполеона со взятием Москвы.
Но пришел час, когда французам пришлось отступать из России. Тому способствовали зима, тактика выжженной земли, которую применил Кутузов, постоянные нападения казаков. Наполеон остался без союзников. Прусский генерал Йорк фон Вартенбург покинул Великую армию и под свою ответственность начал переговоры с русскими, нейтрализовав свои войска и открыв Восточную Пруссию Александру. Король опять несколько недель сомневался, а потом решил сменить лагерь: в феврале 1813 г. Пруссия заключила союз с царем, и Фридрих Вильгельм выпустил прославленное «Воззвание к моему народу», поднявшее дух всех патриотов, дворян и буржуа, писателей и ученых. Луиза была бы счастлива.
Вскоре родилась легенда о королеве Пруссии, душе сопротивления и возрождения страны. В народе ее сделали национальной героиней, писатели превозносили ее. Автор знаменитой театральной пьесы «Принц Фридрих Гомбургский», певший дифирамбы великому прошлому, Генрих фон Клейст посвятил бы свой шедевр королеве Луизе, будь она жива[180]. О ней вспоминали во время освободительной войны, которая в 1813 г. после решающего сражения под Лейпцигом, выдворила наполеоновские войска из Германии. Когда прусский Блюхер по прозвищу фельдмаршал Форвертс (от немецкого Vorwärts – вперед) вошел в побежденный Париж в 1814 г. вместе с Фридрихом Вильгельмом и царем Александром, он нашел слова в честь покойной королевы: «Теперь, наконец-то, Луиза отомщена».
Фридрих Вильгельм пережил жену на тридцать один год. В 1824 г., через четырнадцать лет после смерти Луизы, он женился повторно – морганатическим браком – на юной графине Августе фон Гаррах, получившей титул княгини Лигницкой.
После смерти королевы в память о ней король решил поставить мавзолей в парке замка Шарлоттенбург. Участвовать в работе над ним пригласили лучших прусских мастеров. При этом король собственноручно выбрал место для постройки и нарисовал эскиз. Карл Фридрих Шинкель, в будущем знаменитый художник, руководил возведением небольшого дорического храма с портиком, а Христиан Даниэль Раух – которому отдали предпочтение перед лучшими скульпторами того времени: Шадовым, Кановой и Торвальдсеном – выполнил надгробный памятник в соответствии с пожеланиями короля. На своеобразном саркофаге лежала статуя королевы, грудь ее была слегка приподнята, голова клонилась вправо, руки скрещены на груди. «Королева Пруссии, – писал Шатобриан, – покоится здесь в мире, который память о Бонапарте не способна больше потревожить»[181]. Через шестьдесят лет в конце июля 1870 г. именно перед этим мавзолеем сын Луизы Вильгельм I размышлял о жизни, перед тем как последовать за своей армией, направлявшейся в Эльзас[182].
Луиза живет в народной памяти, ее воспевают поэты, и ее изображения ваяют из мрамора скульпторы. Она стала главным символом Пруссии, легендой, на которой зиждется национальное самосознание и вся Германия. Ее политическая роль за кулисами или на сцене восхищала современников, а затем и потомков. Сегодня Фридриха Вильгельма III вспоминают редко, но королеву Луизу не забывают.
Виктория и Альберт (1840–1861) Альбертинская королева и викторианский принц
«Англичане очень болезненно реагируют на мысль, что у Альберта может быть хотя бы малейшая политическая власть или он станет вмешиваться в наши дела».
Виктория«Этот немецкий принц правил Англией в течение двадцати одного года с энергией и мудростью, каких не обнаруживал ни один из наших королей».
ДизраэлиЕще никто не видел более цельной пары, столь сильной взаимной любви и совершенного семейного союза, чем тот, который безвременная смерть Альберта (1819–1861) разрушила в один декабрьский день 1861 г. спустя двадцати один год совместной жизни. Овдовевшая Виктория (1819–1901) навсегда облачилась в траурные одежды, а картины и фотографии хранили память о муже, и целых сорок лет не было ни одного дня, чтобы она не плакала о невозвратном счастье. «Почему, моя бедная дочь, – писала она старшей дочери, – земля не поглотила нас двоих в один день? Сколько я могу прожить после него?»[183] За несколько недель болезнь взяла верх над огромной супружеской страстью.
И все же трудно представить как же мало романтики было в подготовке этого союза. Ни один из будущих супругов, обмениваясь письмами из Лондона и Кобурга, не помышлял о браке. Семья Виктории хорошо относилась к этому немецкому родственнику из Саксен-Кобург-Готской династии, которого видела мельком несколько лет назад, но у молодой королевы, взошедшей на трон в 1837 г., не было причин торопиться. «Скоропалительная свадьба лишь еще сильнее утомит меня», – призналась она. А об Альберте, которому не было еще и 20 лет, обронила: «Негоже, что я выхожу за молокососа». Виктория не теряла самообладания. «В случае, если Альберт мне понравится, – уступила она еще раз в июле 1839 г., – я не смогу обручиться с ним в этом же году. Все мероприятия подобного рода могут быть устроены, самое раннее, через два или три года». Никто ни о ком не мечтал, никто не сгорал от страстного ожидания, что его полюбят. Виктория спокойно изучила список остальных претендентов, не питая к Альберту – как она искренне призналась – «чувств, необходимых для счастья». Принц же желал просто мирно жить у себя на родине, вероятно, вместе с нежной супругой-немкой.
У этой легендарной пары, созданной без сопутствующей страсти (решение о браке было в спешном порядке принято всего через четыре дня, после того как в октябре 1839 г. молодые люди познакомились), не было недостатка ни в чем: ни в рождении многочисленных детей – четыре сына и пять дочерей за семнадцать лет – ни в частых семейных сценах. Любовный союз Альберта и Виктории вечно сопровождался семейными ссорами. Начались они в первые месяцы после свадьбы, повторялись, затягивались, провоцировали новые конфликты и упреки. Королева легко выходила из себя. «Она с самого начала отказалась слушать меня, – жаловался ее муж, – бесится и осыпает меня упреками». Альберт тоже не отличался кротостью: «Еще раз, вы без необходимости потеряли всю вашу власть по своей вине… Не я начал первым этот разговор, это вы ходили за мной из комнаты в комнату, чтобы его поддержать… Если бы вы были поменьше заняты собственной персоной… это бы очень вам помогло»[184].
Однако ни о вспыльчивом характере королевы, ни о склонности принца к домашней тирании подданные не знали. Впрочем, после смерти Альберта Англия не упускала повода превознести королевскую чету, которую считала образцом викторианских добродетелей. В противовес разгульным монархам, предшествовавшим Виктории, безупречная репутация этого брака послужила моделью для будущих поколений. Сегодня Лондон гордится концертным залом, который построили в 1871 г. и назвали в честь мужа королевы – Роял-Альберт-Холл. А знаменитый музей Виктории и Альберта настолько знаменит среди англичан, что они обозначают его просто инициалами V&A. Кажется, что подданные Ее Величества старались забыть, насколько холодный прием Альберт Саксен-Кобург встретил на родине своей жены и как долго – всю его немаленькую жизнь! – его считали за иностранца.
В 1840 г., когда Виктория сообщила парламенту о помолвке и будущей свадьбе, в глазах многих политических мужей Англии Альберт олицетворял все недостатки, что есть в мире. Одни видели в нем опасного радикала, другие – немца без гроша в кармане и охотника за приданым. Альберт имел несчастье приходиться племянником Леопольду Бельгийскому, который был дядей и воспитателем Виктории. Многие видели в нем интригана, который решил посадить племянника на трон. Тори, так начали называть «консерваторов», пытались донести до королевы свои собрания о ее браке в надежде, что ее мужем окажется кто-то из их сторонников, и тот ограничит влияние партии их соперников вигов, к которым благоволила Виктория. Кандидатура Альберта их не устраивала, и они постарались развернуть кампанию против него. Подданные же королевства к жениху Виктории остались равнодушны. Кое-кто правда считал, что принц слишком молод, а кто-то подозревал, что принц католик.
Нет королевской четы, по чьему поводу общественное мнение заблуждалось бы больше. Ранг Виктории, ее характер, а также долгота ее правления заставляют предположить, что она имела абсолютную власть над супругом, за которым признали официальное положение лишь через семнадцать лет брака. Но все совершенно упускают из виду, что Альберт не только умел не поддаваться жене, но также ему удалось завоевать ее авторитет. В первые годы брака он занимал скромное место, но затем семейные обстоятельства позволили ему утвердить себя с согласия Виктории. Безвестный принц-иностранец, ставший мужем королевы, доказал свою незаменимость. Многие ли знают, что мудрые действия Виктории по сохранению влияния Короны опирались на ценные советы Альберта, уважавшего политические обычаи своей новой страны?
И если добавить, что так называемые викторианские добродетели – трудолюбие, строгая мораль, бережливость, набожность – были присущи в большей степени Альберту, нежели Виктории, то сложившийся образ этой скромной в своих привычках четы нуждался в пересмотре.
Неравный брак
Ей было всего 17 лет, когда она впервые встретила Альберта. Тогда в мае 1836 г. претенденты на руку будущей королевы торопились приехать в лондонский дворец Кенсингтон, где Виктория жила вместе с овдовевшей матерью, графиней Кентской. Молодая принцесса нашла двух сыновей принца Оранского некрасивыми и неотесанными, а сыновей герцога Саксен-Кобурга Эрнста и Альберта очень приятными, а последнего еще и «очень красивым». Но непривычный к придворной жизни и равнодушный к балам Альберт ничем себя не проявил и предпочел прятаться в своей комнате. Встреча плодов не принесла: все стрелы любви остались в колчане.
Виктория была обязана выйти замуж. После смерти в 1837 г. Вильгельма IV, ее дяди по отцовской линии, которому было уже больше 70 лет – его здоровье все ухудшалось, а прямого наследника он не оставил – корона Англии предназначалась ей. Виктория потеряла отца, когда ей был 1 год, она жила вместе с матерью и даже делила с ней комнату, и куда больше нуждалась в отце, нежели в муже. Дядя по материнской линии Леопольд, занявший трон Бельгии в 1831 г., выполнял роль первого, а найти второго Виктория вовсе не торопилась. После кончины Вильгельма IV на трон взошла совершенно неопытная принцесса. Зато с характером. Она была непростым ребенком. Как вспоминала гувернантка, «при малейшем слове поперек она имела склонность вспыхнуть ганноверским гневом»[185]. Свои первые годы она провела относительно уединенно, подчиняясь матери, та же была «околдована» своим мажордомом и любовником Джоном Конроем. Викторию не допускали к придворной жизни, она была игрушкой в руках этих честолюбивых интриганов, – к ним присоединилась немецкая гувернантка Виктории баронесса Луиза Лехцен – и все они рассчитывали влиять на нее в будущем[186]. Она производила впечатление такой хрупкой! Невысокая, полная, некрасивая, она компенсировала неудачную внешность грациозными манерами, ярко-голубыми глазами, смешливым и живым характером.
На церемонии коронации, состоявшейся в Сент-Джеймском дворце 21 июня 1837 г., стало ясно, что Виктория хотела избавиться от опеки матери и наставницы. Молодая королева 18 лет от роду самостоятельно приняла посланников, явившихся, чтобы сообщить о смерти короля и официально объявить о ее восхождении на престол. Она самостоятельно дала аудиенцию лорду Мельбурну, тогдашнему премьер-министру. «Так я всегда буду делать со всеми моими министрами», – заверила она его[187]. Затем самостоятельно приняла присягу членов Совета и на следующий день председательствовала в нем так, словно давно этим занималась. В ответ на инсинуации и интриги матери, которую Виктории удавалось держать на расстоянии, она желала продемонстрировать, что твердо намерена править своими силами.
Она не нуждалась в наставниках. Ее любимый дядя король Леопольд не скупился на советы – ими пестрели все его письма, которые он целыми днями писал ей из Брюсселя. И с лордом Мельбурном, которому Виктория вручила его полномочия, они часами разбирались в общественных делах. Точно так же Уинстон Черчилль обучал молодую Елизавету II, когда она взошла на трон в 1952 г. Виктория схватывала все быстро и с воодушевлением. В ней кипели сила и страсть к обязанностям королевы. Необходимость составлять, подписывать и обсуждать документы ее не утомляла ни физически, ни морально. После слепого и безумного короля Англии – Георга III, распущенного Георга IV, «неотесанного и хвастливого» Вильгельма IV молодая королева, казалось, сулила обновление Британской короне[188]. Леопольд Бельгийский, как и лорд Мельбурн – доверенные лица Виктории, вдохновляли ее добавить блеска репутации короны. «Внимательно следите, – рекомендовал премьер-министр, – чтобы о всех мерах и назначениях ставили сначала в известность вас».
Виктория тоже считала, что необходимо сохранить и укрепить королевские прерогативы. В 1839 г. она показала яркий пример своего твердого характера, когда отказала консерваторам, планировавшим встать у руля, в смещении нескольких придворных дам – под предлогом, что раз их мужья больше не заседали в Палате общин, оказавшись в оппозиции, то их тоже надо заменить на фрейлин-тори. С этим так называемым «кризисом в спальне», который начал сэр Роберт Пиль[189], желавшим лично назначить для королевской свиты фрейлин из числа тори, Виктория с блеском справилась. Она уже поняла, что попытки консерваторов вмешиваться в дела королевского дома были «попыткой проверить, можно ли управлять и командовать ею, словно ребенком». Виктория оставила на местах своих придворных дам; Пиль, отказываясь подчиниться ее воле, ушел в отставку, и на его место вернулся Мельбурн. Всем стало ясно, что с Ее Величеством надо считаться.
Решение о супруге и сроках свадьбы принадлежало только Виктории. Но она пока не могла определиться. Конечно, ей трудно одной, но это не повод терять независимость. Если она не сумела встретить юношу своего ранга, то кузен Альберт Саксен-Кобургский, приходившийся Ее Величеству ровесником, мог составить хорошую партию. Король Леопольд мечтал о таком браке. К тому же молодые люди регулярно переписывались. Виктория же, не чувствуя, что эта переписка ее к чему-то обязывала, постоянно напоминала дяде, что у нее с Альбертом нет ничего общего. «В этом году я не могу дать никакого обещания», – снова отрезала она в июле 1839 г., предварительно перечислив минимальные требования к Альберту в плане языка Шекспира: «он должен безупречно говорить на английском; должен писать и говорить без ошибок, до чего ему сейчас еще далеко. И французский его, увы, не идеален, на мой взгляд»[190]. К потенциальному супругу Виктория предъявляла профессорские требования.
Никто не смог бы предсказать исход встречи, состоявшейся 10 октября в Виндзорском замке, с кузеном, столь слабо подкованным в иностранных языках. Леопольд не уставал расхваливать перед Викторией качества своего любимого племянника. Как и Виктория, Альберт не знал нормальной семейной жизни: его родители довольно быстро развелись, мать вышла замуж повторно, но умерла, когда ему не было и 12 лет. Юношеские годы принца прошли не только в тесных стенах небольшого, такого провинциального Кобургского двора. Отец отправил Альберта к дяде в Брюссель, где он своими глазами понаблюдал, как функционировала конституционная монархия. В Бонне Альберт получил университетскую степень. На каникулы он ездил в Швейцарию и северную Италию. Молодой человек отличался скромным, сдержанным характером и внешностью, которая нравилась всем. В отличие от Виктории он быстро уставал, и ему надо было экономить силы. Она обожала праздники, он предпочитал лечь спать пораньше. Но зато, как и Виктория, Альберт демонстрировал волю к власти и страсть к категоричным суждениям. Салонные разговоры наводили на него скуку, красивые придворные манеры оставляли равнодушным. Он уделял мало внимания дамам, терпеть не мог церемонии и протокольные формальности, так как считал их бессмысленными. Как же трудно увидеть в нем будущего мужа королевы, который будет постоянно у всех на виду!
Эти препятствия рассеялись как наваждение после встречи в октябре 1839 г. Виктория была покорена. «У него такие красивые глаза, – призналась она в дневнике, – изысканный нос, прекрасный рот с изящными усами и тонкие, еле заметные бакенбарды; прекрасная фигура, широкая в плечах и тонкая в талии». Невысокая, некрасивая женщина всем, кто был готов ее слушать, расхваливала «просто поразительную» красоту, «великолепную» внешность своего кузена. «Альберт, – писала она, – это совершенство, совершенство во всех отношениях – благодаря своей красоте, во всех своих качествах», самыми выдающимися из которых ослепленная в буре чувств Виктория считала танцорские таланты!
Всего через четыре дня Виктория, раненная в самое сердце, сообщила свое решение заинтересованным лицам. Взаимное физическое влечение сделало свое дело. «Вы сделали самый лучший выбор из всех возможных для своего счастья», – обрадовался король Леопольд. Альберт еще не знал, что дорога к счастью – это не плавание по длинной, спокойной реке.
Будущее, «усеянное шипами»
Подготовка к свадьбе сопровождалась унижениями, которые Альберта злили, а Викторию обижали. Парламент, естественно, натурализовал немецкого принца, но сомневался, какой титул тот будет носить официально. Мельбурн считал, что вместе с предоставлением подданства следовало разобрать вопрос о том, будут ли подданные страны подчиняться мужу королевы. Таких прецедентов еще не было, и оппозиция отказалась выносить решение. С этим вопросом все обстояло неясно. Виктория писала открытые письма, предлагая сделать так, что «во всех ситуациях и на всех собраниях [принц] получит в свое полное распоряжение положение, превосходство и власть, уступающие только рангу королевы». Во всем королевстве ввела протоколы, касающиеся положения ее мужа, но, поскольку парламент не дал согласия, никаких «официальных» правил по этому вопросу не было. Путешествия четы за пределы Великобритании рисковали стать для Альберта источником неприятностей.
Принца не приглашали к участию в английской политике высшего уровня. Парламент объявил, что не даст Альберту ни титула, ни чина в армии, равно как звания пэра, которое бы позволило ему войти в палату лордов. Он попросил о пособии в пятьдесят тысяч фунтов, а ему выдали всего тридцать тысяч. В Англии Альберт оставался не более чем иностранным принцем, каковой находился там, поскольку являлся мужем королевы. Альберт был глубоко уязвлен. Пятнадцать лет спустя рана так и не зарубцевалась. «Пиль, – написал Альберт в 1854 г., – сократил мой цивильный лист, Веллингтон отказал мне в чине, который у меня был, про королевскую семью говорят, что в нее затесался иностранец, виги, находящиеся у власти, стараются давать мне как можно меньше возможностей»[191].
Даже сама Виктория не была расположена удовлетворять все желания своего будущего мужа. «Достаточно одного росчерка вашего пера, – просил ее Альберт, – чтобы сделать меня пэром и дать мне английское имя». Но королева, внушаемая Мельбурном, не оказывала ему этой чести и называла причины: «Англичане очень болезненно реагируют на мысль, что у Альберта может быть хотя бы малейшая политическая власть или он станет вмешиваться в наши дела». Дать принцу титул пэра означало бы позволить ему играть политическую роль. Виктория любила Альберта, но ревниво опекала свои прерогативы, и потому отказала ему. Видя твердость королевы, принц не стал настаивать. «Я сохраню свое настоящее имя и останусь тем, кто я был», – сказал он своей бабушке.
Впоследствии его самолюбию было нанесено еще несколько ран. Альберту не позволили назначить личного секретаря и прислугу; их выбирали королева и лорд Мельбурн. Желание провести с Викторией медовый месяц, хотя бы сокращенный до двух недель, посчитали чрезмерным. И в каком тоне ответили! «Вы забываете, моя любовь, – написала ему Виктория, – что я правительница, и государственные дела не могут остановиться и тщетно ждать… Мое отсутствие в Лондоне совершенно невозможно». Так Альберту напомнили о реалиях власти, и ему пришлось довольствоваться тремя днями.
Тем не менее эти разногласия не омрачали радости от свадьбы. Церемония состоялась 9 февраля 1840 г. в королевской часовне Сент-Джеймского дворца, а в Букингемском дворце устроили торжественный ужин. Это была первая королевская свадьба, за которой наблюдал народ, все предыдущие проходили в частном порядке. Молодые тут же отправились в Виндзор. Казавшаяся миниатюрной рядом с мужем, несмотря на средний рост, но гордо державшая голову Виктория сияла от счастья. И сообщила об этом. Специально для Мельбурна она торопливо написала записку, в которой премьер-министр прочел: «Ночь одновременно сладостная и удивительная». Она делилась с близкими: «Как же сладко быть замужем. Я никогда не думала, что возможно быть настолько счастливой, как я сейчас». Причину счастья Виктория поведала своему дневнику: «Ночью мы не смыкали глаз».
«Нам не остается ничего, кроме как воспользоваться его жаждой деятельности»[192]
Получается, что муж королевы был обречен на бездеятельность? Альберт опасался сразу же возвращаться в Лондон. Виктория с жадностью погрузилась в королевские заботы, а принцу оставалось предаваться ничегонеделанию. Когда она каждый день подолгу беседовала с премьер-министром, Альберт томился от скуки, печалился, что не имел права на депеши (ему пришлось ждать декабря, чтобы получить ключ к знаменитым красным ящикам). Даже относительно домашних дел Виктория держала его в неведении – ими ведала баронесса Лехцен – и советовалась с ним лишь после того, как выслушивала Мельбурна и правительство. Принца не только держали подальше от официальных дел, но и не позволяли решать даже личные дела. «В семейной жизни я очень счастлив и всем доволен… – писал он, – однако я просто муж, а не хозяин дома». Даже в «мелкой» (по его выражению) политической деятельности Альберт с горечью чувствовал недоверие со стороны жены.
Несмотря на любовь, Виктория наотрез отказалась допустить, чтобы муж делил с ней власть: о нем не упоминала ни одна из государственных бумаг, королева не приглашала его на встречи с министрами и не обсуждала с ним политические вопросы. А просвещенные люди негативно оценивали вынужденное бездействие принца. Леопольд Бельгийский, знавший качества племянника, советовал поставить их на службу королеве: «Следует стать ее ходячей энциклопедией, сообщать ей обо всем, что она упустила из виду… Не следует ничего скрывать от нее, ни по какому поводу». Наверное, на его суждения влияли распространенные в то время предрассудки о мужском превосходстве. Но особенно его огорчала мысль о том, что таланты Альберта останутся невостребованными. Лорд Мельбурн вскоре заметил их. Когда он понял, что скромный и спокойный принц обладал позитивным влиянием на жену, он предложил Виктории показать Альберту те самые государственные бумаги, которые его интересовали. Более того, премьер-министр стал обсуждать с принцем официальные дела, прежде всего международные.
Несмотря на мудрые советы Мельбурна, Виктория не всегда уступала. Ее раздражал сам интерес мужа к правительственным вопросам. Может, она сомневалась в своем превосходстве в этой сфере? Или не желала привносить в бесценные часы, которые она проводила со своим «дорогим ангелом», серьезные моменты? Ее авторитарность приводила к супружеским ссорам, которые она надеялась сгладить забавными поблажками: «Альберт помогает мне с пресс-папье, пока я подписываю бумагу».
Хотя Виктория никогда не забывала, что она – королева Англии и глава Англиканской церкви, в не меньшей степени она была женщиной и хотела дать Короне наследника. Она с радостью встретила свою первую беременность, позабыв, насколько это положение обязывало ее опереться на мужа. Ожидая ребенка, она представляла себе худшее: смерть при родах. У всех в памяти был один эпизод. В 1817 г. дочь Георга IV принцесса Шарлотта, будущая его наследница, умерла вместе с появлением на свет мертворожденного сына; именно из-за ее кончины Виктория попала на трон. Такой страх должен был изменить статус Альберта. По просьбе Короны обе палаты парламента единодушно назначили его регентом в случае необходимости. «Вы понимаете значение этого шага, – писал Альберт брату, – и того, что она придает моему положению в стране совершенно новое значение». На самом деле это «повышение» представляло собой просто перестраховку на случай трагедии.
В ответ Виктория решила порадовать мужа и сделала несколько уступок, тешащих его самолюбие: Альберт получил кресло возле королевского трона на одной из парламентских церемоний, а в рабочем кабинете Ее Величества рядом с ее письменным столом поставили бюро для принца. Виктория одобрила несколько официальных обязанностей, порученных мужу. Альберта выдвинули в председатели общества сторонников отмены рабства, и в июне 1840 г. он произнес первую публичную речь на английском языке, которым еще не овладел в совершенстве. Принц был известным меломаном: и ему поручили организацию концертов старинной музыки. Эти почетные должности, как и романтические столы-близнецы, не позволяли пока Альберту дублировать беременную королеву. Скоро Виктория попросила мужа разобрать содержимое красных ящиков и зачитать ей важные сообщения. Так под наблюдением жены Альберт получил доступ к государственным документам. «Я очень доволен этими последними словами Виктории, – признался он. – Она сердилась всего дважды… В целом, она каждый день оказывает мне все больше доверия».
Окрыленный таким доверием и страстно увлеченный общественными делами принц осмелел настолько, что стал составлять ежедневные записки, предназначенные лорду Мельбурну по поводу дипломатического кризиса, в результате которого в 1840 г. Англия и Франция ополчились друг на друга. То, что предлагал Альберт в этих записках, премьер-министр не исполнял, но все же сообщал о них и называл «наблюдениями принца». Альберт пока не приобщился к власти, но по крайне мере к ней приблизился. Рождение 21 ноября 1840 г. первенца – девочки, которую окрестили Викторией в честь матери, а дома называли Викки – улучшило его положение. Вынужденная сидеть дома государыня поручила Альберту представлять ее на закрытом Совете и переложила на него дюжину внешнеполитических вопросов. Принц ликовал.
«Я совершенно счастлив, – похвалился он брату, – ведь я участвую в политических делах наравне с Викторией».
Знакомство с документами совершенно естественно привело к тому, что Альберт дал жене несколько советов, рискуя разгневать Ее Величество. Едва оправившись от родов, королева забеременела снова, и ее физическое и психологическое здоровье были слабы. Поддержка мужа была для нее неоценима, но ее в то же время сердило, что он занял такое важное место во власти. И когда в середине лета 1841 г. победа тори на выборах в палату лордов заставила Мельбурна уступить пост Роберту Пилю, смена большей части правительства грозила повторением «кризиса в спальне». Что если Виктория снова, несмотря на обычай, отказалась бы расстаться с несколькими фрейлинами и спровоцировала бы конституционный конфликт? При поддержке уходящего премьер-министра, Альберт стал добиваться перемирия. Только наиболее близкие к вигам придворные дамы должны были расстаться с должностью. Виктория уступила, но упрекнула и принца, и Мельбурна, что они вынудили ее к компромиссу.
Целиком и полностью преданный тому, что составляло королевские прерогативы жены, Альберт отказался нарушать политические традиции своей новой родины. А они запрещали монарху выходить на политическую арену и афишировать свои предпочтения. Стоять выше партий являлось, как был убежден принц, условием для сохранения законности конституционной монархии. Кто бы ни победил на выборах, тори или виги, монарх был обязан сотрудничать с ними и не поддаваться искушениям предвзятости. В меморандуме Альберт заявил: «Я не считаю необходимым принадлежать к какой-либо партии… Будет выгоднее и мудрее поддерживать того, на чьей стороне беспристрастное мнение». Однако Виктория была не готова выслушивать подобные речи. Со свойственным ей упрямством она отказалась в августе 1841 г. председательствовать на открытии первого заседания парламента, где преобладали консерваторы. Она неосмотрительно продолжила, несмотря на правила, общаться с Мельбурном, своим прошлым премьер-министром. Он же играл роль королевского советника, которую по закону мог исполнять только новый руководитель парламентского большинства сэр Роберт Пиль. Осознавая, насколько повредит королеве скандал, Альберт настаивал, чтобы Мельбурн прекратил переписываться с ней. Министр согласился и предложил Виктории, чтобы она полагалась на руководство мужа.
Отныне принц снискал всеобщую симпатию. Располагали к себе его скромность и серьезность. Хладнокровие, которое он продемонстрировал во время первого покушения на королевскую чету в июне 1840 г., заработало ему большую популярность[193]. Мельбурн не скрывал от Виктории, что у него «сложилось наилучшее мнение о суждениях и характере» принца и, что «самым лучшим с ее стороны будет ими воспользоваться». Новый премьер-министр не отставал с комплиментами. Роберт Пиль советовался с Альбертом о формировании своего кабинета и в последние месяцы беременности королевы каждый вечер отправлял принцу отчеты о дебатах в палате общин и ее правительственных решениях. Вынужденная оставаться у себя Виктория, казалось, была довольна местом, которое занял ее муж. «Мой дорогой ангел стал мне поддержкой и опорой, – говорила она. – Он проявляет самый живой интерес ко всему, что происходит в политической жизни». И еще Ее Величество превозносила, пусть с ноткой высокомерия, желание Альберта как можно лучше разобраться в общественных делах, но строго следила, чтобы он не начал гнуть свою линию.
Хотя Виктория очень неохотно давала мужу крупицы власти, в семейной жизни, где оба супруга были равны, споры между ними случались часто. Когда в ноябре 1841 г. родился сын, будущий Эдуард VII, Англия ликовала. Виктория, как замечала Моника Шарло, стала первой правящей королевой, родившей принца Уэльского[194]. Однако баронесса Лехцен стала занимать в королевском доме все более видное положение, что не одобрял Альберт. Это настраивало супругов друг против друга, вело к конфликтам, угрожающим благополучию четы. Едва оправившаяся от родов, не успевшая восстановиться Виктория переживала также и из-за постоянно ухудшавшегося здоровья Викки. Королева приписывала это состояние маленькой принцессы процессу кормления, Альберт винил во всем неправильный уход, которым ведала баронесса. В январе 1842 г. слабая и исхудалая девочка была еле жива. Родители спорили у изголовья, какое средство применить. Королева вспылила на мужа, никогда она еще не произносила таких суровых слов. Альберт сумел овладеть собой, но после второй жестокой ссоры, когда Виктория расплакалась, он перечислил обвинения, не заботясь о чувствах жены: «Доктор Кларк плохо заботился о ребенке… а вы ее не докармливаете. Я не желаю больше в этом участвовать. Заберите девочку и делайте все, что хотите. Если она умрет, то ее смерть будет на вашей совести». И он назвал баронессу Лехцен «интриганкой, сумасшедшей, вульгарной и глупой, одолеваемой жаждой власти», обвинил королеву в том, что она бездумно к ней привязалась, а еще указал Виктории, которую растили преимущественно гувернантки, на «недостатки ее воспитания».
Альберт угрожал покинуть двор. Перепуганная Виктория принесла публичное покаяние: она признала, что наговорила лишнего. «Когда я в гневе, – сказала она, – он [Альберт] не должен верить тем глупостям, которые я говорю, например, когда я жалуюсь на то, что вышла за него замуж, и другим вещам, что приходят мне в голову, когда я не в себе». Собственная раздражительность огорчала и ранила ее, но Виктория добавила: «Я научусь владеть собой». По поводу вопроса, приведшего к конфликту, королева решила: принцип ухода за ребенком будет изменен, а баронесса фон Лехцен покинет дворец. Принц победил.
Король без короны
Альберт стал личным секретарем Виктории и управляющим ее личными делами. С конца 1842 г. он занялся переделкой дома королевы. Беспорядок и коррупцию он громил со страшной силой: ведь Двор пребывал в финансовой пропасти. Альберт ввел новый, более разумный принцип ведения расходов. Сделать королевские резиденции более комфортными и гигиеничными было непросто; а самое главное – нужно было обеспечить безопасность королевской семьи. Частота покушений за стенами и в стенах дворцов и замков объясняла меры, предпринимаемые Альбертом. Ни одно из многочисленных преступлений против королевы не имело политической подоплеки. Их совершали сумасшедшие, оттого предотвратить их было очень и очень трудно. Благодаря реорганизации дома королевы, нападения стали происходить реже, но полностью не прекратились. Через несколько лет принц сумел также взять несколько различных придворных служб под свой контроль. К функциям личного секретаря Альберт добавил обязанности сюринтенданта дома.
Он надеялся на большее. Жена стояла выше его по положению, и он старался подняться на ее уровень, то есть (видимо, предрассудки того времени его оправдывали) установить власть над ней. Кроме того, Альберт стремился к участию в политических делах. Случай к тому представился во время первой беременности Виктории. Восемь последующих сделали его политическим советником, почти что постоянным министром. Отныне Альберт присутствовал, когда королева принимала министров, делая записи и участвуя в разговоре. У принца была мания писать, он строчил бесчисленные отчеты, составлял длинные меморандумы, готовил для Виктории черновики писем, которые ей зачастую было достаточно переложить на хороший английский. Чтобы быть в курсе всего происходящего, Альберт читал вместо жены газеты, пересказывал ей их содержимое и готовил выдержки из прессы. Принц облегчал работу Виктории и, среди прочего, составлял материалы для обсуждения с министрами. Теперь королева, объявляя о своих решениях помощникам, говорила «мы», а «я», преобладавшее в первые годы правления, сходило на нет. Власть сосредоточилась в руках обоих супругов[195].
Теперь, когда Виктория уставала, она находила естественным, что муж сам принимал министров, в том числе премьера, «чтобы обсудить наши дела», а принц считал законным, если он подменял жену на королевских приемах. «Быть представленным принцу, – уточнила Виктория, – должно восприниматься как все равно что быть представленным королеве». Один из секретарей совета и летописец эпохи утверждал, не рискуя, что его сочтут за сумасброда: «Альберт фактически стал королем».
Викторию устраивало, что, выполняя обязанности королевы, она получала помощь в виде советов, целиком и полностью заслуживающих доверия, и ей было приятно видеть, что таланты мужа находили признание. То же самое не раз происходило во время официальных поездок за границу. В 1843 г. король Луи-Филипп, извечный англофил, пригласил супругов во Францию. К тому же это было первое путешествие Виктории за границу. И оно удалось. Хозяева относились к Альберту как к равному Виктории. На следующий год Лондон принимал французского короля. Со времен Иоанна Доброго, которого заключили в Тауэр после поражения при Пуатье в 1356 г. ни один французский монарх не пересекал Ла-Манша. Королева была очень довольна, когда Луи-Филипп сказал о ее муже: «Для меня принц Альберт – это король».
Всякий раз и на торжественных и на скромных мероприятиях Виктория с удовольствием наблюдала, как превозносили ее супруга. К тому же он получил в Кембридже академическую шапочку доктора гражданского права. «Королева радовалась, слыша, как ее супруг с таким знанием и воодушевлением рассуждает о новом предмете». Кто как не Альберт продемонстрировал таланты в охоте на лис, при том, что ее таланты в этой области оставались весьма скромными? Виктория с гордостью сообщала об этом во всех своих письмах. Стоило царю Николаю I, прибывшему с визитом в июне 1844 г., отозваться об Альберте «в высшей степени в хвалебных выражениях», как королева стала смотреть на своего гостя весьма благосклонно. Семейные сцены не умаляли ее любовь к принцу. Когда в один январский день 1844 г. Альберт должен был уехать в Кобург, чтобы навестить отца, Виктория, которую очередная беременность вынуждала сидеть дома, с горечью призналась: «Никогда еще я не разлучалась с ним, разве только на одну ночь, и сама мысль о таком расставании ужасна».
Еще большую обиду причинило ей оскорбление, нанесенное принцу осенью 1845 г., когда чета находилась в Германии. Эрцгерцог Австрийский, всего-навсего третий сын дяди, Габсбургского императора, оказал на приеме прусскому королю более высокие почести, нежели Альберту, несмотря на то, что последнего ему представила Виктория. Она решила, что отныне ноги ее не будет в Берлине. В начале этого же года ей очень захотелось дать мужу английский титул. Виктория втайне приготовила проект, но о нем узнала пресса и, без всяких поблажек Альберту, рассказала о нем в невыгодном свете общественности, несмотря на то что один из членов палаты общин уже передал этот вопрос в парламент. Из-за шумихи замысел провалился. Напрасно старался принц, чтобы министры и высшее руководство признавали его почти правителем. Он не получил ни одного почетного титула, подобающего его положению. Его можно было бы считать вице-королем, при условии, что он всегда действовал бы заодно с Викторией. Протокольные прения зачастую грозили обернуться для Альберта унижением. Чета помнила о мелочных провокациях Ганноверского короля с целью застолбить свое превосходство, когда в Лондоне одна из принцесс королевского дома собралась замуж в июле 1843 г. В церкви пожилой дядюшка Виктории попытался обогнать Альберта и захватить перо так, чтобы расписаться в метрической книге после королевы и раньше принца. Виктория была физически сильнее и быстрее, чем семидесятилетний старик, и помешала ему.
То, что Альберт предпочитал работу подобным торжествам не удивляло никого, кто знал его в повседневной жизни. Принц был настоящим трудоголиком, он постоянно собирал сведения, без устали разбирался со сложными материалами и всегда был готов сообщить жене свое решение. Частые беременности заставляли Викторию на некоторое время оставлять королевские обязанности. Альберт же трудился без передышки. Общаясь с ним, Виктория оставалась в курсе политических дел.
Благодаря Альберту и прошедшим годам, она научилась более эффективно справляться с властью, которой ее облачила неписаная конституция королевства. И право поддержать правительственное решение или обсудить принятие определенного проекта вынуждало ее получать консультации у министров. Никакой документ не поступал в иностранные канцелярии без того, чтобы она ознакомилась с ним. Ни одно назначение не было возможно без ее согласия. В отношениях с правительством она действовала, опираясь на материалы, подготовленные Альбертом. «Именно вы полностью воспитали меня», – однажды, переполненная благодарности, сказала Виктория принцу. Она издавна поддерживала вигов, но стараниями принца превратилась в королеву, которая стояла выше всех партий. Она даже укоряла себя за сэра Роберта Пиля, к кому Альберт питал искреннее восхищение.
Виктория, как известно, питала глубокую привязанность к лорду Мельбурну и, когда он оставил должность в 1841 г., только Альберт сумел отговорить ее не брать у него официальных консультаций. Отныне принц стал политическим единомышленником с сэром Робертом, за что заработал упреки жены, хранившей верность лидеру вигов. В 1845 г. парламентские дебаты о свободе торговли поставили Роберта Пиля в трудное положение. Виктория, не принимая его отставки, пригласила Джона Рассела сформировать правительство[196]. Альберту не нравилась мысль о том, что ему могли передать функции сэра Роберта. Несмотря на установленный порядок, принц сообщил Пилю о тайных махинациях соперника. Из-за отсутствия помощи со стороны друзей-вигов Рассел ушел. Сэр Роберт снова стал премьер-министром к огромной радости принца. «Мы счастливы, – написал он, – до глубины души оттого, что сумели преодолеть этот министерский кризис». Этот успех показал, что Альберт умел отстаивать свои предпочтения.
Парламентское заседание открылось в феврале 1846 г. На повестке дня стояла отмена так называемых «Хлебных законов» (Corn Laws), которой почти десять лет добивалось общество[197]. Пиль, хоть и принадлежал к тори, дал убедить себя аргументами поборников отмены. Однако в его партии выделилась фракция под руководством молодого и талантливого депутата Бенджамина Дизраэли, сторонника протекционизма. Партия оказалась в тупике. Альберт привлек общественную поддержку на сторону сэра Роберта, открыто появившись в палате общин на галерее, предназначенной для публики. Это стало его первой политической ошибкой. Возмущенные депутаты осудили Альберта, сказав, что его появление в парламенте свидетельствовало о том, что королева лично поддерживала проект закона, который его противники считали несправедливым и губительным для земельной аристократии. «Хлебные законы» не следовало запрещать, поскольку они сулили Англии немыслимое процветание[198]. Сейчас принц нарушил нейтралитет короны, который доселе не уставал отстаивать. Никогда больше он не входил в Палату общин.
Снова Альберт играл роль некоронованного правителя. Виктория, беременная в пятый раз – 25 мая 1846 г. в самый разгар парламентских дебатов родилась Елена, – передала ему свои полномочия. В переписке или меморандумах, когда речь заходила о разговорах с Пилем, Альберт больше не употреблял слово «мы», ограничиваясь местоимением «я». Виктория очень ценила его помощь: «Я чувствую, что не смогла бы существовать без него, что без его содействия, его защиты и поддержки меня бы замучили заботы, тревоги, отвращение к пище, вызванные моим деликатным положением».
В ноябре 1848 г. королева потеряла своего наставника и названного отца лорда Мельбурна. Через два года пришла очередь сэра Роберта Пиля исчезнуть со сцены. Альберт был ужасно расстроен, словно, как сказала Виктория, он лишился второго отца. Оставшись без доверенных советников, с которыми их к тому же связывала дружба, королевская чета сплотилась еще больше. Это им позволила сделать счастливая и мирная семейная жизнь.
«Прообраз рая»
Виктория без прикрас утверждала: ее брак с Альбертом был «прообразом рая». Единственной тенью, омрачавшей эту столь успешную семейную жизнь, стали девять беременностей, следовавших чередой – «страшное испытание», «личные враги», – которые вынудили королеву сказать, что «нашему полу не позавидуешь». Каждый раз родившийся ребенок виделся ей преградой к свободе. В 25 лет у Виктории было уже четверо детей, в 30 – семеро. После первых двух младенцев, сначала Викки, а потом Берти (будущего Эдуарда VII), молодой матерью овладела депрессия. Следующие семь беременностей – Алиса, Альфред, Елена, Луиза, Артур, Леопольд и Беатриса – прошли более мягко, но после появления на свет в 1853 г. Леопольда больного гемофилией, королева стала жаловаться, что муж не помогает ей, хотя должен. Всякий раз Виктория боялась умереть при родах.
Любящая жена, тщательно выполняющая свои христианские обязанности королева, тем не менее противилась материнству и не стала скрывать его неприятные стороны от старшей дочери, когда та выходила замуж. Но несмотря ни на что, Виктория и Альберт не знали горя утраты ребенка при рождении или в первые годы жизни: все их дети выжили. Оба супруга были внимательными и требовательными родителями, любили играть со своим потомством, вместе занимались их воспитанием, хотя создавалось впечатление, что в первую очередь об их будущем беспокоился Альберт. Когда в 1858 г. Викки готовилась к свадьбе с Фридрихом Прусским, будущим недолговечным немецким императором, отец выкроил среди своих дел время, причем немаленькое, чтобы подготовить ее к новой роли, и не забыл забросать будущего зятя меморандумами по поводу прусского государства[199]. Воспитанием Берти (Альберта-Эдуарда), старшего сына, занимались оба родителя. Мальчик никогда не испытывал особого интереса к учению. Тогда отец – отличавшийся повышенной строгостью к наследнику короны – разработал для него воспитательную систему, которую Виктория сочла слишком противоречивой. По поводу будущего для второго сына Альфреда, он же Аффи, мнения родителей снова разошлись. Если Альберт позволял ему полностью отдаться морскому признанию, то Виктория, у которой Аффи был в любимцах, не разрешала ему бороздить моря.
Ничто не могло заменить Виктории общество мужа. Даже дети. «Мы отужинали с Викки, которая, как обычно, ушла в десять часов, – отметила королева в дневнике, – и я тогда получила редкое счастье побыть наедине с любимым Альбертом». Разлука, даже самая короткая, причиняла Виктории боль: «Я чувствую себя одинокой без моего дорогого господина… без него все утрачивает интерес. Я всегда жестоко страдаю, когда он покидает меня хотя бы на два дня». С годами стремление к неразрывной связи у четы ослабело. Они больше не делили комнату, не ставили письменные столы рядом: теперь каждый работал у себя. Но насколько это было в их силах, супруги старались вырвать среди официальных дел немного времени для себя. В 8 утра Альберт будил жену громким «Es ist Zeit, steh auf!» («Пора, вставай!») – в семье общались на немецком. Поздно утром они завтракали вместе. День был посвящен насущным делам, а вечерние встречи были самым дорогим временем, поскольку Альберт и Виктория вместе занимались графикой или живописью, либо играли на пианино в четыре руки. Виктория так любила семейную жизнь, что иногда говорила, что «политика (при условии, что моей стране ничего не угрожает) может идти только во вторую очередь». В Англии, уставшей от выходок королей прошлых лет, Альберт и Виктория создавали пример буржуазной монархии, отличительными чертами которой были простота и уважение к ценностям, получившим название «викторианских». «Говорят, – сообщала королева, – что ни одного правителя доселе не любили больше, чем меня (осмелюсь это сказать), и все благодаря нашему семейному очагу, доброму примеру, который он подает».
Знаменитые викторианские ценности на самом деле отстаивал и опекал прежде всего Альберт. Королева, превратившаяся после его смерти в 1861 г. в «Виндзорскую вдову», бабушку всей Европы и поборницу репрессивной морали, не должна заслонять от нас молодую страстно влюбленную девушку, обожавшую праздники и развлечения. Конечно, она не была совсем уж кокеткой. Даже в юности, Виктория не претендовала на звание красавицы и не слишком интересовалась туалетами, которые слишком уж часто выглядели неуместными. Леди Каннинг даже сетовала, что «некоторые новые платья, прибывшие из Парижа, шли ей даже меньше остальных». Чепчики старили ее, а нижняя юбка «выбивалась из-под муслинового платья». Казалось, что у нее куда меньше вкуса, чем у мужа, который умел выглядеть представительно.
И королева и принц культивировали чувство долга, однако Альберт был настолько жаден до работы, что испортил себе здоровье и без того хрупкое, и подчас несправедливо упрекал жену в небрежности при изучении материалов. Супруги разделяли жажду знаний. В некоторых видах науки и техники, которыми страстно интересовался Альберт, королева разбиралась не так хорошо, но сама она прекрасно ориентировалась в искусстве и истории. Принц никогда не стеснялся своего немецкого акцента и позволял себе некоторые ошибки в английском, а его супруга великолепно владела немецким – языком матери, а также английским, французским и итальянским. И Виктория, и ее муж любили живопись, и сами писали акварели. Они также увлекались музыкой: играли на пианино, а Альберт еще и на органе.
В отличие от Виктории, мало склонной к формализму, вопреки легенде, принц с самого начала был рабом этикета, жестко следил, чтобы двор его соблюдал. Виктория, насколько возможно, избегала роскоши и пышности, предпочитая, по ее словам «уют» и «тепло». Традиции она старалась соблюдать в рамках разумного. И еще она не уставала осуждать обычай обязательного воскресного отдыха. Викторию сердила всеобщая бездеятельность во время сонного «английского воскресенья», и она развлекалась, устраивая в резиденции на острове Уайт небольшие балы на открытом воздухе. При этом набожная Виктория не выносила ханжей и терпеть не могла пуританство министра Глэдстоуна[200].
В целом королева казалась куда легкомысленнее мужа и была в тысячу раз менее суровой, чем тот образ, что остался в народной памяти. Показная добродетель, которую ей приписывали, была связана с ее супружеской верностью. Однако Виктория была сначала женой, а потом матерью, она любила объятия мужа и не обременяла себя излишней стыдливостью. Всю долгую жизнь королеву привлекала мужская красота. Незадолго до свадьбы Виктории довелось потанцевать с русским великим князем, будущим Александром II под осуждающими взглядами придворных. А элегантность и шарм лорда Мельбурна, несмотря на его 58 лет, произвели неизгладимое впечатление на молодую королеву. Она также не скрывала, что «грубая красота и грустные глаза» царя Николая I очаровали ее, когда тот наносил ей визит в июне 1844 г. Виктория никогда не упускала возможности упомянуть в дневнике или письмах внешность гостей мужского пола. Когда она заказывала художникам скульптуры и картины для собственных коллекций либо в подарок мужу, ее никогда не смущало обнаженное тело.
Экономичность принца стала легендарной. Эта «викторианская» добродетель, совершенно естественно привела к тому, что он стал ведать личными фондами королевской семьи. Неудобства Виндзорского замка и Букингемского дворца, их «удручающее состояние», а также экзотическая оригинальность Королевского павильона Брайтона подтолкнули супругов к решению приобрести резиденцию за городом, чтобы отдыхать там и наслаждаться покоем. Когда Виктория и Альберт покупали Осборн на острове Уайт и, начиная с 1845 г., преображали его в виллу в итальянском стиле, они мечтали об английской Ривьере. Это станет «нашим уголком», объявила королева и дала принцу полную свободу действий в восстановлении и расширении здания, выборе украшений и мебели. Виктория первой окунулась в море в «купальной машине» – это приспособление везли по отлогому берегу до самой воды, и все тут же кинулись копировать это устройство. И королева и Альберт ценили уютную атмосферу острова, которая совершенно покорила Викторию: «Я никогда не бываю так счастлива как в моменты, когда могу помногу находиться в обществе моего дорогого Альберта и повсюду следовать за ним».
Спустя три года, в 1848 г., словно желая остановить политические встряски в континентальной Европе, Альберт купил в Шотландии замок Балморал. Здание настоятельно требовало ремонта. Принц продумал его и следил за ходом работ: первый камень новой пристройки был заложен в 1843 г. Через два года королевская семья разместилась в расширенном замке. Взмывший в небо башнями и зубцами, Балморал выглядел внушительно. Для Виктории, проводившей в нем часть лета, он означал свободу от толпы, отдых, жизнь на свежем воздухе. Повседневная жизнь там шла без церемоний. Королевские дети катались на пони, принц охотился на куропаток, королева общалась с деревенскими жителями, «такими простыми и такими искренними», пытаясь понять их забавный язык, а потом разучивала шотландские танцы. Виктория не скупилась на хвалу в адрес обитателей Хайлендс: «Никогда не бывают вульгарными, им никогда не изменяет такт, очень умные, скромные и хорошо воспитанные». Каждый раз, приезжая туда, королева становилась немного шотландкой[201].
Будучи председателем Общества искусств, Альберт в и юле 1849 г. увлекся замыслом архивариуса Генри Коула устроить в Лондоне торговую ярмарку международного масштаба. Принцу понравился этот честолюбивый проект, он стал его инициатором и довел до практического воплощения при поддержке министра Роберта Пиля, а также английских промышленников, которым пришлась по вкусу мысль рассказать миру о своих творениях. Так была организована первая Всемирная выставка в Европе, собравшая в одном месте, в знаменитом Хрустальном дворце, шедевре новой архитектуры, кустарную и промышленную продукцию со всего мира. 14 000 участников, 40 иностранных держав, 6 миллионов посетителей – успех был грандиозный. Альберт тратил деньги без счета. Он никогда не любил перекладывать на кого-то ответственность и присутствовал на всех фронтах работ, думая лишь об успехе предприятия, забросив остальные дела и махнув рукой на здоровье.
Реализация такого замысла сопровождалась определенными трудностями. Альберт усердно и упорно работал над их решением. Виктория изо всех сил помогала ему. Оба они понимали, в чем смысл подобного собрания: это был прекраснейший повод показать всем могущество Великобритании, «мирового цеха». 1 мая 1851 г. было назначено днем официального открытия. Оно стало для Виктории поводом произнести речь, где она восхваляла экономические силы своего королевства, выражала надежду, что свободная торговля могла стать залогом мира и солидарности между народами, и превозносила ту роль, что сыграл принц. В личном дневнике, который читали только близкие, она записала, насколько гордилась мужем: «Альберта любят и ценят так, как я бы того желала». Выставка стала триумфом принца, апогеем его публичной карьеры. Он, как объявила Виктория, «обессмертил» свое имя. При этом выставка, которую королева посещала ежедневно, заявила о решительной победе над протекционистами. Успех всего мероприятия способствовал популярности монархии. Альберт искусно справился с задачей. Ему предсказывали «вечную славу». Но все сложилось иначе.
Народ против принца
Очень быстро, всего через несколько месяцев, слава померкла, и тем больнее стал ощущаться спад народной любви. Недавние переработки вконец погубили здоровье принца. Близкие видели, что Альберт измотан, «скорее мертв, чем жив», по его собственным словам. Красавец мужчина постарел до срока. На вид ему можно было дать 50 лет, хотя ему едва минуло тридцать. Он располнел, страдал от болей в желудке, бессонницей, выглядел совершенно утомленным. Какую же малую награду он получил за свои старания! Общественное мнение Англии негативно относилось к тому, что супруг королевы участвовал в общественных делах, особенно во внешней политике. Его даже не уважали за то, что он мудро отказался от поста главнокомандующего британскими войсками, который предложил ему накануне смерти престарелый Веллингтон, национальный герой.
Все догадывались, что интерес Виктории к внешним вопросам подогревался ее мужем. Еще будучи молодой и неопытной правительницей, она последовала совету Альберта и потребовала, чтобы грозный Палмерстон держал ее в курсе всего, чем занималось его министерство иностранных дел[202]. Она ждала точных докладов, честных объяснений, и в обязанности министра входило разъяснять королеве его линию. Со своей стороны Альберт лично, от своего имени писал Палмерстону письма и рассчитывал получить на них ответ. Супруги хотели сделать дипломатию прерогативой исключительно короны. Никакой министр, ни тори, ни виг, не мог такого допустить. Ведь даже во внутренних делах королева царствовала, но не правила. Конечно, она должна была знать о депешах, которые министр шлет своим представителям за границей. Но ей было запрещено вести прямую переписку с другими монархами, и, если взгляды королевы не совпадали с мнением министерства, последнее слово оставалось за правительством. Виктории полагалось довольствоваться написанием при посредстве соответствующих министров официальных писем, не обладающих серьезным интересом. При этом Альберт – Конституция не обрекала его на молчание – вел переписку с главами иностранных держав, когда не наводнял Министерство иностранных дел пространными меморандумами.
У королевской четы и министра, обладающего столь независимым нравом, как Палмерстон, не было недостатка в причинах для разногласия. Сам он, следуя собственным курсом, не всегда отчитывался премьеру. Взгляды королевы мало его заботили. Лишь немногие дипломатические вопросы он желал разбирать с Викторией. Франция и Луи-Филипп являлись в глазах министра потомственными врагами, при том что царственные супруги стремились к дружбе с королем французов. Позже, когда 2 декабря 1851 г. Луи-Наполеон произвел государственный переворот, министерство иностранных дел, невзирая на инструкции Ее Величества, одобрило его. В 1846 г. во время гражданской войны в Португалии Альберт пытался выступить посредником между враждующими фракциями, а Палмерстон открыто встал на сторону противников королевы Марии II Браганской, пытавшейся утвердить свои позиции силой[203]. События в Италии тоже послужили источником конфликта. Министр поддерживал освобождение областей, зависимых от Австрии, а Виктория и Альберт были на стороне венского императора. Когда в 1851 г. неудобный министр ушел в отставку, корона вздохнула с облегчением.
Однако его уход связали с Альбертом. Пресса начала яростную кампанию против принца. Его действия сочли неконституционными: разве не он участвовал во встречах, на которых королева принимала министров? Не он ли вел переписку с иностранными дворами «в намерении помешать политике законных советников Ее Величества»? Вспомнили и о старых претензиях: Альберт – незваный гость из-за границы. Придумали и новые, самые неожиданные: он не умел садиться на лошадь по-английски! Альберта словно подхватил поток недоброжелательств. Его к месту и не к месту упрекали за вражду с Палмерстоном, за общение с Оранским домом, за дружбу с Пруссией, за слабость в отношении России. Обвиняли его и в том, что он манипулировал королевой, навязывал ей свою волю и стремился ослабить страну и народ.
Эти нападки породили самые дикие слухи. Альберт старался избежать войны с Россией, которая в июне 1853 г. вторглась в придунайские области Оттоманской империи, но в его действиях увидели предательство. Когда в ноябре русский флот уничтожил турецкий в черноморском порту Синопе, Англия встревожилась, поскольку всегда старалась беречь свои индийские пути. Тот, кто не разделял тревоги Альбиона, мог быть только предателем британских интересов! Поговаривали также, что принц успел обмануть королеву. Ему вменяли государственную измену, из чего следовало, что его необходимо было арестовать и заключить в Лондонском Тауэре! Виктория пыталась остановить эти слухи и клевету. И в палате общин, и в палате лордов те, кто обладал влиянием, выступали в защиту Альберта.
Хотя парламентское большинство и оппозиция объединились и опровергли в парламенте «сумасшедшие выдумки», жертвой которых стал Альберт, в народе принца продолжали не любить. «В Англии, – заметил его дядя Леопольд, – оскорбления составляют почти что смысл жизни». Слабое утешение для Виктории, больно задетой той «грязью», что пресса выливала на ее мужа! Причиной тому – в этом она была убеждена – мог быть только Палмерстон. Вероятно, министр не сам лично сочинял злобные статейки, а был скорее всего их вдохновителем и следил, чтобы их не опровергли. Власть, которую приобрел Альберт, его склонность во все вмешиваться, влияние на супругу – все беспощадно разоблачалось.
Когда Англия ввязалась в Крымскую войну (1853–1856), всем было известно, что принц не одобрял этот конфликт в отличие от английского народа, единодушно рвущегося скрестить шпаги, а также охваченной военным азартом его собственной жены. Вмешательство Англии на стороне Франции и Оттоманской империи в войну против России пользовалось, по словам самой королевы, «большей поддержкой, чем можно было бы себе представить». Виктория считала это столкновение неизбежным, требовала увеличения вооруженных сил как минимум на 30 000 человек и открыто ругала Пруссию за нейтралитет, обращаясь к королю Фридриху Вильгельму IV с далеко не дипломатичными словами. «До настоящего момента, – писала она, – я считала Пруссию великой державой». Виктория обвиняла берлинского монарха, пренебрегающего обязательствами, которые накладывал на него королевский ранг: «Вы точно так же отступаете от своей роли по отношению к Пруссии. И если вашему примеру найдутся подражатели, то от Европы ничего не останется; у закона больше не будет поборников, а у угнетенного – защиты».
Видя воинственный настрой Виктории, Альберт не торопился его поддерживать. Когда он выразил удивление, что Россию не пустили на Черное море, или стоило ему указать, как плохо подготовлена военная экспедиция, Виктория сразу же злилась на него. Скольких жизней стоили сражения – под стенами Севастополя погибли 20 000 англичан – и как страдали британские солдаты, королева знала по сообщениям У.Г. Рассела, первого военного корреспондента в истории. Но когда ей сообщали о славных военных победах лорда Кардигана в Балаклаве или лорда Реглана в Инкермане, она ликовала. Альберт же оставался равнодушен к успехам британского оружия.
Принц взял на себя руководство королевской комиссией Патриотического фонда, помогавшего семьям погибших в бою или раненых солдат. Он составил королевскую грамоту об учреждении Креста Виктории, также назывался и наградной орден, которыми чествовали тех, кто проявил храбрость перед лицом врага. Но Альберт не разделял патриотический порыв своей жены, государственных мужей и всего народа. За три недели до подписания Парижского договора, который ставил точку в войне, Виктория выразила «неприязнь» к заключению мира в надежде, что новые военные операции позволят «нам добиться лучших условий». Палмерстон, занимавший должность премьер-министра, успел помириться с королевой и счел себя обязанным объяснить ей необходимость окончания войны. Но Виктория продолжала находить мир «преждевременным».
Охваченные ксенофобией и патриотической экзальтацией англичане ополчились на принца за то, что у него отсутствовал боевой раж, боялись его влияния на королеву, возмущались ростом его авторитета. Критики приписывали Альберту вульгарное тщеславие, утверждали, что он играл на слабых сторонах соперничающих сторон, вечно стремился внести разлад, плел интриги, вместо того чтобы блюсти верность одной из партий. И на фоне кулуарных махинаций, частых роспусков палаты общин (редко кто дотягивал до конца мандата), монархия казалась столбом, чья устойчивость обеспечивалась за счет превосходства королевы. Надо признать, что Альберт приложил к этому руку. В народе видели это и ставили принцу в вину, не желая видеть, что для самих министров Альберт был бесценным: одни устремлялись к нему в надежде при его посредничестве «достучаться» до королевы, другие – желая воспользоваться его многочисленными талантами и солидным опытом. Неужели он навсегда останется мужем Ее Величества, личным секретарем королевы и королем без короны?
Наконец-то принц-консорт!
Виктория уже давно хотела предложить Альберту титул, что соответствовал бы его функциям. Она любила его и знала, скольким ему обязана. Королева жаждала официально объявить его своим законным советником и поставить на одну ступень с собой. «Это нетрудно, – как-то сказал ей премьер-министр Абердин, – но еще не пришло время». Наступил ли нужный момент? Парламент всегда отказывался официально признать человека, делившего власть с королевой Англии. Виктория говорила: жена короля обладала самым высоким саном после своего мужа, но о супруге королевы закон молчал. Как все остальные женщины, королева, вступая в брак, дала обет служить мужу и подчиняться ему, а «между тем, юридически, у него нет ни ранга, ни ясного положения. И это, – убежденно сказала Виктория, – создает странную и ненормальную ситуацию». Конечно, самые пожилые из членов королевской семьи отказались, когда Виктория выходила замуж, признать за Альбертом хоть какие-то прерогативы, но большинство из них успели скончаться, а их потомки были пока что молоды. Кроме того, все более частые встречи с европейскими монархами подталкивали к тому, чтобы определить, наконец, ранг Альберта и покончить с унижениями, которыми сопровождался почти каждый заграничный визит. Отныне же все, как тонко заметила Виктория, могли бы истолковать раны, нанесенные самолюбию принца, как оскорбление короне. Как после семнадцати лет брака, рождения наследников, общего правления можно было согласиться на то, чтобы видеть на троне Англии «королеву и ее иностранного супруга, принца Саксен-Кобург-Готского»?!
Виктория чувствовала, что может потребовать, чтобы ее муж считался англичанином, носил английский титул и имел узаконенное подобающее положение. Она уже отказывала в том, чтобы пожаловать Альберту те же звание и ранг, что у нее: он не станет королем наравне с королевой! Но, как казалось Виктории, было бы вполне законной просьбой дать ему титул «принца-консорта», который обеспечивал самое высокое положение в парламенте и второе место после Ее Величества. Тем временем кабинет убрал препятствия на пути к этому и внимательно следил, чтобы не допустить в парламенте дебатов, которые стали бы зеркалом общественного мнения, не всегда принимавшего мужа королевы. Кроме того, Виктория решила написать несколько королевских грамот. 25 июня 1857 г. Альберт наконец-то получил титул принца-консорта.
В июле в Брюсселе на свадьбе Шарлотты Бельгийской с эрцгерцогом Максимилианом Габсбургским Альберт имел титул выше, чем австрийские эрцгерцоги, и с гордостью объявил о своем новом положении в Лондоне 25 января 1858 г., когда его старшая дочь сочеталась браком с наследником Пруссии. Немецкой родне о своем протокольном назначении принц сообщил с юмором: «Представляю вам себя с совершенно неизвестной стороны: принц-консорт». Впрочем, другим он признавался, насколько это признание запоздало: «Это надо было сделать, когда мы поженились, но вы и сами знаете, что тогда происходило. Консерваторы урезали мой цивильный лист в палате общин и понизили мой статус в палате лордов; королевская семья считала меня чужаком». Этим ранам не зажить никогда.
Горечь Альберта подпитывалась чувством, что он так много трудился на благо новой родины, но мало кто это признавал. Впрочем, еще одной причиной его грусти было собственное слабое здоровье. Он продолжал изо всех сил работать, при том что его дела слишком часто удаляли его от королевы. Виктория всегда ценила общество мужа, а тот не понимал чувства одиночества, которое охватывало ее, когда его не было рядом. День ото дня любовь Виктории к Альберту становилась все более поглощающей. Супругов связывало глубокое единение, что, правда, не отменяло семейные сцены. Королева нуждалась в том, чтобы ее поддерживали, Альберту же недоставало терпения. С течением времени его влияние на жену все возрастало. То он обращался с ней как с ребенком так, что Виктория раздражалась, то ругал ее на глазах сыновей и дочерей, и королева злилась. Конечно, Альберт старался умерить чувствительность жены, но он делал это без излияний, педантично и в длинных меморандумах резюмировал свои претензии, организуя их в тщательно пронумерованные абзацы!
Конец 1850-х гг. принес немало семейных забот и международных тревог. В 1857 г. в Индии разразился мятеж сипаев, который до дрожи напугал Викторию, но обернулся благом для короны, поскольку к ней перешли права Ост-Индской компании. Отношения с Францией снова стали прохладными, когда в январе 1858 г. на Наполеона III совершил покушение итальянский патриот по имени Феличе Орсини, который скрывался в Англии и привез с собой бомбы, произведенные в этой стране. Они омрачились еще сильнее, когда император поддержал войну Сардинского королевства против Австрии – и Виктория, и Альберт боялись распространения конфликта и нового витка бонапартистской экспансии. В 1860 г. чета совершила поездку в Германию, чтобы увидеть годовалого Вильгельма, первенца Викки и будущего императора Вильгельма II. Во время тяжелых родов его левая рука была непоправимо повреждена, и теперь Виктория старалась поддержать дочь, ожидавшую еще одного ребенка. Но в тот момент Альберт узнал о смерти второй жены его отца, а у Виктории, по возвращении в Букингем, в марте 1861 г. в замке Фрогмор на глазах умерла мать, герцогиня Кентская. Забыв о печальных воспоминаниях юности, королева целыми днями оплакивала ее.
Из-за таких забот Виктория не восприняла всерьез состояние здоровья Альберта. Принц постоянно переутомлялся, но отказывался облегчить свой груз забот и все чаще заболевал. В июне 1861 г. его состояние ухудшилось. Бледный и изнуренный он, невзирая ни на что, председательствовал на всех церемониях открытия Королевской выставки сельского хозяйства, а в ноябре он узнал страшную новость. Берти, старший сын, с чьим воспитанием всегда были сложности, закрутил интрижку с актрисой. Его любовные похождения, мало-помалу становившиеся известными публике, угрожали скомпрометировать задуманную свадьбу с Александрой Датской. Четыре дня Альберт обдумывал известие, а затем принял решение написать сыну «с тяжелым сердцем о предмете, причинившим мне самое большое горе, что мне довелось испытать в жизни». Принц был подавлен, королева отметила, что у него «неважный вид». В декабре появились первые признаки тифа. Альберт был обречен. К его постели созвали целую команду знаменитых врачей, но ни одно из лекарств – даже бренди целыми стаканами – не приносило больному облегчения. До определенного момента официальные дворцовые коммюнике поддерживали надежду на лучшее, но теперь они уже не могли скрывать, насколько тяжела ситуация. Долгое время Альберт не терял присутствия духа и неизменно старался знать обо всем, что происходило. 14 декабря 1861 г. он скончался в Виндзорском замке. Принцу было 42 года.
«Не осталось теперь никого, кто назовет меня Викторией, – вздыхала королева. – Все счастье моей жизни ушло навсегда! Мир больше не существует для меня». Спустя двадцать один год после свадьбы скоропостижная смерть дорогого Альберта разрушила чету, которая стала легендарной за долгие годы вдовства Виктории. Королеве были суждены еще сорок лет жизни; умерла она лишь в 1901 г. За эти сорок лет она успела стать бабушкой Европы. У ее детей народилось множество внуков и внучек, которые позднее переженились со всеми коронованными особами Европы конца XIX в. Королева стремилась к уединению, она жила вдали от Лондона, в Осборне или Балморале, замкнувшись в собственном горе. Ради встречи с ней министрам приходилось преодолевать большие расстояния. В течение пяти лет она чуждалась политической сцены, находя утешение в детях, в том числе и в принце Уэльском, о чьих выходках злословили в светской хронике. В декабре 1865 г. умер ее дорогой дядя, ее наставник и второй отец, король Леопольд, отчего скорбь Виктории стала еще тяжелее.
В 1866 г. наступило возвращение королевы, поначалу скромное, на политическую арену. После долгих лет траура Виктория постепенно вернула свои позиции и снова взялась за государственные дела. В лице талантливого и неотразимого Дизраэли[204] она нашла утраченную мужскую поддержку, а в незаменимом и грубоватом Джоне Брауне, преданно служившем ей, – защиту, в которой так нуждалась. Хотя за маской суровой и грузной пожилой дамы скрывалась чувствительная женщина, которую всегда влекло к мужчинам.
Виктория нуждалась в подсказках, но утратила пылкость молодости, и влияние ее отныне было скромным; она старалась «дружить» с правящей партией (но нисколько не считалась с министром Глэдстоуном) и за счет престижа в народе компенсировала все менее заметное участие в политической жизни королевства.
Пользуясь преимуществами своего возраста, Виктория неизменно поддерживала королевский статус, но отныне ей не хватало той уверенности, что вселял в нее муж. Преодолевая очередное затруднение, что в семье, что в политике, она вспоминала имя Альберта. Когда дочь Виктории Алиса скончалась 14 декабря 1878 г. – в годовщину смерти принца, – она оплакивала «повторение этого скорбного числа». Волнения в Ирландии, угрозы в отношении империи, нестабильность в министерствах, немецкие амбиции мешали благополучию монархии: стареющая королева, не имевшая недостатка в причинах для беспокойства, признавалась: «Мне не на кого опереться». Неотразимого Дизраэли Виктория потеряла в 1881 г., а через два года – своего шотландского фаворита Джона Брауна. С той поры ее неизменными спутниками стали смятение и грусть. Всякий раз очередной скандал, компрометировавший министров и аристократов, напоминал ей о том, как раньше Альберт заботился о респектабельности королевского двора. После стольких лет правления Викторией овладела ностальгия: «Я была потрясена при мысли обо всех тех, кого больше нет со мной… особенно о моем дорогом муже, которому я обязана всем». В свое время она согласилась делить с ним власть. Когда Альберта не стало, королевские обязанности утратили очарование. Только с принцем Виктория была в полном смысле слова королевой. И счастлива она была только с ним.
Наполеон III и Евгения (1853–1873) Брачное соглашение
«Я никогда не была и, наверное, никогда не стану женщиной-политиком; это все равно что стать амфибией, к которым у меня нет ни малейшего расположения».
Евгения, 1861«Императрица – это дурочка, неспособная управлять никем, кроме торговцев модными товарами. Она с нетерпением ждет смерти императора, чтобы стать регентшей».
Принц Наполеон«Я дважды видел императрицу перед лицом наших несчастий. Если бы все обладали ее отвагой, страна была бы спасена».
Проспер МеримеКогда художник Франц Ксавьер Винтерхальтер открыл масштабное полотно, называвшееся «Императрица Евгения в окружении фрейлин», которое он написал по ее заказу, государыня была очарована[205]. На поляне под сенью величественных деревьев художник изобразил императрицу в окружении восьми элегантных, молодых и прекрасных придворных дам, с обнаженными плечами и руками, изящными прическами. Все они были одеты в длинные платья из сатина и кружев, с лентами и цветами. Императорская чета была так довольна полотном, что повесила его на почетном месте на Всемирной выставке 1855 г.
Впрочем, критики не разделили императорского энтузиазма. На этой картине, которую «написали фиалковой водой», они дружно высмеивали жеманство персонажей и схожесть всего ансамбля с десертом из взбитых сливок. Полина де Метерних, хоть и была подругой императрицы, нашла, что на полотне изображены «дурочки. Но им и горя мало. Пока есть кому укладывать им прически, им хорошо вместе»[206]. Казалось, что картина показала все легкомыслие императорского двора Евгении, окружившей себя женщинами, чью единственную заботу составляли собственная внешность, и которые воплощали собой светскую жизнь, поверхностную и пустую. Тюль, английские букли и широкие кринолины, ассоциировавшиеся с пошленькими разговорами, довершали портрет-шарж императрицы Евгении.
Через несколько лет на одной из гравюр изобразили другую государыню. Она одета в скромный туалет черного цвета, ее приветствовали те немногие, кто остался ей верен. Императрица покидала Тюильри, уже занятый мятежниками, и готова влететь перед луврской колоннадой в фиакр в надежде скрыться от революции и покинуть Францию. 4 сентября 1870 г., после поражения в битве при Седане, когда после полудня в Отель-де-Вилль провозгласили республику, Евгения – император находился в плену у пруссаков – стала символом краха империи, насмерть сраженной войной, в которой была повинна исключительно она.
Цветная картинка счастливых времен и черно-белый образ трагических дней оставили в эпохе неизгладимый след. Они выражали распространенное мнение, о том, что основатели Третьей республики, родившейся на обломках Второй империи, появились из-за императрицы, ее образа жизни и той роли, что она играла. Спустя сто пятьдесят лет многие современники только и помнят, что эти две контрастные картинки: кринолины и поражение.
Историки, специализирующиеся на республике, винят в случившихся событиях не столько Евгению, сколько имперский режим и его главу. Одни ругают легкомыслие императрицы, «вышедшей замуж под влиянием любви», и откровенно насмехаются над тем, как неудачно выбрал супругу Наполеон, который был однозначно слишком молод с точки зрения его дяди. Другие осуждают политическую роль Евгении за то, что император стал игрушкой в руках интриганки, а ее пристрастие к католичеству «на испанский манер» и слепой консерватизм помешали здоровому развитию режима, вовлекли Францию в войну и поражение. Кем бы ни была императрица – легкомысленной дамочкой или злым гением, – она стала причиной всех бед.
Когда она руководила двором, ее ругали бездельницей, которая слушалась только «низменных инстинктов», настоящей «тряпичной куклой»[207]. «Никто не назвал бы ее, – уверяют нас, – умной или образованной». И хотя у Евгении имелась библиотека «с прекрасными изданиями, она читала мало». Когда она вмешивалась в политику, ее обвиняли в том, что она узурпировала власть вместо того чтобы довольствоваться исключительно представительской ролью. После того как Наполеон III женился на Евгении и посвятил ее в дела государства, он постоянно совершал ошибки[208].
Трудное завоевание
После того как его выбрали президентом республики – Второй – на всеобщем голосовании в декабре 1848 г., когда Франция после Февральской революции и кровавых июньских событий, вернула себе порядок и стабильность, Луи-Наполеон Бонапарт (1808–1875) обосновался в Елисейском дворце. В одиночестве. Несмотря на свои 40 лет, принц-президент оставался холостяком. До настоящего момента жизнь скитальца запрещала ему какие-либо брачные связи. Вечный заговорщик (в 1836 г. его выгнали из страны, через четыре года присудили к пожизненному тюремному заключению после попытки переворота вместе с булонской армией, потом он бежал и скрывался в Англии) и интриган и не помышлял о семейном очаге.
Претендуя на трон после смерти Орленка[209], Луи Наполеон только и думал, что о восстановлении империи. Ему удалось добиться этого, благодаря государственному перевороту 2 декабря 1851 г. Республику похоронили, а в ноябре следующего года провозгласили Империю. Как раз тогда Наполеон III сделал Тюильри своей резиденцией. Но, как и в Елисейском дворце, он жил там без супруги. Новый хозяин Франции, имеющий право передавать власть по наследству, должен был основать династию. Возле него на троне должна была воссесть женщина, императрица, и подарить ему сыновей. Наполеон III посватался к нескольким иностранным принцессам: Кароле Шведской, внучке бывшего короля Швеции, и Аделаиде Гогенлоэ, племяннице королевы Виктории, но ни одна не дала согласия. Дело в том, что старые монархии опасались этого странного правителя с сенсимонистскими взглядами, который в молодости был карбонарием, то есть почти что социалистом и мятежником против существующего порядка. Его имя даже угрожало миру в Европе, а политический режим, который он только что учредил, казался совершенно ненадежным. Какой монарх согласится отдать дочь такому авантюристу? А тот, как выяснилось, задумал иной матримониальный проект.
Когда принц-президент жил в Елисейском дворце и обладал еще несколько провинциальными манерами, он обратился за помощью к более искушенной двоюродной сестре, чтобы та помогала ему успешно проводить приемы. Элегантная, остроумная и хорошо воспитанная Матильда Бонапарт (1820–1904), жена короля Жерома, младшего брата Наполеона I, хорошо знала светские обычаи и безукоризненно справлялась с ролью хозяйки дома. В 1836 г., когда ей было всего 16 лет, она помолвилась с двоюродным братом. Молодые люди поклялись друг другу в вечной любви, романтично обменялись прядями волос и уже собирались назначить день свадьбы. Нелепый государственный переворот, предпринятый Луи-Наполеоном в Страсбурге и вынужденный отъезд заговорщика в Соединенные Штаты разрушили прекрасные планы. Но Матильда сохранила нежность к своему старому поклоннику, всегда была готова преподнести ему совет, выручить, оказать помощь, хотя после несостоявшейся свадьбы любая другая женщина не стала бы поддерживать связь. Матильду забавляли победы Луи-Наполеона над женщинами (сама она, после неудачного брака с князем Демидовым, который ее бил, вела весьма вольную жизнь), поскольку никто не мог ее затмить, даже прекрасная и удачливая мисс Говард, у которой принц-президент просил кое-что помимо составления плана стола и списка приглашенных.
В конце 1852 г. после поездки по Франции, где его везде бурно приветствовали, Луи-Наполеон объявил о создании Империи. Сенат подтвердил это решение, а избиратели единодушно поддержали его на референдуме. Луи-Наполеон стал Наполеоном III. Теперь новоиспеченный император должен был отложить все дела, найти жену и основать новую династию.
Всем было интересно, какой он сделает выбор. Стоило Наполеону III завести разговор с женщиной, как все стремились увидеть в этом безошибочные признаки скорого брака. Следили за каждым жестом и словом императора, анализировали их, комментировали. Что за красавица покорит этого неисправимого сердцееда? Или точнее, кто окажется настолько искусной, что ей пообещают свадьбу? В последние месяцы 1852 г. все с неутихающим любопытством смотрели на дам, приезжавших погостить в Тюильри.
Многие отмечали, как любезен был принц с одной девушкой, хорошо воспитанной и изящной, которую повсюду сопровождала мать. Луи-Наполеон приглашал ее то на большую охоту в лесу Фонтенбло, то на бал в Сен-Клу, а там позвал ее в Компьень на первую из знаменитых встреч, на которые регулярно собирались избранные гости императорской четы. Юная красавица то участвовала в псовой охоте, показав себя прекрасной наездницей, а также стрелком (хозяин дома даже преподнес ей два великолепных ружья), то рукоплескала водевилю, исполненному приехавшей в Париж труппой, то просто прогуливалась в парке. Мадемуазель де Монтихо неизменно производила впечатление нежной юной девушки. Впрочем, нашлись и те, кто разглядел в ней ловкую интриганку, решительно настроенную попытать счастья вместе с принцем, любителем красивых женщин.
Красавица Евгения (1826–1920) была совсем другой. Она обладала непривычной тогда красотой: высокая, с тонкой талией, длинноногая, голубоглазая, с ослепительно свежим лицом, с волосами «живого светлого оттенка», который иногда казался чуть ли не рыжим, а временами совершенно «золотым», с безупречной осанкой. Всегда роскошно одетая она, как говорили, умела наряжаться гениально. В овале ее лица чувствовалось что-то испанское, а в страстном характере безошибочно угадывалась андалузская кровь (Евгения родилась в Гренаде 5 мая 1826 г., через пять дней после смерти Наполеона I, в час, когда случилось землетрясение).
Ее испанский род высокого происхождения был тем не менее крепко связан с Францией. Отец Евгении дон Сиприано де Теба и Гусман, испанский гранд, правда, небогатый, воевал во французской армии во время наполеоновской эпопеи. Там он потерял левую руку и глаз. Подобных ему называли афрансесадо – это было прозвище испанцев, которые поддержали Жозефа Бонапарта, эфемерного короля страны, поставленного Наполеоном, и последовали за ним в изгнание. Вернувшись на родину, задыхавшуюся под абсолютной властью восстановленного короля Фердинанда VII Бурбонского, граф де Теба множество раз попадал в тюрьму, а потом поселился в своей резиденции, находясь под надзором из-за своего упорного либерализма. В 1817 г. решительный поклонник Наполеона I женился на Мануэле Киркпатрик, дочери богатого негоцианта, торговавшего шотландскими винами. При всех притязаниях на благородство и прекрасное исполнение роли светской дамы она имела простонародное происхождение. У супругов родились две дочери: Франческа, носившая прозвище Пака, и Евгения.
Граф и графиня де Теба, этот титул герцог де Мотихо получил благодаря старшему брату дона Сиприано, как правило, в жизни пересекались редко: он увлекался политикой, ее интересовали только светские развлечения. По причине семейных обстоятельств, превратностей судьбы и гражданской войны, раздиравшей страну[210], графиня с дочерьми поселилась в Мадриде, а оттуда перебралась в Париж. В первый раз они очутились во французской столице в 1836 г. «Маленькие Монтихо» обучались в роскошнейшем женском пансионате в Сакре-Кер, откуда их забрали из-за разразившейся эпидемии, потом уехали в Англию, там получили образование в колледже неподалеку от Бристоля, вернулись во Францию, где Проспер Мериме, друг семьи, помог им закончить обучение. Смерть отца в 1839 г. заставила их приехать обратно в Испанию: они прожили там более десяти лет и часто бывали на самых знаменитых курортах Европы. Евгения росла и хорошела. Она без устали ездила верхом, с не меньшей страстью занималась и плаванием, и фехтованием. С наступлением отрочества появились первые волнения, первые любовные разочарования. У Евгении не было недостатка в характере, она показывала себя и импульсивной, и нежной. В ней тут же признали «сильный и приветливый» нрав и «благоразумие». Но иногда она позволяла себе неожиданные вольности; ее небольшие причуды подчас шокировали. Евгении был очень несвойственен конформизм.
Не пора ли выходить ей замуж? Претенденты торопили ее, но с Евгенией было непросто. Ей уже минуло 22 года, когда ее мать, рассердившись на испанский двор, снова покинула Мадрид, переехав в декабре 1848 г. в Париж. Обе женщины (Пака успела выйти замуж) поселились на Вандомской площади. Столица, из которой в прошлом феврале за три дня выгнали короля Луи-Филиппа и провозгласили Республику, только что пережила революцию. В конце бурного года Франция обзавелась президентом, носившем славное имя – это был сын Людовика Бонапарта, бывшего короля Голландии, и Гортензии де Богарне, племянник императора Наполеона I и внук Жозефины. Может, в Париже, а не в Мадриде найдет себе Евгения самую выгодную партию?
Когда в декабре 1852 г. внимание, которое столь щедро оказывал девушке принц-президент, стало очевидно всем, все ошибочно решили, что она взялась из ниоткуда, чтобы пополнить список женских побед Луи-Наполеона. Уже три года минуло с тех пор как они встретились и обратили друг на друга внимание у кузины Матильды на ужине в ее дворце на улице де Курсель. Принца-президента тогда заинтриговала эта 23-летняя девушка. «Он смотрел на меня, – позже напишет она, – со странным видом». Всего через несколько недель Евгения получила из Елисейского дворца приглашение вместе с матерью прибыть в замок Сен-Клу, где Луи-Наполеон любил проводить лето. Интересное дело: двух женщин «в самых торжественных туалетах» встретили только принц и его родственник граф Баччиоки. Обстановка была в высшей степени дружеская, но хозяина тут же заподозрили во всех грехах и разочаровали: Евгения важно прочитала ему небольшую лекцию о протоколе и спешно возвратилась в Париж. Разочарованная мадемуазель де Монтихо поведала о своем смятении сестре: «Я совершенно презираю себя за чувства к принцу. Там, где я видела начало прекрасной дружбы, возможно, даже чувство, у него было, в лучшем случае, приключение».
Вскоре пришло новое приглашение. На сей раз в Елисейский дворец. Словно Луи-Наполеон хотел загладить промах, допущенный в Сен-Клу. Обе дамы дали согласие. Луи-Наполеон вел себя галантно. Прошло лето 1849 г.; принц-президент был погружен в политику. Евгения вместе с матерью принимали воды в Спа. Осенью, вернувшись в Париж, они получили новое приглашение на вечер в доме Матильды. Там же был Луи-Наполеон. «Мне очень недоставало вас в последние месяцы», – сказал он мимоходом Евгении.
В новогоднюю ночь, снова в доме своей незаменимой кузины, сердцеед воскликнул:
– Полночь! Пусть все поцелуются! И подошел к Евгении: – Таков обычай Франции… – В Испании такого обычая нет! – ответила красавица, склоняясь в протокольном и защитном реверансе.
Было очевидно, что покорить Евгению нелегко. Но ее искусное сопротивление подстегивало принца, привыкшего к более уступчивым красоткам. Нетерпеливому поклоннику надо было взять себя в руки. Вычурная игра, которую начала Евгения, продолжалась. Будущие супруги переписывались – от имени Евгении послания составлял друг семьи Мериме, поскольку мадемуазель де Монтихо с матерью часто отсутствовали в Париже. Они уезжали в Испанию, принимали горячие воды на курортах Висбадена, возвращались в столицу в холодное время года, отбывали на всемирную выставку в Лондон, затем снова ехали в Париж, а потом в Мадрид (там они узнали о государственном перевороте 2 декабря 1851 г.), часто бывали в О-Бонне в Басконии. Обе дамы не сидели на месте. Пока они разъезжали туда-сюда по Пиренеям, принц-президент имел возможность поссориться с законодательной Ассамблеей, покончить с Республикой, утвердить новую конституцию и прописать в ней народные чаяния по поводу восстановления империи.
Удовлетворенная жажда абсолютной власти не заставила его забыть о Евгении. Она получала приглашения (Фонтенбло, Сен-Клу, Компьень) и усердно посещала ту, что отныне именовалась принцессой Матильдой. «В этом [1852] году, – заметила та о Евгении, – она значительно похорошела; она изо всех сил добивалась моей дружбы… Каждый вечер у меня были приемы, я устраивала балы и концерты, на которые принц старательно ходил. Я видела все-все маневры, что одной стороны, что другой». Больше ждать Наполеон не мог. Однако красавица отказывалась стать новой Лавальер[211] и была согласна только на брак.
Влюбленный как никогда в жизни император принял решение жениться. Он сообщил приближенным о своем намерении и 15 января 1853 г. официально посватался к матери девушки. Весть об этом тут же разлетелась и породила множество сплетен. Говорили, что красота Евгении (которую никто не мог отрицать) не способна скрыть ее глупость, а также, что девушка уже запятнала свою репутацию. «Авантюристка», – было у всех на устах. «Интриганка», «амбициозная особа», «истеричка», – добавляли затем. «С мадемуазель де Монтихо спят, на ней не женятся», – резко написала принцесса Матильда, ругавшая себя за то, что представила Евгению своему кузену. «Мы создали Империю не для того, чтобы император женился на цветочнице», – добавил министр Персиньи. Новоиспеченный двор разделился на сторонников и врагов «этой Монтихо».
Более всех бесновался брат Матильды принц Наполеон-Жером по прозвищу «Плон-Плон», сын Жерома Бонапарта, бывшего короля Вестфалии. Он успел получить отказ у прекрасной Евгении и, вероятно, не понаслышке знал о ее неуступчивости. Однако были у него причины и посерьезнее, чем уязвленное самолюбие. Плон-Плон, несмотря на республиканские взгляды, считался наследником престола и не желал ни брака Наполеона III, ни рождения принца, будущего императора. Он на всю жизнь затаил злобу на Евгению.
Как только выбор императора стал известен общественности, нашлись и те, кто одобрил его. Герцог де Морни, сводный брат Наполеона III, первым поаплодировал этому браку. Его примеру последовали и другие, поначалу настроенные враждебно либо нерешительно: например, министр иностранных дел Друэн де Луис или граф Валевский, посол в Лондоне, тщетно ведший переговоры о союзе с какой-нибудь подходящей английской принцессой. Наполеон оставался глух к недовольным высказываниям и стремился сыграть свадьбу как можно раньше. Тех, кто видел в этом не более чем «прихоть» или упрекал императора в том, что тот совершает «ошибку», он заставлял закрыть рот: «Мне никуда не деться».
Через несколько дней после официального объявления Наполеон дал более развернутое объяснение своему выбору. 22 января в Тюильри перед собравшимися дворянами, парламентариями и послами он опроверг общепринятую мысль о том, что браки между королевскими семьями способствовали сближению монархий. На самом деле, сказал он, они «углубляют ложное чувство безопасности и заменяют семейными интересами интересы общественные». С подкупающей искренностью новый хозяин Франции не скрывал своих корней: «Не надо старить свой герб и стремиться любой ценой сойтись с семьями королей, а надо всегда помнить о своем происхождении, не изменять себе и чистосердечно принять перед всей Европой титул выскочки, поскольку ты выскочил благодаря свободному голосованию великого народа». Некоторые дипломаты собирались было сделать вывод, что император защищал и превозносил молодость своей монархии оттого, что тушевался рядом с иностранными династиями. Но Наполеон нанес им решительный удар: «Я предпочел женщину, которую люблю и уважаю, женщине незнакомой, союз с которой давал бы некие преимущества, смешанные с жертвами». Для Наполеона III второй брак победителя А устерлицкой и Ваграмской битв с эрцгерцогиней Марией Луизой Австрийской должен был служить тому примером. Но в Вене, Лондоне или Санкт-Петербурге, где до сих пор господствовали ценности Старого режима, игнорирование принцесс королевской крови и превращение женитьбы в частное дело казалось проявлением дурного вкуса и предвестием тревожных странностей.
Как только решение о свадьбе было принято, ее не стали откладывать: 29 января 1853 г. в Тюильри прошла гражданская церемония, а на следующий день в НотрДаме венчание. Наполеон III женился на молодой графине де Теба, предпочитавшей называть себя Евгенией де Монтихо. Ему было 45 лет, она – более чем на шестнадцать лет моложе. Она была прекрасна, он – «далеко не красавец». Даже самые благожелательные современники описывали, что у него были короткие ноги, и ходил он косолапо, плечи были широкие, но покатые, шея крепкая, а лицо удлиняла невероятная бородка. Он преждевременно состарился, но все равно располагал к себе. Улыбка свидетельствовала о «добром, приветливом и мягком нраве». Маленькие глазки, подслеповатые, но ясные, смотрели мечтательно, их взгляд «окутывал». Весь его облик располагал к себе (обаяние Луи-Наполеон унаследовал от матери, королевы Гортензии), принцу-президенту симпатизировала сама королева Виктория. Со времен юности, проведенной в немецко-говорящих странах он сохранил «германский акцент», который заставлял авторов памфлетов упражняться в остроумии. Вместе с легкими испанскими интонациями Евгении он должен был сплестись в причудливую музыку.
«Маленькие императрицы»
От жены Наполеон ждал любви и способности выполнять протокольную роль; от императрицы страна ждала наследника. Если этот брак стал, по словам Александра Дюма-сына, «триумфом любви над предрассудками» и «чувств над политикой», принес ли он счастье собственно супругам? Чтобы ни несли клеветники, мадемуазель де Монтихо призналась будущему мужу, что ее сердце давно уже сражено, но она считала, что она обязательно должна сыграть свадьбу, будучи девицей[212]. У Наполеона аналогичной девственности не было. Всю жизнь в нем не утихал сексуальный аппетит. Его называли «больным похотью». Наполеон желал Евгению, желал ее страстно; возможно, это желание смешивалось в нем с любовью. Он не понимал, что им владело стремление обладать этой красивой женщиной. Поговаривали, что императрица не отличалась сильной чувственностью и была довольно равнодушна к любви. Луи-Наполеону даже было без лишних уловок четко и недвусмысленно сказано: «Какая гадость эта физическая любовь! Но как же получается, что мужчины ни о чем другом и не думают?»
Евгения почти сразу же забеременела, но в апреле она неудачно упала и потеряла ребенка. Пришлось ждать два долгих года, прежде чем сообщить публике – в июле 1855 г. – о новой беременности. Медики сказали, что она же станет последней. Евгения поделилась с сестрой: «Представляешь, врачи сказали императору, что, к счастью, у него есть еще время, но если бы я подождала чуть дольше, то у меня никогда не было бы ребенка». Несмотря на многочисленные официальные обязанности (открытие Всемирной выставки, поездка в Англию к королеве Виктории, а затем в конце беременности созыв в Париже мирной конференции), Евгения сумела доносить и 16 марта 1856 г. родила императору принца.
Свою первую задачу она выполнила: дала империи наследника. Больше детей у нее не было, медики предостерегали Евгению от новой беременности. Появление на свет маленького принца принесло немало плюсов для Евгении, до того момента осознававшей, насколько непрочно ее положение по причине достаточно скромного происхождения.
И в минуты тревоги она, случалось, размышляла о жребии несчастного Людовика XVII или грустной судьбе Орленка. Есть мнение, что после рождения этого мальчика, т.е. спустя всего три года после свадьбы, чета прекратила все супружеские отношения.
Если окружение императора, судя по всему, и не догадывалось, насколько скудно отвечала императрица на пыл своего супруга, но зато он сам все прекрасно видел. И легко находил при Дворе дам, готовых утолить его желания. Полуофициальная, довольно длительная связь с мисс Говард, обеспеченной дамой полусвета, которая оказала, в свое время, финансовую помощь, способствовавшую возвращению Луи-Наполеона на политическую сцену, должна была тем не менее подойти к концу. Она чуть ли не появлялась в обществе принца-президента на публике, и многие полагали, что она способна потребовать у своего ставшего императором любовника ранг и место в официальных торжествах. После того как Наполеон вернул ей деньги, которые она ему занимала, и предложил ей земли Борегар, в честь которого она позже изменила свою фамилию, ему необходимо было отделаться от нее на момент свадьбы с Евгенией.
Императрица, уже ждавшая ребенка, в начале февраля 1856 г. заметила появление еще одной соперницы: молодая, с точеной фигуркой, самовлюбленная как Нарцисс графиня де Кастильоне, о ком принцесса де Меттерних отозвалась, что никогда не видела подобной красоты. Евгения обнаружила связь мужа в начале лета по случаю ночного праздника, устроенного в Вильнёв-Летан, неподалеку от Сен-Клу: император потихоньку покинул общество гостей вместе с прекрасной итальянкой, а по возвращении ее платье оказалось «мятым-премятым».
Евгения не видела конца этим семейным огорчениям. Не успела завершиться идиллия с Виргинией де Кастильоне (осенью 1857 г. она попала в немилость), как в жизни императора появилась еще одна женщина: неотразимая Марианна Валевская. Тоже итальянка, она была замужем за министром иностранных дел и внебрачным сыном Наполеона I, «настоящая маленькая плутовка, которая сумела, – писал Вьель-Кастель, – хоть и спала с императором, стать подругой императрицы». Ни одной из фавориток сердце Наполеона не принадлежало полностью; он не умел хранить верность возлюбленным и очень быстро покидал их ради еще более роскошных красавиц. В списке императорских любовных побед числилось также множество эфемерных связей – с придворными дамами или великолепными иностранками, как например, госпожа Римская-Корсакова, которая приехала из Санкт-Петербурга и получила от Теофиля Готье прозвище Татарская Венера[213]. Среди тех, кого при дворе назвали «маленькими императрицами», последняя по дате шла 25-летняя актриса – император был лет на 30 ее старше, – прибывшая из анжуйской провинции, имевшая скромное происхождение, без политических притязаний, но зато обладавшая мощным темпераментом. Жюстина (или Жюли) Лебёф, она же Маргарита Белланже. Наполеон встретил ее в 1863 г. и оставался ее любовником до 1868 г., пока ее не сменила белокурая графиня Мерси-Аржанто, ставшая, судя по всему, последней фавориткой.
Хронология очень красноречива: император постоянно изменял жене, а Евгении приходилось терпеть то, что муж весело называл «маленькими развлечениями». Реакция униженной супруги со временем менялась. В первые годы у четы часто случались семейные сцены. Евгению больше злило, что муж нарушил обещание и попрал священные узы брака, нежели то, что он имел неудержимую склонность к альковным забавам. С января 1854 г. – это подтверждает письмо Проспера Мериме – Евгения угрожала вернуться в Испанию. Эта угроза часто повторялась. Ходили слухи, что императрица даже могла потребовать развода. Все знали о живости (ее называли «испанской») характера юной девицы де Монтихо, ее неукротимый пыл и горячность. Императрица продемонстрировала их на знаменитом вечере в Вильнёв-Летан, когда Наполеон рассадил приглашенных по местам и исчез с мадам де Кастильоне. Гости, скандализированные тем, как скомпрометировал себя император, смотрели на Евгению, как она униженная, побледневшая от ярости, принялась танцевать, чтобы успокоить нервы, упала, потеряла сознание и, когда вернулся ее ветреный супруг, устроила публичный скандал, не обращая внимания на общество. На следующий день Париж был в восторге.
Наполеон давал жене и другие поводы жаловаться и бушевать. Но отныне у нее был сын, которого она нежно любила, да и общественные обязанности увлекали ее. Впрочем, император, огорченный упреками Евгении, продолжал, хоть и не пытаясь заработать ее прощение, проявлять нежность к жене, показывая ей свою привязанность. Когда, узнав о новой выходке мужа, императрица решила немедленно уехать из Парижа в Биарриц или на воды в Швальбах, что неподалеку от Висбадена, он, в попытке успокоить, написал ей ласковые слова: «Еще один день, когда я не вижу тебя, и поверь… я счастлив только с тобой». Или: «Для меня ты – жизнь и надежда». Не переставая страдать, Евгения, в конце концов, тоже начала изменять и пыталась таким образом закрывать глаза на реальность. На смену любви пришла дружба, а оскорбление, нанесенное самолюбию, сгладилось. Не имея возможность помешать похождениям легкомысленного супруга, Евгения научилась справляться со своей горечью.
Тем не менее она немного выпускала когти, когда казалось, что внебрачные приключения мужа могут угрожать его здоровью. Осенью 1864 г. в Сен-Клу, вечером после дня, проведенного у Маргариты Белланже, с Наполеоном случился обморок. Для начала императрица позаботилась о супруге и, когда худшее было позади, явилась на следующий день с утра пораньше в апартаменты куртизанки: «Мадемуазель, вы убили императора». И потребовала, чтобы та немедленно уехала. Оправившись, Наполеон отказался расставаться с девушкой,
Евгению это взбесило, и она отправилась принимать воды в Гессен-Нассау. Четыре долгих месяца, пока императрица переживала «самый печальный кризис в своей жизни», она отсутствовала в Париже. Связь продолжилась и, несмотря на беспокойство об ухудшающемся здоровье Наполеона, императрице пришлось снова проглотить гордость и страдать молча.
Работа Винтерхальтера
Семейные несчастья Евгении должны были бы снискать ей всеобщее сочувствие, поставить ее на одну доску с благородной женой Людовика XIV или кроткой Марией Лещинской. Этого не случилось. Конечно, окружение императрицы разделяло обиду обманутой супруги, но несдержанный характер Евгении смущал многих. В народе, где брак императора приняли лучше, чем в салонах, ничего не знали о придворной жизни, а парижский свет, хоть и осуждал выходки императора, не считал нужным сочувствовать «этой испанке». При этом по отношению к императрице народ иногда выражал если не любовь, то признательность. Признательность за то, что она дала империи сына. Восхищались также и тем, что она отважно посещала заболевших холерой, когда в Париже вспыхнула страшная эпидемия, уносившая по двести человек в день осенью 1865 г. Оценили ее хладнокровие, когда Орсини попытался совершить покушение на императорскую чету перед колоннадой Опера вечером 14 января 1858 г. Окруженная ранеными и убитыми во время трех последовательных взрывов, императрица обратилась к охранникам: «Не тратьте время на нас, это наше дело. Позаботьтесь о раненых». Ее спокойствие произвело впечатление. И наконец, чтобы ободрить людей, рядом с бледным как мрамор Наполеоном, она с улыбкой вошла в театр, чтобы посмотреть спектакль. В тот вечер спокойствие Евгении окупило все ее страдания.
При всем при этом, о ней почти всегда судили жестко. В начале правления Евгению чаще всего упрекали в легкомыслии – свидетельство тому картина Винтерхальтера, которому потворствовала ее лучшая подруга Полина де Меттерних.
Сама она признавала: «Легенда обо мне сложилась… Я была легкомысленной женщиной, которая занималась только тряпками». В письмах Евгении отчетливо видны, надо признать, выраженные словами зачастую спутанными, интерес к пустякам, капризам моды, подробностям семейной жизни. Евгения завидовала образованности принцессы Матильды, которая к тому же обладала хорошим вкусом, а в ее доме стремись бывать литераторы и художники. Хотя обе дамы не доверяли друг другу, императрица признавала в Матильде образец, который она старалась, не афишируя, копировать.
Империя нуждалась во Дворе, достойном сравниться со Двором Наполеона I или по крайней мере сопоставимый со Дворами Старого режима. Создать таковой было непростой задачей, поскольку знать прошлых времен и знать июльской монархии упорно старались не иметь дела с Новым режимом. В Тюильри, имевшим статус официальной резиденции, а также в Сен-Клу и Фонтенбло, куда ездили в теплое время года, равно как в Компьени, где с 15 ноября собирались знаменитые «группы» гостей, Евгения показала себя прекрасной хозяйкой. Атмосфера при дворе, конечно, была не столь литературной, как в салоне принцессы Матильды. В домашней обстановке «скромных понедельников императрицы» гости охотно и непринужденно развлекались, а в Тюильри стиль жизни подходил больше для крупной буржуазии, нежели аристократии былых времен. Но Евгения старалась сделать официальные торжества пышными, заботилась об этикете, элегантно председательствовала на роскошных ужинах и балах, безукоризненно принимала послов, министров и иностранных правителей. Двор Наполеона III свою задачу выполнял: он служил престижу империи. И император знал, какова в этом заслуга Евгении.
Личный посланник
Император ценил качества своей жены. Хотя подчас его настораживала ее импульсивность, он рассчитывал, что своим обаянием она сумела бы расположить к себе собеседников; знал он также, что она женщина искренняя и очень умная. Свое правление Евгения начала с того, что скромно прошла «учебный курс» императрицы. Сопровождая Наполеона на протокольных торжествах и дипломатических встречах, она поняла, насколько необходимо разбираться в политических вопросах. Император обучил жену, беседуя с ней о положении дел в Европе, зачитывая депеши и официальные отчеты, давая характеристику французским и иностранным деятелям. Евгения все схватывала на лету и, хотя всю жизнь ей приходилось следить за собой, как бы не сболтнуть лишнего, она очень быстро освоилась с ролью, которую ждал от нее муж.
Королева Виктория, принимавшая императорскую чету в апреле 1855 г., нашла Евгению очень кроткой и милой, скромной и сдержанной. Она предложила ей свою дружбу, которой редко кто удостаивался. Кроме того, она сочла, что императрица «очень остроумна и благоразумна» и, прежде всего «прекрасно образована». Евгения, в тот момент перепуганная этим первым официальным визитом к английской монархии, которой, ко всему прочему, являлся для нее вступительным экзаменом, понравилась королеве своим умением следить за политическими событиями. Наполеон III мог гордиться женой.
Раз за разом он учил ее, как осторожно сообщать собеседнику сведения, до сих пор носившие конфиденциальный характер, как отслеживать его реакцию на то, что только что было секретным. Когда в 1853 г. Франция готовилась вместе с Англией развернуть войну против России, Наполеон III надеялся, что Австрия примет участие в событиях и поможет отнять у царя придунайские провинции. Он пригласил Евгению прощупать намерения Вены, пообщавшись с послом Австрии в Париже. «Она хорошо держится во время переговоров, – заметил он, – настолько хорошо, что я вынужден думать, что она выучила урок для того, чтобы опробовать его на мне».
Когда Крымская война была закончена и подписан Парижский договор, Наполеон III на пике международного престижа задумывал перекроить дипломатическую карту Европы. От вчерашнего побежденного врага – России – он теперь добивался союза. Было необходимо убедить англичан, до сих пор не определившихся относительно Санкт-Петербурга и более склонявшихся к союзу с Австрией. Частный визит императорской четы в 1857 г. на остров Уайт в Осборн, где отдыхала британская королевская семья, должен был заверить Викторию и Альберта в надежности и искренности союза двух стран. В спокойной обстановке Наполеон III пытался донести свои взгляды до английских министров. «Подключил» он и Евгению: с королевой она беседовала «о книгах, Испании и России». После этого Виктория заверила свое окружение, что императрица желала «изо всех сил, чтобы мы сумели преодолеть нынешние трудности». Впрочем, во время недолгого пребывания в Осборне Евгения получила права присутствовать на всех разговорах двух правителей.
Именно ей Наполеон поручил осторожно сообщить о нейтралитете, а значит, и одобрении англичан, когда император решил прийти на помощь Сардинскому королевству, на которое напала Австрия, грозившее заполучить себе в союзники Берлин. Евгения под предлогом юбилея Виктории написала ей, что война не будет крупномасштабной, и добавила: «Мы очень рассчитываем, что Ваше Величество, ведь вы всегда считаете своим долгом содействовать миру, воспользуется своим личным влиянием, а также влиянием принца Альберта, которое так велико также в Германии, чтобы прийти к этой цели».
Кажется, дружба двух женщин подтолкнула Наполеона III к тому, чтобы сделать императрицу своим неофициальным посланником. Убежденный, что прусские дипломаты планировали изолировать Францию от остальной Европы, император старался сблизиться с Англией и потому отправил жену самостоятельно нанести новый визит Виктории в июле 1867 г. в ее осборнской резиденции. Евгения получила от королевы теплые слова. «Я получила возможность, – написала королева, – тщательно посоветоваться о мире, а не о вооружении, переложив всю ответственность на Пруссию». Однако, британское правительство, куда меньше расположенное к Франции, осталось при своем мнении. В августе 1869 г. Евгения снова, с теми же намерениями, побывала в Осборне: Викторию попросили умерить воинственный пыл прусского короля, который раздувал канцлер Бисмарк. Королева, казалось, разделяла желание Евгении «сделать все, чтобы добиться мира на всей земле», и согласилась написать в Пруссию, чтобы утихомирить ее правителя.
Регентство
Помимо обязанностей посланника Евгения выполняла и другие задания императора: например, замещала своего хворающего мужа на Корсике по случаю столетия со дня рождения Наполеона I или в Египте на открытии Суэцкого канала. Тем не менее во все секреты ее посвящать не стали. Наполеон III был человеком молчаливым и скрытным. О тайном разговоре, который состоялся у него с Кавуром, министром Сардинского короля, в Пломбьер 21 июля 1858 г., Евгения знала, но ей не сообщили о подробностях бесед, которые предваряли соглашение между Францией и Турином против Австрии. Также ей было неизвестно, что ее заклятый враг принц Наполеон-Жером по прозвищу Плон-Плон был избран императором, дабы выступить связующим звеном с Кавуром, и чтобы скрепить союз, женился на принцессе Клотильде Савойской, дочери короля Виктора Эммануила II. Евгении пришлось ждать, пока первого января следующего года, когда император публично объявил о своих планах, чтобы узнать о готовившейся войне. Несмотря на страхи, что Папскую область могли разделить, Евгения следовала политической линии мужа. Раззадоренная волнением парламентариев и общественных кругов, настроенных враждебно по отношению к итальянской кампании («со своей стороны я не хочу войны, напротив, – писала она сестре, – но я не могу одобрить это позорное бегство»), она обратилась к войне, самому несчастливому из решений, но единственному способу выгнать австрийцев из Италии.
Евгения не всегда была преданной исполнительницей того, что велел император. Со времени итальянского кризиса становился заметен ее интерес, который она теперь проявляла к внешней политике, советуясь с мужем, читая депеши, расспрашивая послов. Императрица не очень-то точно следовала инструкциям, где четко указывалось, что ей делать, и не была безучастной зрительницей событий или тайным дипломатическим помощником Наполеона III. Она все громче и громче заявляла о себе, как о действующем лице наполеоновской политики, готовая разделить в пределах, установленных мужем, имперскую власть.
Многие упускают из виду, что она официально пошла по дорогам власти, приняв на себя регентство. Известно, что в прошлые времена были правительницы, исполнявшие эту функцию (от Бланш Кастильской[214] до Екатерины и Марии Медичи, а позже Анны Австрийской), но в XIX в. о ней предпочитали не вспоминать. До настоящего момента регентшами становились, по большей части, вдовы, и правили они до совершеннолетия сына. Евгения же стала регентшей при живом Наполеоне III как до нее Мария Луиза при Наполеоне I.
Этот старинный институт возродили из страха преждевременной смерти императора. Вдруг стала понятна непрочность имперского режима, о чем, например, свидетельствовала Крымская война, когда Франция, будучи союзницей Англии, воевала против царских армий. Начатая в 1854 г. осада Севастополя казалась бесконечной. Вопреки всем ожиданиям, русские сопротивлялись англо-французским войскам. Шли ожесточенные бои, несли опустошение эпидемии. Виктор Гюго написал пророческие слова: «Вчера Севастополь был раной, сегодня он – гнойная язва, завтра – станет раковой опухолью». И все-таки к февралю 1855 г. Наполеон III намеревался войти в Крым в обществе императрицы. Не столько для того, чтобы взять на себя командование войсками, сколько с целью поддержать моральный дух солдат, живших в кошмаре за четыре тысячи километров от родины. Мнения министров были неоднозначны. Стоило ли опасаться заговора в отсутствие монарха? Ведь имперский режим так молод! «В провинциях Центра, – заметил Проспер Мериме, – социалисты начали снова поднимать голову и плакаться о погибшей республике».
Поход в Крым вынуждал передать бразды власти бывшему королю Жерому, младшему брату Наполеона I (70-летнему) и его сыну Плон-Плону, который славился республиканскими идеями и неуправляемостью. Что касается британского правительства, то там боялись, как бы общественным мнением Франции, растерянным и напуганным страданиями солдат, о которых сообщали военные корреспонденты, не завладели пацифистские настроения. Что могло быть, осмелимся спросить, если императора постигнет несчастье? В итоге Наполеон III отказался от Крыма, но в его окружении осознали, насколько слаб режим, когда он держался на одном человеке, не имеющем наследника.
В марте следующего года рождение наследного принца успокоило страхи. Но все же было грустно представлять, как вдруг Империя лишилась хозяина, которому было под пятьдесят, а его единственный сын был пока что в колыбели. Евгения, которая действительно не могла больше иметь детей, завидовала многочисленной семье Виктории. Британская королева, будучи ненамного старше императрицы, за тринадцать лет брака успела дать Короне троих сыновей и пятерых дочерей!
Перед лицом угрозы, что Империя окажется в опасности в случае безвременной кончины ее главы, обратились к такому средству как восстановление регентства. Для этого постановлением Сената от 17 июля 1856 г. была внесена поправка в конституцию 1852 г. Объявлялось, что в случае смерти императора императрица занимала место регентши и выполняла бы эту функцию до совершеннолетия, т.е. до 18 лет, наследного принца. Ей должен был помогать регентский совет, руководство которым поручили бы бывшему королю Жерому. Те же самые меры были бы предприняты в случае ухудшения здоровья императора или его отъезда за границу.
Наделяя Евгению правом регентства, Наполеон, тем самым, свидетельствовал о своем к ней доверии. Он был ветреным супругом, но хорошо представлял себе качества той, что преподнесла ему роскошный подарок: долгожданного сына. В обществе, не знавшем о семейных сценах в Тюильри, императора и императрицу считали дружной четой, которая вместе выполняла протокольные функции и делила – пусть и не равномерно – властные полномочия. Евгения переставала быть тайной советчицей главы страны. Теперь она знала, что могла править вместо него, если он не смог бы этого делать. До настоящего момента супруга императора имела ранг только при Дворе, отныне же она получила статус в правительстве Франции.
Страхи по поводу преждевременной смерти императора были не беспочвенны. После государственного переворота 1851 г. его жизни не раз грозила опасность. 6 июля 1853 г. в Опера-Комик, где императорская чета присутствовала на представлении, Наполеона остановила дюжина заговорщиков, вооруженных кинжалами. В следующем году под Северной железной дорогой, по которой должен был проехать император, обнаружили бомбу. 28 апреля 1855 г. на Елисейских полях итальянец по имени Пьянори, старый соратник Гарибальди, дважды выстрелил в Наполеона из пистолета. Режим держался всего на одном человеке. Евгения жила, постоянно ожидая покушений, при том что «жить в тревоге, – писала она, – значит не жить… Когда мы разделяем опасность, не так страшно». Каково это – делить опасность, Евгения узнала 14 января 1858 г., когда Феликс Орсини перед входом в Опера бросил три бомбы в императорский экипаж, и супруги чудом избежали смерти. Террорист, давний заговорщик, действовал по политическим мотивам. Убийство императора должно было бы посодействовать восстановлению республики, которая из идейной солидарности обязательно помогла бы Италии выгнать французских захватчиков.
Угроза смерти, непредсказуемая и непреходящая, давила на жизнь императора и вынуждала прописать порядок института регентства. 1 февраля следующего года Евгения получила «прямое регентство», чтобы спасти режим, случись трагедия. Был создан тайный совет, куда входила императрица и главные должностные лица, который, в конце концов, стал регентским советом, где заседали бывший король Жером и его сын Наполеон-Жером. Общество, достаточно сильно взволнованное покушением, поддержало желание императора сберечь империю от нестабильности и хаоса. Посол Австрии Иосиф фон Хюбнер сообщил своему правительству об общем настроении: «Учреждение регентства имеет целью избежать любых неопределенностей в случае смерти императора». Затем он стал говорить, насколько благосклонно все встретили назначение Евгении. Еще недавно он с трудом видел императрицу в этой кокетливой, капризной и эксцентричной даме. Теперь же признавал, насколько она преобразилась: «Прекрасная женщина с ребенком на руках спасает Францию при помощи героической армии – эта картина так восхищает французов, ведь император, чью жизнь в любой момент может унести бомба, стал фактором почти ничтожным». К своим похвалам господин посол всегда примешивал каплю сарказма.
И когда Наполеон лично принял командование итальянской армией, Евгения стала регентшей. Мудрая мера предосторожности, напоминала коронацию Марии Медичи, которую пожелал провести Генрих IV перед отъездом на Рейн на войну, накануне своей гибели.
Перед лицом австрийской агрессии против Сардинского королевства император, уже долгое время колебавшийся, принял решение прийти на помощь. В первые дни мая 1859 г. он покинул Тюильри, а Евгения, не без гордости, приняла на себя совершенно для нее новые властные полномочия[215]. Ее право руководить страной было заранее и тщательно расписано. Императрица не ратифицировала законов, не назначала префектов и не могла дать звание выше полковничьего. Самое главное, она никогда не принимала решений в одиночку: все официальные акты обсуждались и принимались большинством голосов на совете министров, который получал, таким образом, новую для себя роль. До настоящего момента лишь какой-то информационный повод мог стать причиной встречи министров, их роль была сведена к исполнительной[216], теперь совет приобретал принципиальную значимость, о чем свидетельствовали его два ежедневных собрания. В отсутствие императрицы руководство поручалось королю Жерому, который выразил готовность предложить «свой опыт и познания»; его мнение запрашивалось при всех решениях, которые принимала регентша. Делегирование императорских полномочий его супруге требовало также установления границ, которые не допустили бы личного произвола.
12 мая Евгения впервые председательствовала на совете министров. До самой середины июля она созывала его по понедельникам и вторникам, а по субботам проводила личный совет. Кроме того, три раза в неделю в течение чуть больше двух месяцев регентша регулярно работала с высшими должностными лицами империи. Она ничего не упускала из виду: от остановки выпуска «Таймс» после публикации какой-то спорной статьи до условий подписи займа, открытого с целью финансирования военной кампании, или одобрения проекта Османа в связи с расширением границ Парижа. Евгения работала, причем работала качественно, жадная до информации и открытая для дискуссий. Императрица выполняла свою задачу со всей возможной серьезностью: однажды Проспер Мериме застал ее, когда она заучивала наизусть конституцию. Казалось, что ее импульсивный нрав сменился собранностью. Она руководила и высказывала свое мнение очень осмотрительно.
Никто во Франции не поддержал вступление в войну против Австрии: большинство министров, сенаторов, депутатов, биржевиков, самых видных представителей католичества, промышленников, финансистов и даже почти все высшие офицеры уже заявили, что не одобряют открытие «этой шкатулки Пандоры». После победы при Мадженте и триумфального входа императорских войск в Милан[217] Евгения написала Наполеону письмо, где умоляла его как можно скорее заключить мир. Во Франции этого настойчиво требовали консерваторы-католики, а Пруссия, чтобы добиться этой цели, готовилась мобилизовать армию. Несмотря на победу, Франция, у которой рейнская граница оказалась полностью не прикрыта, не могла воевать на два фронта.
24 июня при Сольферино была достигнута вторая победа. Для Евгении благодарственный молебен в НотрДаме, во время которого ее сын стоял рядом с ней, стал одним из самых прекрасных воспоминаний в жизни. Тем временем ситуация оставалась тревожной: австрийцы потерпели поражение, но не проиграли. Вскоре война возобновилась. Предсказывали, что она могла затянуться. Пруссия закончила мобилизацию. Вторжение во Францию казалось неизбежным. Этот ужас следовало остановить. В Париже император отказал Жерому в мобилизации трехсот тысяч человек из национальной гвардии, а из своего генерального штаба Наполеон III сделал австрийскому императору предложение об остановке военных действий, каковое тот немедленно принял. Наполеон и Франц-Иосиф подписали в Виллафранке мирный договор. Вернувшись в Сен-Клу, император чистосердечно объявил: «После славной двухмесячной кампании борьба должна изменить свой характер… Следует принять бой на Рейне, а также на Адидже… Чтобы сослужить службу итальянской независимости, я повел войну вопреки воле Европы; в момент, когда судьба моей родины могла оказаться в опасности, я заключил мир».
На протяжении регентства Евгения, регулярно получая сведения о военных операциях, а также дипломатических обменах, трудилась вместе с императором, полностью разделяя его взгляды. На последнем совете, где она председательствовала, когда ее задача была выполнена, министры через Ашиля Фульда выразили ей свое уважение. За эти два месяца императрица, сказал тот, неустанно демонстрировала «величие характера, которое всегда заставляло ее вставать на наиболее благородную и возвышенную сторону». Все теперь знали, продолжал он, что династия императора даст Франции «гарантию самого счастливого и безопасного будущего». К хору восхвалений присоединился и голос бывшего короля Жерома, который, в свою очередь, превозносил регентшу, показывавшую «в каждую минуту и в каждом вопросе ясную, твердую и чисто французскую рассудительность».
Слова эти, конечно, банальны, похвалы, судя по всему, неискренни, но ведь многие годы Евгении приходилось бороться с такими прозвищами как «испанская выскочка» или «сумасшедшая рыжая». Она вошла в политику торжественно. И не была намерена оттуда уходить.
В первое регентство, осуществленное во время войны, Евгении не пришлось бороться с интригами дяди и двоюродного брата императора. Король Жером никаких действий против нее не предпринимал, а его сын Плон-Плон, недавно женившийся на дочери сардинского короля, вместе с армией уехал в Италию и снискал овации в Турине, а затем вступил в бои в Тоскане.
Оценка второго регентства Евгении была не столь единодушной. Отправляясь в Алжир с официальным визитом, Наполеон снова передал власть жене. Регентство продлилось чуть больше месяца, с мая по начало июня 1865 г. Как и в прошлом члены совета решали самые разнообразные вопросы: например, право на забастовки или детали церемонии, задуманной в Пареле-Моньяль в связи с беатификацией Маргариты-Марии Алакок. Престарелый король Жером уже пять лет как скончался, но непредсказуемый Плон-Плон, который вечно высмеивал и ругал императрицу и открыто заявил о несогласии с Наполеоном III, очень удачно съездил в Аяччо, где открыл памятник в честь Наполеона I, и вел провокационные разговоры. Им владели революционные настроения. Он ругал беспорядок в государственных методах управления, принципах официального выбора кандидатур и цензуре, нападал на папу, который удерживал Рим при помощи французских войск, и отстаивал мысль о союзе с Австрией. Как писал Виктор Гюго, он превозносил память победителя Аустрелица, на которого он был очень похож внешне, чтобы как можно сильнее принизить своего племянника.
Подобные слова, исходящие от одного из членов императорской семьи, вогнали другие страны в ступор. Опытная императрица сообщила обо всем мужу и попыталась помешать публикациям в прессе. Министры настаивали также, чтобы она публично осудила речи своего кузена. Из этого ничего не вышло, и чтобы избежать решительной ссоры, Евгения объявила инцидент исчерпанным. Наполеон-Жером отделался строгим выговором императора[218]. Евгения проявила мудрость и спрятала свою неприязнь. Она предоставила мужу возможность самому дать ответ этому смутьяну и старалась восстановить мир в семье. Принц ушел с поста вице-президента тайного совета и был вынужден худо-бедно помириться с императорской четой.
Евгения, Рим и папа
В противовес распространенной легенде, Евгению и Наполеона III связывало полное политическое единодушие: доказательством тому стали первые два регентства. Тем не менее многие стойкие убеждения императрицы, например, ее страстная вера, не всегда встречали понимание в политике ее супруга. Из-за вспыльчивого нрава она иногда выражалась на языке, далеком от дипломатии. Ее необдуманные реакции, среди прочего, вынуждали подозревать политические разногласия с мужем. На самом деле Евгения никогда не возражала против решений императора. Природная горячность иногда мешала ей сразу же согласиться с императорским замыслом. Впрочем, мешала недолго. «Римский вопрос» служил тому примером.
После того как в Виллафранке в июле 1859 г. был подписан мир с побежденной Австрией, Наполеон III, как и обещал, прекратил действия по освобождению Италии «от Альп до Адриатики». Сардинское королевство, руководившее объединением Италии, приобрело Ломбардию. Затем Парма, Модена и Тоскана выгнали своих правителей и проголосовали за воссоединение с Турином. Однако Венето оставалось австрийским, а папские владения, которые обещали аннексировать, грозили развернуть яростное сопротивление. Ведь Рим – это не только духовная столица христианского мира, но и центр светской власти, сосредоточенной в руках папского государства и понтифика, который одновременно был и главой католиков и итальянским князем.
Десять лет Франция защищала папу и его государство. Дело в том, что в 1848 г. революции, охватившие почти всю Европу, не прошли Рим стороной. Папу изгнали, лишили мирской власти и провозгласили римскую республику. Пий IX апеллировал к солидарности католических держав, прося у них помощи в восстановлении своей власти. Луи-Наполеон Бонапарт, занимавший тогда пост президента республики, отправил экспедиционный корпус в Рим, и тот вернул понтифику престол. С 1859 г. французские войска постоянно присутствовали в Вечном городе.
На пути к единой Италии как раз и встал этот «римский вопрос»; он служил примером двойных стандартов императорской политики. Наполеон III сначала способствовал объединению страны, которое ставило под вопрос светскую власть папы, а теперь не мог продолжить это дело, чтобы не сердить французов католиков, поддерживавших его режим.
Самые известные консерваторы уже выразили тревогу в связи с восстаниями в Эмилие и Тоскане, вспыхнувших после победы французской армии при Мадженте и Сольферино. Император, боявшийся оказаться в глазах остальных монархов «главой всех головорезов Европы», признался, что не знал, как остановить порыв итальянского народа[219].
Одновременно, он не был уверен, что папа согласится на территориальные уступки. В анонимной брошюре, выпуску которой он содействовал, говорилось прямо: «Чем меньше станет земля, тем величественнее правитель». Наполеон уже успел написать Пию IX приглашение об отказе от провинций. Возмущенные католики Франции, которых подстрекали епископы, начали кампанию по восстановлению светской власти папы. Без нее, говорили они, понтифик стал не более чем скромным итальянским епископом. В католических кругах на проповедях, после богослужений шли горячие беседы. Папа просил епископов, чтобы те «воодушевляли верующих на защиту Святого престола», а самые ревностные из прелатов решительно сравнивали императора с Понтием Пилатом и Иудой. Не собирался ли, подобно Наполеону I, «палачу» Пия VIII, Наполеон III низложить папу, разрушить Святую церковь, стать тюремщиком Пия IX?
Беспокойство нарастало, когда император заменил на посту министра иностранных дел «слишком клерикального» графа Валевского на Эдуара Тувнеля, славившегося куда менее лояльным отношением к папе. У защитников власти понтифика оставалось последнее средство: императрица. О ее верности Риму знали все. «Испанская» набожность той, в чьих предках числился святой Доминик, казалась самым надежным союзником для того, чтобы развернуть в другую сторону политику императора.
Очень быстро стало ясно, что демарш католиков перед государыней сумел настроить ее против мужа. Евгения начала невыносимо давить на Наполеона. Ее вера, которую считали не более чем ханжеством, представляла опасность для объединения Италии, и провоцировала то, что называлось «личной политикой императрицы». Ничего не вышло. Запутавшиеся в собственных фантазиях обвинители больше доверяли сплетням, разносимых принцессой Матильдой или Плон-Плоном, чем реальности.
Хотя Наполеона поставила в тупик разница в интересах сторонников объединения и папы – и те, и другие являлись его протеже, – он был совершенно убежден в невозможности сохранить целостность Папской области. Император намеревался в обязательном порядке гарантировать безопасность Пия IX, но не хотел ни при каких обстоятельствах применять силу против итальянских патриотов. Этот взгляд на ситуацию он донес до своей жены. Тогда та, получив все необходимые сведения (и, естественно, заработав выговор), отказалась от своих первоначальных убеждений. Эта перемена видна в письме Евгении к сестре от 14 января 1860 г. В нем она признала, что провинции, управляемые папскими легатами (т.е. Болонья и Романья, которые пообещали присоединить к Сардинии), не относились к владениям понтифика «со времен договора 1815 г.», а также соглашалась с тем, что судьба Патримония Святого Петра[220] – это вопрос политический, а не религиозный. Политические реалии имели свои причины: «Поскольку удержать провинции легатов можно только силой, не будет ли лучше возместить папе убытки и оставить эту часть территории… вне всего остального, чтобы она стала самой сильной среди остальных областей?» При этом ее продолжала заботить судьба того, что оставалось от папских владений. Евгения также говорила, что боялась в этом деле «огромнейших осложнений», а вопрос казался ей «очень щекотливым и для Святого Петра, и для нас».
Это не похоже на слова экзальтированной ультрамонтанки[221] или фанатички, готовой развернуть крестовый поход. Министр Эмиль Оливье, в общем и целом настроенный к императрице враждебно, признал: она была «очень верующей, но ни в коей мере не фанатичкой, ею не владели идеи иезуитов или ультрамонтанов. В отношении папы и папства ее политика совпадала с линией Тьера и всех католиков».
Но когда министр Тувнель, повторяя слова Кавура, вновь ставшего премьер-министром Сардинии, дал понять совету, что однажды Рим станет столицей итальянского королевства, императрица разгневалась и покинула заседание. Не рассчитывая на такой исход событий, который стал бы casus belli[222] со всеми католиками Франции, император тем не менее хотел бы уйти из Рима.
Как достичь цели, не оставляя папу на милость сторонников итальянского единства? Наполеон занял выжидательную позицию – Пию IX было уже 68 лет – в надежде, что преемник папы на престоле Святого Петра будет более покладистым? Довериться Кавуру, пообещавшему присоединить Рим к Италии ненасильственно и в согласии с Францией? Императору очень нравилась эта мысль, но Кавур умер, затруднения Наполеона усилились. Не дать Рим новому Королевству Италия означало потерять моральное преимущество в военной операции 1859 г. Отнять у папы духовную столицу христианского мира – получить недовольство французских католиков. У самой Евгении сомнений не было: она крайне не одобряла вывод войск из Рима, а применение силы в отношении Рима этим неуемным Гарибальди укрепляло ее уверенность в правомерности своего мнения.
Наполеон, слишком уж часто проявлявший слабоволие, в конечном итоге вдруг решил в 1864 г., что французские войска уйдут из Рима в течение 2 лет, а взамен итальянское правительство официально могло пообещать не трогать владения понтифика и назначить столицей Флоренцию. Евгения была в растерянности. Вспыльчивый характер подталкивал ее к бурной деятельности: она хотела торжественно заверить папу в своей верности, приехав в Рим в тот момент, когда французские войска будут уходить из него. Но император заставил ее отказаться от этого замысла. Когда в декабре 1866 г. Франция покинула Рим, «римский вопрос», казалось, был наконец-то урегулирован. Через четыре года война 1870 г. парализовала Францию, а Вечный город присоединили к Италии, завершив тем самым объединение страны.
Религиозные убеждения Евгении не встали на пути императорской политики в Италии. Лишь ее отказ оставить папу без защиты немного застопорил решение «римского вопроса». Проявив терпение в этой неприятной ситуации, император, будучи раздираемым между двумя сторонами, сумел успокоить не только собственную жену, но и всех католиков Франции, чья поддержка была для него бесценна.
Мексиканское фиаско
Участием Франции в объединении Италии занимался не один Наполеон III: сыграла здесь свою роль и императрица. С одной стороны, он защищал принцип национального самоопределения. С другой – отстаивал, но не слепо, интересы католической церкви. Точно так же мексиканская авантюра стала для Наполеона III и Евгении общим делом. Императором двигало желание застолбить Франции место в Центральной Америке, а императрица хотела установить в Мексике католическую монархию.
В Мексику, независимую с 1821 г., политически нестабильную, отказывающуюся признать многочисленные долги, в декабре 1861 г. высадились французские, британские и испанские войска, получившие от своей страны приказ собрать задолженности с некоторых граждан. Оставшись в одиночестве на мексиканской земле после ухода англичан и испанцев, французский экспедиционный корпус перевыполнил поставленную задачу, захватив страну и поставив правителем Максимилиана Габсбургского. Авторитет последнего держался исключительно на присутствии французских войск, и оспаривал его индеец Хуарес. Когда последние ушли из Мексики по приказу Наполеона III, Максимилиан остался один на один с партизанской войной. Его посадили в тюрьму и 18 июня 1867 г. расстреляли. То, что один из министров Наполеона назвал «одним из величайших замыслов всего царствования», закончилось невиданным фиаско.
В чем был смысл этой авантюры в тропиках? Сбор долгов при помощи демонстрации силы был не более чем предлогом, маскирующим истинные захватнические аппетиты. У императора были свои мотивы, а у императрицы свои, и они друг друга дополняли. Экономические интересы Франции подталкивали к тому, чтобы установить контроль над страной с богатыми сельскохозяйственными и рудными ресурсами; Мексика так и напрашивалась, чтобы ее сделали рынком для французской промышленной продукции. У императора чесались руки «увести» Мексику у Соединенных Штатов, пока тех раздирала война Севера и Юга. Занятые гражданской войной американцы не имели никакой возможности следовать доктрине Монро, иными словами запретить Европе в какой бы то ни было форме вмешиваться в дела нового континента. Как и многие другие Наполеон ставил на победу южан, производивших хлопок, который был так необходим французской промышленности. Следовало еще прорвать блокаду американских границ, которую установили северяне. Наполеон все думал, какую карту могла бы разыграть Франция в Мексиканском заливе.
Тут же нашелся повод: возвращение стране политической стабильности, ведь в жестокой гражданской войне постоянно сталкивались два лагеря. Антиклерикально настроенным либералам, которые хотели конфисковать имущество духовенства, противостояли консерваторы и крупные землевладельцы, относившиеся к церкви с куда большим расположением. В декабре 1860 г. первые захватили власть и занялись созданием «светского государства». При этом некоторые консерваторы иммигрировали в Париж, в Вену или Лондон, чтобы искать поддержку и предложить какому-нибудь европейскому принцу мексиканскую корону, которой будет достаточно, как заверяли они, чтобы он исправил ситуацию. В Париже появилось несколько подобных личностей, они зачастили в Тюильри. Одним из них оказался Хосе Идальго, друг юности Евгении. Она случайно встретила его в 1857 г. в Биаррице. Тот рассказал ей, как мечтал увидеть, что у него на родине восстановили монархию. На следующий год его пригласили в Компьень и предоставили возможность поговорить с императором. Иммигрировавшие мексиканские консерваторы старались создать в Париже партию, оппозиционную по отношению к победившим в Мексике либералам. Наполеон III услышал их мольбы о помощи, но ничего не предпринял. Евгения вскипела.
Она поклялась «водрузить в надежной Мексике знамя веры»[223]. Для императора, не столь чувствительного к вопросам религии, восстановление в Мексике клерикальной власти сильно не волновало. Исключительно для того, чтобы «порадовать» французских католиков, обиженных «римским вопросом», и сделать Мексику сторонницей Франции, Наполеон позволил убедить себя.
Мысль о реставрации католической монархии в Центральной Америке под носом протестантов США императрице нравилась, императору же было приятно, что по ту сторону Атлантики появится монархия европейского происхождения. И когда Англия и Испания вышли из экспедиции устрашения, которая должна была заставить либералов рассчитаться с долгами, французская армия осталась на месте и при помощи подкрепления захватила, хоть и не без усилий, сначала Пуэблу, затем Мехико. Одержав победы, армия Франции могла удалиться. В Париже министры одобряли ее уход. Но в глазах императора и императрицы задача выполнена не была.
Следовало дать монарха стране, отныне вошедшей в зону влияния Франции. Мексиканские иммигранты осаждали императрицу. Кто станет лучшим кандидатом, чем представитель отличающегося набожностью дома Габсбургов, Максимилиан, брат императора Франца Иосифа, муж Шарлотты, дочери бельгийского короля? Наполеон согласился с выбором Евгении: Австрия продемонстрировала благодарность в отношении Франции и пошла навстречу пожеланиям императора, уступив Венето новорожденной Италии.
К сожалению, Мексиканская империя, которая не имела денег, была вынуждена сопротивляться постоянно возобновляющейся партизанской войне. Максимилиан не сумел установить в стране безопасность. Борьба тянулась без конца, поднимали голову либералы, Соединенные Штаты смотрели косо, и на экспедиционный корпус под командованием маршала Базена уходила масса французских финансов. Мексиканская мечта не воплотилась. Она грозила обернуться для Евгении кошмаром, когда она узнала, что Максимилиан, стараясь не выглядеть орудием в руках клерикалов, отказался вернуть духовенству имущество и рассорился с католической партией. Он расстался с самыми верными сторонниками, а Евгения – с иллюзиями.
Бестактность и некомпетентность Максимилиана удручали Наполеона. Евгения разделяла его разочарование. Франция увязла в проблемах Мексики. Пришло время выводить экспедиционный корпус: этого требовали и общественное мнение, и состояние финансов, и Соединенные Штаты. Бросить Мексику означало, и никто этого не отрицал, бросить Максимилиана. Императрица Шарлотта приезжала в Париж умолять о помощи императорскую чету, пытаясь подружиться с Евгенией – все зря. По ту сторону Атлантики Максимилиан закончил свой бесславный путь в 1867 г. перед расстрельной командой. Наполеон и Евгения были в равной мере виноваты в его несчастной судьбе.
Этот страшный либерализм
В 1866 г. дурные вести словно сговорились нагрянуть разом. Все они были в той или иной мере пугающими. Объявив об уходе войск, император признал провал своей мексиканской политики. На международной сцене престиж Франции пострадал, но безопасности страны ничего не угрожало. Проиграв 3 июля пруссакам при Садове, австрийцы поставили себя в опасное положение. Отныне Пруссия стала первой военной державой Европы, и когда она создала под носом Франции Северогерманский союз, целиком и полностью посвященный интересам немцев, та оказалась под серьезной угрозой. С этим могущественным соседом не избежать войны. Так думала Евгения и искала повод скрестить шпаги. Вместе с несколькими министрами, в частности с министром иностранных дел Друэном де Луисом она нажимала на императора, чтобы тот мобилизовал армию против Пруссии и собрал восемьдесят тысяч человек на Рейне. Представится ли случай вовремя остановить эту смертоносную машину?
Император же полагал, что его страна не готова к войне, надеялся договориться с Бисмарком, грозным прусским министром, и создать полезные союзы. В июле 1867 г. с этими мыслями он отправил императрицу к Виктории. Английская королева признала ответственность Пруссии, но посоветовала в настоящий момент выбрать «мир, а не вооружение». Когда же в августе французская чета нанесла визит императору Францу Иосифу и императрице Елизавете, чтобы подтолкнуть их к реваншу, то успеха она не добилась. Наблюдатели отмечали один небольшой, но показательный факт: Сисси согласилась пообщаться с Евгенией в Зальцбурге, но та ушла со встречи, чтобы побеседовать с императорами. Несмотря на то что Франция отступилась от Максимилиана, брата Франца Иосифа, казненного в июне, австрийский император благосклонно смотрел на сближение с Парижем, но тем не менее понимал, что Австрия не поддержит французскую агрессию против Пруссии.
Бисмарк, воодушевленный успехами, с удовольствием принялся унижать Францию. Наполеон III ссылался на принципы европейского равновесия, требуя компенсаций в связи с прусской гегемонией. А также ходатайствовал об аннексии ряда земель на юго-западе Саары либо Люксембурга, фактически представлявшего собой баварский палатинат, либо саму Бельгию. Прусский премьер-министр, казалось, впервые согласен с требованиями Парижа, которые он в шутку называл «чаевыми», но затем было выгоднее официально их не поддержать, надменно отказать в уступке каких-либо германских территорий, предупредить государства, на которые претендовала Франция и изолировать ее в Европе. Бисмарк играл Наполеоном III. Евгения считала его дьяволом.
Скверные это были годы. Успех Всемирной выставки 1867 г., где Евгения устроила торжественную встречу всем коронованным гостям, не сумел скрыть дипломатические неудачи, провал военной реформы[224], пробуждение республиканской оппозиции. Императрица от разочарования перешла к тревоге, уверенная, что оппозиционеры, которым было очень несвойственно спокойствие, использовали с выгодой для себя новые реформы, начатые в январе 1867 г.[225] Евгении не улыбалась мысль о допущении либералов в политику. И ей было приятно найти союзников среди министров, которые как, например, Руэр, оставались верны авторитарной Империи. Тем не менее курс был выбран, и Евгении не удалось его затормозить. При этом кое-кто уже выступал против «партии» или «политики» императрицы, как будто линии императора и его жены в чем-то соперничали.
Более справедливым будет утверждение, что влияние Евгении росло, но свою волю Наполеону она не диктовала. Тем не менее ее воздействие на мужа стало темой меморандума, который Персиньи, бывший министр внутренних дел и старый соратник императора, адресовал своему господину в ноябре 1867 г.
Письмо было конфиденциальным, но больной император попросил жену вскрыть корреспонденцию. И она вслух зачитала ему текст, озаглавленный «О присутствии императрицы на Совете». В начале автор признавал, как многому она научилась на уроках политики своего мужа и как преуспела в понимании самых трудных вопросов. Но, спрашивал министр, не разожгло ли знакомство с государственными делами, которое готовило императрицу к потенциальному регентству, ее личные амбиции? Персиньи возражал против того, что императрица находилась на совете рядом с императором, усматривая в этом «своеобразный раздел власти». Евгения ничего не выигрывала, «вписывая» свое имя в государственные мероприятия. Если те терпели неудачу, то ответственность возлагалась на нее, а если они успешны, то всю славу ей приходилось делить с императором. «И в одном, и в другом случае, – продолжал министр, – престижу Империи наносится вред, поскольку все, в конечном счете, ослабляет ее».
Обвиняемая от таких заключений побледнела[226]. Глубоко уязвленная, она решила впредь никогда не показываться на Совете. Или хотя бы не бывать там регулярно. «Начиная с 1869 г., – пишет Эмиль Оливье, – государыня появлялась на советах лишь периодически». С этого времени после неудачных майских выборов[227] Наполеон III сделал еще несколько либеральных уступок, и режим стал полупарламентским благодаря новым прерогативам, пожалованным Законодательному корпусу. Евгения снова высказала неодобрение. Безрезультатно. Впрочем, ее сторонников заставили уйти со сцены. Снятие министров, разделявших ее неприятие реформ, было словно хлесткая пощечина. Императрица оказалась в изоляции.
По ее мнению, либерализация имперского режима не сулила никаких выгод. Более того, теперь у всеобщего недовольства было больше возможностей для проявления. Новую линию Наполеона III не одобрял никто: самые лояльные по отношению к нему политики называли реформы глупостью, те, кто ностальгически воспоминал авторитарную империю, говорили о преступной слабости, а откровенные оппозиционеры обзывали дрянными. «Мы, – сказала императрица, – словно в осаде; только успеваем закончить одно дело, как начинается другое. Если бы принцу-наследнику было 18, мы бы отреклись от трона».
Консерватизм Евгении имел свои причины. Она боялась увидеть, как ее авторитет ослабнет однажды, когда она будет осуществлять регентство от имени сына. Дело в том, что император болел. Серьезно. Его мучил камень в мочевом пузыре. Боль, как он говорил врачам, мучила его периодами: иногда она отступала, но болезнь была хронической. Расшатанное здоровье не оставляло возможности править страной. В течение 1868 г. Наполеон множество раз был не в состоянии председательствовать на Совете. Умри он, Евгения должна была бы сохранить власть для сына, а вокруг себя она видела только несогласие, враждебность и угрозу. В августе 1868 г. ее потряс один случай. Наследный принц раздавал в Сорбонне призы за студенческий конкурс. Один из лауреатов, сын генерала Кавеньяка, знаменитого оппонента Наполеона III, отказался принять награду из рук императорского сына. Инцидент наделал много шума. Евгения в слезах убеждала себя, что это оскорбление – преддверие грядущих несчастий. Оппозиция заняла слишком много места в империи. Та оказалась под угрозой.
Церемонии открытия Суэцкого канала в октябре – ноябре 1869 г., на которых Евгения председательствовала вместо мужа, дали ей короткую, но счастливую передышку. Возвращение в Париж заставило вспомнить о суровой реальности. Супруга хранителя печати Надин Барош так писала об этом: «Едва императрица вернулась из поездки, как некоторые газеты опять развернули против Ее Величества целую сеть поклепов и отвратительных гадостей, поскольку это уже вошло у них в привычку. Одни выставляли императрицу встревоженной и раздраженной из-за парламентского и либерального движения, которое развернулось в наших институтах; другие приписывали ей необдуманные и нелепые слова о некоторых политических деятелях». Когда 2 января 1870 г. Наполеон III пригласил либерала Эмиля Оливье сформировать министерство, императрица восприняла эту просьбу как личную обиду. Действия мужа остались ей непонятны. Позже она призналась: «Я не понимала, что мог бы решить император этим неприятным нововведением». Видный политик[228] и его сторонники не доверяли императрице, а новое правительство не желало видеть ее на встречах совета. Евгения отказывалась что-то предпринимать и все жаловалась. Тем, кто до сих пор ее поддерживал, она любила отвечать: «Обращайтесь к министрам, мне больше не доверяют».
Либеральные меры, предпринятые императором, казалось, сулили довольно светлое будущее. Эмиль Оливье официально признал их, ратифицировав 20 апреля 1870 г. постановлением Совета. Получилась настоящая конституция либеральной империи, заменившая свою предшественницу 1852 г. Отныне министры отвечали за все происходящее, оставаясь подчиненными императору, а две палаты – Законодательный корпус и Сенат – делили законодательную власть с государем, но всегда имели возможность обратиться к народу при помощи референдума. «Таким образом, – писал Луи Жирар, – от всемогущества ничего не осталось. Главу государства сдерживает парламент, Законодательный корпус – Сенат, обе палаты – народ»[229]. Отредактированная конституция получила широкое одобрение на референдуме 8 мая. Наполеон III ликовал. «Я получил положенное мне число», – сказал он по поводу референдума в декабре 1851 г., когда был учрежден его режим. Династия упрочила свое положение, будущее наследного принца было обеспечено. «Сын мой, – заявил император наследнику, – ты коронован на референдуме». Республиканские оппозиционеры были вынуждены признать: Империя выглядела сильной как никогда.
А тем временем Евгения стремительно переходила от восторга к унынию: здоровье императора каждый день ухудшалось. Он почти перестал садиться на лошадь. Приступы боли в мочевом пузыре смягчал опиум, провоцировавший сонливость и даже долгие периоды бессознательности. Превратившийся в 61 год в развалину, правивший с перерывами Наполеон подумывал об отречении по причине плохого здоровья. Евгения уговаривала его так и поступить. В начале июня она добилась от мужа, что он уйдет на покой в 1874 г., когда наследнику уже исполнилось бы 18. Евгения готовилась к новой роли: императрицы-матери.
Всеобщая война
В первые дни июля 1870 г. в министерских кулуарах и залах редакций, в Ассамблее и в Тюильри, а также на улице только и говорили что об интересах страны, о чести Франции, о том, что политические дела необходимо выполнять «без сомнений и малодушия». По возмущенным и пафосным заявлениям сразу становилось понятно, что ситуация очень тяжела. Кандидатом на испанский престол собирались назначить принца Леопольда Гогенцоллерн-Зигмарингена, приходившегося двоюродным братом королю Пруссии. Почти двумя годами раньше испанцы прогнали свою королеву Изабеллу II и с тех пор искали себе короля. Лишенную трона и бежавшую из страны королеву Евгения приняла в Биаррице, а Наполеон III, размышляя о будущем, прикидывал, кто мог претендовать на мадридский престол так, чтобы он сумел договориться с другими державами. Имя Гогенцоллернов испанцы одобряли. Франция с этим согласиться не могла. Невозможно было представить, чтобы член прусской королевской семьи правил на юге Пиренеев. Между Германией, вставшей на путь объединения, и Испанией, дружащей с Берлином, Франция оказалась, словно, в тисках. Неужели они задумали воскресить империю Карла V?
При помощи умелых маневров Бисмарка стало очевидно, что кандидатура Леопольда являлась окончательной. Новость обнародовали 2 июля 1870 г. В Париже раздался вопль. Францию, говорили все, одурачил прусский министр. Теперь она обязана поквитаться. Уступая всеобщей «истерике», Наполеон III объявил 6 числа, что поддержка спорного претендента приведет к войне. Император, в отличие от остальных, войны не хотел, но понимал, что его трон мог оказаться под угрозой, если осуждение прусской провокации не поддержать бряцаньем оружия.
Евгения не обладала ни его осторожностью, ни трезвостью суждений: вместе со всеми французами она рвалась в бой. Все в ней подталкивало ее к этому: темперамент, жажда взять реванш над австрийским поражением при Садове, желание заставить всех позабыть о мексиканском фиаско, уверенность в том, что империя могла стать крепче благодаря победе, которая отведет либералов на второй план. Как и министры, и депутаты Евгения призывала померяться силой. Министр военных дел маршал Лебёф заверил императрицу, что армия готова, лишь один император сомневался. Евгения читала вышедшие из-под пера журналистов слова о том, что надо «гнать в шею войска с левого берега Рейна», что нельзя убирать шпагу в ножны «и по-дружески обсуждать вопросы, которые можно решить только силой»[230]. «Отступать, идти на мировую нам было нельзя, – заявила Евгения Морису Палеологу в 1906 г., – против нас поднялась бы вся страна!.. Нас уже обвиняли в слабости; до нас дошли страшные слова: «Кандидатура Гогенцоллерна – это назревающая вторая Садова! Боже мой! Само это слово «Садова»!.. Мы не могли бы привести Империю к новой Садове; она бы не выстояла». Раздраженная «прусской наглостью» императрица поставила свой природный пыл на службу чести страны.
Не было необходимости в дальнейших поводах. Несмотря на легенду, Евгения никогда не говорила и не писала, что предполагаемая война станет «ее» войной; это вымысел историков. Уильям Смит свалил на императрицу все обвинения. Отойдя от дел, императрица совершенно отрицала, что когда-то говорила подобные слова. Дипломат, которому она их адресовала, тоже. Виновны в этом измышлении двое: статья в газете «Ля Волонте Насьональ», к которой имел отношение принц Наполеон, и которая была опубликована в 1874 г., через год после того, как умер император (а значит, он не имел возможности ее опровергнуть); и герцог де Грамон, министр иностранных дел, который на совете 14 июля упомянул энергичные речи императрицы[231].
Чтобы понять, что же происходило тогда, необходимо сделать шаг назад. Вильгельма I, который расходился с Бисмарком во взглядах, не впечатлили гордые жесты французов, но он не желал показаться всей Европе разжигателем войны. Король Пруссии дал понять, что желал отвода кандидатуры своего кузена: и его просьбу удовлетворили. Утром 12 июля объявили об отзыве. Войны удалось избежать. Но в Париже общественное мнение накалилось добела, многих эта дипломатическая победа не устроила. Сам Наполеон, знавший, с кем имел дело, опасался «разочарования, которое испытает страна оттого, что не наигралась в ссору с Пруссией». Кроме того, он планировал потребовать у Пруссии «гарантий», т.е. отказа от испанского престола, но не у дома Гогенцоллернов, а у берлинского правительства. Это требование, решение о котором было принято вечером 12 числа, отвечало пожеланиям императрицы и герцога Грамона.
Евгении простого отвода немецкой кандидатуры было недостаточно. Король Пруссии должен был предоставить гарантии, что подобное выдвижение не повторится. Император заперся в Тюильри вместе с женой и министром, чтобы подискутировать и прийти к единому мнению. Ни Эмиля Оливье, ни кого-то из других министров не пригласили. Хотя только совет имел полномочия принять решение о подобном требовании, хворающий император ограничился такой тайной встречей. Императрица, уже полгода не бывавшая на совете, взяла реванш. К мысли о требовании официального отречения, которое было бы так выгодно в будущем, она подтолкнула Грамона (заранее готового уступить) и Наполеона.
Эта просьба о гарантиях стала той ошибкой, которую ждал Бисмарк. Унизительные и чрезмерные требования французов явились прекрасным поводом к войне. Бисмарк поскорее написал в Берлине письмо, оскорбительное по отношению к Франции. Так появилась знаменитая Эмсская депеша, превратившая в дипломатическое оскорбление отказ короля Пруссии вторично принять посла Наполеона III Бенедетти. Она взорвала порох[232]. «На Берлин!» – вскричали толпы перевозбужденных парижан. «Перед вами человек, только что получивший оплеуху», – подлил масла в огонь Грамон.
14 июля прошли один за другим три совета министров. Сталкивались сторонники и противники войны. Одни добивались сбора резервистов, другие – наивно апеллировали к европейскому конгрессу, пытаясь расстроить планы Бисмарка. Третье заседание открылось в Сен-Клу. Туда пригласили Евгению. Вслед за Грамоном она призывала к войне, как того требовала честь страны. То была уже не «фея в шифоне», а вещающий Марс в кринолине. Но Эмиль Оливье, недоброжелательно настроенный в отношении Евгении, свидетельствовал о другом: «Одна императрица слушала, не произнося ни слова». Трудно поверить, что Евгения молчала, ведь сам Оливье рассказывал, что она продвигала идею европейского конгресса, приводя очень разумные доводы: «Я сомневаюсь, что это даст ответ на чувства парламента и страны». Этот поспешный дипломатический шаг в конечном счете дискредитировал императора и Францию. Евгения, как и Наполеон, чувствовала необходимость войны. Слов, которые ошибочно приписывают императрице: «Эта война – моя война», – она никогда не произносила. Решая вступить в войну, императорская чета, как и единодушные министры, ограничивалась тем, что подчинялась воле страны. Война против Пруссии была всеобщей войной[233].
Третье регентство
Проголосовав за военный бюджет, Франция 19 июля объявила войну Пруссии. Наполеон, плохой стратег, тут же принял на себя верховное командование армией. Евгения очень старательно его к этому подтягивала. Того требовали престиж имени и интересы династии. При этом император еле ходил. Как он будет держаться на лошади? «Этого человека вы отправляете на войну?» – спросила принцесса Матильда у императрицы. И заметила Наполеону: «Вы не выносите даже тряску экипажа. Что вы будете делать в бою?» Евгения тут же заподозрила ее в самых черных замыслах: ради принца Наполеона – Плон-Плона – она рассчитывает, что ее муж погибнет на войне, открыв ему тем самым дорогу к власти. Но ей не удалось никого заставить поверить в такие крайние суждения. В конце июля император поручил Евгении провести инспекцию флота в Шербурге, и 28 числа Наполеон вместе с сыном покинули Сен-Клу, чтобы завоевывать Мец. Отъезд государя сделал Евгению регентшей в третий раз.
Разница между ее первым аналогичным опытом и нынешней ситуацией была огромной. В 1859 г. императрица приняла власть, делегированную ей монархом, который обладал единоличной властью, согласно конституции авторитарной империи. С апреля 1870 г. режим стал полупарламентским, и полномочия регентши были ограничены. Власть теперь держали в руках министры. 26 июля накануне отъезда император уточнил в официальных письмах, что все приказы и распоряжения необходимо доводить до сведения министров, и «ни при каких условиях императрица не [может] уклоняться от взаимодействия с ними на протяжении своего регентства».
Таким образом, Евгения снова ведала управлением текущими делами и имела право «выносить постановления по обычным административным делам». Зато «во всем, что не имеет официального или большого значения, – уточнялось в тексте, – нам направляет для нашего рассмотрения хранитель печати» (т.е. министр Эмиль Оливье). Передача власти императрице была тщательно расписана. Она не имела никакой возможности принимать решения, что служило ограничителем ее регентских полномочий. Трагические обстоятельства войны вынудили пересмотреть предпринятые императором предосторожности и положительно сказались на авторитете Евгении.
Когда Наполеон приехал в Лотарингию, в глаза ему бросилась нерадивость армии. Он тут же написал жене: «Ничего не готово. У нас нет достаточного количества войска. Я заранее считаю нас проигравшими». И он оказался прав: последствия не заставили себя ждать. С первых же столкновений войска стали терпеть одно поражение за другим. Висамбург – 4 августа, Верт и Форбак – 6 августа развернули их перед прусской армией, несмотря на героические действия кавалерии. Эльзас был утерян, маршал Базен заперся в Меце, Мак-Магон отступил до самых Нанси и Шалона. От выступающего главнокомандующим армии императора осталась только тень: ему приходилось красить лицо румянами, иначе его бледность пугала окружающих, и увеличивать дозы опиума, чтобы заглушить нестерпимую боль, которая мучила его помногу раз в день.
Не стоило ли ему возвратиться в Париж и закрыть столицу тем, что осталось от армии? Принц Наполеон и еще несколько генералов пытались добиться этого, забрасывая Евгению телеграммами. Но регентша не желала ничего слышать. «И не думайте возвращаться, – написала она мужу, – если не хотите вызвать ужасную революцию. Здесь скажут, что вы покинули армию, потому что сбежали от опасности». Несговорчивая Евгения? Главная защитница чести династии? На самом деле не она одна отказывалась видеть вернувшегося императора. На Совете многие из министров возражали против его приезда, надеясь, что победа не за горами: оставшись на месте, монарх получал возможность укрепить свою славу.
Императрица перестала быть в положении «одна против всех», когда 9 августа министр Оливье, которого считали виновным в катастрофе, был низложен Законодательным корпусом. Эжен Руэн, Жером Давид и Клеман Дювернуа, злейшие враги хранителя печати, обвинявшие его в том, что он некачественно подготовил армию к войне («Пруссия была готова, а мы нет») выступили инициаторами этого свержения. Регентша одержала реванш над теми, кто олицетворял либеральную империю. Императрица доверила руководство правительством генералу Кузен-Монтабану, графу де Паликао (74 лет). Он ассоциировался у нее с авторитарной империей, о которой она с ностальгией вспоминала. Действуя таким образом, Евгения узурпировала власть, которую грамоты короля ей не давали, и незаконно присваивала прерогативы, принадлежавшие исключительно императору. А тот сказал горькие слова: «Правда в том, что меня гонят. Я не нужен в армии, я не нужен в Париже». И когда регентша помешала маршалу Лебёфу уступить Безану функцию начальника штаба рейнской армии, Наполеон III разочарованно произнес: «Нас двоих разжаловали». 9 августа 1870 г. императора действительно лишили всех гражданских и военных полномочий. Он теперь стал просто «праздным королем»[234]. Из двух супругов отныне всем распоряжалась Евгения.
17 августа снова заговорили о возвращении императора в Париж. Евгения опять запротестовала. Как всегда, она считала, что так император оставит впечатление, будто бросил свои проигравшие войска, а его приезд рассердил бы абсолютно всех. «Представьте, – писала она, – императора в этом дворце. Это же западня, куда ловят правителей! Где он окажется? Вообразите, как на него нападают, объединившись, все, кто ненавидит его. Одно из двух: либо армия встанет на его сторону и тогда начнется гражданская война между нею и вооруженными парижанами, либо она уйдет, и тогда будет революция, резня. В обоих случаях кто выигрывает? Пруссаки».
В это трагическое время Евгения оставалась твердой и убежденной, что все еще возможно полностью изменить военную ситуацию. Граф де Паликао спрашивал: «Разве нельзя совершить мощный отвлекающий маневр в отношении прусских войск, уже изнуренных многочисленными сражениями? Императрица разделяет мое мнение». Отправить Мак-Магона из Шалона на помощь к Базену и снять блокаду с Меца – было отважным планом, но нереалистичным, поскольку армия была ослаблена. Куда выгоднее прикрыть Париж. Но Паликао и Евгения не хотели ничего слышать. Несмотря на их желания, прусские войска заставили армию Мак-Магона отступить на запад и остановиться в Седане, а там враг взял ее в кольцо 31 августа.
В течение трех дней регентша не получала известий о военных операциях. В Париже ее отвага восхищала близких. Мериме писал: «Я дважды видел императрицу перед лицом наших несчастий. Она тверда как скала. Она говорила мне, что не чувствует усталости. Если бы все обладали ее храбростью, наша страна была бы спасена»[235]. Несмотря на всеобщие восторги, авторитет императрицы не остановил ни прусские армии, ни недовольство парижан имперским режимом. Вечером 3 сентября пришло грозное известие: два дня назад в Седане император и его армия капитулировали и теперь находились в плену. Наполеон III, тщетно искавший смерть на поле битвы, пожелал остановить мясорубку и развернул над крепостью белый флаг. Но он не стал начинать с пруссаками мирные переговоры, переложив эту задачу на регентшу и правительство, а также отказался отречься от престола, согласившись только приостановить свою императорскую деятельность[236]. Из замка Бельвю, что неподалеку от бельгийской границы, куда Наполеона препроводили под надежной охраной, он написал Евгении: «Я не могу сказать тебе, что я вытерпел и что терплю… Я бы предпочел скорее умереть, нежели быть свидетелем столь катастрофической капитуляции… Я думаю о тебе, о нашем сыне, о нашей несчастной стране… Что случится в Париже?»[237] Разбитый и физически, и морально, побежденный и униженный Наполеон догадывался, что империи осталось жить всего несколько часов.
В Париже, вечером 3 числа, после получения печальной депеши из Седана потрясенная Евгения председательствовала на совете министров в Тюильри. Поначалу она отказывалась верить в случившееся и была на грани нервного срыва: «Нет, император не капитулировал. Наполеон не капитулирует. Он погиб! … От меня хотят это скрыть… Почему он не лишился жизни?… Он еще не понял, как он опозорен?»[238] Потом императрица взяла себя в руки и приняла министров. Что ей оставалось, кроме как взывать к патриотизму каждого из собравшихся, при том, что на улицах столицы закипало возмущение?
На следующий день в воскресенье она в 8 часов собрала новый Совет. Что делать? Создать регентский совет и дать ему диктаторские полномочия, а руководить им будет императрица? Законодательный корпус возражал. Уступить регентство исполнительной комиссии, избранной Ассамблеей? Отречься? Евгения, получившая власть от императора, отрезала: «Я могу отдать ее только тому, кто доверил мне ее законное применение». Не следовало отречением забирать хоть малейший шанс на престол для сына Евгении и Наполеона взойти на престол. Заседание закончили, так ничего и не решив. Руэр сказал в заключение: «Ничего другого делать не остается. Завтра революция!»
И после полудня с криками «Лишить прав!» толпа мятежников ворвалась в Ассамблею. Гамбетта объявил о низложении династии, и в Отель-де-Виль провозгласили республику. Уставшая Евгения решила бежать из Тюильри в Англию.
В изгнании
Из Бельвю Наполеона перевели через Бельгию во дворец Вильгельмсхёэ, что в Касселе, который король Вильгельм забрал в свое распоряжение, не забывая, при этом, что когда-то здесь была одна из резиденций Жерома Бонапарта. Удобные апартаменты, прекрасный стол, большой парк – все было сделано для того, чтобы обеспечить удобное пребывание низложенного императора. Обессиленный и подавленный Наполеон, поначалу был не склонен отдать должное внимательности своего победителя. Он до сих пор не знал, где находился его сын и, что произошло с его женой. Но вскоре письма Евгении помогли ему справиться с горем. Испытания заставили позабыть о былых ссорах. Евгения больше не заявляла, что смерть императора лучше, чем его позор: страдания императора растопили ее сердце, настал час примирения. Супруги обменивались нежными словами, которые они считали давно забытыми. «Скажи, – просил Наполеон, – что для меня в твоем сердце всегда найдется немного места». «Высокое положение осталось в прошлом, – отвечала Евгения, – и не осталось больше ничего, что разделяло бы нас. Мы едины, как никогда… Подумаем о времени, когда мы вернемся друг к другу». В этом возвращении любви было и взаимное уважение. Императрица теперь понимала, что ее муж капитулировал при Седане не из трусости, а для того, чтобы избежать бессмысленной бойни. А Наполеон знал, какое мужество проявила Евгения в Париже, узнав о поражении. 30 октября короткий 24-часовой и скромный визит императрицы к мужу скрепил их новые чувства.
Осень 1870 г. и последующая зима казались бесконечными императору, разлученному с Евгенией, которая уехала в Англию. Начатая 19 сентября 1870 г. осада прусской армией Парижа все тянулась, каждый день вражеская артиллерия бомбила жителей столицы, которым из-за недостатка продовольствия приходилось питаться мясом собак, кошек и крыс. Наполеону принесли удручающую весть: 27 октября в Меце Базен позорно капитулировал с армией, которая была в прекрасном состоянии. Ни одно из войск, собранных в провинции, не сумело подойти к столице. Еще один признак французского поражения: 18 января 1871 г. в зеркальной галерее Версаля родилась новая немецкая империя. 28 января временное правительство Республики, находившееся в Париже, было вынуждено попросить о перемирии, которое положило конец военным действиям. 30 числа Париж капитулировал. Палата, избранная и собравшаяся в Бордо, назначила 16 февраля Тьера главой исполнительной власти и 1 марта проголосовала за низложение Наполеона III и его династии.
У Вильгельма I больше не оставалось причин держать пленника, побежденного при Седане. 19 марта Наполеон получил свободу и уехал в эту самую Англию, гостей из которой он так часто принимал. Он воссоединился с женой и сыном, и все втроем устроились в небольшом загородном особняке в Кенте, носившем название Кэмден-Плейс и стоявшем в центре деревни Числхерст, что в тридцати километрах от Лондона. Семья с нетерпением ждала новостей из Франции, но немногие из них приносили радость: изгнанникам стало, среди прочего, известно о смерти их старого друга Проспера Мериме, о кровавых событиях Коммуны, о подписании 10 мая Франкфуртского мира, когда от Франции отрезали Эльзас-Мозель. Конечно, несколько верных людей приезжали проведать низложенных правителей; бывали у Наполеона и Евгении и знатные гости, например, королева Виктория, как всегда восхищавшаяся красотой Евгении, которая, как она признавала, немного побледнела и увяла. Здоровье Наполеона, казалось, пошло на лад и позволяло ему тратить чернила и бумагу на самые разные темы. Вынужденный отъезд, среди прочего, дал возможность вновь ставшей гармоничной чете заняться образованием наследного принца. А тем временем, несмотря на короткую и яркую ремиссию, камень в мочевом пузыре опять жестоко терзал Наполеона. Французские и английские медики, приглашенные к постели больного, заключили, что необходима операция, которую до настоящего момента удавалось откладывать. Две операции закончились неудачно. Третьей попытки осуществить не удалось, состояние императора резко пошло на спад. Утром 9 января 1873 г. Наполеон скончался.
Евгения пережила мужа почти на полвека. Она ушла из жизни 11 июля 1920 г. в своем имении Фарнборо в Гемпшире, пережив Первую мировую войну, когда в ноябре 1918 г. она стала свидетельницей реванша за Седан. Ей было 94 года. Это долгожительство, помноженное на свойственное ей чувство собственного достоинства и горечь, оттого что она потеряла сына, носившего английскую форму – в 1879 г. его застрелил зулус[239] – сделали ее идейной вдохновительницей бонапартизма и помогли избежать сурового приговора истории.
Политика, заменившая любовь
Евгения талантливо руководила Двором в Тюильри, великолепно играла роль императрицы, постоянно исполняя необходимые представительские функции. Когда она принимала гостей в Париже или сама наносила визиты, ее ценили, ей восхищались, ее уважали. Она дала империи наследника. Она сделала много хорошего для тех, кого обидела судьба. Выполняя эти многочисленные и благородные обязанности, она непринужденно освоила манеры жены главы государства. Но в отличие от предшественниц, Евгения не считала, что политикой должен заниматься один монарх. Наполеон III наделил ее властью и, действуя в установленных им рамках, Евгения пользовалась ею.
Мнимое легкомыслие императрицы, казавшееся неисправимым, не помешало ей войти в политику. Ничто не обязывало Наполеона III отводить жене постоянное место в государственной верхушке. Подобных прецедентов в его роду не было: сорока годами ранее Наполеон I не доверил Марие Луизе – равнодушной к политическим вопросам – «полурегентство», когда ему было необходимо уехать в Германию в марте 1813 г., а затем в январе 1814 г. Но в конце катастрофической кампании во Франции регентский совет не сумел организовать сопротивление, и безвольную и безучастную Марию Луизу отправили в Блуа. Ни на острове Эльба, ни во время «Ста дней»[240] она не ездила к мужу, которого попыталась забыть в объятиях графа де Нейпперга.
Для Наполеона III Евгения была незаменима. Он признавал ее ум и здравомыслие, хвалил то, как она ими пользовалась, и, хотя иногда ругал за неуместную импульсивность, она пользовалась его доверием. Власть императрице не полагалась. Она доставалась ей не только оттого, что император был убежден в талантах жены. Причина тому иная. Император, как мы уже говорили, был неверным мужем. Его «маленькие развлечения» стоили ему нескольких неприятных семейных сцен и становились причиной регулярных отлучек императрицы, напоминавших бегство и временами сопровождавшихся угрозой развода. Стремление сохранить брак, не отказываясь от альковных удовольствий, подтолкнуло императора к тому, чтобы поделиться с женщиной, с которой он больше не делил ложе, полномочиями, сначала протокольными, а затем политическими. Угадав, как жена жаждала власти, Наполеон дал ее Евгении взамен любви. Обманутая супруга нашла утешение в исполнении новой роли. Хроническая болезнь Наполеона III, состарившая его преждевременно, довершила остальное.
Очарование и красота Евгении сделали ее самой неотразимой из посланниц. Желание содействовать мужу привело ее на дороги власти, открытые ей императором. Так окружение Евгении стало более плотным: и в Тюильри, и в Сен-Клу фрейлины в широченных кринолинах нередко «перемежались» с честолюбивыми министрами и серьезными дипломатами, ищущими аудиенции. Казалось, что дамы с милейшей картины Винтерхальтера вдруг посерьезнели.
Евгения много раз испытывала искушение оставить след в государственных делах. В ретроспективе кажется, что ей не везло. В Италии, идущей по пути к объединению, она желала сохранить светскую власть папы, в Мексике собиралась поставить императора-католика. Во Франции она старалась замедлить эволюцию империи в сторону либерального режима, который ее пугал, и она находила его опасным для будущего династии. В 1870 г. она выступила за войну против Пруссии, которую требовало общественное мнение, а потом, когда было объявлено о поражении, стала судорожно хвататься за надежду сохранить власть для сына.
Трижды Евгения была регентшей в отсутствие мужа. Поначалу она совсем не разбиралась в общественной жизни, а потом превратилась в женщину-политика, известную своими подчас категоричными мнениями, предвзятыми суждениями, бестактностью. При этом в ее действиях трудно понять, где за ними стояло решение императора, где Евгения действовала независимо. Иногда она на свой лад анализировала события того времени, придумывала решения, отличные от тех, что выносило правительство, занималась делами, которые муж предпочитал игнорировать. Евгения никогда не вела личной линии или параллельной дипломатии, не имела теневого кабинета, не собирала собственных кружков или тайных партий.
Консерватизм, к которому она причисляла себя, не противоречил либеральным реформам. Религиозная вера Евгении, доходившая до ханжества, по словам противников императрицы, могла служить католикам и ультрамонтанам. Императрице пришлось тем не менее смириться с трагическим исходом мексиканской авантюры, а также выводом экспедиционного корпуса из Рима. Волей-неволей Евгении приходилось соглашаться со взглядами мужа и принимать его выбор. Конечно, консервативные католики и сторонники автократической империи находили в ее лице благодарного слушателя. Она помогала им, передавая императору их пожелания и временами пытаясь их отстаивать, но она никогда не шла против власти мужа – ни явно, ни тайно. Наполеон III мог не бояться ни мнимой личной политики Евгении, ни каких бы то ни было партий императрицы.
Франц Иосиф и Елизавета Австрийская (1854–1898) Два одиночества
«Если дела императора в Италии пойдут плохо, я огорчусь. Но если то же самое случится в Венгрии, это меня убьет».
Елизавета АвстрийскаяМожно ли представить, чтобы Сиси, императрица из волшебной сказки, играла какую-то политическую роль? Красота и элегантность супруги Франца Иосифа поражали практически всех. Она обожала вальсы Штрауса и венские пирожные. Каким далеким этот образ казался от сложных дебатов по национальным вопросам, которые составляли ежедневную головную боль императора на протяжении его долгого правления. Из народной памяти, связанной с судьбой Елизаветы Австрийской, словно совершенно стерлось все, что имело отношение к политической деятельности. Характер Сиси заставлял ее избегать роскоши и бремени власти, а кочевая жизнь казалась несовместимой с регулярным исполнением обязанностей правителя. Елизавета имела множество увлечений, но интерес к власти был ей, судя по всему, чужд. «Я ничего не смыслю в политике», – любила повторять она. Тем не менее когда в 1876 г., где-то в середине своего правления, Елизавета объявила: «Я не буду больше вмешиваться в политику». Видимо, этот интерес то появлялся в ней, то исчезал[241].
Елизавете (1837–1898) не было и 17 лет, когда 24 апреля 1854 г. она стала женой Франца Иосифа (1830–1916), который был на 7 лет ее старше. Она еще вчера беспечно жила в Мюнхене и в фамильном поместье Поссенхофене на берегу озера Штарнберг, где ее семья проводила лето, а Франц Иосиф, уже 6 лет как занимал пост императора Австрии и правил огромной территорией с 35 миллионами подданных, представлявшими одиннадцать народов. Этот брак, как бы непривычно это не было для правящего дома, заключили по любви. Сиси нашла принца очаровательным, он покорил ее девичье воображение. «Как можно не любить его?» – повторяла она с юношеской искренностью, когда ее спрашивали, что она чувствовала. Франца Иосифа мгновенно покорила многообещающая красота Елизаветы, ее непосредственность и свежесть: «Как мила Сиси!»
Радость Елизаветы от того, что на нее обратил внимание симпатичный монарх, тут же накрыла волна тревоги. «Я так люблю императора, – шептала она, – вот только не был бы он императором». Сиси хотелось жить в романтической любви, простой и поэтичной, под сенью внешнего мира, в свободе от условностей. Характером она напоминала своего отца Максимилиана, герцога Баварии[242], страстного путешественника, жизнелюбца, интересующегося почти всем за исключением политики. Он был равнодушен к жене, которая все же родила ему восьмерых детей. Сиси, выросла, не зная притеснения, как и отец она любила свободу и природу. Приехав к венскому двору, девушка словно угодила в тюрьму.
Молодая женщина была далека от этикета; она не понимала его секретов, не знала, что и как. Она показала себя упрямицей, сначала по незнанию, затем из эпатажа. В Вене действительно порядок, имевший испанское происхождение, ставил слишком много рамок. Видимо, он показался нестерпимым бременем для молодой женщины, которая доселе росла, не зная излишней дисциплины. Елизавета с первых же дней получила суровый опыт. Принцесса, а затем императрица не подбирала сама себе свиту: все решал протокол, а в Хофбурге у протокола было суровое лицо эрцгерцогини Софии, матери императора. У этикета и императорского авторитета не было большей почитательницы и защитницы.
Матери Франц Иосиф был обязан престолом: именно она убедила мужа, который должен был получить корону, отказаться от нее в его пользу в 1848 г. Полный признательности юный 18-летний монарх, имевший пока мало опыта, но осознававший свой долг, был почтительным сыном. Эрцгерцогиня, прозванная в народе «нашей настоящей императрицей», совершенно свободно руководила Францем Иосифом. Она была целиком и полностью на стороне абсолютной власти и не принимала парламентской системы или полного либерализма. Когда Елизавета приехала в Вену, свекровь не только не утратила рычаги влияния, но и поняла, как со временем «довести до совершенства» императрицу.
До настоящего момента Сиси наслаждалась свободой во всем, а тут обнаружила, что ее жизнь должна была быть навсегда подчинена жесткой программе. «Маленькая дикарка из Поссенхофена» любила простой уклад и невинные развлечения? Отныне ей пришлось привыкнуть к требованиям имперского звания. Ей были чужды показные обычаи. Они составляли суть венского двора и оттого считались непреложными. Эрцгерцогиня София, привыкшая, что все ей подчинялись, обращалась с юной императрицей как с несмышленышем. Сиси была обязана подчиняться здешнему укладу жизни и не преминула обнаружить, что ее первая фрейлина, чопорная графиня Эстергази, урожденная принцесса Лихтенштейн, служила доносчицей у ее свекрови.
Одеяния императрицы были очень тяжелы, титул налагал массу ограничений, за девушкой неустанно следили. «Эрцгерцогиня София, – написала Сиси о свекрови, – без сомнения, вооружена лучшими намерениями, но у нее очень утомительные привычки, резкие манеры… до того она желает всем руководить». Мать императора, изо всех сил заботившаяся об императорском престиже, злилась, когда она видела, что сноха не достаточно ревностно относилась к обязанностям правительницы, и возмущалась оттого, что та считала их тяжелой ношей.
У этих двух женщин разногласия превращались в ссоры, поначалу тихие, но потом они переросли в конфликты, которые вскоре стали дикими, особенно после рождения у императорской четы первых двух детей, Софии (1855) и Гизелы (1856), которых эрцгерцогиня тут же забрала у матери и поселила в апартаментах по соседству с ее собственными. Она в одиночку решала, кого взять в гувернантки. Например, внуку Рудольфу, родившемуся в 1858 г., она навязала воспитателя, которому дала инструкции применять к наследному принцу самые суровые и даже самые жестокие методы. «Я этого больше не потерплю. Или Гондрекурт [так звали воспитателя-тирана] или я», – поставила Елизавета ультиматум мужу. Франц Иосиф уступил лишь однажды, отдав предпочтение воле жены, а не матери.
У Сиси, разлученной с родными, лишенной ежедневного общества собственных детей, с болью наблюдающей, как муж чрезмерно погружен в дела, не было никого, с кем можно было поделиться своей горечью. Она была постоянно вынуждена показываться на публике, ненавидела официальные приемы, а придворный жизненный уклад и общество внушали ей ужас. К политике Сиси была равнодушна, и императору даже не приходило в голову попробовать ее заинтересовать. Когда Крымская война (1853–1856) затронула Австрию, Франц Иосиф обсуждал ее с матерью, а не с женой. В другой раз, уехав на север Италии, чтобы сражаться с французскими войсками в Мадженте и Сольферино (1859), перед ним ни на секунду не встал вопрос о том, чтобы передать бразды правления императрице: правила эрцгерцогиня. Сиси в первые годы была кроткая и неуверенная в себе. Страдала она поначалу молча. А потом осмелилась взбунтоваться против свекрови.
Со временем отношения между супругами охладели, а здоровье Елизаветы ухудшилось – постоянный кашель, приступы лихорадки, анемия, нервозность, – но продолжительный отдых на Мадейре в ноябре 1860 г. ее словно излечил. Так начались бесконечные скитания, которые отрывали императрицу от Венского двора, от Франца Иосифа и все больше и больше отдаляли ее от детей. Сиси бежала в места с хорошим климатом, вроде Корфу или Лазурного берега или на курорты, например, Бад-Киссинген или Зандворт в Голландии, чередуя такие поездки с возвращениями в Вену, где к ней возвращался кашель. Поездки в Поссенхофен напоминали Сиси о детстве и теплоте семейного очага. Путешествуя в Англию, Нормандию или Ирландию, она развлекалась рискованной охотой и конным спортом. Ее азарт выматывал даже самых опытных наездников.
В этих забавах Сиси совершенно не знала меры. Плевать она хотела на усталость и опасность, когда сказочной амазонкой самозабвенно перепрыгивала через опасные препятствия или отправлялась на шестичасовые прогулки. Кроме того, она целыми днями занималась фехтованием и гимнастикой, купалась в море. Императрица всем увлекалась слишком сильно. Любовь к одиночеству и неприятие придворной жизни увлекали ее в бесконечное бегство. «Елизавете хотелось все путешествовать да путешествовать, – написала королева Румынии, – мир не утолит ее жажду новых горизонтов». При этом «императрица-паровоз», как прозвали Сиси, практически полностью игнорировала свои обязанности жены правителя. Франц Иосиф был вынужден самостоятельно исполнять представительские функции, поскольку Сиси все больше от них отдалялась. В итоге простые жители Вены, долгое время проявлявшие большую терпимость, нежели аристократия, стали упрекать ее не только в уходе из общества, но и в том, что она круглый год старалась держаться подальше от Империи. Наконец, с возрастом императрицей овладели печаль и разочарование – их временами подслащивало новое увлечение, столь же пылкое, сколь проходящее. Подобное существование, где царили вечное бегство и правила бал депрессия, оставляло мало места для желания выйти на политическую сцену. Неужели императрица, которой владели такие бурные страсти, ни разу не захотела вмешаться в государственные дела? «Я питаю слишком мало уважения к политике, – заявила она в конце жизни. – Политики думают, что они управляют событиями, но на самом деле события застигают их врасплох».
Императрица без влияния
В первые годы брака придворные считали Сиси не более чем очаровательной девочкой, невежественной и дикой. Подготовка ее к исполнению новой протокольной роли стала первостепенной задачей для эрцгерцогини Софии. Никому не приходило в голову, что девушка могла обладать малейшим авторитетом или вмешиваться в политику. Супружеской любви, воплотившейся в рождении первого ребенка, должно было хватить Елизавете для счастья. И в Вене, и в остальных городах от юной императрицы ждали, что она будет председательствовать на публичных церемониях и заниматься благотворительностью. Когда Франц Иосиф направил войска в Италию в 1859 г., его жена почувствовала себя такой одинокой, что стала изводить мужа письмами с просьбами позволить ей приехать к нему. Император, захваченный военными операциями, отказал ей и напомнил о ее долге: «Ты должна оставаться на своем посту, где в эти трудные времена ты можешь так сильно помочь нам, находясь с детьми… Иногда появляйся в городе, бывай в разных учреждениях. Ты не знаешь, до какой степени ты можешь помочь мне таким образом». Елизавета должна была поднимать моральный дух венцев, а император и его мать – посвящать себя благородному и суровому делу заботы о государстве.
Строго следившая за каждым неверным шагом снохи в протокольной сфере эрцгерцогиня София не видела в Сиси политической соперницы. Конечно, время от времени Елизавета по легкомыслию кое в чем проговаривалась. В ноябре 1856 г. во время официальной поездки в Северную Италию, принадлежавшую тогда австрийской династии, враждебное отношение венцев к императорской чете подсказало ей обратиться к непокорным подданным со словами о прощении и терпимости. Отныне по воспитанию и характеру Елизавета все больше склонялась к либеральным мерам. О своих убеждениях она иногда говорила тихо, а иногда с насмешкой защищала их ради удовольствия поперечить свекрови.
Но в 1859 г. поражения австрийцев перед франко-сардинскими армиями обозначили провал авторитарной политики, проводимой эрцгерцогиней. Так стало очевидным, что она способна ошибаться, а ее мнимое превосходство сильно преувеличено. Елизавета ненавязчиво изложила императору несколько мыслей по поводу Венето и предложила проверить ее соображения. Франц Иосиф позже не отнес на ее счет последовавшее волнение в правительстве, но отозвал верных эрцгерцогине министров. Это означало: мать императора утратила влияние, зато Елизавета уверенно шагнула в мир политики.
Из Сиси не вышло серого кардинала. Когда в мае 1860 г. ее сестру Марию и Франциска II Бурбонского, короля Двух Сицилий прогнали с трона Гарибальди вместе с краснорубашечниками, Елизавета призвала Франца Иосифа прийти к ним на помощь. Финансовое и военное положение австрийской монархии не позволяло кому-то помогать. Император проявил себя большим стратегом, нежели его супруга: он, хотя сочувствовал низложенным королевским особам, остался глух к настойчивым просьбам жены и отказался вмешиваться. Нервозность Сиси усилилась.
В начале царствования Елизавета никак не проявляла интерес к Венгрии. Первый официальный визит императорской четы состоялся в Богемию и Моравию, принадлежавшие Австрии. Император выразил признательность территориям, сохранившим ему верность (город Ольмюц в свое время принял императорскую семью, спасавшуюся от восстания в Вене), которые стремительно объединились под его властью во время революционных событий 1848 г., несмотря на то что венгерские радикалы требовали тогда независимости страны и свержения Габсбургов. Первым языком, который пришлось учить императрице, стал чешский, но она совершенно не интересовалась им и постаралась как можно скорее забросить. Поскольку влиятельные семьи, задававшие тон при Венском дворе и критиковавшие манеры молоденькой императрицы, принадлежали к чешской аристократии, Сиси за всю свою долгую жизнь ни разу не проявила ни капли нежности в отношении богемской знати.
«Моя любимая Венгрия»
Первое путешествие императорской четы в Венгрию в апреле 1857 г. имело целью расположить к себе принимающую сторону. Венское правительство рассчитывало, что красота и обаяние императрицы посодействуют осуществлению цели визита. Сдержанно настроенные в отношении Франца Иосифа венгры, узнав о несовпадении взглядов между императрицей и эрцгерцогиней, встретили его жену с куда большей теплотой. Аристократы-магнаты еще продолжали посматривать свысока, но простой народ был покорен, когда увидел, как Елизавета расплакалась, получив в Будапеште известие о смерти 2-летней дочери Их Величеств. Когда Франц Иосиф позволил тем, кто бежал от революции 1848 г., вернуться на родину, общественное мнение тут же списало его великодушие на счет Елизаветы.
Даже после разгрома революции и последовавших жестоких репрессий Венгрия оставалась провинцией, не желавшей покоряться авторитарной власти Габсбургов. Франц Иосиф установил в стране «неоабсолютизм», продемонстрировав пренебрежительность по отношению к древним традициям Венгрии и презрение к ее законам. Свинцовые оковы были одеты на страну, но мадьяры, живо помнившие войну за независимость, продолжали пассивное сопротивление и упрямо ненавидели австрийскую династию.
За десять лет настроения изменились. Поначалу в Венгрии, где усиливался курс умеренной политики, который вытеснял считавшуюся недостижимой мечту о независимости, были готовы принять новую модель отношений с Австрией. Затем присоединилась и Вена. Императорские неудачи в Ломбардии и особенно в Венето, словно говорившие о внутреннем недовольстве монархией, подводили правительство к пересмотру венгерского вопроса. Потеря Северной Италии, западного рубежа империи, вынуждала Франца Иосифа реорганизовать свои владения в восточном направлении, в Венгерском королевстве. Хотя император не был склонен к либерализму, неудачи настоящего и неуверенность в будущем подталкивали его, почти вопреки собственной воле, к некому подобию конституционного режима, не лишенного противоречий. «У нас будет, – провозгласил он, – немного парламентаризма, но власть останется в моих руках, и все будет как следует приведено в соответствие к австрийским реалиям».
Добросердечие Елизаветы очень рано привело ее к либеральным взглядам. Поскольку эрцгерцогиня София и Венский двор видели в венграх только «банду бунтовщиков», императрица чувствовала, как ее влекло к их лагерю. Она даже осмелилась возразить против репрессий 1849 г. Сиси была довольна своим выпадом против свекрови и ее окружения, ее притягивала романтика венгерских событий, ей льстило, что герои этой страны видели в ней свою союзницу.
Она так мало знала о Венгрии! Франц Иосиф, сообщавший все сведения исключительно матери, ничего не рассказывал жене. Даже вдали от Вены, во время первого отдыха на Мадейре, та жаловалась на это. Тогда Елизавета решила, со всем пылом новообращенного, что обязательно познакомится и с языком, и с историей, и с литературой этой страны. В юношестве она узнала от родителей кое-какие обрывки венгерской истории. Наставник Елизаветы, пожилой граф Майлат даже рассказывал ей о старой конституции этой страны, упраздненной в 1849 г. Став императрицей, она решила, когда в феврале 1863 г. отдыхала на Корфу, всерьез взяться за учебу. Хотя за свою долгую жизнь Елизавета меняла увлечения так же часто, как место проживания, именно этому занятию она усердно предавалась.
Для начала вместе с преподавателем набрать словарный запас, освоить грамматику, попытаться заговорить – хотя бы с горничными с венгерскими корнями. Несмотря на трудности, старание Елизаветы было вознаграждено: она делала стремительные успехи. Изучение языка самым естественным образом привело к знакомству с литературой, особенно поэзией. Ее Величеству было мало учебников. Обучение требовало человеческого общения. Елизавета нашла себе компаньонку-венгерку. Иду Ференци представили ей в ноябре 1864 г. Она оставалась на службе у императрицы до самой ее смерти. 23-летняя девушка, дочь деревенского дворянина не принадлежала к магнатской верхушке. Иде не дали звания придворной дамы, и ей пришлось довольствоваться положением учительницы. Она была всей душой предана своей хозяйке и стала ее доверенным лицом – верная, скромная, незаменимая.
Она в совершенстве научила Сиси венгерскому и разговаривала с ней целыми часами – обе дамы были совершенно уверены, что окружающие их не понимали. Иду выбрали не случайно: к ее личным качествам прибавлялись хорошие отношения с умеренными венгерскими патриотами, например, с Ференцем Деаком или графом Дьюлой Андраши. С ее помощью они могли общаться с Елизаветой и просили ее выступить в их защиту. 62-летний адвокат Деак уважаемый либерал и враг радикализма желал отделения Венгрии от Австрии. Он был готов к переговорам с императором и сообщил в статье, опубликованной на Пасху 1865 г. требования страны. Ида Ференци его боготворила. Она рассказала о своем восхищении императрице, и та повесила портрет Деака над своей кроватью в Хофбурге.
Дьюла Андраши имел ореол романтического героя. Он сражался против имперской армии во время революции и, потерпев поражение, был заочно осужден на смерть. Дьюла бежал в Лондон, а потом в Париж, где дамы, очарованные этим богатым, светским и образованным аристократом, называли его не иначе как «красавчик, повешенный в 1848-м». Получив разрешение вернуться, Андраши с тех пор стал сторонником умеренных идей Деака. Как и последний, он общался с Идой Ференци и узнал от нее, с каким увлечением императрица занималась его родным языком. По случаю какого-то праздника Сиси встретилась с Андраши. Он был поражен ее красотой. Она была потрясена этим величественным и элегантным мужчиной с темной бородой, в живописном костюме магнатов, отделанном мехом, который называли «атиллой».
Узнав о разногласиях императрицы и эрцгерцогини Софии, Деак и Андраши поняли, что могли играть на них, а также извлечь пользу из расположения Елизаветы к их родине. Императрице, томившейся в изоляции при враждебном дворе, эти венгры предложили долгожданное дело, которое она могла защищать, таким образом, обретая смысл существования.
Прекрасная покровительница венгерской отчизны
8 января 1866 г. венгерская делегация отправилась в Вену, чтобы пригласить императорскую чету в Буду. Прием в Хофбурге смягчил отношение (традиционно недоверчивое) магнатов. Сияющая императрица вышла в национальном венгерском костюме и поблагодарила делегатов речью, очень мило произнесенной на их родном языке. Буря восторженных возгласов приветствовала ту, что казалась надеждой Венгрии. Несмотря на возражения придворных, Франц Иосиф с Елизаветой приняли приглашение и 29 января выехали в пятинедельное путешествие в Венгрию.
Оно было успешным, и Буда поверила в лучшее будущее. Сиси, чьи разговоры на венгерском всякий раз вызывали восторг, удостоилась тысячи знаков признания. Как можно, думала она, вспоминая сдержанные настроения, что царили в Вене, не принять участие в судьбе столь прекрасного народа?
В течение пяти недель она исполняла протокольные требования, принятые в Хофбурге. Император поблагодарил жену и признался матери: «Сиси оказала мне большое содействие своей любезностью, столь взвешенным тактом и знанием венгерского; а ведь поговаривают, что люди охотнее слушают слова на своем родном языке, когда слышат их из прекрасных уст». Покоренные императрицей, магнаты, в конце концов, отнеслись к Францу Иосифу с большей снисходительностью. Когда тот объяснял, что не мог уступить всем требованиям, они списали его нерешительность на австрийских министров и эрцгерцогиню Софию. Зато в Вене консерваторы объявили, что Елизавета внушила императору «венгрофильские» настроения и запустили кое-какие недобрые слухи. Не увлеклась ли Сиси красавцем Андраши? Видели ведь, как на каждом приеме, балу или празднике они подолгу веселились вместе! Действительно, влечение было взаимным. В Хофбурге заговорили, что Елизавета женщина страстная, поставила свои чувства на службу опасного политического вопроса.
Несмотря на увлечение Сиси короной Святого Иштвана[243], император, убежденный, что централизация представляла собой единственный способ гарантировать стабильность государства, был пока не готов уступить венграм, несмотря на все хлопоты жены. Он мне мог преодолеть свои сомнения из-за одного драматического события.
3 июля 1866 г. в Садове австрийская армия разбила войско прусского короля Вильгельма I. Все помнили о затяжном австро-прусском соперничестве, которое началось уже больше ста лет назад, а честолюбивый Бисмарк оживил его, задумывая изгнать Австрию из Германии. Победа была достигнута, прусская армия шла практически на неприкрытую Вену. Франц Иосиф находился в собственной столице, рисковавшей тем, что ее признают открытым городом, и, несмотря на прямо противоположное мнение матери, приказал императрице вместе с детьми укрыться в Буде. Деак и Андраши встречали их на вокзале. «Я считаю, – объявил первый, – трусостью поворачиваться спиной к императрице, когда у нее несчастье, после того как ее столько чествовали, когда дела этой династии шли хорошо». В противовес радикальным сторонникам до сих пор пребывавшего в изгнании Кошута, которые пытались злоупотребить ситуацией, либералы были готовы прийти на помощь императорской семье, попавшей в беду, подобно тому, как их предки спасли в 1741 г. Марию Терезию Австрийскую[244]. Кроме того, необходимо было сохранить на своей стороне умеренных, пойдя на ряд уступок. Елизавета поняла это и старалась донести мысль до императора.
Но даже в ситуации, требующей решительных действий, Франц Иосиф занял выжидательную позицию. «Защищай мою позицию, – написал он жене, – постарайся выждать время, все остальное устроиться само собой». А тем временем прусское наступление приняло такие грозные очертания, что он приказал перевезти в Буду Хофбургскую казну, сокровища короны. В этот трудный час Сиси направила свое влияние на благо умеренных. Неоднократно она настаивала, чтобы император принял Деака. Безуспешно. Елизавета писала Францу Иосифу одно письмо за другим, советуя назначить Андраши министром иностранных дел. Только те, кого любили у себя на родине, говорила она, могли удержать Венгрию под властью правящей династии, обеспечить спокойствие и избежать независимости. Столкнувшись с чрезмерной осторожностью мужа, императрица принялась искать союзников в Вене. Одного из приближенных она попросила: «Походатайствуете от моего лица перед императором, займите мое место, чтобы открыть ему глаза на непоправимую беду, к которой он бежит, отказываясь делать какие-либо уступки Венгрии. Станьте нашим спасителем, умоляю вас от имени нашей бедной родины и моего сына».
Как никогда раньше Елизавета бросилась в политику. Она советовала, предупреждала, предлагала заменить или убрать тех министров, что не вызывали доверия к Андраши. Она трудилась, не щадя себя, доказывала и уговаривала с одинаковой страстью. Сомнения императора злили ее. 15 июля после встречи с Андраши Елизавета написала мужу серьезное письмо. «Если ты поверишь в него, поверишь по-настоящему, мы будем спасены. Мы – это монархия, а не одна Венгрия. Но ты обязательно должен поговорить с ним сам и незамедлительно… Поскорее поговори с ним… В последний раз заклинаю тебя именем Рудольфа: не упусти последнюю возможность». Никогда еще не писала Сиси таких длинных и суровых посланий. Настойчивость и нетерпение раньше она выказывала лишь в отношении собственных удовольствий, прихотей, а не по столь ответственным вопросам.
Елизавета организовала на бумаге столь желанную ей встречу: «Умоляю тебя, телеграфируй мне, как только получишь это письмо, и я скажу Андраши, чтобы он в тот же вечер садился на поезд в Вену». В своей лихорадочности она позволяла себе давить на мужа так, что это выглядело шантажом: «Если ты скажешь “нет”, если в последний час ты не хочешь даже выслушать беспристрастный совет, это значит, что ты ведешь себя в очень [неразборчивое слово] манере по отношению ко всем нам. Тогда ты будешь навсегда избавлен от моих требований или переменчивого настроения. Тогда мне останется только утешаться осознанием, что чтобы ни произошло, я смогу однажды сказать Рудольфу: “Я сделала все, что было в моей власти, мне не в чем себя упрекнуть”». Ее резкий тон стал для всех неожиданностью. Елизавета считала ничтожным тяжкое бремя императора, чья столица находилась под угрозой врага. Она не оставляла его в покое, играла на нервах, сваливала на него всю вину, если он не слушал. Сиси превратилась в страстного политика.
В конце концов, Франц Иосиф уступил: он встретился с Андраши. Чистосердечие и сдержанность графа пришлись ему по душе, но он нашел, что у того слишком высокие требования: «Он просит слишком много и… предлагает слишком мало». Ференца Деака император тоже затем принял, тайно. Австрийский правитель уважал «старика» (как он его называл) за честность и преданность династии, но сомневался в его упорстве и решительности: «Он оставил у меня то же впечатление, что Андраши: они требуют всего в самом широком смысле, но у них нет никакого серьезного ручательства за успех, только надежды и вероятности».
Несмотря на продвижение прусских войск (их бивуаки уже появились под Веной), Франц Иосиф все еще надеялся на спасительное вмешательство Франции, которое могло остановить наступление врага, и сохранял убежденность, что солдатам Бисмарка будет не так-то просто перейти Дунай. Не следовало так быстро уступать венграм. Нежелание императора затевать с ними новую политику основывалось, помимо прочего, на потенциальных угрозах в отношениях с остальными владениями монархии. Уступки, сделанные Буде, были тут же затребованы остальными областями империи, в первую очередь Богемией, где уже действовало сепаратистское движение, подстрекаемое Бисмарком. Для императора, отвечавшего за целостность своих владений, Андраши был «слишком далек от необходимости принимать в расчет другие районы монархии».
26 июля с Пруссией заключили перемирие: враг отступил, что спасло и Вену, и династию. Франц Иосиф захотел встретиться с женой. Сиси вернулась в столицу 30 числа. Император принял Андраши накануне, но ничего достичь не удалось. В преддверии грядущего компромисса монарх, по его словам, хотел спокойно обсудить все в общих чертах. Подумать, рассмотреть иные точки зрения. Для Елизаветы эта чрезмерная осторожность означала в реальности нежелание Двора идти на какие-либо уступки: по ее мнению, заявленные трудности плохо скрывали нежелание идти к положительному результату. Бездействие было ей невыносимо. 30 июля она села на поезд в Вену, на следующий день встретилась с Андраши и снова стала нажимать на мужа, чтобы тот уступил просьбам венгров.
Между супругами состоялся бурный разговор. Елизавета настаивала, Франц Иосиф не соглашался. Императрица ничего не добилась: она даже призналась Андраши, свидетелю ее неудачи, что не надо дальше питать надежду. Через день она в ярости решила вернуться в Буду и оставить мужа в одиночестве. Франц Иосиф, любивший жену, признался ей, что огорчен: «Скорее вернись ко мне… ведь ты была резкой и категоричной. Я люблю тебя так, что не могу жить без тебя». Елизавета заперлась в будуаре и отказалась выходить. Напряжение поднялось до предела. Император, теряя терпение, написал жене раздраженное письмо и назидательно заметил: «Я нарушу свой долг, если буду придерживаться исключительно точки зрения венгров, как это делаешь ты, и пренебрегу страной, которая по причине своей стойкой верности, перенесла неописуемые страдания».
Елизавета перестала мучить мужа, пожалела о тоне своих последних писем и говорила теперь только о прогулках. В ответ на сетования покинутого Франца Иосифа: «Я продолжаю терпеливо сносить мое долгое одиночество. Я уже подвергался такому испытанию, но, в конце концов, смирился», – она согласилась провести несколько дней в Вене. Двор, эрцгерцогиня София и правительство встретили императрицу холодно – причиной тому было ее сочувствие Венгрии. Сиси тут же вернулась в Буду, где находилась до 2 сентября.
Казалось, государи не изменили своих позиций. Императрица постоянно культивировала любовь к венгерскому народу, император же оставался глух к ее просьбам. Елизавета старалась углубить свои знания языка и литературы. Она читала поэтов, особенно Йожефа Этвёша, чьи запрещенные произведения разжигали ее интерес; вступив с ним в активную переписку. Императрица нашла нового преподавателя Макса Фалька, венского венгра, писавшего публицистику и
тесно дружившего с Андраши. Вместе с ним грамматика и история обогатились политическими комментариями и размышлениями о венгерском вопросе. Елизавета не отказывалась от своей любви к стране мадьяр. Она выражала желание приобрести там замок и остановила выбор на Гёдёллё в окрестностях Буды, посреди огромных охотничьих угодий. Но финансы не позволяли такой траты: «В настоящий момент у нас нет денег, – мудро объяснил император, – и в это трудное время мы ограничены жесткой экономией».
К разочарованию добавилась политическая неудача. Франц Иосиф должен был назначить нового министра иностранных дел. Избранным счастливцем мог стать Андраши. Елизавета порекомендовала его. Но пост достался саксонцу графу Бейсту. Не любившая его Сиси очень огорчилась. Тем временем император стал менее недоверчиво воспринимать предложения умеренно настроенных венгров. Осознавая, как ослабла монархия после неудач в Италии, а затем в войне против Пруссии, Франц Иосиф считал, что центристская система являлась теперь устаревшей и опасной. Федерализм, который отстаивал глава правительства граф Белькреди, обещал принять во внимание интересы других частей империи, но упорное сопротивление венгров погубило этот замысел, поскольку те считали его несостоятельным[245]. Оставалось только вести переговоры с мадьярами, договариваться с ними, дать им дуализм, который они просили, то есть перейти к сосуществованию автономной Венгрии с австро-чешскими владениями. Франц Иосиф не хотел идти на компромисс, которого добивался Деак.
Все решилось в январе и феврале 1857 г. Императрица внимательно следила за переговорами из Цюриха, куда она уехала погостить к сестре Матильде. В письмах мужу она много говорила о Венгрии: «Я надеюсь, что ты не замедлишь сообщить мне, что венгерский вопрос решен и что мы поедем [в Буду]. Если ты напишешь мне, что мы туда едем, мое сердце успокоится, ведь этой цели мы так долго добивались».
1 февраля на совете министров Франц Иосиф принял решение выбрать дуализм. Это была цена за внутреннюю стабильность монархии и признание ее влияния в Европе. Белькреди должен был уйти, Бейст занимал его место во главе Совета, а Андраши назначался премьер-министром Венгрии. Сиси ликовала: Франц Иосиф дал конституцию ее любимой Венгрии.
Отныне в Буде он правил не как император Австрии, а как король Венгрии. Страна, именуемая «Австрией» получала парламент, состоящий из двух палат, и правительства. Дуализм был не просто личной унией: дипломатия, оборона и финансы оставались общими, ими руководили общие министры, подчинявшиеся Францу Иосифу. Для Елизаветы решение этого бесконечного вопроса стало победой. Народного признания ей досталось немного: широкая публика не знала о ее роли. Зато магнаты понимали, чем они обязаны императрице. В знак благодарности они сразу предложили ей замок в Гёдёллё, о котором она страстно мечтала. Елизавета обещала бывать там чаще. К подарку добавили неожиданную почесть: Елизавета получила корону Венгрии одновременно с Францем Иосифом.
Ференц Йожеф и Эржебет
«У нас оставался всего один шанс – что кто-то из австрийского дома полюбит наш народ от всего сердца. Теперь мы нашли этого человека, и будущее меня больше не страшит», – такими словами поэт Этвёш выразил ту теплоту, с которой толпы венгров встречали императорскую чету в начале мая 1867 г. Официальная поездка дала той, кого венгры называли Эржебет почти неомраченное счастье. Ее радовали приветственные громовые эльен (ура!), ей было приятно посетить Гёдёллё, который обустраивали для ее частых приемов, но огорчала критика Компромисса[246], произносимая радикалами, а также пугало, что они отложат или сорвут коронацию. Но в целом, триумф опьянил императрицу. Недавно она выражала осуждение репрессий 1849 г., которые санкционировал ее будущий муж, и говорила, что он сожалел о содеянном. «Верьте мне, – сказала она одному прелату, – если мы могли, мы, мой супруг и я, первыми бы вернули к жизни Лайоша Баттьяни и мучеников Арада»[247]. В Вене поморщились от такой покаянной формулировки, Буда же залилась слезами признательности. «Ни одну королеву, – говорили в народе, – раньше так не любили». Удовольствие от победы подтолкнуло к написанию (на венгерском) нежных писем Францу Иосифу, вернувшемуся в Хоффбург: «Мой возлюбленный император… все здесь бесконечно пусто без тебя. Каждую минуту мне кажется, что ты вот-вот придешь, или что я сама вот-вот побегу тебе навстречу. Но я надеюсь, что ты скоро приедешь, ведь коронация может состояться уже 5 числа».
Она прошла 8 июня. Воодушевленная публика восхищалась великолепием магнатов в пышных костюмах и красотой мессы, написанной Францем Листом, которая была преисполнена национальным самосознанием. Даже самым критично настроенным из венгров пришлось признать, каким уважением к их национальным обычаям была пропитана церемония. Они были восхищены и тронуты, когда король символично взмахнул в воздухе саблей на все четыре стороны коронационного холма в Пеште, который воздвигли, собрав землю со всех медье[248]. Затем были произнесены слова королевской клятвы: «Мы сохраним целыми и невредимыми права, конституцию, юридическую независимость и территориальную целостность Венгрии и ее владений».
Иностранные наблюдатели были настроены более жестко. Одни с прискорбием отмечали, что церемония «немного производила впечатление грубого карнавала… Этот осколок Средневековья не подходит нашей эпохе, нашему уровню цивилизации, современного политического развития». Другие резко заявили: «Во всем этом много варварства». Тем не менее большинство в тот момент не грустило, а радовалось. Народная любовь к королеве требовала от Елизаветы милостей, и Франц Иосиф согласился их даровать. Это были прежде всего амнистия политическим заключенным, возврат конфискованного имущества и выплата нынешними монархами компенсации вдовам, сиротам и инвалидам венгерской армии, сражавшейся с императорскими войсками в 1849 г. Новая королева, коронованная в Венгрии, была не только защитницей: в народе ее считали почти что святой. Многим нравилось верить, что она являлась потомком Елизаветы, дочери венгерского короля Андраша II, которую канонизировали в 1233 г. Простые люди не сомневались: Сиси – это «вторая святая Эржебет».
«Страшная ностальгия по Венгрии»
Святая не оставляла своих почитателей: когда дело было сделано, Елизавета не отвернулась от Венгрии. Она часто и надолго приезжала в Гёдёллё: в 1868 г. она провела там две трети года, говорили сердито венцы. Она даже сумела донести до мужа прелесть своей новой резиденции. Франц Иосиф любил бывать с женой за городом, отдыхать. «Он находит тут, – говорили в народе, – убежище, где можно обрести покой, когда венцы выведут его совсем из себя».
Маленький замок нравился супругам и еще сильнее сблизил их. Австрийская столица тут же осудила редкие отлучки императора и обвинила его в том, что он уступал требованиям жены. Было достаточно провести несколько дней в Гёдёллё, чтобы придворные начали жаловаться: «Император поссорился со своим помощником из генеральского лагеря, не приехал в город ни позавчера, ни сегодня. Боюсь, что он стал ненавидеть Вену из-за любви к Сиси».
В глазах венцев, демонстрируя любовь к Венгрии, императрица совершила провокацию. Их очень злило, что именно там она решила родить последнего ребенка. Венгры надеялись – и даже были убеждены, что мальчик будет королем совершенно независимого народа. Слабое утешение для австрийцев! 22 апреля 1868 г. в замке Буды на свет появилась девочка Мария Валерия. Ее приветствовали, называя «даром короны», который государыня сделала своему народу. Когда Елизавета отбывала из венгерской резиденции в Хоффбург, она якобы произнесла следующие слова, сочтенные скандальными: «Я уезжаю, но вернусь домой позже осенью». Венцы задохнулись: значит, теперь родина императрицы – Венгрия, дом в Буде или Гёдёллё, а остальные владения монархии, значит, стали заграницей! Похоже, она любила исключительно венгров. Она не только сохранила приверженность своему окружению, которое набрала из венгров, но «подчистила» его, когда отослала первого наследного камергера эрцгерцогини Софии, заменив его бароном Нопчей, и дополнила графиней Марией Фештетич свой эскадрон фрейлин, где теперь не осталось ни одной австрийки.
Весь мир Елизаветы – сотрапезники, знакомые, гости – состоял из венгров. Она хотела познакомиться с писателем, поэтом и националистом Йокайем[249]. За обедом императрица принимала Деака, и тот заявил: «Это большая честь для меня». Она продолжала вести переписку с Андраши, называла его «наш друг» и часто виделась с ним. Когда в 1871 г. монарх назначил его министром иностранных дел, австрийская общественность приписала это выдвижение его покровительнице и обвинила ее в том, что она оказывала давление – хотя Елизавета оправдывалась – при номинациях на высшие государственные посты. Венцы нашли и другой повод для недовольства, а венгры для восхищения – императрица плакала перед гробом Ференца Деака, когда тот скончался в 1876 г. Знаменитое полотно Михая Зичи и гравюры по его мотивам десятилетиями пользовались популярностью. Там была изображена защитница народа и звездной короны, идущая за гробом. Картина показывала, как венгерская королева чтит героев дуализма.
Двоих из детей императорской четы мать пригласила разделить любовь к Венгрии. 2-летняя Мария Валерия, любимица Сиси лучше говорила по-венгерски, чем по-немецки. Рудольф же, которого тоже обучили венгерскому, сделал своим кумиром Андраши – по его мнению, только он был способен ввести Австро-Венгрию в новую, либеральную эпоху. Любимый магнат матери стал для молодого эрцгерцога божьим посланником, и он признавался, что «каждый день благодарит Господа, за то, что Андраши здесь, ведь пока он здесь, все будет хорошо». Если, в конечном итоге, Мария Валерия стала ненавидеть венгров, то Рудольф остался верен идеям молодости. Встревоженный усилением националистических настроений среди мадьяр, он доверял только тем в Венгрии, кто продолжал дело его дорогого Андраши.
Даже будучи счастливой в окружении родни в Баварии, даже радуясь подготовкой к скорому путешествию, Елизавета иногда признавалась в «страшной ностальгии по Венгрии». В Вене ей не прощали это чувство и сурово упрекали за содействие Компромиссу и влияние на императора. При Дворе, где ее вечно обвиняли, и откуда она сбегала, Елизавета все больше ощущала себя чужой. «Все это, – жаловалась графиня Фештетич, – из-за того несчастного соглашения с
Венгрией? Да, оно состоялось, и оно было делом ее рук! Но разве такое уж тяжкое преступление – вернуть императору верность страны, составляющей половину империи? Неужели так приятно править при помощи пороха, свинца и виселицы? Достойно ли благородного и великодушного человека пообещать стране конституцию, а потом отказать в ней?»
Императрица Австрии или просто королева Венгрии?
Хорошо ли, плохо ли, но императорская чета урегулировала венгерский вопрос: Франц Иосиф нерешительно, Елизавета – восторженно. Одной страсти, каковую императрица питала к венгерским либералам, было недостаточно для достижения Компромисса 1867 г.; однако Елизавета ускорила его заключение. Франца Иосифа вынудили к этому неудачи Австрии в Италии и поражение при Садове. Та череда поражений не оставила ему иной возможности. Без нее Елизавета не сумела бы изменить направление имперской политики. Идея «двойной монархии», оригинальной формы союза между Австрией и Венгрией шла от императора. А его супруга – благодаря своим заявлениям, письмам, советам, встречам – стала тем стимулом, который позволил ему совершить задуманное.
Чтобы склонить императора на свою сторону, Сиси играла на нотах, которые лучше всего знала: на любви «Франци». Ни многочисленные отлучки, ни постоянные капризы не влияли на того, кто подписывался «твой муженек, которому одиноко» или «твой Франц, который нежно тебя любит». Несмотря на отказ императрицы появляться на официальных церемониях и враждебное отношение ко двору, которое она все меньше скрывала, император никогда не переставал любить жену. Она пользовалась этим, дозируя свое присутствие в Вене в зависимости от покорности Франца Иосифа, меняя интонации – от резких до спокойных – своих писем, торжественно апеллируя будущим сына. Со временем Сиси открыла в себе талант очаровывать, которым она пользовалась, общаясь с мужчинами, включая мужа. Она поставила эту способность себе на службу.
У императора и императрицы были разные представления о монархии. Симпатия Елизаветы к Короне Святого Иштвана перекликалась с ее либеральными идеями, не определенными, но искренними. Желание противостоять венскому Двору доделало остальное. В «таинственном очаровании» Венгрии, которое околдовало Сиси, Чоран находил тонкую энергию. «Существует, – писал он, – особая венгерская грусть». Она переполняла здешнюю землю, а та, вместе со своими обаятельными жителями, стала «единственной страстью» в жизни Елизаветы. Если, продолжал философствовать мыслитель, своими фантазиями, настроениями и эксцентричными выходками Сиси явилась «апогеем этой особой грусти XIX в.», то понятно «ее безграничное восхищение всем венгерским»[250]. Когда говоришь о посреднической роли Елизаветы, совершенно нет нужды выискивать связь королевы – она была абсолютно невозможна – с красавцем Андраши. Зато любовные чувства, вполне реальные и взаимные, этих двоих были действительно поставлены на службу Венгрии. Встав на сторону венгерских интересов, государыня тут же вышла из своей роли императрицы. В габсбургском государстве Елизавета пеклась исключительно о судьбе Венгрии, не замечая остальных составляющих империи, не доверяя даже чехам.
Франц Иосиф не разделял такой избирательности, о чем сообщил Андраши. «Как всегда, – написал он в июле 1866 г., – я нахожу, что в ней слишком мало определенности, и ее совершенно не заботят остальные владения монархии». Упрек мог предназначаться императрице. В 1866 г. Франц Иосиф постоянно думал о Богемии, подвергшейся суровому испытанию войны против Пруссии, жертве эпидемии и голода. Чешская земля заслуживала помощи и сострадания, тем более что Венгрия в сражениях не пострадала. Верный традициям Габсбургов, Франц Иосиф льстил себе, что любил все свои народы как отец. Сиси же имела предпочтения. Это было неправильно.
«Я больше не вмешиваюсь в политику»
Эрцгерцогиня София умерла в 1872 г. Ностальгически настроенные венцы оплакивали ее: «Мы потеряли и закопали в землю нашу императрицу» [sic]. Елизавета, наконец-то избавилась от давящей опеки. Ушла ли она с головой в политику, стала ли больше, чем вчера, играть своим влиянием? До настоящего момента ей удавалось вести государственные дела лишь вместе с Францем Иосифом и его матерью. Теперь открылся путь, позволявший делить ответственность за страну с одним мужем. На самом деле уход эрцгерцогини не заставил Елизавету сотрудничать с супругом. Напротив, она отошла от политики, увлекшись стихосложением, древнегреческой культурой и спиритизмом.
Да, в 1873 г. она сыграла протокольную роль с изяществом, восхитившем всех. Всемирная выставка в Вене, где коронованные особы кружились в водовороте приемов и праздников, потребовала ее присутствия в столице. Сиси выполнила свои обязанности без удовольствия, но и без ошибок. К балам и обедам добавлялись традиционные визиты в сиротские приюты, а также – императрица жалела тех, кто попал в беду, и любила их навещать – приюты для душевнобольных и больницы для жертв холеры. Кроме того, она стояла возле императора на торжествах в честь 25-летнего юбилея его правления. В течение нескольких месяцев все желали видеть: у Австрии снова есть императрица.
Но после 3 декабря Елизавета поторопилась уехать из Вены в свой любимый Гёдёллё. Ничто не держало ее в городе, который она ни капли не любила. Равнодушная к судьбе венцев, она не проявляла никакого интереса к преображению столицы, ставшей современнее оттого, что снесли крепостные стены и проложили кольцевой бульвар, построили новые общественные здания, например, императорскую Оперу. Сиси обязанностям правителя предпочитала кочевую, одинокую, свободную жизнь.
Имела ли право она, императрица Австрии и королева Венгрии, жить одними охотничьими выездами в Ирландии, археологическими раскопками в Греции, строительством вилл на Средиземноморье? Могла ли она убегать при малейшем неудобстве, снимать с себя всю ответственность или тратить сумасшедшие суммы на покупку чистокровных лошадей, когда Франц Иосиф, экономный как мелкий буржуа, навязывал Вене спартанскую жизнь, одиноко сидя за письменным столом в Хофбурге или Шенбрунне? Елизавета избегала императорских трудов и уходила от мира, а Франц Иосиф жил в расписанном поминутно режиме, постоянно давая аудиенции, с самого утра изучая документы, почти не имея частной жизни, вынужденный постоянно где-то присутствовать. Супруги поженились по любви, но психологического сходства между ними не было.
Вскоре Елизавета перестала участвовать в политике. Даже любимая Венгрия больше не волновала ее. Андраши подал в отставку в 1879 г. Она смирилась. Граф, неизменно готовый простить свою повелительницу, оправдывал ее равнодушие: «Таких как она в мире нет… Возможно, у нее есть причины не заниматься политикой». Мадьяры, продолжавшие любить Елизавету, жалели, что она пустилась в бегство по всей Европе. Теперь она даровала им лишь несколько неофициальных приездов. Виллы, которыми императрица увлекалась, будучи за границей, оставались пустовать сразу после постройки. Они заставили Елизавету забыть про Гёдёллё. В 1893 г. барон Нопча, смущенный просьбой походатайствовать перед императрицей за Венгрию, заметил: «Как вам известно… Ее Величество не вмешивается в политику; как же ей воздействовать на мужа, чтобы тот не сердился на венгров? В этом деле венгры могут рассчитывать только на себя».
В противовес легенде, когда Сиси потеряла интерес к Венгрии, Компромисс 1867 г. не оказался под угрозой. Будучи человеком слова, Франц Иосиф следил за его соблюдением, и венгры уважали его за это. Кроме того, во владениях Короны Святого Иштвана прочно установилась министерская стабильность. Император-король воздерживался от любых вмешательств во внутреннее управление, но зато отказался молча наблюдать, как его авторитет подрывали бы в совместных военных и дипломатических делах двойной монархии. Стремясь сохранить единство «императорской и королевской»[251] армии, он упорно сопротивлялся всем попыткам сделать немецкий единственным языком командного состава. Хотя в последние годы столетия либеральная партия, придерживавшаяся дуализма, сдавала позиции сторонникам независимости страны, Компромисс 1867 г. оставался, даже в отсутствие Елизаветы, основой австро-венгерских отношений вплоть до Первой мировой войны. Франца Иосифа к дуализму склонила жена, но в отношении его практического воплощения долг приказывал ему быть твердым. Все, что прописано в Компромиссе, но ничего за рамками Компромисса.
Когда в 1896 г. мадьяры отмечали юбилей захвата страны их предками, Сиси не стала прятаться. Она согласилась прервать отдых на Корфу, чтобы ассистировать на празднике Тысячелетия завоевания родины. Трижды Елизавета появилась на публике, но предоставила Францу Иосифу в одиночку председательствовать на бесконечных официальных приемах. Стройная фигура, облаченная в черное, покрытое морщинами лицо, спрятанное за веером – так выглядела Сиси, с 1889 г. носившая траур по сыну Рудольфу. Самоубийство эрцгерцога в Майерлинге в ночь с 29 на 30 января вместе с молодой любовницей Марией фон Вечерой потрясло до глубины души императора с императрицей и стало драмой для монархии.
Под влиянием матери Рудольф, либерал по характеру, разделял ее любовь к Венгрии, в которой он видел «прогресс и просвещение». Гибель его разбудила тревоги мадьяр, ведь новый наследник престола Франц Фердинанд, племянник императора, славился своей неприязнью к ним. Так что присутствие императрицы на торжествах 1896 г. грело венграм душу. Растроганные жители Будапешта приветствовали ее таким громогласным эльен[252], какого, по свидетельству очевидца, город еще не слышал. Потом скажут о «буре чувств, что поднялась у всех в душе». Императрица поклонилась в знак благодарности. Эльен повторилось. Лицо Елизаветы порозовело. Милая ее сердцу страна сумела утешить свою государыню. На мгновение. Императрица ушла, покинула город и церемонии, предпочтя одиночество. Франц Иосиф остался выполнять свой долг. Если Елизавету политика больше не трогала, то император Австрии свои обязанности, хочешь не хочешь, был обязан исполнять.
Спустя девять лет после трагедии в Майерлинге новое испытание выпало на долю пожилого правителя, которого и так судьба не щадила. Еще в 1867 г. он потерял брата Максимилиана. Тот совсем недолго пробыл императором Мексики и был расстрелян в Керетаро. Затем герцогиня Алансона, сестра Сиси погибла в Париже – сгорела заживо во время пожара на Благотворительном базаре 4 мая 1897 г. Максимилиану было 35 лет, герцогине – 40. Сама императрица сражалась со старостью. Ей должно было исполниться шестьдесят, и ее неотступно преследовали тревоги из-за собственного веса. Тогда он с трудом достигал сорока шести килограммов при росте в 172 см. Причиной ему был разрушительный для тела режим питания, прерванный смертью сына. Она увлеклась этим в разгар болезненной депрессии, которую уже не могли излечить бесконечные скитания. Вечные путешествия Елизаветы оставляли Франца Иосифа в одиночестве и тоске. Понимая, что обижала мужа, но не в силах бросить свои бродяжничества, Сиси своими руками устроила встречу Франца Иосифа с актрисой Катариной Шратт – молодой и хорошенькой полной блондинкой, которая стала «подругой императора».
Уже давно императорская чета спала раздельно, а Елизавета выражала отвращение к плотской любви. Встречи после долгих разлук, примирения после споров ничего не меняли. В обществе Катарины Франц Иосиф обрел лекарство от одиночества, бесхитростное и ласковое счастье, которого ему недоставало. Сиси хранила привязанность к мужу, уважала его и признавалась одной из фрейлин, что он «ей нравится, но, конечно, без любви». Франц Иосиф же продолжал любить жену и неизменно страдал, когда она уезжала.
В конце лета 1898 г. императрица должна была вернуться в Вену. После лечения термальными водами в гессенском Бад-Наухайме и месячного отдыха в Швейцарии на курорте Территет она должна была приехать к мужу в столицу, чтобы готовить осенние военные маневры. В мирной Женеве Елизавету застала смерть, которую она так часто призывала в моменты депрессии. 9 сентября 1898 г. итальянский террорист по имени Луиджи Луккени ударил ее в грудь заточкой, когда она собиралась сесть на пароход, который должен был отвезти ее к барону Ротшильду в Преньи. Страшная новость, переданная в Вену телеграммой, парализовала Франца Иосифа. В семейном кругу, рядом с дочерью Марией Валерией, любимицей Сиси, он горевал, плакал и шептал: «Никто не знает, как мы любили друг друга».
Спустя сорок четыре года после свадьбы, которые были скреплены взаимной любовью, смерть жестоко разбила императорскую чету. Монарх пытался справиться с болью, трудясь с удвоенной силой. Скончался он 21 ноября 1916 г. в Шенбрунне; восемнадцать долгих лет было дано этому человеку долга, охваченному скорбью и до предела погруженного в работу. О каждом из супругов сложилась своя легенда. В истории остались элегантность Сиси, ее красота, путешествия, отдых на Корфу или в Мирамаре. Время забыло, как отважно императрица защищала Венгрию. Но в народной памяти эта женщина вела монарха за собой.
Самообладание было второй натурой скромного Франца Иосифа, и он мало показал себя. Живого человека закрыл император, «добрый и великий, гордый и справедливый, бесконечно далекий и в то же время близкий», как выразился Йозеф Рот. Образ монарха за письменным столом, читающего при зеленоватом свете лампы бесконечные отчеты, что повествовали о делах империи и малозначительных подробностях административной жизни, долго бытовал в памяти подданных, тепло относившихся к своему монарху. Венский писатель сказал о своем герое Карле Йозефе Тротта, бесконечно преданном императору с белыми бакенбардами: «Лучше всего положить за него жизнь под звуки военной музыки и легче всего под звуки марша Радецкого»[253]. Такие разные и в жизни, и в народной памяти Сиси и Франц Иосиф тем не менее стали одной из самых знаменитых в истории пар.
Николай II и Александра (1894–1917) Общая страсть к самодержавию
«Император был полностью покорен ей. Достаточно было понаблюдать их вместе четверть часа, чтобы понять: самодержец – это она, а не он».
Генерал ДубенскийСтрашная тайна
Наконец-то сын! После долгих десяти лет брака царица Александра Федоровна (1872–1918) только что родила цесаревича, который, если на то будет воля Божья, станет преемником своего отца Николая II (1868–1917).
Спустя десять лет ожидания 30 июля (12 августа) 1904 г. супругам улыбнулось счастье. Сына тут же крестили в Алексея – в память о русском царе[254] XVII в., которым восхищался отец[255]. Рождение цесаревича стало, конечно, для Александры самой большой радостью за годы брака. Раньше в императорской колыбели появлялись только девочки: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия – ласковые и насмешливые, тихони и сорванцы, совершенно очаровательные, уже превратившиеся в красавиц, обожаемые родителями. Но ни одна не имела законного права на престол. Каждое рождение оборачивалось разочарованием для родителей, при том, что в роду Романовых дочери были редкостью, первенцами, как правило, оказывались мальчики. На заре XX в. приоритетное право прямой линии императорской семьи на русский трон подчинялось правилам наследования.
Появились эти правила относительно недавно. Хотя традиционно монарх, правящий в Санкт-Петербурге, свободно выбирал себе наследника, с 1797 г. только первый ребенок мужского пола имел право носить корону. Наследование по праву первородства по мужской линии стало тогда нормой, и Россия, подобно Франции времен Старого режима, приняла салическое право. После смерти Екатерины Великой Империей ни разу не правила женщина. Времена Екатерины, Анны и Елизаветы ушли в прошлое. Пришел черед Павла, Николая и Александров.
Не родись у Николая II сын, корона доставалась бы его брату великому князю Михаилу либо старшему из дядей великому князю Владимиру, которому посчастливилось иметь троих сыновей. Печальная перспектива для царицы, с трудом скрывавшей неприязнь ко всем, кто угрожал занять престол. Появление мальчика успокоило родителей: они обеспечили себе преемника.
Александре было всего 32 года, когда она родила пятого ребенка, но ее здоровье уже давало повод для беспокойства. В тревожном ожидании сына она не отказывалась от любых средств, принимала любую помощь. Она слушала некого Филиппа, мнимого лионского медика и целителя, гипнотизера и начинающего предсказателя, который внушил ей надежду, что в следующий раз у нее родится мальчик. Беременность прошла нервно, и самозванца прогнали. Место незадачливого колдуна попыталась занять православная церковь. Представив государям архимандрита[256] Феофана, который получил должность исповедника, официальная церковь рассчитывала взять под контроль увлечение мистическими склонностями четы, не имеющей сына. Феофан сумел убедить императора с женой канонизировать доселе неизвестного монаха Серафима, жившего в начале XIX в. в Саровском монастыре. Молитва очень помогала Александре. Она настойчиво молилась отшельнику, признанному святым, и надеялась на чудо. Решительно настроенная задействовать все шансы Александра назначила церковную церемонию канонизации на 28 июля 1903 г. На нее собрался весь двор и погрузился в святой источник рядом с Саровским монастырем[257]. В июле следующего года на свет появился Алексей.
«Не было того, чего Государь не сделал бы в память этого дорогого дня»[258], – уверяла подруга Александры. Счастливое событие посреди бесчисленных проблем. Короткая и радостная передышка, не способная перекрыть самые черные тревоги. Цесаревич появился на свет через несколько месяцев после начала войны против Японии, на следующий день после покушения террористов на одного из царских министров. 8 февраля этого года японские миноносцы без объявления войны напали и уничтожили часть русского флота, стоявшего на рейде в Порт-Артуре, а за две недели до рождения наследника был убит, отличавшийся крайним консерватизмом, министр внутренних дел Плеве. В течение года Россию будоражили постоянные забастовки рабочих. Политический климат неуклонно тяжелел. Не утихомирило ли страсти появление столь долгожданного цесаревича? Обзаведясь наследником, императорская чета пребывала в уверенности, что заработала себе прочную народную любовь.
Семейное счастье оказалось кратким. С начала сентября у малыша случилось пупочное кровотечение, встревожившее родителей. Его удалось остановить тугой повязкой. «Мы обрели мир в душе», – поспешил сказать Николай II. Ненадолго. Другие спонтанные кровотечения показали наличие страшной болезни: цесаревич унаследовал гемофилию, которой страдали в семье его матери. От нее умерли младший брат Александры и два ее племянника. Заболевание, передававшееся от женщин, было неизлечимым и смертельным. Две трети детей-гемофиликов не доживали до 12 лет. Для родителей маленького Алексея мир рухнул.
Александра впала в такое глубокое отчаяние, что винила во всем себя. Каждый приступ, поражавший сына, оборачивался для нее пыткой. Каждый день она боялась несчастного случая. Начались долгие мучения. Разом поседевшая царица замкнулась в своем горе. Ее здоровье вызывало тревогу: бессонница, мигрени, тоска стали страшными и неизменными спутниками Александры. Появилась болезнь сердца. В отчаянной попытке убежать от того, что казалось ей совершенным бессилием науки, царица ударилась в мистику, часами молилась перед иконами. Ничего не ожидая от мужчин, Александра вверила все свои надежды Богу или тем, кто изображал из себя его слуг. Она надеялась на чудо и была готова поверить всякому, кто посулил бы исцеление.
Здоровье Алексея стало главной заботой его родителей. Никто, кроме близких, не должен был ничего знать. Гемофилия цесаревича стала государственной тайной. Было велено скрывать, что правящий царь больше не способен иметь прямого наследника. Императорская семья отгородилась молчанием, боясь проговориться публике. Она позволяла себе немного расслабиться в периоды ремиссии, тревожилась за каждое мгновение повседневного бытия мальчика, любящего жизнь, как все его сверстники, тщательно следила за его играми, опасаясь любой раны, постоянно боялась нового приступа, внимательно наблюдала за малейшей слабостью. Страдания быстро превратили красивого, как ангел, и веселого по природе Алексея в нервного и капризного ребенка. Волнуясь за здоровье сына и неустанно ища средство, чтобы излечить его болезнь, Николай и Александра без конца мучились.
Характер царицы изменился. В народе ее никогда не любили и, не зная о причине несчастья, не прощали ей ничего: она казалась холодной, далекой от мира, который казался ей легкомысленным, оттого что не разделял ее горя. «Она была ледяной статуей, распространявшей вокруг себя холод»[259]. Своенравная жена, а теперь и вовсе авторитарная, закрылась, как никогда раньше, от всех мнений, противоречащих ее собственному. Влияние Александры на мужа неуклонно росло, она вмешивалась в политику, не зная ни отдыха, ни такта. Она превратилась в карикатуру на саму себя. Ее репутация погибла. «Она открыла мне… как она чувствовала, что ее не любят, и это было ей вдвойне тяжело, так как она вышла замуж за Государя только потому, что любила его, и… она надеялась, что их обоюдное счастье приблизит к ним сердца их подданных»[260]. Александра говорила правду: ее союз с Николаем был счастливым. Но разве убежденность в том, что ее личное счастье станет благом для всего русского народа, не служило признаком крайней степени эгоцентризма?
«Я доверяю только моей жене»
Александре не было и 12 лет, когда по случаю визита в Санкт-Петербург, она впервые встретила Николая, который был старше ее на четыре года. Маленькая немецкая принцесса Алиса Гессенская – так ее тогда звали, – потерявшая в 6 лет мать и не пользовавшаяся вниманием отца, великого герцога Людвига IV, вела в Дармштадте, где она родилась в 1872 г., жизнь одинокую и грустную, перемежавшуюся частыми поездками в Англию к бабушке, королеве Виктории. После того, как одна из сестер, Елизавета, она же Элла, вышла замуж за великого князя Сергея[261], приходившегося Николаю дядей, семья временами бывала в Москве и Санкт-Петербурге. Но Алиса совершенно не интересовала императорскую семью. Нескладная, плохо одевавшаяся, она всем им не нравилась. Тем не менее в 1889 г. молодой Николай заметил ее, сразу же влюбился и захотел жениться. Отец, царь Александр III, чинил ему тысячу препятствий: он не хотел в снохи очередную немку и планировал другие кандидатуры, в первую очередь французскую принцессу, дочь графа Парижского, чтобы среди прочего скрепить недавний франко-русский союз. Николай, послушный сын, проявил терпение, но от своей партии не отказывался. «Я давно ее люблю, но еще глубже и сильнее с 1889 года, когда она провела шесть недель в Петербурге… Я почти уверен, что наши чувства взаимны!»[262] Молодые люди добились своего, и Николай сумел преодолеть сопротивление родителей. 8 апреля 1894 г. они обручились. Цесаревич получил согласие отца из-за того, что здоровье последнего внушало серьезные опасения. Жизни царя угрожала пневмония. И Александр решил женить сыновей как можно скорее, чтобы заручиться, что у трона будет преемник. Николай настоял на кандидатуре Алисы. Но счастье молодоженов почти никто не разделил.
«Милая и несравненная» Алиса, «прекрасная» Алиса, как называл ее влюбленный жених, уже выучила русский язык, начала писать на нем почти без ошибок и, объявив, что она никогда не вернется в протестантизм, стала знакомиться с православием, как то делали до нее все иностранные принцессы. Несмотря на похвальные усилия, к невесте относились без симпатий. Императрица-мать Мария Федоровна держалась с ней холодно, великие княгини держали ее за чужую. Одни боялись, что эта внучка королевы Виктории, немка по рождению и англичанка по воспитанию распространит в России отвратительное британское влияние, другие оставались верны впечатлениям, которые Алиса оставила во время своих прошлых визитов в Санкт-Петербург: стеснительная, холодная и в конечном счете малоприятная девушка.
В общем, атмосфера при Дворе не располагала к радости: в Ливадии, своей летней резиденции в Крыму, скончался Александр III. Николай с невестой стремились пожениться как можно скорее, императорская семья, напротив, требовала дождаться похорон царя. Александр испустил последний вздох 20 октября (1 ноября) 1894 г. На следующий день Алиса торжественно крестилась в православие и отныне стала носить имя Александры Федоровны. Незамедлительно в Санкт-Петербург отправили поездом останки покойного монарха. Погребение состоялось 7 ноября, а вскоре сыграли свадьбу. 14 числа новоиспеченные правители соединили руки и сердца. Многие безжалостно замечали, что юная невеста приехала в столицу сразу за гробом и называли ее «птицей несчастья». Дурные предчувствия подтвердились, когда московские торжества в честь коронации омрачились трагедией на Ходынском поле: там проходили народные гуляния и погибло более тысячи трехсот человек.
Николай и Александра стали мужем и женой. «Большего или лучшего благополучия на этой земле, – признался молодой царь, – человек не вправе желать». Александра выразилась еще пышнее: «Я никогда не могла представить себе, что возможно подобное беззаветное счастье на этом свете, такое чувство единства между двумя людьми»[263]. Супруги любили друг друга до конца жизни. Но в их союзе соединились подверженный чужому влиянию мужчина и женщина, способная взять власть в свои руки.
Критикуя мелочность придворных, более озабоченных собственной выгодой нежели служением государю, царица написала одной из подруг в Германии, что она разочарована, так как чувствовала, что ее «муж очень молод и неопытен»[264]. Николай хоть и был старше жены, был и вправду плохо подготовлен к обязанностям правителя. Впрочем, не забыла ли сама Александра, как быстро она попала в царицы, не успев побыть великой княгиней?
«Я никогда не хотел быть царем!» – бросил в слезах молодой монарх при смерти отца. Так и Людовик XVI высказывал сожаление о том, что восходил на трон слишком юным. Николаю хотелось быть моряком или офицером, объехать весь свет или заниматься маневрами. Он не получил воспитания, подобающего наследнику короны. Несмотря на хороших преподавателей, его уровень знаний, как сказал один из министров, был как «у гвардейского полковника из хорошей семьи». У Николая отсутствовало желание учиться, он был лишен любознательности и способности к размышлениям. «Милый мальчик», мягкий, добросовестный, который «все заучивал хорошо, но никогда не мог понять, в чем был смысл того, что он изучал»[265]. Протокол запрещал преподавателям что-то спрашивать у Его Величества, а сам он никогда не задавал вопросов, потому было неясно, что он запомнил или усвоил. О пустоте существования царевича свидетельствовал его дневник, где нет серьезных мыслей, зато много всяких пустяков, метеорологических замечаний и большое внимание уделялось развлечениям и семейным посиделкам за самоваром: «Не мог кататься на коньках… и скучал»[266].
Александр III понимал всю некомпетентность сына и не допускал его к делам. Между монархом и сыном-наследником не было никакого серьезного общения, никакого посвящения в искусство управления государством. Когда министр финансов граф Витте предложил назначить царевича председателем Комитета по строительству транссибирской железной дороги, ответ императора был однозначным: «Понимаете ли вы, о чем меня просите? Да ведь он… совсем мальчик; у него совсем детские суждения». 23-летнего Николая отец отправил, чтобы удалить его от знаменитой танцовщицы, которая была его любовницей, в длительное путешествие по Востоку, вместо того чтобы разъезжать по европейским городам. После Египта молодой человек посетил Индию, Сайгон и Японию, где на него было совершено несерьезное покушение, заставившее прервать поездку. Ничто: ни пирамиды, ни храмы, ни даже красивые азиатки, – не смогло заинтересовать Николая. Ознакомительная поездка не принесла никакой пользы: будущий император остался ко всему равнодушен.
Изучение государственных дел было Николаю в тягость. Оно требовало постоянного его присутствия в Императорском совете, внимательного отношения к дискуссиям и желания узнавать новое, и это досаждало ему. Он отмечал, чтобы подбодрить себя, что подобное заседание «к счастью, длится всего двадцать минут» и признавался, что ушел, поскольку заскучал «до смерти». Такое равнодушие доводило до отчаяния отца и утомляло советников Александра III, которые почти никогда не интересовались его мнением. К тому времени, когда Николай II стал самодержцем, его нисколько не вдохновляло искусство управления, он старался избегать разговоров о положении дел в стране, терпеть не мог идейные споры. При этом Россия стремительно превращалась в промышленное государство и, в ней ярким пламенем вспыхивали революционные чаяния.
Сдержанность Николая и неуверенность в себе выросли из его мягкого по природе характера, которому пришлось терпеть жесткое обращение со стороны сильной личности отца, который постоянно шпынял мальчика за добродушие. И характер, и воспитание культивировали в юном монархе выдержку и хладнокровие. Порой они переходили в упрямство, которое окружение Николая ошибочно принимало за суровость. Иными словами, Николай был человеком неплохим, но безвольным, вечно нерешительным, неспособным заставить подчиняться себе. «В нем отсутствовала, – замечал германский посол, – вера в себя, но была определенная скромность, вынуждавшая его сомневаться в собственных решениях и откладывать их. Чаще всего он попадал под влияние того, кто по воле случая, говорил с ним последним»[267].
Кто стал авторитетом для молодого и нерешительного царя? Его мать Мария Федоровна, умная и образованная женщина? Но она всегда держалась подальше от политики. Двоюродные деды Константин, Николай, Михаил? Дяди Владимир, Алексей, Сергей, Павел, а с ними двоюродный брат Николай Николаевич, он же Николаша, которого покойный царь терпеть не мог? Николая II окружала многочисленная родня, любившая поинтриговать, не испытывавшая недостатка в честолюбии, жадная до мест и привилегий, считавшая империю своей личной собственностью. Однако, решающее влияние на слабохарактерного монарха оказывала супруга. «Я доверяю только своей жене», – повторял Николай.
«Будь стойким!»
Александра не дожидалась рождения сына или вступления России в войну в июле 1914 г., чтобы распространять свое влияние, за которое ее так порицали враги. Еще в самом начале брака она разглядела слабые стороны в характере супруга и захотела помочь ему их преодолеть. Еще у смертного одра Александра III она злилась, видя, как окружение царя обращалось с Николаем так, словно он ничего не значил. «Будь стойким и прикажи [докторам] приходить к тебе ежедневно и сообщать, в каком состоянии они его находят… Таким образом, ты обо всем всегда будешь знать первым… Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя… Выяви твою личную волю и не позволяй другим забывать, кто ты»[268].
Помнить о своем положении и проявлять хладнокровие Николай умел. Но чтобы продемонстрировать всем свою волю, ему требовалась помощь жены. Без устали она напоминала ему, что он единственный хозяин здесь и должен подчинить себе окружение, остерегаться честолюбия одних, опасаться других, считающих, что они руководят его решениями. Предупреждая царя против советчиков, поскольку те якобы рвутся к имперской власти, Александра желала сохранить собственное влияние, причем единоличное. Она хотела помешать попыткам императорской родни контролировать ее мужа.
Эта задача осложнялась тем, что молодая чета после свадьбы много месяцев жила в Аничковом дворце вместе с матерью Николая, сохранившей по этикету свои привилегии: вдова Александра III шла впереди снохи, что неизбежно ранило самолюбие девушки. Великие князья и принцы крови были еще страшнее[269]: именно они руководили царем и навязывали ему свою волю. Александра видела в них соперников, а тех, у кого были самые большие амбиции и высокие титулы, считала врагами, тем более опасными, что Николай, тепло относившийся к родственникам, не любил критиковать их за дурное поведение или наказывать за дерзкие выходки.
Недоверие царицы к императорской семье распространилось на всю аристократию Санкт-Петербурга. Она не одобряла ни ее склонности к сплетням, ни страсти к лошадям. Легкомыслие, свобода нравов, распущенность некоторых персонажей раздражали Александру[270]. В первую очередь она подозревала их в желании высмеять авторитет царя, а значит, подорвать его. Петербургский «бомонд», в конце концов, стал ей ненавистен.
По мнению Александры, все в этих сомнительных «сливках» общества было не так как у «истинного» русского народа: добропорядочного, верного, преданного, который «чтит царей как богов, как источник всех благ и всех милостей»[271]. Александра тут же выразила свою неприязнь к высшему обществу.
Поскольку она не любила свет и испытывала отвращение к балам и праздникам, то ее стали считать скучной. Сдержанность Александры принимали за холодность, достоинство – за пренебрежение. Царице отлично удавалось вызывать к себе антипатию в обществе, при том, что маску непреклонности среди близких она снимала. Александра и Николай были счастливы только в тесном семейном кругу, в обществе собственных детей, а также нескольких искренних друзей, предпочитая жизнь в духе буржуа или богатого дворянина из провинции: простую, немного монотонную, но безмятежную, без интриг и протестов. «У меня нет слов, – признался Николай незадолго до рождения первой из дочерей, – чтобы выразить, насколько я люблю эти мирные вечера, что я провожу наедине с моей обожаемой женой»[272]. Спокойные дружеские вечера проходили в Царскосельском (Александровском) дворце, который чета предпочитала Зимнему дворцу в Санкт-Петербурге, официальной царской резиденции.
Николай и Александра словно не вписывались в собственную эпоху. Больше всего они желали завернуться в кокон семейной жизни, который, в противовес протокольным обязанностям государя, стал для них спасительным убежищем, ведь там они могли скрываться от чужих взглядов и заботиться о больном сыне. И Николай, и Александра хотели бы закрыть глаза на реальный мир, ничего не зная о настроениях русского крестьянства, игнорируя социальные напряженности, что пускали опасные ростки по империи, недоверчиво глядя на высшую знать, которую считали эгоистичной и безнравственной, подозревали ее в измене. Их объединяли несокрушимая вера в самодержавие, убежденность, что русский народ целиком и полностью поддерживал царя. Оба супруга любили порядок, верили в традиции, не любили перемен. Шел ли Николай на попятную, сталкиваясь с теми, кто отстаивал иной стиль власти? Александра напоминала ему, что он самодержец, наместник Бога на земле, хранитель абсолютной власти, которую должен передать в неизменном виде своим наследникам. Нельзя было делить власть.
В общем, это были два разных характера: царь – нерешительный, неспособный повелевать, и царица – возводившая твердость в догму, страстная, бескомпромиссная. Их соединяли глубокая супружеская любовь и огромное горе. И вот еще что было общим: они не замечали изменений в империи и надежд собственных подданных. Николай II и Александра были монархами иного времени и часто сожалении, что провидение посадило их на трон России.
Вместе на страже самодержавия
Политическая косность: так можно охарактеризовать политику новоиспеченного царя, который взошел на трон, не имея ни новых идей, ни определенной программы. От его воцарения либеральные круги ожидали «политической весны»[273]. Разочарование не заставило себя ждать. Земствам, которые осторожно предлагали монархам пока что пользовавшимся уважением скромные реформы и проекты, направленные на улучшение положения крестьян. Николай 17 января 1895 г. дал суровый ответ. Предложения земских представителей о разделе сфер деятельности он заклеймил как «бессмысленные мечтания» и заявил: «Я буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель»[274]. Слова царя, полностью шедшие вразрез с либеральным мнением, тут же стали известны всей России, даже убежденные монархисты сочли страшной бестактностью и дурным предзнаменованием. Тут же пошли догадки о том, кто бы мог подтолкнуть Николая к такому высказыванию, с него самого словно хотели снять всю ответственность. Одни обвиняли старого царского наставника, обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева, отъявленного врага парламентаризма, защитника всех видов реакционной мысли. Тот отрицал всякое участие в написании текста, а на вопрос «Кто же тогда толкнул императора на столь злосчастный поступок?» он отвечал: «Кто? Неужели вы не догадываетесь? Конечно же, молодая императрица!» И добавил: «Она, ничего не зная о России, мнит себя знатоком всего… Ее преследует мысль, что император не в полной мере утверждается в своих правах и не получает всего, что ему полагалось бы»[275].
Хотя замечание министра о том, что царица подстрекала мужа, звучит обоснованным, участие Александры в том деле не доказано. Впрочем, в одной из своих книг княгиня Радзивилл, приводя этот диалог, утверждала, что царица не принимала никакого участия в этом прискорбном эпизоде. Если Александра действительно подталкивала мужа к самодержавному курсу и постоянно указывала ему, где должны быть его прерогативы, она пока что не пользовалась особым влиянием и не сильно стремилась к выходу на политическую сцену. Это стало видно когда, после убийства 15 июля 1904 г. министра внутренних деле Плеве, Николай II назначил его преемником либерала, последовав совету не жены, а императрицы-матери, встревоженной неблагоразумием сына. К выдвижению этого нового министра, добивавшегося разрешения открытых собраний, Александра, конечно, отнеслась враждебно.
Все изменило рождение царевича. Ради сына Александра пошла в политику. До настоящего момента она лишь тихо разделяла ненависть своих близких ко всему, что могло угрожать абсолютной власти. Отныне она употребляла свое влияние на ход событий с целью сохранить самодержавие. Она оберегала трон для Алексея. Перед этой задачей меркло все, она рассорилась с аристократией, не давала проходу министрам, не замечала брожение умов, отказывалась даже от малейших уступок, без устали увещевала своего вечно нерешительного супруга. Александра стояла на слепом абсолютизме.
Ее политический идеал заключался в том, чтобы сохранить в стране положения дел, оставленное Александром III. Каждодневной задачей было поддержать царя, укрепить его дух перед лицом испытаний, придать ему смелости и помочь выбрать решение, что соответствовало бы представлениям императрицы о самодержавной императорской власти.
Страна, потрясенная после сдачи Порт-Артура японцам в декабре 1904 г., уже несколько лет жила под ритм народных выступлений, городских стачек, крестьянских восстаний в деревнях. Покушения следовали одно за другим, даже в армии не удавалось избежать мятежей. Николай отказался от каких-либо либеральных послаблений в режиме. Тогда петербургские рабочие собрались и решили донести свои жалобы до того, кто до сих пор был для них «отцом родным», любящим свой народ и неспособным причинить ему зло. Они устроили шествие, неся перед собой иконы и портреты Николая II, распевая религиозные песни и «Боже, царя храни!». В тот день, 9 января 1905 г., Николай II находился не в столице, а во дворце в Царском Селе, что в 30 км от города. Следовало ли ему вернуться в Зимний и принять петицию, при том, что она была совершенно умеренная? Так предлагал кое-кто из императорских советников. Судя по всему, дело было в царице. Александра убеждала Николая не уступать народной дерзости. Английский военный атташе в Санкт-Петербурге позже признался своему королю, каким несчастьем обернулся отказ царя встретиться с собственным народом, и вину за это он возлагал на Александру. «Да, – лаконично ответил Эдуард VII, – боюсь, что она не всегда оказывает благое влияние».
Армия стала стрелять по безоружной толпе, убив, по неофициальным данным, от 800 до 1000 человек. «Кровавое воскресенье», возмутившее всех либералов, разорвало «священную связь» между народом, который царица настойчиво величала верным, и его царем[276]. Набирала обороты революция 1905 г. «Тяжёлый день! – записал в дневнике Николай II, – В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых»[277]. После того страшного дня покушения участились. 4 февраля был убит дядя Николая великий князь Сергей, горячий поборник репрессий. На Черном море взбунтовался экипаж броненосца «Потемкин» – увековеченный кинорежиссером Эйзен-штейном в 1925 г., – рабочие советы устраивали все новые забастовки, волновались студенты, восставали деревни. Как отмечала Элен Каррер д’Анкос, Россия катилась к анархии.
Посреди этого водоворота событий Александра изо всех сил советовала мужу быть сильным, отменить все уступки, толкала его к репрессиям. Сразу после «Кровавого воскресенья» Николай II учредил должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга, дал ему огромные полномочия, чтобы взять под контроль город и заставить жителей подчиниться. Пост получил властный генерал Д. Ф. Трепов, который отныне вставал во главе всей имперской полиции, и достался он ему благодаря настойчивым рекомендациям царицы.
Тут же император столкнулся с таким революционным напором, что был вынужден пойти на попятную. Он счел за лучшее «простить» народ, якобы обманутый опасными подстрекателями. Такой милостью вовсе не удалось успокоить толпу. Царь простил мирную демонстрацию, с которой так жестоко расправились? Народ не искал императорского прощения, он требовал полноценных реформ. Стоило ли снова прибегнуть к силе? Она ничего не дала. Министры заверили Николая: он не сумел бы подавить силой поднимающее голову протестное движение. Оставались уступки. В период с февраля по октябрь они были сделаны в форме трех императорских манифестов.
Первый оказался таким мягким и неопределенным, что спровоцировал новое волнение против самодержавной системы. Второй учреждал выборную Думу (собрание), но она имела только совещательный голос и ограниченные полномочия; Манифест сочли полумерой и встретили беспрецедентной всеобщей забастовкой и сильнейшими волнениями в студенческой среде.
Отчаявшийся Николай не знал, как ему спасти режим. Первые две уступки, слабые меры, давшиеся ему такой ценой, не возымели ни малейшего эффекта. Не предают ли своего правителя министры, насоветовавшие ему эти действия? Императорская чета жила в иллюзии, что если интеллигенты (безответственные), либералы (мелкие пособники сатаны), социалисты (так им положено) и рабочие настроены против царя, то русские крестьяне – «истинный» народ, «настоящая» Русь – готовы прийти ему на помощь. В Царском Селе, изолированный от мира во дворце, который забастовки на железной дороге отрезали от остальной страны, Николай не мог принять решение. Александра была рядом с ним. Во время тех трудных дней она неустанно советовала ему подавить мятежников, осмелившихся восстать против основ империи и стремившихся подорвать русскую традицию. Тогда министр Витте, искавший решение, попросил у царя аудиенции, и 6 октября, после долгих девяти месяцев волнений, последовавших за «Кровавым воскресеньем», предложил Николаю курс настоящих уступок, который упразднял принцип самодержавия в пользу конституционной монархии, переворачивая существующий порядок.
Николай еще немного посомневался. Его привлекала военная диктатура. «Вы не должны уступать, – подстегивала его царица. – У вас нет права уступать. Вспомните, кто вы, вспомните, что вы – самодержец и можете делать все, что вам угодно»[278]. Царь, наконец, согласился с предложениями министра. К тому же вмешался дядя императора великий князь Николай и объяснил тому, что у авторитарного решения нет ни одного шанса на успех. 17 октября Николай II с болью в сердце заставил себя подписать третий манифест, даровавший народу основные гражданские свободы и объявлявший о созыве законодательного собрания – Государственной думы – на основе цензовых выборов.
Как и муж, Александра не одобряла эту победу, пусть и частичную, (во всеобщем избирательном праве было отказано) либеральной части общества. Витте стал для нее злым гением. Она обвиняла его в том, что он вырвал у Николая непомерные послабления, что он неверен государю, стремился к самым высоким прерогативам в ущерб царю. Разве не его назначили председателем совета министров (первым премьером в русской истории) нового института, который Николаю учреждать не хотелось? Царице было невыносимо видеть, как Витте допустили к посту главы демократического правительства, как он сам назначал министров и был готов вступить с царем в противостояние. Александра зара зила мужа своей неприязнью: говоря о Витте, Николай уверял мать, что никогда еще не видел «такого хамелеона».
Царица проиграла, но жаждала взять реванш. Ей помог «Союз русского народа». Эта экстремистская организация правого толка стремилась вернуть, пусть ценой насилия, порядок в стране, балансирующей на грани гражданской войны. Шествия, на которых эти воинствующие фанатики размахивали портретами императорской семьи, вселяли в Александру надежду. Приверженность самодержавию и склонность к авторитарным мерам сделали их союзниками. По просьбе царицы делегации от «Союза русского народа» принимали при Дворе. Это составляло «несчастье России», говорил генерал Мосолов. И продолжал: «Я никогда не знал, кто устраивал эти приемы, но полагаю, что императрица участвовала в этом деле, пребывая в уверенности, что император не должен отступать от самодержавия»[279]. Принимая с глазу на глаз тех, в ком он видел спасителей трона, Николай стал носить их знаки отличия и публично заявил: «Да будет же мне Союз русского народа надёжной опорой, служа для всех и во всем примером законности и порядка».
В октябре 1905 г. Николай согласился на учреждение конституционной монархии исключительно под давлением обстоятельств. Первая дума, созванная 27 апреля 1906 г., через два месяца указом императора была распущена; вторая просуществовала чуть более трех месяцев; и лишь третья, действовавшая по указке правительства, прожила все 5 лет, отведенные ей мандатом. Парламентская практика раздражала царя, неприязненно настроенного по отношению ко всему политическому представительству: «Когда же они замолчат? Когда же они замолчат?» Взбешенный Николай сомневался в верности собственных министров, даже тех, кого в наименьшей степени подозревал в либеральных идеях, и не находил себе места: «Господи, что же они медлят с роспуском этой Думы! Когда же им заткнут рот?»[280]
Императорская чета крепко держалась за свои убеждения, не желала слушать мудрые советы, верила тем, кто был готов непримиримо бороться за старый режим. Супруги все реже показывались в Санкт-Петербурге. Здоровье Александры пошло на спад: она быстро уставала, мучилась мигренями, сердечными спазмами, на лице пылал лихорадочный румянец. Она отказывалась от приемов, избегала праздников, вела себя тихо. Верно говорили, что в самые сложные моменты публичной жизни личная жизнь четы была сплошной мукой: состояние здоровья Алексея составляло предмет ее ежедневных тревог и причину непрерывных страданий.
Распутинский гребень
Медики высказались категорично: болезнь царевича – неизлечима. Этот вердикт поверг Александру и Николая в отчаяние. К горю матери из-за больного ребенка у царицы примешивалось чувство вины: гемофилией страдали в ее роду, и именно она передала ее сыну. Как и муж, Александра боялась кризисов, каждый из них был очень тяжелым, мог стать смертельным, и они лишали Алексея возможности нормально жить. Помощи от медицины ждать не приходилось. Александре оставалось надеяться только на Бога. И в ожидании чуда она обратилась к мистике.
Ее характер, и без того малообщительный, стал совсем тяжелым. Один из приближенных, генерал Спиридонович, возглавлявший личную охрану царя, говорил, что «истерико-неврастения», которой страдала Александра, «явилась причиной преувеличенных симпатий и антипатий императрицы, причудливого характера ее образа мыслей и действий, религиозной экзальтации и веры в чудеса в целом»[281]. Склонность к религиозной мечтательности, появившаяся в Александре после обращения в православие, принимала различные формы мистицизма, имевшего целью обретение заступника, «божьего пророка» или исцелителя, визионера, гипнотизера либо медиума. Еще до рождения Алексея она как-то прикипела душой сначала к экзальтированному священнику, а затем к чудотворцу, потчевавшему ее туманными предсказаниями. Когда стало известно о болезни царевича, мистицизм Александры деградировал, как выразился граф Витте, в своего рода «фанатизм, не сглаженный никакими проявлениями доброты и мягкости»[282]. Вместо того чтобы полагаться на человеческое знание, Александра уповала на небо и самозваных целителей. Ее молитвы или молитвы «божьих людей» смогли бы – императрица была в этом уверена – исцелить Алексея. Будь у царицы здоровый ребенок, она не позволила бы возобладать над собой тому сомнительному мистицизму, который разносили опасные мистификаторы. Но сраженная состоянием Алексея, Александра видела спасение для сына только в их помощи.
Николай, хоть и был, как жена, потрясен состоянием здоровья наследника трона, не пошел ее путем. Его вера была куда проще и не искала религиозной экзальтации. Фаталист по натуре, Николай положился на Божью волю и позволил царице свободно предаваться надежде на чудо, не сопровождая жену в ее исканиях. Тем не менее он разделял веру Александры в «Божьего посланника», обладавшего даром целителя – Григория Ефимовича Распутина[283].
Александра ценила его (при том, что он не был ни священником, ни монахом, имевшим бы репутацию святого) за колдовство. Магнетическая сила, каковой обладал Распутин – этот знаменитый «пронизывающий взгляд, проникающий в самую глубину души», – и сверхъестественные способности, которые он якобы имел, сделали его любимцем дам из аристократической среды. Петербургские салоны рвали его друг у друга из рук. Он главенствовал на мистических собраниях и учил своих поклонниц святой жизни. Епископ Феофан, духовник царицы, представил его государям. Неграмотный мужик, вечный паломник-бродяга бывал в Иерусалиме и монастырях на горе Афон. Его научили правильно одеваться, расчесываться, мыться, и ему стало удаваться располагать к себе людей.
Представление Распутина царю состоялось в ноябре 1905 г. Николай оставил в дневнике лаконичную запись: «Познакомились с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии»[284]. Тот остался в столице. Вскоре о Распутине пошла слава, в июле 1906 г. он был принят государями в семейном кругу и произвел там большое впечатление. Впервые его пригласили во дворец 15 октября. Распутин становился все известнее. Все говорили только о нем. В следующем году министр П.А. Столыпин, после того как на него было совершено покушение, позвал Распутина помолиться у постели раненой дочери. Старец (так называли святых, но не религиозных людей) «казался все более убежденным, – пишет генерал А.И. Спиридович, – в своем предназначении сотворить что-то великое»[285]. В 1908 г. Распутин сблизился с Анной Вырубовой, любимой фрейлиной царицы. Перед святым прорицателем распахнулись двери императорского дворца.
Поначалу Николай с Александрой увидели в нем представителя народной веры, простого и пылкого, одного из «божьих людей», в которых нет недостатка в России. Александра верила, что нашла не менее чем духовного наставника монархии, человека, который спасет династию. Николай, не разделявший восторгов жены, был не готов следовать политическим советам этого вдохновенного крестьянина, но с удовольствием слушал его рассуждения о том, что самодержавие являлось единственно возможной в России формой государственного устройства. Самое главное, царственная чета видела в нем спасителя царевича. Своими молитвами старец умел облегчать невыносимые страдания Алексея, а значит, обязательно смог бы его вылечить. Так Распутин сблизился с императорской семьей.
В конце октября 1907 г. «святой», хорошо знавший человеческую душу и охотно предсказывавший будущее, стал целителем. Как-то раз в Царском Селе после падения с царевичем случился новый приступ кровотечения. Собравшиеся у его изголовья медики оказались бессильны. Александра позвала Распутина, тот приехал во дворец к полуночи, стоял у постели больного мальчика и молился. На следующий день царевичу полегчало. В тот вечер Распутин стал незаменимым.
История рассказывает и о других впечатляющих эпизодах с колдовскими способностями старца. Осенью 1912 г. в польской Спале у царевича из-за тряски во время прогулки начался очередной приступ гемофилии. Такие кризисы у ребенка разрывали родителям сердце. И снова врачи капитулировали. Казалось, что все кончено. Алексей получил последнее причастие. Распутин был далеко. Но в ответ на просьбу царицы помолиться он прислал телеграмму: «Болезнь не кажется опасной. Пусть врачи не утруждаются»[286]. На следующий день кровотечение остановилось само по себе. Как могла не уверовать в чудо пораженная мать?
Через несколько месяцев во время отдыха в Крыму царевич упал, и опять началось кровотечение. Императорскую семью сопровождал Распутин. Его вызвали. Магнетические пассы и молитвы вновь спасли больного мальчика. В 1915 г. аналогично закончился еще один страшный приступ. «Императрица на коленях у кровати сына не знала, что предпринять». Позвали за чудотворцем. Тот приблизился к постели, «осенил крестным знамением наследника, сказал, что у него ничего серьезного нет и что [государям] незачем беспокоиться, затем вышел. Кровотечение прекратилось… Врачи признались, что они ничего не понимают»[287].
Подобные удачи свидетельствовали о сверхъестественных способностях целителя и о необходимости его постоянного присутствия. Если царю от «Божьего человека» не было нужно ничего, кроме спасения сына, то Александра постоянно советовала мужу приобщиться к размышлениям старца: «Наш Друг обладает Божьим даром давать полезные советы для тебя и нашей страны и умеет видеть будущее»[288]. Однако Николай сопротивлялся нажиму жены и отказывался совещаться с целителем по поводу политических дел.
Распущенность в личной жизни заработала Распутину множество врагов. Отчеты о его безнравственном поведении копились в письменных столах православных прелатов и государственных чиновников. Шарлатан, мошенник, авантюрист, растлитель тел и душ, эротоман – эти обвинения раз за разом выходили из-под пера министра П.А. Столыпина. Ему вторили монах-проповедник Илиодор и епископы Гермоген и Феофан – они же в свое время и представили Распутина обществу. В прессе печатали фотографии женщин, которых совратил старец. Похотливый развратник – вот кем оказался Божий человек, близко сошедшийся с императорской семьей. Пытались привлечь к этому внимание царицы, поскольку та разрешила Распутину бывать в комнате дочерей. Но Александра не видела в этом ничего плохого. «Это, – заявила она тем, кто предупреждал ее, – обычная клевета против тех, кто живет святой жизнью». Царь думал аналогично. Николай объявил как-то одному автору отчета против Распутина: «Он – добрый человек, русский, простой и набожный. Я люблю беседовать с ним в моменты тревоги и сомнения, поскольку после разговоров с ним в мое сердце возвращаются спокойствие и безмятежность»[289]. Кто-то из приближенных заметил, что старец не достоин быть вхож во дворец. «Мы можем принимать того, кто нам по нраву», – недовольно отвечал император.
Николай и Александра отмахивались от всех обвинений. Их словно не трогали слухи, выставлявшие их же самих в нелицеприятном свете. Иногда эти сплетни запускал сам Распутин, наглевший еще больше, – он любил хвастаться своей тесной дружбой с царицей. Однажды на какой-то попойке он рассказывал с откровенными подробностями о своих подвигах с женщинами, перечислял любовные победы, раскрывал секреты анатомии. Потом вспомнив про царицу, назвал ее «старухой» и объявил: «Я делаю с ней все, что хочу». Надлежащим образом проинформированный полицией Николай ограничился тем, что пожал плечами, и вместе с женой простил виновного. В газетах то и дело мелькали материалы об оргиях, которые приписывали Распутину, его якобы близости с царицей. Все это становилось темой памфлетов, но государей нисколько не волновало. Николай оставался глух к полицейским донесениям, Александра же видела работу дьявольских сил во врагах того, кого она называла вторым гонимым Христом.
Императорская чета, всегда готовая казнить или миловать, полагала, что она многим обязана спасителю сына. Говоря в целом, Александра видела в Распутине святого, которому угрожали враги, и хотела защищать его от всех недругов. Ее фанатичное обожание доходило даже до фетишизма, когда она писала мужу письма такого плана: «Не забудь перед заседанием министров подержать в руке образок и несколько раз расчесать волосы Его гребнем»[290]. Однажды царица послала мужу цветок и яблоко «от нашего Друга». В другой раз она отправила ему палку, которая принадлежала Распутину и, тот касался ее рукой: «Если сможешь, пользуйся ею время от времени; будет хорошо, если она будет у тебя».
Не позволял ли себе столь расхваленный царицей ангел-хранитель, посланный господом, чтобы защитить святую Русь, вмешиваться в политику?
Переоцененное влияние
Иногда императорской чете приписывали рабское подчинение желаниям и прихотям Распутина, ставшего оккультным владыкой России. Его руку видели везде. Ему подчинялось правительство империи, а царь, пляшущий под дудку жены, превратился в марионетку. На самом деле все обстояло сложнее, и действительное политическое влияние старца сильно преувеличено.
Действительно, в 1913 г. он признался журналистам, что не одобрял участие России в Балканских войнах – этого шага боялись все европейские министерства[291]. Тогда он впервые публично влез в государственные дела, и Александра тут же поддержала его точку зрения. Но Николая II нисколько не интересовали ни его, ни чьи-то еще взгляды, он старался не вмешиваться и сохранять нейтралитет. Впрочем, мнения Распутина были продиктованы не высшими дипломатическими соображениями, а здравым смыслом крестьянина, познавшего на своем опыте беды и страдания войны. «Дурная штука, эта война», – объявил он[292].
Точно так же Распутин советовал царю не входить в конфликт в 1914 г. Тогда он находился не в Санкт-Петербурге, а в Сибири, в своей родной деревне, где лечился после того, как одна дама, посчитав его Антихристом, ударом молотка ранила его в живот. Встревоженная известием об этом покушении Александра в своей личной часовне ежедневно проводила молебен за исцеление Распутина и каждый день отправляла телеграммы, справлявшиеся о его здоровье. Она расспрашивала его, удастся ли миновать войны, а он отвечал, что «еще не пришел час». Однако время от времени Распутин направлял царю письма пророческого содержания, где уговаривал не вмешиваться в конфликт, который станет гибельным. Царица пребывала в отчаянии. Целитель находился далеко и был нездоров, а сын чувствовал себя плохо. 19 июля, в день объявления войны он не сумел подняться и показаться народу. Но ни советы Распутина, ни болезнь сына не помешали Николаю II исполнить свой долг[293].
Царь не давал повлиять на себя письмам жены, которые она ему строчила, ни послания «Друга» – так Александра именовала старца. Не раз Николай II снимал или назначал министров так, что это не нравилось его супруге. В июне 1915 г. он решил отозвать Владимира Саблера, «человека Распутина», кому, как говорили, он был обязан своим местом во главе Святейшего синода, каковым он правил железной рукой. На его место поставили Александра Самарина – всеми уважаемого москвича, врага Божьего человека, которого он считал членом позорной секты и закостенелым развратником[294].
Николай предвидел реакцию супруги, когда сообщал ей о назначении: «Я уверен, что тебе не понравится это, потому что он москвич, но эти изменения должны состояться». На следующий день Александра дала резкий ответ: «Да, моя любовь, я более чем расстроена из-за Самарина, я просто в отчаянии… У меня есть основательные причины не любить его, поскольку он всегда говорил и продолжает говорить в армии против нашего Друга, и все будет плохо… Он против «нас», против Григория и настолько ограничен, настоящая голова без души. Мое сердце тяжело словно свинец». Через два дня она возобновила свои попытки и клеймила «московскую клику», «настоящую паучью паутину, опутавшую нас», напомнила, что «враги нашего Друга – наши враги», сетовала на судьбу: «Я так несчастна с тех пор, как узнала об этом, и не могу успокоиться», превозносила способности старца, заявила: «Мы не достаточно прислушиваемся к его словам» и решительно заключила: «Я постаралась бы разубедить тебя, будь ты здесь [Николай находился в Генеральной Ставке], и верю, что Господь мне поможет и, ты начнешь прислушиваться к словам нашего Друга. Когда он говорит нам что-то не делать, а мы все равно это делаем, то потом мы поймем, что мы ошиблись»[295].
Николай не всегда разделял восторженное мнение жены о Распутине. «Ты сама знаешь, – написал он ей 9 сентября 1916 г., – что мнения нашего Друга иногда слишком странные. Поэтому необходимо быть благоразумным, когда речь идет о назначениях на важные посты»[296]. Но Александра редко отступала. Из слабости или желания сохранить мир в семье царь, в конце концов, чаще всего сдавался, когда она требовала отозвать министра или генерала, но сохранял свободу самому назначать преемника, не задерживаясь на кандидате, которого предлагала императрица. Вот такая полузависимость.
Иногда Александре и Распутину приписывали чьи-то спешные отставки, но на самом деле у тех были более глубокие причины. Возьмем председателя совета министров графа В.Н. Коковцова, освобожденного от должности в феврале 1914 г. Царица считала, что он виноват в беспорядках и забастовках страны, и невзлюбила его. Со своей стороны, Распутин хотел отомстить за отчет, в котором граф ругал его поведение. Тогда старец обвинил его в том, что он обогащался за счет казны и губил крестьян, торгуя водкой (что составляло монополию государства). Сам В.Н. Коковцов полагал, что знал, кто подстрекал Николая II преследовать его: «Я отчетливо вижу, что его [царя] толкают под руку, что ему надоедали целыми днями и не оставляли в покое, пока не было принято решения отозвать меня». На самом деле Распутин играл только вторичную роль. Финансовая политика министра, соперничество с коллегами и нежелание дать Думе реальную законодательную власть стали причинами снятия В.Н. Коковцова. Распутин же не получил удовольствия видеть, как на место недоброжелателя ставили его кандидата – графа С.Ю. Витте, по отношению к которому царь оставался настроен решительно негативно[297].
Развязывание войны в 1914 г. словно дало Божьему человеку право сообщать через Александру свое мнение о военных операциях. Неспешно мобилизованная русская армия поначалу добилась кое-каких удач в австрийской Галиции, но затем потерпела поражение в восточной Пруссии. Изгнанная из Польши, Литвы и Курляндии она несла огромные потери, оцененные в 1915 г. в 2,5 млн человек. Однако немецкое наступление, при всей своей успешности, не смогло одержать окончательной победы на русском фронте[298].
Тогда Николай II решил взять на себя верховное командование армией и сместил генералиссимуса – своего дядю Николая Николаевича, двухметрового великана, которого солдаты обожали. Этот шаг, определивший течение войны и будущее монархии, был исключительным: его совершали всего двое из предков Николая: Петр Великий и Александр I[299]. Министры и императрица-мать умоляли его передумать: у Николая не было никакого стратегического опыта, и в случае поражения вся вина ложилась исключительно на его плечи. Царь совершенно не стремился к славе предков, он уступил жене.
Александра, давно завидовавшая влиянию великого князя на политические дела, не прощала ему того презрения, с каким он относился к Распутину. «Как ты не понимаешь, – писала она мужу, что предавая Божьего человека, невозможно получить небесное благословение; успеха в делах не будет». Царица набросала карикатурный портрет великого князя: неумный, упрямый, подвержен чужому влиянию, плохо понимал страну, уважать его можно только за манеры и громовой голос, он ненавидел «Друга», а это всегда приносило несчастье. Николаю, чтобы прогнать беду, надо занять его место верховного главнокомандующего. Император исполнил волю Александры 23 августа 1915 г., но пояснил причины своего поступка. «Внутренний голос, – сказал он, – побуждает меня принять решение и сообщить его великому князю Николаю независимо от всего того, что говорит наш Друг»[300]. Иногда царице удавалось передать Николаю II порцию мистицизма.
Царь обосновался в Ставке в Могилеве и назначил главу штаба, ответственного за проведение операций. Гражданская власть в Санкт-Петербурге оказалась в руках Александры. Никогда еще ей не доставалось столько полномочий и доходило до того, что она сообщала царю советы Распутина о войне. «Я должна передать тебе поручение от нашего Друга, – писала Александра 15 ноября 1915 г., – вызванное его ночным видением. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги, говорит, что это необходимо». 22 декабря она заявила: «Наш Друг все молится и думает о войне. Он говорит, чтобы мы ему тотчас же говорили, как только случится что-нибудь особенное». 6 января 1916 г. сообщила, что «он жалеет, я думаю, что это наступление начали, не спрося его. Он посоветовал бы подождать»[301]. Несмотря на то что его влияние на царицу и выходки раздражали высших представителей общества, Распутин строил из себя стратега, чем страшно злил главнокомандующего штабом.
Все было плохо: царь покинул собственную столицу, царица погрязла в мистике и вечно слушала этого Распутина, которому словно все нипочем[302], дворцовые интриги, мелкие маневры министров, столкновения с четвертой Думой, трудности со снабжением, страх военной катастрофы, несмотря на успехи летом 1916 г.[303] Подобный климат – хорошая питательная среда для всяких слухов. Дворцовую тройку ругали на чем свет стоит. Меньше всех доставалось Николаю, а Александру и Распутина не щадили. Их называли любовниками, агентами на службе императора Вильгельма II, которые замыслили сепаратный мир с Германией и готовили к этому царя, опаивая его мистическим ядом. Общество предавалось подобным фантазиям, когда прогремела новость: Распутина больше нет, его убил 17 декабря 1916 г. князь Юсупов, сговорившись с одним из членов императорской семьи, великим князем Дмитрием, внуком Александра II.
Гибель Распутина обрадовала всех горожан[304], а Александра была подавлена: явился святой, но его убили. Николай же, все еще находившийся в Ставке, напротив, казалось, почти не огорчился. Один из очевидцев сообщал, что, услышав известие, он удалился, насвистывая, словно почувствовал облегчение. Поразительное самообладание царя известно, но также известно, что постоянные вмешательства Распутина уже начали ему надоедать. «Прошу тебя, – недавно написал он жене, – не позволяй нашему Другу вмешиваться в выбор министров… Я желаю быть свободным в своем выборе»[305]. Александра же лишилась наставника, колдуна, пророка и спасителя сына. При жизни Распутина царевич справлялся с болями благодаря молитвам Божьего человека. Теперь старца не стало, и Александра предчувствовала, что дни Алексея сочтены. Отныне, написал воспитатель императорских детей, «была возможна любая катастрофа, любое несчастье. Начался период ожидания, – мучительного ожидания неизбежного горя»[306].
Александра, «хозяйка» дворца[307]
С тех пор как Николай встал во главе Ставки в Могилеве, Александра, остававшаяся во дворце, правила страной. Вообще-то царь не учреждал института регентства, как делали французские короли, отбывая на войну, и официально не делил власть с женой. Он сохранял свои прерогативы и сам подписывал указы, принимал министров. Оставался царем в полном смысле слова. Но в Царском Селе Александра не довольствовалась решением текущих вопросов, она вдохновляла на принятие решений. Если в старорежимной Франции, когда Генрих II или Людовик XIII, находясь вдали от Парижа, держали под строгим контролем все инициативы Екатерины Медичи или Анны Австрийской, а те выполняли регентские функции, имея минимум личной власти, то Николай II, монарх неизменно нерешительный, был рад видеть, что жена способна занять его место. Александра не получила полномочий самостоятельно принимать решения, но ей разрешили предлагать решения, которые затем одобрял Николай. Тот оставил жене довольно широкое поле для маневров. «Тебе надо бы быть, – писал он из Могилева, – моими глазами и ушами там, в столице, пока мне приходится сидеть здесь… На твоей обязанности лежит поддерживать согласие и единение среди министров – этим ты приносишь огромную пользу мне и нашей стране!» Он признался, как рад, что более не обязан выступать посредником между разными группировками. «Теперь я, конечно, – заканчивает Николай, – буду спокоен и не буду мучиться, по крайней мере о внутренних делах»[308]. Сбросив обязанности правителя, Николай II сделал жену своеобразной хозяйкой дворца.
Александра воспринимала свою роль со всей положенной серьезностью. Ее всегда интересовали дела государства, теперь же она была в самом эпицентре информации. Ей надо было все услышать, все узнать и сообщить Николаю о плодах своих трудов и размышлений, чтобы лучше подсказать, вдохновить, посоветовать. Прилежная царица принимала министров с небольшим блокнотом в руках, записывала их слова, собирала их сведения. Она стремилась оправдать доверие царя: «Не бойся за то, что остается позади, я держу ухо востро… У меня крепкая хватка и я заставлю старика [премьер-министра И.Л. Горемыкина] быть сильным»[309]. Николай был на седьмом небе. «Какая жалость, – признался он, – что ты не исполнила этой обязанности давно уже или хотя бы во время войны! Я не знаю более приятного чувства, как гордиться тобой»[310].
Временами Александра ненадолго навещала мужа в Могилеве и ежедневно писала ему. Насчитывается около четырехсот ее писем к нему, перемежающихся отчетами о придворных и государственных делах, постоянными увещеваниями быть тверже. Нередко царь посылал в ответ целые вереницы банальностей. В Ставке главнокомандующего Николай старался не вмешиваться в ход военных операций: стратегические решения он оставил для верховного командования. Благородным гостем он ездил вдоль строев, подбадривал солдат, утешал раненых, с гордостью демонстрировал царевича войскам – но не больше. Когда он осмеливался говорить с женой о стратегии, то его стиль больше напоминал Прюдома[311] нежели генерала Кутузова. «Если бы в течение месяца не было сражений, – писал он с потрясающей наивностью, – наше положение было бы куда лучше!» Как и в мирные времена, все его внимание занимали атмосферные перемены, равно как изменения в природе. Здоровье сына, с кем он прогуливался и делил комнату в деревне, занимало его больше, нежели гибель солдат. Когда русские солдаты умирали неподалеку от него, Николай убивал скуку за чтением сентиментальных романов и проливал слезы над «Маленьким голубым мальчиком»[312].
Александра же занималась политикой и даже политическими интригами, она то и дело меняла министров, мстительно преследовала врагов покойного Распутина, злилась на требования депутатов Думы[313]. Письма к Николаю пестрели всевозможными «немедленно сделай то», «телеграфируй сюда», «говорю тебе я», «ты должен показать себя твердым и не отступать», «не слушай тех, кто идет не от Бога и труслив», «не меняй никого, пока мы не встретимся»… Она охотно замещала царя, объявляла о снятии одного министра, советовала сослать другого в Сибирь под предлогом, что «когда-то так делали и по куда менее серьезным причинам». Александра неискренне изображала скромность: «Может быть, я не достаточно умна, но я справедлива, и иногда это полезнее, чем иметь мозг». Или: «Я – только женщина, но мои сердце и мозг говорят, что это станет спасением России»[314].
В этих последних словах заключено все: Александра как никогда верила, что ее призвание – спасти империю. Твердость, к каковой она призывала царя, не была признаком нечеловеческого характера; она добивалась блага для России и была настолько занята охраной самодержавия, что не допускала никакого послабления, не допускала никакой уступки. Непреклонность, жесткость, властолюбие сильнее, чем когда-либо занимали мысли Александры. Для нее военные неудачи были вызваны ни экономическими трудностями, ни дефицитом транспортного топлива, ни страшной нехваткой припасов. Во всем были виноваты исключительно генералы, их требовалось наказать: «Вот бы их повесить! Почему они так слабы? Будь суров с ними!» Кроме того, она призывала к суровости в отношении депутатов Думы, виновных в том, что захотели делить власть с царем. Представительский строй наводил на Александру ужас. «Это, – писала она Николаю, – должна быть твоя война и твой мир, честь нашей страны, а уж ни в коем случае не Думы; они не могут и слова сказать по поводу того, что касается наших дел»[315]. Александра неустанно отстаивала необходимость роспуска собрания: «Дума – гнилая», «Правит царь, а не Дума», «Разгоните Думу».
У внимательных наблюдателей, очевидцев народного волнения, вызывало тревогу то, что страна словно катилась в политический тупик, а послы Антанты, англичане и французы боялись революции, которая грозила сепаратным миром. Все умоляли об уступках. «Провозгласите Конституцию, – дал здравый совет дядя Николая великий князь Павел, – чтобы вызвать потрясение и выбить почву из-под ног всевозможных экстремистов»[316]. Но монархи, далекие от реальности, не понимающие происходящего, собрав последние силы, дали отказ.
Николай оставался заложником мифа о самодержавии и высокомерно заявлял: «Не я должен заслужить доверие моего народа. Он должен заслужить мое». Но временами к таким надменным интонациям добавлялась наивность: «Ситуация не настолько трагична, все устроится». Царь, казалось, бежал от забот в нарочитое равнодушие.
Более предприимчивая Александра назначала и снимала министров. В декабре 1916 г. она уволила председателя Совета Александра Трепова, провинившегося тем, что был врагом Распутина, преследовала Павла Игнатова, министра народного образования за то, что тот осмелился перечить государям, в январе 1917 г. назначила премьер-министром престарелого князя Н.Д. Голицина, поскольку он самоотверженно работал в благотворительных организациях, которые она возглавляла. Царица доверяла только тем, кто разделял ее взгляды, не заботясь об их компетенции. Исчезновение Распутина осталось без последствий. А известный политик, в недавнем прошлом пользовавшийся расположением старца Александр Протопопов оставался на должности министра внутренних дел, хотя и начал сходить с ума. В начале 1917 г. действовавшее правительство, практически полностью подчинявшееся царице, не сумело справиться с кризисом, вызванным затянувшейся войной.
Общественное мнение было настроено в отношении царицы очень негативно. Ее никогда не любили, а теперь просто ненавидели. О ней ходили всевозможные слухи: самым тяжким, хотя и несправедливым, было обвинение в германофилии под предлогом немецкого происхождения Александры. Царица же, получившая благодаря бабушке королеве Виктории английское воспитание, ощущала себя скорее британкой. Ее возмущала жестокость солдат кайзера в оккупированной Бельгии («Мне стыдно быть немкой», – сказала она тогда), она терпеть не могла императора Вильгельма II и отказалась принять тайных эмиссаров в разгар войны, несмотря на то что ее брат приехал из Гессена. Больше всего Александра сроднилась со страной, где она правила: она была русской, любила Россию и верила, что здесь ее любили. Удивительная самоотверженность, проявленная Александрой в военных госпиталях, ни к чему не привела: в глазах народа она оставалась «немкой», подобно тому как Мария Антуанетта, королева Франции была «австрийкой».
Хотя председатель Думы не принимал на свой счет подобную клевету, он тем не менее нашел смелость сказать царю, насколько критично и негативно настроена страна. Требовалась реформа политической системы. Россия надеялась на появление правительства, которое бы несло ответственность перед народным собранием, т.е. на первый шаг к полноценной конституционной монархии. Председатель Родзянко, обращаясь к государю, показывал, что он единственный, кто был способен взять на себя инициативу, поскольку его посредственное окружение было бессильно, и он резко отозвался о царице. «Ни для кого не секрет, – настаивал он, – что императрица помимо вас отдает распоряжения по управлению государством, министры ездят к ней с докладом и что по ее желанию неугодные быстро летят со своих мест и заменяются людьми совершенно неподготовленными. В стране растет негодование на императрицу, ненависть к ней… Для спасения вашей семьи вам надо, Ваше Величество, найти способ устранить императрицу от влияния на политические дела»[317].
Императрица-мать уже давно подумывала, как бы забрать у Александры власть. «Не знаю, как бы это могло произойти, – сказала она. – Возможно, она совсем сойдет с ума; возможно, что она окажется в монастыре или вовсе исчезнет»[318]. Родня императора разделяла желание избавить Николая от пагубного влияния жены, сослав ее, например, в Крым или монастырь, а некоторые подумывали о том, чтобы убедить Николая отречься в пользу сына и дать регентство великому князю Николаю или брату царя Михаилу. Близкие государя не желали быть втянутыми в надвигающуюся катастрофу.
Двоюродный брат Николая великий князь Александр уже сказал жестокие слова царице, упорно не хотевшей делиться властью с Думой: «Значит, вы готовы сдохнуть вместе с мужем. Но, внимание, мы не хотим последовать за вами в вашем безумном ослеплении… У вас нет никакого права втравлять нас в это бедствие»[319]. Назревал дворцовый переворот, который должен был предотвратить катастрофу. Получалось, отмечал Марк Ферро, что родственники отвернулись от императора накануне разразившейся революции.
Вместе в беде
Николай II, как обычно упорно не желавший уступать и уставший от упреков родни, решил вернуться в Ставку, которую покинул. Он уехал из Царского Села 22 февраля 1917 г. Ни частые народные собрания, ни остановка работ, вызванная повышением цен на продовольствие, ни призыв к манифестации, брошенный петроградскими[320] рабочими, ни экстремистские заявления, произносившиеся в Думе, не задержали Николая в столице. Александра, напротив, выступала в авангарде. Она злилась на депутатов («Я надеюсь, что Керенский будет повешен за свои отвратительные речи»), но старалась не провоцировать демонстрации («Не следует стрелять по толпе») в надежде вернуть спокойствие. Тем временем события развивались стремительно. 24 февраля на Невском проспекте пели «Марсельезу», на следующий день город был парализован, а вечером полиция где-то стреляла. 26 числа армия побраталась с бунтовщиками. 27 февраля – всеобщая забастовка переросла в революцию, Зимний дворец был захвачен[321].
В Могилеве царь не получил полной информации и отказывался верить в очевидное. Недоверчивый, он немного поупрямился и решил вернуться в столицу с намерением задавить мятеж. Но его поезд задержали железнодорожники. Куда бежать? Петроград и Москва находились в руках революционеров. Николай попробовал укрыться в Пскове, где располагался генеральный штаб северной армии. 2 марта он отрекся сначала в пользу сына, а затем, по совету придворного врача доктора Федорова, отнявшего у него всю надежду на то, что когда-то он увидит Алексея на троне, переписал документ в пользу брата, великого князя Михаила. Близких удивило внешнее спокойствие Николая: «Он был отставлен от империи, как капитан от своего эскадрона».
Александра ничего не знала о случившемся в Пскове. Она снова написала Николаю: «Все будет хорошо… Ясно, что они хотят не допустить тебя увидеться со мною, прежде чем ты не подпишешь какую-нибудь бумагу, конституцию или какой-нибудь ужас в этом роде… Если тебя принудят к уступкам, то ни в каком случае ты не обязан их исполнять»[322]. До самого конца Александра продолжала нажимать на фаталиста Николая.
Им обоим была присуща одинаковая слепота. Когда весть об отречении достигла Царского Села, царица отказалась в нее верить, потом стала уповать на Бога: «Я храню веру в милосердие Божие. Бог не оставит нас». Воссоединившиеся супруги, которых окружало всего несколько верных людей, надеялись уехать в Крым или перебраться за границу. Но их надежды не сбылись. В Петрограде толпа освистала «тирана-кровопийцу» и «немку». 31 июля императорскую семью увезли подальше, в сибирский город Тобольск, дабы приглушить политические волнения, а также не допустить ее побега. Петроград, как и Москва оказался в руках большевиков. В.И. Ленина избрали председателем совета народных комиссаров, с Германией было подписано перемирие, учредили Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, Л.Д. Троцкий основал Красную армию, Москва стала столицей.
30 апреля 1918 г. императорскую семью перевезли на Урал, в Екатеринбург. Ипатьевский дом стал их тюрьмой.
Боясь продвижения Белой армии, большевики решили избавиться от царя и его близких. В ночь с 16 на 17 июля императорскую семью разбудили. Все поспешно оделись, и их увели в небольшую комнату в подвале. Николай нес сына на руках. Никто ничего не подозревал. В соседней комнате стоял наготове отряд солдат. Николаю и Александре принесли два стула. Дети и верные люди, сопровождавшие семью (доктор Боткин и трое слуг) встали сзади в ряд. Командир быстро огласил решение Уральского совета о расстреле. Николай спросил: «Что?», повернулся к солдатам спиной и обнял Алексея. Тут же раздались ружейные выстрелы. Солдаты заранее получили приказ, в кого стрелять и бить в область сердца, чтобы избежать сильного кровопролития и поскорее закончить дело. «Стрельба усилилась, когда те, кто был ранен, застонали». Когда пальбу остановили, оказалось, что Алексей, трое его сестер и двое слуг еще живы. Пули отрикошетили от тел девушек. Когда солдаты попробовали добить их штыками, у них не получалось проколоть корсеты. «Тогда, – рассказывал командир, – приступили достреливать… Алексей так и остался сидеть, окаменевши, я его пристрелил. А [в] дочерей стреляли, но ничего не выходило… Тогда их пристрелили, стреляя в голову»[323]. Тела немедленно вывезли из города, облили кислотой, чтобы замести следы и сняли с них все, что могло иметь ценность.
Ольге было 23 года, Татьяне – 21, Марии – 19, Анастасии – 17, Алексею – 14. Николаю II недавно исполнилось 50 лет, Александре – 48.
Находясь в заключении, перед лицом тюремщиков Николай сохранял самообладание, отвечал терпеливо и вежливо, умел спокойно и любезно произнести нужное слово, Александра же оставалась «высокомерной и полной спеси». Годом раньше 3 апреля 1917 г. Александр Керенский, тогдашний глава оппозиции и будущий эфемерный хозяин России, нанес визит низложенным государям, находившимся под домашним арестом. Николай принял врага самодержавия просто: пожал ему руку и представил царице. «Александра Федоровна, надменная, чопорная и величавая, нехотя, словно по принуждению, протянула свою руку. В этом проявилось различие в характере и темпераменте мужа и жены. Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна, умная и привлекательная женщина, хоть и сломленная сейчас… обладала железной волей. В те несколько секунд мне стала ясна та трагедия, которая в течение многих лет разыгрывалась за дворцовыми стенами»[324].
На протяжении всей жизни Николай и Александра создавали у близких неизменное впечатление: любящая чета, заботливые родители, предпочитавшие буржуазную жизнь императорской представительности, которую налагали на них их обязанности. Верный муж, нежный отец, простой по характеру, лишенный любознательности Николай ответственно относился к своим государственным функциям, но имел при том ограниченный, если не посредственный, ум и очень слабую волю. Он был царем-буржуа (аналогично во Франции называли Луи-Филиппа), не обладал блеском Александра I или великодушием Александра II Освободителя, но являлся таким же поборником самодержавия и врагом либерализма, как его отец Александр III.
В частной жизни Александра очень напоминала супруга. Любящая жена, прекрасная мать. Но, осознавая свое влияние на вечно нерешительного человека, она считала, что у нее есть высшая задача, и вошла в политику, опираясь всего на несколько упрощенных идей, вместо размышления предавалась мистической экзальтации, а вместо действий упорствовала в собственной слепоте. Николай и Александра цеплялись за самодержавие, пришедшее из прошлого и совершенно не адаптированное к их эпохе.
Личной драмой этих правителей, которую они стремились не выводить за пределы узкого круга, стала, как мы знаем, неизлечимая болезнь сына, наследника короны. Боль тем более сильная, что должна оставаться тайной. Александра, мучившаяся от страшной душевной пытки и убежденная в своей виновности, замкнулась в собственном горе. Чтобы облегчить страдания сына, надеясь на его исцеление, она слепо доверилась чудотворцу, а тот поспешил влезть в политику. Помощь, на которую она рассчитывала, сделала ее должницей старца. Александра разделила мир на друзей и врагов Распутина, содействовала первым, отправляла в немилость вторых, чем способствовала нестабильности в министерствах и недальновидности политического курса.
Николая целиком и полностью занимало здоровье царевича. Покорный жене, он поддерживал ее увлечения и неприязни или даже заражался ими вплоть до того, что отделился от русской элиты, то есть собственных родственников, которые яснее, чем он видели, к какой пропасти тянул их этот целитель-колдун. Оба супруга только и думали, как бы сохранить политическое наследие, полученное от предшественников, чтобы целиком передать его наследнику, если тому доведется выжить. И любые уступки, грозившие превратить империю в конституционную монархию, были ненавистны Николаю и Александре, а те, кто настаивал на изменениях, что либералы, что социалисты – не важно – являлись их врагами.
Союз, когда у мужа характер слабый и податливый, а у жены – авторитарный, но замешанный на сумбурном мистицизме, сделал Николая и Александру Федоровну чужими своему времени. Взаимная слепота привела их к гибели.
Иллюстрации
Византийский император Юстиниан I.
Мозаика в базилике Сан-Витале в Равенне.
Императрица Феодора, жена Юстиниана I.
Мозаика в базилике Сан-Витале в Равенне.
Въезд Изабеллы Баварской в Париж, где ее встречает будущий муж король Карл VI.
Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара. Национальная библиотека Франции.
Фердинанд Арагонский.
Неизвестный художник.
Королева Изабелла Кастильская.
Неизвестный художник.
Портрет короля Людовика XIII.
Питер Пауль Рубенс. 1622–1625.
Портрет королевы Франции Анны Австрийской.
Питер Пауль Рубенс. Около 1620 года.
Фердинанд IV Неаполитанский и Мария Каролина Габсбург-Лотарингская с семьей.
Холст, масло. Ангелика Кауфман. 1783 год.
Мария Антуанетта с розой.
Элизабет Виже-Лебрён. 1783 год.
Король Людовик XVI.
Антуан-Франсуа Калле. 1788 год.
Королева Пруссии Луиза.
Иосиф Мария Грасси. 1804 год.
Король Пруссии Фридрих-Вильгельм III.
Франсуа Жерар. 1814 год.
Семья королевы Виктории. Франц Винтерхальтер. 1846 год. (Слева направо: принц Альфред и принц Уэльский, королева и принц Альберт, принцессы Алиса, Елена и Виктория).
Наполеон III с императрицей Евгенией. Фрагмент картины «Прием сиамских послов Наполеоном III и императрицей Евгенией в большом бальном зале Генриха II замка Фонтенбло». Жан-Кеон Жером. 1861 год.
Франц Иосиф I в форме фельдмаршала.
Франц Винтерхальтер. 1865 год.
Императрица Елизавета Австрийская.
Франц Винтерхальтер. 1865 год.
Александра Федоровна.
Николай Корнилиевич Бодаревский. 1907 год.
Николай II.
Илья Савич Галкин. 1896 год.
Примечания
1
Особенно примечательна судьба Анны Французской (1461–1522). Она была старшей дочерью Людовика XI и вместе с мужем Пьером Божё стала регентшей при своем несовершеннолетнем брате Карле VIII.
(обратно)2
Françoise Theubaud, Ecrire l’histoire des femmes et du genre. Paris, CNRS Editions, 2007.
(обратно)3
После правления в XVIII в. нескольких цариц, Павел I в 1797 г. издал акт о престолонаследии в России с преимуществом в наследовании потомками мужского пола.
(обратно)4
Закон, исключающий женщин из престолонаследия. – Прим. пер.
(обратно)5
Старый режим – название сословной и абсолютной монархии во Франции при королях династий Валуа и Бурбонов, с момента завершения централизации Франции в конце XV в. до Великой французской революции. – Прим. ред.
(обратно)6
Такое наименование паре дал папа римский Александр VI. – Прим. ред.
(обратно)7
Modus operandi (лат.) – образ действия. Словосочетание чаще всего используется в юриспруденции. Вне этой науки употребляется для описания чьих-либо поведенческих привычек манеры работы, способа выполнения тех или иных действий. – Прим. ред.
(обратно)8
Этот мужской титул означал, что она не была «королевой-консортом» простым «приложением» к будущему супругу. Ядвигу считают «счастьем народа, жемчужиной христианства». В 1997 г. ее канонизировали.
(обратно)9
Настоящее имя Элизабет Гилберт (1821–1861 гг.) – ирландская танцовщица и актриса. – Прим. ред.
(обратно)10
Титул византийских императоров.
(обратно)11
Русские цитаты даны по изданию: Прокопий Кесарийский. Тайная история. М., 1993. – Прим. пер.
(обратно)12
Парья – одна из неприкасаемых каст в Индии. В европейской традиции слово приобрело значение «отверженный», «изгой». – Прим. ред.
(обратно)13
См.: Прокопий Кесарийский. Тайная история. М., 1993.
(обратно)14
Georges Tate, Justinien. L’eupopeue de l’Empire d’Orient, Paris, Fayard, 2004, p. 96. См. также: Guy Gauthier, Justinien. Le rêve impeuriel, Paris, France Empire, 1998.
(обратно)15
Такое описание применительно к человеку впервые использовал в своем трактате «Политика» Аристотель. С греческого термин переводят как «общественное существо» или «политическое животное». – Прим. ред.
(обратно)16
Большой дворец сообщался с ипподромом при помощи императорской ложи, которая представляла собой просторное помещение под названием кафизма.
(обратно)17
Кодекс Юстиниана был опубликован в 529 г. Остальные части одноименного Свода – Дигест или Пандект, а также Институций – появились после восстания «Ника».
(обратно)18
Картина, которую долгое время приписывали фламандскому мастеру, на самом деле принадлежит кисти Лучано Борцоне. Помимо знаменитого полотна Давида, стоит упомянуть работы Жана-Франсуа Пьера Пейрона и Франсуа-Андре Венсана.
(обратно)19
Michel Kaplan, Tout l’or de byzancer, Paris, Gallimard, 1991, р. 32
(обратно)20
Их было четверо: константинопольский, александрийский, антиохийский и иерусалимский. Западным патриархом называли папу римского.
(обратно)21
Арианская ересь, антитринитарное учение священника Ария. Bluche François. La Foi chrétienne. Histoire et doctrines, Paris, Le Rocher, 1996, р. 248.
(обратно)22
После этого запретили переводить митрополитов с одной кафедры на другую. Тем не менее Анфим был назначен патриархом Константинополя, несмотря на то что занимал пост Трапезундского митрополита.
(обратно)23
См.: Le Dictionnaire historique de la papauté, sous la direction de Philippe Levillain, Paris, Fayard, 1994.
(обратно)24
Великий царь – так называли в Византийской империи персидских правителей, потомков Кира, ввиду обширности их владений и неограниченности власти.– Прим. ред.
(обратно)25
Guy Gauthier, op. cit., p. 218.
(обратно)26
Pierre Maraval, op. cit., p. 89.
(обратно)27
По другим данным Феодора умерла 28 июня. – Прим. ред.
(обратно)28
François Autrand, Charles V le Sage, Paris, Fayard, 1994, p. 535–538; Charles VI, la folie du roi, Paris, Fayard, 1986, p. 33–34.
(обратно)29
Из всех детей Жанны выжило четверо; в 1372 г. родился ее второй сын Людовик. Королева умерла в 1378 г. в возрасте 40 лет.
(обратно)30
Имеется в виду английский король Эдуард III (1312–1377), положивший начало Столетней войне. – Прим. ред.
(обратно)31
Le Religieux de Saint-Denis, cite par Philippe Delorme, Isabeau de Bavière, Paris, Pygmalion, 2003, p. 30. Точная дата рождения Изабеллы неизвестна (конц 1369-го – начало 1370 г). Значит, девушке перед свадьбой было 15, а не 14 лет.
(обратно)32
Третий дядя со стороны отца Людовик I герцог Анжуйский и король Неаполя скончался в 1384 г., накануне свадьбы Карла VI. Его единственный сын Людовик II родился в 1377 г.
(обратно)33
Этим словом, изначально обозначавшим нелепое украшение, насмешливо именовались бывшие советники Карла V, которых его сын пригласил к себе на службу.
(обратно)34
Cf. Bernard Guenée, La Folie de Charles VI, Paris, Perrin, 2004. Автор тщательно выстраивает хронологию кризисов и ремиссий.
(обратно)35
Ibid., p. 225.
(обратно)36
Philippe Delorme, op. cit., p. 138.
(обратно)37
Jean Verdon, Isabeau de Bavière. La mal-aimée, Paris, Tallandier, 2001, p. 110.
(обратно)38
Ibid., p. 170 et Jean Verdon, op. cit., p. 113.
(обратно)39
У королевской четы появился на свет Карл, который родился и умер в 1386 г., затем второй сын, названный тоже Карлом, родился в 1392 г. и носил титул дофина вплоть до самой смерти в 1401 г. в возрасте 9 лет. Третий сын, родившийся в 1397 г., получил имя Людовик, герцог Гиеньский и звание дофина, но умер в 1415 г., когда ему было 18 лет. Четвертого сына назвали Иоанном, родился он в 1398 г., носил титул герцога Туреньского, а затем дофина, и умер в возрасте 19 лет в 1417 г. Потом в 1403 г. на свет появился Карл, дофин, а затем король Франции Карл VII. Последний из сыновей, Филипп, родился в 1407 г., но не прожил и дня.
(обратно)40
Philippe Delorme, op. cit., p. 190.
(обратно)41
Bertrand Schnerb, Armagnacs et Bourguignons. La maudite guerre, 1407–1439, Paris, Perrin, 2001; «Tempus», 2009, p. 82.
(обратно)42
Bertrand Schnerb, op. cit., p. 88, citant Robert Fawtier.
(обратно)43
Запись в канцелярии суда при парижском парламенте. Цит. по François Autrand, Charles VI, op. cit., p. 349.
(обратно)44
Philippe Delorme, op. cit., p. 235.
(обратно)45
Старший сын герцога Карл был убит, у него оставались два законнорожденных брата – Филипп, граф де Вертю, Иоанн, граф Ангулемский.
(обратно)46
События изложены по Bernard Schnerb, Armagnacs et Bourguignons, op. cit.
(обратно)47
Philippe Delorme, op. cit., p. 261.
(обратно)48
Bertrand Schnerb, op. cit., p. 241
(обратно)49
Bertrand Schnerb, op. cit., p. 271.
(обратно)50
Philippe Delorme, op. cit., p. 292.
(обратно)51
Georges Minois, Charles VIII. Un roi shakesperien, Paris, Perrin, 2005, p. 129.
(обратно)52
Ibid., p. 130–133.
(обратно)53
На этом браке основывались претензии англичан на французскую корону, с него и началась Столетняя война.
(обратно)54
Françoise Autrand, op. cit., p. 588.
(обратно)55
Ibid., p. 583–584.
(обратно)56
Bertrand Schnerb, op. cit., p. 339.
(обратно)57
Joseph Pérez, Isabelle et Ferdinand. Rois Catholiques d’Espagne, Paris, Fayard, 1988, p. 98–99.
(обратно)58
Арагонской короне на Пиренейском полуострове подчинялось собственно королевство Арагон (со столицей в Сарагосе), а также королевство Валенсия, графство Каталония (с Барселоной) и Балеарские острова.
(обратно)59
Имеется в виду Арагон и Кастилия. – Прим. пер.
(обратно)60
Chroniques des Rois Catholiques, chap. XXIV, cite et traduit par Joseph Pérez, dans L’Espagne des Rois Catholiques, Paris, Bordas, 1971, p. 99.
(обратно)61
Orestes Ferrara, L’Avènement d’Isabelle la Catholique, Paris, Albin Michel, 1958, p. 278–279.
(обратно)62
Joseph Pérez, Isabelle et Ferdinand, op.cit., p. 82–83.
(обратно)63
Помимо Жозефа Пере см. Janine Bouissounouse, Isabelle la Catholique. Comment se fit l’Espagne, Paris, Hachette, 1949 и Orestes Ferrara, op. cit.
(обратно)64
W.T. Walsh, Isabelle la Catholique, Paris, Payot, 1932, p. 104 et Janine Bouissounouse, op. cit., p. 79–80.
(обратно)65
Joseph Pérez, Isabelle et Ferdinand, op. cit., p. 106.
(обратно)66
Louis Cardaillac, L’Espagne des Rois Catholiques, Paris. Autrement coll. «Mémoires», n 63, mai 2000.
(обратно)67
Выкресты – верующие, перешедшие в христианство из других религий. – Прим. ред.
(обратно)68
Bartolomé Bennassar, «Portrait d’un Fanatique: Torquemada», L’His-toire, no 259 , november 2001, p. 48–55.
(обратно)69
Joseph Pérez, Isabelle et Ferdinand, op.cit., p. 331.
(обратно)70
Joseph Pérez, Isabelle la Catholique. Un modèle de chrétienté?, Paris, Payot, 2004, p. 70–72.
(обратно)71
Joseph Pérez, Isabelle la Catholique., op. cit., p. 120.
(обратно)72
Дон Хуан женился на Маргарите Австрийской, а Хуана, прозванная Безумной, вышла за Филиппа Красивого, герцога Бургундского.
(обратно)73
О Христофоре Колумбе написано немало книг, в том числе см. Bartholomé et Lucile Bennassar (Fayard-Hachette, 1992), Jacques Heers (Hachette, 1981), а также Marianne Mahn-Lot (Le Seuil, 1988).
(обратно)74
Цит. по Joseph Pérez, Isabelle la Catholique, op. cit., p. 165.
(обратно)75
Machiavel, Le Prince, traduction de Guiraudet, éd. R. Naves, Paris, Garnier, 1957, p. 75. рус. цит. по: Макиавелли Н. Государь. Перевод Г. Муравьевой. М., 1990.
(обратно)76
Беатификация – обряд причисления к лику блаженных в католической церкви. – Прим. пер.
(обратно)77
Joseph Pérez, Isabelle la Catholique, op. cit., p. 161–167.
(обратно)78
Цит. по: Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимы. Перевод А.С. Бобовича. М., 1993. – Прим. пер.
(обратно)79
Имеется в виду Джордж Вильерс (1592–1628) – английский государственный деятель, фаворит и министр королей Якова I и Карла I Стюартов. – Прим. ред.
(обратно)80
Jean-Christian Petitfils, Louis XIII, Paris, Perrin, 2008.
(обратно)81
Dubost Jean-François. Marie de Médicis. La reine dévoilée, Paris, Payot, 2009, p. 722–723.
(обратно)82
François Bluche, Richelieu, Paris, Perrin, 2003, p. 157–161.
(обратно)83
Jean-François Dubost, Marie de Médicis, op. cit., p. 773-774; Anne d’Autriche, infante d”Espagne et reine de France, sous la direction de Chantal Grell, Paris, Perrin, 2009, p. 46.
(обратно)84
La Rochefoucauld, Mémoirs, ed. Jean Lafond, Paris, Gallimard, coll. «Folio classique», 2006, p. 63.
(обратно)85
Jean-Christian Petitfils, op. cit., p. 406.
(обратно)86
Simone Bertière, Les Reines de France au temps des Bourbons. Les deux regents, Paris, Edition de Fallois, 1996, p. 280–282.
(обратно)87
Simone Bertière, op. cit., p. 284; Ruth Kleinman, op. cit., p. 153–154.
(обратно)88
Элитные испанские войска, в которых батальоны строились фалангами из пикинеров, аркебузиров и солдат, вооруженных шпагами.
(обратно)89
Jean-Christian Petitfils, op. cit., p. 682.
(обратно)90
Ruth Kleinman, op. cit., chap. III ; Claude Dulong, Anne d’Autriche, Paris, Perrin, 2000, chap. I.
(обратно)91
Simone Bertière, op. cit., p. 156; Marie-Catherinne Vignal-Souleyreau, Anne d’Autriche. La jeunesse d’une souveraine, Paris, Flammarion, 2006, p. 43–44.
(обратно)92
Simone Bertière, op. cit., chap. 12 ; Jean-Christian Petitfils, op.cit., p. 733–745.
(обратно)93
La Rochefoucauld, Mémoires, op. cit., p. 67–68.
(обратно)94
Сцена описана у Jean-Christian Petitfils, op. cit.
(обратно)95
Цит. по: Françoise Hildesheimer, Richelieu, Paris, Flammarion, 2004, p. 405, d’après Les Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’Etat du cardinal de Richelieu, publiés par la vicompte d”Avenel, Paris, 1853–1877, 8 vol., t. V, p. 835–839.
(обратно)96
Jean-Christian Petitfils, op. cit., p. 757–759.
(обратно)97
François Bluche, Louis XIV, Paris, Fayard, 1986, p. 29.
(обратно)98
Ruth Kleinman, op. cit., p. 208–211.
(обратно)99
Ruth Kleinman, op. cit., p. 227–234.
(обратно)100
Jean-Christian Petitfils, op. cit., p. 823–824.
(обратно)101
Jean-François Dubost, «Anne d’Autriche, reine de France…», art. cit., p. 55–56.
(обратно)102
Мадам де Моттвиль, цит. по François Hildesheimer, La Double Mort du rois Louis XIII, Paris, Flammarion, 2007, p. 105.
(обратно)103
La Rochefoucauld, Memoires, op. cit., p. 78–81.
(обратно)104
Simone Bertière, op. cit., p. 373.
(обратно)105
Современники оставили многочисленные описания внешности монархов. Отголоски рассказов Уильяма Гамильтона или Иосифа II, леди Анны Миллер или Суинборна есть у Harold Action, Les Bourbons de Naples, Paris, Perrin, 1986 и в биографиях Марии Каролины; очень познавательной является книга Michel Lacour-Gayet, Marie-Caroline, reine de Naples. Une adversaire de Napoléon, Paris, Tallandier, 1990.
(обратно)106
Полотно хранится в Неаполе, в Национальном музее Каподимонте.
(обратно)107
Лаццарони (ит.) – нищие. – Прим. пер.
(обратно)108
Трое умерли в раннем возрасте, две стали настоятельницами монастырей, Мария Кристина уже успела выйти замуж, а Мария Антуанетта была обещана французскому дофину.
(обратно)109
Цит. по: Jean-Paul Bled, Marie-Thérèse d’Autriche, Paris, Fayard, 2001, p. 437–438.
(обратно)110
Так называли государственное образование из островной Сицилии и Неаполитанского королевства, т.е. полуостровной Сицилии.
(обратно)111
По Утрехтскому договору (1713 г.), решившему вопрос об испанском престолонаследии в пользу Филиппа V Бурбонского, внука Людовика XIV, император Карл VI Габсбургский получил Наполитанское королевство и Сардинию (этот остров он поменял в 1720 г. на богатую Сицилию). Но в вой не за польское наследство (1733–1738) императору пришлось уступить Неаполь и Сицилию дону Карлосу, сыну испанского короля Филиппа V и Изабеллы Фарнезе, и тот стал Карлом VII в Неаполе, а затем Карлом III в Мадриде. Отныне в Неаполе правил бурбонский принц.
(обратно)112
François Bluche. Le Despotisme éclairé. Paris, Fayard. 1969, p. 220.
(обратно)113
Карло-Тито умер в 1778 г., но в 1777 г. Мария Каролина родила Франциска, будущего короля Двух Сицилий, получившего корону после отца в 1825 г.
(обратно)114
В период с 1779 по 1788 г., до этого было пять детей с 1772 по 1777 г., и затем трое с 1790 по 1793 г.
(обратно)115
Michel Lacour-Gayet, op. cit., p. 56 et sq.
(обратно)116
Франц II, сын императора Леопольда II, брата Марии Каролины, женился в 1790 г. на Марии Терезии, старшей дочери собственной тети.
(обратно)117
André Bonnefons, Marie-Caroline, reine des Deux-Siciles (1768–1814), Paris, Perrin, 1905, p. 28.
(обратно)118
I антифранцузская коалиция – временный союз европейских государств, стремившийся восстановить во Франции монархию, после ее падения в ходе Французской революции. – Прим. ред.
(обратно)119
Anne et Alain Pons, Lady Hamilton. L’amour sous le volcan, Paris, Nil Editions, p. 169–170.
(обратно)120
Предисловие к «Пармской обители». Цит. по переводу Н. Немчинова.
(обратно)121
Цит. по Georges Fleury, Nelson, Paris, Flammarion, 2003, p. 364
(обратно)122
Союз, заключенный с Австрией, был только оборонным. Чтобы Неаполь получил помощь австрийцев, необходимо было, чтобы нападение совершили французы.
(обратно)123
Имеется в виду Франц II (1768–1835), который в качестве императора Австрии, короля Богемии и Венгрии правил под именем Франца I. – Прим. ред.
(обратно)124
С ними выехали дочери Людовика XV мадам Аделаида и мадам Виктория, которых Фердинанд IV вывез из Рима.
(обратно)125
Королева превозносила Блистательную Порту, «верную и честную – несмотря на турков и магометан».
(обратно)126
Thierry Lentz, Nouvelle histoire du premier Empire. I. Napoléon et la conquête de l’Europe, 1804–1810, Paris, Fayard, 2002, p.114.
(обратно)127
По секретному договору Неаполь получил от Лондона 170 тыс. фунтов стерлингов на усиление армии.
(обратно)128
Имеется в виду французский политик и дипломат Шарль-Морис де Талейран-Перигор (1754–1838). – Прим. ред.
(обратно)129
Шёнбруннское воззвание от 27 декабря 1805 г. Цит. по Jean Tulard, Murat, Paris, Fayard, 1999, p. 229–230.
(обратно)130
После смерти в 1803 г. Людовика I Бурбонского его вдова Мария Луиза Бурбонская, дочь испанского короля Карла IV, правила Тосканой единолично. В мае 1808 г. королевство присоединили к французской империи. В марте 1809 г. Наполеон дал ее сестре Элизе, уже носившей титул принцессы Лукки и Пьомбино, звание эрцгерцогини Тосканской.
(обратно)131
Journal de Marie-Amélie, reine des Français, présenté par Suzanne d’Huart, Paris, Perrin, 1981, passim.
(обратно)132
Этот анекдот приведен в Mémoires de Marie-Caroline […] intitulé De la revolution du royaumme de Sicile […} par un témoin oculaire, publié par R.M. Johston, Cambridge Harvard, 1913, p. 273.
(обратно)133
Вернув полномочия, Фердинанд взял символический титул Фердинанда I, короля Обеих Сицилий. Catherinne Brice, Histoire de l’Italie, Paris, Perrin, « Tempus », 2007, p. 287.
(обратно)134
О чем свидетельствует конкордат, подписанный в 1818 г.
(обратно)135
См. следующие биографии королевы: Pierre de Nolhac (1890, reed. 1929), Stefan Zweig (Grasset, 1934, Le Livre de Poche, 1961), André Castelot (Librarie académique Perrin, 1962); а из самых свежих изданий: Evelyne Lever (Fayard, 1991) и Simone Bertière (Editions de Fallois, 2002), откуда мы взяли немало цитат. Основные биографии Людовика XVI: Pierre Lafue (Hachette, 1942), Bernard Faÿ (Perrin, 1966), Evelyne Lever (fayard, 1985), Jean-François Chiappe (perrin, 1987–1989), Jean de Viguerie (Le Rocher, 2003), Jean-Christian Petitfils (Perrin, 2005), Bernard Vincent (Gallimard, 2006). Кроме того мы использовали великолепный труд Joël Félix, Louis XVI et Marie-Antoinette. Un couple en politique, Paris, Payot, 2006.
(обратно)136
Людовик XIII и Людовик XIV были женаты на габсбургских принцессах, но из Испании: первой была Анна Австрийская, дочь Филиппа III, а второй – Мария Терезия, дочь Филиппа IV.
(обратно)137
Людовик-Жозеф-Ксавье, граф Бургундский, родился в 1751 г. и умер в 1761 г. в возрасте 10 лет.
(обратно)138
Evelyne Lever, op. cit., p. 123.
(обратно)139
Bernard Vincent, op. cit., p. 102
(обратно)140
Simone Bertière, op. cit., p. 200–202.
(обратно)141
Abbé de Véri, Journal, 2 vol., t. I, éd. Jehan de Witte, Paris, 1928, p. 315.
(обратно)142
Joël Félix, op. cit., p. 205.
(обратно)143
Министр возражал против приобретения государством в 1784 г. замка Сен-Клу, о котором мечтала королева. Было известно, что покупка совершалась от ее имени, как от частного лица.
(обратно)144
Jean-Christian Petitfils, op. cit., p. 557.
(обратно)145
Simone Bertière, op. cit., p. 379.
(обратно)146
Evelyne Lever, op. cit., p. 347–352.
(обратно)147
Joël Félix, op. cit., p. 316.
(обратно)148
Jean-Christian Petitfils, op. cit., p. 561.
(обратно)149
Besenval (baron Pierre Victor de), Mémoires, éd. F. Barrière, Paris, 1857, p. 305–306.
(обратно)150
Людовик-Жозеф умер 4 июня 1789 г.
(обратно)151
Первый, Морепа, умер в ноябре 1781 г.
(обратно)152
Официально этот титул назывался «первый министр», однако, в жизни говорили просто «премьер».
(обратно)153
Evelyne Lever, op. cit. p. 448.
(обратно)154
Цит. по: Цвейг С. Мария Антуанетта. М., 1992.
(обратно)155
Patrice Gueniffey, Histoire de la Révolution et de l’Empire, chap. IV, «Terminer la Révolution? Barnave et les Feuillants», Paris, Perrin, «Tempus», 2011, p. 125–156.
(обратно)156
Joël Félix, op. cit., p. 579–580.
(обратно)157
Jean-Christian Petitfils, op. cit., p. 862–863.
(обратно)158
Joël Félix, op. cit., p. 565. Цитата по русскому изданию: Цвейг С. Мария Антуанетта. М., 1992.
(обратно)159
Цит. по С. Цвейг.
(обратно)160
Она увековечена в шедевре Альфреда Дёблина «Берлин. Александер-плац» (1929) и фильме Фассбиндера.
(обратно)161
См. Joël Schmidt, Louise de Prusse, la reine qui défia Napoléon, Paris, Perrin, 1995 и Jean-Paul Bled, La Reine Louise de Prusse. Une femme contre Napoléon, Paris, Fayard, 2008.
(обратно)162
Michel Kérautret, Histoire de la Prusse, Paris, Le Seuil, 2005, p. 267.
(обратно)163
Договор был подписан 15 декабря, т.е. вскоре после битвы при Аустерлице (2 декабря).
(обратно)164
Thierry Lentz, Napoléon et la conquête de l’Europe 1804–1810. Nouvelle histoire du Premier Empire, Paris, Fayard, 2002, p. 194.
(обратно)165
Имеется в виду двоюродный брат короля Людвиг-Фридрих (1772–1806).
(обратно)166
Цит. по русскому изданию: Мемуары генерала барона де Марбо. М., 2005. – Прим. пер.
(обратно)167
Знаменитая победа, которую одержал 5 ноября 1757 г. в начале Семилетней войны Фридрих II над французской армией маршала Субиза. Король Пруссии продемонстрировал тогда свой военный гений.
(обратно)168
Joël Schmidt, op. cit., p. 96–97.
(обратно)169
Из города было увезено множество предметов искусства (ведал этим Доминик Виван-Денон), однако именно потеря Квадриги работы скульптора Шадова, стала для берлинцев «символом позора». Колесницу вернули в прусскую столицу 7 августа 1814 г., и архитектор Шинкель по приказу короля заменил шлем и два щита на Железный крест, а прусского орла на раскрытые крылья. Виктория, управляющая колесницей, с самого начала означала победу мира, который должен воцариться в городе. И она была повернута на восток, в сторону Берлина. Гитлер развернул ее на запад, чтобы выразить тем самым свое желание завоевывать. (Cyril Buffet, Berlin, Paris, Fayard, 1993).
(обратно)170
Современный город Клапейда в Литве. Название Мемель происходит от немецкого наименования реки Неман, лагуну которой принимали за дельту.
(обратно)171
Карл Август фон Гарденберг, урожденный ганноверский подданный, участвовал в 1795 г. в переговорах по Базельскому договору и занимал пост министра иностранных дел Пруссии в 1804–1807 гг., вместо Гаугвица. Наполеон терпеть его не мог.
(обратно)172
Jean-Paul Bled, op. cit., p. 180–186.
(обратно)173
Henry Bogdan, Les Hohenzollern. La dynastie qui a fait l’Allemagne (1061–1918), Paris, Perrin, 2010, p. 238.
(обратно)174
Jean-Paul Bled, Histoire de la Prusse, Paris, Fayard, 2007, p. 254, 256; T. Lentz, op. cit., p. 320.
(обратно)175
Marie-Pierre Rey, Alexandre Ier, Paris, Flammarion, 2009, p. 256.
(обратно)176
Jean-Paul Bled, Histoire de la Prusse, op. cit., p. 271.
(обратно)177
Восточную Галицию.
(обратно)178
Гражданская свадьба состоялась 1 апреля 1810 г., а церковная – на следующий день.
(обратно)179
Michel Kérautret, op. cit., p. 285.
(обратно)180
Jean-Paul Bled, Histoire de la Prusse, op. cit., p. 275. Клейст покончил с собой в ноябре 1811 г. Как и королеве, ему было 34 г.
(обратно)181
Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, t. III, éd. Jean-Claude Berchet, Le Livre de poche, p. 102.
(обратно)182
Jean-Paul Bled, La Reine Louise de Prusse, op. cit., p. 252.
(обратно)183
Из биографий Виктории на французском языке см. Elisabeth Longford, Victoria, Reine d’Angleterre, Impératrice des Indes, Fayard, 1966 ; Staneley Weintraub, Victoria. Une biographie intime, Paris, Robert Laffront, 1988 ; Monica Charlot, Victoria. Le pouvoir partagé, Flammarion, 1989 (книга заканчивается на смерти Альберта); Roland Max, La Reine Victoria, Fayard, 2000; Jacque de Langlade, La Reine Victoria, Perrin, 2009. О принце Альберте см. Staneley Weintraub, Albert, Uncrownned King, Londres, Murray, 1997.
(обратно)184
Ссора произошла в 1853 г.
(обратно)185
Ганноверская династия сменила Стюартов на английском престоле в 1714 г.
(обратно)186
Эта попытка воздействия на юную Викторию со стороны матери и ее сообщников именуется «Кенсингтонская система» – по названию дворца, где жили принцесса и герцогиня Кентская.
(обратно)187
Уильям Лэм, виконт Мельбурн (1779–1848) занимал пост премьер-министра в 1834-м и с 1835 по 1841 г.
(обратно)188
Stanley Weintraub, Victoria… op. cit., p. 111.
(обратно)189
Сэр Роберт Пиль (1788–1850) выполнял обязанности премьер-министра с июля 1841-го. по июнь 1846 г.
(обратно)190
Письмо к Леопольду 24 января 1838 г.
(обратно)191
Веллингтон, выигравший битву при Ватерлоо, возглавлял палату лордов.
(обратно)192
Лорд Мельбурн.
(обратно)193
Молодой сумасшедший выпустил два залпа в Альберта и Викторию, когда они были на прогулке. Принц прижал жену к груди, пытаясь защитить ее. Это было первое из многочисленных покушений, которые совершали на Викторию сумасшедшие на протяжении ее жизни.
(обратно)194
Мария Тюдор умерла, не оставив потомства, Елизавета I не вступила в брак. Мария II, жена Вильгельма III Оранского не имела детей, а у ее сестры Анны все дети умерли раньше нее.
(обратно)195
Monica Charlot, op. cit., p. 268.
(обратно)196
Лорд Джон Рассел (1792–1878), лидер вигов, стал премьер-министром через год в июне 1846 г. и оставался на этом посту до февраля 1852 г.
(обратно)197
Имеется в виду борьба производителей, в числе которых был знаменитый Кобден, сторонников свободной торговли и религиозных диссидентов с консерваторами по поводу сельскохозяйственных интересов.
(обратно)198
После отмены Навигационного акта в 1849 г. во всей Англии была введена свободная торговля.
(обратно)199
Принцесса Виктория, прозванная Викки, (1840–1901) вышла за сына и наследника Вильгельма I (1797–1888) прусского принца Фридриха (1831–1888), который умер от рака гортани через девяносто девять дней после того, как взошел на трон под титулом императора Фридриха III.
(обратно)200
Уильям Глэдстоун (1809–1898), один из видных фигур британского кабинета, трижды занимал пост премьер-министра: с 1868 по 1874 г. с 1880 по 1885 г. и с 1892 по 1894 г.
(обратно)201
Elisabeth Longford, op. cit., p. 220–221.
(обратно)202
Генри Джон Темпл, 3 виконт Палмерстон (1784–1865) руководил внешней политикой Соединенного королевства с 1830 г. и до самой смерти, занимая пост главы Министерства иностранных дел (1830–1841, 1846– 1851), а затем пост премьер-министра с 1855 по 1858 г. и с 1859 по 1865 г. Его имя ассоциируется с так называемой «эпохой Палмерстона». О легендарном прагматизме этого деятеля свидетельствует одно из его высказываний: «У Англии нет постоянных друзей или врагов, у нее есть только постоянные интересы».
(обратно)203
Мария II Браганская (1819–1853), королева Португалии с 1826 по 1828 г., а затем с 1834 г. до самой смерти. В 1836 г. вышла замуж за Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, приходившегося племянником бельгийскому королю Леопольду I и двоюродным братом Виктории со стороны немецкой родни.
(обратно)204
Знаменитый государственный деятель Британии Бенджамин Дизраэли (1804–1881) в 33 года стал членом парламента, трижды был министром финансов, а премьером был в 1868 г., затем с 1874 по 1880 г. В 1876 г. он возвысился до звания пэра под именем лорда Биконсфилда.
(обратно)205
Картина хранится в национальном музее в замке Компьень.
(обратно)206
Gabriel Badea-Paun, Portraits de societé, XIXe–XXe siècle, Paris, Citadelles et Mazenod, 2007, p. 95–96.
(обратно)207
Выражение Максима Дюкана.
(обратно)208
Рекомендуем следующие биографии Наполеона III (перечислены по принципу приоритетности): Louis Girard (Fayard, 1986), Philippe Seguin (Grasser, 1990), Pierre Milza (Perrin, 2004), Eric Anceau (Tallandier, 2008). Императрице Евгении посвящены книги Jean Autin (Fayard, 1990), William Smith (Bartillat, 1998), Jean des Cars (Perrin, 2000). См. также Jean des Cars, La Princesse Mathilde, Perrin, 2006 и Michèle Battesti, Plon-Plon. Le Bonaparte rouge, Perrin, 2010.
(обратно)209
Наполеон II. – Прим. пер.
(обратно)210
После восстаний в Андалусии – пронунсиаменто полковника Риего – и в Галисии король Фердинанд VII, вернувший себе власть, дал приказ о жестоких репрессиях против либералов. В 1830 г. неожиданное рождение его дочери Изабеллы разделило испанцев на два лагеря и после смерти Фердинанда спровоцировало первую «карлистскую» войну (1833–1839) между вдовой правителя, регентшей Изабеллой II и сторонниками брата Фердинанда дона Карлоса.
(обратно)211
Любовница Людовика XIV Луиза де Лавальер не была замужем. Она была фрейлиной принцессы Генриетты Анны Стюарт и приходилась невесткой королю, которого любила бескорыстно. Лавальер родила ему четверых детей и подстриглась в монахини, когда Людовик предпочел ей мадам де Монтеспан.
(обратно)212
Jean Autin, op. cit., p. 81.
(обратно)213
Винтерхальтер написал в 1864 г. ее замечательный портрет, который сейчас хранится в Париже в музее Орсе. Знаменитому композитору она приходилась тетей.
(обратно)214
Она пользовалась властью, но титула не имела, и о ней известно мало.
(обратно)215
«Такая ответственность – довольно велика для меня, – написала Евгения сестре 22 апреля 1859 г. – Тебе ведь известно, что парижанами не всегда удобно управлять; но Господь даст мне, я надеюсь, все знания, которых мне недостает, ведь у меня нет другого желания, кроме как сделать все наилучшим образом и не допустить малейшего беспорядка».
(обратно)216
По конституции 1852 г. министры не формировали кабинет, не обладали никакой политической солидарностью и были просто орудием на службе у императора, который работал с каждым из них по отдельности, общаясь письменно или давая аудиенции.
(обратно)217
4 и 7 июля 1859 г. соответственно.
(обратно)218
Известен такой диалог: Наполеон-Жером бросил: «У вас нет ничего общего с императором [Наполеоном I], а Наполеон III ответил: «Прошу прощения! Я – его родственник».
(обратно)219
Письмо австрийскому канцлеру в начале сентября 1859 г.
(обратно)220
Он был оккупирован французами в период Директории (1797–1798), а затем присоединен к империи Наполеона в 1810 г. (всякий раз понтифик оказывался в тюрьме).
(обратно)221
Ультрамонтанство – направление в Римско-католической церкви, выступавшее за строгое подчинение всех национальных католических церквей папе римскому, а также отстаивавшее превосходство светской власти понтифика над светскими государствами Европы. – Прим. пер.
(обратно)222
Casus belli (лат.) повод к войне. – Прим. пер.
(обратно)223
Jean de Cars, op. cit., p. 425.
(обратно)224
Реформа, предпринятая военным министром маршалом Ньелем, который хотел сравнять мощь французской армии с прусской. Законодательный корпус, разбирая все возражения по поводу реформы, закрыл проект, поскольку республиканцы не верили в прусскую агрессию.
(обратно)225
После первых реформ, дарованных в 1860–1861 гг., которые усилили парламентский контроль над государственной политикой, в 1867–1868 гг. последовала вторая волна либеральных уступок.
(обратно)226
Евгения не любила Персиньи за то, что в свое время он возражал против ее брака. «Не стоит подвергаться риску получить государственный переворот, – объявил он, – ради женитьбы на лоретке».
(обратно)227
В мае 1869 г. сторонники авторитарной империи потеряли большинство, которое держали с 1852 г. Хозяйкой положения стала бонапартистская и либеральная Третья партия Эмиля Оливье.
(обратно)228
Хранитель печати Оливье не имел титула председателя Совета.
(обратно)229
Louis Girard, op.cit., p. 444.
(обратно)230
Эмиль де Жиранден из «Ля-Либерте» и Поль де Кассаньяк из «Ле-Пэи», цит. по Pierre Milza, op. cit., p. 579–580.
(обратно)231
William Smith, Napoleon III, Nouveau Monde Editions, Paris, 2007, p. 146–147.
(обратно)232
В тексте депеши говорилось: «Тогда его величество отказался принять французского посла и велел передать, что более не имеет ничего сообщить ему».
(обратно)233
Отметим, что против войны выступили Тьер и Гамбетта, и их тут же заклеймили «пруссаками», «непатриотичными болтунами» и «капитулянтами».
(обратно)234
Louis Girard, op. cit., p. 479.
(обратно)235
William Smith, op. cit., p. 169 и Jean des Cars, op. cit., p. 507.
(обратно)236
Louis Girard, op. cit., p. 484.
(обратно)237
Ibid., p. 486.
(обратно)238
Pierre Milza, op. cit., p. 592.
(обратно)239
Наполеон IV по собственному желанию отправился на анго-зулусскую войну в 1879 г., где погиб всего за два месяца до ее окончания. – Прим. ред.
(обратно)240
Имеется в виду период с 1 марта по 7 июля 1815 г., между возвращением Наполеона I к власти и роспуском правительственной комиссии. – Прим. ред.
(обратно)241
Из многочисленных биографий Елизаветы Австрийской мы использовали преимущественно книги Egon César, comte Conti (Payot, 1984), Brigitte Hamann (Fayard, 1985), Jean des cars (Perrin, 1983), а о Франце Иосифе см. Jean-Paul Bled (Fayard, 1987). История Венгрии представлена в трактовке Miklos Molnar (Histoire de la Hongrie, Perrin, 2004), Paul Lendvai (Les Hongrois, Mille ans d’histoire, Editions Noir sur Blanc, 2006), Istvan Győgy Toth (Mil ans d’hostoire hongroise, Corvina Osiris, 2003), Charles Kecskeméti (La Hongrie des Habsbourg, t. 2, De 1790 à 1914, Presses universitaires de Rennes, 2011).
(обратно)242
Титул герцога в Баварии носила и младшая ветвь Виттельсбахов; герцогами Баварии называли представителей старшей ветви, которая с 1805 г. стала королевской династией.
(обратно)243
Одно из названий Венгерского королевства.
(обратно)244
Война за австрийское наследство вспыхнула после восхождения Марии Терезии на престол в 1740 г. Государыня осталась «без денег, без войск и без Совета». Ей угрожал дом Габсбургов. Богатая Силезия была завоевана прусским королем Фридрихом II, и франко-баварские армии, только что захватившие Линц, маршировали на Прагу. Своим спасением Мария Терезия была обязана скудным английским дотациям и военной помощи венгров, растроганных ее несчастьем.
(обратно)245
Федерализм означал конец неоабсолютистского режима. Учреждающий его Диплом, изданный в октябре 1860 г., восстанавливал положения старых конституций в отношении монархии и давал законодательную власть провинциальным собраниям. Его было невозможно применить на практике, и его почти сразу отменили в пользу Февральского патента 1861 г., вернувшего умеренный центризм.
(обратно)246
Австро-венгерский компромисс (соглашение) 1867 г. – договор, заключенный 15 марта 1867 г. между австрийским императором Францем Иосифом и представителями венгерского национального движения. – Прим. ред.
(обратно)247
Граф Баттьяни, умеренный аристократ, получил задание в марте 1848 г. сформировать венгерское правительства, что было одобрено императором Фердинандом. А в октябре 1849 г., когда начались репрессии – при правлении уже Франца Иосифа, – Баттьяни расстреляли как одного из тринадцати генералов венгерской революционной армии во рвах замка Арад.
(обратно)248
Медье – округи, находившиеся в руках знати, служили гарантами венгерской автономии. Сегодня так называют административную единицу страны.
(обратно)249
Мор Йокай (1825–1904) – знаменитый венгерский романист. Наиболее известны его романы «Безымянный замок», «Венгерский набоб», «Золотой человек». – Прим. ред.
(обратно)250
Paul Lendvai, op. cit., p. 336–337.
(обратно)251
K. und K., т.е. Kaiserlisch und Königlisch, что вдохновило писателя Роберта Музиля на неологизм «cacanie» («Какания»), означающий двойную монархию.
(обратно)252
Мадьярское междометие, равносильное русскому «Да здравствует!». – Прим. ред.
(обратно)253
Joseph Roth, La Marche de Radetzky, 1932 (Ier éd.). Цит. по русскому изданию: Рот Й. Марш Радецкого. М., 2001. – Прим. пер.
(обратно)254
Имеется в виду Алексей Михайлович, сын первого царя династии Романовых, который родился в 1629 г. и правил с 1645 по 1676 г.
(обратно)255
По другой версии царевич Алексей был назван в честь святителя Алексия Московского (между 1292–1305–1378) митрополита Киевского и всея Руси. – Прим. ред.
(обратно)256
Так называли настоятелей некоторых монастырей православной церкви.
(обратно)257
Yves Ternon, Raspoutine. Une tragédie russe, Paris, André Versaille, 2011, p. 43–44.
(обратно)258
Anna Vyroubova, Mémoires de la cour de Russie, citée par Marc Ferro, Nicolas II, Paris, Payot, 1990, p. 68. Цит. по русскому изданию: Вырубова А.А. Страницы моей жизни. М., 2000. – Прим. пер.
(обратно)259
Comptesse Kleinmichel, Souvenirs d’un monde englouti, Paris, 1927, p. 157.
(обратно)260
Anna Vyroubova, cite par Marc Ferro, op. cit., p. 69.
(обратно)261
Сергей Александрович (1857–1905), генерал-губернатор Москвы, пятый сын Александра II. – Прим. пер.
(обратно)262
Cité par Henri Troyat, Nicolas II, le dernier tsar, Paris, Flammarion, 1991, volume repris dans La Grande Histoire des tsars, t. II, Paris, Omnibus, 2009, p. 901. Цит. по русскому изданию: Труайя А. Николай II. М., 2005.
(обратно)263
Цит. по Henri Troyat, op. cit., p. 914.
(обратно)264
Письмо графине Рантцау, цит. по Anna Vyroubova, op. cit., которое приводят Constantin de Grunwald, Le Tsar Nicolas II, Paris, Berger-Levrault, 1965, p. 75, и Catherinne, princesse Radziwill, Alexandra Fedorovna, la dernière tsarina, Paris, Payot, 1934, p. 45.
(обратно)265
Преподаватель военной стратегии полковник Леер, цит. по Catherine, princesse Radziwill, Nicolas II. Le dernier tsar, Paris, Payot, 1933, p. 29.
(обратно)266
Цит. по: А. Труайя. Николай II. М., 2005. – Прим. пер.
(обратно)267
Baron Schoen, cité par Constantin de Grunwald, op. cit., p. 61.
(обратно)268
Цит. по: Henri Troyat, op. cit., p. 910–911; Catherine, princesse Radzivill, Alexandra…, op. cit., p. 39.
(обратно)269
Великими князьями назывались сыновья и внуки царя, правнуки носили титул принцев крови.
(обратно)270
Catherine Durand-Cheynet, Alexandra. La dernière tsarina, Paris, Payot, 1998, p. 42–44.
(обратно)271
Письмо Александры к королеве Виктории, цит. по Constantin de Grunwald, op. cit., p. 82. Цит. по русскому изданию: Труайя А. Указ. соч. – Прим. пер.
(обратно)272
15 марта 1895 г. Цит. по: Catherine, princesse Radziwill, Nicolas II… op. cit., p. 100.
(обратно)273
Hélène Carrère d’Encausse, Nicolas II. La transition interromput, Paris, Fayard, 1996; Pluriel, 2004, p. 157–158.
(обратно)274
Constantin de Grunwald, op. cit., p. 30; Henri Troyat, op. cit., p. 918.
(обратно)275
Catherine, princesse Radziwill, Nicolas II…, op. cit., p. 94 и далее. Цит. по русскому изданию: Труайя А. Указ. соч. – Прим. пер.
(обратно)276
Marc Ferro, op. cit., p. 115.
(обратно)277
Цит. по: Michel Heller, Histoire de la Russie et de son empire, Paris, Flammarion, coll. «Сhamps», 1999, р. 885. Цит. по русскому изданию: Николай II. Дневники императора Николая. М., 1991.
(обратно)278
Catherine, princesse Radziwill, Nicolas II…, op. cit., p. 152.
(обратно)279
Цит. по: Constantin de Grunwald, op. cit., p. 196.
(обратно)280
Marc Ferro, op. cit., p. 132–153.
(обратно)281
Alexandre Spiridonovitch, Les Dernières Années de la cour de Tsarskoe Selo, Paris, Payot, 2 vol., 1928–1929, cite par Henri Troyat, op. cit., p. 1028.
(обратно)282
Constantin de Grunwald, op. cit., p. 80.
(обратно)283
См. Yves Ternon, Raspoutine. Une tragedie russe, Bruxelles, André Versaille éditeur, 2011.
(обратно)284
Цит. по русскому изданию: Труайя А. Николай II. – Прим. ред.
(обратно)285
Constantin de Grunwald, op. cit., p. 245–250. Цит. по русскому изданию: Труайя А. Николай II. – Прим. пер.
(обратно)286
Цит. по русскому изданию: Труайя А. Николай II. – Прим. пер.
(обратно)287
Anna Vyroubova, цит. по Yves Ternon, op. cit., p. 176.
(обратно)288
Yves Ternon, op. cit., p. 174.
(обратно)289
Цит. по Marc Ferro, op. cit., p. 176.
(обратно)290
Письмо Николаю II, цит. по: Marc Ferro, op. cit., p. 208. Цит. по русскому изданию: Труайя А. Николай II. – Прим. пер.
(обратно)291
В Балканские войны (1912–1913), в которых друг другу противостояли, подстрекаемые крупными державами, христианские страны региона и Османская империя. Россия, традиционно защищавшая религиозные меньшинства империи, не вмешивалась.
(обратно)292
Yves Ternon, op. cit., p. 123.
(обратно)293
Ibid., p. 110–111 и Marc Ferro, op. cit., p. 196.
(обратно)294
На самом деле Распутин не принадлежал к «хлыстам» – секте, участники которой называли себя «поклонниками живого бога». Он относил себя к «обычным» православным.
(обратно)295
Письмо Николаю II от 15 июня 1915 г. и ответы Александры от 16 и 17 июня, опубликованные в книге Catherine, princesse Radziwill, Nicolas II …, op. cit., p. 217–221.
(обратно)296
Yves Ternon, op. cit., p. 204.
(обратно)297
Constantin de Grunwald, op. cit., p. 275–276; Hélène Carrère d’Encausse, op. cit., p. 280–285 ; Yves Ternon, op. cit., p. 125–126.
(обратно)298
Michel Heller, op. cit., p. 927–929.
(обратно)299
В июле 1812 г. Александр тем не менее был вынужден по просьбе советников покинуть театр военных действий и переложить ответственность за армию на генерала Барклая де Толли.
(обратно)300
Constantin de Grunwald, op. cit., p. 298–301.
(обратно)301
Henri Troyat, op. cit., p. 1079–1080.
(обратно)302
Его стараниями в январе 1916 г. Бориса Штрюмера назначили председателем совета министров, а в сентябре Александра Протопопова – министром внутренних дел.
(обратно)303
Воспользовавшись переброской к Западному фронту многочисленных немецких подразделений, русские начали масштабное наступление в июле 1916 г., разбив австро-венгров, которым пришлось отступить на сотню километров к южным Карпатам. Успехи русских спровоцировали вступление в войну Румынии на стороне Антанты. Но уже в августе их наступление остановилось.
(обратно)304
В деревнях, напротив, убийство мужика вызвало возмущение.
(обратно)305
Marc Ferro, op. cit., p. 222.
(обратно)306
Hélène Carrère d’Encausse, op. cit., p. 390. Русск. цит. по: Пьер Жильяр. При дворе Николая II. Воспоминания наставника цесаревича Алексея. 1905–1918. М., 2006. – Прим. пер.
(обратно)307
По выражению Марка Ферро.
(обратно)308
Письмо от 23 сентября 1916 г. Цит. по: Henri Troyat, op. cit., p. 209.
(обратно)309
Marc Ferro, op. cit., p. 209.
(обратно)310
Цит. по: Henri Troyat, op. cit., p. 1077.
(обратно)311
Самовлюбленный буржуа из произведений Анри Моннье, знаменитый своими банально-пафосными изречениями. – Прим. пер.
(обратно)312
Catherine, princesse Radziwill. Nicolas II, op. cit., p. 229, 246.
(обратно)313
Речь идет о четвертой Думе, созванной 15 ноября 1913 г.
(обратно)314
Catherine, princesse Radziwill. Nicolas II…, op. cit., p. 253–257.
(обратно)315
Catherine, princesse Radziwill. Alexandra…, op. cit., p. 202–203.
(обратно)316
Hélène Carrière d’Encausse, op. cit., p. 381.
(обратно)317
Catherine, princesse Radziwill, Nicolas II…, op. cit., p. 262-263. Цит. по русскому изданию: Родзянко М. За кулисами царской власти. М., 1991. – Прим. пер.
(обратно)318
Constantin de Grunwald, op. cit., p. 329-330, где он цитирует дневник генерала Дубенского. Цит. по русскому изданию: Труайя А. Указ. соч. – Прим. пер.
(обратно)319
Цит. по: Marc Ferro, op. cit., p. 225.
(обратно)320
Во время войны с Германией от слишком немецкого названия «Санкт-Петербург» отказались в пользу Петрограда.
(обратно)321
На самом деле взятие Зимнего дворца произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1917 г. – Прим. ред.
(обратно)322
Henri Troyat, op. cit., p. 1111–1112.
(обратно)323
Командир отряда Яков Юровский оставил два, немного разнящихся, рассказа о казни: один, который мы здесь приводим, датировался 1920 г., второй – относился к 1934 г. См.: Hélène Carrière d’Encausse, op. cit., p. 495–497. Цит. по русскому изданию: И з рассказа Я.М. Юровского о расстреле царской семьи на совещании старых большевиков в г. Свердловске. Сборник документов, относящихся к убийству императора Николая II и его семьи. (-sky.com/history/library/docs.htm). – Прим. пер.
(обратно)324
Kerenski, La Vérité sur la massacre des Romanovs, цит. по Henri Troyat, op. cit., p. 1116.
(обратно)




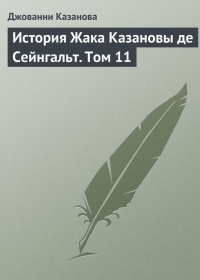
Комментарии к книге «Венценосные супруги. Между любовью и властью. Тайны великих союзов», Жан-Франсуа Солнон
Всего 0 комментариев