Михаил Владимирович Алпатов АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
В АКАДЕМИИ
Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый — всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.
Пушкин, «В начале жизни…».Поздней осенью 1817 года в младшем классе Петербургской академии художеств появился новый ученик. Это был мальчик небольшого роста, коренастый, широкоплечий, с вьющимися русыми волосами и голубыми глазами, в курточке, с большим отложным воротником рубашки, широко лежавшим на шее и на груди. Многие казеннокоштные ученики в своих куртках из грубого синего сукна с суконными пуговицами и тугими воротниками не без зависти смотрели на новичка. Сами они не были избалованы жизнью. Новый ученик появился на положении профессорского сына, которому по особому решению совета было дозволено «пользоваться учением как в учебных, так и художественных классах академии». От остальных учеников он отличался не только костюмом и обилием рисовальных принадлежностей, но и тем, что прошел основательную подготовку по рисованию у отца своего, профессора Андрея Ивановича Иванова. Звали нового ученика Александром. Завистникам могло казаться, что этот выросший под крылом академии мальчик должен был чувствовать себя в ее стенах совсем как дома. Никто и не предполагал, что из числа всех учеников, старательно корпевших тогда над своими рисовальными досками, именно он станет со временем непримиримым противником академических порядков.
Маленький Иванов нисколько не походил на чудо-ребенка и мало выделялся своими успехами. Характера он был вялого, отличался неповоротливостью и медлительностью, которая и позднее раздражала тех, кто имел с ним дело. В классах бросалась в глаза его неспособность быстро соображать, плохая память при заучивании наизусть, явная малоодаренность к словесным наукам. Если Александр и достигал некоторых успехов, то добивался их ценой напряженных усилий, «с бою», как выражались позднее люди, знавшие его в ранней молодости.
Правда, в то время у учеников академии, которым не давалось учение, был наготове утешительный пример итальянского художника XVII века Доменикино, про которого рассказывали, что в детстве он не проявлял особых талантов, зато в зрелом возрасте сразу достиг славы. Но число юношей, которые втайне надеялись на судьбу Доменикино, было слишком велико, чтобы можно было поверить тому, что все они пойдут по стопам знаменитого мастера.
Иванов поступил в академию в ту пору ее существования, когда сквозь внушительные очертания ее фасада стали все яснее проглядывать признаки не-устройства и неполадок. Судьбой академии вершил тогда низенький, сутулый, почти горбатый человек — А. Н. Оленин, «чрезмерно сокращенная особа», как выразился о нем один современник. Благодаря умелому заискиванию перед властями, как говорили тогда — «ласкательству», ему удалось получить назначение на пост президента академии, и он продержался на этом месте целых двадцать шесть лет. Он сам пробовал свои силы в искусстве и сочинял ученые исторические трактаты. Собирая у себя в салоне избранное общество литераторов и художников, Оленин приобрел славу ценителя изящных искусств. Но этот покровитель не прочь был поставить свою монограмму на чужих трудах; случалось, что его же за это еще благодарили. Ради поправления хозяйственного положения академии Оленин проявлял больше всего забот О сокращении расходов и вместе с тем всячески урезывал ее деятельность. Он вытеснял из нее людей «низших» сословий и содействовал введению телесных наказаний. У него не было широкого понимания того, в чем нуждалось искусство в стенах академии.
Согласно учебной программе в младших классах академии наряду с рисунком преподавались и общеобразовательные предметы. Но академическое содержание преподавателей было так низко, что на эти должности шли по преимуществу неудачники. Ученики плохо усваивали эти предметы. Зато они зорко подмечали все повадки и странности своих незадачливых педагогов. Они хорошо знали, что учитель французского языка Тверской имел пристрастие собирать старое железо, и, чтобы заслужить хорошие отметки, подносили ему фунтики ржавых гвоздей и медных пуговиц. Учитель русской словесности Предтеченский вечно ходил в похожей на капот серой шинели, в высокой зеленой фуражке и никогда не расставался со своей табакеркой. У учителя рисования Ушакова из кармана малинового сюртука обычно торчала белая сайка. Вынужденный добираться из дому в академию с другого конца города, из гавани, он никогда не высыпался; во время уроков с последних рядов скамеек раздавался его громкий храп.
Из этой пестрой братии рядовых педагогов академии выделялась фигура академического старожила К. И. Головачевского, который начал свою деятельность еще в славные времена Лосенко и Левицкого и в должности инспектора дожил до глубокой старости. В своем широком красном плаще, который как в летнее, так и в зимнее время неизменно красовался на его плечах, в своих башмаках старого покроя с металлическими пряжками он выглядел случайно уцелевшим обломком предшествующего столетия. Держался он с невозмутимым спокойствием и при всей любви к порядку был с подчиненными и с учениками необычайно прост, учтив и ласков. Головачевского любили ученики и называли его родным отцом, но в годы поступления Иванова он уже потерял вес в академической жизни и служил всего лишь напоминанием о славном прошлом академии.
В распорядке академии и в укоренившихся в ней нравах все сильнее выступали в то время черты, которые делали ее похожей не на храм искусств, а скорее на казенный департамент или аракчеевскую казарму. Недаром вскоре после воцарения Оленина в состав ее почетных членов, по требованию Александра I, был избран Аракчеев, и единственно воспротивившийся воле монарха вице-президент А. Ф. Лабзин поплатился за это ссылкой в далекие сибирские края, где и нашел свою преждевременную кончину. Со вступлением на престол Николая I полицейская система укоренилась особенно прочно. В поисках запрещенной литературы в спальнях казеннокоштных учеников производились обыски, их письма вскрывались и читались начальством. Поощрялись доносы и шпионство. Некоторые из учеников стали подлаживаться к педагогам, как мелкие чиновники к начальникам.
Когда Иванов достиг старших классов, среди деятелей академии заметной фигурой стал Василий Иванович Григорович. Он был начитан в литературе по искусству и одно время издавал «Журнал изящных искусств», в котором появлялись переводы с иностранного, в частности из Винкельмана [1], и очерки о шедеврах старого искусства. В своих собственных статьях В. И. Григорович выступал рачительным защитником отечественных талантов. Но его эстетическая программа имела мало общего с интересами передового искусства. Искусства, утверждал он, делают людей «обходительными и любезными», они ведут «к высокой цели, к нравственности путем, усеянным цветами». Вместе с тем Григорович не забывал высказать и свои верноподданнические чувства. «Правительство, — писал он, — ничего не щадит для художников. Оно одно их поддерживает. Оно одно их питает».
В академии Григорович занимал должность конференц-секретаря и в силу занятости президента делами государственной важности был в ней полновластным хозяином. Когда несколько именитых петербургских меценатов соединили свои средства и образовали в 1821 году Общество поощрения художников, Григорович сумел приобрести доверие его членов и занять в нем видное положение. Попутно он заботился о том, чтобы породниться с влиятельными художниками: он женился на дочери престарелого и почитаемого всеми скульптора И. П. Мартоса; другой профессор академии, А. Е. Егоров, был его свояком. Григорович часто появлялся в академических классах и важно прохаживался между рядами рисующих. От его одобрения зависела будущая судьба молодого художника: об этом хорошо были осведомлены юные честолюбцы, и они подобострастно ловили в глазах Василия Ивановича выражение желанной им благосклонности.
Молчаливый, застенчивый и замкнутый, Иванов неохотно делился своими мыслями по поводу того, что происходило у него на глазах. Трудно было догадаться о том, что творилось в душе этого с виду робкого и неловкого в обращении с людьми юноши. Между тем отвращение к академическим порядкам пробуждалось в нем уже в эти годы. Впоследствии он жаловался на бессистемность в преподавании общеобразовательных предметов и на то, что художники с академическим дипломом оставались людьми непросвещенными и темными. Его глубоко оскорблял тот дикий разгул, которому втайне от начальства предавалась молодежь; его оскорбляло самое «принуждение начальства», которое одно лишь способно было заставить будущих художников учиться. Порою ему казалось, чго и в его собственных трудах проявляется «усердие раба, коего из милости держит в доме барин». В минуту особенной горечи он говорил о «подлом воспитании», полученном в академии.
При всем том академия была в те времена крупнейшим художественным учреждением России и соединяла в себе лучшие силы искусства. Основанная при Ломоносове, она за сравнительно недолгое существование выпустила из своих стен немало замечательных русских художников. Этой ее заслуги не отрицал и Иванов. С сожалением говорил он о тех художниках, которым в молодости не удалось пройти школы академического рисунка.
Следуя раз навсегда установленному порядку, курс обучения распадался в академии на ряд ступеней: ученикам младших классов предлагалось копировать гравюры с картин знаменитых художников, затем упражняли их руку в рисовании орнаментов; долгое время они корпели над гипсами, копируя с различных точек зрения слепки с древних статуй, отдельные головы, фигуры и группы. Ученики должны были научиться безупречной точности в передаче на плоскости бумаги объема тел, их выпуклостей, впадин и волнообразных контуров, в которых видели тогда признак особенной красоты; их держали на гипсах до тех пор, пока им не становился послушным карандаш, пока они не добивались совершенства в разного рода штриховке и тушевке. Лишь после многолетних упражнений на гипсах ученики «старших возрастов» допускались в натурный класс, где рисовали с академических натурщиков.
Занятия натурного класса происходили по вечерам в полуциркульном зале, так называемом амфитеатре. В центре его на подставке-станке высилась неподвижная фигура обнаженного натурщика. Сверху на нее падал свет от огромной люстры. На расположенных полукругом в несколько ярусов скамейках тесно усаживались ученики, каждый со своей большой рисовальной доской на коленях. Работа в амфитеатре требовала огромного напряжения. В зале от скопления людей и копоти светилен было невыносимо жарко и душно. Тем не менее во время занятий в амфитеатре соблюдалась строжайшая тишина, никто не позволял себе ни шепота, ни смеха. Множество молодых людей, напряженно всматриваясь в модель, стремились с возможной точностью уловить и передать ее черты. Самая форма помещения, напоминавшая театральный зал, верхний свет, при котором обнаженный Тарас или Василий делался не похожим на того, каким его привыкли видеть, когда он в своей холщовой рубахе подметал пол или топил печи, наконец соседство обнаженного и ярко освещенного люстрой натурщика с выступающими из полумрака и такими же неподвижными, как и он, слепками античных статуй, — все это заставляло относиться к происходящему. как к настоящему священнодействию. Часы, проводимые учениками в амфитеатре в «поединке с натурой», были той школой художественного мастерства, которая на всю жизнь оставляла глубокий след.
Несмотря на то, что при Александре I, а особенно при Николае I, Академия художеств, «милостиво» переданная в ведение министерства двора, все больше становится бюрократическим учреждением, ее педагоги — исполнительными чиновниками, учение в ней— казенной службой, а ее целью — неукоснительное исполнение воли государя, правительству так и не удалось полностью отгородить ее от того, что происходило в то время в России. Правда, идеи декабристов не находили здесь такого широкого распространения, как в стенах Московского университета. Среди художников было значительно меньше участников событий 14 декабря, чем среди русских литераторов и особенно среди военных, которые в то время более непосредственно соприкасались с общественной жизнью и обладали большим политическим опытом.
Впрочем, это не значит, что в недрах самой академии не возникали передовые понятия и идеи, противоречащие официально поставленной перед ней программе. Уже со своего основания в XVIII веке академия под стягом верности античности вела решительную борьбу против безыдейности в искусстве и эстетической извращенности. Менялось начальство, менялась форма управления, менялся покрой мундиров, но никто не выступал против укоренившегося почтительного отношения к античности. Даже николаевские мракобесы, которые так усердно искореняли все, что не отдавало казенной будкой, не сразу решились посягнуть на эту традицию. Не вникая в ее существо, они сохраняли ее лишь потому, что ссылками на нее надеялись прикрыть свое равнодушие к творчеству, потому что главную опасность видели в том новом, что грозило поколебать авторитеты, пошатнуть привычное и пробудить жажду неизведанного.
В стенах академии, под той же кровлей, под которой находился конференц-зал, где убеленные сединами сановники в расшитых золотом и усеянных звездами мундирах усаживались в золоченые кресла, чтобы судить академические дела в духе «монаршей воли» и поддерживать в ней сословно-дворянский порядок, в стенах той же академии один из ее залов был издавна отведен под собрание слепков с античных статуй. Слепки эти выставлены были для учебных целей, как примеры для подражания. Все знали об их существовании, но на эти запыленные гипсы многие перестали обращать внимание. Между тем сколько истинного человеческого достоинства было в теле красавца Аполлона, мягко выделявшемся на фоне мелких складок его плаща! Сколько энергии в боргезском борце и задора в танцующем фавне! Сколько здоровой чувственности в теле Венеры! Каким сдержанным благородством дышало лицо Лаокоона с его полуоткрытыми устами, из которых усилием воли он не давал вырваться крику отчаяния!
Ни для кого не было тайной, что во Франции возрожденная античность была на стяге выступавшего против феодального строя и королевского абсолютизма революционного искусства. Недаром ее защитники любили противополагать хороший вкус республиканской, демократической Греции падению вкуса в императорском Риме, в котором искусство стало служить тиранам. В самодержавной России избегали вскрывать политический смысл обращения к античности. Но вместе с античностью в искусство проникали новые, передовые идеи.
В таких условиях тихая античная галерея академии была как открытая книга: много людей проходило по ней, не видя в гипсах ничего, кроме запыленных памятников старины, много учеников старательно копировало их, не замечая в них ничего, кроме верности в передаче обнаженного тела и эффектно брошенных тканей. Но тот, у кого имелся достаточный запас жизненных наблюдений, кто умел угадать смысл, заключенный в этих образах, тот не мог не заметить вопиющего противоречия между естественностью, человечностью и свободой, к которым взывало древнее искусство, и тем невежеством, позорным рабством и тиранией, которые царили тогда в России. Для такого художника античная галерея была не пыльным архивом потерявших значение остатков старины, а арсеналом действенного и губительного для врагов свободы оружия. В то время биографии героев древности способны были воспламенить сердца юношей и толкнуть их на открытое выступление против самодержавия.
В годы учения Александра Иванова в Академии художеств русское общество все еще находилось под впечатлением событий Отечественной войны 1812 года. Русский народ хранил в памяти славные подвиги своих лучших сынов, повергших армию Наполеона.
В связи с этим все яснее становилось, что теперь не было необходимости воспевать одних только Курциев и Фабрициев, о которых повествует Плутарх и Ливий. И в русском прошлом и в русской современности было достаточно героев, достойных прославления, вроде древних киевских витязей, костромского крестьянина Ивана Сусанина, нижегородского гражданина Кузьмы Минина, наконец полководцев и воинов Отечественной войны. Высоким назначением искусства стало прославление патриотического подвига народа. С утверждением новых тем даже традиционные античные темы наполнились новым патриотическим содержанием.
Впрочем, в обращении к отечественной истории не могло быть и не было полного единства. Людей демократического образа мыслей привлекало мужество народных героев, гражданская доблесть защитников свободы. Люди из консервативного лагеря, вроде Карамзина, призывали художников к увековечению событий, способных укрепить монархические умонастроения. Академическое начальство не могло не откликнуться на патриотический подъем, но оно постаралось направить его в русло верноподданничества. Предлагая ученикам создавать композиции на темы Отечественной войны, в частности на тему — отказ жителей Москвы подчиниться Наполеону, академия требовала от них, чтобы в картинах было показано, что подвиги эти свершались ради «верности богу и государю». При таких условиях подлинный героизм русского народа с трудом мог найти отражение в академических работах.
Если Александру Иванову должно было быть не по себе в академии, то и в родительском доме не было полного благополучия. Отец Александра Андрей Иванович Иванов был человеком незнатного происхождения. Из Воспитательного дома он еще в раннем детстве был взят в академию и получил дворянство, дослужившись до соответствующего чина. При окончании академии Андрею Иванову была присуждена золотая медаль, но, рано женившись, он лишился права заграничной поездки и остался педагогом академии. В молодости своей Андрей Иванов в числе немногих русских художников входил в состав Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, в котором высоко почитались традиции радищевского свободомыслия. В творчестве художника эти связи его проявились в картинах на темы из русской истории, в которых он в меру своего скромного художественного дарования пытался увековечить подвиги русских людей, придавая им сходство с героями античности. Однако нужда заставляла его переходить от писания патриотических холстов к церковным образам и казенным иконостасам. Вдумчивым отношением к своим педагогическим обязанностям и усердием по службе он дотянул до звания профессора.
С автопортрета Андрея Ивановича на нас смотрит приветливое лицо человека с густыми темными бровями, коротким, чуть вздернутым носом и пухлыми добрыми губами. Его открытое, добродушное лицо плохо гармонирует с тугим и высоким воротом шитого золотом академического мундира.
Поскольку жена его ограничивала круг своих интересов хозяйственными делами и здоровьем своих пятерых детей, воспитание Александра оказалось целиком в руках отца. В сыне своем он не чаял души, видимо надеясь увидеть в нем сбывшимися свои мечты художника, от которых он сам, обремененный семейными заботами, вынужден был отказаться. Впрочем, согласия и мира в семье Ивановых не существовало, особенно после неудачного замужества старшей сестры Александра Екатерины. Недаром Александр никогда не любил вспоминать о своем детстве и горько сетовал на судьбу, которая с ранних лет «вокормила его бедами». Во многом он готов был винить самого себя: юношей ему все казалось, что в детстве он много времени потерял напрасно и по причине лени и бездеятельности так и не стал вполне образованным человеком.
В этих упреках самому себе была значительная доля преувеличения. В старших классах академии Александр работал с исключительным трудолюбием. Он твердо усвоил мысль, что на природные дарования ему не приходится полагаться. Иное дело братья Брюлловы, особенно Карл, слава которого уже гремела по всей академии. Впрочем, дух соревнования твердо укоренился между учениками академии и искоренить его не было никакой возможности. Этот дух соревнования поощрялся самой системой отметок по рисунку, которые ставились в последовательном порядке, начиная с номера первого — лучшего. Это сказывалось и в раздаче медалей, которые сулили в будущем осуществление мечты каждого ученика — поездку в Италию на казенный счет. Упорным, сосредоточенным трудом Иванову в последние годы пребывания в академии удавалось несколько раз заслужить медали. Но в сознании его оставалось непоколебленным представление о совершенстве Карла Брюллова. Он называл его Геркулесом, с которым безрассудно вступать в единоборство.
Достигнув «старшего возраста», Александр Иванов был зачислен в мастерскую профессора Егорова, которого за его превосходное владение рисунком величали в то время «российским Рафаэлем». Работая много лет в стенах академии вместе с Андреем Ивановым, Егоров неизменно относился к нему недоброжелательно, порой даже враждебно. У Егорова, впрочем, было достаточно беспристрастия, чтобы не отрицать успехов младшего Иванова в его классных работах. Но однажды, когда тот представил «домашнюю программу» на тему блудного сына, старик взглянул на нее своими косыми рысьими глазами с явной недоброжелательностью. «Не сам», — отрывисто бросил он. Это подозрение не было ничем подкреплено, но его трудно было и опровергнуть.
В отличие от множества учеников Иванову в академические годы больше удавались его классные задания и академические программы, чем то, что он делал для себя, рисуя с натуры и по памяти. Сравнивая его альбомные зарисовки, вроде изображения родной семьи или юноши за мольбертом, с его классными работами, трудно признать в них руку одного и того же художника. В классных работах Иванов в рамках строгой академической дисциплины уже проявляет большие успехи. Домашние рисунки его робки по замыслу и по выполнению, как рисунки любителей; в них незаметно даже тех элементов мастерства, которыми ученик уже владел, работая в классе.
Неудивительно, что в тех случаях, когда Иванову удавались его внеакадемические работы, даже близкие к нему люди не признавали их делом его рук. Однажды Александр выполнил эскиз на тему «Самсон помогает больному». Эскиз этот попался в академии на глаза отцу и остановил его внимание. Дома отец спросил Александра: «Чья это работа?». Из-за какой-то странной стеснительности Александр отвечал: «Не знаю чья». Только позднее, обнаружив этот эскиз у сына, отец догадался, кто был его автором. Он взял эскиз домой и вернул сыну для дальнейшей работы лишь перед его отъездом за границу.
В 1824 году Александру Иванову и его сверстникам было предложено выполнить картину на тему «Приам испрашивает у Ахилла тело Гектора». После неудачи с эскизом на тему блудного сына новая программа давала ему возможность смыть пятно подозрения и восстановить свое доброе имя.
В практике академии сюжет этот был постоянно в ходу, вроде тех сольфеджио, которые без конца заставляют исполнять молодых певцов, чтобы поупражнять их голос и проверить умение. Изображая сцены из «Илиады», большинство художников ради приближения к «духу античности» прямо заимствовали из античных памятников отдельные фигуры, нередко стараясь решить свою задачу так, как могли бы ее решить древние художники. Иванов вдумчиво вчитывался в «Илиаду» и хорошо ее знал, но, судя по его ранним рисункам, он стремился собственными глазами взглянуть на то, о чем повествуется в ней. Его занимала задача вникнуть в поэтический смысл отдельных драматических ситуаций и характеры героев. В повествовании об отважном подвиге Приама, проникшего во вражеский стан в надежде на великодушие Ахилла, он поражен был тем, что доходящая до жестокости прямота древних героев сочетается с человеколюбием и великодушием. Он хотел перевести на язык живописных образов эпитеты гомеровской поэмы, в которой Приам выступает как старец «боговидный», «почтенный», а Ахилл — как муж «благородный», «быстроногий».
В выполнении этой юношеской картины Иванова бросается в глаза прежде всего старательность ученика, стремящегося овладеть тайнами мастерства. В картине тщательно выписаны тонкая полосатая ткань хитона Приама — с более мелкими складками, чем накинутый поверх него тяжелый плащ, — тигровая шкура Ахилла и золотая урна за ним. Характеристике героев служит контраст плавно ниспадающих очертаний склоненного Приама и напряженно вздымающихся контуров Ахилла. Молодой художник сосредоточил всю силу своей палитры в ярко-алом плаще Ахилла. Плащ как бы стекает с плеч героя на колени и с них до самой земли.
В этой первой самостоятельной живописной работе Иванова больше вдумчивости и старательности, чем блеска, которым покорял зрителя Карл Брюллов. Но в одаренности молодого художника не приходилось сомневаться. Педагоги академии могли быть довольны тем, что мастерством, присущим картине, Александр Иванов обязан был их системе преподавания. Но кто же из них мог научить этого с виду робкого и неповоротливого юношу пониманию возвышенного и величавого, которое так ясно сквозит в его картине? Откуда обитатель Васильевского острова, который, по собственному признанию, дальше Парголова нигде не бывал, мог узнать, как держались и как изъяснялись друг с другом греческие герои? На этот вопрос трудно дать прямой ответ. Можно только сослаться на то, что художественный дар открывает людям много такого, о чем невозможно составить себе понятие на основании одного лишь жизненного опыта.
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Пушкин, «Предчувствие».В ближайшие годы после окончания академического курса Александр Иванов обнаруживает большое усердие. Он принимается за создание новой большой композиции. Полное название этой выставленной в 1827 году картины было «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару». Из светлого мира Эллады художник перенесся в мрачный мир восточной деспотии. Действие происходит в темнице, куда по воле египетского фараона были заключены два его приближенных. Случайно оказавшись вместе с ними, не по годам проницательный юноша Иосиф на основании их вещих снов предсказывает каждому из них его судьбу: хлебодара ждет жестокая казнь, виночерпия — освобождение. Ни хлебодар, ни виночерпий не чувствуют за собой вины, никто из них не свершил подвигов — оба они всего лишь игралище слепой и жестокой судьбы. Стройный юноша с женственным лицом в озаренном холодным дневным светом белом хитоне и голубом плаще поднятой рукой призывает само небо в свидетели верности своего прорицания. С блуждающей на устах радостной улыбкой виночерпий хватает его руку. Хлебодар полулежит на каменном полу темницы, сраженный роковым предсказанием; огненно-алый цвет его одежды как бы выражает жар его волнения. Он отстраняет от себя Иосифа, как страшный призрак. На барельефе, вделанном в стену темницы, изображена сцена казни подданных фараона — это то, что ожидает хлебодара. Есть нечто беспощадно суровое во мраке, в который погружены все представленные в картине предметы.
Эта поэма о судьбе людей в условиях деспотизма должна была произвести особенно сильное впечатление в момент своего появления. Картина Иванова создавалась в то время, когда многие русские люди, не смея открыто в этом признаться, все еще находились под впечатлением беспощадной жестокости, с которой Николай I расправился с декабристами. Многие ожидали, что в последний момент он откажется от казни, и поэтому весть о повешении пятерых вождей восстания произвела самое тягостное действие даже на тех людей, которые не желали видеть в Николае неисправимо жестокого тирана. Вряд ли в своей картине Иванов мог решиться изображением в настенном рельефе четырех казненных подданных фараона прямо намекать на жертвы николаевского террора. Но, как чуткий и правдивый художник, он не мог не отразить в своем творчестве то чувство гнева и возмущения, которое он испытывал тогда вместе со всеми честными русскими людьми.
Для Иванова, как для художника, работа над «Иосифом» была после «Приама» следующей ступенью в постижении человека, взаимоотношений людей. Там среди бывших заклятых врагов торжествует великодушие, уважение к отцовским чувствам — отсюда бодрый, светлый характер картины. Здесь безраздельно господствует бессмысленная жестокость, а между жертвами этой жестокости полная разобщенность. Иосиф выглядит в темнице посланцем из иного мира.
Атмосфера в Петербурге была в то время все еще достаточно накалена для того, чтобы правительству всюду мерещилась крамола. Недаром один из почитателей Пушкина, некий кандидат наук Леопольдов, поплатился годом заключения в остроге лишь за то, что у него обнаружили стихотворение Пушкина «Андрей Шенье», в котором, хотя оно и было «дозволено цензурой», кому-то почудился намек на декабрьские события. Хотя сюжет картины Иванова был предложен ему Советом академии и постоянно разрабатывался учащимися, нашлись злонамеренные люди, которые постарались оклеветать молодого художника перед начальством, уверяя, что картина эта содержит крамольные намеки и направлена против царского правительства. Над Ивановым нависла серьезная опасность: за такие проступки в то время ссылали в Сибирь.
Обстоятельства этого дела не нашли исчерпывающе полного отражения ни в официальных документах, ни в переписке. Но в связи с тем, что известно о характере Иванова и об его образе мыслей в дальнейшем, можно догадаться, что он не умел скрывать ни своих симпатий к борцам за свободу, ни своего отвращения к деспотизму. Ни для кого не было тайной, что в молодости своей и отец его Андрей Иванов отличался свободомыслием. Всякий легко мог предположить, что этот образ мыслей Ивановых стал их семейной традицией, и потому рельеф в картине Александра мог послужить для их недоброжелателей удобным поводом, чтобы состряпать донос на молодого художника.
Однако начальство не могло не понимать шаткости выдвинутых обвинений. По счастью для Иванова, оно сочло для себя более выгодным не раздувать опасности, я дело ограничилось лишь тем, что молодой художник был вызван к разгневанному президенту и должен был выслушать от него выговор. Его обвиняли не только в сочувствии «мятежникам», но и в «безбожии». Естественно, что об этом случае ни он, ни его друзья старались не вспоминать. Своих обвинителей он позднее называл «злыми невеждами», способными «увидеть сатиру в самой невинной мысли художника». Во всяком случае, это первое столкновение с начальством оставило глубокий след в его памяти.
Видимо, в самый острый момент, когда над молодым художником нависла страшная угроза, отец его, незадолго до того исполнявший образа для посольской церкви в Пекине, прибег к своим связям и решил отправить своего сына в Китай, лишь бы тому оказаться подальше от столицы. В Китай предстояло ехать не менее чем на десять лет. Вот почему уже много позже Александр вспоминал о Китае, как об опасности, от которой он едва уцелел.
Оценку своего первого столкновения с властью он выразил позднее в том признании, которое содержит в себе беспощадно дерзкое, небывалое еще в устах русского художника осуждение всего общественного порядка николаевской России. «Рожден в стесненной монархии, — писал о себе Иванов, — не раз видел терзаемыми своих собратий, видел надутость бояр и вертопрашество людей, занимавших важные места». Можно представить себе, как не поздоровилось бы заподозренному в крамоле автору картины «Иосиф, толкующий сны», если бы правительство дозналось до его тайных мыслей по поводу того, что творилось тогда в России.
РАЗДУМЬЯ НАД ПРИЗВАНИЕМ
Резец, орган кисть! Счастлив, кто
влеком
К ним чувственным, за грань их не
ступая!
Баратынский.Пройдя курс обучения в академии, Иванов с горечью осознал недостаточность полученного общего образования. С лихорадочной торопливостью, с настойчивостью и усердием он принялся за чтение книг, которые могли расширить его кругозор. Юношеские тетради и дневники Иванова пестрят выписками из самых различных источников. В семье настольной книгой была «История искусства» Винкельмана. Статьи в «Журнале изящных искусств» прочитывались Александром с большим вниманием. Он познакомился с «Историей древней литературы» Фр. Шлегеля и проявлял живой интерес не только к широко популярному среди художников Гомеру, но и к Пиндару и к древнегреческим трагикам. Когда Валериан Лангер выпустил русский перевод сочинения итальянского автора Франческо Милиция под названием «Об искусстве смотреть на художество», оба Иванова принялись за изучение этого кодекса эстетики классицизма.
Записные книжки Александра Иванова дают представление о том, какие мнения об искусстве, встреченные в книгах, особенно врезались в его память. «Тогда искусство совершенно, когда оно кажется природою, и, обратно, природа счастлива, когда в ней скрывается искусство». Выписывая эту сентенцию, Иванов мог вспоминать и свой собственный творческий опыт. «Не иначе, как посредством терпеливого труда, можно создать произведение совершенное». Эти слова также соответствовали его собственному природному влечению.
Естественно, что вопросы живописного мастерства особенно горячо волновали молодого художника. По поводу многофигурной композиции на драматическую тему Иванов записывает: «Ежели бы на сей картине каждый имел свое поведение, свои движения, словом, ежели бы каждый выражал ужас собственным ему способом, то она была бы прекрасною и ты увидал бы там одно и то же в различных видах». Это требование психологического единства и разнообразия предвосхищает задачи, над которыми ему предстояло трудиться последующие годы.
Иванов знакомится с гравюрами с картин старых мастеров, как Леонардо и Рафаэль, Тициан и Пуссен, и испытывает по отношению к ним глубокое восхищение. Он признает, что они «не в пример глубже, внимательнее и благороднее занимались искусством живописи, нежели все сии нарядные мастера нашего времени». В незадолго до этого вышедшей книге Вакенродера «Об искусстве и художниках» Иванов выискивает сведения о Рафаэле, в частности приписанные ему слова о том, как полезно молодому художнику учиться у великих мастеров и как важно найти свой «род живописи», которому научиться невозможно. Иванова занимают извлеченные из «Трактата» Леонардо советы художнику быть всеобъемлющим и представлять предметы «не по принятому общему способу, но по собственным врожденным свойствам каждого из них».
Внимание Иванова останавливает на себе характеристика творчества малоизвестного в России в то время Дюрера. «Важность, прямота и сила характера немецкого верно и ясно отпечатлены не только в образовании лиц и во всей наружности картин сего художника, но и в самом их духе». Эти слова Иванов дословно выписывает из книги Вакенродера, но он не может остановиться на этой характеристике и уже сам от себя делает добавление, подводит итог, которого не хватает романтику XVIII века. «Дюрер художник истинно народный».
Иванова в эти годы больше всего занимает в искусстве высокое, героическое, и он по нескольку раз возвращается к этой теме. «Высоким вообще называют все, возвышающее нас превыше того, что мы были, и в то же время заставляющее нас чувствовать сие возвышенное». Он знает по собственному опыту, каким сильным воздействием обладает это высокое, и в подтверждение своего убеждения записывает слова древнего писателя Лонгина: «Высокое столь сильно действует на человека, что если указано, что весь мир рушится, оно и тогда пребывало бы в спокойствии». На основании этих общих положений художник делает практический вывод для себя: «Чтобы зритель, взирая на картину, преисполнился сам высокости или чтобы она породила в нем высокие чувства».
В своем стремлении к высокому в искусстве Иванов находил себе союзников в лице поэтов-декабристов. Недаром именно из их среды раздался призыв В. Кюхельбекера не пренебрегать торжественной одой ради бескрылой элегии и насмешливо-развлекательного послания. «Ода, — писал он, — увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу отечества, воспаряя к престолу неизреченного и пророчествуя перед благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, порабощает слух и душу читателя».
Уже после того как над ним чуть не стряслась беда в связи с картиной «Иосиф», Иванов, как бы наперекор брошенному против него обвинению в симпатии к «мятежникам», принимается за изучение опубликованной в 1825 году последней статьи К. Рылеева «Несколько мыслей о поэзии» и заполняет свою тетрадку выписками из нее. Помимо призыва осуществить в искусстве «идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин», на Иванова должно было произвести впечатление, что при всем признании древних авторов Рылеев призывал современных поэтов не подражать им рабски и не накладывать на себя узду Аристотелевых правил, не оправданных теми условиями, в которых творит современный поэт.
Иванову, видимо, пришлось по душе и то, что, наперекор обычному в то время в журнальной критике противопоставлению классицизма и романтизма, Рылеев утверждал, что этой противоположности не существует. Иванов полностью выписал себе высказывания по этому поводу поэта-декабриста: «Истинная поэзия в существе своем всегда была одна и та же, равно как и правила оной. Она различается только по существу и формам, которые в разных веках приданы ей духом времени, степенью просвещения и местностию той страны, где она появилась». Попутно Иванов приводит и характеристику Байрона и его поэм, «в коих, — по выражению Рылеева, — живописуются страсти людей, их сокровенные побуждения, вечная борьба страстей с тайным стремлением к чему-то высокому, к чему-то бесконечному».
Нет ничего удивительного, что со своим влечением к высокому искусству Иванов должен был испытывать самое непреодолимое отвращение к проявлениям в искусстве низменного и пошлого. Уже позднее, прослышав о только что вышедшем и нашумевшем романе Ф. Булгарина «Иван Выжигин», он познакомился с ним. Вся чистая, благородная натура Иванова восстала против циничной проповеди; стяжательства и мещанской пронырливости. Он остался очень недоволен этим сочинением: «Булгарин столько же имеет дара описывать пороки, сколько сам в них неподражаем».
В полном соответствии со своими эстетическими влечениями Иванов в эти годы замышляет несколько патриотических картин на темы из русской истории. В одной из них молодой художник собирался изобразить прославленного Святослава, но выбрал для этого не тот наиболее патетический момент, когда он наступает на врагов или они его теснят, а тот, когда он погружен в свои обычные занятия, но эти занятия не в силах подавить в нем героя. «Греки приносят дань Святославу близ Царьграде с униженностью. Застают его самого с товарищами, жарящего на копье кобыльи части. Он отвергает злато». Точно так же в условиях «местного колорита» собирался Иванов увековечить Пожарского — «у сеней дома своего на смещенных лавках или на вынесенной нарочно кровати на крыльцо, пользующимся воздухом в своем селе, ибо он отдыхает. Тут же гуляют куры, утки; птицы в клетках сидят на стенке и разные тому подобные обзаведения, что, кажется, составить должно картину в высоко домашнем роде».
Эпический характер должна была приобрести задуманная Ивановым картина из времен монгольского ига. Он представляет себе сельское кладбище; на: нем хоронят множество трупов; из толпы выделяется плачущая мать, окруженная семейством; тут же виднеются осиротевшие дети. Зрелище это должно было характеризовать события, о которых постоянно повествуется в летописях и которые и позднее занимали Иванова: бедствия русской земли после кровопролитного столкновения с татарами или после повального голода, мора.
В ИТАЛИЮ
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Баратынский.Общество поощрения художников еще в 1827 году приняло решение о посылке Иванова в качестве своего пенсионера в Италию. Однако осуществление этого решения сталкивалось со множеством препятствий. Недовольство академического начальства картиной «Иосиф толкует сны» пошатнуло положение молодого художника. Другая выполненная им картина «Беллерофонт» не пришлась по вкусу Совету Общества.
Положение Иванова усложняло еще то, что незадолго до этого посланный Обществом в Италию Карл Брюллов оказал неповиновение. Рассерженный долгой задержкой пенсиона, он добился выгодного заказа и, почувствовав под ногами почву, отказался от пенсиона, который после долгих проволочек на-конец-то ему собирались выслать. Обиженные этим баловнем судьбы, члены Общества решили быть осторожными с посылкой других пенсионеров. Свое неудовольствие против «неблагодарного» Брюллова они готовы были распространить на ни в чем не повинного Иванова.
Сам Иванов чуть было не совершил шаг, который мог бы сделать его поездку неосуществимой. В академии под одной кровлей с Ивановыми жил учитель музыки Гюльпен; его дочка так приглянулась молодому Иванову, что он готов был жениться на ней, как в свое время прямо с академической скамьи женился и его отец Андрей Иванович. Можно представить себе, как круто изменилась бы в таком случае его судьба. Прежде всего с женитьбой он лишился бы права заграничной поездки. К тому же ему пришлось бы искать себе службу, может быть, место преподавателя в академии. Зная добросовестность Иванова, можно вообразить себе, что преподавание поглотило бы его с головой. С появлением детей увеличились бы его семейные обязанности, возникла потребность в приработке, в заказных работах к сроку по вкусу заказчиков. Для Иванова это означало бы, что на творчество ему не оставалось ни времени, ни сил. Тяжелое, зависимое положение художников в николаевской России перемололо немало крупных дарований.
Поистине добрым гением Александра явился в тот момент его старший друг Карл Иванович Рабус, который доводами благоразумия отговорил его от ранней женитьбы. Александр с гордостью вспоминал позднее о том, как в борьбе чувства и долга в нем над любовью одержало победу сознание своего долга. Не по годам вдумчивый, серьезный и взыскательный к себе в делах искусства, он был в жизни еще совершенный ребенок. Сквозь привычную замкнутость, недоверие к людям в нем временами пробивалась потребность в пламенной дружбе, и тогда не было удержу его восторженной доверчивости.
Такой предмет своих чистых дружеских влечений он и нашел себе в лице молодого пейзажиста Рабуса. Карл Иванович имел тогда облик, с каким обычно связывается представление о поэтах-романтиках: длинные черные кудри в беспорядке падали на его плечи; у него было милое, открытое детское лицо с румянцем на щеках. Иванов писал Рабусу письма, в которых изливался в выражении признательности за его внимание и ответные чувства. Эти ранние письма Иванова отличаются витиеватой вычурностью слога (он сам признавался, что плохо владеет отечественным языком). «Убегая скудных учтивостей, не стану описывать то время, когда вы, пребывая в Петербурге, отторгали мою душу от мрачных и неприятных мыслей, которые теперь, редко посещают меня: коротко скажу, что пребывание ваше здесь мне доставило пользу, вместе с приятностью». В этих оборотах речи было много манерного. Но в искренности чувств нельзя сомневаться.
Полной уверенности в благоприятном решении вопроса о поездке Иванова в Италию не было вплоть до 1830 года. Близким своим художник жаловался на то, что, по слухам, начальство грозится снабдить его строжайшей инструкцией, причем нарушение любого из ее пунктов повлечет за собой лишение его дальнейших прав пенсионера. Видимо, слухи об инструкции исходили из уст чиновников: их цель была запугать художника и внушить ему послушание. В действительности инструкция, выданная Иванову за подписями почетных членов Общества, не выходила за рамки здравого смысла. Составлена она была с учетом опыта многочисленных русских пенсионеров, которые уже более полустолетия каждый год отправлялись из Петербурга в Рим.
В инструкции говорилось о том, какие следует посетить города, на какие шедевры обратить внимание. Составители ее обнаруживали большую осведомленность и широту: художнику напоминалось о том, что Рим является «столицей художеств», но среди рекомендуемых городов не забыта была Флоренция, Сиена, Пиза; согласно академической доктрине в Болонье художникам предлагалось погрузиться в изучение Карраччи; наоборот, о Венеции замалчивалось, так как живопись ее претила вкусу академии. Александру Иванову надлежало посвятить первый год своего пенсионерства ознакомлению с памятниками итальянского искусства, в течение второго выполнить копию с одной из фигур сикстинского плафона, и лишь на третьем году ему предстояло создать самостоятельное произведение; причем композиция его не должна была быть слишком многосложной, «ибо не множество, но качество фигур делает картину хорошей». В инструкции напоминалось о том, что живопись — искусство «подражательное», но что подражать следует природе «изящной»; что в сочинении следует искать «ясности идей» и «отчетливости во всех частях представленного действия»; что «целое должно быть в гармонии с частями»; что не нужно забывать и о том, что «понимать» и «делать» суть вещи разные, и потому художник должен довести свою руку до того, чтобы она слушала его голову.
Еще много других полезных советов касательно рисунка, колорита, экспрессии и освещения, касательно «истинного» и «деланного» в искусстве содержала напутственная инструкция. Документ этот, написанный красивым писарским почерком на больших, сшитых золотой тесьмой листах, сохранился в бумагах Иванова. Видимо, он неоднократно перечитывал текст, раздумывая над значением отдельных его параграфов. Он находил в этом подборе эстетических сентенций и советов больше глубокомыслия, чем в него вкладывали петербургские вельможи, скрепившие инструкцию своими размашистыми подписями.
Наконец решение об отправке пенсионера было получено, но Иванов все еще не мог пуститься в путь. То время года было не подходяще для перемены климата, то хотелось отделаться от назойливого спутника, проныры-художника Яненко, то задерживали личные дела желанного спутника и закадычного друга Рабуса. И лишь весной 1830 года Александр Иванов решил отправиться в путешествие — вместе с учеником отца Григорием Лапченко.
Странной и необычной была судьба этого спутника Иванова, крепостного человека графа М. С. Воронцова. Стараниями Оленина в академии оказывалось всяческое препятствие проникновению в нее людей подобного состояния под тем предлогом, что «из крепостных, учившихся художествам, почти не один не остался порядочным человеком». «Когда чувства изящного в них развивались и когда они видели, что зависимое их состояние препятствует им пользоваться преимуществами, предоставляемыми художникам, эти несчастные, — так цинично значилось в одном постановлении совета академии, — предавались отчаянию, пьянству и даже самоубийству». Под лицемерным предлогом избавить «несчастных» от душевных мук академическое начальство ограничивало их доступ в академию, хотя многие крепостные выходили из ее стен превосходными художниками. Конечно, Лапченко не избег бы общей участи, если бы усердие академических чиновников не столкнулось с настойчивостью самовластного графа Воронцова. После успешной службы на командных постах в русской армии Воронцов был назначен наместником Новороссии и стал ее безраздельным владыкой. Не жалея средств на устройство своего роскошного крымского поместья, Воронцов с замашками настоящего феодала желал иметь в своем распоряжении художника из «своих людей». Вот почему, наперекор стараниям Оленина, Воронцов добился того, что Лапченко прошел курс обучения в академии и по окончании его, не дожидаясь помощи извне, Воронцов на свой счет отправил художника в Италию.
Григорий Лапченко был способным художником, человеком живого темперамента и большого обаяния. Путешествие сблизило Иванова и Лапченко. В дружбе этой Александру Иванову принадлежало бесспорное первенство. Он взял под свое покровительство Лапченко в дороге; тот подчинялся его авторитету в вопросах искусства.
«Аполлон, Кипарис и Гиацинт». Фрагмент. 1831–1834 годы.
«Жених выбирает деньги для невесты». 1838 год.
Ехать в Италию морем приходилось через Кронштадт.
Пенсионер впервые покидал родительский кров, предстояла разлука на целых три года. Родные и близкие с грустью отпускали от себя Александра в столь дальний путь. Но никто даже и не предполагал, что все они, за исключением восьмилетнего брата Сережи, так и не увидят больше Александра.
С какими мыслями и чувствами молодой художник покидал свою родину? Об этом трудно составить себе ясное представление. Дневника он тогда не вел. В письмах к родным и товарищам не могло быть полной откровенности — ни для кого не было тайной, что с усилением реакции интерес царской цензуры к письмам из-за границы все возрастал. Третье отделение уже развертывало свою деятельность «ока государства». Только косвенные данные говорят об умонастроении молодого художника.
Отправляясь в Италию, Александр Иванов вез с собой письмо казначея Общества поощрения художников Сапожникова к русскому пенсионеру в Риме живописцу Басину. Хотя письмо Сапожникова носит вполне интимный характер и написано в игриво-дружеских тонах, оно дает представление о том верноподданническом восторге, который стал в те годы господствовать в академических кругах. «Наши художники, приехавшие из Италии, пошли в гору, — сообщает Сапожников Басину, — дай бог здоровья нашему доброму царю». Свое преисполненное наилучших пожеланий письмо он заключает выражением надежды на то, что по возвращении в Петербург Басину, по примеру других преуспевающих художников, удастся благополучно устроить свои житейские дела и прежде всего получить бесплатную академическую квартиру.
Что касается Иванова, то у него по дороге в Италию складывался несколько иной взгляд на эти предметы. В свой дорожный чемодан рядом с письмом Сапожникова он сложил записные книжки со множеством выписок из различных источников, которые, по его расчетам, могли ему пригодиться на чужбине. Среди этих выписок одна прямо касается больного для него вопроса о роли академий в развитии художеств. «Постановление сей академии, — говорится в этом тексте по поводу академии во Флоренции, — не способно родить дарование, а еще менее привести в состояние родить других. Она в самом деле монархическая, имеет одного бессменного президента, двух секретарей, определенных государем, двух цензоров, также определенных государем». «Для академии, — заключил автор, — прилично иметь правление, как демократия, потому что одна свобода может способствовать дарованиям». По-видимому, судьба Флорентийской академии при Габсбургах могла заинтересовать молодого Иванова лишь потому, что слова неизвестного автора были применимы к той академии, стены которой он только что покинул. Его собственный опыт относительно печальной судьбы искусства в «стесненной монархии» находил себе подтверждение в этом отзыве о положении дел во Флоренции.
Путешественники на своем судне благополучно достигли Травемюнде, оттуда на боте добрались до Штеттина; из Штеттина почтовая карета доставила их в Берлин. Морское путешествие, во время которого они несколько дней не видели ничего, кроме воды и неба, вид немецких городов с их полусредневековым укладом и суетливой торговой жизнью, наконец оглашаемое звонким рожком почтальона путешествие в почтовой карете, все это поражало их новизной и необычайностью. Но, будучи связаны незнанием языка, они так робели, что многое из того, что попадалось им на пути, прошло мимо них. Только в Травемюнде близ «Отеля де Амбур» их внимание остановила на себе какая-то ветхая старушка с тщательно завитыми седыми «пуклями». На придорожных станциях, так называемых «шнапсстаттион», где кучера имели обыкновение подкрепляться выпивкой, молодых путешественников соблазняли хорошенькие Цирцеи, но Александр во имя долга и морали оставался равнодушным к их прелестям и с гордостью извещал об этом своего отца.
В дороге, да и позднее, уже достигнув места назначения, Иванов не переставал с волнением вспоминать о том, что оставил у себя дома. Он даже пришел к заключению, что «путешествовать для того надобно, чтобы сильнее почувствовать любовь к родине». Письма Иванова пересыпаны признаниями горячей, восторженной любви к отечеству. Как ни простодушен его восторг, в искренности его не приходится усомниться. Проезжая через маленькие, словно уснувшие немецкие города, Иванов спервоначала скучал по тому «людному шуму», к которому привык в северной столице на Невском проспекте; после стройных и пышных парадов на Марсовом поле жалкие местные войска вызывали у него насмешку. Только ближе всмотревшись в жизнь на чужбине, он научился ценить «мирные и тихие занятия» людей, а также их простоту в обхождении, столь отличную от надутости петербургских бар.
В Дрездене Иванов прежде всего кинулся в Королевский музей. Знаменитая «Мадонна» Рафаэля была хорошо знакома ему по гравюрам и по описаниям очевидцев. Сколько путешественников по дороге в Рим останавливалось перед ней с недоумением. Сколько людей, читавших описание «Мадонны» у Жуковского, испытывало горькое разочарование, не обретая в оригинале всего того, что так вдохновенно изъяснял поэт! Мадонна св. Сикста была первым и самым серьезным испытанием для путешественников на их пути в Италию. Впоследствии И. С. Тургенев насмешливо сравнивал диван перед «Мадонной», на котором часами томились путешественники, с адскими орудиями пыток инквизиции.
Из своего первого испытания Александр Иванов вышел победителем. «Мадонна» сразу покорила его. Огромная, ни с чем не сравнимая радость наполнила его от сознания близости высокого совершенства. Какое благородство и какая простота! Какое редкое сочетание спокойствия и движения, величия и доступности, силы и женственности! Нужно было иметь чистое сердце, чтобы оценить всю глубину чувства и человечности в лицах матери и младенца, нужно было иметь глаз, вышколенный долгими упражнениями, чтобы оценить безупречное выполнение. Все то совершенство, что Иванову уже случалось находить у разных художников, он видел счастливо соединенным в одном образе.
Трудно было удержаться, чтобы не испробовать свои силы, не попытаться сделать рисунок с дрезденской «Мадонны». Однако стоило Иванову взяться за карандаш, чтобы уверенность покинула его. Ему все казалось, что от него ускользало нечто самое ценное. В своей копии, выполненной итальянским карандашом в манере академических этюдов с натуры, Иванов передал фрагмент картины Рафаэля — голову Марии и младенца. Хотя копия несколько отступает от оригинала, так как в лицо мадонны Иванов внес нечто от облика русской женщины, нужно признать что художник прекрасно уловил и запечатлел одухотворенную красоту образов Рафаэля. Копия «Сикстинской мадонны» так и осталась неоконченной, но она всегда висела в мастерской Иванова как напоминание о тех высотах, которыми ему предстояло овладеть.
Все остальное, увиденное на пути, воспринято было бегло. В Вене путешественники побывали в галерее Лихтенштейна, где хорошие картины висели вперемежку с посредственными. Во исполнение инструкции Иванов старательно выискивал картины Гвидо Рени. Вспоминая заветы отца, высоко ценившего Пуссена, он долго рассматривал его «Исцеление хромого». В Германии он увидел картину Рембрандта «Истязание Христа». Она остановила его внимание, но великий голландец так и не стал ни его любимцем, ни наставником.
Путешественники двигались по Италии с исключительной торопливостью. Тренто, Верона, Мантуя, Болонья быстро промелькнули перед их глазами. Повсюду было много всего, не предусмотренного инструкцией, диковинного и примечательного. Но они стремились скорее добраться до Рима, так как лишь там им было ясно, что требовалось от них. Первая встреча с Италией разочаровала Иванова. Он полагал, что, вступив на ее «священную почву», почувствует себя в царстве блаженства. Вместо того ему приходилось иметь дело с плутоватыми и вороватыми извозчиками; их угрюмый вид, свирепые взгляды, живая мимика пугали некоторых путешественников; недаром и придорожные остерии, гостиницы, были похожи на притоны разбойников. Даже красота страны, через которую лежал путь художников, величественные очертания Апеннин, восходы солнца в горах, равнины, разбитые на зеленеющие квадратики виноградников, — все это не оставило в памяти особенно глубокого следа.
Во Флоренции путешественники сделали небольшую остановку, чтобы удовлетворить свои художественные запросы. Галерея Питти привлекла их внимание обилием первоклассных произведений итальянской живописи. Они добросовестнейшим образом обозрели ее богатства, о чем говорит посланный Ивановым в Петербург отчет. С той откровенностью, которой требовали «высокие покровители», Иванов высказал в нем свои оценки увиденного. И на этот раз глаз молодого художника старательно выискивал Рафаэля и близких ему художников: Леонардо да Винчи, фра Бартоломео, Андреа дель Сарто, Джулио Романо. Иванова восхищали в картинах Рафаэля «огненные чертежи», «изящнейшее расположение», «чудное выражение голов». Впрочем, от художника не ускользнуло, что «Мадонна в кресле» уступает Сикстинской.
Ряд впечатлений во Флоренции был для него новым и неожиданным, и он с большой смелостью высказал свои суждения о впервые увиденных вещах. Веласкес в своем конном портрете Филиппа IV привлек его величавым обликом всадника, жизненностью передачи коня, простотой и умеренностью своих красок. На каждом шагу художника ожидали новые открытия. Его внимание остановила одна погрудная мадонна в круглом обрамлении; ее задумчивый младенец поднял глаза свои к небу; златокудрые юноши-ангелы составляли вокруг Марии венок. Иванов зарисовал фигуру одного из ангелов, хотя он никогда не слышал в Петербурге имени Боттичелли — создателя «Мадонны Магнификат».
Больше всего нового ожидало его в кабинете рисунка. Молодому художнику было особенно дорого приобщиться к творческой лаборатории великих мастеров, из которой вышли их прославленные шедевры. Его привели в восторг своей законченностью рисунки Леонардо, особенно этюды драпировок с мягко спадающими складками, окутанными нежной полутенью. Рисунки Перуджино понравились ему больше его картин, так как в них есть «жизнь, какую художник в первом чувстве изливает с натуры в свое произведение». Но вот перед глазами художника появляется странный лист, весь исчерченный безукоризненно выполненными нагими фигурами. Напряженные мускулы нарисованы в нем «полукружными чертами», фигуры то «загибаются», то «пригибаются» «по таинственной причине, известной только одному мастеру». Иванов признавался, что не в силах был разгадать сюжет рисунка, но сразу узнал, и не ошибся, руку Микеланджело.
Долгое время молодой художник провел в зале античных мраморов. Многие из них были знакомь ему по академическим слепкам, которые он когда-то старательно копировал. Когда глазам его предстала Венера Медицейская, ему хотелось об этих слепках не вспоминать. «Я забыл, — восклицал он впоследствии, — что это произведение руки человеческой, забыл и восхищался и целым и частями». Какая полнота форм! Какое соответствие их с целым! Счастливая минута — он поверил, что нет в мире ничего совершеннее этого произведения. Когда он оглядывался на входящих в этот зал посетителей, ему казалось, что каждый «взорами приносит жертву богине красоты».
К Риму молодые путешественники подъезжали с теми переживаниями, какие хорошо знакомы были множеству их предшественников. Ехали обычно долго, в томительном ожидании, и когда уже у всех, казалось, истощалось терпение, веттурин (по-итальянски «извозчик») на повороте дороги останавливал лошадей, слезал с облучка и, указав кнутом на едва виднеющееся вдали в голубой дымке возвышение, говорил традиционные слова: «Вот он, святой Петр!» У новичков замирало дыхание, некоторые молча снимали шляпы. «Сердце забилось у меня, — признавался позднее Иванов, — при столь громком имени. Тысячи восторженных мыслей наполнили душу мою».
ВЕСТИ С РОДИНЫ
А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный, — это в порядке вещей.
Достоевский, «Бедные люди».Путь к Риму пролегал по древней Фламиниевой дороге. По краям ее черные домики остерий чередовались с развалинами древних гробниц. Ближе к городу дорогу окаймляли развесистые платаны и эвкалиптовые деревья. Показалась бурая петлистая лента Тибра. На многоарочном мосту Понте Молле отара тучных овец преградила путь экипажу. Их гнали огромные свирепые собаки и взгромоздившиеся на коней пастухи. Быстро промелькнул еще небольшой кусок дороги среди виноградников и каменных оград. Наконец экипаж оказался на знаменитой Народной площади, Пьяцца дель Пополо, через которую сотни и тысячи путешественников из Европы обычно попадали в город. Иванову запомнились на площади две симметричные церкви, окаймлявшие главную улицу, Виа дель Корсо.
Вновь прибывшим предстояло много забот и хлопот. Нужно было побывать на таможне, представиться посланнику и заручиться его рекомендациями; нужно было увидать старых пенсионеров и, наконец, побывать в знаменитом кафе Греко, где собирались художники разноплеменной римской колонии и куда принято было направлять для них письма. Здесь Иванов получил первые со времени его выезда из Петербурга известия от своих родных.
Нужно ли говорить о том, с каким волнением двадцатичетырехлетний человек ждет писем от своих близких, если он уже с полгода покинул отчизну и с того времени не имел от них никаких известий? Множество догадок теснится у него в голове, множество опасений за их здоровье и благополучие отгоняет он от себя доводами благоразумия и все же никогда полностью не сумеет от них избавиться. И когда, наконец, в руках у него оказывается долгожданное письмо, волнение его достигает предела. Нужно не забывать природной склонности Иванова всегда ожидать от судьбы самых худших бед, для того чтобы понять его состояние, когда тучный трактирщик кафе Греко вынул из-за стойки и подал ему сложенный листок с адресом, написанным бисерным почерком его батюшки.
Полученные им известия превзошли все наихудшие опасения. Над семьей молодого художника разразилась одна из тех катастроф, которые, если даже удается их пережить, оставляют в душе шрам и резкой чертой делят жизнь на две части. Рушилась карьера отца, непоправимый удар наносился семейному благополучию.
Произошло это следующим образом. Служебное продвижение Андрея Ивановича никогда не было особенно успешным. Прослужив тридцать два года в академии, он подошел к тому времени, когда, по уставу, должен был занять почетное место ее ректора. Незадолго до того к празднику ему было выдано вознаграждение «за непорочную службу», как числилось в приказе. В декабре 1830 года выставку работ академических профессоров посетил Николай I. Можно представить себе, сколько вопросительных взглядов было устремлено к вечно тусклым глазам повелителя, от которых обычно у людей холодела кровь в жилах. Замечено было, что, проходя мимо картины Андрея Иванова «Смерть генерала Кульнева», венценосный «вершитель судеб искусства» не обратил на нее особого внимания. По тому времени это было сочтено за благоприятный знак: было известно, что для тех, кто не способен всякими неблаговидными способами добиваться милостей и кто не жаждал успеха во что бы то ни стало, лучше оставаться незамеченным монархом, чем становиться предметом его внимания. Тем более неожиданным для Андрея Ивановича было, когда через некоторое время ему принесли на дом записку с предложением на другой день в восемь часов утра явиться к президенту Оленину, чтобы выслушать высочайшее повеление. Тщетно Иванов пытался дознаться у ректора о характере ожидающего его сообщения. Ему отвечали туманно, словно опасаясь ослабить какой-то подготовляемый эффект. В декабрьское темное утро в назначенное время Иванов в парадном мундире является к президенту, находит здесь двух товарищей профессоров в таком же волнении, как и он. Высочайшая сентенция с напускной важностью была прочтена крошечным Олениным при свечах. Трех профессоров академии — Иванова, Михайлова и Пименова — предлагалось уволить из академии, уволить «с честью» и «с куском хлеба», как говорилось в рескрипте, а посему предоставлялось каждому из них подать заявление об отставке и обещано было впредь обеспечить их пенсией, без сохранения академической квартиры. В документах академии с бездушием полицейского протокола, канцелярским слогом запечатлены были эффекты монаршего произвола. Профессор Иванов «особенно и, можно сказать, до глубины сердца был поражен, будучи состояния недостаточного и даже бедного (он рыдаючи только осмелился просить)». Позднее академический полицеймейстер полковник Пашовский свидетельствовал, что Иванов без памяти слег в постель. Михайлов неоднократно спрашивал президента, имеется ли на его отставку письменное повеление. Пименов пытался упорствовать, не желал добровольно подавать заявление. Однако и его сопротивление было сломлено. «Буде Пименов не пришлет прошения, то высочайше повелено уволить его за совершенное незнание его художества». И это говорилось о мастере, работами которого были украшены лучшие петербургские здания!
Все произошло быстро, с внезапностью стихийного бедствия. Лишь после того, как оно свершилось, пострадавшие стали ломать голову, от какой же это было причины. Несомненно, причиной не могла быть одна лишь злосчастная лошадь под генералом Кульневым, которую еще раньше признавали неудавшейся. Стали перебирать в памяти малейшие факты, которые могли послужить поводом для подобной расправы. Вспомнилось, как однажды постучали к Андрею Ивановичу в то время, как у него работал его академический ученик; тот решил, что это товарищ, отпер, а между тем за дверью стоял сам крошка-президент, запрещавший ученикам работать на квартире у профессоров, но обычно смотревший на это сквозь пальцы. У Ивановых возникли подозрения и на вечного недруга профессора Егорова, заподозрили некоторых товарищей Александра. И все же истинной причины доискаться не могли или, точнее сказать, не смели. Исключение трех профессоров было одним из первых, но далеко не последним проявлением николаевского самодурства по отношению к академии. Тот самый Егоров, которого подозревали в семье Ивановых, через несколько лет стал жертвой такого же произвола.
Александр Иванов так и не узнал о всех подробностях этого происшествия. Отец его имел мужество в своем письме представить все со спокойствием, достойным древнего стоика. Но факт оставался фактом. Александр Иванов шел по улицам Рима, но темная пелена отчаяния закрывала от него красоты впервые увиденных древних памятников. Среди художественных занятий на полях альбома он торопливо записал несколько слов «о гибели моего семейства». Долгое время он не в силах был ни за что приняться по-настоящему, словно занемог тяжким недугом. Больше всего его угнетало сознание своего бессилия помочь горю близких хотя бы ласковым словом. С полуребяческим простодушием Иванов, как за соломинку, хватался за мысль, что грядущими успехами сумеет склонить «благодетелей» из Общества поощрения художников снизойти к судьбе несчастного отца и выступить с ходатайством за него. Он даже сочинил по этому поводу нечто вроде прошения. Но ответ на него был расхолаживающим. «Покровители» сообщали, что увольнение совершилось по воле государя. «Ходатайствовать о вашем отце мы не можем, но мы поможем ему». Молодому пенсионеру давался благоразумный совет: победить в себе огорчения и искать душевный покой в «красотах искусства и природы».
Так случилось, что первые месяцы пребывания художника в Риме, по его выражению, «начало поприща жизни», были для него тяжело омрачены. Знаменательный факт! В то самое время, как Иванов готов был погрузиться в прекрасный мир классических образов, печальная весть о том, что его близкие стали жертвой царского произвола, напоминала ему о том, что на пути служения искусству ему предстоит еще много самоотверженной борьбы, что сама жизнь требует от молодого художника готовности к подвигу.
ТРУДЫ И ДНИ ХУДОЖНИКА
Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие.
Гоголь, «Портрет».Квартал, где жили русские художники, находился в северной части Рима, неподалеку от той самой Пьяцца дель Пополо, через которую путешественники обычно вступали в город, поблизости и от Французской академии и от резиденции немецких художников, виллы Мальта. Первое время Иванов устроился в доме на улице папы Сикста. Позднее он перебрался ближе к Тибру, на чердак знаменитого палаццо Боргезе.
Северянам римские дома кажутся малоудобными для жилья. Южане искони привыкли большую часть Дня проводить на улице и потому мало внимания Уделяют домашнему устройству. В зимнюю стужу камины плохо обогревают комнаты, а железные печки с длинными трубами больше дымят, чем дают тепла. Постелью в домах служат мешки, набитые жесткими кукурузными листьями.
День молодого художника начинался рано. Иванов вставал засветло, в пять часов утра. Уже в семь часов слуга Луиджи из соседнего кафе приносил ему кофе и хлебцы, аккуратно разложенные на желтом жестяном блюде, называемом кукуметта. Утреннее время посвящалось художником изучению одного богато иллюстрированного исторического труда. «Потом пишу, — рассказывает Иванов. — На расстоянии смотрю в лестное зеркало свою картину, думаю, барабаню сломанным муштабелем [2] то по столу, то по своей ноге, опять пишу, что продолжается до самого полудня». Затем тот же Луиджи со своими кукуметта появляется снова и разносит молодым затворникам-художникам скромный обед. «Здесь едят гораздо менее, нежели у нас, — писал Иванов родным, — легкий и теплый климат не терпит объедений. Рисовая каша с сыром и маслом и небольшой кусок говядины составляют обыкновенно мой обед; ужин — салат с куском жаркого». Вино было в Риме в широком употреблении. Иванов выпивал иногда по два стакана в день. Ему нравилось, что римское вино «не производит никакого неудовольствия на другой день». К вечеру обычно художники сходились в кафе Греко — за столиками сидели группами художники различных национальностей; здесь — шумные, говорливые французы, там — вечно озабоченные чем-то немцы, еще далее с невозмутимым хладнокровием взиравшие по сторонам скучающие англичане. Стены кафе Греко были увешаны пейзажами художников римской колонии. Русские посетители с удовольствием могли заметить наряду с картинами немецких художников Коха и Рейнгардта пейзажи своего соотечественника Матвеева. По вечерам художники собирались изредка друг у друга, пели русские песни и итальянские арии, исполняли квартеты, но чаще проводили вечера в одиночестве. Ничто не нарушало однообразного, раз заведенного порядка.
Молодые художники первое время своего пребывания в Риме обычно чувствовали себя не по себе; это происходило почти со всеми, но каждый думал, что это лишь его участь. Множество новых нахлынувших впечатлений, обилие шедевров искусства, от которых разбегались глаза, производило на новичков гнетущее действие. Скульпторам особенно трудно было справиться с сознанием своей беспомощности перед лицом недостижимого совершенства античных мраморов. Иванов прошел через полосу подобных разочарований, и у него опускались руки, и он признавался, что с отчаяния собирается бросить живопись. Не находя приложения сил в любимом и привычном деле, он должен был особенно остро чувствовать свое одиночество. С новыми людьми он дичился, и хотя эта осознаваемая как семейный порок недоверчивость и мнительность мучила его, он не в силах был с нею совладать. Тоска по родине безотчетно захватывала художника. «Я иногда кляну тот день, в который выехал за границу», — признавался он своим петербургским друзьям. В ответ на эти слова родители стали его звать домой; однако их приглашение пришло в такое время, когда настроение изменилось, и потому Александр не на шутку рассердился на них. В ответе его послышались такие нотки раздражения, что огорченный отец бросил сыну упрек: «Не твое сердце, не твои чувства излились в сих словах».
Как и большинство других северян, попадающих в Рим, Иванов вскоре подхватил местную лихорадку — малярию — и долгое время не мог избавиться от нее. Потом появились признаки легочного заболевания, кровохарканье, которое свело в могилу не одного из молодых русских художников в Риме. Но самое главное было, что Иванов находился в то время в крайне нервическом состоянии. В одном из своих писем он говорит о слезах, «каплющих на сию бумагу». Отец был совершенно прав, высказывая серьезные опасения по этому поводу: «Душевная твоя болезнь для меня кажется опаснейшею телесной твоей болезни».
Старшие твердили Александру о том, что страданье должно быть уделом художника. Под влиянием этих речей Иванов записывает в альбом: «Предприимчивый человек должен прежде всего осудить себя на страданье, а потом уже вкусить успех».
Однако эта философия претила его здоровой натуре. Он соглашается с тем, что «несчастья наставляют человека, и потому их должно предпочитать счастью». Но все же он добавляет: «Не должно, однако ж, желать, чтобы они простирались до конечного угнетения».
Молодость брала свое. Переболев телесными и душевными недугами, Иванов не мог оставаться равнодушным к тому зрелищу, которое открывалось ему в Риме и в котором перемешаны были следы ушедших столетий, вечно живые памятники искусства, красоты южной природы и кипучая жизнь итальянской толпы. Не его одного, но и многих других пришельцев поражало, что в Риме время словно остановилось. Он видел в своем квартале длинноволосых, бородатых художников в длиннополых сюртуках, видел на Корсо разряженных путешественников-англичан в блестящих цилиндрах. Но достаточно было углубиться в какой-нибудь тесный переулочек, чтобы чувствовать себя перенесенным в иной мир: жеманный аббат в шелковых черных чулках и туфлях с серебряными пряжками или кардинал в ярко-алой сутане, в экипаже с золочеными спицами выглядели при свете дня, как какие-то выходцы из давно прошедших столетий. В зимнюю стужу, когда с окрестных гор спускались стада овец, в городе появлялись пастухи, «пиферари», длиннобородые старцы и смуглые черноглазые мальчики в широких войлочных шляпах и ярко-синих плащах; они день и ночь оглашали улицы звуками волынки. От этого зрелища веяло седой патриархальной стариной. В городе повсюду можно было заметить. как из-за построек нового времени, словно остатки полустертой картины, выглядывали развалины древних римских зданий: в них было такое совершенство форм, так величавы были они по своему масштабу, что достаточно было мысленно продолжить обломанную колонну, перекинуть повисшую в воздухе арку, и все позднейшее отступало и выглядело, как нечто случайное, наносное, призрачное.
В то время как Иванов появился в Риме, в городе происходили важные события; смена одного папы другим дала повод для того, чтобы народное возмущение, со времени изгнания Наполеона старательно подавлявшееся реакцией, вырвалось снова наружу. Народное движение так угрожающе разгоралось, что правительство спешно принимало крайние меры. Но итальянские республиканцы не дремали. Молодой скульптор Лупи выступил в защиту республики. Восставшие собрали вооруженные силы в городах папской области и двинулись походом на Рим, подойдя к нему на расстояние нескольких миль. Папский полковник Лазарини был убит в происшедшей стычке. Банкир Торлония начинал опасаться за свои капиталы. На этот раз народное движение было подавлено папскими войсками. В качестве чужестранца Иванову было трудно по достоинству оценить эти подземные толчки, которые со временем сыграли большую роль в его собственной судьбе.
Прелесть Италии Иванов оценил не сразу. В счастливую минуту, когда забывались «скорби о доме родительском», он поведал своим сестрам, какое дивное зрелище открывается из его мастерской. Дом этот со всех сторон окружен цветущими садами. Пышные, сочные розы издают одуряющее благоуханье; усеянные тяжелыми гроздьями виноградные лозы окаймляют дорогу в мастерскую и образуют над входом в нее плотную кровлю. Зелень миндаля, фиг, орехов и яблонь так ослепительно ярка, что главное окно мастерской пришлось закрыть ширмой. Из прилегающей к мастерской спальни открывается вид на другой, нижний сад. Его дорожки, как навесом, сплошь закрыты виноградными лозами; среди них повсюду мелькают цветы, померанцевые, апельсиновые и грушевые деревья. Из окна видно, как над зеленой шапкой сада громоздятся друг над другом римские строения: тут выступит угол нависающего карниза, там высится сушило на перекидных арках, повсюду бельведеры, и купола, и обелиски высоко вздымаются над плоскими черепичными крышами домов. Другое окно прямо выходит на дом, в котором обитает знаменитый скульптор Торвальдсен. Прямая улица, то поднимаясь, то спускаясь, ведет по направлению к церкви Санта Мария делла Кончеционе. За ней далеко на горизонте в прозрачной дымке тянутся вечно лазурные вершины Альбанских гор. Иванову помнилось, что отсюда в глубокой древности альбанцы тревожили город своими набегами.
По вечерам зрелище, открывающееся из окон мастерской, рождало в Иванове особенный преизбыток чувств. Солнце склоняется тогда за гору Монте Марио и прячется за чернеющими на ней кипарисами древних вилл. Почти всегда безоблачное небо Рима начинает гореть расплавленным золотом. Звонко разносятся в чистом воздухе песни и гимны, исполняемые мальчиками в близлежащей школе. Но особенно захватывало Иванова пение женского хора в монастыре Санта Тринита деи Монти. «Я не могу пересказать вам, — признавался он, — сколько блаженных мыслей рождает во мне прекраснейшее соло какой-либо из сестер… Из меня все тогда вы можете сделать». Никогда еще родные и близкие не слышали от Александра подобных восторженных речей. Красота и роскошь южной природы, ее яркие, ослепительные краски, аромат цветов, звонкие голоса хора, исторические воспоминания, рождаемые видом старинных зданий, и сознание своей близости к миру искусства, наконец, человеческое сочувствие к изгнанным из мира, заживо погребенным девушкам, — все это звучало одним аккордом в его душе. Иванов испытывал то незнакомое ему ранее состояние, в котором сливались воедино и безоблачное блаженство и щемящая тоска.
СОПЕРНИКИ
Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи альбанки Аннунциаты.
Гоголь, «Рим»В Риме Иванов, как и другие пенсионеры, чувствовал себя свободней, чем в Петербурге, где художники находились всегда на глазах у начальства. По приезде в город они должны были представиться посланнику. Являться к нему полагалось в черном фраке, в башмаках и в шелковых чулках, которых не имели пенсионеры, и это составляло некоторую трудность. Но в остальном они предоставлялись самим себе. Обязанности пенсионеров ограничивались тем, что два раза в год они должны были посылать письменные отчеты своим «высоким покровителям».
Попадая в Рим, каждый пенсионер вступал в колонию русских художников, в шумное и пестрое общество молодых людей, которых в Петербурге держали пол строгим надзором академических инспекторов и которые на чужбине спешили натешиться наконец-то добытой волей. Уровень умственного развития большинства этих художников был невысоким, их интересы часто не шли дальше близлежащего кабачка и бутылочки местного вина. Многие из них сразу после недолгих утренних занятий, которыми они не обременяли себя, отправлялись в ресторан под названием «Лепре», оттуда переселялись в ближайшее кафе Греко, а по вечерам подолгу прогуливались по городскому саду на Монте Пинчио. Искусство было для них прежде всего средством «зашибить деньгу». Рассказывали про одного художника, который пробыл в Риме несколько месяцев и не удосужился побывать даже в Ватикане; другой пенсионер, увидав где-то египетские рельефы, решил, что до него никому не было о них ничего известно, и потому поспешил с гордостью поделиться открытием Египта, которое он приписывал своей любознательности.
Среди русских художников, живших в то время в Риме, выделялось несколько крупных мастеров. Иванов испытывал уважение, переходившее в настоящее благоговение, к старшему из русских художников, Кипренскому. Его занимал также Бруни, который уже. сильно подвинул работу над картиной «Медный змий», когда Иванов только замышлял свою большую картину. Но особенно привлекал тогда Иванова Карл Брюллов.
Иванов приехал в Рим с самым высоким мнением о нем. В письмах в Общество он горячо защищает его от упреков в бездеятельности. Иванова подкупало яркое артистическое дарование молодого мастера, его способность быстро загораться, быстро претворять увиденное в искусство. Действительно, Брюллов был первым русским живописцем академического толка, который с кистью в руках умел отдаваться порывам своего неутомимого творческого воображения. «Последний день Помпеи» завоевал симпатии в России небывалым дерзанием ее молодого автора, решившегося соединить на огромном холсте столько движенья, драматизма, света, красок, пластики групп, такую «тайную музыку в обыкновенных предметах», по выражению Гоголя. Иванов с неподдельным восторгом говорит об успехе мастера. «Картина Брюллова удивляет целый Рим, — пишет он, — а следовательно, и всю Европу». Возможно, ему было известно, что Вальтер Скотт, приехав в Рим, побывал только в одном: средневековом замке и в мастерских Торвальдсена и Брюллова.
Долгое время Иванов домогается сближения с даровитым художником. Прежде чем открылись двери его мастерской, он просит разрешения видеть его картину. Но, видимо, сблизиться с Брюлловым было ему не легко. Попытки через отца воздействовать на Брюллова как на его бывшего ученика, добиться его согласия не отказывать Александру в советах также ни к чему не приводят. С досадой Иванов замечает в нем непостоянство, вспыльчивость и своенравность. Ему претит его близость к послу, его способность ловко устраивать свои дела. Когда Иванову не удается получить разрешение на производство копий, с росписей Рафаэля, он подозревает в этом Брюллова.
В одном из своих альбомов Иванов записывает для себя: «Когда я действую широкой душой, то есть всю массу моего сословия художников в себе сочиняю, вмещаю в себе ее со всеми раздорами каждого, согласив их в себе, отдавая каждому свое, то вот тут только чувствую наравне с великими людьми». Между тем согласия и дружбы среди художников было меньше всего. Иванов с горечью сравнивал это положение вещей в русской колонии с удельными междоусобицами.
Поводов для разногласий, споров и ссор было достаточно. Однажды архитектор Ефимов пытался присвоить себе картины покойного Сильвестра Щедрина: Иванов напал на него за мошенничество, но тот нашел поддержку у Брюллова. Другой случай произошел с пенсионером Гофманом; Брюллов не допускал его картину на выставку из-за ее невысокого качества, но Иванов взял его под защиту. Однажды Брюллов решил поиздеваться над бездарным пенсионером Михайлой Марковым и прямо бросил ему в лицо, что из него не выйдет художника; тот так разобиделся, что чуть не наложил на себя руки, — его утешителем выступил Иванов. И снова между двумя художниками легла тень.
Во всех этих происшествиях Иванов стремился быть защитником справедливости, но, видимо, слишком назойливо выставлял напоказ свою благородную роль. Фразы его вроде: «Я имею много друзей, но верен буду одной истине», или: «Я уже обрек себя умереть на пути к пользе отечеству» — должны были звучать для посторонних пустым хвастовством. Его предложение петербургскому начальству «описать все пороки и добродетели» римских пенсионеров могло быть сочтено за донос на товарищей. Брюллов не претендовал на столь высокую роль и был менее разборчив в выборе друзей. Он умел привлечь к себе сердце открытым характером, веселостью, общительностью, наконец, своими блистательными успехами. Можно представить, как встречались оба художника: Брюллов, окруженный свитой друзей и поклонников, уверенный в успехе, остроумный и веселый, — Иванов, обычно в одиночестве, угрюмо-сосредоточенный, тревожно-суетливый. В минуту откровенности Иванов готов был признаться, что в нем шевелилось по отношению к сопернику недоброе чувство зависти. Но он делал все для того, чтобы не дать ему над собою власти.
Перемогая свою неуклонно растущую неприязнь, Иванов собирался протянуть Брюллову руку примирения. Он приготовил черновик письма, но так и не отправил его Брюллову. «Ничего на свете не может быть важнее души человеческой, — писал он, — и тот, кто завладел душами всех, может называться блаженным». После этого лестного вступления Иванов не мог удержаться от нескольких горьких сентенций: «Вы служите примером, что нельзя вырваться в первый ряд из обыкновенных людей, как с ущербом некоторых моральных достоинств».
В первые годы своей римской жизни Иванову доставляло настоящую радость только общение с Лапченко. Жили они по соседству на улице папы Сикста, часто видались и, по выражению художника, «изливались тайнами сердец своих». В отношениях с Лапченко не было ни соперничества, ни творческих разногласий. В сущности, Лапченко в искусстве было не по силам тягаться с Ивановым. Но судьба свела их вместе, обстоятельства жизни на чужбине привязали друг к другу. С Лапченко не могло поссорить Иванова даже их общее увлечение.
Еще за десять лет до приезда в Рим Иванова и Лапченко один художник-дилетант сделал недалеко от Рима поразительное открытие. Проезжая через местечко Альбано, он заметил у колодца девушку несказанной красоты, с тонким профилем римской камеи, большими карими глазами и смоляно-черными косами. Заметив внимание к себе незнакомца, девушка быстро скрылась. Только после усиленных поисков было установлено, что звали ее Виттория Кальдони и что была она дочерью бедного местного винодела. Ей было тогда тринадцать лет. С большим трудом удалось уговорить мать Виттории, чтобы она с дочерью побывала в Риме и дала бы возможность сделать с красавицы портрет. Ее рисовали и лепили самые прославленные художники, жившие в то время в Риме. Родители отказались от платы за позирование и соглашались принять только подарки. Портрет Виттории был послан в Веймар старику Гёте. В 1830 году в Рим прибыл сын великого немецкого писателя. Он совершил паломничество в Альбано, чтобы повидать прославленную красавицу. Родители позволяли посторонним видеть ее лишь с условием, чтобы эти счастливцы не подавали вида, будто любуются ею. Всех поражало, что простая крестьянская девушка не робела в светском обществе, на шутки отвечала шутками и держалась с полным достоинством. Впоследствии Гоголь вдохновлялся Витторией, создавая в рассказе «Рим» образ Аннунциаты, которая своей ослепительной, как молния, красотой покорила сердце молодого римского дворянина. Припоминая, что слово «виттория» значит «победа», никто не удивлялся ее славе. В ученых трудах по эстетике, и в частности много позднее у Чернышевского, «девушка из Альбано» фигурирует как доказательство того, что действительность своей красотой превосходит искусство.
Случилось так, что Иванов и Лапченко, отправившись в Альбано, оказались постояльцами в том самом доме Кальдони, который скрывал в своих стенах это признанное воплощение женской красоты. Молодые художники решили попытать счастье: Виттория согласилась им позировать. Иванов собирался представить гордую красавицу в качестве «богоматери милосердия»; но и ему было не под силу достойным образом передать ее черты. Он признавался, что, рисуя Витторию, был далеко не равнодушен к ней. Виттория чувствовала себя чужой среди римских знаменитостей, ей были гораздо более по душе два молодых художника из России. На этот раз ей предстояло выбирать между сосредоточенным, порою угрюмым Александром Ивановым и веселым украинским пареньком Григорием Лапченко. Виттория предпочла Лапченко.
Иванов позволил себе несколько насмешливых замечаний об ее благосклонности. Внезапно стало известно, что Лапченко задумал жениться на Виттории. С воодушевлением Иванов признается другу: «Если бы ты мне решительно объявил, что она твоя суженая, то тогда бы я столь же глубокое уважение к ней имел, как и к тебе». Успех Лапченко нисколько не пошатнул дружеских взаимоотношений художников. Больше того, когда Лапченко уехал из Альбано, а Виттория лениво писала ему, Иванов берет на себя роль посредника и побуждает ее отвечать. К концу своего пенсионерского срока Лапченко написал картину «Сусанна со старцами». В обнаженной фигуре библейской красавицы нетрудно узнать безупречные черты девушки из Альбано.
Между тем счастье Лапченко оказалось недолговечно. Крепкая натура его внезапно сдала: сначала появились признаки «грудного недуга», потом болезнь перекинулась на глаза. Острая резь в белках не давала ему покоя, все предметы начали представляться в «сломанном виде», дневной свет стал невыносим. Болезнь глаз лишила художника возможности быть самим собой. Веселый и недавно еще беззаботный Лапченко приходит в отчаяние. Его отправляют на лечение в Неаполь. Вдали от Виттории он скучает, жалуется на одиночество, готов наложить на себя руки. Иванов призывает друга к стойкости, поддерживает духом Витторию. Он посещает дом Кальдони в Альбано. Его влечение к Виттории исчезло, но дружба с ней сохранилась. Красавица платит ему ответным вниманием: по просьбе художника шьет для него теплые панталоны и фланелевую куртку.
Проходит некоторое время, и среди знакомых Иванова распространяется слух, будто и он, по примеру друга, собирается жениться, но Иванов решительно опровергает его. «С чего ты взял, — пишет он приятелю, — что я скоро буду наслаждаться с супругой? Мои дела, престарелые родители и слабое здоровье едва ли доставят мне хотя легкую надежду на сие счастие». Отказавшись вторично от этой мысли, он устраивает свою «жизнь чисто художническую». Под этими словами он разумел быт одинокого художника, готового отрешиться от всего на свете ради служения обществу своим искусством.
Русские художники из римской колонии постоянно встречались с иностранцами: с французами, с немцами, с англичанами и с коренными жителями города, итальянцами. Они общались с ними в ресторане «Лепре» и в кафе Греко, сталкивались и на работе за писанием пейзажей в окрестностях. Немцы и французы приглашали русскую молодежь для участия в торжественных праздниках. В 1835 году по случаю окончания срока директорства во Французской академии Ораса Верна в старинном дворце на Монте Пинчио был устроен торжественный прием. В ответ на этот прием отбытие на родину немецкого художника Корнелиуса было отпраздновано, прощальным обедом в огромном концертном зале, богато убранном гирляндами из цветов. На почетном месте восседали, помимо самого виновника торжества, Корнелиуса, все тогдашние знаменитости Рима: Торвальдсен, Овербек, Энгр и другие. Пели хором песни, поднимали бокалы, говорили тосты; потом на сцене поставлены были живые картины с участием, наряду с фигурами старых мастеров, персонажей из картин Корнелиуса — в доказательство того, что и он вошел в сонм признанных классиков. Праздник закончился пением, танцами, факельным шествием.
Можно представить себе, с каким чувством молодой Иванов присутствовал при этих торжествах и всматривался в лица знаменитостей! Он трезво оценивал их успехи и неудачи в искусстве: одни заслуживали его одобрения, другие, потакая дурным вкусам публики, стояли на ложном пути. Ему не могло не понравиться уже одно то, что в римском празднике искусства, устроенном в складчину, обошлось без участия вельмож и чиновников. На празднике присутствовало около двухсот веселых молодых художников различных наций, стран и художественных направлений. В тот торжественный вечер, когда лился поток восторженных речей и стихотворений по адресу художников, заслуживших прижизненную славу своими трудами, успехами и годами, никто из присутствующих не мог даже подозревать, что через столетие потомство произведет свою нелицеприязненную переоценку ценностей, и тогда из всех присутствующих великими живописцами признаны будут всего лишь два гостя: уже признаваемый тогда всеми директор Французской академии Энгр и никому не ведомый еще молодой русский пенсионер Александр Иванов, который в тот вечер скромно сидел в конце стола и жадными глазами смотрел на то, как веселились и дурачились его собратья по Аполлону.
ШКОЛА ЛЮБОМУДРИЯ
С младенческих лет он сдружился с природой.
И сердце Камены от хлада спасли.
И ум непокорный воспитан свободой.
И луч вдохновенья зажегся в очах
Веневитинов, «Три участи»На протяжении первых пяти лет своего пребывания в Риме Иванов постепенно знакомится с тем, что происходило тогда в художественной жизни города. Но для его развития, как мастера, решающее значение имело то, что все это время он вел обширную переписку с оставленными на далеком севере близкими ему и родными по духу людьми.
С академическими товарищами Иванов поддерживал сношения недолго. Первые письма его полны пламенных излияний нежности и привязанности. Он горячо зовет их последовать его примеру и добиться поездки в Италию.
Он не жалеет красок, чтобы расписать им прелести привольной жизни на «родине искусства». Однако письма его остаются без ответа, и он начинает жаловаться на скорое забвение дружеских клятв и обетов верности до гроба. Между тем окольными путями в Рим доходят слухи о том, что один из друзей Иванова успел жениться и обзавестись семейством, другой устроился учителем рисования в каком-то привилегированном учебном заведении. После этого в письмах Иванова упоминания об академических друзьях вовсе исчезают.
Иной характер имела переписка с родными. Письма к сестрам рисуют Иванова как человека не только вдумчивого, но и готового посмеяться или предаться легкомысленным мечтам. Александр, видимо, принимался за письма сестрам, когда он мог рассказать им нечто занимательное и веселое. Те, в свою очередь, делились с ним последними новостями о петербургском житье-бытье. Оказалось, что младшая, Мария, ничуть не сожалела о том, что семья с казенной квартиры в академии перебралась на частную квартиру, в дом купцов Жуковых. Правда, новая квартира была потеснее, зато молодежь чувствовала себя здесь более непринужденно. Впрочем, и сюда доходили академические новости о том, как один из приятелей Иванова выиграл в лотерею, как другой все танцует французскую кадриль, как Катерина Ивановна вышла за прибывшего из Италии Басина, что барон Клодт недавно женился («и знаешь ли, на ком? На Ульяне Ивановне, племяннице Мартосовой»), наконец, что егоровский «екскиз» не понравился государю. Попутно не обходится и без советов: «Не следуй примеру Лапченко. Итальянки вскружили голову ему своими прелестями. Бог наказал его, лишив зрения».
Потом письма от Марии внезапно прекращаются, исчезают даже приписочки ее на письмах отца. Обеспокоенный Александр запрашивает о ее здоровье. В одном из ответных писем отец после ряда деловых сообщений нехотя, словно пересиливая боль, замечает: «Ты спрашиваешь о Марии Андреевне? Она больше не существует». Сестра Мария скончалась при рождении дочери. Смерть сестры была первой потерей на чужбине родного человека. Александр горько сокрушался о ней.
Переписка Александра Иванова с отцом — это единственный в истории искусств памятник нежной привязанности гениального художника к отцу, в котором он видел и уважаемого учителя, и взыскательного советчика, и преданного друга. С каким поразительным тактом сын при расхождениях отстаивает свое собственное мнение, не оскорбляя отца, выражая ему все знаки сыновней почтительности! Какая любовь и гордость звучат в отзывах отца об успехах сына, хотя и они никогда не закрывают ему глаза на его недостатки, слабости и ошибки! И все это заглазно, в течение почти двух десятков лет переписки при медлительности тогдашней почты. И главное — при таком вопиющем неравенстве дарований и творческих масштабов.
Старик делится с сыном мельчайшими событиями своей каждодневной жизни. Он сообщает ему и о «монаршей немилости», и о переезде на новую квартиру, и о том, как однажды ему пришлось посетить никем не заселенную старую квартиру, где оставался еще большой холст Александра «Иосиф толкует сны» — эта поэма о немилости, незаслуженно павшей на голову одного из приближенных фараона. Сколько волнения и сколько радости, когда приходят присланные Александром часы!
Волнения потому, что при посылке не оказалось письма: радости потому, что теперь можно будет подарить шурину старые часы. Потом идут сообщения о поисках заработка, о нескончаемых обидах и о «тесных обстоятельствах» «отставленного по высочайшему указу», которому в ответ на ходатайства так часто приходится слышать от власть имущих: «посмотрим» да «подождем». Хорошо еще, что во время одной «поденщины» — писания образов для Измайловской церкви — фортуна изменила удачливым соперникам: они оказались жертвой царской немилости, которая на этот раз не коснулась его.
Письма Андрея Ивановича дышат самой теплой заботой о судьбе сына. В них виден и здравый смысл и жизненный опыт одного из тех «бедных людей», которые в то время не смели поднять голову, но в которых было столько неиссякаемой любви к своим близким, столько искренности, мягкости и скромности.
Жизненные испытания сделали Андрея Иванова осторожным и даже несколько робким с людьми. Вот почему в письмах к сыну он так часто напоминает ему о благоразумии. «Теперешние обстоятельства в Европе особенно требуют благоразумия, с коим должно вести себя молодому человеку». Хотя сам Андрей Иванович тридцать лет тому назад увлекался передовыми идеями, сына своего он, по приказанию Оленина, всячески предостерегает от опасных увлечений. В отношениях с товарищами он советует не полагаться ни на кого. «Осторожность всегда нужна, излишняя откровенность вредить может…», «Ты всегда именуешь людей, с коими обращаешься, своими друзьями. Имя друга столь священно, что его не должно принимать всуе».
Старший Иванов не одобряет художников-удачников, и в том числе Брюллова, за то, что тот привык «соображаться с тем, что от него ради успеха требуют». Но по горькому опыту Андрей Иванович знает, как трудно плыть против течения. «Таков есть дух нашего времени; с сим-то духом времени надлежит сообразоваться, чтобы выиграть что-либо значительное, без него нельзя и надеяться чего-либо». Впрочем, сам же старик горько усмехается над проповедуемой им философией, припоминая по этому поводу фонвизинские слова: «Согрешим и покаемся». Видимо, понимая, что в Александре было и без того достаточно морального ригоризма, он своими советами хотел несколько облегчить ему осуществление большого дела художника. В остальном отец полностью разделял и одобрял направление деятельности сына. Вряд ли среди своих сверстников Александр мог найти такую моральную поддержку, какую он всегда имел от отца. Могли быть расхождения в отдельных суждениях, в способах действия, но в коренных вопросах разногласий между ними не существовало. В письмах отца звучат те же ноты, что и в письмах сына, хотя издает их слабый, немолодой уже голос.
Беззаветное служение отечеству, беззаветное служение искусству — отец не устает напоминать об этом сыну. «Отчизна должна остаться для тебя местом твоих желаний».
Ему понятно недовольство сына академией и петербургскими порядками, он и сам знает им цену, хотя и не смеет открыто в этом признаться. Но следует более терпеливо сносить обиды со стороны чиновников, и в частности от Григоровича; нужно почитать за особую милость, что тот не стал жаловаться на него высшему начальству. Впрочем, как ни много несчастий и унижений испытал старик, он призывает сына своего никогда не терять мужества. В минуту отчаяния Александр писал, что хотел бы, вернувшись в Россию, поселиться вдали от столичного шума, в тихом губернском городе. Отец осуждает это намерение сына отступить перед трудностями: «Явись лицом врагам своим и многого избавишься, а чтобы от них скрыться совершенно, нигде нельзя, разве только перестать быть художником». В сущности, в этих словах заключался призыв к непримиримой борьбе. Сказаны они были в момент, когда сын Андрея Иванова только приступал к самостоятельной деятельности, но в них содержится то представление о призвании художника, которое стало путеводной звездой всей многотрудной и славной жизни гениального русского мастера.
Естественно, что в переписке отца с сыном вопросы искусства занимают важное место. Хотя Андрею Иванову самому так и не суждено было создать что-либо выдающееся, в понимании искусства он проявляет большую проницательность. В области художественной критики изобразительного искусства письма Андрея Иванова едва ли не самое значительное явление в России 30—40-х годов. Он придерживается эстетики так называемого «академического классицизма», и этим определяются некоторые его пристрастия. Но в качестве вдумчивого и отзывчивого наблюдателя он проявляет такое проникновенное понимание искусства, которого не хватало большинству составителей трактатов по эстетике.
В критических суждениях Андрея Иванова неизменно проглядывает серьезность, независимость, нелицеприятное отношение к вещам; в них много здравого смысла, чувства меры и всегда есть глубокое понимание мастерства.
Александр внимательно вчитывался в письма отца, не пропуская ни одного его замечания, нередко пункт за пунктом отвечал на них. В понимании искусства как труда, как подвига, в понимании высокого признания художника между ними не было расхождений, хотя Александр и был человеком нового поколения и, главное, художником более крупного масштаба. Горести отца волнуют его, так как касаются близкого человека, но он не обольщается насчет творческих возможностей Андрея Ивановича как художника. Недаром, узнав, что отец собирается померяться силами с другими художниками и выступить на конкурсе А. Демидова, он советует ему быть осмотрительнее и осторожнее. Иванов-сын знал, что его отец писал образа ради пропитания семьи. Но он не забывал и того, что, став богомазом, его отец погиб для искусства, и сознание этого мучило его нестерпимо. Горячо восставая против одной лишь мысли о службе в академии или о писании иконостасов, он не скупился на самые нелестные отзывы о тех, кто не гнушается этим делом. Надо полагать, Андрей Иванов не мог не заметить, что, в сущности, вся запальчивость Александра была направлена не против кого другого, как его самого, но он кротко сносил эти обиды. На свою художественную карьеру он давно уже махнул рукой. Гордость отца за успехи даровитого сына заглушала в нем горечь от сознания крушения его собственных надежд.
…В первые годы своего пребывания в Италии, когда Иванов чувствовал себя на чужбине таким одиноким, он, как и многие другие русские художники, радушно был принят в доме княгини Зинаиды Волконской, которая незадолго до того прибыла в Рим и навсегда здесь обосновалась. Муж ее был братом декабриста Волконского. Сама она была обаятельной, широко образованной, высокоодаренной женщиной, писала стихи, пела, и своим пением и всем своим обликом обворожила лучших русских поэтов, когда она перед поездкой в Италию провела некоторое время в Москве. Она любила и тонко понимала искусство, в частности старую живопись Италии.
«Этюд мальчика». 1840-е годы.
«Голова молодой женщины с серьгами и ожерельем». 1840-е годы.
Дом Волконской в Риме был в то время средоточием русских людей, оказавшихся на чужбине. Здесь легко забывались сословные предрассудки, которые так строго соблюдались в чиновном Петербурге Здесь обычно раздавалась русская речь, по вечерам музицировали, читали стихи, пели народные песни, ставились русские пьесы. В доме имелась библиотека, содержавшая немало ценных художественных изданий. Вилла Волконской расположена была у подножия холма Целия, неподалеку от шумной площади Сан Джованни ин Латерано. Участок виллы пересекали остатки древнего водопровода императора Клавдия, и сквозь арки его открывались дивные панорамы на достопримечательности города: на храм Марии Медики, на Сан Джованни ин Латерано и далекие голубые Альбанскне горы. Весь сад представлял собой густой разноцветный букет ползучих растений: плюща, гелиотропа, разных пород роз и шиповника. Над ними высоко поднимались лавровые деревья и мощные кипарисы. Здесь в тени разросшегося виноградника нередко накрывали на стол, собиралась семья Волконской с ее домочадцами, русскими гостями и любимыми собаками Долинькой и Трезором. Дом Волконской был полон воспоминаниями о незадолго до того покинутой ею России. Здесь все напоминало о пушкинской России, России декабристов, с которой в самой стране вел непримиримую войну Николай.
Иванов часто бывал у Волконских. Его привлекала простота нравов, которая царила здесь. Он пользовался книгами по искусству из библиотеки, присутствовал при домашних праздниках и представлениях. Он жадно впитывал в себя те художественные идеи, ту любовь к искусству и к просвещению, которые отличали дом Волконской. Здесь Иванов встретился с одним молодым литератором — Николаем Михайловичем Рожалиным.
Сверстник Иванова, Рожалин окончил Московский университет, увлекался поэзией и философией, много занимался переводами. В частности, им были переведены на русский язык «Страдания молодого Вертера». Он дружил с Раичем, переводчиком-поэтом, учителем Тютчева. Особенно близок он был к Веневитинову и его кружку. Веневитинов посвятил Рожалину два послания и увековечил тем самым в русской поэзии их чистую юношескую дружбу. Рожалин был человеком широкого гуманитарного образования и передовых воззрений. Его близость к кружку Веневитинова воспитала в нем тонкого ценителя поэзии и философии, укрепила в нем веру в великое будущее России, в преображающую роль искусства, в просвещение. Как и Веневитинов, Рожалин был заодно с декабристами и тяжело пережил учиненную над ними Николаем расправу, косвенной жертвой которой был и Веневитинов. Вскоре после этих событий Рожалин поступил гувернером в семью Кайсаровых, чтобы вместе с ними отправиться в Дрезден, откуда в 1830 году он перебрался в Рим, где в доме Волконской прожил три года. Самый отъезд Рожалина за границу был своеобразным бегством его из страны, задавленной деспотизмом.
Иванов встретился с Рожалиным у Волконской Он получал от него книги, подолгу беседовал с ним, и скоро они стали близкими друзьями. Существовало множество вопросов, к которым оба они испытывали живейший интерес. Здесь, на чужбине, их обоих волновала судьба России, вопрос о мировом значении русской культуры. И Иванов и Рожалин внимательно прислушивались к тому, что говорили иностранцы об их родине, с радостью замечали в их отзывах о России признаки уважения.
Рожалин открыл Иванову мир философских и художественных идей, о которых даже не мог догадываться выученик академии, где с кафедры эстетики раздавались лишь пресные разглагольствования эрудитов-компиляторов. Вдали от николаевского мрака, среди шедевров мирового искусства эти беседы приобретали особенную убедительность.
В понимании и истолковании искусства Рожалин шел впереди Иванова. Недаром Иванов признавался своему другу: «Отцу моему я обязан жизнью и искусством, которое внушено мне как ремесло. Вам я обязан понятием о жизни и об отношении искусства моего к источнику его — душе». Рожалин поддерживал Иванова в его попытках смотреть на окружающий мир наперекор всем условностям академической школы. «Открой глаза на всю природу» — эта строка из Веневитинова должна была звучать для Иванова вдохновляющим призывом. Иванов услышал от Рожалина, что искусство — это дело не только зорких глаз и умелых рук, но и чуткой, отзывчивой души и смелого окрыленного ума художника. «Источник искусства — душа художника», — записывает Иванов под влиянием этих бесед. Рожалин говорил Иванову о философии искусства Шеллинга, которой увлекались тогда московские любомудры [3] и которую позднее так старательно выкорчевывал из русских университетов николаевский министр Магницкий. Как поэт, так и художник, утверждал Шеллинг, поднимаются над ремеслом, их удел — мысль. Поэт и художник познают действительность, не только подражая ей, изображая отдельные ее явления; в художественном произведении выступает воссоединенным то, что в жизни и мышлении разъято, и потому искусство дает такое счастливое ощущение недостижимой в мире полноты и совершенства.
Иванова не мог удовлетворить отвлеченно-умозрительный характер этого учения. Но споры и беседы по вопросам искусства помогали ему осознать свое призвание художника. Он проникался мыслью, что живопись, как и поэзия, «относится к умственной части».
Иванову запомнилась мысль об единстве всех видов искусства, о внутреннем родстве их всех с музыкой. Особенно сильное впечатление должно было произвести на Иванова представление о художнике и о поэте, как о выразителях дум народа, мнение, что народными они становятся не тогда, когда изображают «сарафан» или «черевики», а когда чувства их наполнены тем, чем живет весь народ. «Дело поэта — это подвиг», — говорил Рожалин. Художник встречает в мире непонимание и даже вражду, но в творчестве своем он живет той полнотою счастья, с которой ничто не может сравниться.
Конечно, Иванов должен был услышать от Рожалина и о поэзии Пушкина и о личности гонимого самодержавием поэта много такого, о чем не принято было тогда говорить в официальных академических кругах. Особенно много мог рассказать Иванову Рожалин о своем безвременно погибшем друге Веневитинове, в котором идеал поэта-мыслителя нашел себе такое полное выражение. Конечно, Рожалин приводил на память отрывки из лирики Веневитинова, в которой ясно выступает светлый образ юноши поэта. В саду виллы Волконской, в «Аллее воспоминаний» среди памятников другим великим людям, Иванов мог видеть каменную плиту в память близкого сердцу хозяйки дома Веневитинова со строкой из его пророческого стихотворения о себе самом: «Как знал он жизнь! как мало жил…»
Под впечатлением своих бесед с Рожалиным Иванов принимается за картину «Аполлон, Кипарис и Гиацинт».
„АПОЛЛОН, КИПАРИС И ГИАЦИНТ"
Умолкнул, но долго и сами собой
Прелестной гармонией струны звучали.
Веневитинов, «Освобождение скальда».В работе над своим первым произведением, созданным в Италии, Иванов проявил редкое усердие, настойчивость, пытливость ума и чуткость. Он испещряет альбомы рисунками, копирует античные мраморы, делает множество этюдов с натуры к каждой отдельной фигуре, к каждой детали. Тщательно взвешивает он все слагаемые задуманной композиции. Внимательно выслушивает мнение старших художников. На тему картины он затевает переписку с отцом.
Беседы с Рожалиным подняли в Иванове высокое представление о призвании художника. Но ему нужно было видеть все эти общие представления в образах живых людей. Создавая картину, он проверял свои мечты действительностью. Складывая композицию «Аполлона, Кипариса и Гиацинта» из отдельных фигур, он постигал, чем могут и должны быть дружба и вдохновение.
Он исходил из традиционного представления об Аполлоне как об идеально прекрасном мужчине. Но у предшественников он царствовал обычно на Парнасе, среди прекрасных муз и мудрых, удостоенных его милости поэтов. Иванов углубил близость Аполлона к человеку. Его Аполлон всего лишь старший друг двух юных пастухов. И вместе с тем поэтическое вдохновение преображает, поднимает его, переполняет волнением, делает его царственно прекрасным. В итоге упорных исканий Иванова безмятежная пастушеская сцена превращается у него в зрелище, где зрима великая преображающая сила искусства.
Иванов не намеревался передать в своей картине чуждое человеку и пугающее его величие мифических героев. Три фигуры в его картине — это как бы три ступени восхождения человека к совершенству. Маленький Гиацинт старательно, как урок, исполняет мелодию на свирели, все тельце его напряжено, ноги согнуты под грузом туловища. Кипарис также участвует в творчестве, исполняя песнь. Но в отличие от Гиацинта ему доступны и более высокие сферы искусства. Недаром он скромно потупил очи и, как в полусне, прислонился, к Аполлону; все тело его выражает, что музыка переполняет его до предела. Наконец Аполлон означает высшую ступень: он сам не поет и не играет, он даже не отсчитывает меры рукой. Он всего лишь ласково прижимает к себе Кипариса. И в одном этом жесте выражено их дружеское согласие как основа художественной гармонии. Но своими широко раскрытыми прекрасными глазами он созерцает то высокое, о чем говорит прекрасная музыка. И это переполняет его и радостью, способной вызвать улыбку на устах, и вместе с тем душевной тревогой. Аполлон держится не так напряженно, как Гиацинт, не так покойно, как полулежащий Кипарис. Чтобы лучше увидеть то, что открывается ему, он готов подняться во весь рост, вся фигура его и жест протянутой руки хорошо гармонируют с его вдохновенным лицом.
При всей ясности каждой из фигур картины и в их позах и в жестах заключено много такого, на что может лишь намекать подлинная поэзия, и поэтому содержание картины не может быть сведено к слушанию музыки. Аполлон правой рукой выражает удивление и вместе с тем повелительно протягивает ее к Гиацинту. Перекрестные взаимоотношения между фигурами и разнородность их взглядов придают этой группе жизненную правдивость. Гиацинт робко и послушно смотрит на своего учителя. Кипарис смежил усталые веки, точно не дерзает их поднять. И по контрасту к нему ясным, спокойным и открытым взглядом взирает чуть кверху венчанный лавровым венком Аполлон.
Глядя на него, нельзя не вспомнить вдохновенных строк Веневитинова о призвании поэта:
Но ясный луч высоких дум Невольно светит в ясном взоре…Иванов не послушался отца: Аполлон не отмеривает у него рукой музыкального такта. Художник поставил себе более трудную задачу — в самом расположении фигур наглядно выразить основную тему своей картины, музыкальную гармонию. Фигура Аполлона, как старшего, поднимается над другими и образует вершину пирамиды. Но голова его повернута, левая нога выставлена вперед, и это придает ему нечто порывистое. Возведенный к небу взор его выходит за пределы картины, зато широкий плащ волной своих складок привязывает его к земле. Фигура Кипариса рядом с Аполлоном почти сливается с ним и служит ему опорой, недаром и кисти их рук переплетены. Наоборот, детское тело Гиацинта несколько отодвинуто, между ним и Аполлоном имеется небольшой интервал. Зато камень, на который он взгромоздился, уравновешивает более тяжелую правую половину группы.
В картине незаметно застылой симметрии, но господствует равновесие разнородных по характеру и подчиненных общей гармонии частей. Вся она равномерно заполнена телами, в ней нет ни пустот, ни каких-либо частностей, не связанных с основной темой. Мягко круглящиеся и струящиеся контуры преобладают и в тканях, и в телах, и в очертаниях скал, и в деревьях фона. Силуэт фигуры Кипариса находит себе отклик в силуэте темного дерева на фоне его. Дальняя гора повторяет своими очертаниями пирамидальную группу фигур, намекая на то, что музыкальная гармония звучит и в природе.
Ясный, спокойный, как бы всепроникающий свет вносит в эту сцену нечто радостное и просветленное. На нежной розовой фигуре Аполлона почти незаметно теней, только лицо его чуть закрыто прозрачной тенью от дерева, но и на него ложатся отсветы снизу. Фигуры вырисовываются обобщенными силуэтами, и это ослабляет впечатление их материальности. Только веточка дуба резко вырисовывается на светлом фоне неба. И эта небольшая деталь помогает догадаться, что темная масса за фигурами — это густолиственная крона дуба. С большой тонкостью Иванов сопоставляет, но. не сливает, близкие по характеру цвета и близкие по светосиле тона розового тела Аполлона, его лимонно-желтого плаща и брошенной на камень белой ткани. Эта ткань с ее нежными сизыми тенями звучит «колоритно», то есть выглядит как цветовое пятно. Земля и камни выдержаны в серо-охристых и розовых тонах и этим гармонируют с цветом обнаженных тел.
Хотя Иванов писал «Аполлона» в мастерской, но общее красочное впечатление, пронизанность светом и мягкие рефлексы на лице Аполлона рождают впечатление света на открытом воздухе. Избегая резких контрастов и эффектных красочных ударов, Иванов строит колорит на соотношении красочных пятен различной светосилы и этим обогащает свой живописный язык. «Аполлон» должен быть назван произведением подлинного колориста.
Особенная прелесть «Аполлона» в возвышенном благородстве его образов без холодной отвлеченности, в идеальном совершенстве человеческих тел без академической сухости. В картине царит гармония, но нет застылости, есть возвышенность, но образы человечны. Все дышит в ней ощущением близости совершенства и счастья. Вместе с тем в ней разлито едва уловимое грустное чувство, словно от сознания хрупкости этой красоты. Иванов никогда не расставался с «Аполлоном» — своим самым задушевным, лирическим созданием.
В истории русского искусства картина Иванова должна занять то же место, что поздняя лирика Пушкина, цикл его стихов о призвании поэта. Перед этой картиной, как ни перед одним другим произведением русской живописи, приходят на ум строчки вроде: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», или: «Поэт по лире вдохновенной рукой рассеянной бряцал», или, наконец: «Поэт! не дорожи любовию народной».
В этой первой созданной на чужбине картине Иванов давал ответ на те вопросы о судьбе искусства, которые занимали его еще в Петербурге и которые со всей остротой вновь встали перед ним, когда по прибытии в Рим он получил первые вести от семьи. Там, в николаевской России, искусство, академия, художники находились в унизительной зависимости от царского произвола. В своей картине Иванов воспевал свободу творчества и дружбы поэтов как условие художественной гармонии. В этом смысле можно утверждать, что эта написанная на мифологическую тему картина молодого художника входит в ряд его произведений, в которых выявилось его неизменное отвращение к деспотизму.
ПО ГОРОДАМ ИТАЛИИ
По прихоти своей скитаться здесь
и там,
Дивясь божественным природы
красотам
И пред созданьями искусств
и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах
умиленья —
Вот счастье! вот права!
Пушкин, «Из Пиндемонти».Большинство русских пенсионеров обычно не выезжало за пределы Рима. Самое большее в летние месяцы они спасались от римского зноя в окрестных горах или отправлялись в Неаполь на морские купанья. Реже посещали Флоренцию. Венецию они избегали — под тем предлогом, что венецианские живописцы и даже сам Тициан не владели рисунком, этой основой основ искусства живописи, согласно академической доктрине.
Со своей неистощимой пытливостью ума Иванов не мог удовлетвориться Римом и его художественными богатствами. На четвертом году своего пенсионерства он предпринимает образовательное путешествие по Северной Италии и вслед за этим несколько раз на протяжении десяти лет посещает итальянские города, богатые памятниками искусства.
С путеводителем Валери и с «Историей живописи» Ланци в кармане, с посохом странника в руках, останавливаясь в бедных альберго, гостиницах, не боясь неудобств в пути, не стремясь ни к чему другому, как только видеть и изучать старое искусство и этим обогащать собственное мастерство, отправлялся Иванов в свои путешествия. Они приводили его в такие места, которые обычно не посещали даже вездесущие англичане, где для местного населения не было соблазна легкой наживы от путешественников и где народная жизнь сохранилась в неприкосновенности; искусство не было здесь предметом особых забот, не пряталось в витринах музеев, а, казалось, естественно вырастало из почвы страны, рожденное тем самым народом, который можно было наблюдать на площадях городов, в остериях или перед порталами старых домов в тихих переулочках маленьких городков.
Конечной целью путешествий Иванова была потребность ближе ознакомиться с великими колористами Венеции, о которых в Петербурге не имели понятия и которых плохо знали и в римской колонии. Иванов признавался, что ехал в Венецию ради «наглядки», — это слово означало в то время умение, которое самоучки приобретают, глядя на мастеров своего дела. Действительно, в обращении с красками Иванов чувствовал себя новичком, самоучкой, и потому поездки должны были стать для него школой живописного мастерства. Но как ни увлечен он был задачами художника, он широко раскрытыми глазами смотрел вокруг себя, жадно впивал все новые и новые впечатления.
В первую свою поездку в 1834 году Иванов из Рима двинулся прямо на север к восточному побережью. В одном из ближайших к Риму городков художник долго любовался широким потоком быстро несущейся с гор воды; на нижней площадке этот поток разбивался в мелкую пыль, которая подымалась на воздух; еще ниже скачущая пена и пыль поднимались клубами и, отражая ярко блещущее знойное небо, покрывали лиловато-зеленоватыми отсветами береговые скалы, деревья, кусты и все окрестные предметы. Это были знаменитые каскады Терни.
Вечером в городке, где он остался ночевать, его поразило странное зрелище. По главной тесной уличке медленно двигалась толпа: впереди шли люди в длинных темных плащах, с лицами, закрытыми черными масками, и с крестами в руках. Они шли с протяжным пением, вослед тянулись мальчики со свечами, за ними шел босоногий мужчина в белой одежде, с огромным крестом на плече и длинной цепью, привязанной к ноге; за босоногим мужчиной снова шли люди в черных масках, и снова мужчина с крестом, и так повторялось десять раз, шествие завершали люди с факелами, дети с крылышками, пришитыми к плечам, духовенство со священными реликвиями, торжественно выступавшее войско. Это была процессия по случаю страстной пятницы, народный обряд — от него пахнуло таким средневековьем, от которого не осталось следов даже в Риме. Вечером за ужином в остерии Иванов залюбовался девушкой, которая пела и играла на гитаре. Девушка бросала на незнакомца страстные взгляды и, улыбаясь, показывала ряд ослепительно белых зубов. Иванов записал в путевой дневник, что устоял перед этим искушением.
Иванов еще недостаточно знал страну, язык и историю народа, чтобы со всей глубиной оценить и современную и старую жизнь Италии. Но в своих путешествиях он умеет многое подметить зорким глазом художника. Он замечает картины природы, любуется виноградниками по сторонам от дороги, виднеющимися вдали полями и пересекающими их речками Ему запомнились очертания Альпийских гор по дороге из Брешии в Бергамо, Тразименское озеро, зеленеющие луга в окрестностях Пизы. В каждом городе он замечает его своеобразную физиономию: Болонья кажется ему унылой из-за многочисленных арок, которые делают ее дома похожими на амбары, Виченца понравилась своим расположением на холмах, Брешия показалась особенно веселым городом, Милан запомнился своей опрятностью, благоустроенностью улиц, тенистостью публичных садов и обилием лавок и веселой музыкой. Наоборот, Парма напомнила лазарет или богадельню, так как здесь женщины ходят в грязно-лиловых салопах и всюду попадается бездна нищих. Иванов обращал внимание на архитектуру городских зданий, но особенно привлекал его облик и нравы местных жителей. Он восхищается красотой венецианок в их темно-красных платьях и в черных передниках, с роскошными мелко заплетенными и кольцеобразно зашпиленными косами. Он любовался их скорой и мелкой походкой и той грацией, с которой они носят тяжелые коромысла. Ему запомнилось, что среди этих «фриуляночек» есть множество блондинок. В миланках он подметил необыкновенную опрятность как в платье, так и в домашнем быту. Их фигурам придают особенную грацию темные вуали, которыми они закрывают завернутые «в улитку» косы. Их протяжная, мерная речь пересыпана множеством французских слов.
Но, конечно, больше всего внимания Иванов уделяет искусству. Во время одной из своих поездок Иванов остановился в Болонье. Город славился тем, что здесь впервые основана была Академия братьями Карраччи, прообраз всех последующих академий Европы. Иванов отдал дань похвалы картинам Гвидо Рени «Оплакивание» и «Избиение младенцев», незадолго до того вернувшимся из Парижа, куда их увозили французы в годы Наполеонова владычества. С разочарованием он отметил у братьев Карраччи смешение всех манер. «Хотят быть и Корреджнем и Тицианом и каким-то Рафаэло-Бронзино-Микеланджело», — отметил он в своей записной книжке.
Если в Карраччи его отталкивал эклектизм, то у Гверчино в его «Св. Гульельмо» и в «Св. Бруно» он видел всего лишь этюды с натуры, по большей части «самой грубой». Правда, нельзя было отказать этому художнику в умелости, но чернота его фонов и теней явно отталкивала Иванова. Зато ему пришелся по душе живописец XV века, которым восхищался и Рогожин, Франческо Франча; его наивное простодушие в отделке он нашел «неразлучным с правдой», в лицах его он усмотрел «местный характер». Само собою разумеется, что прославленная «Цецилия» Рафаэля, в которой так выпукло передано преображающее действие на человека искусства, просветленное состояние людей, слушающих музыку, картину, о которой и сам Иванов мог вспоминать, создавая своего «Аполлона», — эта картина осталась для него «постоянною в своих прелестях». По поводу нее Иванов был лаконичен, так как Рафаэль был для него не требующей доказательств аксиомой.
С памятниками Феррары Иванов познакомился бегло, так и не успев повидать росписи в палаццо Скифанойя. В Падуе первоначально он тоже не заметил ничего примечательного, кроме знаменитого кафе Педрокки, так как спешил в Венецию. О ее художественных богатствах он мог догадываться только по немногим картинам венецианских мастеров, случайно встреченным в различных музеях. Венецианская живопись привлекала его своей красочностью, жизнерадостностью, полнокровностью. Правда, все это было в академии под запретом. Но Иванов искал своих собственных путей, никакие авторитеты не могли заглушить в нем потребности проверить их собственным опытом.
Достаточно было Иванову оказаться на площади св. Марка, увидеть собор с его серебристыми куполами и мозаическим убранством сводов, расцвеченный розовым и белым мрамором Дворец дожей, всю роскошь и негу венецианских «плавающих дворцов», повторенных в зеркале каналов, и синеву небес, отраженную в мраморном узорочье — как художник уже чувствовал себя во власти безграничного восхищения. Он признавался, что готов был «забыть вкус древних», а это значит и статуи Аполлона, и Венеры, и Рафаэля, даже саму «Сикстинскую мадонну». Разум ему говорил, что беззаботное веселье Венеции, шумный говор ее толпы — это всего лишь лицевая сторона, за ней прячутся темные казематы венецианских тюрем, в которых жестокая знать гноила непокорных. Ужасы, которые рассказывали о них, способны были отравить наслаждение путешественника.
Иванов был, конечно, прав, не поддаваясь первому впечатлению от Венеции, не забывая оборотной стороны венецианской жизни, суровой правды ее истории. Но что касается до мира красок, созданного великими мастерами венецианского колоризма, то здесь уже не было никакого обмана — в этом была настоящая Венеция. Иванов должен был признаться, что бескрасочные эстампы не дают даже отдаленного понятия о сокровищах венецианского колоризма. В картинах венецианской школы его поразило то, что в них как бы отразились краски самой «отечественной природы». Его захватил тот огонь, которым горит искусство Венеции, та кипучая жизнь, которая царит в ее живописи и которая отличает ее от величавого, спокойного искусства Рафаэля.
Иванов с жадностью осмотрел холсты венецианских мастеров, стараясь запомнить и в записях своих передать словами прежде всего свои красочные впечатления Ему так и не удалось увидеть лучших произведений Джорджоне, но с картинами его школы, с «джорджонесками», он близко познакомился: его поразило, как строго нарисованы и горячо написаны три портрета. В одной картине его внимание остановила белая драпировка. «Какая гармония полутонов, — восклицает он, — в утушевке к темному грунту теней драпировки белой и смелость черного спензера, помещенного между белою рубашкой!»
Но больше всего занимал Иванова Тициан. По поводу его «Вознесения Марии» он изъясняется тем восторженным языком, каким раньше мог говорить лишь об одном Рафаэле. Он называет картину его «похищенной с неба» и признается, что перед ней готов был на мгновение «почувствовать себя выше всего на свете». Его, привыкшего находить пестроту в картинах академических мастеров, поразило, что у Тициана «повсюду царствует откровенная теплота расцвечивания, соединенная в одну массу». В «Введении во храм» Тициана его внимание привлекла яркость красных, желтых, белых пятен, разбросанных по всей поверхности холста, в одеждах толпы, равно как и красно-белая и бело-синеватая ризы двух первосвященников. Всю картину он называет «бриллиантовой».
Иванов внимательно изучал и других представителен венецианской живописи; он одобрительно отозвался о «Чуде св. Марка» Тинторетто, отметив, что написана картина без обычного у этого мастера «бешенства», высоко оценил он «Брак в Кане» Веронезе — эту «роскошную картину» с ее непринужденностью фигур, разнообразием и богатством красок.
В Падуе, в Капелле дель Арена, он сумел познакомиться с великим искусством Джотто. О нем не имели тогда в Петербурге даже отдаленного представления. Иванов мог впервые услышать о Джотто из уст Зинаиды Волконской. Она тонко подметила, что в этом художнике, у которого обычно находили лишь признаки варварского неумения, есть нечто предвосхищающее Рафаэля. Она высказывала даже предположение, что Рафаэль смотрел на «сухие, но благородные произведения основателя флорентийской школы». «Люди у него без бурных страстей, художник боялся дать слишком большое движение своим фигурам». Иванову было трудно найти слова, чтобы определить искусство Джотто. Его стиль он называет «простым», отмечает в живописи его «наблюдение натуры в сочинении и выражении фигур», «новость и непринужденность мотивов». Фреска Джотто «Явление Христа Марии» навела художника на мысль воспользоваться его мотивами в своей собственной работе. Человечность великого мастера пришлась ему особенно по душе.
Иванов посетил множество других городов Северной Италии. В Милане в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие он долго стоял перед топ стеной, на которой еще смутно видны были остатки «Тайной вечери» Леонардо. «Тихая минута, — отметил Иванов, — представлена в ней художником отраженной в различных по выражению лицах апостолов». Он отмстил невинность Иоанна, порывистость в движении Иуды, вопрошение в привставшем апостоле, наконец Фому с протянутыми перед грудью руками с совершенной «национальной экспрессией».
Некоторые из своих впечатлений от картин Иванов успел записать в своем путевом дневнике. Другие он передал в многочисленных зарисовках с картин и фресок великих мастеров. Многое из увиденного глубоко отложилось в сознании художника и всплыло наружу лишь в его позднейших собственных созданиях.
В старой живописи Иванов ценил больше всего правдивость в передаче человеческих характеров. Все манерное, пустое и бессодержательное не привлекает его. Рисунку и расположению фигур в картине он придает большое значение. Но его занимает и цветовая гармония; ее понимание предстояло ему развить в себе — вот почему среди его записок встречаются превосходные описания колорита. Не ограничиваясь одним описанием красок, Иванов обращает внимание и на то, как выполнена та или другая картина, как из положенных друг на друга красочных слоев рождается колористическая гармония. Беглые записи делались Ивановым для себя, на ходу, но они говорят о том, как внимательно он всматривался в великих мастеров картины.
Путешествие по Италии было для Иванова проверкой его вкуса, его способности непредвзято судить о картине, не зная, кто ее автор, какова его репутация, иногда только по непосредственному впечатлению, по тому, как она воздействует на глаз, на ум, на сердце. Иванов всегда проявляет верность этому принципу. Каковы бы ни были его общие понятия о том или другом мастере, он каждый раз заново составляет свое суждение о нем по вновь увиденному созданию его рук.
„ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА МАРИИ МАГДАЛИНЕ*
Отныне я тоже художник.
Корреджо.Картиной, за которую Иванов принялся вскоре после возвращения из первого путешествия по Северной Италии, было «Явление Христа Марии Магдалине». В работе над этой картиной, состоящей всего из двух фигур, Иванов проявил ту медлительность, с которой он всегда был неразлучен. В одном из писем своих он говорит о том, что при создании картины собирался показать всего лишь «свое представление о драпировках». Вместе с тем художник признавался сестре, как он бился над задачей запечатлеть в заплаканном лице Марии Магдалины противоречивые чувства: следы печали, слезы, удивление и даже испуг, страх, восхищение и улыбку радости. Для решения этой задачи он предлагал своей натурщице припомнить все испытанные ею в жизни беды; не довольствуясь (этим, держал перед ней кусочки лука, чтобы исторгнуть из глаз ее слезы. И в то же время утешал ее и, утешая, смешил. «Полные слез глаза, с улыбкой на устах, — рассказывал он впоследствии сестре, — давали мне совершенное понятие о Магдалине, увидевшей Иисуса».
Рассказ о том, как он мучил и смешил натурщицу, объясняется отчасти желанием позабавить сестрицу. В нем речь идет только о внешних обстоятельствах и приемах работы. В действительности мастеру приходилось преодолевать еще более сложные творческие трудности. Об этом говорят его многочисленные рисунки карандашом и этюды маслом. Необходимо было представить, как женщина неторопливо шла вперед, увидала нечто такое, что привело ее и в восторг и в изумление, и как это изумление и восторг заставили ее опуститься на одно колено. В связи с этой задачей художника стал занимать падающий на землю и волочащийся за Магдалиной шарф, который дает понятие о пройденном ею пути. С движением шарфа связан и мотив волос Марии Магдалины. В одном из своих альбомов Иванов торопливо записывает: «Волосы у Марин Магдалины сделать косичками длинными и тонкими, которые спустить с головы вместе с покрывалом полосатым…»
В погрудном этюде Марии Магдалины блестящие, белокурые, чуть пепельного оттенка волосы падают широкими косами, тонкий белый шарф свился спиралью и откинут за плечи. Обвивая шею Марии, этот шарф подчеркивает пластику фигуры, и вместе с тем на нем хорошо выделяются волосы, которые без него слились бы с розовым платьем. Но самое главное это то, что в гладко расчесанных у основания и чуть спутанных на концах волосах выражается восторженный порыв Марии, ее чистая, любвеобильная душа, стремительность и торопливость едва ли не большую одухотворенность, чем ее большие, чуть остановившиеся глаза. И действительно, достаточно мысленно закрыть волосы Марин, чтобы заметить, до какой степени без них обеднится образ.
В лице Христа, противостоящем Марии, Иванову предстояло показать черты мужественного благородства, доброты, отзывчивости, мягкости. Христос должен быть спокоен и сдержан. Все душевные его силы сосредоточены на том, чтобы волнение не выступало наружу. Фигура Христа передана достаточно осязательно. Но ей еще не хватает определенности характеристики, и потому в целом его образ уступает Марии.
Работа над картиной ближе познакомила художника с местной жизнью. Вместе с той натурщицей, которая так очаровала Иванова, в его мастерскую на чердаке палаццо Боргезе ворвались бурные итальянские страсти. Оказалось, что у натурщицы муж был пьяницей и гулякой, требовал от нее денег, жестоко избивал ее и довел до такого состояния, что она дважды пырнула его ножом; упавшего мужа отнесли в лазарет, а мстительницу посадили в тюрьму. Иванов имел намерение высвободить ее оттуда на те деньги, которые он ждал от Общества поощрения художников.
Художника и ужасали и восхищали эти свирепые трастеверинские нравы, которые переносили его во времена Борджиа. Красавица римлянка не оставляла его равнодушным. «Я, однако ж, работал в то время не хладнокровно, — признавался он сестре, — сердце мое билось сильно при виде прекрасной головы, улыбающейся сквозь слезы». Такова была закулисная сторона той мизансцены, которую он создал под названием «Явление Христа Марии Магдалине».
В картине Иванова сильно выступает академическая сдержанность, скованность и даже некоторая холодность. Но в отличие от большинства работ рядовых выучеников академии, обычно приглаженных и робких, Иванов выразил в обеих словно изваянных из камня фигурах много энергии и твердости. В этих фигурах, выше человеческого роста, заключено достоинство и величие, которые скорее свойственны героям классической трагедии, чем персонажам евангельской легенды. Вот почему и содержание картины трудно свести к встрече отбывающего на небо божества со смертным человеком. Картина больше похожа на отречение римского трибуна во имя гражданского долга от любви нечаянно увидавшей его восторженной женщины.
«Явление Христа Марии Магдалине» было окончено еще осенью 1835 года. В начале следующего года Иванов выставил ее в Риме на Пьяцца дель Пополо. Рядом с портретами Кипренского и пейзажами М. Лебедева «Явление Христа Марии» имело успех, хотя и не такой шумный, как «Последний день Помпеи». Вся русская школа поднялась во мнении художников римской колонии.
Вскоре после этого картина была отправлена в Петербург. Одним из первых увидал картину отец. Волнению старика не было границ, когда на глазах у него в одной из зал академии стали распаковывать ящик с картиной и снимать ее с вала. Еще прежде чем она была вполне раскатана, он по увиденным частям мог с радостью убедиться, что руками сына восстанавливалась честь семьи; он понимал, что такую картину нельзя будет ни осудить, ни отвергнуть, и старик радовался этому как ребенок. Действительно, когда картина была представлена на суд знатоков и широкой публики на академической выставке, она сразу обратила на себя внимание. Правда, успех имела и ловко написанная, но пустая и даже пошлая картина другого пенсионера, А. Маркова, «Фортуна и Нищий», и это говорило о неразборчивости публики. Что касается картины Иванова, то она покорила публику способностью современного художника создать нечто по мастерству выполнения похожее на старую живопись. Недаром она вскоре заняла свое место в Картинной галерее Эрмитажа. Отмечено было и небывалое в академических традициях «действие на душу», возвышенность образов, простота композиции, естественность фигур, трогательная выразительность Марии.
Правда, нашлись люди, которым картина Иванова не пришлась по вкусу. Писатель-журналист Нестор Кукольник, который в силу своих связей с Брюлловым и бойкости пера считался знатоком искусства, но в действительности в живописи не разбирался, остался явно недоволен Ивановым. «Что это такое картина Иванова? — спрашивал он подобострастно Брюллова. — Мистификация, что ли? Или я уже до того устарел, что ничего не понимаю, или картина в самом деле плоха? Мучительно нехорошо: ни композиции, ни колорита. Кого ни встречу, прошу вывести рационально из печального моего заблуждения». Видимо, Кукольник уже успел многих настроить против Иванова, но ждал сигнала от мэтра, чтобы начать генеральное наступление. Надо отдать справедливость Брюллову, хотя он был мало разборчив в своих личных знакомствах, в искусстве он не пожелал кривить душой. Он отозвался одобрительно о картине своего соперника.
Выставку посетил Николай. Передавали, что перед картиной Иванова им были сказаны банальные слова о «божественности фигуры Спасителя». Сотни угодливых слуг монарха нашли в этих словах поразительное глубокомыслие. Сотни услужливых уст разнесли их по всем гостиным Петербурга; слова эти были опубликованы в печати и положили конец злословию Кукольника.
Благоприятный прием, оказанный картине, не только укрепил положение художника, не только содействовал получению им средств для дальнейшей работы, но и внушил ему больше уверенности в свои силы. В сознании огромной ответственности того, что им создавалось, он пишет в Петербург: «О, как дорого мне настоящее время! как я ему радуюсь! Каждая черта моя экзаменуется всеми просвещеннейшими нациями в лицах важнейших их художников».
1836 год был переломным в умственном развитии Иванова. Мысли о призвании и судьбе художника не дают ему покоя, и он пытается их уяснить себе противополагая художника талантливого художнику-гению. «Сей до себя доводит слушателей. Он про изводит для веков. У него некоторые части неправильны, но целое превосходно. В сем случае можно его уподобить божеству. Правила для него нет — он сам себе оное». В отличие от гения талант «соображается с требованием общества, он раб его», «пишет для настоящего времени». «Сему гораздо выгоднее жить. Напротив как тот часто терпит препятствия и даже умирает с голоду». Со своей вечной неудовлетворенностью самим собой Иванов, конечно, даже и не помышлял о том, что ему открыты возможности гения. Во всяком случае, он готов был на все лишения, на которые обречен художник, не желающий потакать причудам света и правилам академической рутины.
Что значит родиться художником под властью деспотизма, в этом он мог убедиться по собственному опыту. Его хлопоты об отце остались безуспешными. Денежная зависимость давала повод «благодетелям» напоминать ему о праве на его вдохновение. Печальный опыт жизни постоянно наводил художника на размышления об источниках его злоключений Правда, чрезмерно распространяться на эту тему в письмах было небезопасно. В официальных письмах он вынужден именовать академик, «храмом художеств», но отцу признавался, что академия отжила свой век, как «вещь предшествующего столетия». В. И. Григоровичу он писал: «Вы поставлены общим отцом нашим», но после всех притеснений и наставлений конференц-секретаря жаловался приятелю: «Какая скука возиться с этим педантом!» Иванов сознавал, как гибелен для искусства тот факт, что художники погрязли в «светские угодности и интриги», и он возмущался тем, что русский художник вынужден стать «совершенным купцом и бессовестным спекулятором». С ужасом он опасался, как бы необходимость ради заработка выполнять «дюжинные иконостасы и портреты» не превратила и его самого в «купца». Но Иванов не ограничивается жалобами на произвол и бесчинства отдельных людей «сильных мира сего». Он восстает против зависимости художника от высших классов и прежде всего от монарха. «Мы должны сознаться, что не имеем еще народного расположения, и потому все еще выспрашиваем у государя денег на свое содержание». И он с горечью отмечает, что «вельможи русские не удостаивают своим посещением русского художника».
В своих письмах и заметках Иванов то и дело с возмущением вспоминает об унизительном рабстве, о рабском покорстве и о вынужденном усердии раба. Хотя художник не мог еще осознавать всех причин создавшегося положения вещей, он был в те годы едва ли не единственным среди римских пенсионеров, который задумывался над этими вопросами. Большинство остальных думало только о том, чтобы приспособиться к существующим условиям и извлечь из них пользу.
Осуждая то положение вещей, которое господствовало в Петербурге, Иванов ни на минуту не переставал сознавать себя русским. Даже ссоры его с соотечественниками не могли поколебать в нем этого сознания. Находясь в качестве пенсионера в прямой зависимости от пользовавшихся авторитетом у русского правительства художников-иностранцев и прибегая в случае нужды к их поддержке, он и сам призывает «прислушиваться к приговорам других наций, гораздо нас просвещеннейших». Однако по мере того как он замечает, что многие иностранцы занимают в России наиболее почетные места и вытесняют с них презираемых ими русских людей, в нем растет возмущение против этого унизительного положения.
Сталкиваясь в Риме с художниками различных стран и наций, Иванов особенно остро чувствовал потребность своим делом защитить добрую славу русского имени. «Заставить согласиться иностранцев, что русские живописцы не хуже их, — дело весьма мудреное, ибо все озлоблены на русских по случаю политики, — писал Иванов, намекая на события в Варшаве в 1830 году. — Все ищут пятен, рады всяким рассказам и унижают всякое в нас достоинство: следовательно, художественная вещь должна быть втрое лучше их произведений, чтобы только принудить их уравнять со своими». Свою собственную судьбу художника он отождествляет с судьбой всей русской художественной культуры и потому готов все силы отдать патриотическому делу. Своих соотечественников Иванов считал народом, исключительно щедро одаренным, в этом для него не было сомнений. Русским людям предстоит, по его мнению, поднять искусство, которое повсюду приходит в упадок. «В нашем холодном к изящному веке я нигде не встречаю столь много души и ума в художественных произведениях, — писал Иванов. — Не говоря о немцах, но сами итальянцы не могут сравняться с нами ни в рисовании, ни в сочинении, ни даже в красках. Они отцвели, находясь между превосходными творениями своих предшественников. Мы предшественников не имеем. Мы только что сами начали — и с успехом… Мне кажется, нам суждено ступить еще далее».
В Риме Иванов постоянно имел перед глазами работы своих товарищей — людей того поколения, от которого в ближайшие годы зависела судьба русского искусства. Он хорошо понимал, что критика их произведений может выглядеть как злословие на соперников, но истина его настолько увлекает, что он не боится этого подозрения. Требовательный к самому себе, он не щадил и своих товарищей. Он видел, как создавалась картина Алексея Маркова «Фортуна и Нищий», это рядовое академическое произведение, и он с возмущением говорит об отсутствии мысли в ней и дает ей уничтожающую характеристику. «Дамская живопись!» — называет это произведение Иванов. И с каким презрением отзывается он позднее о вздорной затее Алексея Маркова писать в Риме на темы русской жизни, чтобы картиной «Сироты русские на могиле своей матери» «выплакать у начальства копейку».
Иванов долго работал бок о бок с Михаилом Лебедевым. Он знал добросовестность, с которой тог писал свои этюды с натуры. Но Иванов и по отношению к нему находит повод для критики. «В его ландшафтах не нахожу характера итальянского: трудно поверить, чтобы манер, им принятый, вывел его на классическую дорогу, тем более, что в нем никакой искры нет — фантастического, идеального, изобретательного». Впрочем, когда Лебедев незадолго до смерти привез из Кастель Гандольфо пейзаж, в котором сумел придать своему этюду с натуры характер законченной картины, Иванов по справедливости высоко оценил эту работу, которая украшает в настоящее время Третьяковскую галерею.
Иванов застал первые успехи в Италии Айвазовского. «Гайвазовский работает тоже скоро, но хорошо — он исключительно занимается морскими видами». «Гайвазовский — человек с талантом. Его «День Неаполя» заслужил общее одобрение в Риме — воду никто здесь так хорошо не пишет». Однако признание таланта и умения Айвазовского не закрывает глаза Иванову на опасности, которые сулит ему легкий успех у публики. Он нападает на честолюбие художника, толкавшее его всеми средствами добиваться от папы римского «медали», предсказывает ему, что он будет иметь «добрый капитал», и, наконец, высказывает опасения по поводу стремления Айвазовского создавать себе славу шумной рекламой в газетах.
С неизменной теплотой говорит Иванов о старейшем русском художнике, которого он еще застал в Риме, — Кипренском. Он чувствует горячую признательность к нему за то, что тот сумел «поставить имя русское в ряду классических живописцев». Его заботам пенсионеры обязаны улучшением своего положения. и потому Иванову вдвойне обидно, что именно этот художник почти забыт современниками. И, когда всеми покинутый и забытый Кипренский умирает, Александр Иванов пишет отцу письмо, настоящее надгробное слово над могилой великого художника: «Знаменитый Кипренский скончался. Стыд и срам, что забросили этого художника. Он первый вынес имя русское в известность в Европе, а русские его всю жизнь считали за сумасшедшего, старались искать в поступках только одну безнравственность, прибавляя к ней, кому что захотелось. Кипренский не был никогда ничем отличен, ничем никогда жалован от двора, и все это потому только, что он был слишком благороден и горд, чтобы искать этого».
На основе жизненного и творческого опыта этих лет в Иванове созревают его дальнейшие планы. Прежде всего он принимает решение в ближайшие годы не возвращаться в николаевскую Россию. «Мысль о возврате на родину вышибает у меня и палитру, и кисти, и всю охоту что-либо сделать порядочное по искусству», — пишет он еще в 1834 году. Своих «покровителей» он всеми средствами старается убедить в необходимости продлить срок его пребывания в Риме. Иванов объявляет отцу о причинах своего нежелания возвращаться в Петербург. «Я считаю несчастнем для истинного таланта связать себя службою, — пишет он, — а вы видите в этом обеспеченное блаженство». На этой почве между Ивановым-сыном и Ивановым-отцом возникает больше всего расхождений. Старик не мыслил себе судьбу сына иною, как лишь в стенах академии: после успеха «Марии Магдалины» его карьера казалась ему обеспеченной. Александру была невыносима одна мысль об этом. Щадя отца, Александр Иванов не мог прямо признаться, что именно его судьба академического профессора кажется ему самой печальной на свете, но свое отвращение к ней он никак не мог скрыть. Скорее он готов стать слугой у учителя рисования, лишь бы «каждый день не видеть Григоровичей, Сапожниковых и весь академический причт». Одно воспоминание о них вызывает в нем содрогание. Академический мундир с его стоячим воротником казался ему несовместимым со званием художника. Можно представить себе негодование молодого Иванова, когда в ответ на опасения его утешали, что мундир надевают в академии только в торжественных случаях, а работают в мастерских в блузах с отложными воротниками.
И все же Иванов предвидел, что ему рано или поздно предстояло вернуться на родину. Но он предпочитал Петербургу Москву, потому что она более пригодна «для удобнейшего производства сюжетов из русской истории». Уже в первые годы своего пребывания в Италии он намечает обширную художественную программу, которой собирается заняться после возвращения на родину. Список этих тем он записал в одном из своих альбомов: здесь и «виды губернских городов и столиц», и «маневры и парады армии и гвардии», и «бордюры из ели, сосны, березы», и «костюмы всех губерний», и «сцены из отечественных поэтов», и «монументы и остатки древностей русских», и «сцены из быта простых крестьян русских». В то время ни один из русских живописцев даже и не помышлял о равном по охвату изображении русской действительности.
В связи с этими творческими планами стоят и представления Иванова о том, как нужно устроить свою жизнь. Своими мечтами он делится с отцом; видно, они были выношены долгими размышлениями, и потому, когда он затрагивает эти темы, речь его становится спокойной, ясной и особенно убедительной. «Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен. Независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях натуры, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен набирать и извлекать новое из всего собранного, из всего виденного. Русский художник непременно должен быть в частом путешествии по России и почти никогда не бывать в Петербурге, как городе, не имеющем ничего характеристического».
Иванов лелеял мечту по-новому устроить и жизнь всех русских художников в Риме. Одно время ему казалось возможным создать нечто вроде триумвирата наиболее выдающихся: Брюллова, Маркова и его самого, «потушив имена их публике, наделить деньгами и дать возможность выдавать свои мнения и в стороне от успеха погрузиться в искусство». Для поднятия репутации русского художника он предлагал надеть на шеи пенсионерам золотые медали, «…чтобы посланник, увидя лик государя своего у пенсионера, переменил бы свое обращение и понятие о художнике». Он желал, чтобы у младших художников на этих медалях вместо лаврового венка был выбит венок терновый в знак предстоящего ему тернистого пути. Он считал необходимым, чтобы в Аничковом дворце была устроена постоянная выставка картин русских художников, «национальный музей», и чтобы здесь находилась кружка для добровольных пожертвований в пользу художников («этой суммой мы будем распоряжаться с общего согласия», — замечает он).
Нельзя читать без улыбки утопические проекты художника. Им не суждено было воплотиться в жизнь хотя бы в самой малой доле. Никто даже не отозвался на них. В глазах начальства Александр Иванов приобрел репутацию беспокойного чудака и сумасброда. В отношении к нему все больше применяли политику игнорирования, которая приводила к полному крушению все его планы. Только одно удалось ему осуществить — это оттянуть свое возвращение в Петербург. Он так и не вернулся в него при Николае I.
Занятый вопросами устройства жизни художников, Иванов не переставал размышлять и о том, какими способами искусство может достигнуть расцвета, а русские художники осуществить свое высокое призвание. Чем больше он узнавал классическое искусство, тем более приходил к признанию его огромного значения для художника. Сам он горько жаловался на то, что академия не дала ему достаточно широкого образования. Участь ученого казалась ему настолько «завидной», что были моменты, когда он готов был поменять свою судьбу художника на судьбу ученого. Вместе с тем он понимал, что успех художника в искусстве зависит не от одной лишь его осведомленности и начитанности, но прежде всего от его наблюдательности, от умения заметить характерное в окружающей жизни. Вот почему он так высоко ставил «счастливый предмет натуры».
В те годы Иванов не отрекался еще от тех взглядов на задачи искусства, которые в нем выработались в академические годы, но понятие совершенной красоты как высшей цели искусства значительно расширилось у него и углубилось. «Красота, первую идею которой доставляют нам физические предметы, подчиняется общим законам, которые могут применяться к другим предметам и поступкам и к мыслям точно таким же образом, как и к формам». Это мнение он выписывает из какого то итальянского автора, так как оно пришлось ему самому по душе и соответствовало более широкому его представлению о красоте. Иванов и в эти годы продолжает защищать «идеальное» в искусстве и считает необходимым, чтобы рядом с ним в качестве высшей ступени существовало понятие «изящного».
Казалось бы, в своих воззрениях на искусство Иванов не выходил за границы тех понятий, которые господствовали в то время в академии. Но большинство академических авторитетов говорило об «идеальном» и «изящном» лишь для того, чтобы за ними спрятаться от реальной действительности, чтобы оправдать свое недоверие, порой вражду к тому реализму, потребность в котором все больше назревала в искусстве. Для Иванова, как художника искреннего и правдивого, самое искание этого идеального было реальностью его творчества. Он взял на себя трудную миссию не только на словах, но и на деле «проверить Рафаэля природой». Он искал совершенства в мире, в непосредственно видимом и делал эго так настойчиво и страстно, как до него немногие решались это делать. Выработанный на примерах классического искусства критерий красоты помогал ему открывать ее следы в действительности. Но самое существенное было в том, что он не желал отказаться от своего права художника широко открытыми глазами смотреть на реальный мир. Со своей не допускающей компромисса прямотой и честностью он готов был скорее усомниться в этих критериях красоты, чем отказаться от «счастливого подмета натуры». Вот почему хотя эстетическое кредо Иванова не выходило за пределы общепринятого, в сущности, оно имело в то время совсем иной смысл, чем в устах присяжных идеологов академии.
Художник придавал большое значение «исполнительской части». Высоко ценя в искусстве замысел, идею, он не забывал подчеркнуть, какое огромное значение имеет «исполнение, то есть письмо, или, как мы привыкли говорить, механическая часть», ибо «умная и тупая в исполнении композиция» не вызовем восхищения зрителя. В связи с этим Иванов исключительно высоко ценит труд художника. «Я не могу быть без дела, я умираю без дела!» — восклицает он в одном из своих писем. И это были не пустые слова — они были выражением творческой одержимости набирающего силы гения.
ВСТРЕЧА С ГОГОЛЕМ
Сочинитель! воскликнул я невольно, — и, оставил и журнал недочитанным и чашку недопитою, побежал расплачиваться и, не дождавшися сдачи, выбежал на улицу.
Пушкин, «История села Горюхина».В 1833 году Иванову предстояла разлука с его другом: Рожалин собирался в Петербург. Иванов с нежной заботливостью относился к нему и был глубоко обеспокоен его судьбой. Он знал, что Рожалин возвращается на далекий север тяжелобольным, и предвидел опасность появления его в Петербурге, где торжествовала реакция. Но попытки Иванова отговорить своего друга от возвращения были безуспешны.
Портрет Н. В. Гоголя. 1841 год.
С дороги Рожалин прислал Иванову милое, сердечное письмо. Поскольку письмо это должно было миновать царскую цензуру, Рожалин мог откровенно писать о том, что так волновало и занимало их:
«Милый Иванов, я еще жив. А что делаю? Еду да еду со станции на станцию, какая скука! Да авось недалеко последняя, где все съедемся, только не увидимся, по моей философии… Выехал из Рима, в дороге было жарко, а теперь мороз, ливень, слякоть: каково-то в Сибири! Покупаю себе овчинный тулуп, овчинную шапку, ведь там надоть будет овцой прикинуться. Да, моя роль точно овечья — режь, не закричу. Да что обо мне? Уж я отпет. Что-то вы поделываете? Начали картину?»
Рожалин сообщал о том, что во Флоренции и в Дрездене видел картины на тему, которой занимался Иванов, что он любовался «Цецилией» Рафаэля и «Сикстинской мадонной», а в Мюнхене в последний раз поклонился Перуджино. «Уж его не увижу! Как отрадно взглянуть на него в Болоньской галерее! Кругом все почернело, заржавело, а он с Франческо Франча так и сияет, как алмазы. Где более истинного восторга, который всегда прост и серьезен?» Рожалин дружески наставлял Иванова тому самому, чему он, видимо, наставлял его и во время их совместной жизни в Риме: «Учитесь думать, не переставая ни минуты работать». Свое письмо он заключил словами: «Будьте деятельны, веселы и счастливы».
Милые, простые слова Рожалина дышат теплом и любовью. Такие речи Иванову редко доводилось слышать от своих друзей, в будущем ему так и не суждено было услышать нечто подобное. Что же касается до самого Рожалина, то судьба его была беспримерно печальна. Он возвращался в Россию с мыслью о своих друзьях, о сибирских узниках и находил в себе мужество говорить с улыбкой о Сибири как о своей неминуемой участи. Он знал, что от этой участи его спасало только безнадежное состояние здоровья. Но мог ли он предвидеть, что на другой день после своего возвращения на родину он умрет, а все его рукописи и записки, за четыре года накопленные за границей, погибнут от пожара в конторе дилижансов, откуда их не успели получить родные. Почти незамеченным, почти бесследно прошел этот обаятельный, тонкий человек через русскую культуру.
Но памятником его дружбы с Ивановым осталась дивная картина «Аполлон», созданная художником в те годы, когда Рожалин поддерживал в нем потребность думать и, думая, творить.
После отъезда Рожалина из Рима в 1834 году Иванов чувствовал себя особенно одиноким. Правда, его расположение к Лапченко не охладевало, и он заботился о нем, как о младшем брате. Но женитьба Лапченко отдалила друзей, потом он заболел, наконец ослеп и вовсе выбыл из строя художников. Его одобрительно встреченная в Петербурге «Сусанна» была его лебединой песнью. Позднее в Риме появился другой петербургский художник, с которым Иванов сошелся: Федор Иванович Иордан. Но с Иорданом его сближала только преданность каждого из них своему делу. Гравируя «Преображение» Рафаэля, Иордан целыми днями трудился над своей медной доской, и посетители его мастерской могли видеть вещественное доказательство его трудолюбия — вытоптанное его ногами углубление в полу — место, где он часами простаивал над работой. Иордан был старательным мастером, но человеком неширокого кругозора. И, конечно, ему было не под стать служить другом-советчиком Александру Иванову.
В 1838 году Иванову встретился человек, подобно которому ему еще не приходилось встречать на своем жизненном пути.
Один русский путешественник тех лет рассказывает о том, как в кафе Греко, где обычно сходились русские художники, он однажды заметил в темном уголке странного вида посетителя с падающими на лоб длинными белокурыми волосами и длинным птичьим носом. Погруженный в чтение какой-то книги (как оказалось впоследствии, Диккенса), незнакомец словно бы не замечал, что происходило вокруг него. Только позднее выяснилось, что этот молчаливый и сосредоточенный человек с ярко загоравшимися по временам глазами был Николай Васильевич Гоголь, который незадолго до того прибыл в Рим, поселился неподалеку от квартала русских художников и запросто появлялся среди них.
Гоголь был тогда на подъеме своего молодого, крепнущего дарования. Его малороссийские повести, в которых русским читателям впервые открылся мир ослепительных красок юга, народной фантазии и вместе с которыми в литературу ворвался живой народный говор и заразительно раскатистый смех, уже успели обратить на него внимание. Сыгранный на петербургской сцене «Ревизор» произвел небывало сильное впечатление, хотя тогда еще очень немногие догадывались о том, какие выводы можно и нужно сделать из этой беспощадной картины николаевской России. С появлением Гоголя открывалась новая страница русской литературы. Впрочем, молодой автор встретил далеко не единодушное признание. Мракобесы находили у него «балаганное шутовство». Злопыхателям чудилось в сатире его разрушение всех устоев, и они поспешили заклеймить автора «Ревизора» как врага России. Шум, который поднялся вокруг Гоголя, ускорил его отъезд из Петербурга за границу: в этом отъезде было нечто от поспешного бегства.
Но Гоголь не помышлял сдаваться. За границей он был поражен множеством новых впечатлений, но не переставал размышлять о России. «Ни одной строки не мог посвятить я чуждому, — признавался он впоследствии. — Непреодолимой цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я небесам лучшим, приветливее глядевшим на меня».
Погруженный в сочинение «Похождений Чичикова», Гоголь на пути в Рим провел некоторое время в Швейцарии, в местечке Веве. Жители этого городка могли видеть, как, прогуливаясь по его тихим уличкам, странный чужеземец в одиночестве предавался порывам безудержного веселья. И действительно, как было не смеяться, когда на фоне лазурного Женевского озера воображение рисовало ему уродливые призраки обитателей города N.. всех этих Чичиковых, Маниловых, Плюшкиных и Собакевичей.
Не имея первоначально в Риме ни связей, ни знакомств, Гоголь стал часто появляться в обществе русских художников. Первое впечатление его было неблагоприятным: большинство «русских питторе», как он иронически называл наших живописцев, отталкивали его отсутствием умственного развития, пошлостью нравов, низменностью интересов и мелкой корыстью. Гоголь страдал тогда от хронического безденежья и был озабочен своей будущей судьбой. Между тем самый посредственный пенсионер был лучше обеспечен, чем писатель. «Рисуют хуже моего, — жаловался Гоголь, — а получают в год 3 000 р.». Он даже собирался променять призвание писателя на положение пенсионера или на место дьячка посольской церкви, лишь бы иметь возможность подольше остаться в Риме.
Иванова познакомил с Гоголем Жуковский. Они нередко обедали вместе у Фальконе, где расторопный слуга скоро узнал все прихоти синьора Никколо и синьора Алессандро. По вечерам они часто встречались у Гоголя. При этих встречах, помимо Иванова, нередко присутствовал переписчик Гоголя Панов, путешествующий литератор В. П. Боткин и гравер Иордан. Они коротали вечера, играя в домино или в изобретенный Гоголем бостон. Иванов приносил в кармане горячие каштаны, и они запивали их местным кислым вином. Обычно Гоголь развлекал гостей пряными украинскими остротами и смешными анекдотами, рассказывать которые он был большой мастер. Иногда на него нападала задумчивость; тогда он был молчалив, и вечер проходил вяло. Федору Ивановичу Иордану казалось обидным, что «великий человек», каким уже тогда все признавали Гоголя, не удостаивает их серьезных разговоров и ведет себя, не замечая их присутствия. Со своим простодушием Иордан часто говаривал Гоголю: «Мы ведь, мастеровые, потрудившись целый день, идем к вам послушать что-нибудь веселое или назидательное, а вы молчите и желаете, чтобы мы вас занимали. Вы думаете: «Не стану расточать перед вами мои слова, вы их найдете в печати», но ваши книги дороги, и вы как будто из скупости говорите: «Покупайте их, даром не огдам».
Иванов внимательно слушал речи Гоголя, когда тот был в ударе. Он смеялся своим добрым смехом его остротам и мог в его обществе сохранять часами безмолвие. С Гоголем у него быстро установилась близость, которой они особо не скрывали, но о которой посторонние свидетели, вроде простодушного Иордана, не могли составить себе сколько-нибудь ясного представления.
В дивную южную ночь неподалеку от Рима, во Фраскати, где можно было спастись от летнего зноя, однажды собралось общество русских людей. Они сидели на открытых окнах гостиницы, локанды, любовались звездным небом, слушали плеск фонтана во дворе и говорили о России. Среди художественных богатств и роскоши южной природы многие путешественники склонны были предаваться унынию, вспоминая о том, что ожидало их на родине.
Гоголь слушал эти жалобы и приговаривал: «А может быть, все так и нужно покамест?» Видимо, этими малозначащими словами он стыдливо пытался не выдать посторонним слагавшееся в нем высокое представление о судьбах родины — и лишь после того, как в своей поэме дал волю собственной горечи, это представление вырвалось наружу в образе бойкой, необгонимой русской тройки, перед которой сторонятся другие народы и государства. И хотя в образе этом не было прямого ответа на все мучившие русских людей вопросы, в нем было заключено твердое убеждение в великом будущем России.
Между Гоголем и Ивановым было не только полное согласие в воззрениях, но была и общность творческих устремлений. Гоголь еще до поездки в Италию успел создать чудесную историческую повесть из эпохи героической борьбы родного народа с поляками— «Тараса Бульбу». Иванов замышлял, но так и не выполнил историческую картину, рисующую первые победы Москвы над поляками в 1613 году, он и за рубежом не переставал живо интересоваться русской историей. И Гоголь и Иванов были молоды, оба чувствовали в себе преизбыток сил, и самое представление о своих творческих планах сливалось в них с понятием о будущем родины.
ГОГОЛЬ И ХУДОЖНИКИ
Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека…
Гоголь, «Мертвые души»Для потомства связь Гоголя с Ивановым сохранилась лишь в их переписке, но переписка эта относится к позднейшему времени, когда между ними стали намечаться если не разногласия, то взаимное охлаждение. Писали они друг другу преимущественно по поводу докучливых житейских дел. Вот почему переписка эта при всей ее достоверности не дает возможности судить о том, чем был каждый из них для другого. В переписке можно заметить лишь отраженный свет той настоящей близости двух великих русских художников, которая быстро установилась после их знакомства.
Дружба эта прочно сохранялась многие годы, и это тем более поразительно, что различие их характеров доходило почти до полной противоположности. Гоголь все быстро схватывал своим насмешливым умом. Замеченное в жизни он имел способность довести до гиперболы, заострить почти до чудовищных форм. Иванов, неторопливый, неповоротливый, не блещущий находчивостью, неспособный к насмешке, боязливый ко всему слишком едкому, подолгу вынашивавший свою мечту, чуждый всему обыденному, обладал зато той подкупающей теплотой, той верностью взгляда и вдумчивостью, которая давала ему счастливое чувство меры.
Гоголь не мог не очаровать его своей проницательностью. Иванов восхищался его «малороссийской подметчивостью», видел в нем великого «сердцеведа». Через три года после знакомства Иванов восторженно пишет: «Это человек необыкновенный, имеющий высокий ум и верный взгляд на искусство. Как поэт он проникает глубоко, чувства человеческие он изучил и наблюдал — словом, человек самый интереснейший, какой только может представиться для знакомства. Ко всему этому он имеет доброе сердце». В 1841 году Иванов запечатлел облик своего друга в портрете, выполненном с большой теплотой.
Гоголь обретал в лице Иванова воплощение самых высоких своих представлений об искусстве. Его подкупало в нем то, что он был украшен «мудрою скромностью и смирением». Он находил у Иванова тот возвышенный строй воображения, который казался ему самой заманчивой и завидной участью художника.
Еще до поездки в Италию Гоголь обнаруживал живейший интерес к живописи. Возможно, что он посещал рисовальные классы Академии художеств. Впрочем, сведений в этой области было тогда у него еще очень мало. В год, когда весь Петербург находился под обаянием картины Брюллова, Гоголь отозвался на нее статьей, которая вошла в его «Арабески». Он писал ее в том возбуждении, которое было тогда его обычным состоянием. Статья его носит характер настоящего панегирика. Видимо, молодой автор, помимо этой картины, мало что знал в современной и в старой живописи, и потому «Последний день Помпеи» выглядит в его описании как первая картина в мире. При всем том несомненно, что статья эта была замечательным явлением русской художественной критики: до Гоголя никто у нас не говорил о живописи с такой страстностью, ни один критик не восторгался так способностью живописца передать в картине человеческие страсти, бурное движение, сверкающую светотень, блеск красок. Пускай даже у Брюллова все это и не было таким, каким описывал это Гоголь, но статья его заражала уверенностью в том, что такая картина должна появиться.
Почти одновременно со статьей о Брюллове Гоголь высказал свои взгляды на искусство в петербургской повести «Портрет». Правда, и здесь молодой автор не обошелся без романтизма. Недаром запутанный сюжет этой повести вызывал упреки. В миргородской повести похожий на губернского стряпчего хвостатый черт в ночь под рождество старался украсть с неба месяц, но кузнец Вакула после путешествия на нем в Петербург на потеху и в назиданье ребятам намалевал его на стене паперти таким гадким, что все, проходя мимо, плевали в него. Теперь в петербургской повести нечистая сила появляется в облике старика ростовщика, который при жизни соблазняет художника, мучает его после смерти и, таинственно переселившись в портрет, губит талант другого художника, случайно оказавшегося обладателем портрета. Во второй части повести Гоголя нагромождено особенно много невероятных, фантастических происшествий.
При всем том в повести превосходно передан дух собирательства старых, запыленных картин, среди которых знаток находит драгоценные шедевры; обрисован безотрадный быт художника-неудачника, униженного обывательским непониманием искусства, показаны соблазны на пути художника, падкого на дешевую славу и прибыль. В повести глубоко вскрыта природа фальшивого и льстивого светского портрета. Бедный Чертков рассеянно чертит на холсте предмет своей несбыточной мечты — головку Психеи; меж тем его настигает за этим занятием великосветская заказчица и, признав в этом предмете его мечты образ своей пустой, невзрачной дочки, властно требует от него, чтобы он согласился признать ее притязания. За это предательство его щедро осыпают золотом.
Гоголь подслушал и передал беседы художников об «изношенных формах» в искусстве, которые нравятся толпе, но губят талант; он вник и в их споры о том, что может и чего не может дать «мертвое подражание природе». Все эти частные вопросы сливаются в один страстный и жгучий вопрос: что такое подлинное искусство и как оно отличается от поддельного, пошлого, ложного искусства, идущего «от лукавого».
Пушкин создал в своих «Египетских ночах» поэму о поэзии; Гоголь в своей повести «Портрет» создал поэму о живописи. Никогда еще в русской литературе восторг перед большим искусством и отвращение к искусству ложному не были провозглашены с такою убедительностью, как в этой повести Гоголя. И с каким волнением он ведет рассказ о том высоком, очищающем душу состоянии, которое вызывает в зрителе подлинный шедевр. «Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло пред ним произведение художника. И хоть бы какое-нибудь видно было в нем желание блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславие, хотя бы мысль о том, чтобы показаться черни, — никакой, никаких…»
В Риме Гоголь подверг свою повесть «Портрет» переработке. Он ограничил фантастический элемент в повести. Значительные изменения произведены были Гоголем под впечатлением того, что он узнал в Риме. Изменилось самое представление его об истинном художнике. Прежде Гоголя привлекал тип художника — блестящего артиста, который покоряет всех своей волшебной кистью, волнует ощущением высокой красоты, художника, любимца толпы и баловня судьбы, для которого творчество — это прежде всего наслаждение, искусство которого роскошь, нега, отрада. В новом варианте «Портрета» именно с позиций такого художника подвергается критике противоположного типа художник, «человек, который копается по нескольку месяцев над картиною», «труженик, а не художник», который «знает ремесло, а не художество» и забывает, что «гений творит смело, быстро», что «художник должен принадлежать обществу, что нужно поддерживать это звание». Во всех словах укора по адресу художника-подвижника нельзя не видеть прямого намека на художника типа Александра Иванова. Но это осуждение его вложено Гоголем в уста Черткова того периода жизни, когда он сам сбился с пути и перестал быть честным и благородным служителем искусства. Не трудно догадаться, на чьей стороне были отныне симпатии самого Гоголя.
В связи с этим изменился и весь смысл рассказа Гоголя. Первоначально грех художника заключался в том, что он согласился писать портрет со старого ростовщика-антихриста. Теперь главная вина его в том, что, рисуя портрет, он в погоне за обманом зрения нарушает законы творчества. В портрете его глаза были написаны так, точно они «были вырезаны из живого человека и вставлены сюда». И в связи с этим Гоголь высказывает свои самые заветные мысли о подлинной сущности художественного творчества. «Все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника устремил его одной согласной, торжественной песнью». Именно в этом и заключается, по его убеждению, разница между «созданием творчества и бездушной копией». Подлинное творчество противополагается его извращениям. Один художник, прельстившись успехом и деньгами, перестает правдиво переносить на холст то, что он видит в живой модели, становится на путь льстивости и красивости и в конце концов погибает. Другому тоже не хватает подлинного вдохновения, и. передавая натуру бездушно, неодухотворенно, он точно так же предает искусство.
Но иное дело подлинный художник. «Исследуй, изучай все, что ни видишь, — поучает он сына, — покори всё кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья» И действительно, в поразившей всех картине на выставке «властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут, во всем постигнут закон и внутренняя сила… И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы».
В спорах, которые велись среди художников русской колонии, Гоголь все более переходил на сторону Иванова. Писатель вовсе не собирался ни «выводить» его в своей повести, ни приписывать его черт своему герою. Но знакомство с Ивановым помогло ему отстоять свое убеждение — в чем заключается призвание подлинного художника. Иванов давал Гоголю наглядное представление о художнике, посвятившем свое дарование высоким достоинствам человека.
КАРТИНЫ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ
…Народ, в котором живет чувство собственного достоинства: здесь он il popolo[4], а не чернь…
Гоголь, «Рим»
Путешественников поражали сильные страсти и яркие характеры итальянцев. Итальянцы — единственный народ современности, сохранивший употребление кинжала. Для трастеверинцев меткий удар ножом был в споре последним аргументом.
И дело тут не в одном южном темпераменте. Бесправный, нещадно притесняемый знатными, римский народ умёл отстоять свою честь. Недаром весь Рим повторял историю соблазненной князем Дория и погибшей по его вине девушки, на похоронах которой римский народ устроил настоящую демонстрацию: погребальная процессия прошла под окнами княжеского дворца, и пристыженный соблазнитель должен был покинуть город.
Посмотришь на народные праздники вроде карнавала, когда все дурачатся, — можно подумать, что римский народ — это пустой, легкомысленный народ. Между тем его не покидало сознание своей плебейской чести.
Иванов долго приглядывался к быту римского на селения. Его подкупало чувство собственного достоинства в простом народе. «К счастью, — признавался он, — итальянские молодые люди не видят примеров рабства». «Дитя самого последнего мастера говорит с человеком высокого звания, не робея и не уничижаясь». С нравами трастеверинцев он познакомился когда писал свою Марию Магдалину. Его восхищало, как мило итальянки играли на гитаре, подпевая себе или вступая в беседу с посетителями остерий. Когда наступила римская зима, подул северный ветер и побелели окрестные горы, к художнику в мастерскую приходили погреться у печки знакомые девушки. Глядя на них, он вспоминал Рафаэлеву черноглазую Форнарину. Он не мог налюбоваться их манерой держаться; его восхищало, что девушки нечаянно составляли такие красивые группы, каких не придумать самому искусному художнику.
Иванов пробовал зарисовывать в альбом особенно характерные фигуры. Но ему долгое время и в голову не приходило посвятить свои силы сценкам из быта простых людей. С детских лет Иванову внушалась мысль о том, что бытовые темы не заслуживают внимания подлинного художника: «Стоит ли труда изображать то, что ежедневно у всех перед глазами?»
Заказчики обычно требовали жанровые картинки, веселые и пустые — это мешало стать жанру настоящим, большим искусством и превратило Иванова в неисправимого противника этого рода живописи. «Ничтожная отрасль искусства», «картинки или игрушки», «шуточный жанр», «маленькие вещички для коммерции» — подобного рода выражениями пестрят его письма.
Гоголь, как и Иванов, зорко подмечал много характерного в жизни и в быту итальянцев. Он мог часами наблюдать какую-либо уличную сценку, в которой проявлялось все своеобразие итальянских нравов. Но он не хотел ограничиться впечатлениями путешественника. Нужно было найти такой угол зрения на все, что он заметил в Италии, чтобы это составило цельную картину.
И вот воображение рисует ему образ молодого римского князя. Разочарованный пустой суетливостью современного Вавилона — Парижа, он возвращается к себе на родину, тоскует при виде медленного, но неуклонного увядания ее былой славы и красоты, всматривается в жизнь римского народа и вдруг в последний день римского карнавала, словно ослепленный молнией, стоит обвороженный мелькнувшей перед ним, как неземное видение, роскошной красотой альбанской девушки Аннунциаты. Молодой князь покидает позицию праздного наблюдателя, отправляется в окраинный квартал, где ютится беднота, где обитают смешные и болтливые синьоры Сусанна и Тетта, — на этом рассказ обрывается. Гоголь не нашел исхода для своего героя, но он сумел сделать несколько дивных зарисовок.
Правда, в сверкающем образе Аннунциаты с ее белой как снег кожей, черной как смола косой, с ее античным профилем камеи и гибким движением пантеры есть нечто превыспренное, чрезмерное, патетическое, брюлловское. Зато с каким сочным юмором описаны и народное веселье в дни карнавала с его чудовищными масками и смешные сценки на окраине города, где из окна всегда выглядывают любопытные, праздные женщины, где в воздухе раздается то бойкая шутка, то веселая перебранка.
Но самое замечательное в повести — это самый образ Рима. Недаром отрывок, который сначала назван был по имени альбанки Аннунциаты, вошел в историю под названием «Рим». Город показан в трех своих главных аспектах. Он встречает путешественника красавицей площадей Пьяцца дель Пополо и городским садом Монте Пинчио, шумной улицей Корсо и древним Брамантовским родовым дворцом с его длинным рядом залов, в которых поверх следов былой роскоши и тонкого вкуса легли признаки запустения и разрушения. Другой Рим — это тот, с которым знакомится юноша, когда он начинает обход его темных и неприбранных переулков, тесно сдавленных высокими дворцами, с древними арками, вделанными в городские стены, где из-под нищеты и одичания перед глазами наблюдателя постепенно выступает его особая красота и благородство. И, наконец, в завершающей концовке повести, перекликающейся с ее ослепительным зачином, глазам кинувшегося на поиски красавицы молодого князя предстоит чудная сияющая панорама «Вечного города».
«Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один из другого выходили дома, крыши, статуи, воздушные террасы и галереи; там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью, здесь и солнце, и блеск, и черная зелень дубов, и куполообразные пинии, и далекие прозрачные горы вдали… Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетания всех планов этой картины».
Неизвестно, пришлось ли Гоголю познакомить Иванова с текстом своей незаконченной повести. Но вряд ли он удержался от того, чтобы не поделиться с ним своим восхищением красотой и красочностью народной жизни Италии. И Иванов, со своей стороны, конечно, вспоминал «подметчивость» своего друга, когда по предложению начальства ему пришлось участвовать в создании подносного альбома для гостившего в Риме наследника и он по примеру других пенсионеров-художников взялся за акварельный рисунок на жанровую тему.
Не одному Иванову запомнился широко распространенный в Италии народный обычай в час наступления ночи читать или петь молитву «Ave Maria».
Он наблюдал подобные сцены поблизости от своей мастерской во дворце Боргезе на набережной Рипетта, откуда открывается вид на собор св. Петра и замок св. Ангела, и представил такую сцену в своей первой жанровой акварели.
На каменной набережной, на углу дворца, перед мадонной собралась толпа. Миловидные черноглазые девушки с огромными гребнями в волосах, с косынками, крест-накрест повязанными на груди, почти все на одно лицо. Из толпы выделяется фигура молодого человека в жилете, упавшего на одно колено, со скрещенными на груди руками. Он припал к углу дома, весь погруженный в свои мысли; он дает жаркую клятву, обет. Пожилая женщина в накинутом на голову платке — видимо, его мать, — поддерживаемая его младшим братом, подалась вперед с видом живейшего участия к тому, что происходит с ним. Два пятнистых пса, лежа на мостовой, повернули головы и также внимательно рассматривают его. Рядом стоит старый, седой регент, окруженный детьми, которые при свете огарка по нотам поют. Собственно, поют только два малыша; тот, который стоит сзади, всего лишь заглядывает в ноты; маленькая девочка пугливо обхватила за руку старика; другая с ребенком на руках отвернулась от мадонны и внимательно смотрит на поющих ребят. За спиной регента вокруг освещенных свечою нот сгрудилось большинство остальных девушек; одна держит ноты; другая, прикрывая рукою свечу, освещает их; все прочие поют, заглядывая в ноты через плечи подруг. Женщина с пустой корзиной под мышкой стоит рядом с ними. Немного дальше еще две другие, только что подошедшие, обнявшиеся девушки. Среди них по правую руку от регента выделяются две подруги; одна из них, особенно миловидная, возвела глаза к мадонне: видимо, у ней, как и у молодого человека, своя забота на душе. Другая внимательно, дружески держит ее за руку.
Действие происходит на пустынной набережной, на повороте реки. Вдали на фоне ночного неба вычерчиваются силуэты исторических памятников: стройный купол Петра, увенчанный статуей трубящего архангела, мавзолей Адриана, несколько голых деревьев, вечнозеленые зонтики пиний. Толпа озарена светом старинного фонаря, висящего перед мадонной. Над горизонтом поднялась луна, ее холодные отсветы падают на предметы, и от них по мостовой тянутся длинные тени. Фонарь горит, как луна, луна — подобно фонарю, зажженному на небе. Оба источника света расположены по углам картины, соответственно этому и купол собора св. Петра «рифмует» со столбом балюстрады под фонарем. Вся толпа, как обручем, стянута великолепно найденным силуэтом Рима. Нужно было внимательно всматриваться в него, как в лицо живого существа, чтобы найти и обрисовать этот выразительный профиль. Панорама города, увенчивая сценку, характеризует жизнь всего города, совсем как заключительная картина в римской повести Гоголя.
«Девочка-альбанка в дверях». Около 1840 года.
Это первое жанровое произведение Иванова заслуживает ему в русском искусстве почетное место рядом с Венециановым и Федотовым. Иванову удалось заглянуть во внутренний мир римского народа, понять его настроения, выразить чистоту его помыслов, глубину его переживаний. Такую фигуру, как упавший на колени юноша, мог создать только худож. ник, который смотрел на простых людей не свысока, как рассеянный путешественник, но видел в них своих братьев. Ни один жанрист тех лет не создавал равных по глубине чувства картин из народной жизни Италии. Хотя акварель эта возникла по прихоти заказчиков, она не была случайным эпизодом в творческой биографии художника.
Сценка на берегу Тибра помогала ему при работе над большой картиной представить себе многолюдную толпу на берегу Иордана, толпу, объединенную одним чувством, ожиданием простыми людьми близкого избавления.
Уже гораздо позднее Герцен в «Былом и думах» вспоминает свои впечатления от сцены, однажды за* меченной им в окрестностях Рима: «Мы сели на мулов: по дороге из Фраскати в Рим надобно было проезжать небольшою деревенькой, кое-где уже горели огоньки, все было тихо, копыта мулов звонко постукивали по камню, свежий и несколько сырой ветер подувал с Апеннин. При выезде из деревни, в нише, стояла небольшая мадонна, перед нею горел фонарь; крестьянские девушки, шедшие с работы, покрытые своим белым убрусом на голове, опустились на колена и запели молитву: к ним присоединились шедшие мимо нищие пифферари; я был глубоко потрясен, глубоко тронут. Мы посмотрели друг на друга… и тихим шагом поехали к остерии, где нас ждала коляска».
В благодарность за внимание и заступничество перед «сильными мира сего» Иванов поднес В. А. Жуковскому три рисунка, из которых один представлял собой жанровую сценку. Художник и на этот раз отнесся к своей задаче с большой серьезностью.
Щеголевато одетый долговязый деревенский парень с вьющимися бачками, в высокой шляпе, с накинутым на плечи коричневым платом и кожаными крагами на ногах — это главное действующее лицо. На его деньги покупается серебряное колечко для невесты. Но он стоит чуть поодаль, сутулясь, даже словно робея. Его невеста, молоденькая, изящная альбанка с белым крахмальным платком на голове и коралловыми бусами на шее, вся обратилась во внимание. С полуоткрытым ртом она следит за тем, как из-за стекла уличной витрины достается приглянувшееся ей украшение. Судя по ее растопыренным от изумления пальцам, можно догадаться, что девушка эта не часто бывает в городе; видно, драгоценности и роскошные гребни всегда казались ей недостижимой роскошью — вот почему она, позабыв обо всем на свете, следит за движением рук продавца. Продавец повернут к зрителю спиной, фигура его внушительна. Весь он воплощение степенства и сознания собственного достоинства. У него коренастый, чуть грузный, но не лишенный некоторой гибкости и намека на талию стан, и в отличие от жениха он прочно стоит на земле. На нем длинный, выгоревший от солнца сюртук и блестящий, чуть помятый цилиндр, из-за которого выглядывает седая щетина волос и оттопыренное ухо. Движения его неторопливы и самоуверенны. Надо думать, не один год он провел в своей лавочке. Четвертый персонаж — это мать невесты, уже не молодая, но еще красивая женщина.
Отпускать свою дочку в город, хотя бы с ее суженым, она считает неприличным и потому всюду следует за ней по пятам. Все, что ни видит она у ювелира, не представляет для нее большой диковинки. Она стоит за спиной своей дочки со сложенными руками, которые должны придать ей вид степенства и важности, корпусом своим она повернута туда же, куда смотрит и невеста, но глаза с едва заметной улыбкой она скосила на жениха.
В акварели Иванова передано интригующее мгновение. Об исходе его можно лишь догадываться. Зато с неподражаемой точностью обрисовано каждое из действующих лиц. Художник столкнул их таким образом, что зритель при помощи их «сличения и сравнения» угадывает особенности каждого из них. Деревенский щеголь рядом с коренастым продавцом выглядит еще более долговязым, а тот, в свою очередь, кажется не лишенным гибкости в сравнении с угловатым юношей. Конечно, мать уже потеряла стройность стана, зато в ней больше темперамента и кокетства, чем в ее простодушной дочке.
Иванов вовсе не думал иллюстрировать повесть Гоголя об Аннунциате. С гордой красавицей из Альбано невеста в акварели Иванова имеет мало общего. Но мир на окраинах Рима, где вся жизнь проходит на улице, где даже мать обычно разговаривает с дочерью не иначе, как высунувшись из окна, где с утра из окон выглядывают синьора Грация, надевая юбку, или синьора Лучия, расчесывая волосы, где всем известно, кто купил себе платок и у кого к обеду будет рыба, кто любовником у Барбаруччи и какой капуцин лучше исповедует, — этот живой, красочный мир римской окраины в повести Гоголя своей живостью и веселостью соприкасается с акварелью Иванова. Сколько раз русские художники-пенсионеры в Риме брались за сходные шуточные темы! Лишь одному Иванову удалось даже в рамках бытового жанра быть таким же глубоким, каким он был и в исторической живописи.
В октябре после сбора винограда в Риме и в окрестностях города несколько дней царит веселое, праздничное настроение. По городу разъезжают коляски; в них сидят разряженные римские красавицы и молодые люди; повсюду звучит тамбурин; на улицах исполняется тартарелла. В народных праздниках звучали отзвуки древнего италийского почитания Вакха.
В них проявлялось умение римлян повеселиться, их изобретательность и пылкий южный темперамент. В октябрьских праздниках нередко принимали участие и чужеземцы. Смешиваясь с толпой и перебрасываясь с местными жителями острыми словечками, они любовались тем, как в городе после нестерпимого летнего зноя пробуждается жизнь в первые прохладные дни осени.
На тему «Октябрьские праздники» Ивановым было задумано три акварели. Одна из них — «У Монте Тестаччо». Здесь действие происходит на окраине города близ знаменитой горы черепков глиняной посуды. Прямо на улице расставлены столы, за которыми пирует римское простонародье. Перед столами происходит такая сценка. Низкорослый горбун со сжатыми кулаками стремительно бежит навстречу женщине, а она, грациозно изогнувшись, широко разворачивает в руках своих ленту. Перед ними три молодых человека: один, приподняв цилиндр, вытирает со лба пот, видимо запыхавшись после только что исполненного танца. Другой, засунув все десять пальцев в рот, оглушительно свистит. Третий протягивает руки и собирается поймать убежавшую от него девушку, которая словно ищет защиты у своих подруг, стоящих с бубнами в тени портика. В сущности, изображена типичная ссора в духе трастеверинцев. Но у Иванова столкновение, способное перейти в драку, поглощается всесильной стихийной пляской. Недаром ритмическое расположение фигур девушек и юношей передает на языке графики общий строй народного веселья.
На втором листе, выполненном Ивановым, изображен римский танец «Воздыханье». Состоит этот танец в том, что одна девушка становится на колени, а другая спрашивает ее: «Кто украл у тебя сердце?» Если девушка указывает на кого-нибудь из зрителей, то тот должен пуститься с ней в пляску. В акварели Иванова изображен момент, когда девушка обратила лицо к долговязому рыжему англичанину, которого уже взяла под руку другая девушка и ведет к ней навстречу. Англичанин сопротивляется, двое мужчин подталкивают его. Все с участием наблюдают забавную сценку. Молодые женщины озадачены выбором их подруги: шепчутся друг с другом, одна торопливо убегает. Толстая женщина, расставив руки, забавно выражает свое удивление и озабоченность. Представители знатного общества, мужчины в цилиндрах, женщины в богатых нарядах и среди них священник, — все пытаются заставить чопорного англичанина подчиниться правилам игры. Акварель пронизана солнечным светом, овеяна прозрачным осенним воздухом. Женщины представлены в сиреневых, желтых и розовых платьях. На лицах положены красные тени.
Иссиня-черные сюртуки и цилиндры мужчин резко перебивают эту светлую гамму. Золотистый платок повернутой спиной женщины выделяется красивым узором.
В акварели «У Понте Молле» женщины собираются танцевать: одна из сидящих за столом передает другой бубен, вторая, отвернувшись, поправляет завязку на чулке. Парни почти все отвернулись от женщин и, собравшись в кружок, шушукаются. Поодаль от стола с угощением стоит группа немецких художников. Совсем вдали виднеется открытый экипаж, и в нем — мужчины в цилиндрах. Действие происходит на фоне ворот Понте Молле, перед въездом в город, где происходили обычно встречи вновь прибывших и проводы отъезжающих. Вдали светлым пятном вырисовывается собор св. Петра. Фигуры женщин как бы составляют часть хоровода; их протянутые руки образуют цепочку; в них много ритма и грации. В их движении есть нечто, напоминающее изящных муз, составляющих хоровод. Впрочем, художник не побоялся изобразить одну из муз поднявшей юбку и поправляющей себе чулок. Повторный ритм белых цилиндров женщин, смыкаясь с ритмом черных цилиндров мужчин, составляет один ряд. Приглашение к танцу разрешается музыкальной повторностью форм; даже застывшая группа художников в глубине невольно включается в общее веселье. В композиции листа есть непринужденность и искрящееся остроумие, которые составляют сущность народного римского праздника.
«Октябрьские праздники» не похожи ни на жанры Венецианова со свойственной им лирической ноткой, ни на жанры его учеников, в которых преобладало пристальное и внимательное разглядывание обстановки быта. В отличие от сепий Федотова в них нет ни развитого повествования, ни всепроникающей насмешливости. В жанровых акварелях Иванова нет также пикантной нарядности и беспечной красивости «Сладких вод» Брюллова.
Акварели Иванова отличаются благородной простотой и сдержанностью ферм и, что самое главное, эпическим чувством в отношении к народной жизни. В широкой декоративной манере исполнения «Октябрьских праздников» сказались венецианские впечатления Иванова и, в частности, воспоминание о Веронезе. Они проявились и в рельефном расположении фигур на фоне архитектуры. Стремление передать массовые сцены из народной жизни сочеталось у Иванова с внимательным отношением к отдельному человеку. Бытовые картины перерастают у него в подобие огромной стенописи, какой мастера Возрождения украшали здания, и это выделяет Иванова из числа всех русских и зарубежных жанристов того времени.
МЫСЛЬ О БОЛЬШОЙ КАРТИНЕ
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристал
Еще не ясно различал.
Пушкин, «Евгений Онегин».Успех в Петербурге «Явления Христа Марии Магдалине» упрочил репутацию молодого художника. Но сам он относился к успеху картины с неподдельной скромностью. «Кто мог бы думать, — писал он, — что моя картина «Иисус с Магдалиной» производила такой гром! Сколько я знаю, она есть начаток понятия о чем-то порядочном».
Главные свои силы художник намеревался применить на создание большой исторической картины. Ради нее он готов был оставаться на чужбине до тех пор, пока не выполнит своей задачи. Он понимал, что только большой по размеру, значительной по теме, сложной по выполнению картиной он сможет оправдать оказанные ему «милости». Он видел успехи на этом поприще своих соперников Брюллова и Бруни и чувствовал в себе силы вступить с ними в соревнование. Но самое главное — было сознание, что только в таком произведении он сможет полностью проявить все свои сложившиеся художественные идеалы, свои понятия о жизни, свое крепнущее мастерство живописца. Он уже чувствовал в себе избыток творческих сил, но долгое время не мог найти своей темы.
В первые годы пребывания в Италии Иванов намеревался написать картину на тему из русской истории — Авраамий Палицын перед стенами Троицкой лавры в 1613 году; эта народная тема способна была его взволновать, но он понимал, что браться за русскую тему вдали от родины было невозможно. Тогда же Иванов собирался писать картину на библейскую тему — «Братья Иосифа находят чашу в мешке Веньямина», множество разных по характеру и выражению фигур, глубоко драматический, трогательный момент. Но он отложил это намерение, так как эпизод не выходил за тесные границы семейной сцены. Еще ранее он отказался от картины «Иосиф и жена Пентефрия».
Еще в 1832–1833 годах, будучи поглощен работой над «Аполлоном» и приступая к «Явлению Христа Марии Магдалине», он не перестает думать о своей «большой картине». Вскоре он начинает более открыто говорить о своем намерении. Но долгое время он очень смутно представлял себе, во что должен будет вылиться его труд.
Своим «высоким покровителям», от которых зависела судьба его темы, Иванову приходилось давать ей такое обоснование, которое не внушало бы на этот счет никаких подозрений. В письме к Григоровичу 1834 года Иванов сообщает ему, что он «заметил» в евангельском тексте «минуту», особенно значительную для исторической картины: появление на берегу Иорлана Христа, в котором народ, крещаемый Иоанном, готов увидеть своего Спасителя, Мессию.
В то время картина Брюллова гремела по Италии. Бруни целиком погружен был в работу над своим «Медным змием». Вполне естественно, что, принимаясь за новую картину, Иванов противопоставляет ее работам своих соперников. «Мирный предмет мой, — пишет он, — станет выше изображения пожара и язвы». «Сочинение мое весьма трудное по причине непылких разительных страстей человека, кон с удобностью оживляют действие и объясняют предмет: здесь все должно быть тихо и выразительно».
Он подчеркивает, что сюжет этот может «доставить разнообразие и наготу», подразумевая под этим разнообразие типов людей, которое ему предстояло включить в картину, и повод для изображения обнаженных фигур. Иванов говорит и о «противоположности выражений» в лицах. Для молодого художника имело значение и то, что до него ни один большой мастер старой и современной школы этой темы не разрабатывал.
Естественно, что в обоснование темы «Явление Мессии» Иванов приводил такие доводы, которые способны были убедить и академические авторитеты и его покровителей из общества.
Уже однажды Иванов чуть не поплатился за то, что картина на библейскую тему показалась намеком на современность, он и на этот раз постарался связать далекое прошлое с настоящим. Образ пророка как вождя народа играл большую роль в поэзии декабристов и близких к ним поэтов: «Иди к народу, мой пророк! Вещай, труби слова Иеговы[6]!» — взывает Федор Глинка в своем стихотворении «Призвание Исайи». В сущности, к этому кругу поэтических образов примыкает и замечательный пушкинский «Пророк».
В тетради Иванова, которую он озаглавил «Выписки из Библии, относительно к чувствам в моей картине», среди выдержек из старинных текстов, исторических археологических и этнографических справок имеются записи, которые пряма указывают на то, что в своем понимании пророка Иванов примыкал к этой поэтической традиции. «Иоанн, ~ отмечает Иванов, — бросился порицать фарисеев и книжников при всем народе. Смятение этих подлецов, удивление народа твердости Иоанновой и воспламенение его духом целого общества». Само собою разумеется, писать обо всем этом в Петербург не было никакой возможности. Мало того, чтобы завоевать себе право заниматься своей темой, необходимо было найти такую ситуацию, при которой мятежный призыв пророка не исключал возможности мирного-разрешения драматического конфликта. Вот почему Иванов считал настоящей находкой, что «заметил» в евангелии от Иоанна текст, в котором речь идет о том, как на берегу Иордана Иоанн Предтеча, пробудив в народе возмущение и гнев против его поработителей, провозглашает о том, что уже появился его избавитель, Мессия. Момент этот, по убеждению Иванова, имел всеобщее значение, он называет его «всемирным». Вместе с тем он настойчиво стремится проверить себя и спрашивает мнение по этому поводу своих товарищей и знакомых. Он обнаруживает необычайное для него желание разгласить всем и всюду о задуманной работе. В альбоме для памяти он записывает: «Так как мой сюжет всемирный, то прошу всех и каждого им заняться». Видимо, ему мерещилось совместное творчество многих людей. Свою роль он готов был свести к роли выполнителя их замысла.
Однако планы молодого художника не находили себе поддержки. Отец не мог уразуметь самого намерения его дать свое переосмысление евангелия. Он не одобрял и того, что Александр, в сущности, шел вразрез букве евангельского текста. Замысел Иванова не встретил одобрения и у «высоких покровителей». В. И. Григорович называл его «пустой мечтой».
Неодобрительно отнеслось начальство и к намерению Иванова совершить путешествие в Палестину, чтобы представить себе местный колорит евангельских событий. В академической практике давно уже укоренилось мнение, что знакомство с «местностью» для исторического живописца необязательно. И на этот раз не обошлось без ссылки на общепризнанные авторитеты: Иванову напомнили, что Рафаэль в Палестине не бывал, а между тем в исторической живописи преуспел. Иванов пробовал отвечать ссылками на другие примеры, но его не слушали.
Ничто не могло поколебать решимости Иванова взяться за большую картину и довести ее до конца. То был огромный, почти непосильный для одного человека труд, размеры которого невозможно было предвидеть, о сроках выполнения которого было страшно подумать.
Как и в других случаях, Иванову не удалось сразу представить себе общий характер своего замысла. Ему приходилось вырабатывать его постепенно, в неустанных усилиях и в борьбе с сомнениями и неудачами двигаться к своей конечной цели. Он уже чувствовал свою идею всем своим существом, но видел ее словно затянутой густой пеленой. Не в силах предугадать, что произойдет с ней, когда в процессе упорного труда с нее будет снят закрывающий ее покров, Иванов всегда твердо знал, какие исправления необходимо внести в первоначальный набросок для того, чтобы он удовлетворял требованиям жизненности и правды. Весь ход работы Иванова над картиной — это беспрерывная цепь исканий, поправок, усовершенствований, исправлений, дополнений, уточнений, уяснений того, что первоначально было им лишь смутно намечено. Вот почему работа художника представляет собой замечательное зрелище постепенного вызревания поэтического ядра, воплощение в совершенной форме первоначально бесформенной художественной идеи. Часто художнику приходилось сворачивать со своего пути, отступать, возвращаться вспять. Но целеустремленность Иванова не подлежит сомнению, осмысленность его исканий составляет драгоценное качество творческой истории его большой картины.
Еще прежде, чем работа над «Явлением Мессии» получила утверждение начальством, Иванов выполняет на эту тему множество эскизов и показывает их местным римским авторитетам: Торвальдсену, Камуччини, Овербеку и Корнелиусу. При посылке кальки в Петербург в 1836 году Иванов пишет: «Имею честь представить моим покровителям еще эскиз другой предположенной картины моей «Явление в мир Мессии». Сей предмет, занимавший меня с давнего времени, сделался единственною моею мыслию и надеждой, и я чувствую в себе непреодолимое желание привести оный в исполнение».
Отцу он признавался: «Я бы хотел, чтобы без рассказов были понятны мысли, в нем помещенные». Он говорит о том, что решил представить Иоанна в мантии грубой, как у пророков израильских. Рядом с Иоанном стоят апостолы Андрей и Иоанн Богослов, типы которых заимствованы у Леонардо. В противоположность «живому чувству» этих учеников Иоанна, четвертый, Нафанаил, характеризован Ивановым как скептик. За спиной учеников представлен выглядывающий из воды дед со своими внуками. Перед Иоанном сидят сборщики податей, из которых один полон раскаяния, другой оглянулся на голос Иоанна; далее путник и кающийся в растрепанной рубахе. Чтобы внести в картину разнообразие, художник ввел еще фигуру женщины, которой две другие пожилые помогают раздеваться. Рядом с ними сын, услышав слова Иоанна, поднимает своего дряхлого отца. Молодой человек, надевающий рубаху, готов вскочить, другой, в национальном костюме, имеет вид «вдохновенного». За ними фарисеи: один с любопытством взирает на Иисуса, другой мирно улыбается его словам, третий стоит с окаменелым сердцем, четвертый готов поверить.
Первоначально Иванов намеревался дать преобладание в людях состоянию покаяния и восторга. Позднее он представил себе более сложные и разнообразные чувства свидетелей появления Мессии. Вместе с этим драматическое действие будущей картины все более усложняется.
В тетрадке своей Иванов записывает: «Нужно представить в моей картине лица всяких скорбящих и безутешных». Он отмечает, что эта скорбь происходила от разврата и угнетения правительственных лиц, от подлостей, совершаемых царями иудейскими, которые «подласкивались» к римлянам, чтобы «снискать подтверждения своего на трон из одного честолюбия». Рядом с этими «скорбящими и безутешными» Иванов собирался представить «страх и робость от римлян и проглядывающие чувства: желание свободы и независимости». В результате картина, которая по первоначальной мысли Иванова должна была раскрывать смысл священного писания, перерастала в историческую картину из жизни народа. Далекое прошлое смыкалось с самой жгучей современностью. В сцене, происходящей на берегу Иордана, Иванову предстояло выразить многое из того жизненного опыта, который им был накоплен еще в Петербурге, в «стесненной монархии» Николая.
В ПОИСКАХ ГЕРОЕВ
И в самом деле, каких нет лиц на свете!
Гоголь, черновик «Мертвых душ».По мере того как выяснялись общие очертания будущей картины, для Иванова все настоятельней становилась потребность в этюдах с натуры. Товарищи удивлялись тому, что он уделял им столько внимания. Но Иванов не желал от них отказаться. «Без этюдов никак нельзя» — это было его любимое изречение.
Уже в 1839 году Иванов сообщает о том, что им выполнено двести двадцать три этюда к картине. Позднее он насчитывает их около трехсот. В течение последующего десятилетия их общее число достигло шестисот.
В Риме, неподалеку от квартала художников, на знаменитой Испанской лестнице можно было видеть множество людей различного возраста и внешнего облика, которые сидели и лежали на ступенях лестницы, грелись на солнышке и в сладком ничегонеделании дожидались своих клиентов: здесь были старики с огромными бородами, мужчины атлетического сложения, красавицы женщины, кудрявые мальчишки и кудрявые девчонки. Это были профессиональные натурщики, нечто вроде странствующих актеров различных амплуа. Они умели принять нужную эффектную позу, напустить на себя то выражение, которое требовалось художнику. Но, кроме этой позы и этой напускной экспрессии, от них трудно было добиться чего-нибудь другого.
В мастерской художника они как бы теряли свою биографию, весь фон своей душевной жизни, и оттого в картинах выглядели как бездушные статисты.
Иванову приходилось пользоваться натурщиками, но самую значительную часть работы он переносил за пределы мастерской. Он появлялся повсюду, где можно было найти скопление народа, всматривался в лица и искал тех людей, которые могли ему пригодиться для картины.
В Риме в годы папского владычества евреям разрешалось жить только неподалеку от Капитолия. В страшной тесноте и грязи ютилась здесь беднота. На тесных улицах сушилось тряпье, из окон прямо на улицу выливались помои, и потому прохожим даже в ясные дни приходилось держать над головой зонты. Рынок был завален так называемыми «плодами моря», издававшими страшное зловоние. Тут же высились величественные остатки древнеримского портика Октавии. Здесь можно было встретить людей, всем обликом своим, осанкой и выражением лиц переносящих вас в седую старину израильских царей и иудейских патриархов.
В поисках моделей Иванов становится усердным посетителем еврейского квартала. Он выискивал на улицах кудрявых черноглазых мальчиков и зазывал их к себе в мастерскую. Он посещал синагоги, где можно было видеть седых длиннобородых стариков и вступал с ними в долгие разговоры, обнаруживая такую начитанность в библейских текстах, что те готовы были признать его своим. В летнее время Иванов посещал приморские города, где во время купанья можно было наблюдать еврейских негоциантов и представить себе, как совершалось омовение на Иордане.
В альбомах Иванова появляется множество зарисовок еврейских типов с натуры и по памяти. Они испещряются адресами лиц, которых он приглашал к себе в мастерскую. Но поиски нужных типов увенчивались успехом лишь после долгих и настойчивых усилий. Иногда за один или два года удавалось найти лишь одного человека, которому можно было поручить исполнять в картине ту или другую роль.
Однажды по дороге из Генуи в Милан в карету, в которой ехал Иванов, влез седой чиновник с огрубелыми чертами лица и признаками довольства. Художник был поражен, увидав в этом живом человеке воплощение искомого им «идеала мытарства» Сборщики податей, мытарей, должны были найти себе место в его картине.
Уже в работе над «Аполлоном» и «Явлением Христа Марии Магдалине» Иванов выработал свою систему. Эта система получила дальнейшее развитие, когда он приступил к «Явлению Мессии». С первого взгляда можно подумать, что сущность ее сводится к соединению в одном образе картины черт, заимствованных у разных лиц. Между тем Иванов не забывал, что человека нельзя рассматривать как сумму признаков его характера или черт его внешности. Он не упускал из виду неповторимой целостности человеческой личности и потому не пытался создать своих героев путем сложения отдельных разрозненных черт. Это не исключало того, что он подвергал долгому искусу свою модель, прежде чем возникал тот образ, который мог найти себе доступ в картину.
Иванов начинал с внимательного изучения внешнего облика, анатомического строения тела или лица модели. Нужно было прежде всего узнать и рассмотреть человека, а потом уже решить, чем он может стать в картине. По примеру мастеров Возрождения он совлекал со своих героев одежды, чтобы яснее представить себе их позу и движение. Иванов был подобен романисту, который должен сначала уяснить себе сухую биографическую канву жизни героя и лишь после этого в состоянии решить вопрос о том, как включить этого героя в ткань замышляемого романа.
«Явление Мессии». 1837–1857 годы.
«Голова Иоанна Крестителя».
«Голова фарисея в чалме». 1840-е годы.
«Голова раба». 1840-е годы.
Не ограничиваясь этим изучением модели, Иванов надевает на нее «исторический костюм» и тем приближает ее облик к старине, то меняет характер волос и растительности на лице, то заостряет черты, усиливает в них выражение в желанном ему направлении. Часто он сопоставлял на одном холсте две фигуры или две головы. Он называл это методом «сличения и сравнения». Иногда это два будущих собеседника в картине. Иногда живой человек оказывался сопоставленным со слепком прославленной античной статуи. Иногда сопоставлялись образы родственные, иногда, наоборот, контрастные, и тогда особенно резко выступали индивидуальные особенности каждого из них.
Можно представить себе, как в тиши своей огромной мастерской, окружив себя множеством различных этюдов одного и того же персонажа, всматриваясь в лица, в которых в результате настойчивого, упорного труда или умело использованной случайности выступали то одни, то другие черты, художник как бы прислушивался к их речам, как бы сам вступал с ними в беседу, вдумывался в смысл каждого из этих лиц и, не жалея затраченных сил и жертвуя многими достижениями, выбирал среди них лишь то, что могло без ущерба для целого войти в постепенно слагавшуюся у него на глазах картину.
В результате своих многолетних трудов Иванов создает обширную галерею людей, различных по своему общественному положению, по возрасту и по характеру. Здесь и люди состоятельные, изнеженные, и — жалкие, бедные, убогие; гордые своим положением представители высших классов и люди подневольные, зависимые, приниженные; суровые воины и утомленные странствиями странники; дряхлые старики и старики, полные еще сил и крепости духа; мужчины во цвете лет, юноши, женщины; люди, ищущие и жаждущие истины; люди, сильные духом, и — сломленной воли; мудрые и простодушные; люди, способные быстро воспламеняться, и люди вдумчивые, сдержанные, доверчивые и сомневающиеся; люди решительного действия и созерцательные; любопытствующие и равнодушные; добродушные, приветливые и озлобленные, ожесточенные.
Кого бы Иванов ни изображал, какой бы отпечаток страстей или страданий, немощи или волнений ни был на лицах, сквозь эти черты неизменно проглядывает представление художника о норме, о естественности, о красоте человека. Вот почему при всем разнообразии галереи Иванова все его люди — добрые и злые, красивые и безобразные, спокойные и взволнованные — несут на себе отпечаток высокого строя мыслей их создателя.
Образ раба стоил Иванову напряженных исканий, как ни один другой персонаж его картины. То это худой, изможденный мужчина с костлявым острым носом и большими черными глазами, с лохматыми, падающими на лоб волосами, восторженно взирающий на пророка, — можно догадаться, что он уже увидел свое близкое освобождение и поверил в него. То это забитое, одичавшее существо — смотрит исподлобья, брови его нахмурены, глаз не видно, зато подчеркнуты широко раскрытые толстые губы. Если первый уже встрепенулся, поднялся, выпрямился и загорелся, то второй еще ничего не увидел, из уст его может раздаться только брань; нетрудно догадаться, что он сильно сутулится, словно прижатый к земле.
В последующих этюдах заметно, как развивается образ «узревшего» человека. Те же спутанные на голове волосы, длинный нос и обращенный кверху взгляд. Глаза блестят, брови чуть приподняты, он смотрит с трогательной надеждой и верой, простое и грубое лицо светится теплотой. Иванов сближает образ раба с знаменитой античной статуей точильщика, который сидит на земле и с жалостным выражением поднял кверху голову. Затем в повороте раба он рисует голову Лаокоона и делает маслом этюды со слепков «Танцующего фавна» и «Кентавра». Наконец он обращается к знаменитой римской натурщице Мариучче. Он предлагает ей встать в такую позу и принять такое выражение, будто она вступила в пререкания со своим воображаемым противником. В поднятых уголках ее губ отпечатлелось одно из тех переживаний, которое должно было войти в образ раба.
Но вот возникает новый вариант. Немолодой, седеющий мужчина; у него впалые щеки, коротко подстриженные усы опущены вниз — выражение усталости. Эта усталость должна быть присуща рабу, быть может, образованному человеку, проданному в рабство.
Наконец где-то на окраине города, в бедной лачуге ремесленника, Иванов находит седенького, щуплого и жалкого старичка. Все черты лица его словно изломаны и искалечены тяжелой жизнью. Следы многолетних лишений густым слоем легли на его облик. Лоб мелко изборожден складками, запавшие губы беззубого рта плотно сжаты, кожа на подбородке стянута, щеки провалились. Видно, обитателю современного Рима жилось не слаще, чем его далеким предкам, невольникам римских патрициев. Но художника не удовлетворила и эта находка. Нужен был персонаж, который мог бы войти в историческую картину.
И вот он принимается за новый этюд. Лохматая голова, на устах насмешливая улыбка. С головы его словно сдернут лохматый парик, и открылся гладко обритый синий череп. На лбу выжжено клеймо, правый глаз закрыт, выбиты два передних зуба, толстый канат на шее завязан огромным узлом — вот предел человеческого унижения! Раб не в силах удержать накипевшей в душе обиды и горечи. Но взыскательного мастера и это решение не удовлетворило. И вот мы видим те же черты, тот же поворот, ту же густую черную шапку волос. Но сильнее опущены губы, суровым огнем горят черные глаза под нависшими черными бровями. Этот раб не способен улыбаться, он помнит страдания неволи; и в самой суровости его взгляда сквозит уверенность, какого возмездия заслуживают угнетатели. В поисках правды Иванов неожиданно пришел к образу, который невозможно было включать прямо в картину. Он попытался зажечь блеском его глаза, чтобы исчезла с лица пугающая суровость.
Образ раба потребовал от художника мучительных усилий. Их следы дают о себе знать в фигуре, вошедшей в картину, и ослабляют силу ее воздействия.
Много исканий потребовал также и образ Андрея Первозванного — первого среди апостолов, последовавшего за Мессией. В одном из этюдов Иванов рисует лицо старого рыбака или крестьянина, истерзанное, измученное, и всю его лысую голову, на которой торчат редкие седые волосы, беспокойно вьются пряди усов и бороды. Ухо открыто. Голая шея жилиста. Брови нахмурены. Жилы надулись на висках. Взгляд красноречиво говорит, какой огромный груз пережитого Андрей способен сложить к ногам того, за кем решился последовать.
Но Иванова не удовлетворил этот образ. Путем «сличений и сравнений» предшествующих этюдов он находит синтетический образ. Андрей — простой человек, от такого понимания его Иванов не желал отказаться. Но в Андрее нет ни простодушия, ни вульгарности. Это умный, вдумчивый, мудрый старик. У него густые, тщательно расчесанные волосы, облику старца они сообщают больше спокойствия. Волосы закрывают ухо, и потому вся голова не выглядит такой обнаженной. На лице много морщин, но он не морщит лоб. Годы избороздили его лицо, рот его запал, у старика не хватает верхних зубов, а потому и его горбатый нос еще больше свисает. В этом этюде особенно выпукло передана внутренняя решимость Андрея: он не только ищет, но и нашел, и отсюда его спокойствие и уверенность человека, который сам определил свою судьбу. Это не холодный интеллектуализм. В мудрости его есть нечто светлое, теплое.
Как во всякой исторической картине, Иванову предстояло противопоставить положительным героям героев отрицательных, апостолам — фарисеев, мытарей, против которых выступали пророки еврейского народа.
Надо думать, что художник был очень доволен, когда нашел модель, подходящую для образа фарисея. Это был худой и даже костлявый старик с высоким лысеющим лбом и гладкими откинутыми назад волосами, с длинным горбатым носом, выпирающими скулами, обвислыми щеками. Этого современного фарисея предстояло превратить в фарисея библейского. Иванов надевает на него головной убор из белой ткани, нечто вроде чалмы, обостряет морщины на лбу, хмурит седые брови и придает зрачкам сходство со зрачками хищной птицы. Однако романтическое преувеличение не могло удовлетворить художника. И вот вместо банального театрального злодея возникает образ мудреца, постигшего все, но оставшегося ко всему равнодушным. Взгляд его стал более глубоким и проницательным. Исчезли нарочито, косматые брови, разгладились складки на лбу и меж бровей, едва заметно хмурятся брови. Все лицо передано более крупным планом. Образ стал от этого более величественным и монументальным и приобрел философскую глубину. Здесь вспоминается Гоголь: «В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом: в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души».
В своих этюдах Иванов достигал силы воздействия долгим сравнительным аналитическим изучением модели и раздумьями. Но в нем было достаточно чуткости и способности отдаться непосредственному впечатлению, чтобы создать такие этюды, как «Черноволосый мальчик» и «Женщина в зеленом платье».
Выполняя «Этюд мальчика», художник, видимо, увлекся захватившим его впечатлением и позабыл о своей привычной аналитической системе рисунка и живописи. С небывалой у него быстротой и эскизностью он запечатлел бледное личико мальчика в обрамлении его смоляно-черных волос с синими бликами. Копна спутанных волос в сочетании с быстрым взглядом глаз дает яркое представление о всей его цыганской, бездомной жизни. Этюд этот позднее был частично использован в картине. Но в мальчике этом столько неповторимого своеобразия, что этюд можно считать вполне самостоятельным произведением.
В качестве модели для Христа Иванов пишет «Голову молодой женщины с серьгами и ожерельем». Ее лицо нельзя назвать красивым. У нее большая голова на тонкой и негибкой шее, широкое, плоское лицо, выступающие скулы. Судя по осунувшемуся лицу женщины, она много испытала. Пережитое оставило заметный след на ее облике. Художник собирался извлечь из ее лица ту долю суровости и боли, которая, по его представлению, должна быть присуща Мессии в момент появления его перед народом. Но и на этот раз он отвлекся от этой задачи и создал глубокий портретный образ. В нем привлекает не молодость, не здоровье, не правильность черт, а прежде всего красота человеческого страдания, благородство прошедшего через тяжкие испытания живого существа. В лице женщины нет ни налета мечтательности, ни покорности судьбе, в нем господствует лишь сдержанное спокойствие, выражение измученности, утомления и даже некоторой суровости. В живописи того времени мало портретов, равных этой картине Иванова по глубине и искренности чувства.
КАРТИНА
Вся картина была мгновенье, но то мгновенье, к которому вся жизнь человеческая — есть одно приготовление.
Гоголь, «Портрет».Сюжет своей картины Иванову неоднократно приходилось объяснять. Обычно он ссылался на евангельский текст. На берегу Иордана Иоанн Предтеча со своими учениками крестил народ, когда увидел идущего вслед за ним Христа. Иоанн указал на него, как на Спасителя, который принесет себя в жертву и этим искупит грехи мира.
В картине Иванова выпукло обрисованы основные слои еврейского общества начала нашей эры со всеми их характерными признаками. Правда, многие фигуры обнажены, в распоряжении художника не было такого наглядного социального признака, как одежда. Но вся атмосфера в картине настолько насыщена социальными контрастами, которые сосредоточены в фигуре богача и раба, что по поводу каждого персонажа невольно спрашиваешь себя: «Кто этот человек по своему общественному положению? Как должны в нем отозваться слова пророка? Какие притязания должна в нем пробудить весть о Мессии?»
На берегу Иордана сошлись разные люди. Худой, изможденный старик и рядом с ним цветущий здоровьем, мускулистый юноша, костлявый, бледный, но могучий своей убежденностью аскет Иоанн и покорные его воле ученики, тучный богач и жилистый, с бескровным лицом раб, дряхлый, трясущийся старец с отвисшей нижней губой («поднимаемый») и женственно прекрасный и обнаженный рыжеволосый юноша («смотрящий»), тоненький, возбужденный мальчик («дрожащий») и рядом с ним мускулистый его отец. Не только в самих фигурах, но и в характере их одежд бросается в глаза большое разнообразие. Широкими угловатыми складками падает закрывающий верблюжью шкуру плащ Иоанна, мелкими беспокойными складками изборождена одежда Иоанна Богослова, прямо, отвесно низвергаются складки одежды «сомневающегося», спокойные, плавные складки образует плащ Андрея.
В картине можно видеть и сильных, мужественных людей зрелого возраста, и порывистых юношей, и дряхлых старцев. В представленных художником лицах проглядывает и спокойная твердость характера, и переходящая в энтузиазм взволнованность, замкнутость и недоверчивость, проницательность и недоумение, мудрость и простодушие, отзывчивость и любопытство. Здесь собрались люди и легко воспламеняемые, и бесстрастные, и добрые, и озлобленные, и милостивые, и ожесточенные, твердо уверенные и колеблющиеся, самолюбивые и самоотверженные. Трудно перечислить все психологические оттенки, которые нашли свое отражение в картине Иванова.
В этом разнообразии душевных состояний нет случайности, эти состояния образуют как бы цепь развития одного человеческого чувства. В одних весть о спасении зажигает надежду, в других радость омрачена сознанием своего несовершенства, в третьих зарождается сомнение, в четвертых побеждает уверенность; она крепнет, растет и превращается в готовность к самопожертвованию. Картина ка «бы раскрывает духовное развитие человеческого рода.
Под действием прозвучавшей вести в людях пришли в движение все скрытые пружины их сознания. Большинство пришло сюда к реке для того, чтобы свершить обряд омовения. Но волнующая новость обратила мысли их на иное. Весть о спасении человеческого рода составляет стержень сквозного действия. Единая эмоциональная волна рождается, растет и пробегает через толпу. Источником движения служит главное лицо — Иоанн Предтеча. Эта самая крупная фигура в картине высится надо всеми остальными. Образ Иоанна носит ораторский характер. В хоре голосов это самый громкий голос.
За спиной у него четыре ученика, будущие апостолы. Иоанн Богослов делает порывистый шаг вперед к Мессии и одновременно с этим протягивает назад свою руку, не то призывает к молчанию спутников, не то их зовет. Седой Нафанаил из-за своей глухоты не расслышал слов Иоанна, хмурит темные брови и всматривается в лицо спокойного Андрея. Андрей более сдержан, чем молодой Иоанн Богослов. Но его широкий, уверенный шаг говорит о том, что он твердо решил следовать за Мессией. В полном контрасте к этим ученикам «сомневающийся» отвернулся от Иоанна, опустил глаза и — характерная деталь — спрятал свои руки в широких рукавах хитона. На берегу Иордана всего лишь две фигуры: юноша вылезает из воды; вся фигура его выражает сильнейшее любопытство к словам Иоанна. Следом за ним его бледная тень, жалкая пародия — лысый, костлявый, отощавший старик. Опираясь на длинный посох, он глубоко задумался. Все шесть фигур, за исключением «сомневающегося», следуют за пророком. Но каждый из них делает это по-своему.
Перед Иоанном находятся люди, которые вслед за ним только что пришли к Иордану. Почти все сидят на земле, и потому трудно решить, за кем они пойдут. Пастух вперил свой взор в Христа, путешественник слушает слова Иоанна, остальные повернули головы к Христу. Даже кудрявый юноша в синем плаще, который поднимает длиннобородого старца, через его голову смотрит на Христа. Хилый, дряхлый старик сам не в силах ни повернуть головы к Мессии, ни услыхать слов Иоанна.
В центре картины, на первом плане, у ног Иоанна, его речь должна быть всего слышней. Здесь узел главных разногласий. Фигура тучного богача повернута спиной к зрителю. Но хотя лица его не видно, его упитанное, холеное, умасленное тело сибарита и тщательно расчесанные седые кудри говорят, что он не в состоянии до конца понять экстатического Иоанна. Жест его руки не больше, чем призыв к вниманию.
Раб сидит напряженно на корточках, протянув руку за полосатой тканью, которую он должен накинуть на своего господина. Его сухая, жилистая рука, как реплика в жарком диалоге, противостоит холеной светлой руке рабовладельца. В его лице радость смешивается с накопленной годами горечью испытаний. В улыбке есть нечто страдальческое, исключающее простодушное доверие к вести о Мессии.
Обнаженному юноше с его изнеженным розовым телом, пышными темно-рыжими кудрями, видимо, нелегко отказаться от своих социальных преимуществ. В этом он ближе к богачу, чем к рабу. Но в отличие от богача он весь устремился к Мессии. В образе этого прекрасного, как молодой бог, юноши как бы воплощена вся та солнечная, жизнерадостная античность, которая приветствует новую эру, возвещенную словами Иоанна. Если в этом юноше торжествуют радость, молодость и красота, то в так называемых фигурах «дрожащих» тело показано не в его естественной наготе, а в его обнаженности. Этот тонкий нюанс обрисован достаточно выпукло. Мальчик, словно в поисках защиты, прижимается к отцу; отец сутулится, сжался от холода и спешит накинуть на тело рубашку. Мальчик испуганно обернулся, но глаза его горят. Отец не скрывает радости, на лице у него, у единственного персонажа среди всех остальных, заметна улыбка. Но весь посиневший от холода, как бы стыдясь своей наготы, он не способен последовать за Иоанном. Можно думать, что он ожидает избавления не столько для себя, сколько для своего сына.
Особенно разнородный характер носят фигуры, входящие в состав того шествия, которое спускается с горы вслед за Иоанном. Здесь столкнулись самые резкие противоположности. Юноши внимательно смотрят на Иоанна и косят глаза на Мессию; один молодой левит в белом платке резко поворачивает голову, словно вырывается из толпы, другой, повернувшись к Мессии, порывисто кладет руку на плечо старцу учителю, точно наконец-то он нашел в жизни то, чего искал.
Старцы относятся к словам о Мессии по-разному: один, худой, в белом колпаке, задумчиво смотрит вдаль, другой, погруженный в задумчивость, опустил голову. Старец с орлиным носом гневно скосил глаза на Иоанна, его сосед с крючковатым носом озлоблен, наконец старец, к которому припал левит[7], смотрит на Иоанна скорбным взглядом. Толпу иудеев сопровождают два римских воина. Оба они повернули головы к Мессии, но, как представителям кесаревой власти, им нет дела до Мессии. Они не больше чем равнодушные наблюдатели.
Все разнообразие мнений, чувств, порывов, влечений и страстей проявляется в мимике и в жестах, в лицах и взглядах. Иногда по одному повороту или местоположению можно безошибочно угадать, как относится человек к словам Иоанна.
Толпе людей противостоит фигура Мессии. Он Появляется в совершенном одиночестве. В нем, как ни в одной другой фигуре, заключено величайшее спокойствие. Все остальные к чему-то обращены, к чему-то стремятся, на что-то смотрят, к чему-то прислушиваются. Он один никуда не спешит и ни на что не взирает, а потому не растворяется в толпе и служит центром всеобщего внимания.
В сопровождении учеников и толпы Иоанн двигался из далекого города к Иордану, но, достигнув берега, обернулся назад: за ним оказались ученики, перед ним толпа, за нею Мессия. В картине передан кульминационный момент действия, но так, что в нем как бы заключен итог предшествующего движения. Следуя за толпой, Мессия отрывается от нее и выглядит меньше остальных фигур. Но в момент, когда Иоанн поворачивает назад, он становится центром внимания, почти главным персонажем, так как вокруг Иоанна собрался народ и к нему обращены взоры людей, а он сам обращен к Мессии и привлекает всеобщее внимание к нему. В этом переключении от одного центра к другому схвачен закон жизни как развития, как движения. Из этой основной закономерности вытекает порядок расположения всех фигур в картине. Все отличается в ней ясностью, простотой и обозримостью. В ней ничто не преобладает.
Первая группа — это Иоанн и фигуры за ним, над которыми поднимается дерево. Сидящие на земле — это вторая группа. Третья группа — это три обнаженные фигуры: «смотрящий» и оба «дрожащих». Наконец четвертая — это наиболее удаленная от зрителя группа спускающихся с горы. Это распадение на группы не исключает того, что возникает еще ряд других группировок. На смену одного рода соотношений между людьми могут возникнуть еще другие. Это значит, что во взаимоотношениях между людьми нет ничего косного, неизменного.
В картине нет центра, средняя ее ось не соответствует какому-либо персонажу. Но два главных персонажа — Иоанн и Мессия — расположены примерно на равном расстоянии от этой средней оси. Картину трудно свести к простой графической схеме. Чем больше ее рассматриваешь, тем больше замечаешь ее ритм, симметрию, движение и порядок.
В ранних эскизах Иванова все части композиции передавались художником одинаково отчетливо. В картине его ясно проведено разграничение участников на несколько категорий. Они звучат как бы в разных регистрах. Самая отчетливая и крупная фигура, Иоанна, звучит как самое громкое forte. Тема постепенно замирает в фигурах у левого края.
Фигуры, сидящие на земле, даны приглушенно. Фигуры спускающихся с холма ярко освещены, отсутствие теней лишает их той телесности, которой обладает группа Предтечи, это несколько ослабляет силу их воздействия. Наконец маленькая фигура Мессии звучит piano. Но это piano произнесено так явственно, что ничто не в силах его заглушить.
Фигура Мессии — единственная, которая не входит ни в какие сочетания с другими фигурами. Но и она находится не в полной неподвижности, а участвует в общем движении. По самой фигуре почти незаметно, что она идет; издали кажется, что она остановилась. Но могучие дуги дальних гор словно толкают ее вперед. Едва касаясь стопами земли, фигура словно скользит по склону холма. В фигуре Мессии нет ни порывистости, ни торопливости. Зато в ней выражено, что Мессию влечет за собой весь ход событий. Он не может не следовать навстречу к тем людям, которые ждут от него избавления.
Иванов был художником-живописцем. Много сил он положил на то, чтобы все задуманное им в рисунках прозвучало в красочном строе картины. Он добивался полноты живописного выражения. Не ограничиваясь общим впечатлением, он стремился вникнуть в понимание природы во всем богатстве ее признаков. Он искал живого, естественного, красочного впечатления многолюдной толпы в разноцветных одеждах на фоне природы при ясном свете дня. Люди одеты в одежды самых разных цветов: розовые, желтые, голубые, зеленые и белые. Все освещены лучами солнца. Никогда еще в русской исторической живописи не было таких открытых, чистых красок, как у Иванова. Вместе с тем расположение красочных пятен соответствует ритму и симметрии в расположении фигур. Краски повторяются, перекликаются в разных частях картины. Они отличаются большим разнообразием оттенков: обнаженные тела то более смуглы, то более светлы, то выделяются на фоне ткани, то сливаются с ними. Это богатство красочных сочетаний, повторов, переходов и контрастов придает картине такую жизненность.
В своих этюдах Иванов показал себя превосходным колористом. В них можно видеть всю трепетность и сочность письма, силу основных тонов и мягкость оттенков, свежесть выполнения. Естественно, что при переносе этюдов на большой холст Иванову пришлось многим пожертвовать. В картине появилась сухость и даже жесткость, которая давала повод сравнивать ее с гобеленом. Впрочем, Иванов намеревался всю ее прописать, но он так и не успел этого сделать и потому продолжал считать картину свою неоконченной.
Иванов начал с уверенности, что с приходом Мессии произошел коренной переворот в жизни человечества. Но, углубившись в художественное воплощение своего замысла, представив себе живых людей, поставленных в соответствующие обстоятельства, вообразив себе, что скажет народ, если ему явится человек с вестью о его близком избавлении, он понял, что с появлением Мессии коренного изменения в их жизни не произошло, да и не могло произойти. Авторитет церкви убеждал его, что в обращении ко Христу заключался залог спасения людей. Но совесть художника говорила Иванову: «Нет, все это совсем не так! Какой бы чистосердечной ни была вера простых людей на берегу Иордана, коренных улучшений в их существовании второе крещение с собой не принесло!»
Каждый человек в картине Иванова имеет свое прошлое, свое настоящее и свое будущее. У каждого имеются свои притязания: один жаждет земных благ, другой привязан к власти, третий окостенел в фанатизме, четвертый не верит самому себе. Царящая в картине разноголосица исключает надежду на разрешение конфликтов в мире силой одной доброй воли людей. Люди уже высказали свое ожидание избавителя. Но еще не раздался призыв Мессии к смирению. Человек не испытал еще разочарования, не отвернулся от Спасителя. Выбор этого момента позволил художнику оставаться в рамках правдоподобия, не прибегая к вмешательству чудесного. При выполнении картины Иванов придавал огромное значение всем «точностям антикварским». Но если бы это требование антикварской точности превратилось в самоцель, картина не имела бы той художественной ценности, благодаря которой она завоевала себе такое почетное место в истории русского и мирового искусства.
Правду картины Иванова нельзя сводить к тому, что в ней верно воспроизведены и типы и нравы еврейского народа начала нашей эры. В картине отражена правда человеческих мыслей, чувств и влечений, которыми жило русское общество второй четверти XIX века. Хотя Иванов безвыездно трудился в Италии, хотя перед его мольбертом сидели римские евреи, хотя читал он в те годы преимущественно священные книги и изучал археологические издания, он всегда был полон мыслями и чувствами, которые волновали русских людей. Он и на чужбине не переставал себя чувствовать русским человеком. Запас тех знаний, того опыта и тех нравственных представлений, который он из Петербурга вывез в Италию, в нем никогда не иссякал. Недаром он и за рубежом общался с русскими, поддерживал переписку с родными, жил интересами родного народа.
В официальных кругах от картины Иванова ждали прославление «христианской идеи», видели в ней призыв к покаянию, молитве, умилению. Но по мере того как художник вникал в свой предмет, силою своего реалистического мастерства сообщал правдоподобие вызванным к жизни образам, он все более удалялся от этой задачи. Мысль ввести раба в картину возникла у Иванова не сразу, и он так и не смог сделать его главным действующим лицом. Однако всей своей картиной он затронул наболевший вопрос, который выдвигало русское освободительное движение России в годы, когда сам народ стал восставать против власти помещиков, когда передовые русские люди пришли к признанию того, что существование «крещеной собственности» несовместимо с понятием общественной справедливости.
ЖИТЕЙСКИЕ НЕВЗГОДЫ
Вообще вся наша администрация и общий строй — явный неприятель всему, что есть художество, начиная с поэзии и до устройства улиц…
А. К. Толстой.Создание такой картины, как «Явление Мессии», требовало огромного напряжения творческих сил художника. Теперь, по прошествии многих лет, ясны благородные цели Иванова. Мы называем самоотверженный труд художника подвигом. Но современникам он казался чудачеством, в лучшем случае донкихотством. В сущности, и самому Иванову не был до конца понятен смысл и художественная ценность образов, которые возникали у него на холсте. И потому тем большее величие приобретает в наших глазах его преданность своему делу.
«Оливы у кладбища Альбано». «Молодой месяц». Около 1843–1845 года.
Начальство своим бездушно-формальным отношением к делу и всевозможными придирками мешало ему совершить свое призвание, покровители в большинстве случаев проявляли бессердечное равнодушие, над ним подсмеивались товарищи, его замалчивала критика. Даже друзья часто не хотели понять его интересы и нужды. Правда, перед глазами был высокий пример благородного служения искусству в «Портрете» Гоголя. Но одно дело ярко обрисовать истинный путь художника, другое дело в самой действительности найти этот истинный путь, пройти его, поставив на карту все.
Иванов не думал об успехе и славе. Но мысль о высоком, подлинном искусстве никогда не оставляла его. «Не легко идти по новой дороге», — жаловался он товарищу. Тогда же он признавался в своих правах на «художническую самостоятельность». Это медленно созревавшее, но прочно слагавшееся убеждение в своем художническом призвании не отражалось на его скромности, но выработало в нем несколько преувеличенное представление о силе воздействия своего детища: Иванов верил, что «Явление Мессии» произведет настоящий переворот в жизни русского общества, и он говорил об этом с трогательной убежденностью. Но самодовольство было глубоко противно ему. Каких бы успехов он ни достигал, он не забывал, что ему еще далеко до высшего совершенства.
Поскольку пенсионеры прибывали каждые три года, на глазах Иванова постоянно сменяли друг друга поколения русской молодежи. Художник присматривался к облику и нравам людей, которые проходили перед его глазами. Он вслушивался в то, что рассказывали ему приезжие о Петербурге. Но как для художника самым достоверным свидетельством происходивших перемен служили для него те новые тенденции в искусстве, которые давали о себе знать у молодежи. Он ценил ее способности и пройденную ею школу, признавал авторитет ее учителей. Со многими из учеников Брюллова у Иванова установились дружеские отношения. В качестве старожила римской колонии он проявлял отеческую заботу о младших товарищах. Он настойчиво пытался добыть работу для Шаповаленко, старался найти покупателя копий Станиславовича, прилагал много сил на то, чтобы отвлечь от запоя одного из самых одаренных учеников Брюллова — Ломтева. В трактире Фиано Иванов условился с хозяином, что будет платить ему по нескольку монет в день «на прокормление художника». Отзывчивость Иванова к людям многие умели оценить по достоинству.
Но доброта Иванова не исключала в делах творчества прямоты суждений. Когда это было необходимо, он прямо в лицо высказывал младшим товарищам свое неодобрение.
Иванов корил молодежь за то, что она отступала от пути художника, которому он сам следовал с такой самоотверженностью. В оценках Иванова проявлялась высокая взыскательность, которая не покидала его и тогда, когда он судил о своих собственных работах. Но дело шло не только о более или менее высокой степени мастерства и одаренности. Здесь происходило разграничение между произведениями истинно художественными, поэтически правдивыми, и произведениями, которые, имея внешние признаки искусства, на самом деле находились за его пределами. Обладая сноровкой и в ряде случаев развитым вкусом, молодые брюлловцы легко подменяли творчество ловкостью выполнения. Они прислушивались и приноравливались к тому, чего требовал потребитель, и не решались выйти за рамки общепринятого. В 1840-х годах даже грохот и блеск «Последнего дня Помпеи» Брюллова казался оглушительным, и потому они во всем старались сгладить резкие углы, приласкать глаз, успокоить взор и всем этим отвлечь внимание людей от противоречий жизни. Недаром верхушке общества, людям, которым хотелось жить беспечно и бездумно, так желанно было академическое направление. Можно представить себе, что среди таких отравленных ядом льстивости людей Иванов должен был чувствовать себя отщепенцем.
В 40-х годах Гоголь поддерживал связь с Ивановым главным образом посредством переписки. В Риме писатель появлялся изредка и ненадолго, и потому друзья вспоминали, как о светлом, но невозвратном прошлом, о первых годах своего знакомства, когда они часто встречались и вели бесконечные беседы об. искусстве. В начале 40-х годов в Риме появляется новый человек, который быстро сближается с Ивановым и на много лет занимает в его сердце место лучшего, доверенного друга. Летом 1842 года, когда Иванов, по своему обыкновению, находился за городом и занимался пейзажем, в его римскую мастерскую явился один из путешествующих русских людей, Ф. Чижов, и благодаря гостеприимству жившего у Иванова молодого художника И. Шаповаленко получил возможность увидеть большую картину, над которой велась работа уже несколько лет. «Явление Мессии» произвело на Чижова самое сильное впечатление, и по возвращении Иванова в Рим он близко сошелся с ним.
В прошлом профессор математики в Петербургском университете, Чижов одно время занимался переводами книг по литературе, но, попав за границу, горячо увлекся искусством. Человек это был общительный и живой. В Мариенбаде он виделся с Жуковским. Позднее в Париже подолгу беседовал с Мицкевичем. Чижов был даровит, склонен к увлечениям. Ему легко давалось все, за что бы он ни брался. Он хорошо знал иностранные языки, был широко начитан, но долго не мог найти своего призвания. В Риме он усердно изучал трактаты Винкельмана как признанного авторитета в вопросах искусства, но сам судил об искусстве как дилетант. Со своей неизменной восторженностью он беспрестанно повторял себе, что цель его жизни «служение истине и России», но почему-то все свои силы направил на трудное, «непосильное» для него дело создания истории средневековой Венеции, погибал в архивах и никак не мог довести до конца своего начинания.
Этот человек, в котором причудливо перемешаны были черты Обломова и Рудина, оказался на жизненном пути Иванова. Замкнутый и недоверчивый к большинству других людей, Иванов быстро сошелся с Чижовым, привязался к нему и стал общаться с ним с редкой откровенностью.
Иванова подкупали начитанность и образованность Чижова. «Человек не нынешней доброты», — говорил он о нем. Со своей стороны, Иванов приохотил Чижова к искусству и вместе с тем пробудил в нем интерес к византийской и древнерусской живописи. Уже много позднее из Киева Чижов писал своему другу в Рим об открытии софийских мозаик. Нельзя сказать, чтобы Чижов научился глубоко разбираться в вопросах искусства, но осведомленность его была Иванову очень кстати. Чижов сообщал художнику о новинках иностранной литературы, вроде работы Рио о средневековом искусстве, переводил для него отрывки из — книги итальянского искусствоведа Чиконьяра. Чижов знакомил Иванова со стихотворениями А. С. Хомякова. По вечерам, когда в мастерской художника встречались соотечественники, здесь распевали народные песни, которые на чужбине особенно хватали за сердце своими задушевными нотами.
Несмотря на то, что Иванов был целиком поглощен своей работой над «Явлением Мессии», он все же находил в себе силы постоянно думать о судьбе русских художников. С большим волнением он прислушивается к поступающим сведениям о том, что в Москве основывается художественное училище. Ему, который испытывал такое отвращение к казенщине и рутине в Петербургской академии, казалось, что именно это новое учебное заведение станет живым рассадником русского национального искусства. Он горячо ратует за то, чтобы в этом новом учебном заведении преобладали русские художники.
Свои выполненные еще в Петербурге картоны с «Венеры Медицейской», «Боргезского бойца» и «Лаокоона», эти замечательные образцы академического рисунка, он поручает передать во вновь открывающееся Училище живописи и ваяния (где они действительно и хранились до недавнего времени и оттуда переданы были в Третьяковскую галерею). Он заботится о пополнении учебно-вспомогательных собраний училища, в частности хлопочет о том, чтобы были приобретены копии с итальянских фресок немецкого художника Рамбу, рекомендует приобрести и картоны Корнелиуса, которые превосходят его законченные с помощью учеников росписи.
Однако добрые намерения художника разбивались, как о стену, о чиновническое равнодушие людей, от которых зависело их осуществление. У самого же Иванова не было никаких материальных средств, чтобы выполнить хотя бы небольшую долю того, что он хотел сделать ради успехов и процветания русского искусства.
Материальное положение художника становилось на протяжении 40-х годов все более стеснительным и тяжелым. Свободные поля многих его рисунков испещрены стройными столбиками цифр расходов, напоминающих о презренной прозе. Траты его на себя были небольшие: комнату в Риме можно было нанять за пять-шесть скудо в месяц. (Скудо равнялся тогда полутора русским серебряным рублям.) Обед обходился около пятнадцати-двадцати скудо в неделю. Невзыскательность Иванова в быту была беспримерной и давала повод товарищам то добродушно, то ехидно подсмеиваться над его «вечной крылаткой». До какой степени он ограничивал себя, можно судить по тому, что даже почтовые расходы стесняли его: письма Иванова написаны мелким бисерным почерком с заполнением малейшего свободного поля листа. В тех случаях, когда письмо из России было тяжелее положенного веса и художнику приходилось платить за излишки четыре-пять франков, он с беспокойством сообщал об этом своим корреспондентам. Бережливость в мелочах многим казалась недостойной художника скупостью. Но как бы он ни ограничивал себя, денег всегда не хватало. Творчество поглощало все его скромные средства. Огромная студия стоила тысячу двести рублей в год. Натурщикам приходилось платить по пяти рублей в день, и это составляло около полутора тысяч в год. В старых римских дворцах, где помещались тогда банкирские конторы, можно было часто видеть странную фигуру русского живописца в его черной крылатке и в широкой, надвинутой на уши шляпе, который по многу раз безуспешно наведывался о денежных переводах, а когда они, наконец, приходили, огорченно разводил руками, так как вместо ожидаемой суммы ему доставалась лишь малая часть, которой едва хватало на покрытие долгов.
В конце 30-х годов Иванов совсем уже решился отдать свою картину за «трехлетнее пребывание обыкновенного пенсионера». Однако закончить огромный холст за этот срок не было возможности. По прошествии трех лет Иванов получает бумагу из Петербурга, в которой сообщается, что ему будет выдано единовременно всего лишь тысяча пятьсот рублей на окончание труда. Снова начинаются хлопоты о продлении его пребывания. Друзья выступают в качестве ходатаев. Они уговаривают Жуковского пустить в ход все свои связи. Но пробить стену было нелегко. В минуту досады добрейший Василий Андреевич позволил себе бросить неосторожную реплику по поводу Иванова: «Куда же он пишет такую большую картину?» Переданные Иванову эти слова задели его за живое. Выходило так, что даже такой расположенный к нему человек, как Жуковский, толкает его на писание жанровых картинок. Словно все сговорились мешать ему в его деле и вынуждали размениваться на пустяки.
В 1842 году Иванов пишет последнее послание в Общество поощрения художников, к «своим единственным покровителям», как он их именует. Он извиняется, оправдывается и объясняет, что обещание его кончить картину в три года вовсе не есть обман. Он толкует о своем бедственном положении, просит денег заимообразно, предлагает для продажи все свои этюды, лишь бы «сколь можно скорее решить бедственное мое положение», потому что всякое замедление может усугубить несчастие «нажитием долгов». Трудность художника умножало то, что он уже несколько лет тяжело страдал глазами и по настоянию врачей должен был временно прекратить работу. В связи с этим возникает вопрос о необходимости возвращаться в Петербург, но плохое состояние здоровья художника этому препятствует. Гоголь, который сам испытывает материальные трудности, не оставляет его советами, всячески успокаивает и удерживает от опрометчивых поступков. Однако поскольку срок пенсионерства художника уже давно истек, римское начальство собиралось в административном порядке выслать его в Петербург. Только вмешательство графа Перовского и А. О. Смирновой спасло его от этого. Ценою экономий и подачек художнику удается просуществовать еще один год. В конце 1844 года он производит подсчет оставшихся денег: их должно было хватить на полгода. Наученный горьким опытом, художник пускается на хитрость: «прикидывается» Смирновой, будто у него совсем не осталось денег, и потом признается в этом Гоголю. Весной 1845 года он получает три тысячи рублей, но с условием окончить свою картину в один год. Между тем Иванову приходит в голову мысль прибегнуть к общественной помощи: он просит Общество через газеты обратиться к московскому купечеству и собрать средства для окончания его картины. Он даже согласен, чтобы она заняла место в храме Христа Спасителя напротив иконостаса. Одновременно с этим он готов расстаться с другим своим произведением — со своей любимой картиной «Аполлоном», если сумеет получить за нее четыре тысячи рублей, необходимые для продолжения «Явления». Положение становится все более затруднительным. В одном из своих бесчисленных ходатайств Иванов пишет: «В настоящую минуту я беднее нищего, потому что нищий имеет право просить милостыню у всякого. Но просить милостыню Иванову, работающему государю наследнику… странно и думать».
В 1845 году в Рим пожаловал Николай I. В залах Ватиканского музея древностей среди знаменитых античных мраморов появился странного вида человек с выправкой военного, но одетый в штатский сюртук темно-кофейного цвета. С торопливостью, которая свидетельствовала о его полном равнодушии к шедеврам искусства, он шагал по музейным залам. Ученый хранитель музея, следовавший за ним, тщетно пытался остановить его внимание на некоторых достопримечательностях и дать им свои объяснения. В Риме наибольшее впечатление произвел на Николая собор св. Петра, но лишь потому, что задел его тщеславие: оказалось, что по диаметру купола римский собор превосходил Исаакиевский, которым так гордился Николай. Впрочем, осмотры достопримечательностей были императору в тягость. Он с большей охотой подтягивал псаломщикам во время служб в посольской церкви.
Надевая на себя личину мецената, Николай постоянно вмешивался в дела искусства. Все, что имело какое-нибудь отношение к свободомыслию, нещадно им преследовалось. «Убрать эту обезьяну», — заявил он, увидев статую Вольтера работы Гудона в Эрмитаже, — она уцелела чудом, так как один любитель спрятал ее в подвалах своего дома.
Во время своих вынужденных прогулок и посещений Николай нестерпимо скучал. Он оживился только в мастерских у скульпторов. Ему понравилась статуэтка кокетливой нимфы Рамазанова. Со своей обычной «манией грандиоза» он потребовал было, чтобы она была увеличена в мраморе, и, только заметив растерянную физиономию автора, отказался от этой блажи. Картина Иванова была слишком значительной достопримечательностью, чтобы ее миновать, и потому начальство решило устроить «милостивое посещение» монархом студии русского художника. Иванова много раз предупреждали, много раз посещение откладывали, пока, наконец, оно действительно не состоялось. Нужно представить себе ореол, которым была окружена личность монарха, нужно вообразить себе бесправие в те годы художников и всесилие николаевских чиновников, бесконечные разговоры окружающих о том, что от «высочайшей воли» зависит дальнейшая судьба картины Иванова, чтобы понять, какое волнение переполняло его в момент, когда по усыпанной красным песком улице к его студии на Виколо дель Вантаджо подъехал царский экипаж с впряженными в него двумя гнедыми конями.
Иванов долго готовился к встрече. Жаловаться и просить — об этом нечего было и думать. Самое большее — убедить в важности своего дела. Иванов исписал несколько листочков бумаги речью, которую собирался держать. Он намеревался открыть в ней «великую тайну своего замысла». С появлением Николая он начал было читать по записке, но тот грубо его остановил и стал сам задавать вопросы. Николай пробыл перед картиной всего несколько минут. Эти минуты показались Иванову целым часом. Покидая студию, Николай бросил пустую фразу, которая ничего не изменила в судьбе художника: «Хорошо начал». И действительно, какое дело могло быть царю до художника, который был выразителем дум и чувств передовых русских людей того времени? Для Иванова Николай был воплощением всемогущества государства, и потому со своей запиской в руках он стоял перед ним, как ослепленный, тщетно стараясь уверить себя, что наконец-то он найдет поддержку и признание, в которых ему так упорно отказывали николаевские чиновники.
Иванов давно уже сознавал мучительную двойственность своего положения: он ни на минуту не переставал чувствовать себя русским, служил отечеству, гордился успехами русских людей, но Петербург и вся «официальная Россия» вызывали в нем глубокое отвращение. На этой почве он готов был рассориться даже с родным отцом. «Плач «ваш меня раздражает. Я давно уже ненавижу Петербург с его Академией художеств. Счастлив буду, если обработаю мои дела так, чтобы никогда не видеть сей столицы». При одной только мысли, что его могут назначить профессором Академии художеств, Иванов чувствует, что погибает. Даже Жуковскому, с которым не могло быть полной откровенности, он решается признаться, что перспектива поездки в Петербург — это «конечная неприятность», так как он затеряется там в «беспонятии о художестве». «Казенная форма» вызывает в нем отвращение, «клеймо казенщины» его удручает.
В 1847 году усилиями друзей Иванов получает три тысячи рублей от наследника. Впрочем, поскольку картина все еще не была окончена, художнику приходилось думать о дальнейшем. Лишь в 1848 году вслед за известием о смерти отца он узнает о наследстве в двадцать пять тысяч рублей ассигнациями, что обеспечило его существование на несколько лет.
Художник всегда признавался в своей полной «неспособности к денежным соображениям». Он неоднократно выражал глубокое отвращение к тем людям, которые из искусства сделали себе источник наживы: «Пусть рестораторы и продавцы картин строят себе дома». Неуверенность в завтрашнем дне тормозила его и без того сильно затянувшуюся работу над картиной.
Оценивая денежные затруднения Иванова, нетрудно заметить, что причиной их была прежде всего та система меценатства в отношении художников, которая царила тогда в России. Предпринятый Ивановым труд вырос до огромных масштабов и требовал соответствующих средств. Средства эти превосходили все, что можно было получить от какого-либо частного лица. К тому же в то время уже сходило со сцены поколение екатерининских вельмож, людей вроде Юсупова, Безбородко, Барятинского, которые в прошлом своими заказами могли соперничать с императорами. Заказ «Последнего дня Помпеи» Брюллову А. Демидовым был исключительным случаем. Сам Иванов отмечал «редкость, что частное лицо заказывает русскому художнику». Наибольшим успехом пользовались при дворе иностранные художники. Больше всего ценились портреты, жанровые картины или пейзажи. Таким образом случилось, что судьба его дела всецело зависела от прихоти и произвола власть имущих, прежде всего главы государства, монарха. Положение Иванова можно было бы сравнить с положением некоторых художников Возрождения, служивших при княжеских дворах. Но Николай I даже и отдаленно не был похож на меценатов эпохи Возрождения. Правда, и Микеланджело в работе над надгробием папы Юлия или гробницей Медичи испытывал недостаток средств. Правда, и он однажды был оскорблен, когда папский конюх не пустил его к Юлию II. Но все это было несравнимо с испытаниями Иванова. В эпоху Возрождения папы и государи домогались художников. Юлий II чуть не начал войну с флорентийцами, чтобы вернуть себе Микеланджело. Что касается Николая I, го можно с уверенностью сказать: он не поднял бы кисти, если бы даже Тициан уронил ее в его присутствии.
Иванов должен был испытать на себе гнет того бюрократического порядка, при помощи которого николаевское правительство стремилось подчинить себе все живое в русской культуре, обезличить творчество, насаждать послушание, угодливость, казенность, столь ненавистную лучшим русским людям. Трагедия русского художника была в том, что в то время еще не было общественных сил, на которые он мог бы опереться в своем стремлении выразить в искусстве народные идеалы. Картина его в течение двадцати с лишком лет оставалась в России неизвестной.
Вынужденный постоянно обращаться за помощью к чиновникам, он сталкивался с их желанием взять под контроль его творчество. Дирекция русских художников в Риме в лице полковника Киля, самоуверенного и бездарного дилетанта, пыталась проникнуть в мастерскую художника, чтобы следить за его работой. Иванову посылались официальные предупреждения, от которых он приходил в замешательство, грозили ему, не останавливались ни перед чем, лишь бы добиться его послушания. Иванов чувствовал себя перед чиновниками растерянным и беспомощным, не знал, как отпарировать удары, и в этом неравном бою терпел поражения. Все это делало положение художника тяжелым и мешало ему осознать и свое призвание и свои ближайшие задачи.
П. В. Анненков видел и описал Иванова в конце 30-х годов. По его словам, это был «плотный мужчина с красивой круглой бородой, необычайно умными, зоркими карими глазами и превосходным славянским обликом, где доброта и серьезная проницательная мысль выражались, так сказать, осязательно». Этим словам отвечает и облик Иванова, который запечатлел своим карандашом его младший брат Сергей тотчас же по прибытии в Рим и который позднее был передан в офорте И. Н. Крамским. Лицо Иванова отличалось правильностью черт, но без особенной резкости и остроты. У него был высокий, открытый лоб, прямой, но широкий нос, густая борода — во всем лице отпечаток твердости в сочетании с мягкостью.
В том же самом году, в котором выполнен был рисунок с Иванова, сделан был дагерротипический снимок для отсылки его в Петербург. То же самое лицо, та же коренастая, плотного сложения фигура, закинутые назад волосы, высокий лоб, широкий прямой нос и окладистая борода. Но в этом снимке, в облике художника, в его позе с руками крест-на-крест на груди есть что-то напряженное, отпечаток горечи заметен в сжатых губах, выражение муки в чуть сдвинутых бровях и усталости в его впалых щеках. Видно, жизнь в борьбе и лишениях не могла не оставить своего следа. Недаром в эти годы даже близкие к нему люди задавались вопросом: «Что происходит в его душе?»
Сколько посетителей перебывало за это время в мастерской у Иванова и стояло перед его холстом! Поистине по своей разнохарактерности они могли бы составить галерею, не уступавшую той, которую сам художник запечатлел в «Явлении». Здесь были люди, в глазах которых нельзя было прочесть ничего, кроме светской учтивости, были равнодушные, которых не могло растрогать ни искреннее чувство, ни высокое искусство, были люди самодовольно не желающее ни во что вникать, чтобы не нарушать своего покоя, были, наконец, люди, которым плохо удавалось скрыть свое презрение, недоверие и даже враждебность к чудаку в белой блузе, который в своей работе посмел коснуться самого сокровенного в человеке. Большинство этих любопытствующих, глядя на огромный холст, не видели в нем никакого смысла, так как, прикладывая к нему мерку вложенных в него рублей, использованных красок, потраченного времени, не имели представлений о художественной ценности, к которой неприменимы эти мерки. Между тем от этих людей часто зависела его судьба. Вот почему Иванов испытывал такую тревогу, когда начальство решило почаще наведываться в студию художника, чтобы ускорить завершение дела.
Безропотно выслушивая наставления властей, он трепетал при мысли, что они могут заставить его бросить неоконченной работу и возвратиться в ненавистный Петербург. В письмах его все чаще звучат нотки отчаяния и жалобы. «Чувствую лавину», — признавался он. «Страдаю, как на Голгофе», — пишет он в другой раз. Даже ночью его тревожат страшные сновидения: он собирается в Петербург.
Летнее жаркое время художник проводил за городом в горах. Летом в 1840 году он поселился в местечке Субиаке, которое давно уже привлекало его в связи с работой над картиной. Художник остановился в гостинице под забавным названием «Свидание друзей». Здесь оказалось тогда разноплеменное сборище художников. У хозяина гостиницы были две дочки — Аннунциата и Бенедетта, обе такие хорошенькие, что трудно было решить, какой оказать предпочтение. По вечерам все обитатели гостиницы собирались в общем зале, развлекались пением народных песен, играли комедии, а иногда, к удовольствию местных жителей, под звуки барабана маршировали по улицам города. Иванов не мог не участвовать в этих развлечениях. Но на душе у него было не легко. «Я делал это, — признавался он сестре, — чтобы только не казаться странным».
Он прячется от всех людей, способных отвлечь его от дела. К решетке своей студии он собирался прибить билет с извещением, что художник обещал своим покровителям окончить работу в течение года и потому вынужден прекратить доступ к себе. Многие любопытствующие, несмотря на запрещение, пытались проникнуть к нему, однако художник не откликался на стук. Привратник, привыкший к такому его поведению, на все расспросы отвечал: «Нет дома». Только немногим счастливцам, которым случалось раздобыть рекомендации Гоголя, Жуковского или Смирновой, удавалось побывать у него в мастерской. Но число их становилось все меньше и меньше.
Жизнь в полном одиночестве, которое нарушал только младший брат Сергей, прибывший в 1846 году в Рим, наложила заметный отпечаток на внутренний облик художника. В нем стала развиваться подозрительность ко всем посторонним людям. Однажды после возвращения из Венеции Иванов обнаружил исчезновение из студии некоторых дорогих ему предметов — золотых пуговиц и темно-синей шкатулки. Позднее его обеспокоило то, что в его отсутствие из запертой мастерской были похищены деньги. Наконец он решил, что кто-то в его отсутствие переворошил его бумаги; причем ему показалось, что вещи оказались посыпанными каким-то порошком, от прикосновения которого он почувствовал боль в руке.
Каждодневный быт его стал все более беспорядочным. Погруженный в свои труды, он стал обходиться без обеда, питался сухим хлебом, который носил припасенным в кармане, варил себе кофе сам, доставая воду из соседнего колодца. В результате крепкое от природы здоровье художника оказалось надорванным. В тех случаях, когда друзьям удавалось затащить его в ресторан и там он отступал от обычных правил своей монашеской трапезы, ему становилось так дурно, точно от отравления.
Все это содействовало развитию в нем болезненной мнительности. Иванов становится недоверчив к людям. Среди художников о нем стали ходить всякого рода слухи. В обществе упорно говорили о том, что он помешался, и Гоголю в статье, посвященной Иванову, пришлось опровергать этот вздорный слух.
Впрочем, сам художник давал повод для такого рода слухов, так как перестал понимать многие самые простые вещи. Он не знал цену деньгам, которые с таким трудом получал на исполнение картины, не понимал, что его бесконечные оттяжки на три года, эти вечные tre anni, как шутили друзья, создали ему дурную славу в чиновном Петербурге. Он плохо разбирался в людях, которые к нему приходили, не понимал, что николаевские чиновники — это бездушные манекены, для которых не существовало гуманности, не понимал, что для того, чтобы чего-ни-будь добиться в Петербурге, мало только взывать к великодушию, нужно уметь пустить в ход связи, нужна протекция, нужно знать все ходы бюрократического делопроизводства. Он не понимал того, что большинству «сильных мира сего» нет никакого дела до судьбы художника, даже если он своими трудами может составить славу русского искусства. Всех этих простых вещей Иванов никак не мог понять. У него было только смутное непреодолимое отвращение к Петербургу и такая же смутная надежда на то, что силою своего таланта он сможет кого-то переубедить, что-то доказать и этим добиться правды. Такое поведение и такие воззрения выделяли его из среды художников и создали ему славу чудака, большого ребенка, от которого всегда можно ждать самых странных выходок.
Но поразительно было то, что эти заблуждения, иллюзии нисколько не мешали тому, что с кистью в руках Иванов остро видел, глубоко понимал и выражал в человеке много такого, чего до него никому из русских художников еще не удалось коснуться.
ДЕРЕВЬЯ, КАМНИ, ДАЛИ
…И будто одна и та же дума налегла, тяжелая и широкая, на бесконечное поле и горы, на пропадающую в неопределенной дали зубчатую линию акведуков, идущую целые мили, на пастуха и на крестьянку.
Герцен, «Письма из Франции и Италии».Страна богатой, разнообразной и прекрасной природы, Италия издавна привлекала к себе внимание художников. Их восхищала в ней красота самой земной коры, словно изваянной рукой человека. Берег морской обычно изрезан небольшими бухтами, нередко правильной формы, с водой, то отливающей, как шелк, лазурными и зелеными оттенками, то густо ультрамариновой, как настойка. Самые высокие горы в Италии спускаются обычно террасами, в них нет ничего подавляющего человека несоизмеримостью: в контурах их мягкость. После крутых и суровых альпийских круч это несказанно радует глаз. Жерла потухших вулканов, намытые водой и превратившиеся в горные озера, нередко имеют круглую форму — недаром в окрестностях Рима озеро Неми носит прозвище «Зеркала Дианы».
«Понимаю художников, которым нужна Италия, — писал из Неаполя Баратынский. — Это освещение, которое без резкости лампы выдает все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом, находится только здесь, под этим дивным небом». Действительно, свет и краски составляют особенную привлекательность итальянской природы. В сущности, сама по себе природа ее почти одноцветна: зелень деревьев серая, кипарисы черные, оливы пепельные, земля рыжая. Но бескрасочной ее назвать нельзя, так как в этих благородных оттенках заключено огромное красочное богатство. Но особенно много значит в Италии освещение: правда, полдневное солнце слепит глаза, черные кружки падающих теней ложатся у стволов деревьев. Зато здесь в самых густых тенях сохраняются краски, воздух обычно такой прозрачный, что все далекое кажется близким, осязаемым, все телесное, осязаемое выглядит легким и прозрачным.
Главными местами, которые привлекали к себе путешественников по Италии, были озера в Ломбардии и на юге Неаполь. Римские художники часто отправлялись в окрестные горы, в горные городки, расположенные на Аппиевой дороге. Из Кастель Гандольфо дорога ведет в Альбано вдоль берега озера, обсаженного вековыми дубами. В тени деревьев мелькали яркие костюмы местных жителей верхом на осликах, женщин с их красными платками на головах. У края дороги жалобно гнусавил нищий: «Милости, умираю от голода!» По вечерам его можно было видеть в соседней остерии, где он весело выпивал со своими приятелями. Из аллеи вид прямо открывался на город и его окрестности с оливковыми рощами и садами. В стороне от него, обнесенный белыми стенами, в тени темных дубов высился монастырь капуцинов. Среди городка высоко над черепичными кровлями поднималось несколько мощных кипарисов. Дальше шли лесистые холмы, на которых белели старинные замки и монастыри. Вечером, когда в домиках Альбано зажигались огни, на порогах их появлялись женщины с царственно-гордой осанкой, в садах заливались соловьи и трещали цикады, и даже сама луна в небесной вышине сияла как-то особенно торжественно и важно. Но еще более прекрасно было Альбано рано поутру, когда молочно-белый туман окутывал далекую, чуть розовую Кампанью, из нее выплывала синяя Адриатика и на ней, на самом горизонте. холодным серебряным блеском сверкала узкая полоска.
Природа Италии с первого взгляда поразила Иванова, тем более, что среди шумной итальянской толпы он чувствовал себя несколько потерянным. Вот почему, давая отчет о своих первых впечатлениях, он на втором месте после Рафаэля называет «окрестную природу Рима». Но природа эта долгое время не поддавалась воспроизведению. Художник объяснял себе это тем, что в Академии исторических живописцев не учили пейзажу. Он ограничивался скромными карандашными зарисовками, преимущественно видами городов; даже и не дерзая думать о красках. Во время поездки в Неаполь он выискивал мотивы прибрежных гор, напоминающие Сильвестра Щедрина. Эти карандашные рисунки выполнены тонким контуром, но в них дается намек на воздух и свет, на широкие морские просторы.
Более внимательно и серьезно Иванов начинает работать над пейзажем в связи со своей картиной «Аполлон, Кипарис и Гиацинт» и «Явление Христа Марии Магдалине». Он выполняет с натуры рисунок дуба, у основания которого занимается музыкой древний бог со своими юными друзьями. Рисует горный городок Субиако, который должен был послужить прообразом для дворца на фоне этой сцены, изучает гигантские кипарисы в Тиволи, чтобы представить их в картине «Явление Христа».
Особенно большое значение Иванов стал придавать пейзажу, когда он принялся за «Явление Мессии». Он несколько раз настойчиво добивался возможности посетить Палестину. Но решительное сопротивление, с которым он столкнулся у начальства, заставило отказаться от этого намерения. Иванов принимается за изучение природы Италии, для того чтобы представить себе природу Палестины, места действия «Явления Мессии». Первоначально Иванов придавал этим пейзажам вспомогательную роль. Явление Мессии происходило на каменистом берегу Иордана, на фоне деревьев и полосы далеких гор. В строгом соответствии с этим замыслом Иванов принимается за выполнение этюдов деревьев, камней и далей.
В местечке Аричча, неподалеку от Альбано, издавна славился огромный парк, прилегающий к старинному дворцу Киджи. Парк этот был насажен владельцами усадьбы в XVII веке, но в отличие от других парков около Рима он был запущен, вековые его дубы разрослись, дорожки заросли травой и кустарником, деревья перевиты были, как лианами, вьющимся плющом, и в некоторых местах растительность образовала зеленую непроходимую чащу. В конце XVIII века этим парком восхищался Гёте. Через пол-столетие парк еще больше разросся и одичал. Иванову удалось получить разрешение владельцев и проникнуть в это заколдованное царство. Со своей обычной страстью и самозабвением он принялся за изучение растительного мира, о котором до сих пор имел лишь смутное представление. Он подошел к этой задаче с теми же требованиями, с какими привык подходить к изображению человека. Так же как в основе его рисунков обнаженного тела лежало совершенное знание анатомии человека, так для овладения пейзажем ему необходимо было вникнуть в понимание строения лесных пород. Многие рисунки Иванова и этюды маслом носят характер настоящих анатомических штудий.
Зорко всматривается художник в различные породы деревьев. Тщательным образом он передает мельчайшие подробности, каждую веточку, каждый листик. Вместе с тем художник не упускает из виду представление о дереве, как о чем-то целом. Дерево для него — это не простая сумма листьев. Листья составляют пышную крону, крона прочно держится на ветвях, ветви — на стволе. В могучих дубах парка Киджи художник замечает и передает мерный ритм их наклоненных стволов, круглящихся крон. В его этюдах можно ясно различить отдельные деревья, и вместе с тем несколько деревьев составляют группы, все сливается в лесной массив. В одних этюдах более детально выполнены стволы деревьев на первом плане, но сквозь чащу виднеются дали, написанные более легко и широко. В других случаях передано, как огромные деревья склоняют макушки, как с них свешиваются обнаженные корни плюща и как снизу поднимаются и тянутся к ним навстречу кустарники. Вьющиеся растения обвивают и опутывают стволы и перебрасываются с ветки на ветку. Разросшиеся кусты прячут их корни. Высокая трава закрывает кусты. Иванов самым тщательным образом анализировал каждое дерево, прежде чем передать его. Рисуя карандашом и пером различные породы деревьев, художник меняет характер штриховки и наложения теней. Но в его ранних этюдах маслом еще преобладают условные оливково-коричневые тона.
Такому же внимательному изучению подвергает Иванов и каменистую почву. В этом он не имеет предшественников. Он обращает внимание на богатые вулканическими образованиями окрестности Альбано. Передавая неровную складчатую почву, он выбирает исключительно низкую точку зрения, чтобы особенно выпукло выступили все неровности, бугры и вздутия почвы, вся ее геологическая структура. Он выявляет общую закономерность ее чередующихся и полузакрывающих друг друга неровностей, похожих на вздымающиеся волны.
Внимание художника привлекает к себе каменистый берег горного озера. При передаче его требовалась особенно безупречная точность. Иванов воспроизводит прибрежные камни с зоркостью портретиста, он передает и форму, и строение каждого из них, и следы плесени на их поверхности, и рефлексы от воды. Но, как и в этюдах деревьев, Иванов не отвлекается мелочами, не теряет целого. Нескольких камней достаточно, чтобы возникло впечатление целой бухты с ее чернильно-черной водой, отражающей синеву неба.
Трудно представить себе пейзажный мотив менее занимательный сам по себе, чем группу полузакрытых наслоениями почвы и заросших мохом камней, увековеченных Ивановым. Сколько художников до него проходило мимо подобного рода мотивов, не удостаивая их внимания! Иванов открывает здесь много значительного и прекрасного. Величаво поднимается весь холм, усыпанный камнями. Наполовину вросшие в землю камни различны по форме: одни более заострены, другие закруглены, многие крошатся, вокруг них рассыпан щебень, мох опушил края камней. И'< щелей меж ними вырастает трава и цветочки. Камни эти лиловые с розовыми оттенками, земля рыжая с розовыми отсветами, зеленая трава играет неисчислимым множеством оттенков. Тона сливаются в звучный аккорд.
В этюдах деревьев и камней Иванов подводит зрителя вплотную к предмету и помогает рассмотреть его мельчайшие подробности. Для того чтобы передать в своей картине дальние горы, Иванову пришлось выполнить ряд пейзажей-панорам. В этих этюдах в рамки небольшого холста включаются обширные, неоглядные дали. Художник смотрит на них издали. Он и на этот раз точен в передаче каждой подробности. Иногда в его панорамах видно, как вдали вьется дорога, по сторонам ее теснятся квадратики виноградников, вдали светятся белые кубики далеких домов. Глядя на эти панорамы, точно в бинокль обнаруживаешь множество безупречно точно обрисованных деревьев, кустарников, цветов и других частностей. Но когда отходишь от картины, замечаешь, что, как и в природе, отдельные частности сливаются, погружаются в голубую воздушную дымку, растворяются в ней. Тогда остаются только композиционные доминанты как волны, набегают друг на друга очертания голубых дальних гор, все окутывает седой туман у их подножия, зелено-коричневые массы растительности на первом плане также сливаются в нечто целое. В теряющихся в голубой дымке горах ясно выступает мерный ритм, плавное чередование их взлетов и спусков, как бы биение пульса.
Панорама, как особый вид пейзажа, отвечает потребности человека отойти на расстояние от природы, среди которой он живет, оглянуться на нее оттуда, откуда в ней заметны только общие закономерности, воспринять природу глазом летописца, который, как в исторической перспективе, проходит мимо частности, но зато открывает общую последовательность в поступи событий. В панорамах Иванова зритель остается один на один с безграничным, тающим в голубой дымке простором. Но он не испытывает чувства грустного одиночества. Наоборот, его воодушевляет способность охватить огромный круг явлений одним взглядом.
Одновременно Иванов изучает освещение, воздушную среду, краски природы. Такое в настоящее время всем известное явление, как изменение одного и того же мотива в разное время дня, тогда не замечалось, недооценивалось большинством пейзажистов. Иванов сосредоточивает на нем все свое внимание. Он самым тщательным образом отмечает, когда выполнен этюд: утром, в полдень или вечером. Ему действительно удается передать отдельные состояния природы: то предрассветный час, когда горы погружены во мрак и только на небе над ними загораются золотые облака, то утренний сиренево-молочный туман, окутывающий дальние предметы, или, наконец, ослепительно палящее полдневное солнце. Он открывает прелесть темной лесной чащи, сквозь которую проглядывают просветы неба. В окрестностях Помпеи он приходит на одно и то же место по нескольку раз и рисует равнину, завершенную грядой далеких гор при разном освещении. То розовеет вечер — рощи мерцают золотом, то небо становится холодным — горы темнеют, гуща зелени наливается лиловыми тенями, то, наконец, горы сливаются с зеленью долины, и над ними появляются легкие перистые облачка. Иванов открывает красочные нюансы, которых до него не замечало большинство пейзажистов.
Выполняя свои пейзажные этюды, Иванов часто забывал обо всем на свете. Художник, которому общение с товарищами по искусству доставляло столько огорчений, который привык ожидать от своих «покровителей» одни только выговоры, в общении с природой находил высокую и чистую отраду.
Недаром он и отца своего пытался сманить в Рим, рисуя перспективу совместной работы на лоне природы.
Вместе со своими товарищами художниками Иванов отправлялся на этюды и не без задора вызывал на соревнование одного из них. «Хочу посмотреть, как вы обнимете природу», — писал он ему.
Но художник не ограничивался этюдами с натуры, имевшими для него вспомогательное значение. Он признавался, что «портретным образом работать ландшафты гораздо легче, чем идеальным». Это не значит, что он собирался вернуться к академическому пейзажу, по большей части надуманному, и ради этого отречься от своих достижений в пейзаже-портрете. Но его не удовлетворяла только та художественная правда, которую можно добыть за этюдами с натуры. Не отступая от нее, он искал обобщающий образ природы. В самих этюдах его уже заметно стремление передать не только тот или другой мотив в Альбано, Тиволи или под Неаполем, но и общую характеристику природы отдельных мест и городов Италии: увенчанного собором св. Петра силуэта Рима, приветливо зеленеющих Альбанских гор и их ярко-лазурных озер, складчатых гор близ Неаполя. Он чувствовал прозрачность воздуха римской Кампаньи, молочно-белые туманы Понтийских болот. После долгих поисков он улавливает улыбку природы в знойном воздухе и в ослепительных красках Неаполитанского залива.
В работе над этюдами Иванова можно заметить строгий, взыскательный отбор не только таких мотивов, которые могли ему пригодиться в картине, но и таких, которые отвечали всему мироощущению художника, его поэтической натуре. Многих путешественников поражала в Италии красочная прелесть южных лунных ночей, но Иванов избегал в природе все кричащее и бьющее на эффект, и потому подобных закатов даже и не пытался изображать, волшебнице лун» он отвел в «Ave Maria» строго определенное место. Иванов много писал воду, но бушующих волн, от которых у зрителя должно падать сердце, он не изображал. Не желая ограничиться фрагментарными кусками природы, случайными от нее впечатлениями, он искал прежде всего целостности природы, ее спокойной, величавой красоты, которая разлита всюду, начиная с могучих гор и огромных деревьев и кончая малейшей былинкой или потрескавшимся камнем. Все входит составной частью в ее величественное целое. Вдохновленный этим высоким чувством, во всеоружии добытого упорным трудом мастерства, Иванов создает свои шедевры пейзажа.
В Альбано на склоне холма внимание Иванова привлекало несколько молодых олив, которые вырисовывались на фоне далекой равнины. Подобие этих олив в картине можно видеть прямо над головой Иоанна Предтечи. И вместе с тем картина «Оливы в Альбано» — вполне самостоятельное, законченное произведение. При всей непосредственности впечатления она отличается глубокой продуманностью и цельностью своего замысла. Представлены всего несколько тонкоствольных, причудливо изогнутых деревьев, уходящий вглубь ров, груда камней и вдали еле заметная голубая полоска равнины и моря. Но самое замечательное в этой картине это не ее мотив, а то, что глаз зрителя постепенно, как это бывает и в действительности, обнаруживает на прозрачном вечернем небе узкий серп только что народившегося молодого месяца; также не сразу бросается в глаза, но все же замечается на фоне желто-оливковых деревьев второго плана бледно-сиреневая полоска Адриатики; поэтичное в картине как бы полузакрыто, спрятано за обычными вещами. В пейзаже этом передано то состояние природы, когда стихает день, но еще не наступила ночь, тот особенный момент, который для лирического поэта особенно привлекателен.
После сурово-величавого Рима Неаполь поражает путешественников яркостью своих красок, обилием света, знойностью солнца, упоительной прелестью лунных ночей, негой, разлитой в его воздухе. По поводу Неаполя еще Герцен признавался: «В теплом, влажном, вулканическом воздухе дыхание, жизнь — нега, наслаждение, что-то ослабляющее, страстное». И он восклицал: «Стой, путник, — лучшего ты не увидишь!»
В своей картине «Неаполитанский залив» Иванов стремится к впечатлению спокойного величия и благородной мощи. Сосредоточив все внимание на горе, которая высится над Кастелламаре, он размещает ее в картине таким образом, чтобы вся она целиком входила в ее пределы, чтобы и вытянутый формат воспринимался как нечто производное от этой горы. И вместе с тем он выбрал такой вид на залив, чтобы края залива зеркально соответствовали очертанию горы. В картине нет полной симметрии, в ней много глубины и движения и вместе с тем все в ней уравновешено, замкнуто. Мягкий контур горы как бы рифмуется с белопенным краем залива. Вот почему таким величавым спокойствием веет от этой картины.
Всего лишь за двадцать лет до Иванова в этих же краях писал свои картины Сильвестр Щедрин. В «Большой гавани в Сорренто» горизонт замыкает та самая гора, которая составляет основной мотив у Иванова. Но у С. Щедрина воздух прозрачен как стекло, горы выглядят хрупкими, море безмятежно, поверхность его зеркальна; в фигурках людей царит та же идиллическая безмятежность. Иванов достигает большей полноты и многосторонности в передаче приморского пейзажа. У Щедрина горы похожи на плоские кулисы. Иванов, выделяя складки, подчеркивает, что гора широко расползлась, что ее можно обойти со всех сторон. Им передано не только геологическое строение горы, но и ее пушистая зелень, переданы, освещенные косыми лучами солнца, белые кубики домов у ее подножия и даже их окна. Это не помешало художнику создать ощущение голубой дымки дали и густых синих теней в складках горы — ощущения южного знойного воздуха. Небо, море, берег и прибрежная гора, эти основные стихии природы, увековечены в их неразрывной сопряженности. Гора у Иванова широко расползается, море плещется о берег — ясно видна сила прибоя. И в этом решительное отличие бухты Иванова от соррентских бухт Щедрина с их как бы застывшими горами и мирным плеском волн. Иванов идет к более глубокому раскрытию действенных сил природы. В этом пейзаже представлено не раннее утро и не поздний вечер. Художник смотрит прямо в глаза южному знойному полдню. Вот почему такой полнотой счастья, зрелостью веет от этого пейзажа, почему картина не усыпляет зрителя, не умиляет его, не пробуждает в нем личные настроения, но внушает ему гордое сознание его причастности к этой величавой красоте.
Римская Кампанья давно привлекала внимание путешественников. В своих «Письмах из Италии» Шатобриан находил в римской Кампанье печальную тишину и одиночество, напоминающие следы разрушения Тира и Сидона. Он отмечал красоту горизонта, мягкое чередование планов, нежную закругленность контуров, особенный, гармонический тон воздуха, который так соединяет противоположности, что невозможно определить, где кончается один оттенок и начинается другой. Герцен с особенной проницательностью воспринял красоты римской Кампаньи в их нераздельном единстве с историческими воспоминаниями. «Всегда печальная, всегда угрюмая, она имеет одну торжественную минуту — захождение солнца, тут она соперничает с морем… Печальная Кампанья неразрывно связана с развалинами древнего Рима: они дополняют друг друга. Что это, в самом деле, за невероятное величие в этих камнях? Недаром на поклонение этим развалинам является каждое поколение со всех концов образованного мира».
Иванов был поражен тем видом, который открывается на город на девятой версте по пути в Альбано. По обеим сторонам от древней римской Аппиевой дороги торчат остатки каменных римских надгробий, за ними виднеются аркады акведука Клавдия, вдали над городом поднимается купол св. Петра, а за ним на горизонте горы Витербо. «Если бы вы видели место в хорошую погоду, — пишет он, — и при полном освещении, то не знаю, что другое понравилось бы вам после этого».
Картина «Аппиева дорога» 1845 года характеризует полную зрелость художника в пейзаже. Судя по акварельным этюдам, художник работал над ней, как над настоящей, законченной картиной. Главные предметы в ней отодвинуты на самый дальний план. На этот раз не было деревьев первого плана, которые могли бы служить опорной точкой. На первом плане почти ничего не видно, на втором — небольшой холмик, затем идет группа развалин, после этого второго плана — интервал, и в значительно меньшем масштабе видны далекие здания и среди них— купол св. Петра. Первый план картины — покрытая вереском земля — трактован несколько суммарно и даже грубо, он и не должен останавливать на себе особенного внимания. Наоборот, с безупречной точностью и бережностью кисть художника передает дальние предметы. Вот почему маленький силуэт собора вырастает до значения символа всего города. То самое волнение, которое испытывали путешественники, приближаясь к Риму по Фламиниевой дороге с севера, когда возница кнутовищем указывал им на горизонт и говорил: «Вот он, святой Петр», — нашло себе живописное выражение здесь в изображении Аппиевой дороги.
Солнце уже спустилось за горизонт, наступают сумерки, все становится полупрозрачным. Малиново-коричневые, словно тлеющие во мгле, развалины зданий высятся на расстоянии друг от друга, как странные призраки. Холмы похожи на здания, развалины — на живые существа, горы — на полоску моря, и здания, озаренные желтым светом, сливаются с небом. Все меняет свой обычный облик, небо из голубого на зените превращается в желтое, и такие же лимонно-желтые дальние горы. Краски настолько чисты, что кажется, горы прозрачны, как цветное стекло, свет пронизывает их, разливается по всей картине. Иванов ничего не присочиняет, не фантазирует, но в торжественный момент заката он не может не отметить тех превращений, которым подвергается обычно невзрачная и печальная Кампанья. «Аппиева дорога» может быть названа историческим пейзажем, это поэма в красках о «Вечном городе».
Внимание Иванова привлекло к себе лимонное, или померанцевое, дерево с раскинутыми во все стороны ветвями и плотными блестящими листьями, и он зарисовал его в свой альбом со стоящим под ним осликом. Ослик и свешивающаяся над ним ветка — это характерный, почти банальный мотив итальянского пейзажа. При переводе рисунка в картину «Ветка» Иванов опустил фигурку ослика. Фрагмент приобрел самостоятельное значение. Предельно суживая поле зрения, ограничившись всего только одной веткой на синем фоне далеких гор, художник выразил в ней целый поэтический мир.
Ветка тщательно, точно обрисована художником. Уверенной кистью он передает, как изгибаются сучья, гнутся, ломаются, пересекают друг друга, сплетаются в красивый узор и широко раскидываются во все стороны. В одном ритме этих сучьев есть то выражение полноты жизни, которое Баратынский считал в южном дереву символом счастья. Почти каждый листик дерева нарисован и выписан отдельно, каждый лист на своем месте, каждый прикреплен к ветке, светлые выступают вперед, темные прячутся за передними, третьи видны в перспективном сокращении, четвертые пронизаны светом и выглядят желтыми, наконец есть и такие, которые почти сливаются с синим небом. В отдельных случаях Иванов сбивает контур, так как он знает, что ничто не может быть более трепетным, чем листва дерева. В самих порывистых ударах кисти дается ощущение живого трепета жизни.
Ветка выделяется на фоне далекой лиловой горы и голубого неба. Зеленое, лиловое и синее — вот основной красочный аккорд в этом этюде. Художник подмечает в ярко-синен горе несколько зеленых полос, они соответствуют зеленым листкам ветки. Вместе с тем отдельные листочки в тени написаны голубым, и это также связывает ветку с далью. Иванов воссоздал в своем холсте почти режущую глаз синеву далеких гор, которую до него никто не решался ввести в искусство. Влажный воздух дрожит в теплых лучах полдневного солнца. Упоенье красочностью южной природы рождает ощущение редкой полноты человеческого счастья.
Иванов, видимо, и не пытался состязаться с присяжными пейзажистами, любимцами публики. Заказчики имели свои притязания к пейзажистам. Если изображался Рим, то нужно было, чтобы его главная достопримечательность вроде собора св. Петра прямо бросалась в глаза. Если в пейзаже изображен был Неаполь, нужно было, чтобы над ним царил дымящийся Везувий в обрамлении пиний. Иванову были глубоко чужды эти банальные условности пейзажной эстетики. Он не считался с ними. Этим объясняется, что его пейзажи и не ценились, никто не придавал им значения.
В Риме и в его окрестностях можно было видеть множество художников разных национальностей, которые бродили с места на место с этюдниками в поисках живописных мотивов.
Среди всех этих трудившихся в то время в Италии живописцев только один Коро может быть назван попутчиком Иванова. В своих этюдах с натуры молодому Коро удавалось также непредвзято, как Иванову, подходить к природе и добиваться поэтической свежести, ясности построения и чистоты тона. Между тем оба мастера не знали друг друга, каждый из них вполне самостоятельно преодолевал традиционные композиционные схемы и условный «музейный коричневатый тон». Но в поздних картинах Коро природа выглядит погруженной в атмосферу мечтательной туманности, деревья его окутаны дымкой, недаром он называет многие свои пейзажи «Воспоминания об Италии». Пейзажам Коро присущ тонкий лиризм, он мастерски развил искусство намека, он достигал в своих пейзажах гармонии серебристо-сизых и нежно-оливковых тонов. Русский мастер никогда не придавал такого значения личному моменту, лирическим переживаниям. Но красота, красочность, разнообразие, величие и прелесть природы — все это составляет неотъемлемую часть пейзажа Александра Иванова. В этих работах он подходит к задаче передавать жизнь природы в ее изменчивости, в трепете, в переливах, к задаче, которая позднее так увлекала всех живописцев нового времени.
КРУШЕНИЕ НАДЕЖД
…Черт бы побрал всех этих художников, музыкантов, пьянистов и живописцев!.. Поднесут какую-нибудь дрянную акварель или статуэтку, — а им по знакомству и плати втридорога.
И. С. Тургенев. «Вечер в Сорренто».Иванов пришел к твердому убеждению, что искусство требует самопожертвования, и недаром еще в Петербурге в момент вступления в жизнь отказался от мысли о женитьбе. Он и позднее оставался верен своей идее. В 1843 году он призывал друга не связывать свою судьбу с женщиной: «Вы будете беспокоиться и страдать, пока не выберете себе один путь». Под этим одним путем он понимал творчество — искусство. Все это не исключает того, что на чужбине Иванов постоянно чувствовал свое одиночество, и потому мысль о женитьбе не оставляла его, тревожила.
У него давно уже сложилось высокое представление об идеальной женщине, подобной воспетой молодым Гоголем прекрасной Алкине с ее мраморными руками, божественной грудью и темными локонами, о красавице, перед которой юноша благоговейно падает на колени с жаркими слезами на пылающих щеках. Правда, это была всего лишь поэтическая мечта художника. Разве только в красавице из Альбано, которая досталась другу, было нечто от этой высокой, недоступной красоты. Он же постоянно общался с женщинами совсем иного рода. Все эти Сусанны, Марианны, Сабины, Чечилии, которые служили ему моделями, были натуры несложные. Мужья их в поисках заработка уезжали из Рима, и, когда все тягости семьи ложились на них, они шли в мастерские художников и позировали им. Молодые художники легко с ними сходились и также легко расходились, писали с них своих Сусанн и ваяли нимф. Не было такого новичка, который не оказался бы запутанным в любовные интриги.
Осенью 1845 года Иванов признавался приятелю, что веселился в Альбано с местными красотками; он оправдывался тем, что прощался с любовью. Но мысль о браке, видимо, часто приходила ему на ум. Этому мешало, что в светском обществе на художника смотрели, как на пария. За примером было не далеко ходить: Федор Иванович Иордан совсем сдружился с русской семьей Альферьевых, но из его сватовства к их дочке ничего не вышло, так как родители считали недостойным выдавать ее за художника.
В 1846 году Иванов через Гоголя получил доступ в русский дом Апраксиных, которые появились в Неаполе летом этого года и оставались здесь зимовать. Глава семейства граф В. Апраксин не покидал Петербурга, в Неаполе жила только его жена Софья Петровна, ее сын и две дочки. Младшая страдала тяжелой неизлечимой болезнью. Врачи предписали ей теплый климат, и ради нее мать обрекла себя на одиночество в Неаполе, вдали от петербургской светской жизни, к которой она была кровно привязана.
В доме задавала тон его хозяйка Софья Петровна, которая питала восторженное чувство к единственному сыну Виктору. Жертвуя собою ради своих детей, она любила всем и всякому напоминать об этом своем материнском самопожертвовании. В Неаполе она скучала прежде всего потому, что здесь было мало домов, с которыми можно было вести знакомство, а к неаполитанскому двору, на балы, русских аристократов приглашали не чаще двух-трех раз в году. Красоты Италии и ее достопримечательности мало занимали ее: конечно, это странно, что в Палермо розы цвели в декабре, а на рождество лил дождь; но за отсутствием других интересов все это быстро приелось и надоело. Жизнь Софьи Петровны заполняли заботы о здоровье детей, особенно о ее собственном здоровье. Изо дня в день она тщательно записывала в журнал, как провела ночь, какой у нее был аппетит, какое влияние оказал сирокко на ее ревматические боли, какие гомеопатические средства ей помогли и что дала бутылка «Шато-Марго» за обедом. Институтское воспитание оставило на ней след и сочеталось с замашками чисто русской барыни. Она предпочитала и думать и говорить по-французски, восклицая на каждом шагу: «О, mon dieu!» (О, мой бог!) Но в своих письмах и хозяйственных распоряжениях не могла удержаться от того, чтобы не перемешать французские словечки с чисто русской речью: Apportez moi du пришлите мне) зеленый пластырь мозольный, charbon (уголь) березовый pour les dents (для зубов)».
Сад в Альбано. Конец 1840-х годов.
Гоголь познакомился с Софьей Петровной через ее брата Ивана Петровича Толстого. Судьба свела его с нею в тот момент жизни, когда его проповедь патриархальной морали сделалась для него настоятельной необходимостью иметь постоянно перед глазами склонную к мистике, набожности и к ханжеству аудиторию. Софья Петровна, которая в бытность в России интересовалась литературой и наукой и даже посещала публичные лекции в Московском университете, примкнула к кружку поклонниц Гоголя-проповедника. Дамам подобного рода он посвятил свои «Выбранные места». Она находила книгу эту глубокомысленной и сделала ее своей настольной книгой. Находясь на чужбине, Апраксина должна была пожертвовать некоторыми из своих аристократических привычек. По взглядам светского общества, художник был всего лишь ремесленником, которого после сеанса не всегда возможно пригласить к обеду, особенно если он не умеет себя держать comme il faut. Между тем рекомендованный Гоголем, с которым оказался в Неаполе, Иванов неоднократно приглашался к столу Апраксиных и попал в число protegés Софьи Петровны. «Le peintre russe» (русский живописец), — его именует в переписке Апраксина. «Il est malheureux aussi. Que lui avez vouz dit d'encourageant?» (Он так несчастен. Что сказали вы ему ободряющего?) — спрашивает она своего корреспондента.
Иванов был тронут тем, что аристократы не отвергали его общества. «Я у образованнейшей вельможи, — пишет он брату, — и меня здесь полюбили». Правда, стеснительность его не исчезала. Правда и то, что с ним мало церемонились: то ласкали его, то отвергали, и однажды даже не пригласили на рождение дочери, когда этого приглашения он так ожидал. Но Иванов кротко сносил обиды, хотя однажды он уже решил совсем уехать из Кастелламаре в Неаполь и остался лишь после того, как в последний миг получил приглашение к обеду. Иванов не решался говорить о своих взглядах на искусство среди собратьев. Но Апраксина сумела заставить обычно молчаливого художника высказать свои мысли о самом ему дорогом — о призвании художника, и он был глубоко растроган тем, что его слушали, что ему кивали головой и что скучающие среди чужого им мира русские бары находили речь его занимательной.
Неизвестно, как это случилось, но художник решил, что старшая дочь Апраксиной, Мария Владимировна, полюбила его и что брак с нею принесет ему счастье, какого он еще никогда не испытал в своей жизни. Разницы в общественном положении он не забывал, но со свойственным ему простодушием верил, что чистое чувство между «девой благородного рода» и «бедным художником» может сделать эту разницу незаметной.
Мария Владимировна отличалась миловидностью. Иванов мысленно сравнивал се с головками Леонардо. Она получила светское воспитание, знала иностранные языки, любила балы, танцы и другие развлечения. Иванов решил, что она сможет стать ему верной подругой, и за отсутствием других достоинств у своей избранницы строил фантастические планы о том, что знание иностранных языков поможет ей ознакомить его с новинками «западной учености». Мысль о женитьбе крепко засела в сознании художника. Не обладая искусством светского обращения, он не умел скрыть от посторонних свои намерения, вел себя, как большой ребенок, и обнаруживал всякое неудовольствие признанием собственной невменяемости. Иванов просил Софью Петровну помочь ему в его делах и повлиять в пользу него на петербургское начальство, у сына ее он просил солидную сумму денег на покупку книг для русских художников.
В конце концов Софья Петровна Апраксина решила, что «le peintre russe» (русский живописец) не в своем уме, и насмешливо запросила Гоголя, может ли тот поручиться за умственные способности рекомендованного им приятеля. Видимо, и самого Гоголя смущало поведение Иванова, и, для того чтобы удержать его от дальнейших бестактностей, он передал ему слова Софьи Петровны. Они больно задели Иванова, хотя он и оставался далек от глубокой обиды на друга. В конце концов брак Иванова с Марией Владимировной так и не состоялся. Она вышла замуж за князя Мещерского. Но крушение надежд оставило глубокий след в сознании художника. «Лета мои уходят, — писал он, — ас ними и те дни, в которые человек должен бы быть сопричастен самым высоким наслаждениям жизни. Главной целью жизни для него оставалось «совестливое окончание трудов». Ни одного упрека по адресу судьбы не вырвалось из уст художника, и только один вопрос он не мог в себе удержать: «Неужели мы всё еще живем в те суровые времена, когда нельзя в то же время прибавить и самые высокие наслаждения жизни, составляющие полноту человеческого блаженства?»
В своих отношениях с Гоголем Иванов обычно уступал ему во всем, признавая его умственное превосходство. Гоголю был свойствен дружески-покровительственный тон по отношению к художнику. Еще в 1843 году в связи с волнениями Иванова и готовностью его бросить все и отправиться в Петербург, Гоголь взывал к его благоразумию, настойчиво советовал ему остаться в Риме. В 1846–1847 годах новая вспышка беспокойства Иванова вывела Гоголя из себя. Гоголю стало известно, что, оказавшись в затруднительном положении, Иванов пишет куда попало, взывает к милости вельмож. И скоро к Гоголю стали отовсюду поступать запросы. Гоголю стало очевидно, что Иванов пришел в то возбужденное состояние, в котором он мог наделать много глупостей и только напортить своему делу. От Иванова Гоголь получил письмо с утопическим планом устройства русских художников. Иванов особо рассчитывал на помощь литераторов, и в частности Гоголя. По мысли Иванова, литераторы должны стать чем-то вроде толкачей между художниками и власть имущими: охраняя их от того недопонимания, от которого, по его мнению, так страдало искусство, Иванов приглашал Гоголя «своим гениальным пером приготовить государя на верную оценку наших художественных произведений». Художник хватался за мысль о помощи писателя как за соломинку, но не подумал о том, в каком состоянии находился в то время сам Гоголь. А положение Гоголя было тогда далеко не блестящим: неудачи со второй частью «Мертвых душ» довели его до готовности отреченья от писательской деятельности. Даже обожаемый Рим был ему теперь противен. Нет ничего удивительного, что проекты Иванова занять место секретаря вызвали в нем взрыв раздражения. «Запритесь в свою студию, — писал он, — гоните лукавого». Иванов болезненно воспринимал назидания Гоголя. Несколько раз Иванов оставлял его письма нераспечатанными.
Хотя Иванов неизменно благоговел перед гением Гоголя и дорожил его мнением, он находил, что тот недостаточно вникает в творческие интересы художников, и называл его поэтому «теоретическим человеком». В остальном размолвка не могла поколебать годами сложившейся дружбы. Стоило Гоголю узнать о нездоровье Иванова, и в тоне его письма к художнику вновь появляются нотки самой искренней ласки. Со своей стороны, и Иванов быстро забывает нанесенные обиды и с большой теплотой отвечает ему.
В годы, когда Гоголь создавал свои «Выбранные места из переписки с друзьями», Иванов стал снова часто встречаться с ним и вести долгие беседы. Многое из того, что русские читатели прочли только в 1847 году, он еще ранее слышал из уст самого автора. Трудно было ему не избежать на себе воздействия Гоголя, но стать его верным последователем он не мог. Иванов готов был признать, что искусство должно служить духовному воспитанию человека, но отказаться от искусства ради проповеди прописной морали он не желал — это претило всей его артистической натуре.
За несколько лет до выхода в свет «Выбранных мест» Гоголя Иванов должен был выдержать натиск еще с другой стороны. В 1845 году в Рим прибыл Ф. В. Чижов. Он находился тогда под обаянием московских славянофилов. В Риме в то время жил Н. И. Языков, которого славянофилы считали своим самым боевым поэтом. Со всею страстностью своей натуры Чижов прилагал усилия, чтобы сделать из Иванова художника-славянофила. Было много доводов, которые не могли не подействовать на Иванова, так как они соответствовали его собственным воззрениям. Славянофилы говорили о гниении современной западной культуры и обосновывали это историческими экскурсами в прошлое. Иванов видел, как в Риме деградировало современное искусство, и поэтому должен был согласиться с ними. Чижов говорил о том, что славянофилы по достоинству оценили самобытную культуру древней Руси, народное творчество, старые летописи, и это также должно было привлекать Иванова, который на чужбине так стремился к русской старине и в Москве видел средоточие ее лучших традиций. Но Иванов не стал славянофилом. Его творчество и в эти годы никак не укладывалось в узкое русло славянофильской теории.
В вопросах общественно-политических Иванов не отрекается от понятий, выработанных в дни ранней молодости. Говоря о царском правительстве, он неизменно называет его «деспотической властью» и в этом расходится со славянофилами, защитниками монархии. В царских чиновниках его возмущает «насильство невежественного властелина». Сознавая себя художником-демократом, он дает себе зарок держаться в стороне от «высоких лиц по роду».
На чужбине, оторванному от родной среды, Иванову было трудно понять все, что творилось тогда в России. Со времени отъезда из Рима Рожалина он не имел возможности общаться с представителями передового крыла русской дворянской интеллигенции.
В 40-х годах и Гоголь, и Языков, и Чижов тянули его назад. Наперекор этому он самостоятельно шел к осмыслению самых жгучих вопросов современности. Судьба русской культуры продолжает занимать его внимание. На чужбине особенно болезненно воспринималась им недооценка русских людей и русских достижений, засилье иностранцев в самой стране и рабское подражание всему чужому. Он испытывает живейший интерес к русскому прошлому и гордится им. «Быть русским — счастье», — заявляет он.
Но в каких условиях художник сможет полнее всего выполнить свой долг и служить своему призванию? По этому вопросу понятия Иванова довольно сбивчивы и непоследовательны. Гнет деспотизма он испытывал на себе и видел на судьбе всего русского искусства. Он понимал, что исполнителями воли царя служат вельможи. Но он пытался внести разграничение между достойными вельможами и мелкими чиновниками. Иванов готов был поверить, что волей монарха может быть восстановлена справедливость. Он даже пытался придать этой надежде историческое обоснование ссылкой на то, что в России, «начиная от порабощения татар, все клонится к тому, чтобы собрать могущество в руки одного».
Пытаясь привести в систему свои мысли, Иванов изложил по пунктам «Законы художников». Он мечтал о восстановлении такого порядка вещей, при котором судьбою римских художников будет ведать посланник и вместе с тем будет обеспечена их автономия и преобладание среди них старших. Для этого он предлагает упразднить ненавистное директорство, а средства, отпускаемые на него, употребить на улучшение состояния искусства. Художникам он считает необходимым дать полную свободу и право представлять свои отчеты вполне добровольно; посланник может посещать студии художников только с их согласия (видимо, горечь собственного опыта продиктовала Иванову этот пункт программы). Он мечтает о праве академии в случае, если приказ монарха будет несообразен с интересами искусства, вновь обращаться с докладами по этому вопросу — иными словами, вносить коррективу в монаршие решения. В проекте Иванова бросается в глаза наивная вера во всесилие закона, доверчивое отношение к доброй воле властей.
Судя по черновикам «Законов художников», можно видеть, как трудно было даже такому вдумчивому человеку, каким был Иванов, разобраться в сложных противоречиях современности. Он шел впереди своих собратьев: большинство из них даже не задумывалось над этими вопросами. Но, видимо, оторванность от передовой русской общественной мысли мешала ему так глубоко подойти к вопросу о судьбе русского искусства, как это удавалось русским просветителям. Это толкало Иванова на путь утопического прожектерства с примесью маниловщины.
Летом 1847 года, когда художник гостил в Неаполе у Апраксиных, он сделал попытку изложить свои размышления в связной форме. Сочинение, занимающее небольшую тетрадку, он назвал «Мысли, приходящие при чтении библии». Название это не вполне соответствует содержанию рукописи. Правда, многое в этом сочинении действительно навеяно библейскими текстами, с которыми Иванов был близко знаком и многие из которых он помнил наизусть. Но наряду с этим он говорит и о событиях современной жизни, много места уделяет своим мечтам, настроениям и воспоминаниям. В странной, беспорядочной последовательности художник пытался закрепить поток своих переживаний, раздумий и образов, которые переполняли и волновали его.
«Мысли» Иванова — единственное в своем роде сочинение и по своему содержанию и по форме изложения. Если подходить к ним, как к философскому трактату, придется признать в нем отсутствие элементарной последовательности, отрывочность и бездоказательность. Если, основываясь на ярких образах, страстном чувстве, рассматривать «Мысли» как поэтическое создание, бросается в глаза стилистическая беспомощность автора. Главное значение «Мыслей» в том, что они дают представление о том накале чувств и духовном напряжении художника, которыми сопровождалось его творчество. Если бы от Иванова сохранились только его «Мысли», но не было его дивных живописных созданий, они потеряли бы для потомства интерес. Но поскольку свои мысли и чувства Иванов сумел с несравненной полнотой и чистотой выразить карандашом и кистью в рисунках и картинах, его неуклюжая поэма приобретает значение творческого дневника, комментария неумелого писателя к делу рук замечательного художника.
Иванов приступает к своим записям в покаянном настроении. Он вспоминает о первых людях, об изобретении плуга — ради того, чтобы призвать самого себя к труду, высказать намерение окончить свой многолетний труд. Для этого необходимо удалиться от людей и сосредоточиться. С горечью говорит он о своих товарищах художниках. «Искушений тысяча, против которых нет сил устоять», — признает он, каясь в своем честолюбии, высокомерии. Он корит себя за лень, бездеятельность, дает обет заняться проектом храма в память победы русских в 1613 году, перечисляет свои недостатки: необразованность, душевную неуравновешенность, зависть к успехам других. Ведь высокая цель русского художника «смягчить нрав государя на благо моего отечества». И вот ему уже рисуется светлая утопическая картина: «Придет время, что перед ужасным делом царя будут посылать художников к нему с их произведениями, чтобы расположить его к милости и укротить». Одними просьбами к начальникам академии можно будет поправлять все их подлости. Бороды и кафтаны художников заставят царя принять меры, чтобы полиция лучше обращалась с простым народом. «Нужно сделаться постоянным сторожем спокойствия собственного. В глубоком спокойствии только можно найти всеместную гармонию». Тогда только художник станет «жрецом будущей России». Обычные зрители замечают лишь части произведения, гений имеет возможность охватить их совокупность.
В Римской империи царило зло и высокомерие, которое привело ее к гибели. От России народы ждут благоденствий. Россия породила свои народные дарования — Крылова и Кулибина. Образцы стойкости и мужества — это Моисей[8] и Ян Усмарь[9]. «Удивляются Яну Усмовичу, вырвавшему шкуру у разъяренного быка». «Удивятся и мне, если в разъяренный час государя я его не только успокою, но и обрадую». Как Саул утишал смятенный дух царя Давида[10], так русский художник будет смягчать нрав царя, играя на гуслях или показывая ему свои эскизы.
Не всегда побеждают физически сильные. Израильтяне были изнурены, а хананеяне[11] крепки, но победил избранный народ. То же произойдет и с русскими. Пророк Исайя говорил о горе, которая будет превыше иных холмов и к которой придут все народы. Эти пророческие слова относятся к славянским народам. Они доставят человечеству «златой век». Человечество будет жить в полном мире, прекратятся войны, водворится вечный мир, премудрое царствование будет так прочно, что все прочие государи придут советоваться с ним. «Все отрасли ума человеческого, требующие глубокого мира и спокойствия, получат полное свое развитие, а в особенности живописцы исторические». Но это в далеком будущем. В современности происходит иное. Перед эпохой «златого века» человечества уныние людей будет велико, как никогда еще не бывало.
В прошлом человечество шло двумя путями: анализа и веры. Одни стали загружать религию символикой, отягощать народ великолепием богослужения, занялись отвлеченными богословскими спорами. Другие решили, что Христос был только человек, забыв, что «только тот может постичь высоту человека в Христе, кто сам ему подобен». Это привело к совершенному распадению нравов, к тому, что пошатнулись добродетели. Вскоре должно совершиться нечто иное. «Как молния блещет и видима бывает в небе от одного края до другого, так будет явление царя в духе Истины». «Будут потрясения, низвержения его народов, гибель эгоистов… До сих пор таланты и гении страждут… Но в непродолжительном времени они получат надлежащий суд и оценку». Явится некий избранный, который никогда не действует в гневе. Седьмая часть планеты присуждена установить вечный мир на земле. Художники будут этому содействовать. Но для этого необходимо, чтобы им оказывали поддержку и избавили их от «подлейшего чиновничества, нас на каждом шагу угнетающего».
Изложенное высоким слогом пророчество перебивается глубоко задушевным признанием другу — речь идет о женщине-соблазнительнице, об ее угрозах, об испытанном унижении, о врагах в деле получения паспорта и о благодарности за кров у Софьи Петровны и, наконец, о встрече с художником Михайловым, который хвастал своими связями и от докучливости которого автор «Мыслей» счастливо избавился, когда тот напился пьян.
В заключение речь идет о том, как в поисках уединения он удалился в каштановую рощу, погрузился в размышления, как его прогнали оттуда неаполитанские мальчишки, как он почувствовал трепет, упал в обморок и решил, что художнику не следует жениться, ибо создание его есть его детище. Тут охватило его чувство, что все, что ни свершается с ним, свершается по воле провидения.
В своих записях Иванов с почти стенографической точностью закрепил весь причудливо беспокойный ход своих размышлений. Быстро мелькают мысли, беспорядочно нагромождаются образы, воспоминания, пророчества, признания, цитаты. Мысль то скачет с головокружительной быстротой с предмета на предмет, то кружит вокруг одной темы и по нескольку раз возвращается к ней.
Если бы графине Апраксиной пришлось заглянуть в эту тетрадь, она могла бы усомниться в здравом рассудке художника. Действительно, автор то уносится в заоблачную высь и теряет под ногами почву, то путается в собственных измышлениях, в предрассудках, в преданиях, в текстах. Художник, который отличался такой ясностью и стройностью в своих живописных созданиях, на этот раз дал бесконтрольный выход всем самым неосознанным влечениям и тревогам своей души, всей горечи сердца и смутным ожиданиям лучшего. Было бы ошибочно видеть в этом лихорадочном потоке слов credo художника. В «Мыслях» Иванов не столько решает вопросы своего мировоззрения, сколько их ставит. «Мысли» говорят о его глубокой неудовлетворенности настоящим, о его ожидании решительных перемен. В этом «Мысли» Иванова решительно отличаются от «Выбранных мест» Гоголя, проникнутых готовностью примирения с существующим и покорностью воле сильных мира сего.
Большинство утопических надежд художника так и остались неосуществленными. Но в одном отношении он был прав, он остро почувствовал в современной атмосфере тот духовный накал, который не замедлил проявиться в ближайшее время в революционных событиях Европы.
РЕВОЛЮЦИЯ 1848 ГОДА
Эти люди, которые смеются раз в год, на карнавале, терпели века и наконец, спокойно сказали: «Довольно!»
Герцен, «Письма из Франции и Италии».В сентябре 1847 года Иванов предпринял путешествие по Средней и Северной Италии: он хотел побывать во флорентийской галерее Уффици и снова в миланском монастыре Санта-Мария делле Грацие, где виднелись еще следы знаменитой «Тайной вечери» Леонардо. После лета, проведенного в Неаполе, после неудачного сватовства, после взвинченности во время писания «Мыслей» художник чувствовал себя разбитым и подавленным и не сразу мог забыть испытанное. Во Флоренции, где ему вспоминались великие художники прошлого, на него нахлынули воспоминания и о пережитом им самим. Все меньше горечи оставалось в его раздумьях, все больше росла готовность мужественно встретить любые испытания судьбы.
Погруженный в свои собственные думы, Иванов не мог не заметить всеобщего возбуждения, которое царило в городах, через которые лежал его путь. В сущности, между тем, что творилось вокруг него, и тем, что он ощущал в себе, не было полного разрыва. Его собственное возбуждение летом 1847 года было в некоторой степени вызвано тем, что в то время в воздухе ощущалась близость революционных событий, и теперь его ожидание потрясения находило себе оправдание в том, что происходило вокруг него.
В Ливорно Иванов попал в тот самый момент, когда народ потребовал от правительства права на формирование национальной гвардии. На стенах домов появились афиши, по улицам двигались толпы людей с трехцветными кокардами, всюду звучала военная музыка, перед войсками несли бюст папы Пия IX, от которого народ тогда еще ждал поддержки своим требованиям. Всюду можно было видеть, как под натиском толпы полиция отступала, и правительство, напуганное народным движением, шло на уступки. На другой день на площадях происходили митинги. Иванову особенно запомнился облик одного мертвенно-бледного оратора, видимо глубоко потрясенного возможностью первый раз в жизни открыто говорить с народом. Он видел, как на площадях народу раздавали хлеб, его поразили лица молодых здоровых рабочих. Ему бросилось в глаза, что хозяева гостиниц, мелкие предприниматели и возницы «вдруг сделались честнее» и перестали безбожно запрашивать со своих клиентов.
Если в Генуе на улицах на художника повеяло ветром свободы, то в русском консульстве, куда ему пришлось явиться, он только еще острее почувствовал узы царского деспотизма, которые его всегда так угнетали. Правда, Иванова предупреждали, что консул в Генуе человек честный и порядочный. Но когда он явился к нему, тот потребовал у него паспорт, долго рассматривал его и перелистывал и после этого рассмотрения заявил, что во исполнение приказа Николая о том, чтобы русским дольше трех лет не оставаться за границей, он намеревается прямо из Генуи отправить художника в Петербург. Все это должно было напомнить Иванову знаменитый гоголевский диалог между капитаном-исправником и русским мужичком, у которого тот требует «пашпорт» и которого под конвоем собирается отправить на местожительство. К счастью, на оборотной стороне паспорта оказалась подпись русского посланника Бутенева, и консулу, которого Иванов тут же про себя обозвал подлецом, пришлось отступить. Под действием этих волнений ночь художник провел неспокойно. В горестном одиночестве его утешала лишь звонкая мандолина, звуки которой доносились с улицы.
По дороге из Генуи в Милан Иванов уже на границе с неудовольствием заметил признаки австрийского владычества. Сами желтые будки с черными полосами напоминали ему будки царской России и вызывали отвращение. Ему казалось, что город кишел полицией и шпионами. Внимательно всматриваясь в лица простых людей, он заметил, с каким равнодушием народ относился к попыткам австрийских угнетателей по случаю какого-то праздника разукрасить город разноцветными тряпками. Народ зевал и, казалось, выжидательно посматривал, суетились одни уличные мальчишки, подбирая падающие с лотков и лавок орехи и окурки сигарет. Все это являло собой разительный контраст к общенародному подъему, который чувствовался в Генуе.
Иванов пристально разглядывал остатки «Тайной вечери» Леонардо в монастыре Санта-Мария делле Грацие и усердно копировал ее еще сохранившиеся черты. Но впечатления от происходивших вокруг событий не покидали его. Переезжая из Генуи в Лукку в обществе какого-то генуэзского негоцианта, он долго сохранял глубокое молчание, потом не выдержал и стал высказывать свои соображения и мысли о политическом положении. Надо думать, что он говорил со своей обычной прямотой обо всем том, что ему пришлось наблюдать в Сардинии и Ломбардии. Своего отвращения к австрийским угнетателям он не скрывал. Впрочем, и сардинскому правительству не поздоровилось от него за то, что оно думало больше о своих выгодах, чем о благе народа. Эти смелые, откровенные речи напугали, видимо, его спутника. В Иванове не трудно было признать иностранца. Между тем вся страна была полна австрийскими шпионами и провокаторами.
Многое из того, что происходило перед глазами художника, было для него не вполне понятно. Всю свою жизнь он просидел у себя в студии, слишком мал был его политический опыт. Одно несомненно: он с напряженным вниманием следил за тем, как развивались события; он угадывал, что все, что происходило перед его глазами, — это только «черновое», что за первыми попытками народа взять в свои руки власть не могут не последовать события еще более крупного масштаба, и в этом он не ошибался.
Действительно, в Риме, куда вернулся Иванов, события развертывались с необычайной быстротой. Правда, здесь художник снова погрузился в привычные труды в своей тихой, уединенной студии, куда не достигал шум улицы и площадей. Но в Риме в то время оказался А. И. Герцен, и через общего знакомого И. П. Галахова он, видимо, побывал в студии у Иванова. Герцен прибыл в Италию из Франции. После того торжествующего мещанства, которое он наблюдал в Париже Луи Филиппа и которое вызывало в нем непреодолимое отвращение, Италия привела его в восхищение и вдохнула в него новые силы. Он жадно ловил все признаки пробуждения страны, любовался красотой народа, который брал в свои руки оружие! для борьбы, но он не забывал ни красот итальянской природы, ни прославленных римских древностей.
Иванов с Герценом до сих пор шли слишком разными путями, для того чтобы встреча их могла сразу стать плодотворной. Герцен имел большой опыт политической борьбы, это был человек сложившегося мировоззрения. Иванов стоял на распутье и еще не вполне освободился от многих иллюзий. Значительном препятствием к их сближению служил Гоголь.
Герцен не менее, чем Белинский, был возмущен «Выбранными местами» и видел в них удар по передовому общественному движению в России. Иванову было нелегко освободиться от власти авторитета Гоголя, для того чтобы понять всю глубину его падения. Между тем и сам Гоголь, видимо, чувствовал некоторую неуверенность. Кристальная честность Герцена была и для него вне сомнения, и он всячески пытался через Иванова выведать взгляды своего противника на современное положение вещей. Иванов отказывается выполнить это поручение. Он объясняет это тем, что сидит в своей студии и ни с кем не видится. Однако, должно быть, он не говорил всей правды Гоголю. С Герценом он нередко встречался. Герцен называет другом Иванова Галахова, человека передовых воззрений, одного из первых русских социалистов-утопистов. Возможно, сам Иванов был сражен теми беспощадными насмешками, которым Герцен подвергал мракобесие писателя. Впрочем, несмотря на это, Иванов чувствовал к Герцену влечение, и потому он не мог не приходить к нему из своей студии и подолгу слушать его занимательные речи. Видимо, в них было нечто такое, что захватывало его за самое нутро. Иванов не был человеком быстрых и торопливых решений: для того чтобы изменить свои взгляды, ему нужно было проникнуться новыми идеями всем своим существом. Но в свете его дальнейшего развития ясно, что семя, брошенное речами Герцена, пало не на каменистую почву. Прошло некоторое время, и оно дало могучие ростки.
События, свидетелем которых становился Иванов в те годы, открывали ему сущность многих вещей, о которых он ранее не мог составить себе понятия ни в стенах академии, ни в своей уединенной жизни римского пенсионера. В Италии поднималось широкое народное движение. Страна пробуждалась к новой жизни. Первой и главной потребностью ее было свергнуть австрийское иго, покончить с позорным национальным унижением, с ярмом отживших свой век общественных установлений. Под действием развивающихся по всей стране событий правительства отдельных итальянских государств должны были идти на уступки. Делали это они нехотя, но препятствовать патриотическому подъему и антиавстрийскому движению были не в состоянии. Даже в Папской области её государь, папа Пий IX, должен был уступить напору общественного возмущения, отменить ряд феодальных законов и заявить себя сторонником либеральных реформ. Этот успех вызвал всеобщее ликование, которому на первых порах поддался даже Герцен. Народ с трогательным доверием стал шумно приветствовать Пия IX, устраивая ему встречи как триумфатору.
Самым замечательным явлением жизни Рима тех лет было пробуждение народных масс. Много веков римский народ молча сносил унижение и бесправие. Свой живой и веселый характер он проявлял лишь во время карнавала, когда на улицах все от мала до велика надевали маски и когда, казалось, исчезали сословные перегородки. Но тогда это было дурачество, наваждение, которое исчезало с первым ударом великопостного колокола. Теперь римский народ по-настоящему почувствовал себя хозяином, гордым потомком римских плебеев, теперь он получил обширную арену деятельности в общественной жизни. Тотчас явились и народные герои, на которых были устремлены общие взоры. Огромного роста кузнец в простой плисовой куртке Чичероваккио со слезами на глазах отправлял своего девятнадцатилетнего сына на борьбу с австрийцами, сам он последовал за ним, оба погибли за дело народной свободы. В Палермо юноша Ла Маза с трехцветным знаменем в руках возглавляет восставший народ. Уже набатным гулом начинало звучать по всей Италии имя народного вождя Гарибальди; он появился на улицах в сопровождении верного друга мулата сер Андреа и был предметом всеобщего восхищения.
Недолго было то время, когда можно было надеяться, что высшие классы не будут противодействовать интересам народа. Однако уже в основном, австрийском, вопросе мнения не могли не разойтись. Народ жаждал безоговорочного изгнания австрийцев.
В интересах папы, как главы католического мира было не порывать с Веной. На этой почве он скоро начал хитрить, вилять и, в сущности, изменять своим обещаниям; папский министр, проныра Росси, поплатился за это жизнью; сам папа должен был бежать в Анкону, в лагерь предателей народа. В Риме провозглашена была республика. Ее возглавил триумвират народных представителей с Мадзини во главе.
Эти события застали римских художников неподготовленными, но беззаботному их существованию был положен конец. В кафе Греко шли горячие споры: люди, которые пытались смотреть на вещи шире, не могли не сочувствовать народному движению; другие по-обывательски перепугались нарушению порядка. Федор Иванович Иордан, которому пришлось сменить свой гравчик пенсионера русского императора на ружье гвардейца Римской республики, откровенно признался, что сочувствовал католическим попам и обскурантам. Вслед за русским посланником Бутеневым, который отправился за папой в лагерь контрреволюционеров, пределы революционного Рима должны были оставить большинство русских художников. По указанию царского правительства посольство тщательно следило за тем, чтобы никто из русских художников не подвергался «революционной заразе». Только по отношению к Иванову было сделано исключение: чиновники считали его человеком «мирного характера и уединенного образа жизни». Но они решительно настаивали на том, чтобы его младший брат Сергей, незадолго до того поселившийся в Риме, выполнил предписание петербургского начальства и вернулся в Петербург. Однако Сергей не послушался и вместе с братом не покинул пределов Рима.
Между тем, по мере того как Римская республика приобретала международное значение, ее положение становилось все более затруднительным. «Восстановление господства буржуазии во Франции требовало реставрации папской власти в Риме» [12], и потому правительство Наполеона III двинуло против Рима свои войска. Верный своему призванию «жандарма Европы», Николай I обещал моральную поддержку «святому отцу» и выражал решимость «не признавать римских революционеров». Летом 1849 года Рим подвергнут был осаде французскими войсками под командой генерала Удино. Жизнь в осажденном городе становилась все более трудной; цены на предметы питания лихорадочно поднимались, в городе было небезопасно от неприятельских бомб. Одна из них разорвалась в парке Мальта, совсем поблизости от колонии художников. Чтобы не подвергать свою картину случайности, Иванов собирался спрятать свое детище в каменном погребе. После героического, но безнадежного сопротивления осажденных французы ворвались в город, революционные войска Гарибальди вынуждены были покинуть пределы Рима. Народ молча, но с нескрываемой враждебностью наблюдал за тем, как интервенты вступали в город. Против вооруженной силы он был бессилен, но когда французский генерал, чтобы заслужить популярность, издал приказ о том, чтобы в Риме на масленице был устроен традиционный карнавал, римляне все, как один, отказались участвовать в этом веселье. Римский народ показал, что умеет хранить траур по поруганной свободе.
Нужно представить себе отношение к революционным событиям 1848 года близких Иванову людей, чтобы оценить по достоинству независимость его позиции. Жуковский называл революцию «смертоносной чумой» и «отвержением всякой святости». Иордан радовался восстановлению папской власти. Из дому, «з основании официальной царской печати, писали о революции, как о «помрачении рассудка». Многое из того, что происходило на глазах Иванова, он не в состоянии был оценить со всей глубиной. Но если в 1830 году, по приезде в Рим, он не заметил революционной вспышки, то теперь он стал более чуток к общественной жизни. Если даже 1848 год не стал переломным в жизни художника, то несомненно, что именно это время в нем пробудило мысли, последствия которых он и сам не мог предвидеть. Правда, высказываться по поводу событий ему приходилось очень осторожно, особенно в письмах, которые проходили через царскую цензуру. И тем не менее, говори о событиях 1848 года, он отмечал, что «жалобы отдельных людей ничто в сравнении с общим моральным выигрышем». Видимо, он имел в виду, что во время триумвирата попы потеряли свою власть, дворцы были объявлены собственностью республики и была уничтожена духовная цензура. Правда, и Иванову многое в дальнейшей судьбе народов было неясно. Его тревожил вопрос, какова будет роль искусства, которое так много веков было тесно связано с церковью. Но после выспренних апокалипсических пророчеств о грядущем «златом веке» в 1847 году теперь он видел собственными очами, как рушился старый порядок и вместе с тем заколебались многие предрассудки человечества. Умственной эмансипации Иванова немало содействовало и то, что именно в революционные годы в Риме стало возможно получать сочинения французских социалистов. Есть основания думать, что братьям Ивановым стала знакома знаменитая утопия Кабе «Путешествие в Икарию». На этой почве наметилось решительное расхождение между Ивановым и Гоголем в таком существенном вопросе, как в их взглядах на церковь. Напуганный, подавленный событиями, Гоголь искал спасения в лоне православной церкви и проходил «послушание» у властного и ограниченного попа отца Матвея. Вразрез с этим Иванов еще незадолго до революционных событий утверждал, что «православие — одна форма, безо всякой внутренней силы». Правда, Иванов долгое время еще продолжал мыслить моральными понятиями священного писания. Свои попытки отразить события тех лет он облекал в форму библейской фразеологии. Но именно в эти годы им начата была работа по переосмыслению своих религиозных и моральных представлений с явным стремлением приблизиться к передовым воззрениям своего времени.
БИБЛЕЙСКИЕ ЭСКИЗЫ
Я не отрицаю ни величие, ни пользу веры; это великое начало движения, развития, страсти в истории, но вера в душе людской — или частный факт, или эпидемия. Натянуть ее нельзя, особенно тому, кто допустил разбор и недоверчивое сомнение…
Герцен, «С того берега».В годы осады Рима из-за отсутствия средств, материалов и натурщиков Иванову пришлось приостановить работу над большой картиной. Для заполнения вынужденного досуга он начал серию акварелей. Некоторые из них оп в целях экономии выполнял на оборотной стороне юношеских рисунков. Серия акварелей написана на традиционные библейские темы, и потому вошла в историю под названием «Библейские эскизы». Но в понимании этих традиционных тем сказались новаторские искания, смелые раздумья и сомнения художника. Это памятник переломных лет его духовной жизни.
После событий 1848 года основная идея «Явления Мессии» все меньше и меньше удовлетворяла Иванова. Он мог уже убедиться в том, что появление долгожданного Мессии вовсе не разрешило противоречий античного общества, что духовное перерождение человека не способно уничтожить в мире зла, — в связи с этим изменилось все его представление об истории человечества. Прежде, задумывая «Явление Мессии» и так и не выполненную им картину «Авраамий Палицын у ворот Москвы», он верил, что решающее значение имеют поворотные мгновения в жизни общества. Теперь ему открылась история человечества как процесс, как цепь трагических деяний напряженной борьбы, жарких столкновений, обманчивых иллюзий и светлых прозрений в будущее.
С детских лет Иванов привык к тому, что священные тексты рассматривались как непреложная истина, как предмет слепой веры. В конце 40-х годов он знакомится с книгой немецкого автора Д. Штрауса «Жизнь Иисуса», в основе которой лежал критический взгляд на священный текст. В папском Риме книга Штрауса была строжайше запрещена. Но один немецкий художник получил ее контрабандой. Не исключена возможность, что именно от него Иванов впервые услышал об этой книге.
Ф Энгельс отмечал в качестве главного достоинства работы Штрауса лежащую в основе ее идею о мифологическом элементе в христианстве[13].
Книга Штрауса находила живой отклик в демократических слоях немецкого общества в годы, предшествующие революции 1848 года. В область, где безраздельно господствовал догматизм, Штраус вносил элементы критического анализа. Тяжеловесный по изложению, обремененный филологической ученостью текст Штрауса послужил Иванову в качестве сюжетной канвы, на которой он мог создавать свои художественные образы, размышляя с карандашом и кистью в руках о прошлом человечества.
Со своей склонностью доискиваться до корней всех вещей Иванов побывал в Германии у самого Штрауса и просил у него разъяснения мучивших его сомнений. Все это не исключало творческой свободы художника. Никогда еще прежде самостоятельность Иванова не проявлялась так полно и свободно, как в этой серии. То, что он пытался сделать в «Мыслях», где сопротивление оказывало ему неподатливое слово, стало теперь возможным, когда он со свойственным ему увлечением погрузился в работу над акварелями. Прежде художественное творчество было для него тяжелым долгом. Теперь оно стало осуществлением права на творческую свободу. Иванов не прибегает к помощи этюдов, ограничивается стенографической записью своих замыслов Он работает с небывалой для него прежде быстротой, порой с лихорадочной торопливостью. Прежде он тормозил свой процесс труда подготовительными изысканиями, самопроверкой, бесконечными поправками и дополнениями. Теперь в нем проснулся дар импровизатора, способность на основании скудных слов текста создать живой образ. В свое время Иванов осуждал «быстроту эскизного исполнения» своих соперников, видя в ней недобросовестность худож ника, искавшего легкой и быстрой наживы. Теперь словно одержимый своими замыслами, он едва поспевает за ними и допускает эскизность, хотя многолетняя строгая школа и высота рисовального мастерства дают о себе знать даже в самых беглых по выполнению листах.
По замыслу Иванова, серия его библейских эскизов должна была служить украшением особого на то предназначенного здания. Судя по словам его брата, здание это отнюдь не должно было быть церковью. Искусство выходило из подчинения церкви Здание, для которого предназначены были эскизы, должно было стать чем-то вроде храма мудрости в котором зрители на художественных образах могли бы видеть историческое прошлое человечества историю его умственного и нравственного роста, и этим воспитывать свое собственное самосознание.
Конечно, в условиях николаевского времени это было несбыточной утопией.
Основным стержнем цикла Иванова должна была служить жизнь Христа, как она рассказана в евангелии. Но путем сложной системы сопоставлений основной нити повествования с сюжетами из библейской легенды и из различных языческих мифов он собирался раскрыть в евангельской легенде, в сущности, глубоко чуждые и даже враждебные церковной догматике мифологическое ядро и философский смысл. Подобно тому как Штраус комментировал каждый евангельский текст ссылками на ветхозаветные книги или мифы, так и Иванов задумал вокруг каждого евангельского события расположить изображения исторических прототипов. Наряду с библейскими аналогиями, которые не противоречили догматике, Иванов включает в свою систему и аналогии из греческой мифологии и легенды вроде «Рождения Пифагора» и «Рождения Ромула», «Олимпии, матери Александра Македонского» и «Зевса и Леды».
Штраус дал Иванову сюжетную канву. В художественном отношении библейские эскизы имеют больше точек соприкосновения с книгой Гердера «О духе еврейской поэзии». В этой работе немецкий поэт и мыслитель XVIII века впервые подошел к библии не как к священной книге, а как к поэтическому произведению. Он первым обратил внимание на своеобразный поэтический строй библейских текстов, их художественный язык, параллелизм образов, выразительную краткость выражений, сквозящее в них чувство природы, особенно в сценах пастушеской жизни древних племен и народов.
Приступая к работе над библейскими эскизами, Иванов пристально изучал исторические источники. Он копировал по увражам египетские росписи, в частности Тель Амарны, и заимствовал оттуда плоскостный разворот фигур, ритмы фриза, самую систему рисунка с нежной расцветкой и цветной контурной линией. Он изучал ассирийские рельефы и статуи, которые» незадолго до того были открыты археологами: крылатые быки, крылатые гении, длиннобородые старцы — все это в его эскизах идет оттуда. Одновременно с этим Иванов не забывал греческое искусство и классиков Возрождения; на этот раз его вдохновляли не столько классические статуи, сколько произведения античной живописи, вазовые рисунки, римские рельефы. Иванов изучал и византийские мозаики, с которыми он познакомился и в Сицилии и в Венеции. В эскизах сказалось тонкое понимание им древнерусской живописи. Но самое удивительное во всем этом не обилие источников, к которым прибегал художник, а то, что при всей своей осведомленности он умел переплавить свои впечатления в нечто цельное и свое, избежать стилизации под старину, подчинить заимствованное общей руководящей идее и оставаться всегда самим собою.
Библейские эскизы Иванова поражают силой прозрения, смелостью фантазии, зрелостью мысли. Они жгут сердца как подлинные творения художественного гения. Придерживаясь внешней канвы рассказа Штрауса, Иванов с полной свободой обращался с текстом, постоянно отступая от него, восполняя скудные его намеки собственной проницательностью. Именно эти отступления от буквы писания и от его комментаторов позволили Иванову создать художественные шедевры.
Почти каждый сюжет представлен в эскизах Иванова несколькими вариантами. Они различаются друг от друга не столько степенью своего совершенства, сколько тем, что в каждом из них раскрывается особая сторона того события, о котором идет речь. Иванов отстаивает этим право художника по-разному мыслить об одном и том же предмете. Это позволило ему выйти за пределы чуждых ему канонов, выражавших слепое поклонение небесным силам и сводившихся к их прославлению. Варьированием одной и той же темы Иванов пытался внести в библейские эскизы элемент историчности и драматизма, которые всегда так занимали его.
В связи с этим стоит и задача Иванова преодолеть те традиционные типы сюжетов и отдельных героев легенды, которых он сам еще придерживался при создании «Явления Христа Марин» и «Явления Мессии». Правда, и в библейских эскизах Иванова Христос выглядит иногда как в живописи академистов. В ряде композиций есть и непреодоленная театральность и деланная патетика. Архитектура на фоне подобных сцен неживая, бутафорная. Среди композиций Иванова некоторые носят заимствованный характер. Но не эти листы определяют общее впечатление от всей серии. В целом весь цикл библейских эскизов должен быть признан замечательным созданием.
В раннем «Благовещении» фигурка Марии изящна и хрупка. Хотя ангел на голову выше Марии, но эта разница в росте не мотивирована. Сияние над Марией и крылья за спиной ангела выглядят как атрибуты, старательно переданная обстановка — как бутафория. В другом варианте «Благовещения» Иванов достигает большего проникновения в дух древней легенды. Ангел вырастает до исполинских размеров, он благословляет Марию протянутой рукой и вместе с тем повелевает Два крыла его вскинуты, два опущены вниз. Сама Мария при всей своей скромности выглядит как бы окрыленной, и это делает ее равной вестнику. В первом варианте свет заливает весь лист, во втором источником освещения служит сияние Марии, по контрасту к нему сама фигура ее выглядит более темной, и этим подчеркивается ее сосредоточенность. Вместе с тем отсветы сияния падают на фигуру ангела, и этим подчеркивается его зависимость от женщины, которой он сообщил радостную весть. Евангельский рассказ в истолковании Иванова превращается в поэму о явлении демона бедной женщине.
Иванов вырабатывает свой художественный язык, обобщенный, лаконический, выразительный, хорошо отвечающий характеру эпического повествования, позволяющий представить себе, что акварели могут быть превращены в огромные настенные картины.
Вместо пестрой расцветки первых эскизов в последних начинает преобладать общий тон. Вместо световых бликов форма передается такими контурными линиями, которые способны передать объем.
Иванов не был старательным и робким иллюстратором текстов. Изображая ту или другую легенду, он всегда становится как бы очевидцем происходящего. Изображая, он вместе с тем и осмысляет и оценивает легенды, извлекает из них те крупицы народной мудрости, которые они содержат. Если в «Явлении» Иванов ограничивался конечным моментом в истории «избранного народа», когда он видит долгожданного избавителя, то теперь он рисует предысторию «Явления», «начиная с самой седой старины. Поскольку сам народ слагал легенды о своих испытаниях, о своих героях и о своей исторической судьбе, Иванов не миновал этих легенд. В библейских эскизах главная роль принадлежит народу, его вожди и божество появляются в них лишь тогда, когда без его участия народ не мог себе объяснить превратности своей судьбы. Если небесные силы приходят в соприкосновение с людьми, то они принимают человеческий облик. Во многих библейских эскизах Иванов вовсе обходится без сверхъестественного. В таких случаях легендарная история превращается в цепь человеческих подвигов.
Что бы ни изображал в своих библейских эскизах Иванов, все отличается в них чертами величавой торжественности, на всем лежит печать того строя, который в музыке носит название «maestoso». Художник умел достигнуть впечатления величия в небольших по размеру акварелях. В «Сне Иосифа» Иосиф, седой, полуобнаженный, но еще могучий старец, лежит, прижавшись в углу, и по контрасту к нему крылатый вестник вырастает до гигантских размеров и высится во весь свой рост. Едва переступая ногами, он протягивает вперед свои руки. Он подавляет Иосифа своим величием и вместе с тем самим фактом своего обращения к нему поднимает его. Мария лежит, на ложе как на алтаре. Исходящий от нее свет переполняет весь покой, и потому его скромной обстановки совсем незаметно. Все рассказано здесь тем торжественным языком, каким изъясняется народ в своем эпосе, каким написаны его священные книги.
Никогда еще в живописи Иванова музыкальное начало не проявлялось так ясно, как в его библейских эскизах — в ритмической упорядоченности большинства композиций. Уже в «Октябрьских праздниках» Александр Иванов сумел дать почувствовать мерный ритм многолюдных народных сцен. В библейских эскизах находит себе отражение эпическое представление о ходе исторических событий. В связи с этим ритм в композициях приобретает решительное преобладание. Теперь Иванова занимают не столько отдельные люди, сколько общая закономерность происходящих событий, общий ход массовых движений, — все это находит себе выражение не столько в отдельных фигурах, сколько в массовых сценах.
Одна из главных, сквозных тем цикла «Библейских эскизов» — это рассказ о жизни и подвигах ветхозаветных героев, о древних праотцах и патриархах. Иванов обнаружил в библейском рассказе своеобразные «героические характеры». Он видит подобного рода героев в ветхозаветных старцах, как Авраам и Моисей, в пророке Илии, в Захарии и в ряде других персонажей. «Фигуры Саваофа, патриархов, праотцев, — признавал В. Стасов, — полны необычайной грандиозности и национальной своеобразности, совершенно поразительной». Все они отличаются несокрушимой силой, как могучие вековые дубы. Старость дает о себе знать лишь в седине их длинных волос и бород, но не в состоянии сломить твердости духа. Пройдя через жизненные испытания, они накопили огромный запас мудрости. Старцы Иванова всегда неторопливы и даже несколько медлительны и неповоротливы. Полные сознания справедливости того, что они защищают, они не ведают ни чувства страха, ни колебаний. Когда на их долю приходятся тяжелые испытания, они не чувствуют себя подавленными. Когда к ним являются посланцы с неба, они почтительно склоняют перед ними головы, но готовы беседовать с ними как с равными.
Два длиннобородых могучих старца высятся перед каменным алтарем на фоне селения со множеством палаток: это Саваоф и его избранник Авраам. Саваоф в белой одежде широко расставил руки, указывая ими на просторы земли, которыми будет владеть потомство старца. Авраам в своем тяжелом малиновом плаще склоняется перед ним, как перед своим повелителем, и вместе с тем протягивает правую руку, точно держит ответную речь, и потому в фигуре его проглядывает столько достоинства. В этой сцене нет ничего чудесного — это скорее рассказ о величии и достоинстве мудрого старца, который умеет вести речь со своим владыкой. Такая кар тина могла бы служить иллюстрацией к восточной сказке или к назиданиям Саади.
В другой раз перед длиннобородым старцем Захарием среди блеска дымящих фимиамом семисвечников является могучий крылатый вестник. Чуть сутулый старец покорно протягивает вперед обе руки, но в осанке его сквозит уверенность, что то, что совершается, должно совершиться. Стройный вестник решительным, повелительным жестом протягивает обнаженную руку и накладывает на уста его немоту. Хотя сюжет рисунка Иванова не имеет к этому прямого отношения, но, глядя на эту сцену, трудно не вспомнить пушкинских строк:
И он к устам моим приник И вырвал грешный мой язык.На этот раз Иванов в фигуре Захария, озаренного золотистыми отсветами семисвечников, прославляет вещего старца-пророка.
В альбомной акварели с изображением «Вознесения Илии» он представлен с широко раскрытыми руками, стоящим в колеснице, окруженный сиянием, охваченный стремительным порывом туда, куда его уносит четверка розовых коней по густой гряде клубящегося над землей сизого облака. Голубой плат Илии, похожий на облако, стремительно летит вслед за ним на землю, к нему протягивает руки Елисей, за которым, в свою очередь, развевается плащ. В этом рисунке Иванов выходит не только за пределы обычной церковной живописи, но и отступает от того торжественного строя, который царит в большинстве его библейских эскизов. Илия у Иванова покидает землю не ради вечного небесного блаженства. Герой штурмует небесную твердыню. Его победоносная скачка по облакам на управляемых обнаженными юношами конях Аполлона и составляет главное содержание этой дивной композиции. Она сохранилась лишь в виде небольшого альбомного наброска и, к сожалению, гак и не была выполнена в масштабе большинства библейских эскизов. Но, глядя на нее, становится понятным, почему рядом с ней Иванов хотел поместить «Вознесение Геркулеса».
В библии Иванов мог найти ряд текстов, в которых трагической судьбе еврейского народа в его настоящем противополагался рассказ об его благоденствии в прошлом, о чистоте его нравов. Эти эпизоды дали Иванову повод для создания ряда изображений, которые можно отнести к патриархально-идиллическому жанру. Этот жанр был для него не новым, он увлекался им еще в годы создания «Аполлона». Подобного рода патриархально-идиллический характер носит и эскиз, изображающий «Трех ангелов у Авраама».
В мирной трапезе, представленной Ивановым, он вопреки традиции изобразил ангелов без их непременных атрибутов — крыльев, и потому эту библейскую сцену так легко принять за изображение античного мифа о посещении Зевсом и Гермесом стариков Филемона и Бавкиды. Иванову так и не удалось побывать на Востоке. Но в своем эскизе он сумел проникновенно передать самый строй жизни людей древнего Востока. Перед палаткой Авраама на земле под тенистым деревом, вокруг уставленного яствами ковра, полулежа, расположились путники-гости. Им прислуживает дряхлый, седой Авраам, не расставаясь со своим посохом. Старший среди гостей, протянув вперед свою руку, предрекает рождение у жены хозяина сына. Все слушают его с затаенным дыханием. Протянутая рука Авраама выражает готовность принять пророчество, подчиниться ему как повелению. В изящной фигуре Сарры есть и испуг, и радостная тревога, и покорность. Лежащие фигуры юношей полны сладкой неги. «Троица» Иванова выглядит не столько как чудесное явление человеку божества, сколько как дружеское пиршество.
В своем понимании прошлого народов, их нравов и исторической обстановки их жизни Иванов обнаруживает глубокую проникновенность. Даже в тех случаях, когда речь идет о легендарных, фантастических событиях, художник переносит действие в ту или иную эпоху исторического прошлого. Его занимает не только обстановка и костюмы, не только еврейские типы лиц, как при работе над «Явлением». Он стремится в самом характере исполнения дать почувствовать «местный колорит».
В таких сценках, как «Пляска евреев вокруг золотого тельца», ощущение древнего Востока передается тем, что фигура отдельного человека поглощается толпой, толпа выстраивается в длинный ряд, в этом ряду господствует строгий ритм, как в древних египетских и ассирийских рельефах.
Иным духом веет от таких эскизов, как «Жены служат». Эти листы переносят нас в мир, где человек имеет большую свободу в проявлении себя, где между людьми возможен живой обмен мнений. Христос в тени деревьев полулежит на земле рядом с любимым учеником Иоанном и, как древний философ, ведет с окружающими мирную беседу. В самом расположении вокруг него фигур выражено, что он привлекает к себе сердца силою убеждения. Греческая грация и мягкость сквозят в этих фигурах, во всей мягкой, гибкой и свободной композиции.
В ряде своих акварелей Иванов дает почувствовать, что евангельские события происходили в Иудее при римском владычестве. В эскизе «Христос и Пилат» сухая и костлявая фигура Пилата — яркий образ умного, холодного и сдержанного римского патриция. В шеренгах войск, которые окружают наместника, в их грозно торчащих копьях, в их строгом порядке воинского строя художник дает почувствовать дух римской государственности и военщины. В этом листе заметно изучение Ивановым рельефов с римских триумфальных арок.
Способность Пушкина переноситься в прошлые века и в далекие страны и передавать характер эпохи и се дух общеизвестна. Среди русских живописцев XIX века Иванов первым проявил глубокое историческое чутье и понимание местного колорита в библейских эскизах.
Наряду с героями-вождями в библейских эскизах большой вес приобретает народ, народная масса. В «Явлении Мессии» народной толпы как чего-то целого не получилось: имеется лишь галерея характерных, порой индивидуально неповторимых типов. В библейских эскизах Иванова героем становится многолюдная толпа, охваченная одним порывом. В рисунке «Народ ропщет на голод» группы евреев перед палаткой своих главарей протягивают руки, умоляя о хлебе и взывая к жалости.
Представлено всего лишь несколько фигур, но в жестах их так ясно выражено общее чувство, что их жалобы дают понятие об общем народном бедствии. В рисунке «Сбор манны» группа юношей склонилась над сосудами и жадно достает оттуда пищу; за ними несколькими штрихами обозначена многолюдная толпа, женщины спешат с кувшинами на головах — при всей скупости средств выражения создается впечатление многолюдной толпы. Не исключена возможность, что в картинах народных бедствий косвенно отразились жизненные впечатления Иванова, которые он получил в тяжелые годы осады Рима.
В библейском эскизе «Проповедь Иоанна» изображен момент, предшествующий тому, который увековечен был в картине «Явление». Иоанн призывает еврейский народ покаяться в своих грехах и проступках. В своей власянице, с лохматыми космами волос Иоанн имеет более дикий вид, чем тот прекрасный, вдохновенный Иоанн, который присутствует в картине. Проповедь его выглядит как речь, произнесенная перед народом. Вся многолюдная толпа проникновенно внимает ему: у одних понурые головы, у других согбенные спины, одни сидят на земле, другие лежат, некоторые закрыли голову плащом, повернулись спиной и, мучимые стыдом, удаляются с этого сборища. Здесь собрались разные люди, но художник дал почувствовать, что эти разные люди думают об одном и том же. Все члены общины проникнуты одной и той же скорбной мыслью. Только в народном эпосе можно найти нечто подобное. Такова сцена в «Илиаде», где рассказывается о том, как Нестор держит речь к ахейским старцам.
«Израильтяне пляшут перед золотым тельцом». Фрагмент. 1850-е годы.
«Знавшие Иисуса и женщины, следовавшие за ним смотрят на распятие». Фрагмент. 1850-е годы.
Хоровое начало нашло себе наиболее полное выражение в одном из самых замечательных эскизов Иванова «Знавшие Иисуса смотрят на Голгофу». В классической живописи, да и у самого Иванова, кресты с фигурами трех пригвожденных обычно занимают центральное место. Этим они отвлекают внимание от людей, стоящих на земле и сопереживающих голгофскую драму. Между тем Иванова привлекало в легендарных событиях прежде всего человеческое, и потому в библейских эскизах он стремился выдвинуть простых людей на первый план. Через полуоткрытые ворота люди заглядывают во двор, за которым вдали, почти на горизонте, виднеются кресты. Одни взволнованно протягивают руки; другие заламывают их; апостол без чувств упал на землю; другие сидят, закрыв лицо руками; дети взбираются на стену, и один из них, повернувшись к тем, что внизу, рассказывает о том, что он видел. Самое главное в этом эскизе — это волна одного, общего всем этим людям чувства, которая, то усиливаясь, то ослабевая, пронизывает всю группу. Женщина-мать более стойко переносит свое горе, чем упавший навзничь ученик. В ритме протянутых рук женщин Иванов нашел наглядное выражение той общности чувств, которая захватила всех свидетелей драмы.
Сюжеты, которым посвящены библейские эскизы Иванова, занимали искусство до него в течение более тысячелетия. Иванов был последним среди великих мастеров, который вложил в них свои лучшие творческие силы и отдавался им всей душой. Это была последняя попытка усмотреть в древних легендах зерна народной мудрости и дать свой ответ на основные вопросы о судьбе человечества, которые занимают в них такое видное место. Видимо, сам Иванов начинал осознавать, что дальше искусство по этому пути идти не может и что ему предстоит коренным образом изменить свое направление. Отсюда его волнения и неудовлетворенность. Пытаясь глубже, чем это было принято, проникнуть в те легенды, о которых говорится в писании, воссоздать образы героев, как живых людей, Иванов отступал от иконографических канонов и оказался в резкой оппозиции к господствующей церкви. Он понимал, что она не простит ему свободомыслия. Ему уже чудились муки, которые предстоит испытать, если только противники поймут мятежный смысл его исканий, и потому он держал в глубокой тайне это наиболее зрелое свое создание.
НА ПОРОГЕ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
Далекий, вожделенный брег!
Пушкин, «Монастырь на Казбеке».В 1850 году из Рима в Россию уехал Ф. И. Иордан, с которым Иванов много лет поддерживал если и не подлинно дружеские, то, во всяком случае, приятельские отношения. От него из Петербурга Иванов мог узнать о судьбе многих из своих вернувшихся за это время на родину собратьев по искусству. Ожидания его подтвердились: большинство из них остепенились и хорошо устроили свою жизнь.
Что касается Брюллова, то его благополучие имело свою оборотную сторону: приветствуемый обществом и обласканный властями, он тяготился «неволей» николаевского режима и не находил полной отрады даже в творчестве.
Сверстникам Иванова, устроившим свои личные дела, казалось, что и вокруг наступило подлинное благоденствие. В письме к Иванову Иордан рассказывал, как он был поражен комфортом петербургской жизни и, в частности, яркими газовыми фонарями на улицах. Другой художник того времени в письме Брюллову восхищается тем, что присутствовал при открытии железной дороги между столицей и Москвой. «Дивный мост, — восклицает он, — охватывает стан Невы чудным поясом, Исаакий коронует город, железная дорога дружит две столицы, голову и сердце Руси! Эрмитаж приютил гениальные произведения, и в заключение всего Россия… показала всю свою нравственную и материальную силу».
Но Иванов видел печальные плоды политики правительства в области искусства на судьбе нового поколения русских пенсионеров, которые появились в Риме в 50-х годах. В Рим посылали только академическую молодежь. Судя по ней, академия теряла свой прежний престиж, искусство ее заметно мельчало; в нем все сильнее проявлялись приспособленчество, робость, безличие, шаблон. Если в академии и были заметны признаки нового, то это были лишь слабые отголоски той жизни, которая пробуждалась за ее пределами и тщетно толкалась в ее дверь.
Мертвенные, чуждые подлинному творчеству произведения академических живописцев давали далеко не полную, одностороннюю картину художественной жизни России того времени. В конце 40-х и в начале 50-х годов уже выступило целое поколение художников-новаторов. Семена, брошенные Венециановым и позднее Федотовым, не пропали даром. В русском искусстве, особенно в графике, все сильнее выступают демократические тенденции. Эти художники, нередко выходцы из разночинной среды, были далеки от официальных кругов; многие из них мужественно вели неравную борьбу с тогдашней твердыней официального искусства — императорской академией; большинство их страдало от непризнания и бедствовало. Они отстаивали искусство, близкое, нужное народу. В своих небольших, согретых теплотой чувства и искренностью жанровых картинах, в рисунках и литографиях они открывали поэзию каждодневной жизни простых людей, обитателей петербургских трущоб и чердаков. Эти художники были предтечами демократического подъема национальной русской школы второй половины XIX века. Но, конечно, в своем римском уединении Иванов ничего не знал, да и не мог знать об этом демократическом лагере. О Венецианове ему было известно только понаслышке, о его учениках он мог узнать от тех, которые перешли в академический лагерь. О Федотове он услышал впервые лишь по возвращении в Россию. В силу непреодолимых условий своей работы Иванов оказался оторванным от той среды, которая способна была помочь ему в поисках нового, плодотворного пути в искусстве, от художников, которые, конечно, признали, бы в нем труженика-собрата и в большей степени оценили бы его искания, чем это делали те римские пенсионеры, с которыми он вынужден был постоянно общаться.
Видимо, среди новою поколения «русских римлян» Иванов чувствовал полное одиночество. Все лучшие друзья покинули его. Ослепший Лапченко давно уже уехал с красавицей женой, «девушкой из Альбано», на родину — на Украину. Он получил там место управляющего в одном из воронцовских имений, проявил на этом посту большую деловитость и изобрел новый способ вести бухгалтерский учет. Иванов изредка писал ему, передавая поклоны красавице супруге.
В конце 40-х годов Иванова покинул и Чижов, с которым он дружил много лет. Незадолго до того Чижов побывал на Балканах — в Истрии, Далмации и Сербии — и завязал там связи с представителями местного освободительного движения. Он помогал далматским партизанам выгружать оружие, которое те собирались пустить в ход против австрийских властей. Это стало известно последним, и они пожаловались Николаю I. Когда Чижов по случаю тяжелой болезни матери должен был поспешно вернуться в Россию, на границе его окружили агенты царской полиции и под арестом отправили в Петербург, прямо в Петропавловскую крепость. Здесь заключенный был подвергнут строжайшему допросу (один из пунктов его был: «Почему носите бороду?»). В пространном ответе, занимающем пятьдесят страниц, Чижов пытался изложить свое политическое кредо славянофила и защитника национально-освободительного движения на Балканах. Николай наложил резолюцию: «Чувства хороши, но выражены слишком живо и горячо. Запретить пребывание в обеих столицах».
Иванов все реже получал письма от неизменно ценимого им Гоголя. В них иногда звучало ласковое слово, напоминавшее о счастливых днях, проведенных вместе в трактире Фальконе или в студии. Весть о кончине Гоголя глубоко взволновала художника. Личность гениального писателя оставила неизгладимый след в памяти Иванова. Он позаботился о том, чтобы портрет его был выгравирован Иорданом, и писал об этом Жуковскому, но в ответ на письмо получил траурное извещение о смерти и Жуковского. При жизни Гоголя Иванов страстно желал иметь письма его «собственной руки», хотя иногда долгое время не решался вскрывать некоторые из них. После смерти Гоголя Иванов вклеил его последнее письмо в качестве титульного листа в одну из своих тетрадей.
Что касается самого Иванова, то в Петербурге, особенно в академических сферах, о нем уже давно сложилось самое отрицательное мнение. Его возвращения ожидали достаточно долгое время, несколько раз распространялся слух о его скором прибытии, потом все постепенно привыкли относиться к нему, как к заживо погребенному. С конца 40-х годов об Иванове ходили самые разноречивые и вздорные слухи, и оставшиеся в Петербурге родные, в частности сестра Екатерина, не щадя чувств художника, считали своим долгом сообщать ему эти слухи. Светская чернь, особенно люди, близкие к академическому начальству, упорно твердили о том, будто казна давно уже передала Иванову больше; пятидесяти тысяч рублей. По этому поводу высказывали возмущение и лицемерно восклицали: «Довольно потворствовать бесплодному художнику!» Чижову приходилось уговаривать свою «великосветскую покровительницу» графиню Бобринскую и опровергать мнение, будто Иванов «лениво провел время в Италии». Даже расположенные к Иванову люди с обидной усмешкой говорили о пресловутых «трех годах», которых ему всегда не хватало на окончательное завершение картины. Незадолго до смерти старик отец в письме к сыну Сергею недовольно брюзжит на Александра за то, что картина его «могла бы быть давно приведена к концу, если бы он ею занимался по обыкновению всех художников, не выжидая какого-то вдохновения свыше». Иордан писал Иванову из Петербурга: «На вас кричат не в пару, а в четверку: зачем не оканчиваете картину!»— и настоятельно советовал: «Имейте бодрость сказать: кончена». Теперь не было Гоголя, который по собственному опыту мог оценить взыскательность художника и оправдать его.
Одиночество Иванова скрасил только приезд младшего брата Сергея. В судьбе его Александр всегда принимал близкое участие, находясь за границей, переписывался с ним, следил за его учением, направил его на занятия архитектурой. Благодаря Александру Сергей избавился от глухоты удачной операцией, сделанной доктором Иноземцевым в Москве. Александр и позднее помогал ему советами, особенно когда тот послан был за границу и по дороге в Рим остановился в Париже. «Сердце у меня забилось от радости, — писал Иванов отцу, — при известии о том, что брат пересек границу». Александр помнил Сергея мальчиком, и когда у дверей своей студии он увидал незнакомого молодого человека с тонкими, правильными чертами лица и небольшой бородкой, художник долго не мог поверить, что это и есть тот самый долгожданный Сережа, которого почти двадцать лет назад он оставил в Кронштадте восьмилетним малышом. К брату своему Иванов почувствовал большую нежность. Братья стали жить вместе и разлучались только во время летних поездок в Неаполь. Хотя Александр не мог отвыкнуть от взгляда на Сергея, как на младенца, тот скоро оказался в роли заботливой и внимательной няньки своего старшего гениального брата. Он устраивал его дела, следил за его здоровьем, не отходил от него, чтобы предупредить какой-либо опрометчивый поступок.
Сергей не принадлежал к числу тех беззаботных молодых художников, которых ничто не занимало, кроме собственного благополучия. Не обладая творческим гением брата, он своей честной деловитостью, прямотой и благородством характера ему ничуть не уступал. Два года, проведенных в Париже в канун революции 1848 года, не пропали для него даром. Сергей хлебнул из чаши политического радикализма, усвоил многие передовые политические воззрения, о которых Александр даже и понятия не имел в своем римском захолустье. Вот почему общение с ним Александра ускорило его освобождение от старых воззрений и содействовало скорейшему переходу на сторону передовых сил. Вместе с тем у Сергея, который самые мрачные годы николаевской реакции провел в Петербурге, не было никаких иллюзий насчет возможности заключения выгодного для искусства соглашения с николаевским правительством.
Хотя Сергей не имел на то никаких отговорок, он категорически отказался от возвращения в Петербург в 1848 году, когда посольство потребовало от него, чтобы он покинул пределы революционного Рима. Недаром и впоследствии, в годы освободительной войны в Италии, он недвусмысленно выражал свои симпатии народному движению и не скрывал враждебности к обскурантам.
Помимо своего брата, Александр Иванов мало виделся с другими людьми и скоро отвык от общения с ними. Одиночество помогало ему сосредоточиться на делах искусства, содействовало его творческим успехам, помогало ему в решении своих творческих задач. В этом одиночестве было нечто от отшельничества, и на это намекал еще Гоголь, говоря о подвижничестве художника и его лишениях. Но как ни благородно было само по себе это самопожертвование художника, такая жизнь нелюдимым чудаком наложила на него отпечаток, и потому молодым художникам нетрудно было высмеять его в карикатурах. Расстроенное здоровье все больше давало о себе знать в поведении Иванова, и скоро его мнительность дошла до такой степени, что даже его самый верный друг, брат Сергей, с которым он говорил с полной откровенностью, выходил из себя, когда наступал очередной приступ.
Судьба большой картины внушала все большую тревогу. Иванов все еще считал ее недоконченной, все еще собирался ее усовершенствовать и ради этого трудился над новыми этюдами для ее первого плана. Но возможно, что об этом говорилось лишь потому, что вошло в привычку; и что ни сам художник, ни его близкие серьезно не верили в то, что картина будет когда-нибудь признана им законченной. «Могут ли быть новые способы к усовершенствованию большой моей картины, — спрашивал Иванов у одного из своих покровителей, — или уже мне должно, к стыду и величайшему моему горю, назвать ее конченою?» Охлаждение к картине, в котором признается и сам художник, наступало по мере того, как его все более увлекали библейские эскизы. Но хотя для этих эскизов Иванов обходился без этюдов с натуры, он все еще отправлялся каждое лето за город, писал пейзажи, делал зарисовки и даже начинал обнаруживать тяготение к жанровой живописи, которую в прошлом избегал. В окрестностях Рима, в Альбано, в Рокка ди Папа и других местечках, он внимательно наблюдает, как живут крестьяне, как они пашут на волах, как режут овец, как пасутся их стада. Иванов зарисовывает в альбоме невзрачный крестьянский дворик с летающими «ад ним голубями, изображает прачек за работой и тут же рядом светское общество на прогулке, изящных дам с солнечными зонтами в руках.
В Неаполе Иванова привлекает к себе быт рыбаков. Он подолгу бродил по берегу, любуясь на то, как на песке для просушки разостланы рыбацкие сети, как рыбаки хлопочут вокруг опрокинутых лодок и на таганке варят обед. Он передает их загорелые, бронзовые тела, яркие платки, которыми они повязывают головы… Иванов рисует их хижины с заостренными соломенными кровлями. Он отмечал во впечатлениях от окружающей его жизни черты величия той самой народной эпической жизни, следы которой привлекали его и в библейских легендах о пастушеских племенах и пахарях древнего Востока.
Вряд ли «Девочка-альбанка» возникла в качестве вспомогательного этюда к большой картине, хотя она относится к 40-м годам, когда все помыслы художника еще были обращены на его главный труд. Он хорошо знал итальянских крестьянских девушек, миловидных, изящных, полных внутреннего достоинства. Много раз художник рисовал их в своих альбомах. В этюде «Девочка-альбанка» бросается в глаза живая непосредственность впечатления, словно художник случайно заметил ее в дверях дома и очарован был ею, как в свое время художник-иностранец был очарован в Альбано красавицей Витторией. Светлый силуэт девушки в дверях сам по себе составляет картину, и перед таким зрелищем художнику трудно было устоять. В этом этюде нет ни развлекательного анекдота, ни заигрывания со зрителем, лишь такого рода жанровая живопись была приемлема для Иванова. В самом обыденном мотиве, в неприкрашенной правде раскрыто им обаяние нравственной чистоты и благородства простого человека. В очертаниях непринужденно стоящей девушки проглядывает та соразмерность частей, которую тонко чувствовали мастера древнегреческих рельефов или создатели танагрских статуэток. Не нарушая преобладания ясного силуэта, художник достиг большой тонкости в гармонизации светлых, как бы поблекших тонов. Выделяются лишь ярко-красный платочек на голове девочки и ее иссиня-черные волосы.
В русской живописи того времени «Девушка-альбанка» находит себе параллель лишь у Венецианова, в его «Девушке с васильками». В западноевропейской живописи у Коро в его «Мечтательной Мариетте»
есть та же чистота и целомудрие. Иванов, который с таким трудом добивался совершенства в большой картине, обретал желанную человечность и гармонию перед лицом простой и скромной народной жизни. В этом его создании есть безыскусственная прелесть и задушевность, которой чаруют народные песни.
Во второй половине 40-х годов в живописи Иванова замечаются изменения, которые были подготовлены долгими и упорными поисками художественной правды, той полноты восприятия реального мира, в которой участвовало все богатство красочных впечатлений. В этом деле не могли помочь навыки, приобретенные за время учения в академии. Этому не могли научить и мастера Возрождения. Чтобы овладеть светом и воздухом, приходилось опираться на самостоятельные искания. Уже Гоголь в «Портрете» писал о виде в природе: «Как он ни великолепен, а все не достает чего-то, если нет на небе солнца». В живописи Иванова долгое время не хватало именно этого важного элемента. В этюдах мальчиков на открытом воздухе Иванов обретал понимание новых качеств мира. В передаче красок во всем разнообразии их световых изменений Иванов действовал как подлинный новатор. Правда, уже Леонардо да Винчи проявлял большую зоркость к изменению цвета в различных условиях освещения и воздушной среды. Но великий мастер говорил об этом в своем трактате, ни сам он, ни его преемники не решались все это замеченное глазом в природе воспроизвести в картине. Иванов был первым, кто посмел это сделать. И какое богатство мира ему открылось!..
В 50-х годах Иванова особенно занимает тема: обнаженное тело в пленэре[14]. Возможно, что сам он уверял себя, что эти этюды пригодятся ему, когда он будет «проходить» большую картину в последний раз. Между тем и на этот раз этюды вспомогательного характера приобретали в его руках самостоятельное значение.
Он знал этих загорелых итальянских мальчиков, которые в Альбано помогали ему перетаскивать ящики, зонтик и стул, когда он отправлялся на этюды, в свои записные книжки он тщательно заносил, сколько паоло и байоков было на них истрачено. Он замечал под благодатным небом Неаполя множество беспечных ладзароне (шалопаев), которые умели часами валяться в теплом песке на берегу моря, предаваясь сладкому ничегонеделанию. Он постоянно встречал мальчиков в своих блужданиях вдоль берега Неаполитанского залива, и они кричали ему: «Сударь, напишите наш портрет!».
Еще в первые годы своего пребывания в Италии Иванов на берегу моря пытался сделать несколько альбомных зарисовок лежащих и купающихся ребят. Но все это были лишь беглые наброски, которым он не придавал серьезного значения. Сила традиции была настолько велика, что никто не считал возможным изучение человеческого тела вне мастерской, вне условий одностороннего рассеянного света, без «постановки» модели в нужной позе. В течение многих лет своей жизни Иванов привык считать наготу принадлежностью музеев или рисовальных классов. Теперь у него открываются глаза, он увидал ее овеянной воздухом, озаренной солнцем. Теперь ему не нужно было напрягать воображение и переноситься в далекое прошлое, представлять себе мальчиков в образе юных друзей Аполлона. Они были перед глазами постоянно, их можно было наблюдать в живой действительности.
Одно из наиболее законченных и совершенных произведений Иванова этого рода его «Три мальчика на фоне Неаполитанской бухты» Все три мальчика лежали и грелись на солнышке, но один поднялся и поднял руки к голове, другой привстал и вопросительно повернул голову к третьему; третий, потягиваясь, лежит на земле, закинув руки к голове, не обнаруживая ни малейшего желания нарушить свой покой. О чем переговариваются эти три мальчика? В телах их передано три состояния: нега, пробуждение и готовность к действию, и потому такую значительность приобретает эта сцена. Иванов выполнил пейзаж еще прежде, чем написал тело. Воспроизведено вполне определенное место — Неаполитанская бухта с виднеющимися вдали островом Иския и Мизенским мысом в ранний утренний час. Солнце только поднимается на востоке, и длинные синие тени тянутся по земле. Небо ближе к зениту уже синее, ниже чуть желтее, еще ниже лазурное и у самого горизонта розовое. Узкая полоска моря прозрачна, как голубое стекло, розовые горы почти сливаются с небом. Краски в предметах первого плана насыщены. Тела мальчиков, золотистые в свету, отливают красными и ярко-синими отсветами в тенях. В самых красках передано ощущение того утреннего пробуждения природы, которое всегда поражает как прекрасная тайна. Без помощи мифологического вымысла создается впечатление той неразрывной связи человека с природой, которую воспевали классики в своих вакханалиях.
В 50-х годах воображение художника развертывало перед его глазами свиток библейской легенды, в которой было много мрачного, сурового, жестокого, бессмысленного и бесчеловечного. Библия прославляла в лице царя Давида его «богоизбранность». Но чутье художника убеждало Иванова, что высшее блаженство он испытывал, когда был простым пастухом, играл на лире под деревом, окруженный собаками. Среди библейских эскизов отдельные образы напоминают мальчиков. Видно, художнику были особенно дороги состояния, рисующие «золотой век» человечества, его юность, счастье, естественную наготу.
В ЛОНДОН
…Но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле.
Дабы скорей узреть — оставя те
места —
Спасенья верный путь и тесные
врата…
Пушкин, «Странник».Скромное наследство после смерти отца мало поправило материальное положение Иванова. Правда, по мере того как он остывал к своей большой картине и его расходы сокращались, он не испытывал крайней нужды, как раньше. Но в 50-х годах состояние его зрения вновь ухудшилось, лечение потребовало трат, и, таким образом, снова возник старый вопрос. В 1857 году по ходатайству расположенных к художнику людей ему было «высочайше пожалованы» полторы тысячи рублей на лечение. На эти средства он отправился в Вену, посетил видного окулиста, по его совету прошел курс лечения в Интерлакене, повидал Альпы, но, вместо того чтобы оттуда вернуться к себе в Рим, на улицу Виколо дель Вантаджо, отправился в Лондон для того, чтобы повидаться там с Герценом. О поездке этой, конечно, никто не узнал. От добровольного узника римской студии никто из его покровителей даже и не мог ожидать такого смелого шага.
Герцен был тогда не только политическим эмигрантом, но и огромной политической силой в качестве создателя первой русской свободной типографии. Настало время, когда он смог перейти в наступление, и русское правительство начинало понимать, какого грозного противника оно имело в его лице. В те годы даже близкие ему в прошлом люди, вроде В. П. Боткина, шли с ним на разрыв, опасаясь неприятностей со стороны русского правительства. Иванов хорошо понимал, чем грозит ему появление среди лондонских политических эмигрантов, но собственная судьба мало заботила его: беспокоило только, что в его отсутствие. папское правительство могло наложить руку на произведения, особенно на его еретические библейские эскизы. Эти вещи были ему дороже жизни.
Иванов не забывал того, что Герцен был идейным противником Гоголя и Языкова, с которыми он был прежде так близок. Но решению посетить Герцена предшествовала огромная внутренняя работа в сознании художника. При той замкнутости, которой он всегда отличался, многое до сих пор неизвестно, и вряд ли найдутся источники, способные пролить свет на эту сторону жизни Иванова. С его всегдашней медлительностью Иванову потребовалось много времени для того, чтобы прийти к этому решению, но, видимо, он насквозь проникся мыслью, что встреча для него жизненно неизбежна, и это придает ей значение настоящего события в творческой биографии мастера.
Колебания его начались, вероятно, еще в 1847 году; Герцен отпугивал тогда Иванова и вместе с тем привлекал радикализмом своих суждений, недаром художник часто его посещал. Поверх этого широким пластом легли впечатления 1848 года в Италии, когда поднялся ее народ и сказал свое слово, когда зашатались отжившие свой век установления. Наконец помог и брат Сергей, в беседах с которым возможна была полная откровенность и который держался передовых политических воззрений.
Под действием этих впечатлений в самом художнике постепенно назревали сомнения и колебания. Сначала это были антицёрковные настроения, поиски подлинно религиозного чувства, которые он противополагал пустой официальной церковности, — в это время его возмущали художники, которые служили церкви без веры, в качестве бездушных наемников. Потом, по мере того как он стал критически вникать в тексты священного писания, в нем поколебались его собственные религиозные убеждения — все то, во что прежде он готов был верить, становилось для него пустой обрядовой формой. Тогда свидетели стали замечать, что он перестал посещать церковную службу и появлялся в церкви, лишь когда этого требовало его официальное положение русского художника. Наконец наступил момент, когда он должен был признаться себе, что полностью утратил веру, и тогда для него возникла потребность в пересмотре своих воззрений. Для таких глубоко искренних людей, каким всегда был Иванов, отказ от старых воззрений на коренные вопросы жизни должен был означать настоящую жизненную драму. Она сопровождалась мучительным состоянием, близким к отчаянию, душевной мукой, которую искупала только уверенность, что другого выхода не было, — обманывать дальше себя было невозможно. Не только люди, с которыми художник был откровенен, но и посторонние находили перемену в его отношении к религии.
Для Иванова как художника с этим переломом оказался сопряженным вопрос о судьбах искусства. Искусство как пустое развлечение, как «игрушечный жанр» уже давно для него не существовало. Но после 1848 года он начал понимать, что и попытки возрождения большого искусства на старой основе тоже были обречены на неудачу. В сущности, все то, чему он служил всю жизнь, теперь оказалось под сомнением — вот почему и позднее он с таким волнением вспоминал о революции 1848 года.
Иванов не был человеком, который только из-за личной заинтересованности мог судорожно цепляться за такое дело, обреченность которого была ему ясна. Уже в 1855 году он с горечью признается, что «основная мысль» его картины почти теряется перед «последними решениями учености литературной». Позднее, в письме к брату, он еще более определенно выражает готовность отречься от всей «римской жизни», от «приветливого говора молодых девиц», от «беспечной жизни», от «прекрасной природы», от всего этого художественного мира. «Да ведь цель-то жизни и искусства теперь другого уже требует! — восклицает он. — Хорошо, если можно соединить и то и другое. Да ведь это в сию минуту нельзя!» И хотя он не скрывает того, что, быть может, ему самому, как «переходному художнику», так и не удастся пробиться на новый путь, в его плодотворности у него не было ни малейших сомнений.
Теперь ему, конечно, вспомнились и давние беседы с Герценом, который пугал его десять лет назад своими нападками на «Выбранные места» Гоголя. Возможно, он припомнил, что Мадзини осуждал современное измельчавшее искусство и призывал к искусству, способному выполнить высокую пророческую миссию и принять участие в общественной борьбе. Не исключена возможность, что в руки Иванова попали незадолго до того вышедшие выпуски «Полярной звезды». На обложке их были силуэты замечательных русских борцов за свободу, гибель которых он в молодости сам тяжело пережил, создавая своего «Иосифа».
В одном из номеров приведены были строки Рылеева:
Смотри — в волнении народы, Смотри — в движеньи сонм царей!В передовой статье сообщалось о потрясении, испытанном Россией, после которого трудно поверить, чтобы она вновь заснула «непробудным сном». В статье друга Герцена Н. И. Сазонова говорилось об историческом месте России и давался ответ на многие из тех вопросов, которые давно занимали художников. Читая знаменитое письмо Белинского к Гоголю но поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», он с горечью должен был признать справедливость его негодования. Если тетрадки «Полярной звезды» действительно попали в руки Иванова, они должны были произвести на него действие, как открытое окно, через которое в студию художника потянуло свежим воздухом.
Все эти встречи, воспоминания, впечатления, раздумья привели Иванова к решению писать Герцену и просить свидания с ним. В письме Иванова каждое слово выношено и взвешено. Все оно в целом исполнено спокойной твердости и убежденности в важности задуманного дела.
«Следя за современными успехами, я не могу не заметить, что мое искусство живописи должно тоже получить новое направление, и, полагая, что нигде столько не могу зачерпнуть разъяснения мыслей моих, как в разговоре с вами, надеюсь, что вы мне не откажете в этом многополезном предприятии. Я решаюсь приехать в Лондон на неделю, что будет от 3 до 10 сентября. В художниках итальянских совсем не слышно стремления к каким-нибудь новым идеям в искусстве. Не говоря уже о теперешнем гнилом состоянии Рима, они в 1848 и 49 годах, когда во главе стоящая партия грозила до основания разрушить церкви, думали: как бы получить для церквей новые заказы. Такое противоречие рождает самый любопытный вопрос: как думает об этом Мадзини? Почему и просил бы вас покорнейше свести меня с ним во время пребывания моего в Лондоне, но подумав, однако ж, не будет ли это свидание иметь пагубные последствия для меня от римского правительства, которое, вероятно, вследствие последних потрясений, стоит на стороже всех его действий в самом Лондоне. Если, например, правительству вздумается вторгнуться в мою студию в Риме для рассмотра моих книг, с помощью которых я пробую созидать новый путь для моего искусства в эскизах, то они, разумеется, отберут от меня и то и другое, что будет моим смертельным нравственным ударом.
Удостойте ответом вас искренне уважающего
Александра Иванова».
В год, когда Иванов обратился к Герцену, Герцен был на подъеме своей революционной деятельности. Уже позади остались разочарования, испытанные после крушения революции 1848 года и повсеместного торжества непроглядно черной реакции. Герцен мужественно преодолел свое состояние, близкое к отчаянию. Его поддерживала вера в Россию, в русский народ, в его историческую миссию. С открытием лондонской типографии Герцен смог почувствовать под ногами твердую почву Деятельность его приобретала действенную силу, друзья из далекой России писали, какой отклик находило его печатное слово в самых глухих окраинах страны. Только в августе 1857 года он получил весть о том, что «недовольство всех классов растет… Какое-то тревожное ожидание тяготеет над всеми… Все признаки указывают в будущем на страшный катаклизм, хотя и невозможно представить, какую он примет форму и куда нас поведет». Эти сообщения укрепляли в нем уверенность в необходимости вести борьбу до конца. В 50-х годах к Герцену в Путней, где он жил, началось настоящее паломничество русских людей, оказавшихся за границей. Среди них были отставные военные и помещики, литераторы и студенты, люди из простонародья, молодые и старые — все они испытывали живую потребность побывать у Гериена, услышать его живое слово, а иногда и прямо внести свою лепту в его благородное дело. Недаром русский посол в Париже Киселев, визируя путешественникам паспорта для проезда в Лондон, спрашивал их: «А в Путней поедете?»
Прибыв в Лондон, Иванов поспешил разыскать загородный дом, который занимал Герцен со своей семьей и близкими ему людьми. Однако поскольку Герцен был в то время в отъезде, в Манчестере на Всемирной выставке, встреча художника с ним состоялась только через несколько дней. Герцен находился тогда под сильнейшим впечатлением только что увиденных в Манчестере шедевров старой живописи, извлеченных из дворцов английской знати и впервые показанных публике. Может быть, эти впечатления в Манчестере разбередили в нем потребность вновь взглянуть на лондонские шедевры. Может быть, он надеялся, что перед их лицом ему легче будет найти общий язык с художником. Во всяком случае, он предложил немедленно отправиться всем вместе в Лондонскую национальную галерею. И они отправились — он, Иванов, Огарев, случившийся тут же молодой литератор Гаевский и, вероятно, кое-кто из членов семьи. Хотя Герцен принимал гостя не у себя дома, он взял на себя роль гостеприимного хозяина, водил его под руку по музейным залам, останавливался перед своими любимыми шедеврами, пересыпал свою всегда блестящую, остроумную речь мыслями об искусстве, воспоминаниями об увиденном ранее.
Отзывчивость Герцена к искусству была его прирожденным свойством. В нем редко и счастливо сочетался дар размышлять перед художественным шедевром, читать в нем, как по летописи, человеческое прошлое, и способность со всей страстностью своей богатой натуры отдаваться той высшей и несравнимой минутной радости, которую человеку дарует лицезрение художественного совершенства, той радости, которая людям однобоко интеллектуального склада недоступна, как высшая математика школьнику.
Унылое однообразие огромных современных музейных залов с их изобилием вырванных из естественной среды и выстроенных в ряд шедевров всегда производило гнетущее впечатление на Герцена. Искусство было для него не предметом изучения, систематизации, собирательства. Он умел самым прославленным шедеврам дать возможность войти в его жизнь, дать место им в самых заветных уголках своего сердца. Вот почему он глубоко понял и оценил «Сикстинскую мадонну», лишь когда в лице своей жены увидел и радость и тревогу материнства, почему воспоминания о ватиканской картине Доменикино «Причащение Иеронима» ожили в нем при похоронах польского революционера Ворцеля.
Бродя по Национальной галерее под руку с Ивановым, он ни минуты не забывал своего жизненного дела. В то самое время, как он наслаждался тишиной музейных зал, у издателя Трюбнера в Лондоне печатные машины уже выбрасывали листки того самого «Колокола», которые будут жечь сердца людей и прозвучат призывным набатом. Но в этот прекрасный день Герцен желал удовлетворить потребность человека быть самим собой. Его богом был тогда жизнерадостный, полнокровный Рубенс, его восхищали голландцы — все то, от чего веяло чувственной прелестью жизни. Видимо, это было для Иванова полной неожиданностью. Здесь среди шедевров ему не под силу было в словесном поединке опровергнуть сверкающее красноречие Герцена. Самого серьезного аргумента — его собственных картин — у Иванова не было под руками, и потому он чувствовал себя безоружным. Он попробовал что-то сказать в защиту итальянской классики, и в частности Тициана, но ему дали понять, что все это давно устарело, — он и сам испугался своей смелости и замолчал. Но в глубине души своей он недоумевал: разве ради того, чтобы узнать пристрастие и вкусы великого человека, предпринял он свое путешествие в Лондон?
Вечером, к приходу Иванова, за чайным столом у Герцена собрались его домочадцы и друзья. Поскольку Мадзини в Лондоне не оказалось, вместо него пришел его друг Саффи, который вступал в разговор, когда дело касалось положения в Италии. Был Н. П. Огарев, который особенно сердечно и участливо отнесся к личности Иванова, литератор Гаевский, Н. А. Тучкова-Огарева, семнадцатилетний сын Герцена и его маленькая дочка, девочка с большими темно-серыми глазами и крупным отцовским лбом. Разговор долгое время не мог сосредоточиться на одном предмете. Со своей всегдашней привычкой Иванов молча слушал собеседников, лишь изредка вставляя свое замечание. Герцен, который поддерживал разговор, всматривался в лицо своего гостя.
Сколько людей прошло мимо Иванова, почти все они замечали только его застенчивую улыбку, его любимые словечки и междометия, манеру в знак несогласия мотать головой и другие странности. От взгляда Герцена не ускользнуло в Иванове более важное. Он заметил, как сквозь его застенчивую улыбку проглядывала его тяжелая дума, как печаль временами омрачала его доброе, приветливое лицо. Словно какая-то неотступная забота не давала ему покоя.
До нас не сохранилось точной записи той знаменательной застольной беседы гостей Герцена, которая затянулась тогда глубоко за полночь. Но, судя по косвенным данным, можно думать, что в ней затронуты были коренные вопросы современного искусства. Несколько раз Иванов принимался говорить о том, ради чего он приехал в Лондон, прежде чем его по-настоящему поняли. Если самым ходом событий, спрашивал он, старое в жизни народов должно быть зачеркнуто, то какие же новые задачи должны встать теперь перед искусством? Или же действительно жизнь в данный момент не нуждается в искусстве? И, обращаясь к Герцену и Огареву, он говорил им: дайте мне живую мысль, дайте веру, дайте новую тему! Он просил их с таким видом, будто они тут же, не сходя с места, могут утолить его мучительную жажду истины.
Герцен пробовал на это отвечать, ссылаясь на новые идеалы борьбы человечества за свободу, за человеческое достоинство, за его постоянный прогресс. Но все эти понятия звучали слишком общо и отвлеченно и не давали ответа на мучившие художника вопросы. Герцен напоминал о том, что современная общественная борьба имеет и свои жертвы и своих мучеников, они-то и должны стать предметом искусства. Но и эта тема могла стать темой по внутреннему влечению художника. Возможно, что речь шла о том, какой выход может найти современный художник, отвернувшись от живописи религиозной. Иванов говорил о своем понимании археологической достоверности в исторической картине. Огарев находил это лазейкой «Доводите искусство до самой утонченной оконченности и копируйте природу, — говорил он, — да жизни-то вы не вдохнете в свое произведение». И он вспоминал о том, что слышал еще в России о задачах искусства. Теперь это называют «воспроизведением действительности», но разве это не то же самое, что подражание, о котором твердили еще в древности. Между тем правдоподобие всего лишь условие, но не главная задача. Нужно, чтобы вся общественная жизнь дышала в искусстве, чтобы художник передал в нем то, что он нашел в современной жизни И. вспомнив, что его слушает живописец, он прибавил о том, что и для техники необходимо вдохновение.
Беседа коснулась вопроса о жанровой живописи, достигшей такого расцвета у фламандцев, которой так восхищался Герцен. Иванов не стал оспаривать этого восхищения, но он выразил недоумение, как фраки и цилиндры, все уродство современного быта превратить в предмет искусства. Огарев соглашался, что в жанре, как его понимают обычно, нет спасенья. Если вам противны эти самодовольные, скаредные лавочники, то вот вам новая тема — это благородный в своих лохмотьях бедняк, который знает уже, что скоро придет его пора. Пишите, наконец, пейзаж, если в вас есть чувство природы и способность отдаваться этому чувству без поисков эффектов. Может быть, в этой связи Герцен высказал и свои заветные мысли о призвании русского художника воспеть родную сельскую природу, и он признался, что самые ослепительные красоты Сорренто и римской Кампаньи бледнеют в его памяти, когда он вспоминает русские деревни и села, почернелый ряд скромных бревенчатых изб, свежий запах сена или смолистой хвои — всю эту прелесть русской природы, в которой есть нечто мирное и доверчивое, кротко-грустное, как в народной песне. Для Иванова после его бесконечных блужданий по Кампанье и Неаполю эти слова должны были звучать настоящим призывом.
Художник слушал речи своих собеседников с мучительным напряжением — видимо, не в силах сразу освоиться со всеми нахлынувшими на него новыми мыслями. Разговор постоянно перескакивал с предмета на предмет.
В этом маленьком, обвитом плющом кирпичном домике легко было позабыть, что находишься на окраине мрачного Лондона с его роскошными омнибусами и экипажами и бездомными людьми, проводящими ночь под мостами. Видя устремленные на него понимающие сочувственные взгляды, слыша родную речь, Иванову легко было поверить, что все происходит в той самой России, куда он так мечтал попасть, минуя ненавистный Петербург. И странное дело, он, который с таким недоверием относился к людям, стал рассказывать о своих будущих планах с откровенностью, будто здесь собрались его давнишние друзья. Он говорил о том, как, не желая кривить душой, он отказался от заказа для московского собора и как это лишило его средств к существованию и помешало в работе над картиной; рассказывал об этом с таким невозмутимым спокойствием, как будто иначе это и не могло случиться, будто дело это касалось не его самого, а какого-то другого, постороннего человека.
Тут Герцен больше сдерживаться не мог. Он вскочил со своего места, полные слез глаза его ярко сверкали. «Хвала русскому художнику!» — воскликнул он, обнимая Иванова. Растроганный художник чувствовал себя смущенным, так как не совсем понимал волнения хозяина. Несколько раз он пытался вернуться к разговору о самом важном и дорогом для него предмете, но странным образом на язык подвертывались другие темы, и он долго и нудно выспрашивал Герцена, не знает ли он толкового путеводителя по Палестине на французском языке. Герцен хмурил лоб. напрягал память и все никак не мог вспомнить нужного названия. Уже прощаясь с хозяином, Иванов испытывал такое чувство, будто они так и не сказали друг другу самого главного и беседа их так и не прояснила его взгляда. Он не осознавал тогда, да и не мог это сделать, как всякий живой участник событий, что самым своим посещением скромного домика в Путнее он, который так хотел стать писателем, но не стал им, в сущности, вписал целую главу воспоминании в замечательную книгу о делах и днях лучших русских людей середины прошлого века — в «Былое и думы» Герцена.
«…Вы подаете не только великий пример художникам, но даете свидетельство о той непочатой, цельной натуре русской, которую мы знаем чутьем, о которой догадываемся сердцем и за которую, вопреки всему делающемуся у нас, мы так страстно любим Россию, так горячо надеемся на ее будущность!»
Так закончил свое скорбное надгробное слово о великом русском художнике Герцен, когда год спустя до нею дошла весть о его кончине.
ПОЕЗДКА В АЛЬБАНО
Вновь я посетил тот уголок…
Пушкин.Иванов вернулся в Рим, по заключению близких людей, освеженным и помолодевшим. Посещение Герцена хотя и не разрешило всех его сомнений, но укрепило его в уверенности, что Россия стоит накануне великих перемен, что художник не может оставаться их сторонним наблюдателем. Теперь, когда, казалось бы, ничто не неволило его к этому, он твердо решил принести еще одну жертву — отказаться от своей привычной спокойной римской жизни и пуститься в путь в Петербург. Он считал своим долгом отчитаться перед обществом в том, что он сделал за двадцать семь лет отсутствия.
Последние месяцы жизни в Италии Иванов, помимо хлопот, связанных с судьбой картины, прощался со своей «чисто художественной жизнью», с теми местами, где он провел большую часть своей жизни. Случилось так, что свидетелем одной из таких прощальных прогулок Иванова за город оказался молодой И. С. Тургенев, который через приятеля своего, В. П. Боткина, познакомился с художником и даже побывал у него в мастерской. Благодаря этой встрече потомство имеет литературный портрет с великого художника, сделанный пером великого писателя. Тургенев позднее опубликовал свои воспоминания под названием «Поездка в Альбано и Фраскати».
Автор «Записок охотника» находился тогда на вершине своей творческой зрелости. Только что им был закончен очаровательный рассказ «Ася», в котором образ русской девушки во всей ее прелести и неразгаданности особенно выпукло вырисовывается на фоне идиллической природы Рейна. Воображение уже рисовало ему пленительный в своей пластичности образ итальянской красавицы, который в лице Джеммы должен был войти в повесть «Вешние воды» То было время, когда Тургенев дружески обещал Л. Н. Толстому перестать быть барином. Впрочем, его замашки баловня судьбы и сибарита давали о себе знать во всем, что он делал. Они проявились и в том, как он взглянул на русского живописца, с которым его свела судьба.
Тургенев тонко подметил прозрачность того октябрьского дня, когда он в сопровождении В. П. Боткина и А. А. Иванова отправился в Альбано. Ему запомнилось, как дребезжали стекла у старой кареты, когда она после гладкой Аппиевой дороги стала подпрыгивать по камням при въезде в Альбано. От него не ускользнуло и то особенное, праздничное осеннее чувство, которое было тогда на душе у всех трех путешественников. Разговор шел об искусстве.
И Тургенева и Боткина нежило сознание того, что Рафаэль, на славу которого уже посягали всякого рода потрясатели устоев, называя его бездарным, — этот самый Рафаэль вызывал к себе такое почтительное отношение русского живописца. В сущности, до самого Рафаэля обоим литераторам было мало дела, на место него можно было бы поставить и Венеру Милосскую или что-нибудь другое, но важен был «принцип», «направление», а потому, слушая художника, они поддакивали ему и готовы были охотно признать его авторитет в этом деле. На них производило впечатление еще и то, что Гоголя, имя которого уже стало легендарным, Иванов не называл иначе, как запросто Николаем Васильевичем, и, нисколько не выставляя своей былой близости с покойным, говорил о нем так, будто он мог бы быть четвертым пассажиром в коляске. Тургенев даже почему-то решил, что Гоголь, хотя и превозносил Иванова, но его не понимал так, как вот они понимают друг друга — два русских литератора и русский художник. Тургенев и Боткин обратили внимание на то, с каким волнением Иванов вспоминал о всеобщем осуждении «Переписки». Они решили, что Иванов боялся, как бы сходная участь не постигла и его картину. Они не могли не знать, что Иванов только недавно побывал у Герцена, но о нем не произнесено было ни слова. Тургенев, видимо, считал всю эту поездку в Лондон блажью художника. Заметив нечто тревожное в словах Иванова о событиях 1848 года, он, как человек, твердо уверенный в том, что его собственные симпатии и антипатии должны разделять все «порядочные люди», решил, что и Иванов в качестве защитника Рафаэля должен был испытывать отвращение ко всякого рода потрясениям общественного порядка.
Этот дивный осенний день в римской Кампаньи и ожидание красот в Альбано и Фраскати не располагали спутников к особенно серьезным разговорам и тем более спорам. К тому же и Тургенев и Боткин не без снисходительной барской насмешливости смотрели на своего скромно, почти неряшливо одетого спутника, привыкшего совершать прогулку не в удобном экипаже, а пешком. Видимо, Тургенев даже не особенно вникал в то, что Иванов говорил о дальнейших планах своих работ и о Штраусе, — он решил, что Иванов собирался советоваться с немецким эрудитом по поводу своей картины. Тургенев и Боткин начали объяснять ему, что Штраус не может ему помочь, так как, видимо, ничего не понимает в живописи, и когда Иванов согласился со своими непрошеными советчиками и они заметили, что он испуганно вздрагивал и по-детски смеялся, слыша прямое и резкое суждение о ком-нибудь из общих знакомых, они решили, что с ними говорит настоящий простачок. Тургенев даже не без удивления признавал, что Иванов порой произносил слова, «свидетельствующие об упорной работе его ума», и этот ум он назвал замечательным. Когда в разговоре случайно затронут был больной вопрос Иванова, его опасения быть отравленным, Боткин исподтишка толкнул Тургенева коленом: оба они решили, что убеждать чудака бесполезно. «Бедный отшельник! — назидательно решил Тургенев. — Двадцатилетнее отшельничество не обошлось ему даром».
Прибыв в Альбано, путешественники отправились верхом вдоль галереи во Фраскати. Сквозь листву деревьев перед ними светлело озеро, изумрудно-зеленые, словно весенние лужайки виднелись из-за могучих стволов дубов. По улицам города шагал, скрипя огромными корзинами, ослик, проходили альбанские девушки, по дороге вели молодого красавца, захваченного карабинерами за то, что он в драке пырнул ножом своего соперника. От зоркого взгляда писателя не ускользнуло, как около колодца Иванов из кармана вынул корку хлеба и стал жевать ее, макая в холодную воду. Тургенев не мог не залюбоваться обликом художника, его лицом, «сиявшим удовольствием мирных художнических ощущений». Сам Иванов показался ему «достойным предметом для художника». Тургенев заметил красоты старинного парка виллы Альдобрандини и не мог удержаться, чтобы мысленно не населить его со всеми его кипарисами и гротами белокурыми женщинами в духе Веронезе, с жемчужными ожерельями и в бархатных робах. Его поразил закат, который красным пламенем отражался в одном из огромных дворцовых окон. На обратном пути в поезде Тургенев не мог оторвать своего взгляда от местных красавиц с их тяжелыми черными косами и ослепительными улыбками, с чертами, которые вблизи казались слишком крупными, словно созданными, чтобы любоваться ими откуда-то издалека, и Иванов обещал показать ему подобную красавицу, Мариуччу, свою модель, которую он запечатлел в этюдах.
Общество художника заставило его спутников замечать вокруг красивые краски и красивые лица и вспоминать прославленные картины. Одного только Тургенев никак не замечал и не понимал, что с ним рядом в пригородном поезде Фраскати — Рим сидит гениальный русский художник, искусство которого заключает в себе высокую, глубокую мысль целой исторической эпохи. И когда впоследствии к своим путевым впечатлениям Тургенев присовокупил несколько общих рассуждений об Иванове и о Брюллове — увы! — замечательный русский писатель оказался в колее избитых истин, которые мог бы повторять с чужих слов какой-нибудь светский шаркун: «Самый талант его, собственно живописный талант, — писал Тургенев, — был в нем слаб и шаток, в чем убедится каждый, кто только захочет внимательно и беспристрастно взглянуть на его произведение». И он воздыхал: «Имей он талант Брюллова или имей Брюллов душу и сердце Иванова, каких чудес мы были бы свидетелями». Припомним, что позднее Тургенев Мог восхищаться таким посредственным и пустым живописцем, как Харламов, и нам придется с горечью признать, что этот большой художник слова не понял своего собрата по искусству. Казалось бы, прекрасный день, проведенный в римской Кампаньи, должен был сблизить их друг с другом. Но, видимо, и Иванов почувствовал, что с «русскими литераторами» или «господами либералами», как он иронически величал Тургенева, Боткина и их кружок, ему не по дороге. Дело не в одном том, что он уловил покровительственные нотки, не в том, как они устроили ему триумф и поднимали в честь него бокалы шампанского, как исправляли тексты его петиций на имя высочайших особ, — самое главное было то, что Иванов своим чутьем угадывал их половинчатость и робость в решении тех основных вопросов жизни, к которым он подходил со свойственной ему прямотой и самоотверженностью…
Иванову предстояло доставить в Петербург огромный холст. Обойтись в этом деле без помощи официальных кругов было невозможно. Теперь, когда картина была готова и он просил не денег, а лишь содействия, гораздо легче было найти себе покровителей. Но художник продолжал испытывать отвращение к академическому начальству.
Еще в Париже он встретил конференц-секретаря академии В. И. Григоровича, который в свое время испортил ему столько крови своим равнодушием и так расхолаживал его, называя замысел «Явления» «пустой мечтой». Теперь Григорович не прочь был возобновить дружбу с художником и предлагал Иванову ехать вместе с ним из Парижа в Рим. Однако Иванов уклонился от этой чести.
В Риме Григорович напустил на себя важность. Русским художникам, которые явились к нему, он заявил: «Господа! Я требую, чтобы во все время моего пребывания здесь вы по очереди у меня дежурили». Но Иванов сделал вид, что это предписание не касается его. Тогда Григорович сам лично явился к нему в студию на Виколо дель Вантаджо. Однако двери ее по обыкновению оказались запертыми. Григорович явился во второй раз — снова безрезультатно. Взбешенный таким невниманием к своей особе, Григорович пишет на дверях студии, что уже два раза пытался застать художника, и просит его допустить. Однако и это обращение не возымело действия. Тогда Григорович отыскал Л. О. Смирнову, близость которой к художнику была известна, и стал жаловаться ей, взывая к тому, что он помнит и ценит его с тех лет, как он был еще мальчиком. Смирнова быстро нашлась, заявив, что даже ее Иванов не пускает к себе в студию. Пришлось конференц-секретарю дожидаться того дня, когда перед отправкой картины художник откроет двери студии для всех посторонних. Впрочем, и на этот раз Иванов не был особенно гостеприимен по отношению к петербургскому сановнику. Пока народ толпился в студии, он находился на лестнице и за недосугом пообедать закусывал на ходу ломаными кусками хлеба, которые вытаскивал из кармана. Григорович поймал его за этим занятием и стал изливаться в своих чувствах, взывал к прежней дружбе и обещал содействие. Иванов сдержанно выслушал его, довольный тем, что Григорович собирался остаться в Риме и что этим он будет избавлен от его общества в Петербурге.
Выставка картины Иванова обратила на себя внимание. В течение десяти дней в студии толпился народ. Сам патриарх немецкой колонии художников Овербек, хотя и разочарованный тем, что русский художник пошел своей собственной дорогой, должен был признать его достижения. Корнелиус дал ему руку и признал его большим мастером: «Un valoroso maestro». В остальном нужно сказать, что в 1858 году в Риме не было значительных русских и зарубежных художников, способных оценить картину и найти этому произведению достойное место в истории искусства.
В последние месяцы своей жизни в Риме Иванову все чаще приходилось иметь дело с высокопоставленными особами, от которых зависела дальнейшая судьба его картины. Сколько раз ему с величайшим трудом удавалось получить согласие на посещение его студии «высочайшими гостями», но в последнюю минуту ему приносили короткую записку с сообщением, что его императорское высочество не может быть в студии, так как после прогулки чувствует себя несколько утомленным.
Иванов отдыхал душой только среди близких ему и далеких от этих великосветских кругов людей. В Риме у него было несколько знакомых домов, о которых он сохранил светлую память и позднее, покинув Италию. Он близко подружился с будущим замечательным физиологом Сеченовым, тогда еще начинающим ученым, который по просьбе художника выполнял для него переводы и производил библиографические изыскания. Но больше всего он был привязан к брату Сергею, и в беседах с ним был более всего откровенен.
«Ветка». Конец 1840-х годов.
«На берегу Неаполитанского залива». 1850-е годы.
Сергей с неспокойным сердцем отпускал своего брата в Петербург. Узнав о том, что брата его собираются отблагодарить за весь его труд пожизненной пенсией, он не может сдержать своего возмущения. «Они тебя производят в инвалиды, — пишет он, — это похоже на насмешку». Он уговаривает брата с самого начала заявить в Петербурге, что он не участвует ни в каких обедах, ибо присутствовать и не есть было бы из рук вон глупо». Но больше всего заботил Сергея прием, который могли устроить Иванову официальные академические круги. «Может быть, тебя будут нянчить, хвалить. Пожалуйста, не поддавайся! Карл Павлович именно потому и испортился, что поддался этому щекотливо приятному пению». И он дружески выговаривает брату обычную его нерешительность.
В беседах с близкими Иванову приходилось часто выслушивать упреки за то, что он обращается к представителям высшего света и двора, приглашает их к себе в студию, выслушивает их мнения и принимает вид их покорного «протеже». Но другого выхода для Иванова не существовало: без содействия официальных кругов он не в состоянии был бы преодолеть все трудности, связанные с доставкой его картин в Россию, ее выставкой в академии и продажей.
Конечно, никто не мог предвидеть во всех подробностях, как разовьются события. Но с того момента, как художник покинул свое насиженное место, он ставил на карту все свое благополучие, свободу, спокойствие, здоровье. Вступая в этот ненавистный ему вражеский лагерь, он совершал новый, на этот раз последний акт самопожертвования.
В ПЕТЕРБУРГ
Грустный вид и грустный час!
Дальний путь торопит нас…
Ф. Тютчев, «На возвратном пути».Поскольку Иванов решил следовать за своей картиной, его путешествие из Рима в Петербург стало сложным и хлопотливым. Задержавшись несколько в Риме, ой прибыл в морской порт Чивитта Веккия позднее своего багажа. В момент, когда лодка доставляла его к французскому пароходу, о «обнаружил, что картину его не погружали на него, а, наоборот, опускали с парохода: оказалось, что ее нельзя было установить внутри парохода. Пришлось тут же в порту просить, ходатайствовать, чтобы отдан был приказ оставить картину на палубе. Художник с трудом добился того, чтобы ее отодвинули подальше от топки. Между тем поднялся ветер, волны захлестывали на палубу, ее стало обдавать морской пеной. Морское волнение заставило пароход простоять в Тулоне два дня. На таможне в Марселе чиновники стали чинить препятствия. При отправке ее из Парижа возникло новое затруднение — не находили вагона, в который картина могла бы войти. Художника тревожила большая стоимость перевозки. Повсюду ему приходилось просить о содействии влиятельных лиц. Ему приходилось просиживать в приемных долгие часы ожидания. Многие обещали помощь, но не исполняли обещанного. Задержавшись на день в Париже и отправив картину вперед, он потерял ее из виду по дороге в Кельн, ему никак не удавалось установить, где она находится: одни говорили, что она послана малой скоростью, другие — что она задержана на таможне. Иванов уже прибыл в Гамбург, так и не найдя порученного комиссионеру ящика с картиной. Судьба этого столь драгоценного для него груза начинала серьезно его беспокоить. Ему уже казалось, что и на этот раз, как в 1848 году, ее может спасти лишь счастливая случайность. Из Гамбурга предстояло отправиться в Киль, чтобы оттуда на военном пароходе «Олаф» двинуться в Кронштадт.
Путешествие Иванова проходило в беспрерывных хлопотах. Искусство, естественно, должно было отступить на второй план. За время пребывания в Германии он успел только полюбоваться Кельнским собором и прийти от него в восхищение да бегло осмотреть выставку современной живописи в Гамбурге, которая своим безвкусием произвела на него безотрадное впечатление, за исключением ландшафтов «портретного характера», по его выражению. Наконец 16 мая 1858 года пришло сообщение о том, что в Киль прибыл пароход, и, приехав на пристань, он самолично убедился, что в ожидании погрузки на ней находился ящик с его детищем. Одно его беспокоило: получит ли он каюту, чтобы и на пути в Кронштадт не расставаться с картиной. Капитан судна Веймарн не мог сказать ему по этому поводу ничего обнадеживающего.
Направляясь к консулу, художник несколько торопился, и тут с ним случилась небольшая неприятность: у него пошла носом кровь. Сначала он решил не придавать этому серьезного значения, но кровотечение все не прекращалось. Когда пошел уже третий стакан, послали за доктором, и тому с большим трудом удалось кровь остановить. Чтобы присутствовать при перенесении картины на пароход, художник поспешил подняться на ноги, но тут с ним случился обморок, и доктора уложили его в постель. Пришлось снова расстаться с картиной и отказаться от поездки на пароходе.
Через несколько дней Иванов отправился в Берлин для совета с доктором С. Боткиным. Его соблазняла мысль отказаться от поездки в Петербург и вернуться в Рим к своим прерванным занятиям, тем более, что Боткин предупредил, что после долгой жизни в Италии климат Петербурга может оказаться вредным для его здоровья. Иванов ухватился за эту мысль. Но кому поручить в таком случае картину? Кто возьмет на себя хлопоты ее выставки? Наконец после долгих колебаний принято было решение: пароходом через Штеттин отправиться в Кронштадт. Художник чувствовал себя бодро, встречи с новыми, русскими, людьми радовали его. Он даже старался не придавать значения некоторым печальным вестям о судьбе знакомых. Главное — было сознание, что наконец-то кончатся все его мытарства на чужой земле. Кто-то передал ему, что в петербургской печати уже появилось сообщение о скором прибытии «важнейшего» произведения русского исторического живописца и публика с «нетерпением ожидает этого момента». С этой мыслью Иванов после двадцативосьмилетнего отсутствия вступал на родную землю.
Ему предстояло провести в Петербурге ровно один месяц. Это был последний месяц, который Иванову оставалось прожить, месяц мучительных тревог, горьких разочарований и напрасных, бессмысленных волнений. Никто не приневоливал его к этому, но он сам день за днем подробно и обстоятельно описал свою жизнь в Петербурге, описал каждый свой шаг хождения по мукам и написал за один месяц столько, сколько он раньше не успевал и за целый год.
Брату своему Сергею он давал вести о себе почти ежедневно, иногда по нескольку раз в день принимался за перо. Видимо, его внутренней потребностью было тут же заносить на бумагу о каждой ране своего сердца, точно он составлял точнейший бюллетень о ходе прогрессирующей болезни, точно давал показания для какого-то судебного процесса. Вряд ли он мог предполагать, что ему самому эти письма уже не понадобятся и что только потомство увидит по ним, как царская Россия встретила одного из своих величайших сынов, но брата своего он настойчиво просил сохранить эти письма. И хотя он не решался доверить почте все, что имел сообщить брату (и собирался с верной оказией передать еще нечто особенно важное, чего не пропустила бы цензура), и того, что сохранилось до нас, вполне достаточно, чтобы ясно представить себе весь его страдный путь.
О своих мытарствах Иванов говорит терпеливо и безропотно, будто наперед решив ничему не удивляться и удерживать в себе возмущение. Редко-редко сорвется у него насмешливое замечание о скупости великого князя или самодурстве великой княгини, из которого можно сделать вывод, что этот безропотный человек понимал, что судьба русского художника всего лишь звено той общей картины, которая открылась ему в Петербурге. Как ни давала о себе знать его материальная зависимость от двора, от придворного круга и от титулованных меценатов, теперь более чем когда-либо ему становилось ясно, что внутренне он не имел с ними ничего общего. Всей своей полной лишений жизнью, всем своим отказом участвовать в их жизни он купил себе право беспристрастно смотреть на все, что творилось в мире, и вершить над ними свой суд.
В Петербурге перед глазами Иванова с калейдоскопической быстротой сменялись впечатления от города и его жизни, от людей и от искусства. Обо всем он спешил отдать себе отчет, сказать свое слово обдуманно и без гнева. Он так и писал своему брату: вот это хорошо, а это плохо. Если с оценками его и нельзя всегда согласиться, в них подкупает то, что в каждом суждении сквозит настойчивое стремление по справедливости разобраться в нахлынувших на него впечатлениях.
Иванов чувствовал себя в Петербурге несколько похоже на возвращенных из сибирской ссылки декабристов. Те были отправлены из Петербурга за пять лет до него и вернулись на другой год после смерти Николая. Он покинул Петербург позднее и прибыл через два года после них. Но и он, как они, должен был повсюду замечать мрачные следы николаевского режима и радоваться малейшим признакам пробуждения страны после его исчезновения. Во всем облике Иванова с его длинным сюртуком и окладистой бородой было нечто несовременное, старомодное, как и во всех тех русских людях, которых судьба избавила от николаевской выправки. Недаром министр двора, граф Гурьев, у которого был наметанный глаз на людей, чуть было не принял за иностранца этого коренного русака.
В первый день по прибытии, воспользовавшись хорошей погодой, Иванов отправился побродить по городу. Хотя он признал город грязнее других осмотренных им городов, ему понравились в Петербурге новые мостовые. Среди новых построек художник одобрительно отозвался только об архитектуре Исаакиевского собора, но раскритиковал его скульптурные фигуры иконостаса с нелепо выполненными живописью лицами; он не без ехидства назвал их ублюдками, кентаврами. Архитектура здания напомнила ему римские памятники, но его скульптуру и живопись он нашел слабой. Не ограничиваясь только внешним обликом города, он заметил, что петербуржцы, средние обыватели, плохо одеты, при всей внешней роскоши на всем лежит отпечаток бедности.
Поскольку родители Иванова давно уже умерли, сестра его жила в провинции, а племянниц своих он не знал, в Петербурге у него не было близких людей; Правда, его сердечно встретили Боткины и даже устроили его у себя; но внимательность младшего — Михаила, начинающего художника, была ему подозрительна не без оснований, он опасался, что в его отсутствие тот не прочь порыться в его папках и бумагах.
Иванова всюду приветствовали как путешественника из далеких краев, приглашали на званые обеды и знакомили со знаменитостями. Нельзя сказать, чтобы это льстило ему, но по мягкости своего характера ему не удавалось устоять перед соблазном. Вопреки заветам брата он даже бывал в ресторане у знаменитого Донона у Калинкина моста, где литераторы провожали Тургенева, поднимали бокалы с шампанским и провозгласили тост в честь русского художника.
За короткое время пребывания в Петербурге Иванов успел свести знакомство с рядом выдающихся русских людей. Никогда он не слышал столько разговоров по поводу всех тех вопросов, которые тогда волновали русское общество. Он познакомился с другом Герцена историком Кавелиным и, возымев доверие к нему, советовался с ним по многим практическим делам. Его познакомили с Хомяковым, стихи которого в свое время ему читал Чижов, и тот, крепко пожав ему руку, сказал несколько слов об его творческой смелости. Его представили строителю Исаакия Монферрану, и тот дружелюбно принял его в своем похожем на дворец доме и познакомил со своими собраниями искусства. Иванов успел побывать в Публичной библиотеке, где архитектор Горностаев и тогда еще начинающий критик Стасов выложили перед ним богатые художественные издания и поражены были его начитанностью и историческими познаниями. Все эти знакомства и встречи радостно волновали художника, в молодом поколении русских он видел людей живых, деятельных, рвущихся к знаниям.
В русском обществе тех лет еще чувствовались последствия незадолго до того законченной Севастопольской войны. Всюду много говорили, шумели, спорили, всюду чувствовалось общее возбуждение. Иванов увидал новый тип русских женщин, бывших сестрами милосердия на фронте. Но он заметил в людях также последствия тридцатилетнего николаевского, палочного режима. Тупая военщина, самодовольные обыватели, кичливые чиновники, сановные глупцы — таких людей, по выражению Герцена, Николай наплодил на сто лет вперед.
Особенно малоблагоприятное впечатление произвела на Иванова среда художников. Надо думать, он не без волнения переступал порог той самой академии, которой он в юности был столь многим обязан, которая доставила столько огорчений его отцу и о которой он в годы зрелости не мог думать без содрогания. Он побывал в мастерской того самого Басина, которому суждено было в свое время сменить «высочайше» отставленного отца, но, видимо, остался неудовлетворенным постановкой рисунка обнаженной фигуры в академии: он отметил лучшие этюды в манекенной, где ученики писали ткани. Но на месячном экзамене ему бросилось в глаза, как вместо обобщенного классического рисунка, побеждала точная копировка бородатых, плохо сложенных натурщиков. От его внимания не ускользнуло, что над строго построенным рисунком возобладала тщательная его утушевка. Эскизы учеников он нашел совсем плохими — и не удивился этому: кроме Брюллова, сами профессора их не умели делать. Он не стал много распространяться по поводу коренных изъянов тогдашней академии и всего лишь отметил их для себя как нечто вполне закономерное.
Среди художников он встретил некоторых из своих старых знакомых, и прежде всего Иордана и Бруни. Федора Ивановича он заметил где-то на гулянье в публичном саду: он торопливо семенил за своей молодой супругой. Узнав Иванова, тот сделал движение, чтобы броситься навстречу к нему, но супруга его гордо проплыла, и престарелый супруг потрусил за ней. Впрочем, позднее приятели встретились вновь, и на этот раз добрейший Федор Иванович дал волю дружеским чувствам.
Отношения с Бруни сложились несколько иначе. В чине ректора академии он приходился Иванову чем-то вроде начальника, и потому пришлось явиться к нему с визитом. Случилось так, что произошло это в тот самый момент, когда Бруни только что вернулся с дачи, и от Иванова не ускользнуло, что со своим визитом он явился не вовремя. В дальнейшем впечатление это несколько сгладилось, хозяин даже повел своего гостя к себе в мастерскую. Если наряду с огромными тусклыми и скучными заказными образами здесь еще находился незадолго до того выполненный золотистый «Вакхант», то Иванов должен был вспомнить те юношеские работы, с которых они оба когда-то начинали свою деятельность в Риме. Впрочем, теперь настоящей дружбы между ними быть не могло. И когда через некоторое время Иванов вновь явился к Бруни по официальному делу, тот напустил на себя важность и отказался исполнять приказ министра двора, пока он не будет доставлен ему по всей форме, с обращением прямо к нему, и Иванову пришлось снова сломя голову нестись из Петербурга в Царское Село и просить написать новый именной приказ и снова доставлять его ректору.
Но главное дело, ради которого Иванов явился в Петербург, — устройство выставки его картины и получение денег за нее от правительства — двигалось как-то очень медленно. Художнику не было отказано начисто. Начальство как бы шло навстречу, ему обещали содействие, обнадеживали его. Но когда дело доходило до исполнения обещаний, возникали препятствия, дело останавливалось, какое-то одно колесико механизма отказывалось крутиться и тормозило остальные, а если первое препятствие удавалось преодолеть, неожиданно оказывалось, что возникали новые. Все эти важные и чиновные особы, с которыми Иванову приходилось иметь дело, конечно, не были в тайном сговоре друг с другом, но каждый из них безошибочно и неизменно действовал во вполне определенном направлении, так что вместе с другими они творили одно дело, и это дело сводилось к тому, что они всячески препятствовали художнику. Более чем за двадцать лет своей деятельности Иванов мог узнать, что значит быть зависимым от сильных мира сего. Но тогда он писал письма, взывал к близким — у себя дома, в своей мастерской он был хозяином, и единственной заботой его было не пускать к себе посторонних. Теперь его положение круто переменилось. Он сам должен был стучаться в дверь, выступать ходатаем по делам, выжидать благоприятной минуты и ловить, где только возможно, этих сильных мира сего. Озабоченный тем, чтобы продать хотя бы фотографии со своей картины, он переставал чувствовать себя художником, и ему казалось, что он превратился в какого-то неудачливого и навязчивого комиссионера.
Заручившись «покровительством» великой княгини, художник рассчитывал, что ему не придется иметь дела с Петербургской таможней и ящики с его библейскими эскизами будут прямо с парохода доставлены в Петербург. Но случилось так, что по дороге ящики оказались разбитыми. В контору Елены Павловны были доставлены его листы в распакованном виде. Листов этих Иванов до сих пор не решался показать никому, кроме своего брата. Теперь в конторе лежала груда листов, и любопытные чиновники разглядывали эту небывалую еще контрабанду и отпускали в адрес творений художника свои замечания, вроде квартального в мастерской Черткова. Скоро по городу распространился слух, что художник собирается «выдать» свою иллюстрированную библию.
Время, проведенное Ивановым в Петербурге, было самое суматошное в его жизни. По случаю лета все, что в столице было именитого, находилось в своих загородных резиденциях, и потому каждый день нужно было куда-то в экипаже скакать или отправляться на пароходе, и всегда куда-то спешить, всегда волноваться, чтобы не опоздать. Там нужно было быть к званому обеду, здесь заехать на «чашку чаю», в третье место за получением бумаги, в четвертое — просто напомнить о себе. В глазах художника рябило от обилия новых лиц, которые проходили перед ним: здесь были важные и недоступные сановники и чиновники различных рангов, гофмаршалы и престарелые фрейлины, пронырливые секретари и лакеи в роскошных ливреях и множество всякого рода титулованных и нетитулованных особ, с каждым из которых. нужно было говорить соответственно его положению в свете и, главное, его собственному представлению о своем достоинстве.
Он видел, как, на параде по случаю освещения Исаакия звонко отбивали шаг полки за полками, над ними колыхались знамена, сверкали золотые ризы целой армии попов и архиереев, блистали мундиры, галуны, позументы, ордена стотысячной толпы — все это угнетало своей роскошью и пустым великолепием.
Ему запомнилось, как его призвали в Зимний для представления императору, как к крыльцу подкатил экипаж и из него вышел он сам в сопровождении свиты, как великий князь пропустил художника вперед, его удивило, что Александр подал ему руку и стал расспрашивать о картине, но особенно поразило его то, как придворные, не стесняясь присутствия художника, стали переговариваться шепотом между собой (он понял — о его судьбе), как будто он был какой-то марионеткой или неодушевленным предметом.
Однажды во дворце он решился высказать свое собственное мнение. Прямо в глаза президенту академии, великой княгине, он сказал, что не верит в возрождение византийского стиля, и заметил, что она вся вспыхнула от негодования при мысли, что кто-то стал ей перечить, от прежней ласковости ее не осталось и следа. В другой раз на него раскричался граф Гурьев. Иванов собирался явиться на церемонию с бородой, меж тем ни одному чиновнику носить бороды не полагалось. «Француз — другое дело», — повторял рассвирепевший граф и долго не мог успокоиться. Он готов был сделать художнику выговор, как за нарушение воинского артикула! Пора было понять, что в этой бездушной чиновной среде сам он, как человек и художник, ничего не значил.
Девятого июня картина была перенесена из Зимнего дворца в академию и вскоре затем была открыта для обозрения публики. Между тем жизненно важный вопрос об его вознаграждении так и оставался нерешенным. Одни стояли за то, чтобы просить пожизненную пенсию, другие стояли за единовременную плату. Начальство медлило с решением, видимо выжидая общественного мнения. Художник уже подумывал продать ее частному лицу, миллионщику Кокареву, и начал распродажу этюдов. Между тем из придворных кругов распространился слух, что за картину будет выдано двенадцать тысяч. Принимая во внимание, что Бруни за своего «Змия» получил тридцать пять тысяч рублей, это было совсем немного. Сам художник и его друзья находились в состоянии тревожного ожидания, когда на квартиру к нему прибыл придворный лакей, чтобы узнать, каково его отчество, все ломали голову, но так и не могли понять, для чего бы это потребовалось.
Отпуская брата в Петербург, Сергей опасался, как бы его не захвалили и этим не испортили. Но этим опасениям не суждено было оправдаться. Одновременно с «Явлением Мессии» в залах Зимнего дворца выставлен был огромный холст одной заграничной знаменитости. Своими размерами он превосходил картину Иванова. Эта огромная, эффектная махина была написана по всем правилам батальной живописи, которую так любили при дворе: нагромождение трупов, скачущие кони, бездна крови, свирепо вытаращенные глаза. Картину эту называли «Куликовская битва», хотя ее с таким же успехом можно бы назвать «Битва при Аустерлице». Автор ее, французский живописец Ивон, известный как ученик знаменитого Делароша, был одним из участников создания Версальской галереи Луи Филиппа. После севастопольского позора нервы двора приятно щекотало сознание того, что француз своей кистью прославляет русское оружие. Никому не было дела до того, что кисть Ивона — это продажная кисть, что в картине нет ни правды, ни поэзии, что не пройдет и несколько лет, и ее придется отправить на чердак. Но появление картины Ивона одновременно с картиной Иванова было невыгодно для Иванова. Какое дело было двору до всего того строя мыслей и чувств, которые русский исторический живописец вложил в свою замечательную картину, когда под боком было нечто такое, что льстило и было понятно с одного взгляда!
В момент, когда почва начинала уходить из-под ног у художника и когда все то, что занимало его в Риме, чем он жил много лет, куда-то проваливалось и он чуть не переставал быть самим собой, он испытал только несколько счастливых моментов благодаря одной встрече. Прибыв в Петербург, Иванов просил своих друзей указать ему человека, который смог бы разъяснить ему отдельные места в новом издании той самой книги Штрауса, которая не переставала его занимать. Ему указали на одного молодого литератора. Имя его Иванову до сих пор было вряд ли известно, но свою встречу с ним он в письме своем к брату назвал замечательной, хотя и не решился доверить почте более подробных о ней сведений. В лице Николая Гавриловича Чернышевского Иванов действительно столкнулся с замечательнейшим русским человеком того времени. В Риме Иванов мог видеть преимущественно представителей русской знати. Даже в таких передовых людях, как Герцен и Огарев, бросались в глаза признаки их дворянского происхождения и воспитания. Чернышевский должен был поразить его прежде всего как человек нового типа, человек, в котором не было ни колебаний, ни благодушества, но зато сквозила готовность в борьбе с отжившей свой век стариной пойти до конца, ценою любых жертв. «Без конвульсий, — любил говорить Чернышевский в те годы, — ни одного шага вперед». И эта решимость его сквозила во всем его облике. Его воодушевляла не смутная мечта о благе народа, но твердое сознание, что за ним действительно стоит русское крестьянство, готовое подняться на открытую борьбу, и что от мысли об этой борьбе трепещет само правительство. Возможно, при первом знакомстве Иванова с Чернышевским обо всех этих вопросах не было речи. Иванов пришел к Чернышевскому лишь ради перевода нескольких строк немецкого автора. Но этим одним встреча не ограничилась. Разговор должен был перейти и действительно перешел на более общие вопросы. Возможно, что в нем было затронуто имя Гоголя: перед личностью и творчеством его Чернышевский тогда благоговел. Сколько пустых разговоров приходилось Иванову выслушивать на официальных приемах во дворце и в академии, сколько холодного равнодушия к искусству сквозило в трескучих декларациях велеречивых либералов или в докучливых вопросах, которыми его забрасывала светская чернь! В молодом Чернышевском Иванов чувствовал человека, которому принадлежало будущее. Из-под очков Чернышевского на него смотрели пытливые глаза человека глубокого ума, твердых убеждений и большого сердца. У Иванова за спиной был большой груз прошлого, который мешал ему так прямо смотреть на вещи, как это в состоянии был делать Чернышевский. Но тот так чутко отнесся к благородной натуре художника, к его жажде истины, что нельзя было Иванову не ответить на это такой же доверчивостью, и он рассказал Чернышевскому много такого, о чем он обычно молчал с незнакомыми людьми. И снова, как в Лондоне, он говорил о высоком назначении искусства, «о своей готовности служить им передовым идеям». Соединить рафаэлевскую технику с «идеями новой цивилизации» — в этой формуле для Иванова заключалось тогда главное призвание передового художника.
Он признавался Чернышевскому, как трудно ему в его годы отделаться от «вкоренившихся понятий». И тот понимал, что новые идеи не вполне прояснились в художнике, был глубоко тронут, видя перед собой человека, который имел мужество отказаться от тех предубеждений, с которыми не удавалось оправиться даже Гоголю. Иванов не скрыл того, что своим искусством навлечет на себя гонения властей. Он даже не отрицал того, что гонения эти будут им заслужены, так как в искусстве он будет разрушать предрассудки, которые поощряют те, кто заинтересован в сохранении существующего порядка. Чернышевский попробовал успокоить художника: в искусстве идеи выступают не так обнаженно, как в публицистике; многие не сразу поймут, какие последствия вытекают из искусства художника. Неприятности будут доставлять ему одни лишь завистники, художники-чиновники, которые заботятся о том, чтобы левый борт их сюртуков был украшен знаками отличия.
Чернышевский видел Иванова всего лишь два раза, но он был очарован и личностью и образом мыслей художника. Уже позднее он утверждал, что Иванов заслуживает не только славы по своим талантам, но и уважения и сочувствия всех благородных людей образом мыслей, «истинно достойным нашего времени». Самая встреча Иванова с Чернышевским должна быть названа исторической встречей: она закономерно завершает собой весь многотрудный и извилистый путь художника, который выводил его на передовые позиции русской общественной мысли.
Предсказания Чернышевского о судьбе художника подтвердились скорее, чем этого можно было бы ожидать. Друзья сообщили художнику, что о картине его появилась статья в близком к правительственным кругам журнале «Сын отечества». По расстроенным лицам друзей можно было догадаться, что статья эта была для художника неблагоприятна. Некий Толбин, имя которого мало кому что-нибудь говорило, взял на себя труд первым отметить появление картины Иванова в Петербурге. Чтобы отвести всякие подозрения в нелицеприятстве, автор начинал с комплиментов, с выражения своей глубокой симпатии к труду, приобретенному столь дорогою ценою, и с признания в своем пристрастии к автору, вести о котором из-за границы заставляли ожидать в картине его «полноту концепции, правильность рисунка и строгий пуссеновский пейзаж». Тут автор ставил многоточие и, процитировав грибоедовский стих «Блажен, кто верует, тепло ему на свете», резко менял свой тон. «Картина г. Иванова не вполне оправдала те несомненные надежды, которые порождала она, будучи окруженной запретом таинственности». Автор находил, что выполнена она в манере «дорафаэлевской техники», которую вряд ли возьмет себе за образец молодое поколение талантливых художников. «Тлетворное, пагубное влияние Овербека не миновало, кажется, и творческой кисти г. Иванова», — писал Толбин. «Про колорит картины г. Иванова пройдем молчанием…» — замечал он с деланным великодушием, бросая, попутно несколько ядовитых замечаний по поводу «белых, чисто северных тел» и «зеленых неестественных черт головы Иоанна, словно отделенной от искаженного полуистлевшего трупа». Иванов обвинялся в плагиате, так как фигура эта напоминала известную античную статую «Точильщика». Река Иордан, по мнению Толбина, похожа на «чисто китайскую живопись, разрисованную какими-то фиолетовыми, синими и пунцовыми фестонами». В статье пускалось в ход и более тяжкое обвинение: Толбин находил сходство обнаженных фигур с «довольно вольными фигурами Джулио Романо, которые своим бесстыдством заставили папу Климента VII удалить его от двора», в картине Иванова он находил отголоски древней «бесстыдной Венеры». «Где же тут целомудрие, достойное столь высокого священного предмета?» — лицемерно восклицал в заключение автор. Это был уже недвусмысленный намек на то, какой участи достоин был, по его мнению, русский художник. В заключение картина Иванова противополагалась картинам Брюллова и Бруни. «Это не то, что группы в «Последнем дне Помпеи», «Медном змие», живо, сами собою повествующие зрителю о праве и необходимости своего изображения на полотне».
Статья подоспела в то самое время, когда чашки весов, на которых решалась судьба картины, колебались, когда достаточно было небольшого толчка для того, чтобы стрелка весов качнулась в одну сторону. Статья была написана человеком, близким к искусству, ученая терминология придавала ей убедительность в глазах широкой публики и вместе с тем выдавала, что Толбин дал только свою подпись ради тех художников, кто был больше всего заинтересован в устранении с академического поприща опасного соперника. Все улики указывали на Бруни. Друзья Иванова были глубоко возмущены ударом из-за угла. Пименов-младший, которому хорошо известны были академические нравы, выражал готовность выступить в печати с опровержением. Но, конечно, как и всегда бывает в подобных случаях, дальше добрых намерений дело не пошло.
Между тем статья своей внезапностью произвела такое же действие, как раздавшийся в толпе крик, сеющий панику.
Все те, кто ходил на выставку лишь потому, что на нее ходили другие, кто испытывал недоумение перед картиной Иванова потому, что некому было вдумчиво разъяснить ее значение, почувствовали в руках своих отмычку. В академии, где была выставлена картина, перед ней давно уже толпился народ: дамы в широких турнюрах и в кружевных чепцах, военные в мундирах, чиновники во фраках в талию, студенты, — одни подходили к ней совсем близко, другие сидели на лавках и рассматривали ее в лорнетки и бинокли. Теперь люди стали приходить в академию с номером «Сына отечества» в руках, читали статью вслух, проверяли ее справедливость, сличая ее с оригиналом, и, поскольку другого мнения не существовало, соглашались с мнением Толбина. Пронырливый журналист гнусной клеветой достиг желанной цели.
Все это время Иванов был настороже: он ждал неприятностей от начальства, от которого с молодых лет привык получать одни выговоры. Удар, нанесенный соперниками, был нежданным, и потому ударом смертельным. За месяц петербургской жизни его бесконечные поездки за город в экипаже и на пароходе, весь непривычный для него образ жизни расшатали его и без того слабое здоровье. Когда после одной из своих бесцельно хлопотных поездок в Петергоф, где он даже не был принят, он, измученный ожиданиями, истерзанный вздорными слухами и неопределенностью, возвращался с последним пароходом в Петербург, он почувствовал себя плохо. Вечером начались приступы холеры. Этого недуга он опасался больше всего, так как существовало мнение, что холере подвержены люди, утерявшие спокойствие духа. Этого спокойствия ему теперь больше всего не хватало, и потому в нем не было силы сопротивления.
Иванов прохворал всего три дня. 3 июля 1858 года его не стало. Он умирал с мыслью о путешествии в Палестину, с намерением поселиться в Москве и начать воспитание молодых художников. Будущее русского искусства не выходило у него из головы. Ему все казалось, что ему так и не удалось совершить в искусстве все то, к чему он был призван. По своей обычной скромности он не мог понять, что его трагическая смерть была достойным завершением всей его благородной жизни.
Через несколько часов после смерти Иванова в дом Боткина явился лакей с конвертом из Придворной конторы с уведомлением о том, что император покупает картину «Явление» за пятнадцать тысяч рублей и дарует художнику Владимира в петлицу.
Похороны его были скромные. Хотя отпевание происходило в академической церкви, многим бросилось в глаза отсутствие представителей высшего академического начальства. Зато похороны Иванова собрали тех людей, которые уже угадывали в Иванове будущую гордость русского искусства. Многим, тогда еще молодым людям, которые впоследствии стали передовыми деятелями русской культуры, похороны эти запомнились на всю жизнь.
Для того чтобы ослабить впечатление от речей двух студентов, произнесенных на могиле Иванова в Новодевичьем, решено было прочесть стихотворение, посвященное ему П. А. Вяземским. В прошлом близкий к передовым кругам русской литературы, он давно уже перешел в лагерь черной реакции. Вот почему в сочинении его сквозь старомодно высокопарные похвалы в адрес художника так ясно проглядывало намерение всячески отвлечь внимание от его трагической судьбы.
Иванов именовался в стихотворении «схимником», хотя это противоречило правде. Художнику, который так последовательно шел к реализму, приписывалась прозрение того, что «не увидеть темным оком». Как бы в ответ на возможные упреки в недооценке Иванова в России заместитель министра народного просвещения, каковым был в то время П. А. Вяземский, восклицал: «И что тебе народный суд!» И, наконец, чтобы склонить людей признать все злоключения художника чем-то неизбежным, он притворно разводил руками и винил во всем современность — «наш век промышленных и всяких сделок». Вот почему после стихов таким протестом прозвучали слова какого-то молодого человека, который вслух спросил самого себя: «Что дала Иванову Россия за его картину?» И сам себе ответил: «Могилу».
Два года спустя в окрестностях Рима по пустынной дороге, которая ведет в город из старинного храма Сан Паоло фуори ле муре неподалеку от Монте Тестаччо, неторопливо возвращались домой три путешественника, разговаривая по-русски друг с другом. Один из них был брат умершего художника Сергей Иванов, два других — братья Сергей и Михаил Боткины, незадолго до того приехавшие из Петербурга в Рим. Некоторое время они шли в полном молчании. Потом Сергей Андреевич заговорил о своем умершем брате. Последнее его письмо было отправлено меньше чем за неделю до смерти, письмо это едва достигло Рима, как пришла срочная депеша с известием об его кончине. Сергея вызывали в Петербург, в противном случае его пугали осложнениями при вступлении в права наследника, но тот решительно отказался ехать. Потом ему были пересланы официальные соболезнования, но до сих пор он так и не узнал истинных обстоятельств трагической кончины своего брата и только теперь среди тишины древнего Рима решился об этом спросить очевидцев. Михаил Боткин стал подробно передавать все, что знал о последних днях жизни Александра Иванова. Казалось, Сергей внимательно слушал это печальное повествование, он только задавал отрывистые вопросы и расстался со спутниками своими у ворот своего дома.
Об этом случае Сергей Иванов вспомнил позднее и писал по этому поводу Боткину: «Вы с Сергеем Петровичем начали мне рассказывать последние минуты жизни брата. От первых слов мое дыхание сперлось. Я старался преодолеть себя, старался слушать, но, признаться, звуки доходили, но я не понимал.
Хотя, как мне кажется, я даже старался расспрашивать, но все осталось так туманно, что ничего не мог составить ясного, когда пришел домой, а расспросить вас снова с этим внутренним страданием у меня недостало сил». Сергей Иванов открыто признавался Боткину, что пути их разошлись, — видимо, он намекал этим на то, что Боткин сохранил связи с академией и двором, сам он всячески их остерегался. В письме своем он говорит о «них», подразумевает под этим придворную клику, с которой ему было не по пути. «Мой отец, мой брат, — заканчивает свое письмо Сергей Иванов, — поплатились за сообщество с ними, а мне не приходится же, как Приаму, «убийц моих рук к устам прижимать». В письме Сергея цитата из Гомера намекает на тот стих «Илиады», который в свое время увековечил брат его в своей первой самостоятельной картине. Но самое главное — это то, что эти слова, слова ближайшего к трагически умершему художнику человека, служат для нас драгоценным свидетельством о том, что уже современники, хотя и не решались говорить об этом открыто, прекрасно понимали, жертвой каких общественных сил погиб величайший из русских художников. Да, действительно, он прибыл в Петербург, как Приам прибыл во вражеский стан, но великодушия гомеровских героев в стане его врагов не существовало, и они погубили его и постарались это сделать так, чтобы явных следов их злодеяний не осталось…
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В жизни Александра Иванова, как и других великих людей, радости и печали, достижения, успехи и поражения — в сущности, все самые мелкие частные события — приобретают глубокий внутренний смысл, поскольку во всех превратностях его судьбы всё с новых и новых сторон проявлялась его неизменно-благородная, кристальная личность.
Крамской запоем читал письма Иванова, они же служили главным источником настоящей биографии. Крамской признавался: «Это одна из самых сильных трагедий, какие только мне удавалось прочитывать. Там есть вещи высокиеI»
В истории русского искусства Иванов занимает выдающееся место как завершитель длительного предшествующего периода, как одни из зачинателей нового исторического этапа. После Андрея Рублева, величайшего художника древней Руси, Россия нашла в лице Александра Иванова одного из самых замечательных своих живописцев. Иванов чутко улавливал величие древнерусского искусства и испытывал к нему страстное влечение, но непосредственно за его плечами стояла русская академическая школа XVIII — начала XIX века. Мастера исторической картины ставили своей задачей в сюжетах из античной или древнерусской истории, в образах прославленных героев выразить самосознание личности и идею гражданского долга. Успех их был не одинаков, так как дарования их были не равны, но всем им ее хватало творческой смелости и самостоятельности, и потому большинство из них были всего лишь старательными тружениками, искусными мастерами. Они умели хорошо рисовать, знали приемы многофигурной композиции, но картины их создавались чаще по правилам, чем по вдохновению. Когда им приходилось писать с натуры, они забывали о стеснительных правилах, но одновременно с этим от них ускользало понятие возвышенного, способность обобщения, типизации.
Иванов преодолел противоположность между этюдом и картиной, свойственную академической живописи. Исходя из традиционного метода создания картины, он умел насытить свои картины огромным опытом работы на этюдах. В этюдах он никогда не был рабом природы, но искал в ней закономерности, жертвуя частностями ради целого. Вот почему, если бы русские академисты XVIII века дожили до возвращения Иванова в Петербург, они должны были бы приветствовать в его лице художника, который примером своих достижений как бы оправдывал их бескрылое трудолюбие.
Из больших мастеров ближайшим предшественником Иванове был Орест Кипренский. Недаром Иванов признавал и ценил в нем старшего и прощал ему человеческие слабости. Правда, Кипренскому так и не удалось проявить себя в исторической живописи, хотя он прилагал к этому усилия. Он мог загореться темой, набросать на листке бумаги эскиз, но довести работу до конца у него не было сил. Зато в портретах он проявляет ту теплоту, ту меру моральной оценки человека, ту чуткость к человеческому чувству, которой до него не обладал ни один из русских мастеров, и именно за эту человечность Иванов и называл Кипренского «предтечей». Кипренский был для Иванова примером еще и потому, что он первым из русских художников завоевал русскому искусству славу за рубежом.
Иванов сыграл огромную роль в становлении русской реалистической школы живописи. Это признавали ее создатели, и прежде всего глава идейного реализма Крамской. Ему принадлежат слова, которыми хорошо определяется значение исторического вклада Иванова: «В сочинение или композицию он внес идею не произвола, а внутренней необходимости. То есть соображение о красоте линий отходило на последний план, а на первом месте стояло выражение мысли; красота же являлась сама собой, как следствие. В рисунок — чрезвычайное разнообразие, то есть индивидуальность не только лица, но и всей фигуры по анатомическому построению, и искание — какое анатомическое строение должно отвечать задуманному характеру? В живопись — совершенно натуральное освещение всей картины, сообразно месту и времени, а во внешний вид картины — необходимость эпохи». В конфликте Иванова с академией молодое поколение безоговорочно становилось на сторону Иванова. Он привлекал русскую молодежь прежде всего как стойкий борец, художник-труженик, человек кристальной честности. Иванов завоевал симпатии молодого поколения не только своим моральным обликом. Идейное содержание его искусства, высота живописного мастерства служили молодежи высоким примером.
Среди русских художников второй половины XIX века многие прямо или косвенно испытали на себе воздействие Иванова, бились над вопросами, которые занимали его, примыкали к его решениям. Молодой Ге застал Иванова в Италии; в своих пейзажах Ге прямо идет по стопам Иванова; в реалистической трактовке евангельских сцен, в частности в «Тайной вечере», он также примыкает к нему. Чистяков в работе над картиной «Смерть Мессалины» следует методу Иванова, о чем свидетельствуют этюды к этой так и не написанной им картине. В своей педагогической практике Чистяков продолжал заветы Иванова. В своем «Христе в пустыне» Крамской пытался сделать образ Христа носителем мыслей и чувств современного человека; в подобном понимании евангельского мифа он близок Иванову. Продолжателем Иванова был и Поленов. Ему удалось побывать в Палестине, куда тщетно стремился Иванов. Его картина «Христос и грешница» немыслима без «Явления». В пейзажах Палестины Поленов в передаче воздуха и солнца идет по стопам Иванова. У Ярошенко красота и благородство человеческого страдания в лице Стрепетовой заставляют вспомнить женщину в ожерелье в этюде Иванова. Помимо частных точек соприкосновения, огромное значение имело то, что самый метод создания картин передвижниками на основе большого числа этюдов и эскизов зиждется на опыте Иванова.
Репин, хотя и находил в «Явлении» академические условности, признавал эту картину «самой гениальной и самой народной русской картиной». «По своей идее, — писал он, — близка она сердцу каждого русского. Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником…» В ряде своих лучших картин Репин близко соприкасается с Ивановым. В «Крестном ходе» он с позиций революционных демократов критически оценивает крестьянскую веру, и в этом его коренное отличие от Иванова, но отдельные народные типы, вроде горбуна, могут быть сопоставлены с рабом Иванова. У Серова в его женских портретах мы находили то обаяние молодости и свежести, то отточенное совершенство формы, которое заставляет вспомнить некоторые портреты Иванова. То, чего Иванов достиг в библейских эскизах, нашло себе продолжение в опытах монументально-декоративной живописи Врубеля, во всем величаво-страстном искусстве замечательного мастера.
Среди русских художников второй половины XIX века особенно близок Иванову Суриков. Сурикову удалось осуществить мечту Иванова — перебраться из Петербурга в Москву и создать здесь живописную эпопею русского народа. Во время работы над «Боярыней Морозовой» он никогда не забывал об Иванове. Музейные старожилы помнят еще, как Василий Иванович торопливо поднимался по лестнице Румянцевского музея, чтобы лишний раз взглянуть на «Явление» и проверить себя на этом шедевре. Весь замысел «Боярыни Морозовой», композиция картины, широкий размах народного действия немыслимы без живописи Иванова. Недаром и в отдельных лицах у Иванова есть нечто «суриковское».
«Соединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации — вот задача искусства в настоящее время». Произнося эти слова, Иванов не думал о подражании Рафаэлю. Иванов как бы говорил этим, что без высокого совершенства художественной формы самые плодотворные идеи современности не могут быть выражены в искусстве. Путь Иванова стал путем лучших русских художников второй половины XIX века, которые, служа передовым освободительным идеям, не пренебрегали вопросами мастерства.
Искусство Александра Иванова входит в тот золотой фонд русского художественного наследия, который дорог каждому советскому человеку. Теперь, по прошествии столетия, имя великого мастера прочно заняло свое место в славной истории русского искусства.
НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
Бартоломео, фра (1472–1517) — итальянский живописец один из основоположников живописи Высокого Возрождения.
Борджиа Чезаре — сын папы Александра VI, государь области Романья, прославился своей жестокостью и вероломством.
Боттичелли, Сандро (1444, или 1445, — 1510) — итальянский живописец флорентинокой школы, автор «Рождения Венеры» и «Весны».
Бронзино, Аньоло (1502–1572) — итальянский живописец периода маньеризма.
Бруни, Федор (1799–1872) — исторический живописец, автор «Медного змия» в Русском музее.
Веронезе, Паоло (1528–1588) — итальянский живописец венецианской школы
Винкельман (1717–1768) — немецкий археолог, историк искусства, один из создателей эстетики классицизма.
Гверчино (1591–1666) — итальянский живописец болонской школы, работавший в Риме и в Северной Италии.
Горностаев, Иван Иванович (1821–1874) — архитектор, участвовал в создании «ложнорусского стиля».
Джотто (1266, или 1276, — 1337) — итальянский живописец, предтеча живописи Возрождения.
Кабе (1788–1856) — французский социалист-утопист, автор «Путешествия в Икарию».
Кавелин, Константин Дмитриевич (1818–1885) — историк, экономист.
Карраччи, Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609) — итальянские живописцы, основатели академически-эклектической школы живописи в Болонье и в Риме.
Корреджо (1494–1534) — итальянский живописец, работавший в Модене и Парме.
Курций — легендарный римский герой, прославленный своей патриотической храбростью.
Мадзини, Джузеппе (1805–1872) — итальянский революционер, игравший особенно большую роль ® революции 1848 года.
Овербек (1789–1869) — немецкий живописец, представитель группы так называемых «назарейцев», ставивших своей задачей возрождение традиций живописи XV века.
Перуджино, Пьетро (ок. 1446–1523) — итальянский живописец умбрийской школы, учитель Рафаэля.
Пиндар — греческий поэт V века до н. э.
Рени, Гвидо (1575–1642) — итальянокий живописец болонской школы, работал в Риме.
Романо, Джулио (1499–1546) — итальянский живописец, ученик Рафаэля.
Сазонов Николай Иванович (1815–1862) — товарищ Герцена и Огарева, политический эмигрант.
Сарто, Андреа дель (1486–1531) — итальянский живописец эпохи Высокого Возрождения.
Тинторетто (1518–1594) — живописец венецианской школы.
Торвальдсен (1770–1844) — датский скульптор, представитель классицизма.
Фабриций — римский герой, прославленный своей простотой и сердечностью.
Франча, Франческо (1450–1517) — итальянский живописец эпохи Возрождения.
Щедрин, Сильвестр (1791–1830) — русский пейзажист, создавший лучшие свои картины неподалеку от Неаполя.
Шлегель, Фридрих (1772–1829) — немецкий философ, романтик.
Цирцея — волшебница, очаровавшая Одиссея и препятствовавшая его возвращению на родину.
Энгр (1780–1867) — французский живописец классического направления, автор исторических картин и превосходных портретов.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. А. ИВАНОВА
1806 — рождение Александра Иванова 1817 — поступление в Академию художеств.
1824 — картина «Приам испрашивает у Ахилла тело Гектора».
1827 — картина «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару».
1830 — отъезд в Италию.
1831 — прибытие в Рим.
1831–1834 — работы над картиной «Аполлон, Кипарис и Гиацинт».
Около 1832 — первая мысль о картине «Явление Мессии».
1834 — первое путешествие по Северной Италии.
1834–1835 — картина «Явление Христа Марии Магдалине».
1838 — знакомство с Гоголем. Акварель «Жених, выбирающий серьги для своей невесты».
1842 — «Октябрьские праздники в Риме».
1846 — приезд в Рим брата Сергея.
1847 — запись «Мыслей при чтении библии». Поездка во Флоренцию и Милан. Первая встреча с Герценом.
1848 — смерть отца художника.
1851 — знакомство с переводом книги Штрауса «Жизнь Иисуса».
1851–1857 — серия «Библейских эскизов».
1852 — смерть Гоголя
1857 — поездка к Герцену в Лондон.
1858 — возвращение в Петербург Выставка картины «Явление Мессии». Смерть художника.
БИБЛИОГРАФИЯ
Н. В. Гоголь, Исторический живописец А. А. Иванов, Полное собрание сочинений, т. 8, 1952.
A. И. Герцен, А. Иванов, в сборнике «А. И. Герцен об искусстве», М., 1954.
Н. Г. Чернышевский, Заметка по поводу статьи Н. А. Кулиша «Переписка Н. В… Гоголя с А. А. Ивановым». Собрание сочинений, т. V, 1949,
B. В. Стасов, О значении К. Брюллова и А. Иванова в русском искусстве, Избранные сочинения, т. 1, М.—Л., 1937.
И. Н. Крамской, Об Иванове, в кн. «И. Н. Крамской». М., 1888.
М. П. Боткин, А. А. Иванов. Его жизнь и переписка. Спб., 1880.
Н. И. Романов, А. А. Иванов, М., 1907.
Н. Г. Машковцев, Творческий путь А. Иванова, «Аполлон», 1916, № 6–7, стр. 1.
В. М. Зуммер, Система библейских композиций А. Иванова, «Искусство», 1914, № 7—12.
М. В. Алпатов, Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество, т. 1–2, «Искусство», М., 1956.
Его же, Александр Андреевич Иванов. «Русские мастера живописи». М., 1956.
Примечания
1
См. в конце книги некоторые дополнительные пояснения
(обратно)2
Муштабель — длинная палка, употребляемая живописцами при работе как подпорка для руки.
(обратно)3
Общество любомудров — кружок московских философов, возникший в 1823 году, в который входили В. Одоевский, Д. Веневитинов. И. Киреевский и другие.
(обратно)4
popolo — народ, по-итальянски
(обратно)5
Р о р о 1 о — народ, по-итальянски.
(обратно)6
Иегова — древнееврейское божество.
(обратно)7
Левит — священник у древних евреев.
(обратно)8
Моисей — древний еврейский пророк, вождь, который избавив свой народ от египетского плена.
(обратно)9
Ян Усмарь (Усмович) — легендарный герой, киевлянин, показавший пример мужества, усмирив быка.
(обратно)10
Саул и Давил — первые еврейские цари.
(обратно)11
Хананеяне — народ семитского происхождения.
(обратно)12
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 48.
(обратно)13
К Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. II, стр. 546.
(обратно)14
Пленэр — живопись на открытом воздухе.
(обратно)
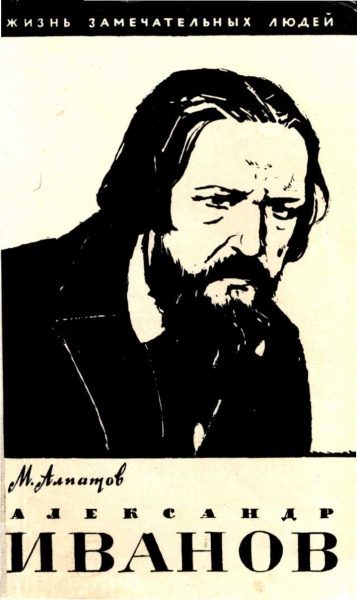



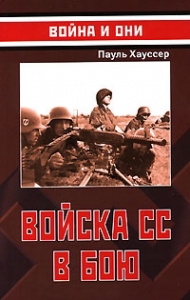
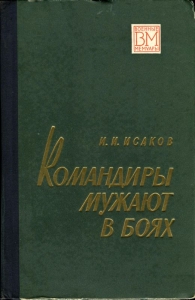

Комментарии к книге «Александр Иванов», Михаил Владимирович Алпатов
Всего 0 комментариев