Юрий Васильевич Соболев ЩЕПКИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ КРЕПОСТНЫЕ ГОДЫ
1
Он родился в крепостной неволе. И его отец был крепостным. А между тем род Щепкиных был древним священническим родом. Документы, сохранившиеся в семье, устанавливают, что в течение ста пятидесяти лет Щепкины священствовали в селе Спасе, что на реке Перепне, в Масальском уезде Курской губернии, передавая от отца к сыну духовное звание. Только дед Михаил Семеновича — Григорий Иванович Щепкин в 1748 году стал крепостным человеком помещика графа Волькенштейна. Это было полной неожиданностью для Григория Щепкина. Он лег однажды спать свободным человеком, а на утро проснулся «крещеной собственностью», как называл Герцен людей «податного состояния», находящихся в рабской зависимости от дворян-помещиков.
Отставному прапорщику Измайловского полка, графу Семену Егоровичу Волькенштейну, понравился голос тринадцатилетнего Гриши, сына спасского священника — отца Иоанна Щепкина, и он его закрепостил. Это могло произойти только потому, что в положении русского священства со дней Петра Великого произошли такие коренные перемены, которые делали совершенно возможным и юридически совершенно законным неожиданное превращение сына священника, то есть человека свободного звания, в «крещеную собственность» любого помещика. С начала XVIII века правительство принимало ряд мер, направленных к уменьшению лишних в среде духовенства людей, однако годных на службу государству. Сами священники от воинской повинности и вообще от всякой обязательной государственной службы были освобождены, но русское священство всегда множилось и плодилось в щедром изобилии. При священнике состояло многочисленное мужское поколение. Вот этих-то людей духовного звания, но не числившихся при церквях на действительной, так сказать, службе, было решено в 1717 году «положить в подушный оклад, записав их для платежа оклада за помещиками, монастырями и церквами». Этот указ в 1743 году получил новое подтверждение: при церквах оставляли лишь действительно служащих духовных лиц и при том по штатам, не превышающим установленных Петром норм. Лицам духовного происхождения было разрешено самим выбирать помещиков, о чем они должны были подавать соответствующие челобития. Но они медлили приискивать себе вечных хозяев, страшась крепостной зависимости. Это вызвало новый указ синода, отменивший право духовенства на выбор владельца и предписавший записывать за помещиками разных церковников без «всякого их на то согласия. Так это и случилось с дедом Михаила Семеновича, Григорием Ивановичем Щепкиным. Но тут было допущено беззаконие. Григорий был старшим сыном и должен был бы оставаться при отце, наследуя его священническое место в их родовом приходе. Семен Егорович Волькенштейн подал в канцелярию ревизии — то есть того учреждения, которое ведало делами учета и записи населения — заявление, что он «желает принять по платежу подушного оклада находящихся при Спасской церкви записанного по первой ревизии за местным причтом церковника Архипа Савина и попова сына Григория». Прапорщик граф Волькенштейн ссылался на то, что означенные люди «помещика себе не приискали, о том в канцелярию ревизии не объявили и сами не явились поныне». На этом основании канцелярия постановила церковника Архипа Савина и попова сына Григория отдать графу Волькенштейну. Братья же Григория Щепкина остались со всем своим потомством свободными.
М. С Щепкин.
Попавший в неволю Григорий Иванович Щепкин пел в хоре помещика — имел он, на свое несчастье, звонкий голос. Граф же Волькенштейн был любитель искусств и в особенности стройного хорового пения. Это была эпоха, когда любовь «ко всему прекрасному и возвышенному», перекочевавшая в полуазиатскую Россию вместе с галантной французской поэзией и ложноклассической трагедией, как некая повальная болезнь охватила богатых помещиков. Мода на роговую музыку, любительские спектакли и сладкогласые хоры с подмостков великолепнейших столичных театров перекочевали в самые глухие уезды. Вельможи в опале и вчерашние певчие «из хохлов», каковым был, например, Кирилл Разумовский — супруг императрицы Елизаветы Петровны, — люди «подлого сословия», оказавшиеся «в случае» и получавшие в награду вместе с земельными угодиями тысячи крепостных душ, помещики, нахватавшиеся галантных манер при царских дворах, и отставные прапорщики гвардейских полков, штыки которых свергали с престола и возносили на престол российских самодержцев и самодержиц, словом, все то, что составляло и аристократический и денежный блеск поместной знати, расселившейся по необозримым русским равнинам, в самом спешном порядке стало прививать в своих вотчинах любовь к музам. Да и только ли одни помещики? Вот генералиссимус князь Суворов, герой итальянского похода, победитель французов, перевезший по живым телам своих гренадеров пушки через альпийские ущелья, «сам» Суворов, увенчанный славой «Чортова моста», — и он, находясь не у дел, в глуши своего провинциального поместья отдыхая от бранных забав, предается мирным утехам сельских развлечений. Он пишет своему управляющему — прапорщику Михайле Ивановичу Поричневу — приказы, вскрывающие этот крут интересов, в котором живет этот полководец. Управляющему приказано, чтобы «Иванов обучал певчих с прилежанием. Николай — управитель музыкантов, у него под предводительством музыка и проч. Ерофеев имеет обучать трагедиям и комедиям свой штат. Мальчиков словесному учит Никита». Дальше следуют подробнейшие наставления: «Помни музыку нашу — вокальный и инструментальный хоры и чтоб не уронить концертное. А просто пение всегда было дурно, и больше, кажется, его испортил Бочкин, велием гласом с кабацкого. Когда они в Москве певали с голицынскими певчими, сие надлежало давно обновить и того единожды держаться. Театральное нужно для упражнения и невинного веселья. Всем своевременно и платье наделать. Васька комиком хорош. Но трагиком будет лучше Никита. Только должно ему изучиться выражению, что легко по запятым, точкам, двоеточиям, восклицательным и вопросительным знакам. В рифмах выдет легко. Держаться надобно каданса в стихах, подобно инструментальному такту — без чего ясности и сладости в речи не будет, ни восхищения, о чем ты все сие подтвердительно растолкуй. Вместо Максима и Бочкина комическим ролям можно приучать и маленьких певчих из крестьян. Сверх того, французской грамматике заставить учиться исподволь Алексашку-парикмахера. Ему и Николай покажет, только бы он умел читать. Пуще всего мальчиков питай в благонравии».
Любитель музыки, пения и трагедии великий полководец в этих же наставлениях раскрывается и как рачительный хозяин. У него много забот. Надо не только питать мальчиков в благонравии и учить Алексашку-парикмахера французской грамматике, но думать об их дальнейшей судьбе. Ведь многие дворовые ребята у него так подросли, что их женить пора! Но, к несчастью, девок здесь нет, а купить их дешево можно по соседству, и управляющему поэтому предписывается приобрести четырех девиц от четырнадцати до восемнадцати лет. Не нужно очень разбирать лица — лишь бы были здоровые. Это для дворовых людей. Но и крестьянам в Ундоле, где хозяйничает Суворов, нехватает девиц, так нельзя ли и им «в невесты девочку-другую, чтобы мужичкам было безобидно». Купленных невест нужно отправить «на крестьянских подводах, без нарядов, одних за другими, как возят кур, но очень сохранно».
Весьма вероятно, что и для подросшего Григория Щепкина отыскивал его помещик — отставной прапорщик Измайловского полка граф Волькенштейн — невесту таким же манером, как это делал для дворовых ребят, обучавшихся пению, полководец Суворов.
Граф Волькенштейн на своей усадьбе заводил хоры, музыку и театры так же, как это делали соседи и как это было примято всюду. Крепостные выступили на сцене впервые в 1744 году на придворном спектакле по случаю обручения наследника престола Петра Федоровича с Ангальт-Цербтской принцессой, будущей Екатериной Второй. Для празднества шел балет, именуемый «Балет цветов», — «поелику в нем актрисы цветками были». И вот — роль Розы исполняла крепостная Аксинья. Аграфена была Анемоной, а Елизавета изображала Раненкул. Эти крепостные девицы обучались в балетной школе итальянцем Ланде. К концу века уже не было ни одного богатого помещичьего дома, где бы, как писал историк крепостного театра Пыляев, «не гремели оркестры, не пели хоры и где бы не возвышались театральные подмостки, на которых приносились посильные жертвы богиням искусства».
Вошло в обычай потчевать гостей не только чудесами кулинарии — в моде была французская кухня, — но и домашними представлениями. Говорилось: «Угощать музыкантами или актерами». Граф Комаровский так и записал в воспоминаниях о посещении имения графа Ильина, что он «угощен был оперой и балетом». И Е. А. Хвостова, которой посвящал свои юношеские стихи Лермонтов, рассказывала, что ее бабушка угощала внуков доморощенными музыкантами и певцами.
Крепостные, оказавшиеся годными для служения музам (с негодными поступали просто: не пригодился в актеры, снова посажен на пашню), были в большой цене. Один французский путешественник писал об актрисе, купленной за пять тысяч рублей, помещик Столыпин, крепостная труппа которого была приобретена казной и образовала впоследствии труппу Малого театра в Москве (сперва Петровского — Большого театра) запросил за каждую актрису шестьсот рублей. Граф Каменский приобрел от помещика Офроскмова мужа и жену с шестилетней дочерью, мастерски танцевавшей качучу, за целую деревню в двести пятьдесят душ.
Графу Волькенштейну певчий Григорий Щепкин обошелся куда дешевле.
Как обучался своему вокальному мастерству Григорий Щепкин и какова была его певческая судьба, мы не знаем. Мы не задаем и о бытовых подробностях, рисующих обстановку и нравы оркестра, хора и труппы графа Волькенштейна. Но законно предположить, что не очень они отличались от тех обычаев, которые стали традиционными в обиходе помещичьего театра. Об этом мы знаем достаточно. Вот несколько иллюстраций, дающих законченное представление о том, чем был или, точнее сказать, мог быть домашний театр — с хором и оркестром — графа Волькенштейна. Заметим, что в конце века — а именно в конце этого XVIII века — произошло закрепощение Григория Щепкина — дворянский помещичий театр переживал эпоху своего света и блеска. Поместная знать, еще державшаяся на феодальных устоях, переживает свой предзакатный час. Рост дворянства как политической силы еще не уменьшается, хотя скоро настанет время, когда вотчине дворянина придется перестроиться. Но в те годы, когда Григорий Щепкин распевал звонким голосом в хоре графа Волькенштейна, об этом кризисе, заставившем феодальную вотчину стать своеобразным экономическим предприятием, еще не думалось. Развитие системы торгового и промышленного капитала, что будет иметь место в первую четверть нового — XIX — столетия и что нанесет удар крепостному театру, как и всей системе вотчиной экономики, еще было в зародыше. Об этом времени М. Н. Покровский сказал, что «дворянство продолжало господствовать, сильное своей массой и исторической традицией, но историей двигало не оно, по крайней мере, не оно одно».
Но вернемся к иллюстрациям из быта и нравов крепостного театра. Вот, например, что написал в своих мемуарах «Сельский священник», описавший театр помещика средней руки.
«Когда занавес поднимается, вылет с боку красавица Дуняша, ткача дочь, волосы наверх подобраны, напудрены, цветами изукрашены, на щеках мушки налеплены, сама в помпадуре и фижмах, в руке посох пастушечий с алыми и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять, и когда Дуня отчитает, Параша подойдет, псаря дочь. Эта пастухом наряжена, в пудре, в штанах и в камзоле. И станут Параша с Дуняшей виршами про любовь да про овечек разговаривать; сядут рядком и обнимутся. Недели по четыре девок бывало тем виршам с голосу Семен Титыч сочинитель учил — были неграмотны. Долго бывало маются сердешные, да как раз пяток их для понятия выдерут, выучат твердо… Андрюшку-поваренка сверху на веревках спустят: бога Феба он представляет, в алом кафтане, в голубых штанах, с золотыми блестками. В руке доска прорезанная, золотой бумагой оклеена, прозывается лирой, вокруг головы у Андрюшки золоченые проволоки натыканы, вроде сияния. С Андрюшкой девять девок на веревках бывало спустят: напудрены, все в белых робронах; у каждой в руках нужная вещь: у одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительная труба. Под музыку стихи пропоют, князю венок подадут, и такой пасторалью все утешены».
Предания сохранили кое-какие намеки, указывающие на то, что граф Волькенштейн был человеком добрым. Он не схож с тем помещиком, о котором повествует «Сельский священник», рассказывающий о крепостных артистах, певших в церкви обедню и награждаемых за каждую ошибку в диэзе или бемоле двадцатью пятью ударами розог. А вечером эти Саши и Даши должны были играть в домашнем театре и представлять каких-нибудь княгинь и графинь. «В антракте барин входил за кулисы и говорил: «Ты, Саша, не совсем ловко выдержала роль: графиня N. N. должна была держать себя с большим достоинством». И 15–20 минут антракта Саше доставались дорого: кучер порол ее с полным своим достоинством!.. Затем опять та же Саша должна была или держать себя с полным достоинством графини или играть в водевиле и отплясывать в балете». «Никак не можешь представить себе, — говорит «Сельский священник», — чтобы люди, да еще девицы, после розог и вдобавок розог кучерских, забывая и боль и срам, могли мгновенно превращаться или в важных графинь «с достоинством» или прыгать, хохотать от осей души, любезничать, летать в балете и т. п., а между тем делать были должны и делали, потому что они опытом дознали, что если не будут тотчас из-под розог вертеться, веселиться, хохотать, прыгать, то опять кучера… Они знают горьким опытом, что даже за малейший признак принужденности их будут сечь опять ужасно»…
Такой же приблизительно характер носили представления и крепостных пензенского помещика Г. Г., о театре которого В. Вигель дает следующий отзыв в своих воспоминаниях: «В нем все было, как водится: и партер, и ложи, и сцена. На эту сцену выгонял он всю дворню свою, от дворецкого до конюха и от горничной до портомойки. Он предпочитал трагедии и драмы, но для перемены заставлял иногда играть комедии. Последние шли хуже первых, если могло быть только что-нибудь хуже первых. Все это были какие-то страдальческие фигуры, все как-то отзывалось побоями, и некоторые уверяли, будто на лицах, сквозь румяна и белила, были иногда заметны синие пятна».
У одного помещика, рассказывает Е. Леткова, во время представления аллегорического балета «Амур и Психея» рослый Амур и дородная Психея, ободряемые всеобщими рукоплесканиями, так скакали по сцене, что головами задели «ребят», висевших на веревках и изображавших радости, смех, игры… Ребята разревелись, а публика осталась в восторге. У другого барина собака чуть не порвала в клочки актера, изображавшего медведя… Артисты бросились к нему на помощь и еле-еле спасли его… когда медведя выручили, барин закричал: «Продолжайте, дураки! Собаку повесить, а между тем мы досмотрим, чем кончится опера».
2
В своих «Записках» Михаил Семенович Щепкин деду своему уделил всего несколько строк. Рассказав очень бегло о чудесном его превращении из сына церковника в крепостного человека отставного прапорщика Измайловского полка, графа Семена Егоровича Волькенштейна, внук удостоверяет, что все это дело не должно казаться странным, ибо в том веке делалось это часто, так что, — говорит он, — «дед мой не слишком удивился, когда, заснув свободным, проснулся крепостным, а только немного погрустил — и то, разумеется, безотчетно, — наконец, совершенно привык к новому своему званию».
Мало чем можно дополнить скупые сведения, сообщаемые внуком о деде. Мы знаем, что пел он в хоре, обладал звонким голосом и, вероятно, выделялся в певческой и музыкальной дворне графа природной сметливостью и тою развязностью, которая отличала его, сына издревле свободных людей, от прочих подневольных певцов, музыкантов и иных дворового звания крепостных людей. Верно женат он был на какой-нибудь дворовой девушке, вернее всего камеристке барыни, — такие браки всего чаще встречались в вотчинах среди дворовых людей.
Сын его — отец актера Щепкина, — Семен Григорьевич, был с детских лет взят в услужение в графский дом. Здесь он поднимался по всем тем ступеням успехов и благополучия, по которым мог проходить дворовый человек; сперва в качестве «казачка» — малышка для услуг, раскуривающего барину чубук, затем молодого лакея» расторопностью, преданностью и честностью приобретающего положение доверенного лица.
Сын Семена Егоровича Волькенштейна, Гавриил Семенович, по примеру отца своего, также служил в молодости гвардейским офицером. К его особе был приставлен молодой лакей — Семен Щепкин. Барин вращался в кругу блестящей аристократической молодежи, а слуга невольно втягивался в круг господских интересов: вахтпарадов и разводов, царицыных наград и царицыных окриков — шло царствование Екатерины Второй, — легкомысленных забав и театральных увлечений. С парада или караула на лихой паре, в небрежно накинутой шинели, опешил барии домой — к завтраку или обеду, — в общество таких же беспечных удалых гвардейцев. Все они были прожигателями, жизни, и эта жизнь растрачивалась с щедростью той полной обеспеченности, которая пришла к ним по наследству: их деды и отцы, владельцы многих тысяч душ и многих тысяч десятин, накапливали в своих угрюмых провинциальных поместьях денежки, что бросались на прихоть этой кипучей, расточительной и бездельной молодости их детей.
Молодые гвардейцы чувствовали себя политической силой. Историк В. О. Ключевский говорил, что когда «отсутствует или бездействует закон, политический вопрос обыкновенно решается господствущей силой. В XVIII веке у нас такой решающей силой является гвардия, привилегированная часть созданной Петром регулярной армии». Гвардейских полков в моху Екатерины Второй было четыре — Преображенский, Семеновский, Измайловский и Конногвардейский. И вот — свидетельствует историк — «почти ни одна смена на русском престоле не обошлась без участия гвардии, можно сказать, что гвардия делала правительства и уже при Екатерине Первой заслужила у иностранных послов кличку «янычар». С участием гвардии за тридцать семь лет произошло шесть дворцовых переворотов. Гвардия вмешивалась в политику, дворцовые перевороты стали для нее, по выражению В. О. Ключевского, «приготовительной политической школой». Гвардия имела огромное общественное значение, была представительницей целого сословия — дворянства.
Сама Екатерина Вторая была обязана гвардии тем, что стала самодержицей всероссийской. Переворот 28 июня 1762 года, свергший с престола Петра Третьего, был «самой веселой и деликатной из всех нам известных революций, не стоившей ни одной капли крови, настоящей дамской революцией. Но она стоила очень много вина: в день въезда Екатерины в столицу 30 июня войскам были открыты все питейные заведения, солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, боченки — во что ни попало — водку, пиво, мед, шампанское. Три года спустя в сенате еще производилось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их за растащенные при благополучном ее величества на императорский престол восшествии виноградные напитки солдатством и другими людьми на 243 131 рубль с копейками» (см. В. О. Ключевский — Курс русской истории, часть 4, стр. 455, изд. 1918 г.).
Весело, буйно и пьяно чувствовала себя гвардия в первые годы царствования Екатерины. Весело жил и молодой граф Волькенштейн. Не скучно проводил время в Петербурге и его расторопный камердинер Семен Щепкин.
До тонкости изучил он весь обиход этого уклада, в котором так щедро лилось вино, так азартно проигрывались в карты целые состояния и где слухи о дворцовых интригах и нескромных приключениях самой императрицы с ее фаворитами сплетались с веселыми рассказами о похождениях с дворцовыми актрисами.
К шумным толкам господ жадно прислушивался Семен Щепкин. Нужды нет, что говорили офицеры на французском языке — слуги на практике своей службы невольно изучали французский. Во всяком случае, много слов — из самого ходового, так сказать, бытового лексикона языка — они усвоили твердо. Нет, Семен Щепкин, вывезенный из курской глуши, не потерялся в Петербурге. Он вошел во вкус тех удовольствии, среди которых протекали гвардейские дни его барина. А в эти дни все знатные люди были театралами: театру покровительствовала сама императрица и не только в качестве неизменной зрительницы и драматической писательницы, но и законодательницы, давшей юридические основы учрежденному еще при Елизавете Петровне императорскому театру.
Императорский театр той эпохи был еще неразрывно связан с именем Федора Волкова. Федор Волков в эту глухую пору русской истории, когда всякое культурное начинание было редким и счастливым исключением на общем сумеречном фоне, все еще овеянном почти азиатской дикостью, побудил своих земляков — ярославцев помочь ему в его чудаческой затее, создать театр в родном городе. Федор Волков был пасынком богатого — купца Подушкина. По приказу отчима живал он в Петербурге для усовершенствования в познаниях торгового дела. Впрочем, его биография полна легенд и противоречий. Кажется, учился он в Заиконоспасской академии и, может быть здесь, а может быть, уже в Ярославле, состоя при отчиме — владельце селитренных и серных заводов, — «упражнялся» в театральных представлениях с некоторыми приказными служителями.
Федора Волкова называют основателем русского театра. Это не точно и неверно: Волков продолжил то дело русского театра, которое истоками своими имеет еще более грубое время, атмосферу еще большей дикости. XVIII век — дни «веселой Елизаветы», императрицы Елизаветы Петровны — был веком переломной эпохи, стоявшей на рубеже европейской культуры, насильственно насаждаемой дубинкой Петра. Это был век, уже познавший все соблазны придворных балов, роскошных маскарадов и прекрасных итальянских спектаклей. Ростки же русского театра надо искать на другой почве, в Москве, в дни «тишайшего» царя Алексея Михайловича. Тогда, под злые крики немецкого пастора Иоганна Грегори, капризом истории ставшего первым русским режиссером, дети приказных, малограмотные парни, призванные царским указом «учинить комедию», начинали трудный путь русского театра. Мы мало знаем о них, об этих первых лицедеях. Первые русские актеры, допущенные к целованию руки великого «царя и государя», оставили память о себе в челобитных, в которых жалуются, что «платьишком они износились, животишками извелись», что, забытые, не получают никакого денежного пособия и голодают. Эта челобитная — первый документ о первых русских актерах. И в этом первом актерском документе как бы предуказывается тот тернистый путь, по которому в мытарствах пройдут свою вековую историю русские актеры. И другой документ, запечатлевший штрих не менее яркий для истории быта и нравов родного театра: жалоба на актера Шмагу— пьяницу, драчуна и буяна, которого за лихие дела, дабы впредь не повадно было, больно наказали батогами. Так из этой темной и глухой поры тянутся тонкие нити, связывающие младенчески наивный театр с тем культурным делом приобщения к европейской образованности, которое стало вершиться с той поры. И кто только ни отдавал своих влечений и жаркой своей любви трудному этому театральному делу: были тут и ученики духовной Заиконоспасской академии в Москве, на Никольской, той самой академии, в которую пришел вместе с рыбным обозом из далеких Холмогор Михайло Ломоносов, были тут студенты медицинской академии, которых называли «государственными младенцами», были и приказные, и обедневшие дворяне, купеческие сыновья и отставные чиновники, — та разночинная русская городская масса, которая, не избавленная от телесного наказания (только дворянская спина не знала батогов, плетей, кнута и розог), голодная и битая, неудержимо стремилась к просвещению. Театральные огни казались ей самыми яркими на звездном небе европейской культуры. И Федор Волков, до которого доходил свет из прорубленного петровским топором окошка в Еаропу, — был таким же наивным и страстным работником театральной культуры, как до него были все эти люди, правдами и неправдами создавшие в России театр.
В Петербурге, совершенствуясь в торговых делах, Волков эту свою страсть к театру и воспитал, и развил. Он попадает на спектакли кадетов Шляхетного корпуса — закрытого учебного заведения для дворян. Веселая императрица Елизавета — эта «беспорядочная своенравная русская барыня XVIII века, которая попала между встречными культурными течениями и от вечерни шла на бал, а с бала поспевала к заутрене»[1] — любила не только спектакли иностранных актеров: немцев, французов и итальянцев, но поощряла и русские спектакли. Русские спектакли разыгрывали воспитанники корпуса, из среды которых вышел первый директор первого русского государственного — императорского — театра, бригадир Александр Сумароков — отец русской трагедии. И вот, купеческий сын Федор Волков, посланный изучать коммерцию, присутствует на спектаклях кадетов. Его так очаровало зрелище, так взволновала романтическая страсть, раздираемая в клочья неистовой декламацией, эта наивная романтика сумароковских трагедий, что он не знал, где находится, то ли на земле, то ли на небе».
Вернувшись в родной Ярославль, Волков привез сюда вместе с запасом познаний из области торговой науки запас знаний театральных: он изучил механизм сложных театральных машин, снял копии с декораций, добыл экземпляры пьес и запомнил манеру игры и русских любителей и иностранных актеров. В Ярославле он набрал труппу: два его родных брата, Григорий и Гаврила, и сыновья ярославских жителей — Попов, Чулков, Нарыков. К ним присоединились приказные, вероятно служащие в торговой конторе отчима, а по некоторым смутным преданиям даже несколько рабочих полушкинского завода. Сперва играли дома, потом построили амбар в роще. Собрали деньги и на складчину открыли публичный театр. Весь город сбегался смотреть диковинные представления. Что играли эти актеры волковской труппы — точно мы не знаем. Кажется, пьесы Дмитрия Ростовского. Два года продолжались спектакли, затея имела успех. Счастливый случаи повернул судьбу труппы по-новому: до Петербурга дошли слухи о ярославском театре. Как раз во-время: прекращались спектакля в Шляхетном корпусе — кадеты кончали ученье. Елизавета Петровна, которая была больше в курсе театральных новостей, чем новостей политических, заинтересовалась ярославцами. 3 января 1752 г. Елизавета приказала перевезти всю труппу ярославцев в Петербург. Волков с братьями и товарищами по ярославскому театру был отдан в Шляхетный корпус — подучиться манерам, наукам, иностранным языкам. Он получил даже присвоенную кадетам шпагу.
Необыкновенно энергичный, Волков по выходе из Шляхетного корпуса ставит дело русского театра на прочную и чисто профессиональную основу. Дело театра до сих пор шло случайно. Театр служил на потребу высочайших забав и не имел под собой иной основы, кроме блестящих дворцовых паркетов. Ярославцы сложили ядро первой труппы учрежденного императорского театра. Из этой труппы прославился и первый учитель сцены, товарищ и друг Федора Волкова — Иван Нарыков, принявший сценическое имя Дмитриевский. Его считают Станиславским XVIII века.
Федора Волкова называют историки «Петром Великим русского театра». Говорят, что и лицом он напоминал этого сумасбродного и страстного человека. И в личной биографии Волкова есть факты, свидетельствующие именно об этой кипучести натуры: актер, он с головой уходит в политические бури, принимая непосредственное участие в том перевороте, который привел на трон Екатерину Вторую. Волков осыпан наградами за услуги, оказанные Екатерине в дни этой «дамской революции», стоившей, однако, жизни Петру Третьему.
Волков умер молодым, в расцвете сил, смертельно простудившись на маскараде, точнее сказать, уличном торжественном шествии, под названием «Торжествующая Минерва», устроенном в Москве в дни коронации Екатерины Второй. Но дело русского театра, нм поставленное на прочные основы профессионализма, получило могучий толчок к своему развитию.
Молодой граф Волькенштейн застал блестящую пору императорского театра. Он смотрел лучших актеров эпохи: Шумского, Дмитриевского, Троепольского, Мусину-Пушкину, Лизаньку Сандунову-Уранову, Шушерина. Вместе с ним смотрел этих актеров и его расторопный камердинер Семен Щепкин. Барин сидел в креслах, слуга пробирался в раек или. подкупив капельдинера, проскальзывал в партер, который в ту эпоху еще не имел сидячих мест: в партере стояли. Разумеется, здесь была пестрая публика — купеческая и разночинная, тяжко потевшая под тяжелыми шубами, ибо не было еще обычая оставлять верхнее платье в театральном гардеробе. Не раздеваясь, простаивала «простая» публика целые спектакли. Господа же вверяли свои шубы собственным лакеям, которые, засунув барское платье в особые мешки, скучая, ожидали окончания спектакля в просторных вестибюлях. Семен Щепкин предпочитал любоваться Лизанькой Сандуновой. Он уверял много лет после того, как кончилась эта гвардейская полоса жизни его барина, что вместе с графом бывал он и на эрмитажных представлениях. В Эрмитаже устраивались великосветские любительские спектакли, участие в которых принимали молодые люди самых знатных петербургских фамилий. Словом, Семен Щепкин приобрел кое-какие понятия в театральном деле.
Бывал он с барином и в Москве. А в Москве еще больше театральных забав и развлечений. Одних только барских домов, в которых устраивались любительские спектакли, насчитывалось около двух десятков, не считая подмосковных усадеб, где в моде были спектакли крепостные. Нет ничего невозможного и в предположении, что мог Семен Щепкин, сопровождая барина, попасть и в Кусково — к графу Шереметеву, усадебный театр которого пользовался самой громкой славой. Там мог Семен Щепкин познакомиться и с обычаями крепостного театра. Он застал предзакатный час былой пышности этого театра. Его сыну, Михаилу Семеновичу Щепкину, доведется узнать тот же крепостной театр, но уже в период его разложения. Сыну придется досказать как бы эпилог тех преданий, которые в дни его отца еще звучали живой былью. Быль эта сохранила много темного, страшного и злого. Великий актер Михаил Щепкин сам узнал жестокую правду театра, грубая позолота которого не была достаточно густой для того, чтобы скрыть позорные синяки багровых спин высеченных крепостных, по воле помещиков ставших лицедеями, музыкантами, танцовщиками, певцами. Но эта правда была уже правдой эпилога — последней, заключительной главой «мрачной истории крепостного театра. Его отец, заставший предзакатное цветение и предсмертный блеск вотчинного театра, мог бы рассказать о таких чудесах в истории жизни крепостных актеров, которых уже не знала эпоха Щепкина-сына, хотя судьба самого Михаила Семеновича была необычайной и редкой в летописи русской сцены.
Семен Щепкин, если даже и не бывал сам на представлениях крепостной труппы графа Шереметева в Кускове, то, конечно, слышал рассказы, звучавшие волшебной повестью о судьбе крепостной актрисы Жемчуговой — шереметевской крестьянки, дочери кузнеца, которая стала графиней Прасковьей Ивановной Шереметевой. Повесть эта отобразилась в песенке, живущей и по сей день и рассказывающей о девушке, которая
Вечор поздно из лесочка Коров домой гнала.И вот — едет барин: два лакея впереди, две собачки позади. А навстречу красавица-крестьянка. И завершается встреча любовью и счастливым браком.
В действительности не было встречи «поздно у лесочка», не гнала коров Параша, не в поле встретился с ней барин. Нет, ее восьмилетнею взяли в графский дом. Взяли, как и многих ее подруг «не гнусного вида и не развращенной фигуры», которых собирали из всех имений графа для обучения вокальному, драматическому и балетному искусству. И вот среди сверстниц прошла Параша Жемчугова трудную школу воспитания и обучения. Как и все эти подростки, взятые в барский дом, она ходила в железном обруче и корсете «для стройности стана», изучала французский и итальянский языки, игру на клавире, в «репетишной» комнате проделывала сложнейшие упражнения под руководством итальянцев-балетмейстеров, кушала с барского стола, а за нерадение стаивала на коленях и сиживала на хлебе, на воде.
Голос был у нее замечательной чистоты и силы. Пятнадцатилетней дебютировала она на сцене кусковского театра графа Шереметева и очаровала знатных зрителей. Среди Изумрудовых, Яхонтовых, Бирюзовых, Гранатовых, Аметисовых, Хрусталевых — драгоценные камни образовали псевдонимы Буяновых, Кармыковых, Урузовых, Шлыковых, Качадыковых, — среди них оправдала Жемчугова свою сценическую фамилию. Век был самый парадоксальный в русской истории. Царствовал Павел Петрович, на плацпарадах свистели флейты и шпицрутены. Стоны и вопли отчаяния поднимались над страной. А меценаты, эти феодалы, чувствительные к музыке любители искусств, утешались французскими балетами и операми. Вчерашней Параше Ковалевой, заблиставшей Жемчуговой в опере «Семирамида», аплодировал сам император Павел Петрович. Аплодировал и другой коронованный гость Шереметева — король польский Станислав Понятовский. Успех актрисы заставил обратить на «ее особенное внимание ее владельца. Граф Шереметев сделал ее своей любовницей. Сожительство это, кроме горя, ничего не дало Жемчуговой. Ставши «барской барыней», как называли наложниц помещиков, Параша подвергалась оскорбительным насмешкам дворни. Граф перевез ее из Кускова в Останкино.
Но Параша не почувствовала себя легче. Граф, повидимому искренно полюбивший Парашу, по ее настоянию закрыл оба свои театра и распустил огромную труппу — Жемчугова считала и свою связь с барином, и свое участие в его спектаклях делом греховным. Она стала его законной супругой. Но ни разу не была представлена «свету» в качестве графини Шереметевой. Шереметев в своем завещании сыну — сыну Прасковьи Ивановны Жемчуговой, — извиняясь и оправдываясь, писал, что была взята она в дом из небогатого и незнатного, но достойного и бедного семейства. Правду о матери — дочери сельского кузнеца — отец утаил от сына.
Графиня П. Шереметева, бывш. крепостная актриса Параша Жемчугова.
(Театральный музей им. А. Бахрушина в Москве).
Легенда о Параше перешла за обширные вотчины Шереметевых. Она особенно полюбилась сотням и тысячам таких же Параш. Им, взятым в барские театры для обучения танцовальному и драматическому искусству, грезилась сказочная судьба актрисы Жемчуговой, ставшей графиней. И они воспели эту необыкновенную судьбу в наивной песне.
3
Беспечные гвардейские годы кончились. Старый граф Волькенштейн, задумав женить сына, вызвал его в деревню: пора ему приучаться быть хозяином. А хозяйство немалое: тысяча двести крепостных душ и вотчина, разбросанная на семьдесят верст в окружности. Супруга молодого графа, Елизавета Ивановна, богатое принесла в дом мужа приданое: фамильные бриллианты, драгоценные меха, модные наряды и целый штат крепостных девушек и женщин для домашних услуг.
Самой любимой камеристкой барыни была красавица Маша. А Семен Щепкин при женатом барине продолжал состоять в должности камердинера. Вот и решили господа составить его счастье: сама барыня сосватала ему Машу.
Супружество, хоть и подневольное, оказалось счастливым. Мирно и ладно жил Семен Григорьевич с Марьей Тимофеевной. Оба всегда при господах, оба — доверенные люди. Одно печально — умирали у Щепкиных дети. Родился мальчик и в младенчестве умер. За ним девочка — не прожила и года.
Шестого ноября 1788 года родился еще мальчик. Назвали Михаилом. Суеверный страх охватил счастливых родителей, а вдруг и этот умрет? Но «выручили» старые люди. Все дело, учили они, в том, чтобы найти других кумовьев. Ни в коем случае не приглашать тех, кто крестил первых двух младенцев. А надо заметить, что старшего сына крестил сам граф, а дочку графиня. Как быть? Не обидятся ли господа, что их на этот раз «обошли»? Но вера в спасительный предрассудок оказалась сильнее опасений возможной барской немилости.
Решили взять в кумовья первых встречных. Вот и оказался у будущего великого актера, Михаила Семеновича Щепкина, как он вспоминает сам в своих «Записках», крестным отцом пьяный лакей. Крестной матерью довелось стать поварихе. Эта хоть была трезвой! Несмотря на встречных кумовьев, повивальная бабка — разумеется, простая крестьянка — чуть не испортила всего дела. Она плохо перевязала пупок, и младенец едва не изошел кровью. Но кто-то во-время заметил беду и, рассказывает Щепкин, «новой суровой ниткой, ссученной вдвое, привязал его, так оказать, к жизни».
В самом раннем младенчестве Миша Щепкин был необыкновенно покойным и тихим ребенком. Он не предъявлял больших требований к матери, а она делила свое время между заботами о младенце и хлопотами по графининым делам. Однажды, когда Мише не было и двух месяцев, стали его купать. Только что мать начала его мыть, как пришли за ней от графини. Марья Тимофеевна, боясь нетерпеливого гнева Елизаветы Ивановны, бросила Мишу в корыте и побежала на зов ее сиятельства, на ходу приказав золовке выкупать Мишу. Золовка не поняла или не расслышала приказания. Три часа спустя вернулась отпущенная графиней Марья Тимофеевна и нашла своего Мишу покойно спящим в холодной воде! Сначала она испугалась, а потом обрадовалась: Миша проснулся как ни в чем не бывало — здоровым после этой длительной ванны! После этого случая Мишу, однако, уже не оставляли одного. Елизавета Ивановна разрешила своей любимой камеристке приносить его в барский дом. Миша получил право валяться на господских диванах и пользоваться всеми правами ребенка. А если иногда случалось ему быть не очень вежливым, то граф, по обыкновению, ворчал, а графиня от души смеялась. Такая милость возбуждала зависть во многих матерях, дети которых не были осчастливлены подобными милостями. Так он рос до четвертого года — утешением родителей и забавой господ. Семен Григорьевич Щепкин к этому времени стал самым важным лицом в вотчине графа, первым лицом после барина: он был назначен главным управляющим всего имения.
Резиденция графа Волькенштейна была в селе Красном. Обояньского уезда, Курской губернии, а хутор «Проходы», который был назначен для пребывания нового управляющего, находился в Судженском уезде. Здесь был центральный пункт всего имения — главный штаб вотчинной экономии. Сюда и переселились Щепкины. Здесь протекали детские годы Миши; здесь свыше тридцати лет жили все его родные.
На пятом году его стали учить грамоте. Семен Григорьевич слишком хорошо понимал, какие выгоды сулила грамота в крепостном положении. Грамотному легче было получить волю, не говоря уже о том, что грамотный всегда мог стать ближе к господам. Это на собственном жизненном опыте испытал Семен Григорьевич. По счастливой случайности ключник хлебного магазина при винокуренном заводе оказался грамотным. Мише еще раз повезло: сыскать грамотея среди поголовно безграмотных мужиков, конечно, было делом удачи и счастья. Никита Михайлович, так звали ключника, держал в «Проходах» нечто в роде частной школы. Вместе с Мишей к нему на уроки хаживали дети Никиты-шинкаря: Гаврила и Никита. Ученье началось по обычаю с усвоения азбуки. Потом перешли к чтению церковных книг — часослова и псалтыря. Других учебных пособий тогдашняя домашняя педагогика не знавала. Миша Щепкин через год одолел всю премудрость, обогнав своих товарищей. Нравы в этой «школе» были жестокие: учитель порол ребят за каждую ошибку. Впрочем, доставалось больше Никите и Гавриле, драли их немилосердно, хотя толку от этого не было никакого; Миша же Щепкин удивлял учителя остротой своего ума. Он был вообще на редкость бойкий и смелый ребенок, подвижной, как ртуть, кругленький, веселый, всегда с запасом неожиданных вопросов, которые ставили в тупик взрослых. Он стал непоседой и теперь ни за какие коврижки не согласился бы пролежать спокойно в корыте три битых часа, как это он однажды проделал в младенчестве! И был Миша любознателен не в меру своих лет, что приводило иной раз к конфузным случаям. Он имел дурную привычку читать вслух, не останавливаясь на точках, чем очень раздражал почтенного ключника, который щедр был в гневе на затрещины и на удары линейкой по рукам — нужды нет, что был Миша управителев сын. Вероятно, эти взбучки очень надоели
Мише. И вот однажды он вполне резонно спросил:
— А для чего же останавливаться по точкам?
Учитель сослался на авторитет священного писания: оно-де так написано, что нужно его читать, останавливаясь на точках. Так все праведники читали.
— Для чего же это нужно?
— А оттого, что нельзя прочитать всего псалма одним духом, требуется отдохнуть. Вот потому-то святые, которые сами писали, нарочно и поставили точки, а ты, дурак, думаешь, что их поставили даром!
— Помилуйте, этого не может быть! Вот посмотрите, как точки расставлены: вот тут от точки до точки — три слова, а тут — целых десять строк. А ведь их нельзя проговорить одним духом. Значит, не может быть, чтобы они были поставлены для отдыха.
Этот диалог кончился печально: учитель, искренно убежденный, что Миша Щепкин самим дьяволом научен противоречить истине, осыпал голову ученика целым градом жестоких ударов, восклицая при этом:
— Если ты тем точкам не веришь, так вот тебе точка! Этой уж ты поверишь. А если ты еще будешь лезть с вопросами, так я тебе такого жара задам, что и не опомнишься.
«После такого сильного доказательства я уже навсегда отказался от подобных вопросов», — вспоминает Щепкин.
Но что требовать от ключника? Мог ли он в самом деле ответить на лукавые вопросы не в меру бойкого ребенка, когда и другие Мишины учителя, посланные ему судьбою в первые годы его учебы, были не лучше этого доморощенного грамотея. Взять хотя бы отца Дмитрия — священника в селе Кондратовке, куда отправили Мишу после того, как часослов и псалтырь не только были прочитаны от крышки до крышки, но и затвержены наизусть слово в слово. Отец Дмитрий был так малограмотен, что когда ему доводилось служить при господах, граф Гавриил Семенович каждый раз наказывал ему, чтобы он службу прочитывал дома, дабы не ошибаться в церкви. Таков был тогда век: в столицах верхушка знати приобщена ко всем тонкостям европейской просвещенности, императрица и иные из ее вельмож переписываются с Вольтером, а в провинции — в этой дикой и страшной российской глухомани — грамота, книга за семью печатями и не только для крепостного крестьянина, но порой и для его господина. Ведь нравы семейства госпожи Простаковой, осмеянные в комедии Фонвизина «Недоросль», были вполне современными тогда нравами, ибо писал Фонвизин своего Митрофанушку с живой натуры. Недорослями росли в провинциальной глуши дворянские сынки, принадлежащие к среднему поместному барству. Недалеко от них ушли и провинциальные попики, для которых еще не было совершенно обязательным проходить курс науки в семинариях. Обучались они дома, на медные, как говорится, копейки, у таких же малограмотных дьячков. Отец Дмитрий — второй Мишин после ключника учитель — не составлял, как видно, исключения. Семен Григорьевич — человек, выдавший виды, понимал, разумеется, что от такой науки мало проку. Поэтому было решено отправить Мишу в Белгород к тамошнему священнику, который славился особой образованностью.
Обитатели хутора «Проходы» только посмеивались в длинные хохлацкие усы:
— Чорт его знает, этого управителя, зачем ему отдавать мальчонка в Белгород? Хватит с него и того, чему научился. Вот он теперь хорошо читает часослов и псалтырь, — и ладно. Можно, пожалуй, письму обучить. Будет тогда в суде служить, бумаги переписывать.
А Семен Григорьевич упрямо решил, что нужно дать мальчику настоящее образование. Семен Григорьевич, как мы знаем, был человек для своего времени и для своего положения несколько выделявшийся из среды барской челяди. Семен Гигорьевич видывал виды. Он-то ведь знал, что кроме пьяного ключника хлебного магазина да малограмотного кондратовского попика существуют школы, а в Москве и в Петербурге — университеты. Видал он и камердинеров важных господ, побывавших за границей и научившихся отлично разговаривать и по-французски, и по-немецки. Почему бы — рассуждал он — не научиться всему этому и Мише? Словом, было решено отправить его к ученому священнику в Белгород.
Не без сопротивления со стороны матери привел Семен Григорьевич в исполнение эту, как называли соседи, «блажь». Марья Тимофеевна, души не чаявшая в Мишутке, была женщина слабохарактерная и доброты непомерной. Семен Григорьевич, напротив, был человеком решительным, твердым и суровым. Миша и его младшая сестренка любили, но не слушались матери, боялись и не любили отца.
Немало слез было пролито в управительском домике, немало крупных перебранок слышали дети между отцом и матерью. Наконец, назначили день отъезда. Провожать Мишу в Белгород собрались и мать и отец. В судьбе Миши намечался резкий перелом. Беззаботное детство кончалось, впереди ожидали трудные годы учебы.
Балованный матерью и трепетавший перед отцом, без меры обласканный одной и часто жестоко наказываемый другим, воспитанный в условиях необычных для крестьянского ребенка, с детских лет приученный к мысли о том, что хотя родители его и крепостные, да в отличие от прочих особо приближенные к господам, Миша Щепкин по всему складу своего развития и навыков, понятий и привычек, резко выделялся из среды крестьянских ребятишек, у отцов которых не только не было приятных воспоминаний о прошлом, но и никаких радужных надежд на будущее.
Ребенком в пору радостных лет на хуторе «Проходы» Миша Щепкин еще не знавал ни одного из тех жестоких уколов, которые вскоре будут ведомы и ему, и которые были естественны и обязательны для человека, вступающего в сознательную жизнь в положении крепостного. Самолюбие Миши Щепкина еще ни разу не страдало от сознания неравенства между людьми. В будущем его ждали многие разочарования и тяжелые раздумья.
Дорога в Белгород лежала через село Красное, главную барскую резиденцию. Сюда заехали Щепкины повидаться с графом. Граф Гаврила Семенович к этому времени овдовел. Воспоминания о Петербурге, о шумной, блестящей, праздной жизни давно покрылись туманной дымкой. Никаких иных интересов, кроме занятий сельским хозяйством, он уже не знавал. Впрочем, для развлечения двух дочерей-подростков он завел, по примеру отца, хор и оркестр и не раз силами своих крепостных устраивал домашний театр, на подмостках которого разыгрывались целые оперы.
Миша, конечно, ничего не помнил из дней своего младенчества, проведенных в барском доме. Здесь все для него было внове, неожиданно и чудесно. Вот бродит на обширном дворе куча людей без всякого дела, вот с неистовыми криками носятся в играх дети. Дети особенно поразили Мишу тем, что были совершенно одинаково одеты: все в синих суконных курточках и таких же шароварах. Миша почувствовал, что тот синий халат из китайки, которым он так гордился, прямо смешон по сравнению с этими чудесными синими курточками! А в синие курточки были одеты дети, певшие в крепостном хору графа Волькенштейна. Гаврила Семенович Волькенштейн был, видимо, таким же любителем хорового пения, каким в свое время отличался его отец, отставкой поручик Измайловского полка, граф Семен Егорович, тот самый, который закрепостил деда Миши Щепкина.
Этот день в Красном был полон чудес: за мальчиками в синих курточках— еще одна неожиданность: обед в барском доме, правда не в столовой с господами, а в буфетной, но с барского стола. Миша от отца узнал, что это была особая честь. А вечером после обеда ожидало настоящее чудо. Вечером повел Семен Григорьевич своего сына в театр.
— Что такое театр? — надоедал он с расспросами.
— А вот дожидайся, сам увидишь.
И вот он попал в комнату, которую почему-то называли залой. Зала была разделена на две половины разноцветной холстиной во всю ширину, с потолка до полу. На холстине были разных цветов полоски: желтая, синяя, зеленая, красная. Эту диковину называли занавесом.
Перед занавесом сидели музыканты. Одни играли на скрипках, — это не удивило Мишу: в «Проходах» он видел одного заезжего скрипача, другие ж дули в диковинные трубы, и это было странно. А флейты не произвели на него никакого впечатления: они показались ему схожими с пастушьими дудками.
Вот в зале произошла маленькая суматоха. Кто-то крикнул: «Граф!» Миша Щепкин оробел. Из боковых дверей вышел среднего роста барин, довольно полный, красивый, лет за сорок, с ним две девочки — одной лет десять, другой поменьше. Семен Григорьевич взял Мишу за руку и подвел к графу, который погладил его по голове и в знак особой милости дал поцеловать свою руку. Потом заставили трусившего Мишу целовать ручонки маленьким графиням и, к его ужасу, посадили на стул рядом с девочками. Сзади встал отец и все шептал:
— Не бойся. Миша, не бойся!
Миша боялся потому, что до сих пор слыхивал от отца, что при господах сидеть нельзя. Сидел он, как медвежонок, потупя голову. И если бы не хороший кусок пряника, который сунула ему в руки одна из графских дочек, он заревел бы во все горло. Пряник придал ему бодрости, и он исподлобья, как волчонок, начал поглядывать на обе стороны.
Шла опера под названием «Новое семейство». Ни содержание, ни смысл ее до сознания семилетнего мальчика, конечно, не дошли. Но восхищенный, не отрывая глаз, смотрел он на сцену, восторгаясь всем виденным. Он ушел из театра очарованным. «В этот вечер, — говорит Щепкин в своих «Записках», — решилась вся будущая судьба моя».
4
Как жил четыре года Миша Щепкин в Белгороде и чему его учил белгородский священник, мы не знаем. В «Записках» Щепкин пообещал рассказать некоторые подробности белгородского периода своей биографии и забыл исполнить обещание. Впрочем, его «Записки» вообще не являются биографией в строгом смысле слова — это отрывки из воспоминаний, беглый рассказ о некоторых эпизодах, игравших особенно важную роль в жизни Щепкина, и только.
Одно знаем мы достоверно, что белгородский священник не только хорошо подготовил Мишу для уездного училища, но и научил его читать по-латыни. Во всяком случае тот запас знаний, который приобрел Миша Щепкин в Белгороде и с которым он приехал в Суджу — глухой уездный городок Курской губернии, был совершенно достаточен для того, чтобы занять ему первое место в классах.
Скучно было учиться. Учитель заставлял заучивать наизусть от слова до слова и грамматику, и древнюю историю, и географию. Дни катились своей чередой, надоедливые в своем однообразии. Учение давалось Мише легко и досуга было много. Жил он в Судже вместе с младшей сестрой на квартире у одного из знакомцев отца.
Один эпизод судженской поры врезался в память мальчику с особой отчетливостью. Однажды кто-то из учеников принес в класс книгу под названием: «Комедия Вздорщица». Никто ничего не понял. Все спрашивали, что такое «комедия»? Миша Щепкин объяснил, что это представление — вроде той оперы, которую он видел в барском доме в селе Красном. Ему не поверили. Посыпался на Мишу целый град насмешек и завязался отчаянный опор. На крики вышел разбуженный шумом учитель. Он появился в классе с таким грозным видом, что можно было ожидать только одного приказания:
— А подать сюда розог!
Но Миша Щепкин не стал дожидаться этого окрика и с видом оскорбленного самолюбия, даже со слезами, сам принес ему жалобу:
— Помилуйте, Иван Иванович, рассудите нас: весь класс надо мной смеется, когда я говорю, что комедия — это представление и что комедию можно играть в театре.
Правда оказалась на стороне Миши. Учитель с большим удовольствием стал рассказывать ученикам о театре и предложил ученикам разыграть «Вздорщицу». Было условлено, что пьесу начнут разучивать два раза в неделю: по средам и субботам. В этот день, вероятно, в первый раз за все время, в классе не было скучно.
На следующий день учитель обещал распределить роли. Всю ночь не спал Миша. Его мучил вопрос — кому дадут играть? Если первым ученикам, то и ему перепадет роль. Хорошо бы, если так! Но в школе учится много детей дворян, чиновников, купцов, мещан. Все они званием своим выше Миши. И вероятно, так и случится, что Мишу, сына крепостного человека, обойдут. Но ведь это будет несправедливостью!
Так впервые почувствовал Миша Щепкин жестокий укол. Впервые мелькнула в его сознании мысль о социальном неравенстве.
И, верно, не у одного Миши возникало это тревожное сомнение и вставал тот же мучительный вопрос, кого именно и за что назначит учитель играть в пьесе. Утром на улице разыгрались маленькие баталии — школьники яростно оспаривали друг у друга право на роли.
— Врешь, ты не будешь играть, а я буду!
Нет, ты не будешь, а я буду! Третьего дня учитель был у нас и гостях, и стоит моему батюшке только слово сказать…
— А моя матушка отнесла ему вчера гостинца, полпуда меду. Вот он и назначит «меня.
К счастью для Миши, учитель распределил роли по признаку успеваемости учеников:
— Я выбрал тех, кто лучше учится. Это им в награду, а лентяям это будет наказанием.
Миша получил главную роль — слуги Розмарина. Он даже заплакал от счастья, услышав свою фамилию. Женские роли были назначены учившимся в том же классе девочкам. Но почтенные родители восстали против этого:
— Как?! Наших дочерей заставляют ломаться в театре! Не позволим.
И не позволили, но учитель вышел из положения: старуху и служанку играли мальчики, а любовницу — сестра Щепкина. Ее-то ведь можно было заставить!
На репетициях дело сперва ладилось плохо, а потом все пошло тверже и тверже. Миша Щепкин читал роль свою с такой быстротой, что все приходили в удивление, а учитель приговаривал, улыбаясь:
— Ты, Щепкин, уж слишком шибко говоришь. А впрочем, хорошо!
Как здесь не вспомнить конфузного случая спора Миши с его первым учителем, ключником хлебного магазина, о необходимости останавливаться на точках! Видно, Миша и теперь не признавал никаких остановок. Таков уж был темперамент у этого бойкого и живого, как ртуть, ребенка!
Наконец, настал давно желанный день представления. Большой класс разделили пополам: одну половину уставили стульями, а другая изображала сцену. Учитель пригласил все городские власти: городничего, судью, исправника и прочих чиновников. Власти изумились: неслыханное дело — в их городе будут комедию играть! Городничий осторожно осведомился, нет ли в пьесе чего-нибудь неприличного. Учитель ответил, что за исключением барыни, которая бьет свою девку башмаком, ничего нескромного нет.
— Ну, если так, то в этом нет ничего предосудительного. Это так водится в свете, чтобы барыня била девку, — мудро рассудил городничий.
Спектакль прошел с оглушительным успехом. Все были очень довольны, а городничий даже воскликнул:
— Хорошо! Лихо!
Миша вначале струсил, но потом был, словно в жару, — себя не помнил. Главное, он был доволен тем, что быстрее его никто не говорил!
Спектакль решили повторить. Учитель послал родителям Щепкина письмо, извещавшее о том, что дети, несмотря на наступившие каникулы — дело было на маслянице, — задержаны в городе, потому что назначен театр.
Второе представление состоялось в доме городничего по случаю праздника, который он давал у себя в честь молодых: он выдавал дочь свою замуж за богатого откупщика.
Слухи о том, что учитель приготовил с детьми какую-то комедию и что ее будут играть в доме городничего, взбудоражили весь город. В Судже никогда еще не бывало театральных представлений. Толком никто даже не знал, что это за штука такая — театр.
На площадях, перекрестках, базарах пошли разные толки. Вечером в день представления у дома городничего собралась такая толпа, что понадобилось послать в полицию — просить квартального провести детей, которые будут играть комедию. Под охраной двух будочников, под гул толпы, еле-еле прошли к городничему юные лицедеи.
У городничего собралось еще более знатное общество, чем на первом спектакле в школе. Кроме местных властей был и предводитель дворянства. Гремела музыка, рекой лилось вино.
Когда «актеры» были на местах, городничий крякнул и обратился к гостям с краткой речью:
— Ну, а теперь я угощу вас тем, чего еще никогда здесь не было, и как стоит город наш, такого чуда тут еще не приключалось, и все вот по милости моего приятеля — Ивана Ивановича. Такую штуку состроил он из детей, что просто животики надорвешь. Милости просим садиться.
Спектакль начался, и хохот до конца пьесы не прерывался. Гости непрерывно осыпали детей похвалами, а городничий, притоптывая ногой, кричал:
— Славно, славно! Спасибо, Иван Иванович! То есть вот как одолжил! Ну, дети, жертвую на масляную вам рубль денег, да подайте им большой пряник, что мне вчера принесли.
Пряник делили с особой церемонией. В нем было, по крайней мере, аршина полтора длины и аршин ширины. Городничий потребовал нож и на круглом столе разрезал пряник с математической точностью — на восемь частей. Каждый игравший получил следуемую ему долю. Вручая кусок, городничий каждого целовал и приговаривал: «Хорошо, плутишка!»
Мишу же Щепкина в отличие от прочих, «согласно моему званию», как вспоминает Михаил Семенович в своих «Записках», погладил по голове, потрепал по щеке и позволил поцеловать свою руку в знак величайшей милости и прибавил еще:
— Ай да, Щепкин, молодец! Бойчее всех говорил. Хорошо, братец, хорошо! Добрый слуга будешь барину.
Все кончилось. Детей отпустили по домам. На этот раз пробирались они через толпу, глазевшую на дом, освещенный для иллюминации плошками, уже без охраны будочников. Затерли их зеваки. И не выбраться бы им из густой толпы, не раздайся окрик кучера городничего:
— Пропустите, толкачи проклятые, это дети, которые играли комедию!
В этих словах было что-то магическое — толпа раздвинулась, актеры свободно прошли.
Спектакль имел некоторые последствия. В городе несколько семейств перессорились между собой. Отцы, дети которых не попали в число игравших, насмерть переругались с родителями участников представления. Эти обойденные кричали, что такие позорища вообще нужно запретить. Нельзя из детей благородных родителей делать скоморохов!
Вот дети Щепкина — это дело другое, их и род уж такой. Из них все, что хочешь, делай!
Городничий выдал Щепкиным предписание для получения лошадей до села «Проходы», и дети добрались до дому, вне себя от счастья от всего пережитого.
Захлебываясь, рассказывал Миша о спектакле, и изображал отцу свою роль. Марья Тимофеевна заплакала от радости. Семен же Григорьевич скептически спросил:
— Ну-ну! И все вы так играли?
— Все! А я лучше всех.
— И вас хвалили?
— Хвалили.
— И учитель был доволен?
— Очень доволен.
Тут Семен Григорьевич едко усмехнулся и промолвил:
— Дураки вы, дураки! За такую игру и всех вас, и учителя выдрать бы розгами.
Семен Григорьевич Щепкин был, как мы знаем, старый театрал. Не даром хаживал он на галерку Большого театра в Петербурге и даже смотрел спектакли в Эрмитаже!
5
В 1802 году Мишу Щепкина привезли в Курск и отдали в губернское училище, приняв по экзамену в третий класс. В училище Щепкин быстро занял место первого ученика. Его ставили в пример нерадивым, и о необычайных способностях сына управителя имениями графа Волькенштейна знал весь город. Даже губернатор Протасов обращал на него особенное внимание и присылал ему в награду к празднику полсотню яиц и пять рублей ассигнациями денег. Разумеется, все ему завидовали. А приказчик книжной лавки из уважения давал ему читать книги на дом.
Миша блестяще перешел в четвертый класс.
В четвертом классе преподавалась русская словесность, всеобщая и отечественная история, естествознание, арифметика, геометрия, часть механики, архитектуры и физики, языки — латинский и немецкий. Но с 1802 года народные училища реформировались в губернские гимназии. К числу гимназических предметов был отнесен французский язык. Но посещать уроки этого языка не было разрешено детям крепостных. Новый жестокий укол самолюбию! С досады Миша отказался и от дозволенных в его звании латинского и немецкого.
Небезынтересно привести некоторые сведения о положении школьного дела в этот рубежный период русской истории.
Школа XVIII века была, конечно, школой сословной. Только народные училища, созданные Екатериной Второй, были исключением. К этому типу школ принадлежало и то уездное училище в Судже, в котором обучался Щепкин.
«Сословная рознь, сословная обособленность, царившая в обществе, отражалась сильнейшим образом и на школе», говорит один из историков русских учебных заведений — М. Н. Ковалевский (см. «История России в XIX в.», гл. X).
Новые училища, возникшие при Екатерине, брали детей отовсюду. Принимали и солдатских, и купеческих, и мещанских детей, и даже крепостных — детей господских людей. Вот почему невозбранно и обучался Щепкин в Судже, деля парту уездного училища с детьми дворян и чиновников. Но программа этих школ была очень узкой. Ученикам же гимназий нужно было сообщить сведения, «необходимые для благовоспитанного человека», к таковым были отнесены: история, география, математика, физика, естественная история, языки— латинский, французский и немецкий. Так как дети крепостных не могли рассчитывать стать «благовоспитанными людьми», то, естественно, им и был закрыт ход в гимназию! Объясняется это тем, что дворянство не мирилось с прежним положением, допускавшим обучение в народной школе детей разных сословий. Мысль, что дворянские дети встретятся в школе с детьми «подлых званий» и, пожалуй, «переймут их дурные привычки», эта мысль мешала дворянам отдавать детей в народные школы. И дворянских детей было здесь меньшинство — 13–16 процентов всего числа. Но государство было заинтересовано в том, чтобы дворянские дети — будущие чиновники и руководители правительственного аппарата — попадали в школы как можно в большем количестве. Поэтому народная школа резко изменила свой первоначальный характер. Так возник вопрос о недопущении в гимназии крепостных детей. Историк приводит любопытный факт:
«В 1813 году граф Безбородко прислал в Новгород-Северскую гимназию своего крепостного мальчика. Узнав об этом, министр граф Разумовский распорядился «объяснить графу Безбородко, что как в гимназии обучаются большею частью дворянские и другие лучших состояний дети, то не совсем прилично было бы принимать в гимназию господских людей, тем более, что для них, кажется, достаточно учения, преподаваемого в уездном училище».
Если граф Безбородко будет настаивать на своем, пусть отпустит мальчика на волю, тогда можно будет его принять. В заключение министр предписывал о всех подобных случаях сообщать ему.
В гимназии, где было много детей «подлого звания», дворяне не отдавали своих детей. В гимназиях при университетах для дворянских детей было свое дворянское отделение, и благородные с разночинцами не смешивались. Они учились врозь по разным программам.
Чисто сословной была и закрытая школа. Смольный монастырь, основанный в 1764 году, резко распадался на две половины — одну для благородных девиц и другую для мещанских.
«Екатерина хотела воспитать новую человеческую породу и воспитывала сразу две породы — дворянскую и мещанскую. Эти две породы ни в чем не смешивались: их готовили для разных целей и по разным программам, весь склад их жизни был совершенно различный. Благородным девицам предстояло быть украшением общества, блистать в свете, их брали и ко двору. Сообразно с этим, их обучали французской болтовне, музыке, танцам, внушали им правила светского обхождения и учтивости, культивировали их «остроумные замечания»; чтобы заранее приучить их к светской жизни, их вывозили на обеды и вечера к «особам», в самом институте устраивали спектакли, балы, балеты.
Мешанок воспитывали мещанками. Их готовили к совсем иной скромной доле. Им предстояло выйти замуж за мещанина или крестьянина или поступить на место в дворянский дом. Языки и танцы могли им пригодиться в дворянском доме, их учили тому и другому. Но больше всего обучали их «экономии»: уставом требовалось, чтобы при переходе в четвертый возраст воспитанницы могли быть употребляемы ко всяким женским рукоделиям и работам, то есть шить, ткать, вязать, стряпать, мыть и всю службу экономическую исправлять».
Кто обучал в этой сословной школе? Тот же исследователь приводит ряд любопытнейших сведений.
«В элементарных школах арифметике обучали штык-юнкера и сержанты. В главных училищах отставные офицеры, лишенные образования, были директорами, в малых училищах были смотрителями назначенные приказом общественного призрения невежественные купцы и мещане. В Оренбурге директор главного училища приходил в класс «в самом развратном виде, в халате, рубашке и порванных башмаках, делал самые гадкие кривлянья и произносил самые гнусные и непристойные выражения». Зато саратовский директор просил, чтобы ему назначили учителя словесности, «умеющего изъясняться по-французски, притом ловкого, с чистым голосом и красивой наружностью». В Иркутске пришлось прекратить спектакли в пользу бедных учителей и учеников по причине «буйства» учителей и их «непристойного поведения». Обыватели реже видали их трезвыми, чем пьяными, а учитель латинского языка, «имея от природы характер ветреный, любил трезвый хвастать знаниями своими и силой, отчего в обществе бывал довольно несносен, в нетрезвом же виде был предприимчив и дерзок на руку». Чтобы дополнить несколько эту картину, достаточно вспомнить, что в одном из училищ Александра I обучался некогда Павел Иванович Чичиков, а в другом училище позднее смотрителем был гоголевский Лука Лукич.
Теперь о методах. И в школах Екатерины II, и в школах Александра I учебник заучивался наизусть, слово в слово. Австрийская метода, введенная Янковичем, требовала только, чтобы ученик понимал, что он заучивает, а учитель помогал ему это заучивать, зубрежка должна была производиться в классе, а не дома и «совокупно» всем классом, а не каждым врозь, для облегчения зубрежки учитель должен был писать план заучиваемого на доске или еще писать сначала весь текст, а потом — только начальные буквы отдельных слов, например: «Бог всемогущ», потом: «Б. в.». Но и эти требования исполнялись мало. Выражаясь словами одного министерского циркуляра, «во многих училищах науки преподавались без всякого внимания к пользе учащихся, учителя старались больше обременять, чем изощрять память, и вместо развивания рассудка притупляли оный».
«Записки» М. С. Щепкина подтверждают факты, приводимые историком. В Курске, как и всюду, царила зубрежка. Все науки, за исключением математики, закона божьего и церковной истории, диктовались учителем в виде вопросов и ответов в следующей, например, форме:
Вопрос: «Какая причина войны троянской?»
Ответ: «Причина была следующая: потомки Пелопоннесовы. усилившись в разных странах Пелопоннеса, не могли забыть обиды, которую учинили трояне предку их Пелопсу лишением его владений во Фригии и изгнанием из оной», и т. д.
Такие вопросы и ответы ученик должен был выучивать слово в слово, и горе тому, кто осмелился бы изменить хоть слово!..
У учителя словесности было любимое слово «ракалия», которое произносилось через «о». Наставление, делаемое им ученикам, было такого рода:
— Когда тебе, рокалия, предлагают на экзамене вопрос и ты его не знаешь, то вместо него отвечай из той же науки, что знаешь. Тогда подумают, что не выслушал вопроса, а не то, что ты, рокалия, его не знаешь!…
Мише Щепкину, обучавшемуся как раз в эту эпоху укрепления в школе сословного принципа, не позволили в 1803 году изучить французский язык, но положение не изменилось к лучшему и через тридцать лет. Особый указ императора Николая Павловича завершал начатое при Александре I изгнание людей «подлого сословия» из «храмов» науки. Указ этот настолько любопытен, что его стоит привести целиком.
«До сведения моего дошло, между прочим, что часто крепостные люди, из дворовых и поселян, обучаются в гимназиях и других высших учебных заведениях. От сего происходит вред двоякий: с одной стороны сии молодые люди, получив первоначальное воспитание у помещиков или родителей нерадивых, по большей части входят в училище уже с дурными навыками и заражают ими товарищей своих в классах, или через то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии заведения, с другой же, отличнейшие из них по (прилежности и успехам приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные тягости оного для них становятся несносны и от того они нередко в унынии предаются пагубным мечтаниям или низким страстям. Дабы предупредить такие последствия по крайней мере в будущем, я нахожу нужным ныне же повелеть:
1) чтобы в университетах и других высших учебных заведениях, казенных и частных, находящихся в ведомстве или под надзором министерства Народного просвещения, а равно и в гимназиях и в равных с оными по предметам преподавания местах принимались в классы и допускались к слушанию лекций только люди свободных состояний, не исключая и вольноотпущенных, кои представят удостоверительные в том виды, хотя бы они не были еще причислены ни к купечеству, ни к мещанству и не имели никакого иного звания;
2) чтобы помещичьи крепостные поселяне и дворовые люди имели, как и доселе, невозбранно обучаться в приходских и уездных училищах, и в частных заведениях, в коих предметы учения не выше тех, кои преподаются в училищах уездных, и
3) чтобы они также были допускаемы в заведения, существующие или впредь будут учреждаемы казною и частными людьми для обучения сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусствам, нужным для усовершенствования или распространения земледельческой, ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и в сих заведениях те науки, которые не служат основанием или пособием для искусств и промыслов, были преподаваемы в такой же мере, как и в уездных училищах».
Жажда знания была у Миши Щепкина так сильна, что, конечно, никакими указами нельзя было ему помешать учиться и читать. И он запоем читает книги. В доме графа Волькенштейна, проводившего зиму обыкновенно в городе, Миша случайно встретился с известным писателем екатерининской эпохи Богдановичем, автором поэмы «Душенька». Богданович заинтересовался мальчиком и, узнав, что он любитель книг, предложил ему пользоваться его домашней, очень обширной библиотекой. Богданович был особенно доволен аккуратностью Миши, который во-время возвращал книги и никогда их не пачкал. Он наставлял Мишу: «Учись, душенька, учись, это и в крепостном состоянии пригодится. А если чего не поймешь, так ты, душенька, не стыдись, опроси у меня, я тебе, может быть, и помогу».
Миша Щепкин прочел кучу книг, главным образом исторических, и Богданович охотно вступал с ним в беседу о прочитанном. Только, к большому удивлению Миши, Богданович, несмотря на просьбы каждый раз отказывал ему в выдаче одной только книги из огромной библиотеки — собственной поэмы «Душенька».
— После, после, еще успеешь!
Но Миша не успел: в 1803 году Богданович умер.
В доме графа Миша занимал несколько необычное положение: он стал нечто в роде домашнего секретаря, переписывая барину необходимые бумаги и ведя его корреспонденцию. А когда Волькснштейн предпринял размежевание своей земли, то Мишу назначили помощником землемера, и он все лето провел с астролябией в руках. Довелось ему выступить и в качестве оратора: к моменту преобразования школы в гимназию в Курске ожидался попечитель учебного округа С. О. Потоцкий. Приветственную речь поручили сказать Мише. Это было в то лето, когда Миша, вместо того чтобы поехать в имение к графу, должен был остаться в городе, выполняя приказание директора школы Кологривова, поручившего Щепкину срисовать большой план Курской губернии. Это было очень скучное лето, а тут еще новая забота: приготовить приветственное слово! В эти дни произошел один досадный эпизод: Миша, который был всегда на привилегированном положении в доме графа, обедал и ужинал с дворецким — это было знаком особого внимания к «первому ученику». Но дворецкий сменился, был назначен новый, раньше служивший приказчиком в селе Красном. Этот приказчик имел давние счеты с Семеном Григорьевичем Щепкиным — главным управляющим. Управитель уличил приказчика в плутнях. Теперь, когда бывший красновский приказчик стал курским дворецким, он решил выместить обиды от Щепкина-отца на его сыне, и первое, что он сделал, — приказал посалить Мишу за общий стол, вместе с дворником и кучером. Миша был оскорблен смертельно и из гордости решил вовсе не обедать в людской. У него водились кое-какие деньжонки, так как он переписывал по заказу богатых товарищей школьные записки. И вот вместе с башмачником Петей стал он кормиться за собственный кошт. На денежку салату, на денежку пивного уксуса, а на копейку конопляного масла. Очень наскучило это однообразие и не слишком уж питательная пища. Нежданно разжившись двадцатью пятью копейками — а это уж был целый капитал, — Миша решил устроить пир: купил себе на уху великолепных ершей — за гривенник два десятка, десять копеек уплачено сбитенщику, отпускавшему сбитень в кредит, а пять копеек было оставлено на салат. Уху согласилась сварить кухарка Аксинья. Так как Миша с детских лет был сладкоежка и уже давно понимал вкус к хорошим вещам — черта, которая у него осталась на всю жизнь, — то он дал поварихе целое наставление — не пересолить и не переварить рыбы.
Пришел час обеда.
— Что, Аксинья, уха готова?
— Давно готова.
Миша пришел с товарищем, соблазнившимся ухой и добавившим к пиру большой калач.
Аксинья накрыла в особой комнатке подле кухни. Вот подали горшочек с ухой. Пар от ухи привел в неописанную радость. Попробовал Миша: чудо, как хороша уха, — вся заплыла жиром!
— Где же ерши? — спрашивает лакомка.
— А они в ящике, в столе. Я нарочно их выложила на тарелку, чтобы не разварились.
Съев по тарелке жидкости, пирующие решили приняться за ершей. Отодвигает Миша ящик стола и, о ужас, — над последней рыбкой сидит кошка и преспокойно ее докушивает. Миша окаменел, впав в какое-то странное оцепенение. Товарищ хохотал, как сумасшедший, а он не сводил глаз с кошки, которая, докушавши последний кусочек, сладко облизывалась. Опомнившись, Миша, невзирая на ее умильные взгляды, взял ее за шиворот и так сильно ударил о каменный пол, что убил насмерть. Так и не довелось покушать ему ершей!
Словом, в это лето — при переходе в четвертый класс с наградой «за прилежание» — Миша испытывал одни огорчения: на вакации в деревню не пустили, заставили сидеть в душном классе, чертить карту, дворецкий смертельно обижает своей грубостью, а тут еще речь говори!
Но он все-таки ее сказал. Приехал попечитель, собрали всех бывших в городе школьников, и Миша, сделав поклон, начал приветственное слово:
— Ваше высокографское сиятельство! Когда вседействующий промысел соблаговолит на какое-либо государство излить свои милости, то обыкновенно посылает мудрых начальников…
И дальше все в таком же стиле.
На другой день он ехал в деревню — вез графу благодарственное письмо от директора и за карту, и за речь. Но здесь и кончается курс наук Миши Щепкина.
6
Учеба кончилась, но не иссякла пытливость юноши, перед которым открывали прочитанные книги целый мир, так непохожий на курское житье-бытье. Книги, рисование и секретарские обязанности — вот чем стали заполняться дни Миши Щепкина. Важный графский управитель— Семен Григорьевич, вершитель крестьянских и дворовых судеб, перемещавший дворецких и экономов и являющийся чем-то в роде министра внутренних дел в обширной вотчине, не мог бы пожаловаться на сына: пока все шло так, о чем он втайне мечтал, тая честолюбивые замыслы о Мишином будущем. Семен Григорьевич гордился сыном: еще бы, доверенное лицо у барина, который поручает ему важную переписку! Мало того, Мишу лично знает губернатор Протасов и вельможа Мещерский!
Не надо, однако, преувеличивать Мишино благополучие. Полулакей и прославившийся на весь город остротой ума первый ученик, фаворит графа и предмет затаенной зависти всей дворни, Миша должен был чувствовать противоречивость своего положения, случайность своих успехов и непрочность тех милостей, которых он удостаивался и от директора гимназии и от самого барина. Директор ласкает способного ученика и поручает говорить ему торжественную речь в честь попечителя округа, но ведь дальнейшего хода в гимназию у Миши нет — он крепостной, которому запрещено учиться в четвертом классе, хватит с него и трехклассной премудрости! Его выделяет из всей дворни граф, но в глазах барина — он не больше, чем курьезное исключение из общего правила: раб одаренный блестящими способностями среди прочих рабов Прошек, Ванек и Андрюшек, годных лишь для мелких услуг. Миша не раскуривает барину чубук и Мишу не секут на конюшне, но вот понадобилась даровая рабочая сила — и Мишу сделали помощником землемера. Некому в городе поручить скопировать карту губернии, — и засадили в душный класс того же Мишу. В конце концов, Мишу лелеют сегодня для того, чтобы, быть может, завтра больно уколоть в самое чувствительное место. И разве мало перенес Миша этих уколов? Вон суджинский городничий совал ему руку для поцелуя, а других школьников сам целовал! А этот новый дворецкий, разве не в виде особой издевки посадил он Мишу за общий стол в людскую с лакеями и кучерами? В кругу противоречий, в которых было бы трудно разобраться неокрепшему сознанию, протекает юность Миши.
В деревне граф Волькенштейн затеял домашний спектакль. Крепостные люди разыгрывают пьесу, в которой зло осмеиваются многие стороны всего крепостного уклада. А барский любимец — полулакей, полусекретарь — Миша Щепкин играет в этом спектакле роль надутого и глупого барина, зараженного пристрастием ко всему французскому. Пьеса называется «Несчастье от кареты», и ее содержание стоит привести для того, чтобы убедиться, каким в сущности парадоксом должна была прозвучать эта сатира на господ в исполнении дворовых людей.
«Пьеса открывается радостью молодого крестьянина Лукьяна, мечтающего о том, как он будет счастлив через час, когда женится на своей невесте Анюте. Также рада предстоящей свадьбе и сама Анюта. Лукьян только что вернулся из города, и вот Анюта спрашивает его, что он там видел. На это Лукьян отвечает: «Шум, великолепие. Золото реками льется, а счастья ни капли. Словом: все то же видели мы с тобой, когда там жили у старого барина, который нас воспитывал, как детей своих, и после смерти которого мы брошены, но я тебя люблю и тобой любим, мне не надо целого света».
Радость влюбленных нарушает своим приходом отец Анюты, Трофим, приносящий известие, что приказчик приказал отложить их свадьбу. Это дает повод Лукьяну к следующему весьма знаменательному восклицанию: «Боже мой, как мы несчастливы! Нам должно пить, есть и жениться по воле тех, которые нашим мучением веселятся и которые без нас бы с голоду померли».
Когда является на сцену сам грозный приказчик, Трофим старается его умилостивить сначала овцой, а потом и бараном, но он неумолим и приказывает взять Лукьяна в силу следующего приказа, полученного от помещика г. Фирюлина: «О ты, которого глупым и варварским именем Клементия доныне бесчестили, из особливой моей к тебе милости за то, что ты большую часть крестьян одел по-французски, жалую тебя Клеманом и впредь повелеваю всем не офансировать тебя словом Клементия, а называть Клеманом. Между тем, знай, что мне прекрайняя нужда в деньгах. К празднику надобна мне необходимо новая карста — хоть у меня и много их, но эта вывезена из Парижа, вообрази себе, господин Клеман, какое бесчестие не только мне, да и вам всем, что ваш барии не будет ездить в этой прекрасной карете, а барыня ваша не купит себе тех прекрасных головных уборов, которые также прямо из Парижа привезены. От такова стыда честный человек должен удавиться. Ты мне писал, что хлеб не родился: это дело не мое, и я не виноват, что и земля у нас хуже французской. Я тебе приказываю и прошу: не погуби меня — найди, где хочешь денег. Теперь ты уже Клеман и носишь по моей синьорской милости платье французского Балье, и так должно быть тебе умнее и проворнее. Мало ли есть способов достать денег? Например, нет ли у вас на продажу годных людей в рекруты. Итак, нахватай их и продай».
Отдавая Лукьяна в рекруты, приказчик хочет этим воспользоваться для своей выгоды и завладеть Анютой. Это возмущает Лукьяна, и он поет следующую арию:
Доколе стану жить, Того не может быть, Когда с душою развяжуся, Тогда, тогда ее лишуся. А прежде нет, не может быть, Чтобы ее меня лишить. Ко мне осмелься приступить. Увидишь то, кто все теряет. Тот все на свете презирает.Лукьян просит шута помочь в беде и обещает за это отдать свои последние деньги. Перед приездом гг. Фирюлиных шут учит и Лукьяана и Анну нескольким французским словам, надеясь, что это им может очень помочь.
Г-н Фирюлин при самом своем появлении на сцену высказывает полное недовольство тем, что его окружает: «Варварский народ! Дикая сторона! Какое невежество! Какие грубые имена! Как ими деликатес моего уха повреждается! Видно, что мне самому приняться за экономию и переменить все названия, которые портят уши. Это первое мое дело будет». Фирюлина вторит своему супругу: «Я удивляюсь, душа моя, наша деревня так близка от столицы, а здесь никто по-французски не умеет, а во Франции от столицы верст за сто все по-французски говорят». Дальнейшие сравнения русской жизни с французской приводят г. Фирюлина к такому выводу: «Когда посмотришь на нас, великую разницу увидишь. Не правда ли? А мы еще, а мы — ах! ничто перед французами». Это дает в свою очередь повод к следующему замечанию шута: «Стоило ездить за тем, чтобы вывести одно презрение не только к землякам, но и к самому себе». На это г. Фирюлин считает необходимым возразить: «Довольно бы, правду сказать, было и этого, но мы с женой вывезли еще много диковинок для просвещения грубого народа: красные каблуки я, а она чепчики». По этому поводу г-жа Фирюлина с грустью замечает, что почти все чепчики уже перевелись, а на покупку новых нет денег, но супруг утешает ее уверением, что Клеман им поможет, в награду за что ему достанется Анюта. Присутствующий при этом шут продолжает все с той же откровенностью высказывать господам свои мысли: «Вывезли вы много диковинок, а жалости к слугам своим ничего не привезли, знать там этого нет». Г-н Фирюлин с негодованием и недоумением восклицает: «Жалости к русским? Ты рехнулся, Буфон. Жалость моя вся осталась во Франции, и теперь от слез не могу воздержаться, вспомнив Париж». Это переполняет чашу терпения шута, который и говорит: «Теперь живите, как хотите, я вам сказываю, что от вас уеду, и можно ли при вас жить? Того и бойся, что променяют на красный французский каблук». Но Фирюлин ни за что не согласен расстаться с шутом. Тот пользуется случаем и говорит, что Лукьян, которого приказчик решил продать, говорит по-французски. Это приводит супругов в крайнее удивление, которое еще более усиливается, когда Анюта, а затем Лукьян в ариях выражают свою любовь. По этому поводу г. Фирюлин говорит: «Никогда тому бы не поверил, чтобы и русские люди могли так нежно любить: я вне себя от удивления, да и не во Франции ли я? Что он чувствует любовь, тому не так дивлюсь: он говорит по-французски, а ты, девчоночка, а ты?»
Когда г. Фирюлин услыхал от Анюты, что и она понимает и говорит по-французски, его удивлению и восторгу нет конца, п он торжественно им заявляет: «Вы меня этими словами в такую жалость привели, что я от слез удержаться не могу». И он предлагает своей супруге здесь же соединить браком удивительных крестьян, владеющих французским языком: вместо Лукьяна будет продан кто-нибудь другой, а ему «надобен такой лакей, который бы знал по-французски и чтоб ездил за ним», и спрашивает Лукьяна, соглашается ли он никогда не говорить по-русски? Лукьян торжественно обещает исполнять это требование. По этому поводу шут поет следующую арию:
Какая это радость. Какая сердцу сладость. Коль стоя позади. Не говоря по-русски И вместо, чтоб кричать «поди», Кричать он будет по-французски. Какая это радость. Какая сердцу сладость. Как станет он о чем шуметь. На улице никто не будет разуметь.Пьеса заканчивается свадьбой Лукьяна и Анюты, причем присутствующие, подводя итог всему происшедшему на сцене, поют:
Вас безделка погубила. Вас безделка и спасла.Господа, которые у графа Волькенштейна смотрели этот спектакль, вероятно, потешались не только бойкостью Миши Щепкина, но и тем, что именно этот графский «секретарь» — крепостной мальчик в злой карикатуре изображает важного барина.
Но ведь и Екатерина Вторая переписывалась с Вольтером и умно издевалась над многими русскими обычаями, будучи русской императрицей, самодержавные коготки которой были достаточно остры. Либеральная болтовня с Вольтером, однако, не помешала ей бросить в каземат обличителя зла русской жизни — Радищева, автора «Путешествия в Москву»! Вместе с императрицей хохотали над грубостью русской жизни и помещики, читавшие энциклопедистов и поровшие на конюшне своих крепостных мужиков. Что же удивительного, что на домашнем театре графа Волькенштейна его дворовые люди играют пьесу, обличающую помещиков в глупой чванности и в нелепом пристрастии ко всему иностранному?
Этого «господина Фирюлина» привезли в деревню из города для участия в домашнем графском театре на одной из тех сорока подвод, на которых была доставлена в Курск пшеница, запроданная орловским купцам. По ссыпке пшеницы на этих же подводах подвезли в деревню оркестр музыкантов, хор певчих, несколько официантов и Мишу Щепкина.
7
В старости Щепкин любил говорить, что он знает русскую жизнь «от лакейской до дворца». Он был еще мальчиком, когда началось это его познание русской действительности. Его личная судьба поставила его в положение наблюдателя. Однажды он должен был прислуживать на обеде, который давал командир расквартированного в Курске полка. Обед был назначен в лагерях. Приготовив все, что нужно, Миша пошел по палаткам знакомых офицеров, которые, как и все в городе, его любили и ласкали. В одной палатке он застал горячий спор: офицер уверял своих приятелей — и в этом шел на пари, — что у него в роте солдат Степанов выдержит тысячу палок и не упадет. Этого офицера Миша знавал, как благородного человека. «Благородный» человек послал за солдатом. Явился мужчина, вершков восьми, широкоплечий и костистый. Офицер не строгим голосом, а так, будто дружески, предложил ему:
— Степанов, синенькую и штоф водки. Выдержишь тысячу палок?
— Рады стараться, ваше благородие.
Щепкину казалось, что он обезумел. Незаметно вышел он из палатки, и когда вышел оттуда и солдат, он не выдержал и спросил:
— Как же ты, братец, на это согласился?
А солдат объяснил дело просто:
— Эх, парнюга, все равно — даром дадут. — Махнул рукой и пошел как ни в чем не бывало.
Тогда Миша пустился на фокус: он вошел в палатку командира, где уже собралось много гостей и стал смеяться. Командир спросил:
— Чему ты, милый Миша, смеешься?
— Меня, ваше сиятельство, рассмешили ваши офицеры. — И рассказал ему об офицерском пари. Все общество захохотало:
— Ах, какие милые шалуны!
Другие же отозвались:
— А каков русский солдат? Молодец!
Нашлось только одно существо, которое посмотрело на этот случай человечески, — помещица Анна Абрамовна Анненкова. Она скакала князю:
— Князь, пожалуйста, хоть для своего рождения не прикажи. Правда жалко, все-таки человек.
Князь послал Мишу:
— Миша, пойди позови сюда шалунов.
Пришли офицеры, князь сказал им:
— Что вы, шалуны, там затеяли какое-то пари? Ну, вот дамы просят оставить это. Надеюсь, что просьба дам будет уважена.
Не менее выразителен рассказ Щепкина об одной курской даме — собой весьма прекрасивой. Дама эта была в вечной тоске. Весь город сожалел ее в ее болезни, а медицина не могла найти средства облегчить ее. Но случай отыскал лекарство.
Однажды, когда больная особенно страдала от меланхолии, одна крепостная ее девка принесла оконченную работу, весьма дурно сделанную; барыня, вместо выговора, дала ей две пощечины, и странное дело — через несколько минут почувствовала, что ей как-будто сделалось легче. Она это заметила, но сначала приписала случаю. Но на другой день тоска еще более овладела ею, и, будучи в безвыходно-страдательном положении, она, бедная, вспомнила о вчерашнем случае, и, не находя другого, решилась попробовать вчерашнее лекарство. Пошла в девичью и к первой лопавшейся на глазе девке придралась к чему-то и наградила ее пощечинами, и что же — в одну минуту как рукой сняло, а потом каждый день начала лечиться таким образом, и общество заметило, что она поправляется. Однажды графиня Волькенштейн[2] высказала ей свою радость, видя ее в гораздо лучшем положении. Барыня в благодарность за это дружеское участие открыла ей рецепт лекарства, который так помог.
Через некоторое время исцелившаяся дама приезжает к графине очень расстроенной. Графиня спросила: «Мария Александровна! Что с вами, вы так расстроены?» И бедная, залившись слезами, стала жаловаться, что девка Машка хочет ее в гроб положить. «Каким образом?» — спросила графиня. «Не могу найти случая дать ей пощечину. Уже я нарочно задавала ей и уроки тяжелые и давала ей разные поручения, все мерзавка сделает и выполнит так, что не к чему придраться. Она, правду сказать, — чудная девка и по работе, и по нравственности, да за что же я, несчастная, страдаю, а ведь от пощечины она не умерла бы!» Посидевши немного и высказав свое горе, она уехала, и графиня при всей своей доброте все-таки об ней сожалела. Но дня через два опять приезжает Мария Александоовна веселая и как будто бы в каком-то торжестве, обнимает графиню, целует, смеется и плачет от радости и, даже не дожидая вопроса графини, сама объясняет свою радость: «Графинюшка! Сегодня Машке две пощечины дала». Графиня спросила: «За что? Разве она что нашалила?» — «Нет, за ней этого не бывает. Но вы знаете, что у меня кружевная фабрика, а она кружевница, так я такой ей урок задала, что нехватит человеческой силы, чтобы его выполнить».
И графиня при всем участии к больной не могла не сказать ей в ответ: «И вам не совестно?» — «Ах, ваше сиятельство! Что же мне умереть из деликатности к холопке? А ей ведь это ничего, живехонька— как ни в чем не бывало!» Такой разговор происходил в воскресенье, а во вторник Мария Александровна опять приезжает к графине расстроенная и почти в отчаянии и, входя на порог, кричит, что девка Машка непременно хочет ее уморить. Графиня спрашивает, что случилось. «Как же, графиня! Представьте себе, вчера такой же урок задала — что же?… значит, мерзавка не спала, не ела, а выполнила, — и все это только чтобы досадить мне! Это меня гак рассердило, что я не стерпела и с досады дала ей три пощечины. Мерзавка! говорю ей, значит, ты и третьего дня могла выполнить, а по лености и из желания мне сделать неприятность не выполнила, гак вот же тебе! И, вместо двух, дала три пощечины, а со всем тем не могу до сих пор притти в себя… И странное дело: обыкновенное лекарство употребила, а страдания не прекращаются».
8
«Страстишка к театру шла также своим путем», — свидетельствует Щепкин в своих «Записках», в том их отрывке, который отдан изображению его жизни в Курске. Этой «страстишке», истоки которой мы можем проследить с памятного представления сумароковской «Вздорщицы» в Судженском уездном училище, суждено было стать основным влечением всей щепкинской жизни. В Курске целый ряд обстоятельств способствовал развитию юношеской влюбленности Щепкина в театр. Его школьным товарищем по третьему классу губернского училища был ученик Городенский, близкий родственник содержателям театра, Барсовым.
В эту эпоху в губернских городах уже играли профессиональные труппы актеров. Тот процесс перехода вотчинного хозяйства к новым экономическим формам, который резко наметился к концу XVIII века, заставил помещика искать выгод в коммерческих предприятиях. Одним из таких предприятий была театральная антреприза: помещик снимал театральное здание и начинал — обычно силами своих крепостных людей, давать регулярные спектакли, публичные и платные. Бывало и так, что антрепренером являлся крепостной человек, находившийся на оброке. В Курске театр был основан по почину местного дворянства еще в 1792 году. Несколько лет играли крепостные труппы, привозимые окрестными помещиками, а затем театр перешел к братьям Барсовым. Из трех братьев старший, Михаил Егорыч, был уже на воле, а младшие оставались в крепостной зависимости. Миша Щепкин, который был вхож в семейство Барсовых благодаря своей дружбе с Городенским, не мог не заметить, что Барсовы пользовались, хотя и были крепостные люди, всеобщим уважением. С ними господа обходились совсем иначе, чем со своими крепостными. Миша Щепкин смутно понимал, что есть нечто в театральном деле такое, что заставляет относиться к нему не как к простой забаве. Миша догадывался, что театр выполняет какое-то просветительное назначение.
Близость через Городенского к Барсовым дала Мише возможность стать постоянным посетителем театра. Он не только бесплатно хаживал на галерку, но и помогал иной раз суфлеру. Кроме того, он переписывал роли для актеров и ноты музыкантам. В оркестре Барсовых служили крепостные музыканты графа Волькенштейна, и Миша не раз относил тяжелые их трубы и контрабасы в театр, за что получал право оставаться в оркестре.
Участие в любительских представлениях на домашнем театре графа Волькенштейна во время летних вакаций еще более разжигало «страстишку» к театру:
Осенью 1805 года семейство графа Волькенштейна, а с ним вместе конечно и Миша Щепкин — ему было в ту пору четырнадцать лет, — переехало из деревни в город необычно поздно. А надо заметить, что Мише было обещано Барсовыми место суфлера, но так как он запоздал с возвращением в Курск, то содержатели театра договорились с другим лицом. Огорчению Миши не было границ. Но случай, о котором, как о «спасителе», всегда с такой благодарностью вспоминает Щепкин в своих «Записках», помог ему и на этот раз. Однажды в ноябре месяце актриса театра Барсовых Пелагея Гавриловна Лыкова приехала к господам Щепкина с бенефисной афишей. Тогда был еще обычай давать актерам так называемые бенефисы, то есть спектакли, чистый сбор с которых, за покрытием обычных вечеровых расходов, шел в пользу бенефицианта. Естественно поэтому, что. каждый бенефициант старался продать билетов на возможно большую сумму, причем почтенным лицам в городе эти билеты развозились актерами лично на дом, в верном расчете на то, что «уважаемое лицо», польщенное визитом, заплатит за билет раза в два больше его назначенной цены. И на какие только унизительные приемы ни пускались актеры ради вот таких подачек! Известен рассказ об одном талантливом актере, который в совершенно шутовском виде являлся в дома «ценителей искусства» и, возложив на лысую голову почетный билет, вползал в кабинет покровителя.
Пелагея Егоровна Лыкова была приветливо встречена графом Волькенштейном, который незамедлительно приобрел у нее билет на бенефис, заплатив десять рублей ассигнациями, а цена ему была всего лишь полтора рубля.
В знак своего особого расположения к актрисе граф Волькенштейн, призвав своего «секретаря» Мишу, приказал ему:
— Проводи госпожу Лыкову а буфетную и скажи Параше, чтобы она напоила ее кофеем.
В то время не было в обычае угощать актрис в гостиных. Актеры занимали в обществе не такое положение, чтобы их можно было сажать за барский стол! Актеры были люди почти бесправные, по закону лишенные возможности получать права гражданства, причем чиновники, поступившие на сцену, даже лишались приобретенных на службе званий. Долгое время священники отказывались хоронить умерших лицедеев на кладбищах, отводя им место за оградой, где по обычаю зарывали самоубийц. Еще меньше прав имели актеры крепостные. Один театрал той эпохи рассказывает в своих воспоминаниях, что его очень удивило, что в афишах перед фамилиями одних участвующих обозначены: «господин» или «госпожа», а перед другими ничего не поставлено. Ему объяснили, что господином или госпожой являются актеры свободного состояния, а лишенные этих отличительных признаков в виде «г» и «г-жа» — крепостные, с которыми вообще нечего церемониться. Вольного актера за проступки наказывали штрафом, или — в исключительных случаях — сажали под арест, а крепостного актера можно поучить и другим способом, то есть посечь на совершенно законном основании. История театра двадцатых-тридцатых годов XIX столетия отметила немало случаев таких «внушений», учиненных над крепостными актерами, игравшими в труппах даже императорских театров.
Граф Волькенштейн, как человек добродушный и, по гвардейским своим воспоминаниям, всегда с особой нежностью относящийся к театру, был вполне деликатен, именуя актрису Лыкову госпожой и, вместе с тем, он был вполне последователен, как человек своего века, отослав актрису пить кофе в людскую!
Миша повел Пелагею Гавриловну к Параше. За барским кофейником г-жа Лыкова поделилась с Мишей своей тревогой: бенефис объявлен на завтра, а еще неизвестно — состоится ли, так как играющий главную роль актер Арепьев прислал записку из трактира, в которой извещает, что все свое платье он проиграл и обретается в одной рубашке. Ему нужно прислать денег для выкупа платья, а если денег не пришлют, и играть он не сможет: не в чем. На беду, этот Арепьев уже все жалованье забрал вперед, и Барсов заявил, что никаких денег он ему не пошлет. Как быть: ведь Арепьев в бенефисной пьесе «Зоя» играет главную роль — почтаря Андрея!
Миша набрался храбрости и заявил, что эту роль, которую прекрасно знает, так как суфлировал «Зою» в прошлом году, он берется сыграть.
Подивилась этому предложению Пелагея Гавриловна, но узнав, что Миша исполнял на домашнем театре такие роли, как Фирюлина и Инфанта, решила упросить Барсова позволить попробовать Мише Щепкину заменить Арепьева.
В страстном нетерпении ожидал Миша окончательного решения. Условились, что Барсов в случае согласия пришлет Мише пьесу. Шли часы, а пьесу не присылали. Тогда он сам заявился к Михаилу Егоровичу Барсову. Оказалось, что он предложению Пелагеи Гавриловны обрадовался и согласен дать Мише роль, не послал же он книгу за недосугом. Барсов вручил Мише пьесу, и Миша, не помня себя от счастья, полетел домой. Дома он немедленно принялся за зубрежку и скоро знал роль на зубок. Вечером он отправился к Лыковой. Пелагея Гавриловна, словно желая помучить Мишу, у которого сердце готово было выпрыгнуть из груди, томила его то ожиданием самовара, то долгим чаепитием. Наконец, попросила она его прочесть роль.
Миша вручил ей книгу и, словно огонь пробежал по всему его телу. Но это был не страх — страх не так выражается, — это был, как объясняет Щепкин, «внутренний огонь», от которого он «едва не задыхался, и вместе с тем ему было так хорошо, что он едва не плакал от удовольствия». Он прочел ей роль так твердо, так громко, так скоро, что она не могла успеть сделать ему ни одного замечания, только поцеловала его с такой добротой, что он уже не помнил себя, и слезы полились у него рекой. Это очень удивило Лыкову.
— Что с тобой? — спросила она.
— Простите, Пелагея Гавриловна, это от радости, от удовольствия.
— Что ж, мой дружок, неужели ты обрадовался тому, что тебя поцеловала старуха? Будто тебе поцелуй старухи так дорог?
— Дорог потому, что первая моя награда за малый труд, который по доброте своей так оценили. И этого я никогда не забуду.
Этот вечер, согретый таким несдержанным волнением и горячими слезами, закончился рядом полезных практических советов. Г-жа Лыкова просила Мишу не так торопиться, дома еще раз прочитать роль и придать некоторым фразам больше выразительности.
— Ну, прощай, а так как ты дорожишь поцелуями старух, то вот тебе и еще поцелуй, — сказала на прощанье Пелагея Гавриловна.
Но этот поцелуй, вспоминает Щепкин, почему-то не произвел на него никакого впечатления.
Крепостной актер в трактире.
Рис. К. Трутовского (Театральный музей мм. А. Бахрушина).
Утром он проходил роль с Барсовым, который посоветовал ему не говорить так быстро и меньше махать руками. Мише было обещано, что за ним пришлют, когда начнется репетиция. Этого приглашения Миша ждал, как легко себе представить, с особенным нетерпением. Вся дворня была в курсе дела, и уже немало насмешек слышал Миша на свой счет от своих недругов, которые заявляли, что все это выдумки, и никто не звал Щепкина играть в театре. Но вот явился посланный от Барсовых и во всеуслышанье, войдя в залу, спросил:
— Где тут у вас Щепкин? Его ждут на репетецию.
Это была минута Мишиного торжества и конфуза его врагов.
Воспитанный в правилах поведения, приличествующих дворовому человеку, Миша явился к графу испросить у него разрешения отлучиться из дому:
— Позвольте мне, ваше сиятельство, отправиться на репетицию: я сегодня играю в театре роль почтаря Андрея в пьесе «Зоя».
Граф расхохотался:
— Браво, браво, Миша, смотри не осрамись. Я буду в театре, и если хорошо сыграешь, то… ну, да тогда узнаешь.
Графиня же прибавила не без ехидства:
— Ну, я думаю, что после того, как ты сыграешь, будешь лениться рисовать мне узоры.
— Нет, ваше сиятельство. Еще лучше зарисую, — ответил Миша, и из этого ответа мы выясняем, что, кроме секретарских обязанностей при графе, выполнял он должность рисовальщика узоров для вышивания при графине.
На репетиции была та же скороговорка и то же махание рук, но, кажется, и Барсов и Лыкова остались Мишей довольны.
Вот час спектакля: Миша в театре — в уборной для актеров. На нем страшные ботфорты, которые были единственными во всем театре и потому приходились на все ноги и все возрасты.
Задержимся немного на содержании той пьесы, в которой дебютировал Щепкин. Она очень выразительна для эпохи и типична для того жанра драматических произведений, которые были тогда в моде.
«Зоя» переведена с французского. Она относится к так называемым мещанским драмам, которые в конце XVIII века вытесняли ложноклассические трагедии с их богами и царями в качестве главных героев. Великая французская революция, выдвинув на историческую сцену молодой восходящий класс — буржуазию, настроенную революционно в смысле борьбы своей с отживающим феодально-аристократическим строем, принесла и на театральную сцену пьесы, в которых стали изображаться буржуа, как подлинные герои современности. Простая фабула, рассказывающая о простых человеческих чувствах любви и горя, пришла на смену классической трагедии, в которой героические смертные спорили с богами Олимпа.
Незамысловато содержание и «Зои». Действие происходит на постоялом дворе. Сюда приезжает молодая пара влюбленных: Франваль и дочь некоего Монсандра, который не давал молодым людям согласия на их брак. И когда Франваль похитил невесту, отец бросился за беглецами в погоню, настиг их на этом постоялом дворе. Монсандр отбирает дочь у Франваля и увозит ее домой. Рухнуло счастье влюбленных. Но в дело вмешивается великодушный почтарь Андрей. Он увозит Монсандра с его дочерью, но поколесив изрядно по лесу, возвращается на тот же постоялый двор. Происходит новое объяснение жестокого старика с Франвалем. В пылу объяснения Монсандр стреляет в похитителя дочери, но оказывается, что ловкий почтарь предусмотрительно разрядил ружье злодея. И как полагается в таких чувствительных пьесах — они называются мелодрамой и в самых трогательных местах действие их происходит под музыку — Монсандр неожиданно смягчается и дает согласие на брак. Все счастливы. Хотят вознаградить Андрея, но великодушный почтарь отказывается от награды.
Как играл Щепкин Андрея, этого он совершенно не помнит. По окончании своей роли он ушел под сцену и плакал от радости, как ребенок. Бенефициантка же горячо его благодарила. Благодарил и Барсов. Но, расхвалив, Барсов добавил:
— А все-таки говорил слишком быстро!
Когда Миша вернулся домой, то дворовые люди и музыканты его уже ждали и поздравляли. Позвали его к графу.
Граф захохотал и закричал:
— Браво. Миша, браво. Подойди, поцелуй меня.
И, поцеловав, приказал:
— Вася, подай новый, не шитый триковый жилет.
Вася принес. Граф взял и положил его Мише на плечо.
— Вот тебе в память о сегодняшнем дне.
По заведенному порядку, Миша хотел поцеловать ему руку, но он не дал и, сам поцеловав его в голову, сказал:
— Ступай к Параше, я велел приготовить самовар и напоить тебя чаем.
После чаю, выпитого в порядочном количестве, лег Миша спать и всю ночь бредил спектаклем.
На другой день все происшедшее казалось ему сном, и только подаренный жилет убеждал его в том, что это была подлинная действительность.
«Этого дня я никогда не забуду, ему я обязан всем, всем», — воскликнул старик Щепкин, рассказав в «Записках» этот эпизод своей юности, переломивший всю его судьбу.
Дворовый мальчик, секретарь и рисовальщик с этого вечера вырастает в молодого актера, которого ожидает широкий путь громкой славы.
9
Елена Дмитриевна рассказывала, что жилось ей в доме генерала хорошо, что относились к ней там ласково и что воспитывалась она вместе с дочерьми Чаликова. Она напоминала собою грузинку: темный цвет лица, черные волосы, черные большие глаза. Когда она уже была замужем и жила в Москве, в Петербург приезжала семья одного турецкого паши и отыскивала дочь, пропавшую у них при взятии Анапы. По приметам и по описанию одежды можно было предположить, что отыскивали именно ее.
Щепкин при первой же встрече пленился красотой турчанки и со своей стороны также очень ей понравился. Но Михаил Семенович скрыл от невесты, что он крепостной. Молодой актер, пользовавшийся таким вниманием публики не захотел грубой правдой разрушить то возвышенное представление, которое складывалось о нем у Елены Дмитриевны. Скоро, конечно, правда обнаружилась, однако Елена Дмитриевна, дав слово жениху, осталась ему неизменной, несмотря на весь ужас своего положения: свободная, выходя замуж за Щепкина, она делалась крепостной графа Волькенштейна.
Ей было тогда семнадцать лет, а Михаилу Семеновичу исполнилось двадцать четыре года.
В Курске Щепкин переиграл множество ролей. Им, как говорил С. Т. Аксаков, «затыкали все прорехи малочисленной труппы и скудного репертуара, оркестр прозвал его «контрабасной подставкой». В пьесе «Железная маска» Щепкин, начиная с часового, дошел до маркиза Лувра, а в пьесе «Рекрутский набор» переиграл все роли, кроме молодой девушки Варвары». Впрочем, нужно прибавить, что он исполнял и женские роли — не раз выезжал на сцену бабой-ягой на ступе с помелом и появился в роли няньки Еремеевны в «Недоросле». Тогда был такой сценический обычай, чтобы эту роль играл мужчина, — обычай этот заимствован у итальянцев, в импровизированных комедиях, их народного театра, буффонные, то есть ярко комические женские роли исполнялись актерами, что придавало, конечно, особую, как говорится, гротесковую выразительность.
В 1816 году театр в Курске распался. Негде было играть: дом дворянского собрания, в котором давались спектакли, стали ремонтировать. Барсовы решили дело прекратить. Щепкин был совершенно уничтожен. В страшном отчаянии поехал он в деревню, где с горя прочитал от доски до доски историю Ролэня в переводе Тредьяковского, — огромную книгу, изложенную варварским языком.
Елена Дмитриевна Щепкина (жена Михаила Семеновича)
Портрет работы В. А. Тропинина (Русский музей в Ленинграде).
В конце июля неожиданно пришло письмо от одного из братьев Барсовых, который, извещая Щепкина, что получил приглашение служить в Харькове у антрепренера Штейна, предлагал Михаилу Семеновичу ехать вместе с ним, так как Штейн поручил ему найти актера для комических ролей. Михаил Семенович был вне себя от радости. Его приводила в восторг возможность служить в таком большом городе, как Харьков, где есть университет и где публика, конечно, понимает и ценит драматическое искусство. Не теряя времени, отпросился он в длительный отпуск у графини Волькенштейн — Гавриил Семенович умер, и распоряжалась всем его вдова. Сборы были не из долгих: отцу и матери было даже лестно, что из всей труппы Барсов пригласил одного Мишу. Значит, Миша что-то представляет собой, если его зовут служить в Харьков!
В Харьков Михаил Семенович вместе с Барсовым приехал 15 августа. Хотя труппа Штейна и считалась одной из лучших на юге России, но Щепкин имел о ней все же преувеличенное представление, которое должно было рассеяться в первый же вечер. Давали «Дон-Жуана». Михаил Семенович наивно полагал, что идет пьеса Мольера, которую он великолепно знал. Но оказалось, что Мольер был сильно «подправлен» переводчиком Петровским, поляком, совсем плохо знающим русский язык, так что получилась такая галиматья, что Щепкин, присутствуя на репетиции, никак не мог понять, как можно было исполнять подобный вздор в университетском городе! В довершение всего и актер Калиновский, игравший Дон-Жуана, говорил с очень сильным польским выговором. Щепкин утешал себя надеждой, что внешняя сторона спектакля, вероятно, будет эффектна. Большое дело, значит, здесь применяют и театральные машины! Ведь в последней сцене должны прилететь фурии и потащить Дон-Жуана в ад!
Он спросил, как будет изображена эта сцена. Калиновский похвастался:
— Раньше это делалось у нас еще лучше: декорация представляла ад, фурии выбегали, вылетали, выскакивали из земли и увлекали Дон-Жуана. Да вот беда: декорацию ада смыло дождями и теперь фурия слетит.
— Ага, значит, будет машина для полета! — подумал Щепкин и попросил Калиновского ее испробовать, но Калиновский заявил, что машина так хорошо устроена, что и пробовать нечего.
Днем, за обедом у Калиновского, выяснились некоторые любопытные подробности: вошел высокий мужчина в длинном синем сюртуке, подпоясанном кушаком, с волосами в скобку, но с бритой бородой, и сказал, обратясь к Калиновскому:
— Пожалуй, Осип Иванович, денег на машину.
— Что за машина? — с любопытством опросил Щепкин.
— А Дон-Жуана поднимать, — и машинист показал «машину»: два толстых ремня с железными толстыми пряжками, у одного ремня пришит был посредине дратвами толстый железный крючок, а у другого — прочное железное кольцо.
— Как же будет действовать эта машина? — спросил, недоумевал, Щепкин.
— Очень просто: поясом подпояшется фурия, у нее крючок впереди, а Дон-Жуан подпояшется другим поясом, у которого кольцо будет назади. Таким образом фурия, спустясь сверху, обхватит одной рукой Дон-Жуана, а другой наденет кольцо на крючок и унесет его. У нас на сцене такой механизм прилажен.
С ужасным нетерпением, рассказывает Щепкин, ожидал он вечера, чтобы пойти в театр. Механизм сводил его с ума. При тщательном осмотре «механизм» обнаружился: от второй до третьей кулисы, посреди сцены положено было с балки на балку круглое бревно и на нем торчали два огромные гвоздя вершка на полтора один от другого. Такое же бревно, на тех же балках и с такими же гвоздями, положено было за кулисами. Машинист пояснил назначение этого «механизма»:
— А вот, извольте видеть, эти два гвоздя на этом бревне за кулисами? Между гвоздями пропустится веревка и протянется на половину сцены, где лежит вот другое бревно, и пропустится так же между двумя гвоздями: изволите видеть? А там фурия будет сидеть на балке, и веревка ей привяжется сзади, и когда фурия будет спускаться, то гвозди не дадут веревке сдвигаться, и фурия опустится прямо.
— Как же, воротом будут поднимать?
— Нет, просто на руках.
— Да ведь это очень тяжело?
— Ничего, за кулисами народа будет много, а к тому же мы веревку смажем салом, оно будет полегче.
Щепкин смотрел спектакль, а перед пятым актом не утерпел, отправился на сцену и увидел, что «фурия» уже сидела на балке, а человек десять стояли за кулисами и держали за веревку. Значит, все в порядке! Михаил Семенович пошел досматривать пьесу.
Вот и финальная сцена: Дон-Жуан в отчаянии призывает фурию. Из-под паддуги показалась пара красных сапог, потом белая юбка с блестками и, наконец — вся фигура фурии. На ней шарф перекинут через плечо, на голове — венец с рогами. Все это бы ничего, но дальше началось нечто изумительное: как только фурия отделилась совсем от балки и повисла на веревке, то веревка от тяжести тела стала вытягиваться и раскручиваться, а так как фурию спускали медленно, то она, прежде чем стать на ноги, перевернулась раз двенадцать, отчего голова у нее, разумеется, закружилась. Заметим, что фурию изображал помощник машиниста — Миньев, для храбрости порядочно выпивший.
Ставши на пол, фурия ничего не видит: одной рукой держит крючок, а другой, размахивая, ищет Дон-Жуана, но идет совсем в другую сторону. Калиновский — Дон-Жуан на весь театр кричит: «Сюда, сюда!» Наконец фурия нашла Дон-Жуана. Обхватывает его одной рукой. а другой старается поддеть кольцо на крючок, но никак не подденет. Калиновский, желая помочь горю, протягивает назад руки, берет свое кольцо. Ничего не помогает! Фурия никак не может сцепиться с Дон-Жуаном, а Дон-Жуан яростно бранится. В публике — шиканье и смех. Кто-то громогласно кричит «браво».
Все это потрясло Щепкина. Выбежав из зала, бросился он на сцену, вырвал у механика веревку и опустил занавес.
И надо было видеть, с каким остервенением Дон-Жуан начал терзать «фурию»» за волосы!
Немало вообще анекдотов сохранила память Щепкина о времени его службы у Штейна. Вот, например, еще один забавный казус, на этот раз происшедший уже с самим Щепкиным.
Михаилу Семеновичу поручили роль в балете. На сцене происходило взятие крепости, и Михаил Семенович, в качестве одного из ее защитников, должен был стоять на сцене и отражать нападающих. Штейн, который был учителем фехтования, объясняя Щепкину его роль, сказал:
— Вы не очень беспокойтесь: я сам буду на лестнице против вас, а вы отбивайте мои удары. Когда же мне будет нужно взойти на стену, я легко вышибу у вас оружие.
На репетиции все прошло гладко, но на спектакле Михаил Семенович так увлекся ролью защитника, что Штейн никак не мог выбить у него саблю, несмотря ни на какие его просьбы, усилия и угрозы. А между тем, по ходу пьесы Штейну надо было уже давно взобраться победоносно на стену! Но что поделать со Щепкиным? Только когда набросились на него с тыла, то смогли водрузить на крепости знамя.
После этого случая Штейн уже не рисковал приглашать Щепкина участвовать в балетах.
Осип Иванович Калиновский, которого так неудачно поднимала фурия, был тяжел на руку. Щепкин вспоминает по этому поводу курьез: играли «Кина»; в четвертом акте, когда должен выбежать «а сцену суфлер Соломон и крикнуть: «Господа, театрального доктора — великий трагик Кин сошел с ума!», актер, игравший Соломона, заорал: «Господа, квартального надзирателя, Осип Иванович дерется!»
В Харькове не было постоянного театра, и труппа Штейна невольно была бродячей: успенскую и крещенскую ярмарки она проводила в Харькове, а остальное время разъезжала по другим городам, странствуя по всей южной и юго-западной России. Иногда давались представления в сараях и наскоро сколоченных балаганах.
Печальна была судьба актера таких странствующих трупп. Знаменитый Пров Садовский, долго служивший в провинции — лет пятнадцать спустя после Щепкина говорил, что «провинциальный актер ничего не имеет прочного, обеспеченного: ни славы, которая для него в полном смысле слова — дым, ни имущества (о богатстве он и мечтать не смеет), ни даже куска насущного хлеба. Слава его не переходит за пределы того города, в котором он играет, помрачаясь иногда перед славой первого заезжего фигляра или фокусника. Все его имущество всегда с ним, потому что всю жизнь свою, переезжая с места на место, он не имеет возможности приютиться оседлым образом и, что называется, обзавестись домком. Насущный хлеб его часто зависит от дневного сбора — хорош сбор — он сыт, нет сбора — просят не прогневаться. На провинциальных театрах нет обыкновения, а может быть, и нет возможности выдавать жалованье артистам в определенное время, по окончании месяца, например, известными кушами. Актер уговаривается с содержателем театра, положим, за шестьсот рублей в год, но жалованье получает от него не помесячно, а по мере надобности, с одной стороны, по мере возможности, с другой, — когда рубль серебром, когда полтину, а когда и меньше, редко вперед, но почти всегда в счет заслуженной им суммы за месяц и за день».
В годы провинциальных скитаний Щепкина это положение провинциального актера было точно таким же.
Вот и самый театр в провинции, как описывает его граф Сологуб: «В партере сидели два-три человека в шубах. В местах за креслами терпеливо дожидался татарин. Кроме того, кое-где еще пестрели две-три дамы с накинутыми на голову платками. Несколько тусклых ламп сонно освещали эту новую степь, воздвигнутую среди симбирской степи. В оркестре дремало человек пять музыкантов при слабом мерцании нагоревших сальных огарков. На душу ложилось какое-то неприятное чувство бедности, грусти и пустоты».
Эту картину бедности, грусти и пустоты еще ярче рисует Пров Садовский, вспоминая о спектакле, который разыгрывался перед единственным зрителем. Толстый купец, развалясь в кресле, глядит на сиену, где целая труппа актеров ему одному на потеху разыгрывает комедии и водевили. Но пьеса показалась их степенству скучной: «Не надоть, брось. — командует он на сцену. — Ну ее, валяй лучше плясовую!» И актеры бросают на полуфразе свои роли и валяют плясовую. Так забавлялся лебедянский трактирщик.
Щепкин много рассказывал о «забавах» не только невежественных трактирщиков. Забавлялись и измывались исправники, губернаторы и всякого рода начальство. На тему такого измывательства написал граф Сологуб, со слов Щепкина, рассказ «Собачка». В «Собачке»— истинное происшествие, пережитое труппой того же Штейна — Калиновского, с которой странствовал Михаил Семенович. Калиновский назван в рассказе Починовским.
У жены Починовского — прелестная собачка, очень дорогая по воспоминаниям, связанным с былым увлечением артистки. Но, к несчастью, собачка понравилась городничихе. Глафира Кировна однажды увидала Починовскую с собачкой: «Эге, как начала важничать! Надо отнять у нее собачку, — подумала городничиха. — Непременно скажу мужу. Этакую собачку можно иметь разве мне, а простой актерке вовсе неприлично».
Городничему, который под башмаком у Глафиры Кировны, приказано собачку от актерки отобрать. Сделать это однако не так-то просто: Починовский ни за что не уступает собачонку. Тогда, желая обязательно исполнить каприз супруги, городничий запрещает спектакли труппы, мотивируя распоряжение ветхостью здания. Театр запечатан, и актеры осуждены на голодовку. Волей-неволей соглашается Починовская на требование мужа и товарищей и… отдает любимую собачку. Но теперь городничему мало одной собачки, он требует в придачу 1000 рублей взятки… Просимая сумма дана: спектакли разрешены снова. Городничий даже устраивает актерам ужин. Все довольны и пьют за здоровье городничего, за процветание искусства.
«Печален только один гость, молодой актер, уже далеко обогнавший всех своих товарищей. В душе его уже глубоко заронилась любовь к истинному искусству, без фарсов и шарлатанства, и уже тогда предчувствовал он, как высоко призвание художника».
Этот опечаленный молодой актер, далеко обогнавший всех своих товарищей, о котором упоминает в конце рассказа Сологуб, конечно, сам Щепкин. Для печали, испытываемой им, было слишком много поводов. Безрадостная жизнь бродячих лицедеев развертывала перед ним картины одну горестней другой.
Вот история дочери крепостного графского камердинера Наташи, история, рассказанная Щепкиным тому же Сологубу: Наташа была воспитана богатой графиней, которая создала ей такое положение в обществе, что Наташа позабыла, что она — всего-навсего крепостная девушка. Как равная, выступает она на домашних светских спектаклях и приобретает известность прекрасной артистки. Но внезапно умирает ее воспитательница, и перед Наташей сразу раскрывается страшная правда: она только крепостная! Никто не хочет знать ее, никто ей не может помочь. Единственный исход — пойти на сцену. Она поступает в бродячую труппу. Что представляли собою ее новые товарищи, можно судить по таким характеристикам главных персонажей: «Комик Куличевский пил иногда, благородный отец пил постоянно, трагик Кондратьев пил запоем» и т. п., и т. д.
Наташа имеет огромный успех. На ярмарке в Теменеве происходит катастрофа. Офицеры, постоянные посетители театра, вздумали «поухаживать» за Наташей так, как ухаживали тогда за «актерками». Кавалеры, однако, встретили отпор. Но один офицер повторил попытку и гнусно оскорбил «недотрогу». Наташа не выдержала и покончила с собой.
Рассказы Щепкина, рисующие провинциальные труппы, можно дополнить мемуарами современников. Приведем строки из воспоминаний князя Вяземского, имевшего случай познакомиться с театром в Пензе. Пензенский театр, содержавшийся помещиком Гладковым, по своему безобразному поведению прозванным Буяновым, интересен в том отношении, что в его труппе были как крепостные, так и вольные. Эти вольные актеры набирались из семинаристов и приказных.
Театр, рассказывает Вяземский, колыхался, как тростник от ветра. Это было ветхое и холодное помещение в роде землянки. Мальчик, которого призвал в ложу Вяземский, — сообщил заезжему посетителю некоторые любопытные подробности об актерах и их содержателе.
— Кто эта актриса?
— Саша — любовница барина. Он на днях ее так рассек, что она долго не могла ни ходить, ни лежать.
— А это?
— Бурдеев, приказный, лучший актер.
Ознакомившись с режимом этого театра, князь Вяземский говорит про труппу Гладкова, что «собаки его не лучше актеров. После несчастной травли он вымещает на актерах и бьет их не на живот, а на смерть. После несчастного представления он вымещает на собаках и велит их убивать».
А вот и нравы актеров: крепостной трагик Гриша, по примеру своего барина, всегда в подпитии и вне сцены наводит на всех трепет.
Первую певицу звали Сашкой, первую танцовщицу — Машкой. Вообще женский персонал был здесь крепостной. В этом театре, как свидетельствует, вслед за Вяземским, другой современник В. А. Инсарский, «в одно и то же время давались два представления: одно шло на сцене, другое перед сценой, где главным действующим лицом являлся хозяин театра Гладков. Публика, хорошо зная привычки, следила за ним едва ли не внимательнее, чем за артистами на сцене, и это потому, что буйный хозяин, нисколько не стесняясь присутствием публики, вмешивался в диалог на сцене с грозными криками и угрозами, называя не потрафившего лицедея дураком или скотиной, то, бурно сорвавшись со своего места, летел стремглав на сцену, чтобы чинить немедленную расправу с провинившимся актером или актрисой посредством пощечин и зуботычин».
Гладков-Буянов — безобразник, в конце концов, мелкого пошиба, и театр его — скорее балаган, но вот публичный театр графа Каменского в Орле.
Процесс обеднения помещика-вотчинника углубляется с каждым годом. Помещик ищет выгод в отхожих промыслах, и граф Каменский в этом отношении не составляет исключения, он открывает театр. Но в управление этим предприятием вносит тот привкус барских капризов и несносного чудачества, который говорит о том, что театральное хозяйство ведется им по привычке на широкую барскую ногу. Это дело, в котором все основано на личном произволе, личных прихотях владельца, владельца к тому же глубоко презирующего ту самую публику, которую он пускает в свой театр!
Театр с домом, где жил граф, занимал огромный четыреугольник, чуть ли не целый квартал на Соборной площади. Строения были одноэтажные, с отвалившейся на них штукатуркой, все здания начинали гнить. Но внутренняя отделка театра была еще приличная — с бенуарами, двумя ярусами и с райком. Кресла под номерами, передние ряды дороже остальных. В этом театре могла помещаться столь же многочисленная публика, как в московском театре.
Места предоставлялись публике за деньги. Представления в театре графа были три раза в неделю, и каждый раз сборы доходили до 500–600 тысяч ассигнациями, то есть в неделю театр давал от 1500 до 1800 рублей ассигнациями. Сумма эта, конечно, могла бы изрядно вознаграждать крепостных тружеников-артистов, но, к сожалению, деньги доставались не им, а хозяину, состояние которого было уже сильно потрясено бесчисленными долговыми обстоятельствами.
Всех покупавших билеты граф подробно допрашивал: от себя ли покупаются билеты или от кого другого; если посланный или пославший почему-либо не нравились ему. он ни за какие деньги не давал билетов и отгонял покупателя от кассы. Звание и приличный внешний вид требовавших билеты покупателей нисколько не служили препятствиями к резкому и грубому выражению графского своеволия.
Рассказывают, например, такой случай.
К окну кассы подходит прилично одетый господин и требует билет.
— От кого? — спрашивает граф.
— От себя.
— На столе.
— Ничего не пойму! Говори же толком: кто вы такой, иначе не дам билета!
— Я столоначальник консистории.
— А! так пшол же прочь, глупый стулоначальник! Твое место на колокольне, а не в театре! У меня нет билетов для дьячков и пономарей! Вашему брату аллилуйя тянуть, а не на актеров глазеть.
В другой раз в театральную кассу явился депутат по рекрутскому набору, граф Мантейфель, в простом сюртуке и фуражке, с хлыстиком в руке, и, напевая французскую шансонетку, потребовал несколько лож и кресел. Каменский был до того обижен всем этим, что категорически заявил ему, что не даст ни одного билета, если Мантейфель не явится к нему в более приличном виде. Юный граф покорился, но только, явившись в полной парадной форме, деньги за билеты велел нести своему денщику: оказалось, что они заключались в нескольких мешках и все состояли из медных копеек и грошей. Бедному Каменскому пришлось почти с час пересчитывать массу мелкой и вонючей меди. (См. книгу Орловского Сторожила — «Былые чудаки». Орел. 1909 г.).
В театре для графа была устроена особая ложа и к ней примыкала галлерея, где обыкновенно сидели так называемые пансионерки, то есть дворовые девочки, готовившиеся в актрисы и танцовщицы. Для них обязательно было посещение театра, ибо граф требовал, чтобы на другой день каждая из них продекламировала какой-нибудь монолог из представленной пьесы или протанцовала бы вчерашнее «па». Как в отношении своих пансионерок, так и в отношении всей своей труппы, граф Каменский был одинаково далек от поблажек. «В ложе перед графом. — рассказывает И. С. Жирневич, — на столе лежала книга, куда он собственноручно вписывал замеченные им на сцене ошибки и упущения, а сзади него, на стене, висело несколько плеток, и после всякого акта он ходил за кулисы и там делал свои расчеты с виновными, вопли которых иногда доходили до слуха зрителя. Он требовал от актеров, чтобы роль была заучена слово в слово, говорили бы без суфлера, и беда бывала тому, кто запнется».
Щепкин, несомненно, бывал в Орловском театре во время своих провинциальных кочевий и. как можно догадаться по его воспоминаниям, даже получил приглашение от графа Каменского вступить в его труппу. Рассказ А. И. Герцена «Сорока-воровка», посвященный М. С. Щепкину, написан со слов великого актера. Граф Каменский в ней выведен под именем Скалинского.
«Скалинский — русская широкая, размашистая натура. Страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну, и при этом, как водится, непривычка обуздываться и расточительность в высшей степени». «Князь говорил о театре, как человек, совершенно знающий и сцену и тайну постановки».
Молодой актер, в котором следует видеть самого Щепкина, вечером, по приглашению князя, смотрит спектакль. Идет пьеса «Сорока-воровка». В пьесе изображается трагическое событие: юную служанку Анету, несправедливо обвиненную в краже, приговаривают к смертной казни…
Играют очень хорошо. Но молодой актер остается холоден. «Было что-то натянутое, неестественное в манере, как дворовые люди князя представляли лордов и принцесс». Но вот его поражает слабый женский голос. «В нем выражалось такое страшное, глубокое страдание, Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала в старом бродяге своего отца. Я почти не слушал ее слов, а слушал голос.
«Боже мой, — думал я, — откуда взялись такие звуки в этой юной груди? Они не выдумываются, не приобретаются из сольфеджей, а бывают выстраданы, приходят наградой за страшный опыт».
И другой момент в игре этой актрисы, изображавшей Анету, служанку откупщика, производит потрясающее впечатление, момент, когда невинно обвиненную в воровстве Анету несут назад от позорного столба. «Актриса лучше автора поняла смысл события: измученная грудь ее не нашла радостного звука: бледная, усталая Анета смотрела с тупым удивлением на окружающее ликование, — со стороной упований и надежд, кажется, она не была знакома. Сильные потрясения, горький опыт подрезали корень, и цветок, еще благоуханный, склонялся, вянул, спасти его было нельзя».
Приезжий актер пожелал встретиться с актрисой, так его поразившей. Но попасть к ней не так-то легко: она крепостная князя, и без особого разрешения к ней никого не пускают. Нужно было явиться в контору для получения пропуска. В конторе приезжий актер мог наблюдать любопытные нравы:
«Привели какого-то Матюшку, молодого человека с завязанными руками, босого, в сером кафтане.
— Пошел к себе, — сказал ему грубым голосом управляющий. — Да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя так угощу! Забыли о Сеньке?
Босой человек поклонился, мрачно посмотрел на всех и вышел.
Оказалось, это был крепостной актер. Наказанию он был подвержен за то, что перехватили его записочку к одной актрисе, вот его и засадили в «сибирку»… Ему туда и роли посылают твердить…
Наконец приезжий актер видится с поразившей его актрисой. «Лицо вчерашней Анеты было прекрасно, но носило отпечатки изнемождения и глубочайших душевных мук».
Анета рассказывает тяжелую повесть — целую исповедь женского униженного и оскорбленного сердца. Ее хотел «приблизить» — любимец князя, какой-то скверный «старик-селадон». С негодованием отвергла молодая женщина позорное предложение. Но за это жестоко поплатилась. Князь запер ее, стал лишать ролей, всячески унижал артистическое, женское и человеческое самолюбие и достоинство. Он попрекнул ее в несуществующих любовниках. Этого не снесла гордая артистка. Она отомстила князю тем, что действительно отдалась вспышке страсти, но отдала любовь свою не этому «селадону», а тому, кем чисто, хоть и слишком порывисто, увлеклась.
Князь, конечно, узнал об этом, и ее положение ухудшается с каждым днем. Сама она чувствует, как тускнет и гибнет ее талант. Как умирает в ней художница сцены.
…Со словами «погибла великая актриса» вышел, заливаясь слезами, заезжий актер, потрясенный тяжелой драмой «Анеты».
Глубоко драматическая сцена встречи молодого актера с погибшей великой актрисой не могла не оказать огромного воздействия на формирование его творческого сознания. Молодой актер — будем помнить, что это был Щепкин — понял теперь, откуда у этой крепостной «актерки» возникли такие звуки, звуки, не выдуманные, не приобретенные, а выстраданные. То торжество великолепного искусства, свидетелем которого он был, — оно — награда за страшный опыт.
Но «опыт жизни» будет той основой, на которой вырастет и разовьется дарование самого Щепкина.
Кстати, еще несколько штрихов, характеризующих эпоху крепостного театра, занимающего столь важное место в биографии Щепкина.
Анета герценовской повести рассказывает, что она, прежде чем попасть к князю Скалинскому, была собственностью очень доброго простого и честного помещика, который уважал ее, ценил талант, дал средства выучиться по-французски и даже возил с собой во Францию и в Италию. Анета была в Париже и видела знаменитых французских актеров. Эта подробность характерна для эпохи. Мы знаем из мемуаров, что владельцы некоторых крепостных театров, в отличие от Каменских-Скалинских и Гладковых-Буяновых, всеми мерами старались поднять искусство своих доморощенных лицедеев. Любопытен рассказ актрисы Пиуновой-Шмитгоф, бывшей крепостной князя Шаховского в Нижнем-Новгороде.
«Меня привезли из деревни в лаптях, лет десяти, — рассказывает она. — Вымыли меня, одели и поместили в девичьей. Девичьей назывался особый флигель при доме князя, где жили одни девицы из труппы князя. А их было очень и очень немало. Девицы содержались строго, под замком. При них были приставлены «мамушки», то есть пожилые женщины, вполне, по мнению князя, благонадежные. На репетиции и спектакль девиц возили в каретах и по доставлении в театр сажали в уборную с мамками и оттуда и выкликали на сцену режиссером: до и на самой сцене во время репетиций постоянно находилась другая мамушка, сиречь «сторожея». Разговаривать с мужским персоналом труппы не дозволялось. Впрочем, по достижении «девицами» двадцатипятилетнего возраста князь имел обыкновение выдавать их замуж, и делалось это так: докладывается, например, князю, что вот, мол, такой-то и такой-то «девице» уже двадцать пять годков, то «как прикажете?» Тогда князь призывал своих артистов-мужчин, спрашивал, кому из них нравится которая-либо из двадцатипятилетних артисток и, узнавши, вызывал «артисток», объявляя им о таком «излиянии», и свадьба была готова!.. Князь обыкновенно сам благословлял обрученных, давал приданое, а также после свадьбы молодым назначалось и особое жалование. Собственно, содержание всей труппы или всех трупп получалось от князя, как-то: квартира, отопление, освещение и стол. Одежда «девицам» до выхода в замужество тоже шла от князя.
Что касается образования крепостных артистов кн. Шаховского, то по словам Н. И. Пионовой, оно «ограничивалось одной русской грамотой, причем «девиц» учили только читать, писать же учить не дозволялось — в интересах нравственности, чтобы не переписывались ни с кем до замужества, только после замужества иные из «артисток» начинали «мазать» каракули, что уже не возбранялось, ибо с этих пор вся ответственность за их нравственность лежала уже на мужьях».
Чтобы крепостные актрисы умели себя держать, изображая «дам общества», их назначали поочередно на дежурство к княгине Шаховской, с которой они чуть не целый день проводили время в беседе, чтении и рукоделии. Далее, когда у князя давались балы, то на них приглашались и крепостные премьеры с премьершами («первые сюжеты»), Мужчинам-артистам не разрешалось приглашать на танцы светских дам, но мужчины-гости считали за удовольствие пройти тур вальса с крепостной артисткой.
Насколько князь Шаховской ревниво относился к драматическому искусству своей труппы, видно, например, из такого факта: перед постановкой пьесы «Горе от ума» и «Русские в Бадене» князь возил «на долгих» своих главных артистов и артисток в Москву в Императорский московский театр и на хоры Московского благородного собрания во время блестящих балов, «чтобы они еще лучше могли воспринять манеры светских людей».
Небезынтересно в заключение этих рассказов о нравах и обычаях крепостного театра привести два подлинных документа. Вот купчая на приобретение целой театральной труппы: богатый барин и театрал Юрасовский покупает у помещицы Чертковой дворовых людей.
«Лета 1805 в пятое генваря 26 день, поговоря меж собой полюбовно, с обоюдного нашего согласия продала я, Тамбовская и Московская помещица, жена генерала Маера и кавалера Любовь Петровна Черткова по отцу Козлянинова, впрок и бесповоротно Орловскому Помещику Прапорщику Алексею Денисовичу Юрасовскому составленный мною, по частям доставшийся мне по наследству от отца, а по части пополненной мною посредством купли и мены принадлежащий мне крепостной хор, преизрядно обученный музыке, образованный в искусстве сем отменным, выписанными из чужих краев сведущими в своем деле музыкальными регентами, всего 44 крепостных музыканта с их жены, дети и семейства, а всего с мелочью 98 человек. А именно….»
Далее следует подробный список, причем почти каждая фамилия из числа проданных людей сопровождается чем-то в роде аттестации с указанием на способности и качества данного лица.
Так, под номером первым значится — Тиняков с сестрой Ниной. Эта Нина, по свидетельству документа: «отменная зело способная на всякие антраша дансерка, поведения крайне похвальнаво и окромя всево того лица весьма приятнаво». Под номером седьмым записан дьяк Тарас с дочерью — «умеет изрядно шить, мыть белье и трухмалит».
За 98 человек «с мелочью» г-жа Черткова «взяла ходячую российской монетой государственными ассигнациями тридцать сем тысяч рублев».
Купчая заканчивается обычными установленными для таких документов фразами. Следует обратить внимание на одну заключительную, в которой указывается, что Черткова представила в Орел труппу с вольноотпущенным ее человеком Сверчковым, занимавшим должность повидимому, хормейстера:
«Дабы же проданные мною музыканты. — читаем мы, — до приставки их в Орел в забвение в музыкальном искусстве не пришли, обязуюсь всячески поощрять Сверчкова к упражнению и к вящшему совершенсву сих людей в игре»…
Воспоминания новосельского городничего Н. И. Хитрово передают, между прочим, кое-что о судьбе этих проданных Чертковой людей, Юрасовский, повидимому человек добрый и любящий искусство, поспешил купленных музыкантов быстро приставить к своему большому театральному делу. Для обучения танцам был выписан балетмейстер итальянец Санти. Вот этому-то Санти и довелось сыграть видную роль в жизненной истории Нины Тиняковой, о которой говорилось в купчей, что она и на всякие антраша способна, и «окромя всево тово лица весьма приятнаво».
Санти, несмотря на строгие приказания Юрасовского не «бить женщин» (мужчин бить было, повидимому, можно), не выдерживал и в гневе на ошибки доморощенных «дансерок» часто давал волю рукам.
Однажды, рассказывает Хитрово, присутствовавший на балетном спектакле крепостной труппы, — Нина, утомленная тремя часами танцев, вскочила на подставку, чтобы сделать какой-то пируэт, не удержалась и упала. Тогда с хлыстом выскочил Санти, схватил за волосы несчастную танцовщицу и стал на глазах публики истязать ее.
«Но Нина, не имея руками сил вырвать из рук Санти косу, сделала ногами в воздухе пируэт и тур и с такой силой ударила Санти, что тот свалился замертво»…
Как говорят, удар был настолько силен, что у Санти оказалось переломленным ребро…
Нина же убежала со сцены и несколько дней где-то скрывалась.
Но последствия этой истории, столь обычной в то жестокое время, оказались плачевными не для нее, а для Санти. Юрасовскому, который жил тогда в Париже, донесли о происшествии, и он приказал «спровадить Санти туда, откуда он явился». Это заступничество за «дансерку» объясняется просто: Юрасовский, как было то в обычае, «приблизил» к себе красивую танцовщицу, для которой, главным образом, и был выписан учитель танцев…
Крепостная танцовщица
(Гос. театральный музей им. А. Бахрушина в Москве).
Сохранилась афиша домашнего спектакля, данного крепостными актерами того же Юрасовского в 1828 году в Сурьянине Волховского уезда.
Вот текст этого любопытного театрального объявления:
«На домовом театре представлено будет
РАЗБОЙНИКИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
или
БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ АЛЖИРЕЦ.
большой пантомимной балет в трех действиях соч. Г. Глушковского с сражениями, маршами и великолепным спектаклем.
Сия пиэса имеет роли, наполненные отменною приятностью и полным удовольствием, почему на Санкт-Питербургских и Московских театрах часто играна и завсегда благосклонно публикой принимаема была. Особливо хороши декорации: наружная часть замка Бей, пожар и сражения. Музыка г. Шольца, в коей Васильев, бывший крепостной человек графа Каменского играть будет на скрипке соло соч. Шольца. Танцовать будет (вершить прыжки, именуемые антраша) в балете: Антонов Васька, Хромина Васютка и Зорина Донька… (следует длинное перечисление «Васюток и Сидорок»).
За сим дано будет:
ЯРМАНКА В БЕРДИЧЕВЕ
или
ЗАВЕРБОВАННЫЙ ЖИТ
Препотешной, разнохарактерной, комической пантомимной диветисман, с принадлежащими к оному разными танцами, ариями, мазуркой, русскими, комаринскими, литовскими, казацкими и жидовскими плясками.
за сим
крепостной П. Д. Юрасовского Тришка Барков на глазах у всех проделает следующие удивительные штуки:
В дудку пустым ртом соловьем засвищет, заиграет бытто на свирели, забрешет по-собачьи, кошкой замяучит, медведем заревет, коровой и теленком замычит, курицей закудахчет, петухом запоет и заквохчет, как ребенок заплачет, как подшибленная собака завизжит, голодным волком завоет, словно голубь заворкует и совою кричать приметца. Две дудки в рот положет и на них сразу играть будет, тарелкою на палке, а сею последнею, уставя в свой нос, крутить будет, из зубов шляпу вверх подкинет и сразу ее без рук на голову наденет; палкой артикулы делать будет, бытто Мажор, палку на палке держать будет и прочее сему подобное проделает. В заключение горящую паклю голым ртом есть приметца и при сем ужасном фокусе не только рта не испортит, в чем любопытный опосля убедитца легко может, но и грустного вида не выкажет.
За сим расскажет несколько прекурьезных рассказов из разных сочинений, наполненных отменными выдершками, а в заключение всево: духовой хор крепостных людей Александры Денисовны Юрасовской исполнит несколько партикулярных песен и припевов.
за сим
уважаемые гости с фамилиями своими почтительнейше просютца к ужину в сат в конец липовой алеи, туды, где в своем месте стоит аранжерея.
Алексей Денисович Юрасовский
Маер Петр Денисович Юрасовский
11 мая 1828 г.
10
В 1818 году труппа Штейна была приглашена в Полтаву, где была резиденция малороссийского генерал-губернатора князя Н. Г. Репнина. Он был любитель искусства и захотел основать постоянные спектакле! в Полтаве. Директором театра был назначен известный украинский писатель И. И. Котляревский, автор поэмы «Энеида» и комедии «Наталка-Полтавка».
Актеры были поставлены в очень приличные условия — многие из них пользовались казенными квартирами, а на разъезды выдавались казенные подорожные. Разъезды труппы были необходимы: одна Полтава не могла покрыть расходов. Пришлось снова колесить по ярмаркам, играть в Роммах, Кременчуге и еще в целом ряде городов и городишек — Харьковской, Полтавской и Курской губерний.
Первое положение в деле занимал М. С. Щепкин, уже перешедший тогда на комические и характерные роли. Одно его имя на афише уже увеличивало сборы:
Щепкин стал любимцем публики, и дирекция высоко оценила его дарование, назначив Михаилу Семеновичу 1500 рублей в год — самое большое жалование, которое могли тогда получать в провинции выдающиеся актеры.
Публика знала, конечно, что Щепкин — крепостной. И вместо всяких подарков постоянные «посетители театра, восхищавшиеся Щепкиным, решили, по почину князя Репнина, — выкупить Михаила Семеновича из крепостной зависимости.
По публике пущен подписной лист, заголовок которого был составлен так:
В награду таланта актера Щепкина для основания его участи, июля 26 дня 1818 года.
Сумму, собранную по подписке, за покрытием расходов по спектаклю, устроенному в честь Щепкина, должны были обратить целиком на выкуп.
Еще раньше, чем в Полтаве, деньги начали собирать в Ромнах, куда на ильинскую ярмарку ездила труппа Штейна. Здесь особенно горячее участие в затеянном деле выкупа Щепкина принял будущий декабрист князь С. Г. Волконский: в генеральском мундире и орденах обходил он с подписным листом купцов, съехавшихся на ярмарку.
В Полтаве подписались самые знатные и богатые лица. С. М. Кочубей — 500 рублей, полковник Тепляков — половину своего карточного выигрыша в 1110 рублей. Имена подписавшихся свидетельствуют о разнообразнейшем составе публики, решившейся сделать Щепкину такой необычный «подарок»: тут граф и нежинский грек, бригадир и тайный советник, городской голова и предводитель дворянства, инспектор немецкой коллегии и генерал-майор… Всего по подписному листу было заявлено 7142 рубля. Но сумма оказалась недостаточной. Владелица Щепкина — вдова С. Г. Волькенштейна, Анна Абрамовна Волькенштейн, урожденная Анненкова, сестра той самой Александры Абрамовны Анненковой, которая, как мы помним, отговаривала офицеров держать пари о тысяче палок для солдата Степанова, говоря, что он «все-таки человек», — вдова графа Волькенштейна, не в пример своей гуманной сестрице, проявила злобу и алчность.
Нужно заметить, что отношения Волькенштейнов к Щепкину испортились. Еще при жизни С. Г. Волькенштейна отец Михаила Семеновича, Семен Григорьевич, который, конечно, отлично знал историю закрепощения Григория Щепкина и мог добыть форменные доказательства своего духовного происхождения, задумал выйти на волю. За подписью многих родственников он получил документ, свидетельствующий, что никто из Щепкиных никогда в крепостной зависимости у помещиков не состоял. В 1806 году это удостоверение было явлено в уездном суде, и Семен Григорьевич был уже совсем готов начать дело.
Граф Волькенштейн отговорил своего управителя начинать процесс и обещал добровольно отпустить его со всей семьей. Но этого обещания граф не выполнил: под личиной благодушия и доброты в нем скрывался настоящий крепостник, жестокий и мстительный. Он не только обманул своего верного слугу, но и отомстил ему за «коварное» намерение добиться свободы. Семен Григорьевич был смещен с должности управителя, и все Щепкины впали в немилость. Его вдова, в свою очередь, нашла способ помешать сыну Семена Щепкина — актеру Михаилу Щепкину выйти на волю. В Полтаве шли хлопоты о его освобождении, а графиня потребовала своего дворового человека Михайлу Щепкина в Курск. Вступился князь Репнин, которому вовсе не выгодно было лишаться выдающегося актера полтавской труппы. Он шлет графине Анне Абрамовне письмо, в котором свидетельствует, что «человек ее, Михайла Щепкин, отличается чрезвычайным талантом и доставляет тем приятнейшее удовольствие всей полтавской публике», почему светлейший князь Репнин просит «чувствительнейше обязать» его разрешением Щепкину возвратиться к своей обязанности. Щепкин в Курок не поехал: графиня из уважения к князю Репнину и усматривая, что Щепкин «своими малыми талантами доставляет удовольствие полтавской публике», увольняет Щепкина к его сиятельству, с покорнейшей, однако, просьбой, что когда он ей будет необходим, чтобы был он отпущен в Курск, так как «сей человек по своим познаниям землемерной науки ей крайне нужен».
Подписка тем временем шла своим чередом, и владелица была запрошена, какую сумму желает она получить за Щепкина. Ответ пришел в письме брата графини — П. А. Анненкова. Брат владелицы писал Михаилу Семеновичу:
«Миша Щепкин, так как ты, видно, не хочешь быть слугой и видно не расположен быть благодарен за все то, что твой отец приобрел, бывши у графа, за воспитание, данное тебе, то графиня желает всем вам дать вольную, то есть вашей фамилии — отцу твоему со всем семейством за 8 тысяч, ибо семейство ваше весьма значительно. Ежели ты хочешь оное получить, приезжай поскорее, так ты получишь: не теряй времени».
Щепкин не поехал: за него стал вести переговоры князь Репнин, который попробовал поторговаться. Ссылаясь на состав семьи Щепкина — четыре души мужского пола, «в числе коих один старый отец, а другой малолетний сын», князь Репнин полагал достаточной суммой за выкуп четыре или пять тысяч рублей. Торг идет, как видим, по соображениям чисто деловым: восемь тысяч дорого за семью, в которой только две мужских души — работники. Сумма же в пять тысяч рублей, указанная Репниным, почти соответствовала той, которая была фактически собрана по подписному листу: заявок сделано на 7142 рубля, а собрано в наличности 5500 рублей.
Графиня Волькеннштейн ни на какие уступки не пошла. Тогда князь Репнин выдал из своих средств недостающую сумму на выкуп — 3 тысячи рублей и 500 рублей на совершение юридического акта. Деньги и доверенность были посланы в Курск на имя директора гимназии Кологривова, который всегда внимательно относился к Щепкину.
Михаил Семенович, наконец, мог вздохнуть спокойно: он на пороге свободы! В конце года директор театра Котляревский известил Щепкина, что все кончено. Но это извещение поразило Михаила Семеновича, как гром среди ясного неба: Котляревский упомянул, что купчая крепость готова и выслана в Полтаву.
Купчая крепость? Но ведь князь выкупал, а не покупал Щепкина?! Оказалось, что князь именно покупал Щепкина: ведь он дал три тысячи рублей, и эти деньги Михаил Семенович должен заслужить. А пока… пока вся сумма полностью не будет внесена, он останется собственностью Репнина.
И Щепкин — снова крепостной. Тяжесть положения увеличивалась еще и потому, что к Щепкину переезжала вся семья. Ведь старики родители теперь должны были волей-неволей покинуть хутор «Проходы» и перебраться к сыну. А на что будет сын содержать их? Как прожить с семьей в 12 человек (отец, мать, брат, четыре сестры, племянница, жена, трое детей)? Ведь одна квартира с дровами и работницей обходится в 500 рублей… А прокормить, одеть, обуть… Как быть?
И вот пошла жизнь Щепкина «самым недостаточным образом».
Только через три года, 18 ноября 1821 года, Щепкин получил вольную на себя, жену и двух старших дочерей. Остальная семья все еще оставалась в крепостной зависимости. Полный выкуп произошел лишь после того, как Щепкин выдал князю Репнину четыре векселя по тысяче рублей каждый, что удалось сделать по поручительству известного историка Бантыш-Каменского.
Князь Репнин, который проявил такое «великодушие», взяв на себя инициативу по «основанию участи Щепкина в награду его таланта», оказался нисколько не лучше графини Волькенштейн. Князь Репнин также мстил Щепкину «за неблагодарность».
Когда распалось дело Щепкина, Михаил Семенович не пожелал оставаться в Полтаве, а собрал товарищей, перекочевал в Киев. Этого князь Репнин не мог простить Михаилу Семеновичу.
Из Киева Щепкин перебрался в Тулу уже свободным человеком.
Так закончились долгие и трудные годы его крепостной зависимости.
ГЛАВА ВТОРАЯ В МАЛОМ ТЕАТРЕ
1
В 1822 году управляющий Императорским московским театром Ф. Ф. Кокошкин, знаток и любитель сценического искусства и сам драматург, привлекавший на московскую сцену лучших артистов, отправил одного из чиновников театральной конторы — Головина — поездить по ярмаркам с целью высмотреть подходящего артиста. Головин в Ромнах на ильинской ярмарке встретился с Щепкиным, игравшим в труппе Штейна.
В. Головин красочно рассказал об этой встрече: «Уродливый сарай, занавес в лохмотьях, кое-как намалеваны кулисы, грязный деревянный пол, оркестр, не всегда вникающий в мелочные подробности бекаров и бемолей, господа и госпожи — какие-то уроды с того света, говоря стихом Грибоедова — и Михаил Семенович Щепкин. Альфа и омега вместе. Михаил Семенович играл в пьесе «Опыт искусства» в трудной роли: то мужчиной, то женщиной. В тысяче видов этот Прометей заблистал передо мной, как драгоценный алмаз, всеми своими гранями».
Головин, вызвав к себе на следующий день Щепкина, предложил ему от имени Кокошкина службу в московском театре.
Это предложение было еще раз, по возвращении Головина в Москву, подтверждено Какошкиным, откомандировавшим своего помощника Загоскина — автора известного исторического романа «Юрий Милославский» и многих репертуарных пьес того времени — в Тулу, куда к осени этого года перебрался на службу Щепкин.
Михаил Семенович принял приглашение и 20 сентября 1822 года дебютировал в Москве. Шла комедия Загоскина «Господин Богатонов» и водевиль «Лакейская война». Дирекция сейчас же заключила с Щепкиным контракт на три года на таких условиях: жалованья 2500 рублей в год, квартирных 500 рублей, один бенефис в году и на переезд в Москву единовременно 600 рублей.
Договор писался на три года. Условия Щепкина были выгодные и лестные для его артистического самолюбия: в Полтаве он получил всего 2 тысячи рублей. Но служба Щепкина в Москве началась лишь с марта 1823 года, так как ему пришлось, связанному контрактом с тульским театром, играть в Туле еще почти год.
М. С. Щепкин 40-х годов
(С рисунка Клюквина того времени).
Почему же с такой радостью был принят Щепкин из глухой провинции на столичную сцену, руководители которой мечтали сделать ее образцовой во всех отношениях? О Щепкине уже шла громкая слава, как об актере, играющем с необычайной естественностью. Естественность на тогдашней сцене была вещью невиданной. Сам Щепкин так характеризует «превосходство игры по тогдашним понятиям». «Превосходство игры, — говорит он, — видели в том, что никто не говорил своим голосом, когда игра состояла из крайне изуродованной декламации, слова произносились как можно громче, и почти каждое слово сопровождалось жестами. Особенно в ролях любовника декламировали так страстно, что вспоминать смешно. Слова: любовь, страсть, измена выкрикивались так громко, как только доставало силы в человеке. Но игра физиономии не помогала актеру: от оставалась в том же натянутом неестественном положении, в каком являлась на сцену. Или еще когда, например, актер оканчивал какой-нибудь сильный монолог, после которого должен был уходить, то принято было в то время за правило — поднимать правую руку вверх и таким образом удаляться со сцены. Кстати по этому случаю, я вспомнил об одном из своих товарищей: однажды он, окончивши тираду и удаляясь со сцены забыл поднять вверх руку. Что же, на половине дороги он решился поправить свою ошибку и торжественно поднял эту заветную руку. И это все доставляло зрителям удовольствие. Не могу пересказать всех нелепостей, какие тогда существовали на сцене, это скучно и бесполезно. Между прочим, во всех нелепостях всегда проглядывало желание возвысить искусство; так, например, актер на сцене, говоря с другим лицом и чувствуя, что ему предстоит сказать блестящую фразу, бросал того, с кем говорил, выступал вперед на авансцену и обращался уже не к действующему лицу, а дарил публику этой фразой. А публика, со своей стороны, за такой сюрприз аплодировала неистово».
И в позднейшем письме своем к Анненкову Щепкин еще раз вернулся к характеристике старомодного исполнения — традиционного в бытность Михаила Семеновича на провинциальной сцене. Щепкин говорит, что он «застал декламацию, сообщенную России Дмитриевским (Дмитриевский — актер и режиссер XVIII века, товарищ Волкова, обучавший русских актеров французскому стилю игры, изученному им в Париже). Она состояла в громком почти педантичном ударении на каждую рифму, с ловкой отделкой полустиший. Это все росло, так сказать, все громче и громче, и последняя строка монолога произносилась сколько хватало сил у человека».
Щепкин понял, что эта манера не свойственна русским актерам, что она не применима для изображения простых смертных, а годится лишь для ходульной и напыщенной декламации, вложенной в уста героев ложно-классических трагедий. Щепкину довелось, когда он еще был совсем молодым актером, встретиться с образчиком совсем иного актерского мастерства, находящегося в полном противоречии с обычными традициями.
В 1810 году на домашнем спектакле князя Голицына в селе Юноковке Щепкин смотрел игру любителя — вельможи времен Екатерины II, князя П. В. Мещерского, которого он встречал еще в Курске.
С князем Мещерским связан один, скорее печальный, чем забавный эпизод из школьных лет Щепкина. В курской школе учитель словесности преподавал также и рисование, будучи совершенно несведущим в этом предмете. Все его преподавание сводилось к тому, что он заставлял учеников срисовывать на стекло. Щепкин, отличавшийся способностям к черчению и рисованию, справлялся с этим нетрудным делом лучше других, но научиться рисовать с натуры, не пользуясь стеклом, он не мог. Однажды учитель приказал ему отправиться к князю Мещерскому, который просил директора прислать кого-нибудь из учеников для исполнения каких-то рисунков.
— Князь даст тебе на калачи, — уверил учитель Мишу Щепкина.
Щепкин отправился к князю, который поручил ему срисовать с какой-то затейливой вазы группу фигур в уменьшенном виде. Миша покраснел до корня волос и пролепетал, что этого он сделать никак не может.
— Как так? — недоуменно спросил князь. — Мне показывали твои рисунки, они очень недурно выполнены.
Миша принужден был рассказать всю правду.
Князь взбесился:
— Что же смотрит ваш директор? Как же он разрешает такое нелепое преподавание! Ты иди, милый, домой. Жаль, что ты не можешь срисовать эти фигуры, я бы тебе хорошо заплатил.
Князь все же дал Мише 15 копеек на орехи.
На следующий день Щепкин был вызван к учителю:
— Как же ты, рокалия, осмелился сказать князю, кто я учу рисовать на стекло?! — И тут же приказал он принести розог и пребольно выпорол правдивого Мишу.
Вот этот самый князь Мещерский, который остался памятен Мише по жестокой порке, славился как превосходный актер.
Случай дал возможность Щепкину видеть князя Мещерского в одной из его лучших ролей — скупого Салидара в комедии Сумарокова «Приданое обманом».
И опять, как в детстве, имя князя оказалось связанным с рисованием, которому когда-то так неудачно учили Мишу в Курской школе. Летом 1805 года спектаклей труппы Барсова в городе не было и Щепкин воспользовался свободным временем для того, чтобы поучиться рисовать. Его учителем был академик Ушаков, славившийся как портретист. Ушакова пригласил князь Голицын к себе в деревню писать портреты. Ушаков, узнав, что у Голицына состоится домашний спектакль, пригласил с собой и Щепкина. Так довелось Щепкину смотреть знаменательный и важный для его артистического сознания спектакль.
Щепкин очень волновался перед началом представления. Еще бы: сейчас он увидит актера, который бывал не только в Москве и в Петербурге, но и в Вене, Париже, Лондоне, который изучил исполнение лучших артистов Европы и сам играл во дворце Екатерины! Игра Мещерского заранее представлялась ему «колоссальной».
Вот оркестр заиграл симфонию, вот поднялся занавес, и перед Щепкиным был князь. Нет! Это не был князь, а сам скупец Салидар. Так страшно изменилась вся фигура Мещерского. Исчезло благодушное выражение его лица, и резко выразилась скупость скареда. Но что же? Щепкин смотрит, восхищается искусством, с каким превратился князь в героя сумароковской комедии, и в то же время ему начинает казаться, что Мещерский вовсе не умеет играть.
Щепкин даже начал торжествовать: «Вот оно, — подумал он, — это значит потому только, что играет вельможа, надо считать его исполнение прекрасным?! Но что это за игра! Руками действовать не умеет, а говорит… смешно сказать — говорит просто, ну так, как все говорят. Да что же это за игра? Нет! Далеко вашему сиятельству до нас!»
Так судил Щепкин, который сам уже пять лет как был на сцене, пользовался даже известностью и получал самый большой оклад в труппе Баркова — 350 рублей ассигнациями. Он полагал, что имеет право быть строгим судьей.
Щепкин осуждал Мещерского, а между тем он понимал, что князь играет так, что образ скупца вырастает с каждым мгновением. Страх смерти и боязнь расстаться с деньгами были поразительно верны в его игре, а простота, с которой он говорил, нисколько ему не мешала. И к концу представления Мещерский овладел всем вниманием Щепкина, который уже никого, кроме Салидара, в спектакле не замечал.
Страдания Салидара отзывались в душе, каждое слово его своей естественностью приводило в восторг и вместе с тем терзало. В сцене, в которой Салидар узнает, что у него обманно выманили завещание, Щепкин испугался за князя: он думал, что князь умрет, потому что при такой страсти к деньгам, какую Мещерский раскрывал в Салидаре, невозможно было жить ни минуты после того, как эти деньги были потеряны!
Пьеса кончилась. Все были в восторге, заливались хохотом, делясь своими впечатлениями, а Щепкин залился слезами, что всегда было знаком его самых сильных потрясений — потрясений, переживаемых в искусстве.
Все ему казалось каким-то сном. Все перепуталось в сознании. Ведь нехорошо говорит Мещерский, слишком просто, а между тем он не играет, а живет на сцене. Но он тогда же решил попробовать говорить на сцене так же просто, как Мещерский. Вот удивит он своих курских товарищей! Списав роль Салидара, он стал ее изучать, но сколько ни пробовал говорить таким тоном, как говорил князь, ничего у него не получалось. Несколько дней сряду ходил он в рощу и там «с деревьями играл свою комедию». Играл и чувствовал, что все выходит попрежнему, а вот простоты князя никак не получается.
Много было затрачено Щепкиным сил и много ушло лет на трудную и мучительную работу изучения природы, — изучения всех оттенков человеческих чувств, — для того, чтобы овладеть этой «тайной» естественности.
2
Щепкина называют основоположником русского сценического реализма, то есть того течения в театральном искусстве, которое основано на правдивости, простоте, естественности и верности природе. Хотя Щепкин и не был первым, принесшим на сцену естественность, но он дал могучий толчок к развитию и углублению этой манеры актерского исполнения. Та естественность, которая поразила молодого актера Щепкина в Мещерском и которую он не мог постичь, передразнивая исполнение князя, — эта простота его, как оказывается, была свойственна не одному Мещерскому, а как бы носилась в воздухе, предчувствуемая целым поколением актеров. В русском театре уже к концу XVIII века на ряду с актерами-декламаторами, сущность игры которых так ярко описана Щепкиным, появились, правда как исключение, актеры, поражающие своей естественностью. Такой была, например, знаменитая «Лизанька» Уранова-Сандунова, о которой ее биограф писал, что она «обнаруживала замечательное стремление к естественности, и самый способ достижения правдивости исполнения она как бы предвосхитила у Щепкина».
И сам Щепкин, рассказывая о своих харьковских впечатлениях в 1816 году, вспоминает актера Угарова. «Существо замечательное, — говорит он о нем в «Записках», — талант огромный, добросовестно могу сказать, что выше его таланта я и теперь никого не вижу, естественность, веселость, живость, при удивительных средствах, поражали нас».
«К сожалению, талант Угарова направлен был бог знает как, — все игралось им на-авось. Если случайно ему удавалось правдивое изображение какого-нибудь характера, то это было превосходно во всех отношениях. К несчастью, это случалось очень редко, потому что «мышление было для него делом посторонним».
И еще один провинциальный актер — товарищ Щепкина в скитальчествах — Павлов. Павлов дебютировал в Москве и поразил естественностью своей игры, но так как это было новостью, то вызвало неодобрительные замечания со стороны директора театра. В ответ на замечание Павлов резонно заметил директору: «Ваше превосходительство, чтобы судить об искусстве, недостаточно генеральского чина». Этого было достаточно для того, чтобы двери столичного театра навсегда закрылись для дерзкого актера.
Мы не знаем, было ли мышление уделом остроумного Павлова, но все различие между Угаровым и Щепкиным было именно в том, что Щепкин как художник, как мастер своего искусства никогда и ничего не делал случайно, он не выходил «на сцену без самого внимательного и упорного изучения образа, который он раскрывал во всей его естественности.
Критиковавший князя Мещерского молодой Щепкин за 18 лет своих провинциальных скитаний вырос в артиста, научившегося быть естественным на сцене. Вот почему его имя было известным в Москве и вот почему дирекция императорского театра поспешила заключить с ним договор. То новое направление в сценическом искусстве, которое и было направлением естественности, — постепенно делалось господствующим. Щепкин появился в Москве как раз во-время.
Здесь, в Москве, были созданы величайшие образы Щепкина-актера. Здесь сложилось его искусство, здесь он приобрел право стать, как говорили его современники, Пушкиным русского театра. Как Пушкин в поэзии, так Щепкин в сценическом искусстве совершил реформу, сообщив естественность и уничтожив господствующую ходульность.
Ему было 35 лет, когда он начинал новую полосу своей жизни, самую большую главу в его артистической биографии, отмеченную сорока годами работы в театре.
Щепкин в ту пору уже «выглядел благообразным, кругленьким старичком, живым, веселым, торопливым, иногда плутоватым», как описывает его Петр Каратыгин в своих известных записках. Конечно, до старости Щепкину было еще далеко, по впечатление Каратыгина все же верно: Михаил Семенович выглядел старше своих лет. Та школа жизни, которую он прошел, наложила свой резкий отпечаток на подвижное лицо его, но она не придавила его к земле тяжестью воспоминаний, не сгорбила под впечатлением мучительных переживаний, не состарила морально под воздействием жестоких уроков действительности.
Воспитанный в противоречиях буфетной и гостиной, поставленный между просвещением и невежеством, вынужденный угождать всем для того, чтобы не быть брошенным на произвол судьбы, Щепкин должен был итти многообразными и извилистыми путями.
Он хорошо знает цену барской ласки, но он никогда не вступает с барином в размолвки. Сам крепостной, он понимает, что значит розги, палки и кнут, но он смеется, когда нужно плакать, и ловкой шуткой спасает от наказаний, когда другой, заливаясь слезами, дал бы волю своему негодованию. Живой, как ртуть, он смиряет свой темперамент, когда нерасчетливо и невыгодно проявить чувства во всей полноте. Он предпочитает обходные тропинки широкой дороге. Резкость правды он смягчает забавной шуткой, и наблюдает чаще, чем действует. Таков он в жизни, в быту, в своих встречах, знакомствах, приязнях. Он верит мудрости поговорки о худом мире, который будто бы лучше доброй ссоры. И, вместе с тем, он истинно чувствительный и истинно добрый человек. Лукавый, себе на уме, он хранит верность в дружбе и выручает друга из беды. Со всеми умеющий ладить, он под покровом ленивого благодушия таит темперамент, полный мощи, и с щедростью расточителя отдает его театру. Идущий в жизни многими дорогами, в искусстве он всегда идет одним путем, им завоеванным «а самых трудных его перевалах. Поэтому «жить» значило для него играть на сцене, а играть — значило жить».
Таким вступил он на подмостки Московского театра.
3
В Москве театр долгое время не носил характера придворного учреждения. Театр в Москве в течение нескольких десятилетий находился в руках иностранной антрепризы. Затем в шестидесятых годах XVIII столетия дело перешло к полковнику Титову, закончившему крахом свое предприятие, а с семидесятых годов театр содержался англичанином Медоксом. Под его антрепризой, длившейся 25 лет, играли выдающиеся актеры той эпохи — Плавильщиков, Померанцев, Шушерин, Сандуновы и др. Медокс разорился, не выдержав конкуренции с дворянскими полудомашними, полупубличными театрами, возникшими тогда во множестве. Только с 1806 года Московский театр получил управление и штаты императорского театра. В годы антрепризы Медокса возник Большой, или, как его называли сто лет назад, — Петровский театр. Он был выстроен в пять месяцев по плану архитектора Розберга.
Этот театр, по счету Медокса, обошелся в сто тридцать тысяч рублей. Князь Василий Михайлович Долгорукий-Крымский, бывший в то время начальником столицы, «изъявил за постройку этого великолепного здания благодарность» и особенное внимание Медоксу и предложил ему привилегию на содержание театра, с окончанием срока еще на десять лет, то есть до 1796 года.
Петровский театр был открыт в 1780 году. Ложи составляли как бы отдельные комнаты, подле оркестра были особые места, занимаемые постоянными посетителями: дамы садились в креслах, которые стоили два рубля, потом уж два рубля пятьдесят копеек, а партер внизу, за креслами, один рубль ассигнациями.
Для маскарадов, в то время усердно посещавшихся, была построена особая круглая зеркальная зала с роскошной отделкой. Около здания театра помещались квартиры для актеров.
Труппа в то время была невелика: всего тринадцать актеров и девять актрис.
Для выбора репертуарных пьес существовал особый комитет. Авторы получали гонорар только в том случае, если их пьеса имела успех и делала сборы. Наибольшим успехом пользовалась пьеса Аблесимова «Мельник».
Кроме «Мельника», часто ставилась комедия Княжнина «Сбитенщик», его же так называемая малая опера «Несчастье от кареты» и трагедия Озерова «Эдип в Афинах» и «Дмитрий Донской». Репертуар был невелик, всего 35 пьес. В течение года шло не более 80 спектаклей.
В октябре 1805 года Петровский театр сгорел до тла перед началом представления оперы «Днепровская русалка», по неосторожности гардеробмейстера. Огонь пощадил только деревянный дом, где жил Медокс. Признавая необходимость театра для Москвы, Александр I велел выстроить новый деревянный театр на Арбатской площади, временно же спектакли шли на Моховой, в доме Пашкова.
13 апреля 1808 года открылись спектакли во вновь выстроенном архитектором Росси Арбатском театре. Для открытия шел пролог С. Н. Глинки: «Баян — русский песнопевец древних времен». Арбатский театр был очень красив, весь окружен колоннами, подъезды к нему были со всех сторон, большое пространство между колоннами, в виде длинных галлерей, служило удобным местом для прогулок.
В ноябре 1809 года в Арбатском театре играла отличная французская труппа с известной актрисой Жорж во главе. Первое десятилетие XIX столетия представляет собой блестящую эпоху московского балета. Балетмейстер был известный танцор, француз Лефевр.
Наступил двенадцатый год. Наполеон двигался к Москве. Столица была в опасности, жители выезжали, государственные учреждения вывозились в провинцию.
30 августа 1812 года в Арбатском театре был последний спектакль с маскарадом (публика состояла почти из одних военных), после чего, по предписанию театрального начальства, часть труппы была переведена в Петербург, а часть вместе с театральной школой отправилась сначала в Плес, заштатный город Костромской губернии, а затем в Кострому.
Арбатский театр сделался одною из первых жертв пожара 1812 года.
По окончании войны театральные представления открылись на Знаменке, в доме Апраксина, где теперь Революционый военный совет республики (в помещении бывшего Александровского военного училища). Для открытия сезона (30 августа 1814 года) была представлена одна из любимых опер того времени: «Старинные святки». Театром управлял А. А. Майков. В доме Апраксина императорский театр просуществовал четыре года. Теснота помещения и неудобства, сопряженные с нею, заставили дирекцию искать новый театр. Майков обратился с запросом к московскому генерал-губернатору Тормасову относительно возобновления сгоревшего Петровского театра, но получил ответ, что постройка эта по высочайшему повелению отложена на неопределенное время. Пришлось арендовать для театра дом Пашкова на Моховой, где за 10 лет перед тем давались спектакли русской труппы, состоявшей из крепостных актеров, купленных дирекцией за 32 000 рублей у известного в то время театрала Д. Е. Столыпина. Открытие театра в доме Пашкова состоялось 25 августа 1818 года. В этот день шла опера Керубини «Водовоз».
Этот «театрал» Столыпин был одним из тех любителей сценического искусства, которые насаждали в России домашние театры. Актерами таких театров являлись исключительно крепостные. В частности, как раз об этом Столыпине говорит у Грибоедова Чацкий:
«А наше солнышко, наш клад,— На лбу написано: «Театр и маскарад». Дом зеленью расписан в виде рощи. Сам толст, его артисты тощи». («Горе от ума», д. I, явл. VII).И о таких же любителях искусства восклицает Чацкий и в другом месте комедии:
«Или — вот тот еще, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отгороженных детей, Сам погружен умом в зефирах и амурах. Заставил всю Москву дивиться их красе. Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и зефиры все Распроданы поодиночке». («Горе от ума», д. II).Из сохранившихся в архиве дел бывших императорских театров мы знаем, что столыпинская труппа, состоявшая из 77 человек актеров и музыкантов с детьми их, была продана дирекции за 42 тысячи рублей.
Очень характерно прошение директора театров Нарышкина, ходатайствовавшего перед Александром I о приобретении у Столыпина этой труппы:
«Умеренность цены за людей образованных в своем искусстве, польза и самая необходимость театра, в случае отобрания оных могущего затрудниться в искании и долженствующего за великое жалование собирать таковое количество нужных для него людей, кольми паче актрис, никогда со стороны не поступающих, требуют непременной покупки оных. Всемилостивейший Государь! По долгу звания моего, с одной стороны, наблюдая выгоды казны и предотвращая немалые убытки театра от приема за несравненно большое жалование произойти имеющие, а с другой, убеждаясь человеколюбием и просьбою всей труппы, обещающей всеми силами жертвовать в пользу службы, осмеливаюсь представить милосердию вашего величества жребий столь немалого числа нужных для театра людей, которым со свободою от руки монаршей даруется новая жизнь и способы усовершенствовать свои таланты, и испрашивать как соизволения на покупку оных, так и отпуска означенного количества денег, которых, ежели не благоволите, будет принять на счет казны, то хотя на счет московского театра с вычетом из суммы, каждогодно на оной отпускаемой. Подписал: оберкамергер Нарышкин 13 сентября 1806 года».
Бумага эта была доложена царю 25 сентября того же года. Александр, находя, что просимая Столыпиным цена весьма велика, «повелел директору театров склонить продавца на уступку». Столыпин уступил десять тысяч, и 21 ноября 1806 года ему было заплачено за труппу из государственного казначейства тридцать две тысячи, с условием, однако, чтобы сумма эта была возвращена казначейству дирекциею из денег, определенных ею на содержание Московского театра.
Очень типична для эпохи подробность заявления, указывающая на то, что с переходом в дирекцию императорских театров, крепостные актеры приобретут «новую жизнь». Иными словами это значило, что бывшие люди помещика станут собственностью государства.
Но и с переходом в дирекцию императорских театров крепостные Столыпина были поставлены в особые условия, резко отличающие их, подневольных, от людей свободного звания.
Каждый раз, как возникало недоразумение между актером и поставленным над ним начальством, последствия указывали на отсутствие у актера прав. Артистка Елизавета Горбунова, выходя в отставку и явясь в контору вместе с теткой своей «российской актрисой Баранчеевой», отказалась подписать обязательство не играть на общественных и частных сценах. «Мне не оставалось другого способа, — рапортовал управляющий московскими театрами А. А. Майков главному директору, — как за дерзость сию и за ослушание пред сим ею учиненное в непринятии ролей в наказание посадить ее (Баранчееву) в контору». Генерал-губернатор Растопчин, которому была подана жалоба, признал действия Майкова правильными. Тот же Майков, как видно из записок Каратыгина, заставил играть смертельно больного актера Кондакова под угрозой отставки от службы: Кондаков играл и умер на сцене. Власть более высоких начальников была безгранична. Из тех же записок Каратыгина мы узнаем об участи несчастной Новицкой, умершей от страха пред всесильным Милорадовичем, угрожавшим посадить ее в смирительный дом.
Приобретенные у Столыпина актеры и составляли ядро труппы Большого театра, открытого 6 января 1825 года.
К новой постройке Большого театра по плану профессора Михайлова, было приступлено в 1822 году. Он был возведен заново от самого основания и значительно увеличен против прежнего, сгоревшего в 1805 году. Строил его архитектор Бове. По словам современников, внешний вид театра «пленял глаз соразмеренностью частей, в которых легкость соединялась с величием». С. Т. Аксаков в своих театральных воспоминаниях писал, что Большой петровский театр, возникший из старых обгорелых развалин, поразил его своим великолепием к грандиозностью. Другой современник описывает вновь выстроенный театр в таких высокопарных фразах: «Петровский театр, как Феникс из развалин, возвысил стены свои в новом блеске и великолепии. Давно ли на сем месте безобразные груды, следы опустошительной стихии представлялись глазам нашим и глухие удары рабочего молотка раздавались. И уже восхищенный взор поражается прекраснейшим зданием, очаровывающим вкус своим возвышением и благородной простотой, соединенной с изяществом, и уже в стенах его гремят вдохновения муз, благотворные вдохновения человечества». В театре было пять ярусов, и не было ни одного места, откуда сцена не была бы видна во всей полности. Хорош был передний занавес, изображавший на голубом поле лиру Аполлона, окруженную сиянием; антрактный же изображал собою приподнятый занавес, из-за которого видна часть сцены. На фронтоне театра помещалась надпись: «Сооружен в 1824 году».
Для торжественного открытия спектаклей М. А. Дмитриев, племянник известного поэта Дмитриева, написал пролог: «Торжество муз».
Задолго до открытия театра все места были уже распроданы. Перед началом спектакля, 6 января, публика единодушно вызывала строителя театра, архитектора Бове, и наградила его долго не смолкавшими рукоплесканиями. Затем начался пролог. Спектакль шел два вечера под ряд и оба раза при полных сборах.
Тогда в Большом театре шли и драматические спектакли. «Освобождение Смоленска» вызывало восторг у публики; пьесы Коцебу: «Бедность и благородство души», «Ненависть к людям и раскаяние»; Федорова — «Лиза или следствие гордости и обольщений» не сходили с репертуара. Из комедий часто шла комедия Хмельницкого «Воздушные замки», И. А. Крылова — «Модная лавка», Капниста — «Ябеда» и многие переделки и переводы князя Шаховского, Зотова и Писарева. Из переводных классических пьес шли: Мольера — «Мещанин во дворянстве» и Шиллера — «Разбойники».
Любимым балетом был «Волшебная флейта, или танцовщики поневоле» Бернаделли.
4
В том же 1824 году, который значится как дата сооружения Большого театра, начались спектакли в доме купца В. В. Варгина — в Малом театре. Варгин был типичным представителем той породы сметливых, энергичных и настойчивых промышленников, которые выходили в эту эпоху на арену торговой жизни. Поставщик запасов на армию в 1812 году, побывавший в 1814 году в Париже, Варгин, вернувшись в Москву стал мечтать об устройстве площади наподобие парижских площадей. Делец и ценитель архитектуры, человек «американской складки», он был одним из тех пионеров в деле содействия «успехам отечественных изящных искусств», которых выдвинет из своей среды наиболее просвещенная часть крупной русской буржуазии. Самоучка, Варгин восхитился планом архитектора Бове о создании целого ансамбля зданий на площади и на свои средства выстроил дом с таким расчетом, чтобы он мог служить и для торгового предприятия и для отдачи его под концерты и вечера. Он охотно согласился на предложение дирекции перестроить дом целиком под театр, а затем и продал его.
В. В. Варгин вообще является одной из типичнейших фигур для Москвы двадцатых-тридцатых годов, то есть для той эпохи, когда богатеющее купечество начинает вытеснять дворянство. Об этом процессе упадка одного класса и восхождения другого находим очень яркие строки у Пушкина, который в своем художественном описании Москвы раскрывает целую картину новых экономических отношений.
…«Некогда в Москве, — читаем мы у Пушкина, — пребывало богатое не служащее боярство. Вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные. Некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Во всех концах древней столицы гремела музыка и всюду была толпа. Невинные странности москвичей были признаком их независимости… Куда девалась эта шумная праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники? Все исчезло. Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травой, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного. Великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона — и то слава богу. На всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает, и никто не нанимает».
Нельзя точнее и полнее передать начало того оскудения феодального дворянства, которое становилось знамением времени для середины девятнадцатого века, чем это сделал в своих «Мыслях на дороге» Пушкин. Чуткий наблюдатель, Пушкин спешит сделать вывод: «Обеднение Москвы доказывает обеднение русского дворянства, происшедшее частью от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротой, частью от других причин. Но Москва, утративши свой аристократический блеск, процветает в других отношениях: промышленность. сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенной силой. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством».
Наблюдательному Пушкину вторит десятилетия спустя В. Г. Белинский. «С предыдущего царствования (то есть царствования Александра Первого) Москва мало-по-малу начала делаться городом торговым, промышленным и мануфактурным. Она одевает всю Россию своими бумажно-прядильными изделиями, ее отдельные части, ее окрестности и ее уезд, — все это усеяно фабриками и заводами, большими и малыми. Сколько старинных вельможеских домов перешло теперь в собственность купечества».
Этот сложный процесс оскудения дворянства и перехода на командные экономические позиции молодой буржуазии, процесс столь образно раскрытый и в замечаниях Пушкина и в наблюдениях Белинского, социолог сформулирует так: «Дворянство в первую половину XIX века понемногу утрачивало свое влияние. Развитие хозяйства страны в сторону капиталистического строя, подрезывающее основы крепостничества, непосредственно задевало основные интересы дворянства. В этот период наравне с дворянством вырастает класс буржуа-предпринимателей, правда, пока не очень многочисленный, но достаточно влиятельный, с которым дворянство принуждено было делить свое привилегированное положение». Достаточно сказать, что с 1815 по 1836 год число предприятий увеличилось с 4189 до 6332, а число занятых в производстве лиц (только мужского пола) с 172 882 до 324 203 человека. В течение десятилетия число фабрик и заводов возросло в 1,5 раза, на 21,43 единицы, а число рабочих — почти вдвое. Дворянские фабрики, составлявшие в начале века основную массу частных промышленных предприятий, вытесняются купеческой и даже крестьянской фабрикой. Меняются основы произ-водства. Купечество владеет необходимыми капиталами, который нет у предпринимателей-дворян. Оживление внешней торговли дает в эту эпоху сильный толчок внутренней торговле.
Быстрый рост буржуазии и та реальная сила капитала, которая находилась в его распоряжении, привели к тому, что в целом ряде важнейших вопросов решающей силой уже оказывалось не дворянство, с его сословной традицией, а буржуазия — класс капиталистов, не имевший традиций, но опирающийся на силу денег. И правительство Николая Павловича отлично это понимает. Оно оказывает всяческое покровительство развивающейся промышленности и промышленникам. В 1826 году учреждается звание почетных граждан. Именитому купечеству открыт широкий путь не только к этому званию, но даже и к правам на личное дворянство. Знаменательно, что фабриканты по машиностроению освобождаются, например, от гильдейских взносов. В учрежденный же мануфактурный совет входит — на равных правах и в равном числе с дворянами — шесть членов от торгово-промышленного класса.
Эти годы отмечены также быстрым ростом слоя городской интеллигенции. Появление этой социальной группы также весьма характерно для развивающегося буржуазного строя. Эта группа развивается, главным образом, в городах при растущих учреждениях и учебных заведениях, и ее появление неизбежно при усложнении государственного аппарата и роста просвещения в стране. Из различных источников сложилась категория интеллигенции. Значительную прослойку ее составляют дворяне, в прошлом часто помещики. За последние 15 лет число беспоместных дворян возросло на две тысячи семейств и увеличило количество тех из них, которые ранее оторвались от социальной своей базы — земли. Подавляющее большинство учащихся было также дворянского происхождения. Отрыв от земли наложил на представителей такого дворянства особые черты, подчас резко отличавшие их от дворян-помещиков.
Дом купца Варгина, где открылся Малый театр в 1824 г.
(Со старинной литографии начала XIX ст.)
Являясь продуктом нового, сделавшего в средине века заметные успехи буржуазного строя, представители интеллигенции обычно были крайне скептически настроены к существующему строю, отживающему свой век. Для недовольства николаевской системой со стороны интеллигенции имелось достаточно оснований. Являясь, главным образом, представителями разоренного дворянства и дворянства мелкопоместного, этот слой представлял собой категорию трудовых, служилых, образованных людей, отдающих государству свои знания. Однако, полное бесправие николаевского режима, бюрократизм, проникающий во все государственные органы, создавали для работ и существования этого слоя крайне неблагоприятные условия. Являясь наиболее передовой и просвещенной частью населения, они ясно видели все несоответствие этого строя новому ходу жизни и беспощадно критиковали коренные его недостатки. Знакомство с европейской жизнью, и теоретическое и практическое, даст этой критике сильнейшие аргументы. В условиях николаевского режима, при котором правительство, при всем покровительстве промышленности, отстаивало принципиальные основы отживающего крепостного строя, интеллигенция могла оказаться не только оппозиционно, но и революционно настроенной.
Эти замечания социолога (см. книгу А. Нифонтова «1848 год в России») нельзя не принять во внимание в рассказе о том особом значения, которое начинает играть русский театр уже с первой четверти XIX века. Именно этот слой интеллигенции, либерально настроенной, с постоянным оглядом на Запад, становится основным элементом театральной публики.
М. С. Щепкин является актером именно этой публики. По своим личным симпатиям, по всему тому горькому жизненному опыту, который был трудной школой его жизни, Щепкин не мог не примкнуть к передовым людям его эпохи, разделяя если не революционные устремления наиболее радикально настроенных интеллигентов, то во всяком случае, те либеральные убеждения, которые исповедывались в кружках профессуры Московского университета, редакциях передовых журналов, в университетских аудиториях. Сцена Московского театра становится как бы кафедрой, с которой раздаются вольные слова, проповедуются свободолюбивые идеи и где «возвышающий обман» романтики заставляет забыть о тьме «низких истин». Разумеется, репертуар, идущий на императорской сиене, носит на себе печать самой строгой и придирчивой цензуры. Но и в ходульной мелодраме, не говоря о трагедиях Шекспира и Шиллера, зрители старались договорить за авторов те слова, которые были старательно зачеркнуты полицейским карандашом.
Московский театр с первых лет пребывания на его подмостках Щепкина выполнял, несомненно, общественную функцию, являясь выразителем настроений оппозиционной интеллигенции и радикально настроенной учащейся молодежи. Разумеется, он был и театром растущей буржуазии, вкусы которой не могли не отражаться как на выборе репертуара — легкомысленный водевиль и душу раздирающая мелодрама. — так и на манере актерской игры.
Щепкин навсегда остался московским актером, выражающим глубокий процесс формирования нового содержания, а отсюда и новых форм драматического искусства в его реалистическом русле.
5
Щепкин был любим и в Петербурге, куда ездил на гастроли. Петербургский театр многими чертами своими отличен от московского.
В годы, характеризующиеся, с одной стороны, ростом торгово-промышленного класса, с другой, совершенно определенной политической установкой николаевского режима, являющего собой вполне законченное. можно было бы сказать идеальное очертание полицейского государства, возникает архитектурное великолепие императорского Петербурга, с его ярко выраженным классицизмом, как искусства придворной бюрократии и аристократии первой четверти XIX века. Масштабы новых зданий, возникающих в Петербурге, подчеркивают стремления к подражанию искусству римлян. Римская история в ее героических поеданиях становится образчиком для подражаний. Один из прекраснейших зодчих той эпохи, Росси, так и говорил по поводу одного из своих архитектурных проектов, что размеры его «превосходят те, которые римляне считали достаточными для своих памятников». «Неужели побоимся мы сравняться с ними в великолепии? — спрашивает Росси и поучает: «Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в нерушимости. Этот памятник должен стать вечным».
С расчетом на вечность, в пропорциях, грандиозных и величественных, в масштабах, как бы соответствующих самоуверенной кичливости «незыблемой монархии», создает Росси здание Михайловского дворца, полукруглый корпус Главного штаба, публичную библиотеку, сенат и синод и, наконец, Александрийский театр, открытый сто лет назад.
Александринский театр таким образом в архитектурных своих пропорциях должен был выражать стиль блестящего императорского театра, на пышных подмостках которого было так удобно утверждать только что сформулированные министром народного просвещения Уваровым основы, на которых должна покоиться монархия: «самодержавие, православие, народность».
Театр должен был стать театром феодально-аристократическим. Он им не стал. Тот процесс экономического обеднения дворянства и роста торгово-промышленного класса, который, как мы видели, характеризует собой эпоху, этот процесс оказал свое воздействие и на судьбы только что отстроенного театра.
Александринский, или как писали тогда Александрьенский, театр стал театром восходящей буржуазии. Конечно, политически он был призван служить утверждению все той же уваровской формуле. Разумеется, он был императорским в том смысле, что Николай Павлович, считая себя покровителем искусств, смотрел на него, как на личную собственность. Неизменными в его разговоре были фразы: «Мой театр», «мои актеры». На его пышные подмостки вносились традиции крепостного театра. Николай Павлович входил в мельчайшие интересы «своего» театра. Актеры из холеных рук самодержца получали табакерки и перстни за усердие, из его же уст гневные речи за промахи. Аплодисменты из царской ложи решали успех спектакля. Высочайшее неодобрение губило карьеру актеров. Карьеры актрис расцветали в зависимости от склонности их к «васильковым дурачествам», как было принято называть в интимных кругах любовные приключения Николая Павловича, неслучайно носящего прозвище «Аполлона с насморком». Курс на реакцию был взят твердо и неукоснительно. Июльская революция во Франции, а внутри России холерные беспорядки, бунты в военных поселениях и неизгладимая память о «друзьях 14 декабря», которые томились в мрачных норах сибирской каторги, все это заставляло усиливать полицейский аппарат. работающий настолько четко, что коронованным полицмейстером Николай Павлович стал не только для России, но и для Европы, являясь одним из активнейших участников «европейского концерта монархов». Герцен об этой эпохе сказал, что Россия «лежала безгласной замертво, в синих пятнах, как несчастная баба у ног своего хозяина, избитая его тяжелыми кулаками».
В 1826 году, год спустя после того, как пушками 14 декабря было расстреляно карре «стоячей революции» на Сенатской площади, учреждено «Собственной его императорского величества канцелярии третье отделение». При его открытии Николай Павлович вручил начальнику отделения, жандарму Бенкендорфу, белый платок: третье отделение сим платком призывалось утирать слезы невинно обиженных подданных. В интересы своего отделения Николай Павлович входил с тою же мелочной заботливостью, как и в интересы театра. Граф же Бенкендорф театру предписал: «Все пьесы, поступающие на сцену театров Российской империи должны быть предварительно рассмотрены третьим отделением и без дозволения последнего представлены быть не могут».
Житель столицы, а также провинциал, приезжающий в Петербург и достопримечательности оного обозреть, и свои коммерческие дела устроить, мог быть совершенно спокойным и даже счастливым: в третьем отделении граф Бенкендорф утрет ему слезы в случае обиды или несправедливости, а в театре сыграют пьесу, тем же Бенкендорфом разрешенную, из которой житель столицы или приезжий провинциал узреет, как приятно и радостно быть подданным его величества!
Репертуар Александринского театра выражал стиль, который был так великолепно запечатлен в архитектуре его здания. Он был насыщен фальшивой романтикой ложноклассики и ходульной патриотики. Дряхлеющее поколение трагиков Яковлевых и Брянских, трагических актрис Семеновых и Вальберховых, блиставшее еще в эпоху «дней александровых счастливого начала», нашло себе преемника в Каратыгине. Каратыгин был «мундирным Санкт-Петербургом». Каратыгин декламировал. Ложноклассическая традиция сочеталась с душераздирающей мелодрамой. Кукольник и Полевой. Коцебу. Крюковской. Скобелев и целый ряд канувших в Лету драмоделов рисовали высокие страсти, незабываемые чувства, героические подвиги. Полевой, еще так недавно в качестве редактора-издателя «Московского телеграфа» казавшийся опасным вольнодумием, обласкан царем и прославлен как автор патриотических пьес. Не в «Московском ли телеграфе» был напечатан уничтожающий разбор драмы Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла»? Не Полевой ли дерзнул осмеять фальшивую романтику этой квасной и кичливой партиотичности Кукольника. Но:
Рука всевышнего Три дела совершила: Отечество спасла. Поэту ход дала И Полевого погубила.Полевой был погублен, слава Кукольника упрочилась. Но Кукольнику скоро пришлось разделять ее со своим хулителем: Полевой, автор «Дедушки русского флота», «Купца Иголкина» и «Параши-Сибирячки», обласкан царем. Он становится поставщиком патриотического репертуара Александринского театра.
Николаю Павловичу, игравшему роль и критика, и цензора, нравится патриотика Полевого и Кукольника потому, что она является великолепнейшим проводником уваровской триады. Все эти «Купцы Иголкины», «Ляпуновы», «Минины и Пожарские» неистовствовали, геройствовали, гибли, торжествовали, умирали, боролись все за те же незыблемые основы самодержавия, православия и народности. Но зрители императорской «Александринки» принадлежали не только к придворным и дворянским кругам. Александринский театр именно потому, что он возник в переломную эпоху, в годы умирания вотчинной системы хозяйства и начала роста промышленного капитала, стал театром восходящего класса — буржуазии. На торжественный спектакль, на пышные бенефисы, на излюбленные императором патриотические трагедии, ездил двор. В ложах сидело дворянство, партер был занят крупным чиновничеством. В местах за креслами и в ярусах находила себе приют другая публика. «Северная пчела» устами Фаддея Булгарина называет эту публику «бородками». «Бородки» — купечество. И купечество находит удовольствие в пышной декламации Каратыгина, от душераздирающей «коцебятины» по причинам несколько иного свойства, чем высочайший покровитель Александринского театра.
6
Но почему же так охотно идет публика тридцатых-сороковых годов в Александринку на представление ходульной романтики? Почему рукоплещет она Каратыгину и в каком-нибудь «Нино», и в «Уголино» Полевого и принцу Датскому в шекспировском «Гамлете»? На это очень хорошо отвечает Ф. Кони в «Репертуаре и Пантеоне» за 1847 год: «Наша политическая жизнь слишком молода, чтобы могла служить источником для драмы… Наша жизнь гражданская тесно связана с административной и не всех пружин ее можно касаться в драме. Драма из общественного современного быта решительно невозможна, формы нашей жизни слишком определенны и положительны, чтобы можно было допустить мысль, что страсти у нас могут иногда шагать за показанные пределы». Театр становится отвлечением от обыденной жизни и как характерен в этом смысле случай из жизни харьковского театра, рассказанный Грицко Основьяненко в «Литературной газете». Купец обратился к управляющему театром с покорнейшей просьбой — приказать комедиантам представить Гам лета». Надо заметить, что «Гамлет» шел в Харькове в ужаснейшей переделке: масса герцогов, маркизов, знатных рыцарей немилосердно дрались на дуэли и немилосердно убивали друг друга. Управляющий, сославшись на искажения в пьесе, пытался отговорить купца, напомнив ему, что актеры играли «Гамлета» из рук вон плохо.
— Слов нет, батюшка, гадко, — отвечает купец. — Но изволите видеть, все приятней смотреть на сцены королей, герцогов и других героев, чем простых дворян, которых мы ежедневно встречаем.
Театр выполнял функцию «возвышающего обмана», который дороже «тьмы низких истин». Но не все же короли и герцоги! Вкусы «бородок» удовлетворяются и мещанской мелодрамой, которая преподает со сцены примеры, указывающие на то, что «простой человек» — горожанин-буржуа может противопоставить свое достоинство чести какого-нибудь герцога. И вот в одной из пьес Полевого простой человек — Гюг Бидерман выступает с такой тирадой: «И вы думаете, что если в самом деле бесславием сестры моей прикрыто преступление другой, я передам вам тайну несчастной женщины? Нет. Гюг Бидерман не палач, суди ее бог. Я ставлю честь женщины за честь девушки— одна герцогиня, другая мещанка. Но честь им равно драгоценна. как вам, графу, и мне, слесарю». Третьегильдейский купец или сиделец Гостиного двора, слушая такие тирады, испытывал чувство гордости. Этика мещанина оказывалась ничуть не ниже нравственных принципов дворянина. Между мещанином и герцогом ставился знак равенства.
Но если политическая жизнь страны была слишком молода, как полагал «Репертуар и Пантеон», чтобы служить источником для драмы, то ее «молодость не препятствовала появлению на сцене водевиля. Водевиль, подчас даже связанный с административной жизнью», подменял бытовую комедию. Бытовая комедия, а тем более — сатира, могла бы встретить и встретила немало преград к сценическому осуществлению. Ведь «не всех пружин» можно было касаться в пьесах. связанных с «гражданской жизнью». Но почему бы не касаться поверхностных, злободневных явлений? Это не возбудит подозрений ни в третьем отделении, ни в цензурном ведомстве. Разве только обидится полиция, как обиделся пристав одной из петербургскиx частей, когда услышал в водевиле Каратыгина «Булочная» куплеты на тему о том. что сам частный пристав забирает хлеб и сухари. «Забирает» — не в виде ли взятки получает сухари и булки? Пристав обиделся, пожаловался, кому следует. Водевиль сняли. Но и автор, которому покровительствовал и великий князь Михаил Павлович и сам Николай («Чем ты нас еще потешишь?» говаривал царь водевилисту, словно шуту), но и автор нашел ход: пьеска была разрешена к вящшему посрамлению обиженного пристава. Нет, водевиль никого не раздражает, он скользит по поверхности жизни, легкомысленный весельчак и непритязательный зубоскал, он представляет картинки той «злобы дня», в которой живет петербургский обыватель. Гастролирует в столице знаменитая балерина Тальони — и в осмеяние той балетомании, которой заболели решительно все, Каратыгин пишет «Ложу первого яруса или Бенефис Тальони». Водевиль имеет огромный успех. Все довольны. Доволен и царь, который выбирает «Ложу первого яруса» для придворного любительского спектакля. Весь Петербург танцовал новый танец — и вот каратыгинская «Полька» ответ на это увлечение. Любители преферанса высмеяны в водевиле «Герои преферанса», и весь город — в канцеляриях, лавках, гостиных — твердит куплеты:
Уж я же друга-милочку Доеду, проучу. И в жилку друга, в жилочку. Чувствительно хвачу…«Личности» ограждены бдительным оком Бенкендорфа от изображения в литературе, но для водевиля сделано исключение — над некоторыми личностями водевилист может смеяться вполне безнаказанно. Актеры гримируются живыми людьми — так вышел на сцену не только бездарный рецензент Федоров, чем-то обидевший сочинителя водевилей но и Белинский — предмет жгучей ненависти «Северной пчелы». Но вот попробовал Петр Каратыгин намекнуть в водевиле на «самого» Булгарина, а Булгарин погрозил ему пальцем и «предостерег». Каратыгин понял, что ему выгоднее осмеивать «натуральную школу», как тогда называли реалистическое направление, чем всесильного «Видока Фиглярина» — сотрудника не только журналов, но и третьего отделения. И «натуральная школа» была осмеяна в плоских и грубых куплетах. И все понимали, что это направлено по адресу Гоголя.
Водевиль царит на сцене «Александринки». Играют по шести водевилей в один вечер!
7
Разумеется, этот водевильный жанр держится и на московской сцене, где есть такой блестящий его исполнитель как актер Живокини, современник и товарищ Щепкина. Но тот отпечаток чиновничьих влияний, который так резко выражен на самой природе искусства и мастерства Александринского театра, вовсе не характеризует московскую сцену. И если Петербург имеет Каратыгина, трагика, так пластически, так внешне законченно передающего целую галлерею образов героического репертуара. Каратыгина — трагика «лейб-гвардей-ца», по злому слову Герцена, актера, выражающего «вицмундирный Петербург», то Москва гордится Мочаловым. Мочалов по всему складу своей артистической натуры— полная противоположность Каратыгину. Мочалов — партнер Щепкина в целом ряде пьес — в известной мере утверждает своим искусством такие приемы, стиль и манеры передачи, которые не свойственны и Щепкину. Щепкин — артист гармонических созданий, сочетающий пламенный темперамент с рассудком, каждый образ создающий на основе внимательнейшего изучения, Мочалов же весь соткан из бурных порывов, это — артист. ждущий приливов «вдохновения» и под наплывом эмоций творящий в полном самозабвении.
О Щепкине и Мочалове такой высокий ценитель как Герцен говорил. что они оба были лучшими артистами из всех виденных им в продолжение 35 лет и на протяжении всей Европы. Оба принадлежали «к тем намекам на сокровенные силы и возможности русской натуры. которые делают незыблемой нашу веру в будущность России».
Сам Щепкин чрезвычайно ценил Мочалова. В воспоминаниях режиссера Куликова есть рассказ о том страстном споре, который Михаил Семенович вел с известным Нащокиным — другом Пушкина.
«Разгорячившийся Шепкин, продолжая ораторствовать, вскакивал с места, бегал по кабинету, наконец, торжественно, как неопровержимую истину, сказал:
— У Мочалова теплота, жар, искра божья, а ваш Каратыгин — мундирный С.-Петербург: затянутый, застегнутый на все пуговицы и выступающий на сцену как на парад, непременно с левой ноги: левой, правой, левой, правой!
Нащокин в ответ отозвался так:
— Мочалов за пренебрежение дарами природы достоин осуждения, а Каратыгин за старание и усердные труды — уважения.
Этот ответ еще больше взорвал Щепкина.
— Ваш взгляд, Павел Воинович, взгляд барина из Английского клуба. Вы, вероятно, случайно видели Мочалова в какой-нибудь неважной роли и не видели его в лучших ролях, когда он, как говорится у нас, был в ударе. Вот что я вам скажу, чтобы покончить спор: кто раз в жизни увидел истинно-гениальную игру нашего трагика, тот уже никогда ее не забудет и простит ему все».
В щепкинской защите Мочалова фраза, брошенная Нащокину о его «взгляде барина из Английского клуба», особенно примечательна. Это совершенно верно, что именно аристократическая публика. — та самая, которая составляла слой завсегдатаев Английского клуба, все еще живущего традициями фамусовской Москвы, не принимала Мочалова с его мятежными порывами, с его романтическим раскрытием сценических образов. Мочалов — кумир учащихся, радикально настроенной интеллигенции, той публики, которая в мятежности Моча лова видела как бы протест мертвящему, равнодушно жестокому, бюрократически размеренному строю жизни.
Мочалов дебютировал в Петровском театре четвертого сентября 1817 года в трагедии Озерова «Эдип в Афинах».
В публике был наездами навещающий Москву, провинциальный помещик, страстный рыболов и охотник С. Т. Аксаков, будущий автор знаменитой «Семейной хроники». Сергей Тимофеевич любил не только охоту в Оренбургских степях, — был он и страстным поклонником театра. Он рассказал об этом вечере четвертого сентября 1817 года в театральных своих воспоминаниях. Аксаков запомнил, что «в театре было душно. Знаменитый актер того времени — Колпаков, игравший Эдипа, был не в ударе. Пьеса шла вяло, зрители засыпали. Вдруг за кулисами раздался молодой, полный жизни голос Полиника: «Ах, где она, вы к ней меня ведите»…
Как электрическая искра пробежала по зале, после усыпительной монотонной игры этот голос поразил всех, и вышел в первый раз на сцену Мочалов. Невольно раздались аплодисменты. Актеры, публика, все оживилось. Мочалов играл великолепно, рукоплескания не прерывались, триумф был полный».
Это был дебют Павла Мочалова. Его отец, актер той самой крепостной труппы помещика Столыпина, которая, проданная в казну, сложила собою ядро будущего ансамбля Малого театра, сам вывел сына на сцену.
Придя домой, восхищенный его успехом, он сказал жене:
— Кланяйся ему в ноги. Сними с его ног сапоги — он достоин такой почести.
Так, в озарении славы, вошел блистательно на театральные подмостки Мочалов. Казалось, судьба оделила его всем: он был безмерно даровит, страстен, полон огня и силы. Небольшой ростом, он преображался на сцене, как бы вырастая на глазах.
Вот воспоминания знаменитого С. В. Шуйского о Мочалове в «Ричарде III». Помощник режиссера ищет Мочалова за кулисами, чтобы напомнить о выходе, и застает его «с лицом, искаженным от гнева и злобы: в порыве Страсти Мочалов резал мечом декорацию». Он поразил ужасом зрителей, когда выскочил на сцену с воплем:
— Коня! Полцарства за коня!
Молодой Шумский, сидевший в этот вечер в оркестре, не выдержал и вылетел оттуда, не помня себя, при этом появлении «Ричарда III».
Режиссер Соловьев в своих «Отрывках из памятной книжки» так характеризует П. С. Мочалова: «Он был по преимуществу человеком сердца, а не головы: он жил более чувством, нежели умом. Не получив надлежащего образования, он старался пополнить этот недостаток чтением и читал без разбора все. что попадалось под руку. Разумеется, такого рода чтение не могло принести большой пользы, и может быть оно только усилило его чувствительность, которая доходила иногда до болезненного раздражения. Добрый, честный, благородный, но со слабым характером, он был способен очень скоро всем увлекаться до страсти и также скоро делаться равнодушным к предмету своих увлечений. В искусстве он был больше поэтом, нежели художником, а в жизни чаще ребенком, нежели взрослым человеком. Говоря в строгом смысле, он почти ни одной роли не сыграл с должной полнотой и законченностью, но зато в продолжение каждой роли у него были минуты, в которые его могучее слово потрясало зрителя, как гальваническим ударом и жгло его огнем молнии. Видевшие игру Мочалова, конечно, помнят, эти поразительные проявления гениальной силы. Некоторые слова из его ролей были произносимы им с такой силой и с такой неотразимой правдой, что сделались театральным преданием и часто повторяются артистами. К сожалению, он не был господином этих минут: они приходили и уходили без его ведома, как наитие свыше, как вдохновение поэта. Он никогда не знал и не предчувствовал приближения этих великих моментов его сценической жизни, как не знает и не предчувствует огнедышащая гора, когда тайная сила природы заставит вылететь из ее недр страшное пламя и разольет реки огненной лавы».
И, вторя товарищу Мочалова по сцене, свидетельствует в свою очередь и Герцен, что Мочалов играл под влиянием творческих минут. «Мочалов не работал, — говорит Герцен, — он знал, что его иногда посещает какой-то дух, превращающий его в Гамлета, Лира или Карла Моора, и поджидал его… А дух не приходил, и оставался актер, дурно играющий роль».
В. Г. Белинский посвятил целый ряд проникновеннейших страниц разбору игры Мочалова, в его коронных ролях: Мейнау, Фердинанда, Отелло и, главным образом, Гамлета. Достаточно привести только несколько цитат из этих разборов, как бы насыщенных тою лавой страсти, какой дышало огненное исполнение Мочалова, чтобы ощутить, каким бурным, страстным, яростным темпераментом владел великий трагик.
Вот Мочалов-Гамлет после сцены «Мышеловки», в которой принц Датский уличил короля Клавдия в гнусном убийстве. «Вдруг Мочалов одним львиным прыжком, подобно молнии, со скамеечки перешел на средину сцены и, затопавши ногами, замахавши руками, оглашает театр взрывами адского хохота. Нет, если бы по данному мановению вылетел дружный хохот из тысячи грудей, слившийся в одну грудь, и тот показался бы смехом слабого дитяти в сравнении с этим неистовым, громовым, оцепеняющим хохотом. А это топанье ногами, а маханье руками вместе с этим хохотом! О, это была макабрская пляска отчаяния, веселящегося своими муками, упивающегося своим жгучим терзанием. О, какая картина, какое могущество духа, какое обаяние страсти! Две тысячи голосов слились в один крик одобрения, четыре тысячи рук соединились в один плеск восторга, и от этого оглушающего вопля отделялся неистовый хохот и дикий стон одного человека, бегавшего по широкой сцене, подобно вырвавшемуся из клетки льву».
Декламирующей Мочалов
Картина Неверова (Третьяковская галлерея в Москве).
Мочалов жил в страшное время. В предгрозовой духоте томились все, кто хоть сколько-нибудь понимали всю безмерную тяжесть этого строя. Романтизм был выражением того неудовлетворенного состояния, которое владело умами, поэтически настроенными. В этом было «веяние эпохи», и Мочалов был тем велик, как сказал о нем Аполлон Григорьев, что «поэзия его созданий была, как веяние эпохи, доступна всем и каждому — одним тоньше, другим глубже, но всем. Эта страшная поэзия, закружившая самого трагика, разбившая Полежаева и несколько других даровитейших натур, эта поэзия имела разное отражение в разных сферах общества».
Мочалов не вырвался из плена эпохи. Есть известная картина Неврева, изображающая великого трагика в кругу его поклонников: он, уже под сильным воздействием винных паров, стоит посреди комнаты и, скрестив руки на мощной груди, читает монолог. А в глубине комнаты столпились слушатели — московские купцы, восторженные ценители трагика — ценители и… неизменные собутыльники.
Мочалов был жертвой эпохи. Эпоха романтических мечтаний сочеталась со страстным стремлением забвения. Если нельзя жить достойно в этой душной обыденности, то пусть затуманят, в вихре закружат, в угарном чаду унесут больные грезы! Вино — источник и возбудитель мечты. И Мочалов заливает вином горечь неудачной жизни, трагедию своей личной судьбы.
Так губил и погубил себя великий трагик. Конечно, господам из Английского клуба он казался несуразным и диким. Господа из Английского клуба предпочитали Мочалову Каратыгина, актера по-своему замечательного, но лишенного именно того, в чем и раскрывалось все обаяние мочаловского гения, — непосредственности.
Щепкин, как великий художник, не мог «не чувствовать и не понимать «мочаловских минут». Но сам Михаил Семенович по всему складу и своей натуры, и по всем свойствам своего дарования является полной противоположностью Мочалову.
В статье А. И. Герцена, посвященной памяти Щепкина, есть строки, великолепно передающие то основное, в чем лежало глубочайшее отличие артистической природы, с одной стороны, Мочалова и Щепкина, с другой — Щепкина и Каратыгина, этих трех бесспорно самых выдающихся актеров эпохи. Мочалов, говорит Герцен, человек порыва, не приведший в покорность строй вдохновения. Щепкин, напротив, одаренный необыкновенной чуткостью и тонким пониманием всех оттенков роли, создавал образы, которые «не были результатом одного изучения. Но Щепкин так же мало был похож и на Каратыгина, «этого лейб-гвардейского трагика, далеко не бесталанного, но у которого все было уже до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал на погребение[3]. Каратыгин удивительно шел к николаевскому времени и военной столице его». Игра Щепкина, заключает Герцен, вся от доски до доски была проникнута теплотой, наивностью, изучение роли не стесняло ни одного звука, ни одного движения, а давало км твердую опору и твердый грунт».
«… Что бы значило искусство, если бы оно доставалось без труда!»— восклицал Щепкин в письме к одному из учеников своих, и в этом восклицании раскрыл одну из существеннейших сторон своей творческой натуры. Он был вечным тружеником, а сорок лет его службы в Малом театре в Москве были «каждодневным уроком», как выразился один современник, уроком-поучением для товарищей и уроком повторения пройденного для самого Щепкина. Уже на первую репетицию, на которую обычно актеры являются с тетрадкой в руках, Щепкин приезжал с полным знанием текста роли. Роль он твердил в театре, дома, в карете, на улице. Думая о ней, забываясь, он начинал повторять ее вслух. «Едем, бывало, с Щепкиным на репетицию, — вспоминает А. И. Шуберт, — он так просто, естественно, начнет говорить, думаешь, что это он мне говорит, а оказывается, роль читает наизусть».
Выступая в пьесе, хотя бы в сотый раз, Щепкин прочитывал роль накануне спектакля, перед сном. Актер Нильский рассказывает: «Однажды по внезапной болезни какой-то актрисы пришлось накануне вечером во время спектакля переменить назначенную на следующий день пьесу и заменить ее другой, а именно: «Горе от ума». Щепкин, узнав с перемене завтрашнего спектакля и несмотря на то, что роль Фамусова играл он уже очень давно, отправляется к режиссеру и спрашивает:
— В котором часу завтра репетиция?
— Какой пьесы, Михаил Семенович?
— Как какой? Да ведь завтра идет «Горе от ума»!
— Помилосердствуйте, зачем делать репетицию «Горе от ума», ведь мы пьесу на той неделе играли, позвольте актерам отдохнуть. Ведь уж как они знают свои роли, тверже никак нельзя».
— Ну, пожалуй, репетиции не надо, только все-таки попрошу хоть слегка пробежать мои сцены.
И репетиция состоялась, невзирая на то, что «Горе от ума» шло в московском театре совершенно без суфлера».
А вот рассказ того же Нильского о том, как Щепкин готовился к спектаклю: «однажды в московском Малом театре шла драма «Жизнь игрока». Щепкин играл в ней старика-отца Жермани. Придя в театр очень рано, я отправился на сцену и застал там одного только Михаила Семеновича, который за целый час до увертюры[4] уже совсем одетый и загримированный для роли расхаживал взад и вперед, от кулисы к кулисе и что-то озабоченно бормотал про себя. На отданный ему мною поклон он ответил невнимательным кивком головы и стереотипной фразой: «Добрый день» и потом тем же порядком, продолжая бормотать себе что-то под нос, ни на что не глядя, продолжает прохаживаться от одной стороны сцены к другой. Это продолжалось довольно долго. Я за ним с понятным любопытством следил и вдруг неожиданно созерцаю такую картину: Щепкин быстро подбегает к одной из декораций и громко, дрожащим голосом восклицает с жестикуляцией: «Сын неблагодарный, сын бесчеловечный!» Это начало монолога из роли. А затем опять стал продолжать свое шептанье. Мне сказали потом, что таким образом он проходит каждую роль, хотя бы переигранную им сотни раз; да вот вам и Жермани, — он играет его десятки лет под ряд».
Как же работал Щепкин? Он, прежде всего, пользовался собственными жизненными наблюдениями, которые он мог бы применить для объяснения того или иного душевного состояния в роли изображаемого лица. Он занимался психологическим анализом роли, а если было нужно, то и литературным изучением данного типа. По заказу Щепкина переводились целые статьи о театре — с иностранных языков недоступных Михаилу Семеновичу, делались извлечения из наиболее замечательных статей об исполнении различных ролей на французской и английской сценах. Ему нужно было добиться того, чтобы играемое им лицо было на сцене живым, правдоподобным, естественным, натуральным, как говорили тогда. Молодому своему товарищу он оставил несколько советов, которые рисуют метод его работы:
«Помни, любезный друг, — говорил он, — что сцена не любит мертвечины, ей подай живого человека и живого не одним только телом, а чтобы он жил и головой, и сердцем.
В действительной жизни, если хотят хорошо узнать какого-нибудь человека, то расспрашивают на месте его жительства об его образе жизни и привычках, об его друзьях и знакомых, — точно так должно поступать и в нашем деле. Ты получил роль и, чтобы узнать, что это за птица, должен спросить у пьесы, и она непременно даст тебе удовлетворительный ответ. Читая роль, всеми силами старайся заставить себя так думать и чувствовать, как думает и чувствует тот, кого ты должен представлять; старайся, так сказать, разжевать и проглотить всю роль, чтобы она вошла тебе в плоть и кровь. Достигнешь этого — и у тебя сами родятся и истинные звуки голоса, и верные жесты, а без этого, как ты ни фокусничай, каких пружин ни подводи, а все будет дело дрянь. Публику не надуешь: она сейчас увидит, что ты ее морочишь и совсем того не чувствуешь, что говоришь.
Помня, что на сцене нет совершенного молчания, кроме исключительных случаев, когда этого требует сама пьеса. Когда тебе говорят, ты слушаешь, но не молчишь. Нет, на каждое услышанное слово ты должен отвечать своим взглядом, каждой чертой лица, всем твоим существом; у тебя тут должна быть нежная игра, которая бывает красноречивее самых слов, и сохрани тебя бог взглянуть в это время без причины в сторону или посмотреть на какой-нибудь посторонний предмет, — тогда все пропало. Этот взгляд в одну минуту убьет в тебе живого человека, вычеркнет тебя из действующих лиц пьесы, и тебя надо будет сейчас же, как ненужную дрянь, выкинуть вон».
В длинном письме к своему ученику, актеру С. Шуйскому, Щепкин дает еще целый ряд советов, которые раскрывают тот путь изучения природы, по которому шел в своем искусстве Михаил Семенович:
«Всегда имей в виду натуру; влазь, так сказать, в кожу действующего лица. Изучай хорошенько его особенные идеи, если они есть, и даже не упускай из виду общество его прошедшей жизни.
Помни, что совершенство не дано человеку, но, занимаясь добросовестно, ты будешь к нему приближаться настолько, насколько природа дала тебе средств.
Следи неусыпно за собой, пусть публика тобой довольна, но сам себе будь строже ее.
Старайся быть в обществе — сколько позволит время, изучай человека в массе».
Восхищенный мастерством французской трагической актрисы Рашели, Щепкин говорил, что и русским актерам можно было бы достичь ее искусства: «только бы нам дожить до добросовестного изучения, а то нас лень одолевает».
Но в пристальном изучении «природы» есть одна опасность: актер может увлечься мелочами, подробностями, вместо того чтобы все внимание отдать целому, главному — передаче правды душевных переживаний. Пренебрегать мелочами не следует, учит Щепкин, но надо помнить, чтобы это было вспомогательным средством, а не главным предметом, только тогда актер будет до конца правдивым, искренним. Есть два типа художников сцены: один подделывается под природу, другой — сам делается натуральным — верным природе. Подделываться легко, сделаться трудно. Но искусству дороже артист, который как бы сопереживает в горестях и радостях, счастьи и несчастьи своему герою. Это сочувствующий, — называет Щепкин актера. Ему предстоит невыразимый труд, он должен начать с того, чтобы уничтожить себя, свою личность, всю свою особенность и сделаться тем лицом, какое ему дал автор. Он должен ходить, говорить, мыслить, чувствовать, плакать, смеяться, как хочет автор. Для этого надо изучать искусство с точки науки, а не подделки.
Положив науку в основу своего искусства, Щепкин в этом смысле был подлинным реформатором на русской сцене, — первым, подчинившим каприз настроения, прихоть счастливого «вдохновения» строгой и последовательной выработке в себе такого творческого состояния, когда никакие капризы и случайности не могут нарушить углубленный процесс работы.
Но это не значило для Щепкина быть на сцене холодным, как бы сторонним зрителем той драмы, которую переживал его герой. Именно потому, что он влезал в шкуру изображаемого лица и жил его чувствами, он в свое исполнение не боялся привнесть тот темперамент, который был в нем так силен. Аксаков, пристально изучивший Щеп кина-актера, говорил, что искусство Михаила Семеновича состоит преимущественно в чувствительности и огне. Это очень верные слова. Сам Щепкин, рассказывая о своих ощущениях на сцене, не раз упоминает про тот огонь, которым он загорался.
Белинский писал о «трепете чувств, об этой электрической теплоте души, которыми Щепкин так обаятельно и так могущественно волнует массы и увлекает их по воле своей огневой натуры». У него так много этого огня, что недостатком его исполнения является именно отсутствие необходимого спокойствия.
Но этот избыток чувств позволял Щепкину играть не только роли ярко комические, но и глубоко драматические. Он играл, например, роль старика-матроса (водевиль «Матрос»), который после долгого отсутствия возвращается к семье, в родной дом, где его считают погибшим. Жена нашла новое счастье с другим человеком, счастлива и дочь, и старик решает остаться неузнанным, чтобы не помешать им. Белинский об исполнении Щепкиным этой роли писал, что эта роль «может составить себе идею о настоящем амплуа Щепкина. Это роли по преимуществу мещанские, роли простых людей, но которые требуют не одного комического, но глубокого патетического элемента в таланте артиста. Торжество его таланта в том, что он умеет заставить зрителей рыдать и трепетать от страданий какого-нибудь матроса, как Мочалов заставляет их рыдать и трепетать от страданий принца Гамлета или полководца Отелло»,
И не случайно, что во французской комедии «Урок старикам» роль Данвиля в Париже играл трагик Тальма, а в Москве комик Щепкин.
«У меня было в жизни два владыки: сцена и семейство. — говорил Щепкин. — Первому я отдал все, отдал добросовестно, безукоризненно. Искусство на меня, собственно, не будет жаловаться, я действовал неутомимо по крайнему моему разумению. И я перед ним прав».
Он был тем взыскательным художником, о котором говорит Пушкин, и С. Т. Аксаков свидетельствует об этом: «В эпоху блистательного торжества, когда Петровский театр, наполненный восхищенными зрителями, дрожал от восторженных рукоплесканий, был в театре один человек, постоянно недовольный Шепкиным: этот человек был сам Щепкин. Никогда не был собою доволен взыскательный художник, ничем неподкупный судья».
Не сразу сложились взгляды Щепкина на сценическое искусство как искусство реалистическое. Борясь с дурными традициями прошлого, преодолевая театральные условности, которые мешали актеру быть естественным на сцене, отстаивая свои взгляды не в теоретических высказываниях, а доказывая примером собственной практики, всегда подкрепленным ссылками на живую действительность, — Щепкин верил в одну для него непреложную истину, что «искусство настолько высоко, насколько близко к природе». На московскую сцену он пришел уже убежденным борцом за естественную школу и в течение сорока лет его службы в Малом театре он неустанно продолжал углублять и развивать те приемы своего мастерства, которые позволяли ему с каждой новой ролью быть все более и более жизненным, естественным, правдивым.
Он застал в Москве молодую труппу, которая была как бы на стыке двух течений, двух направлений. Главные силы старой труппы, времен Медокса, до перехода театра в казну, ее корифеи — Померанцев. Плавильщиков, Шушерин, Сандунов, Синявская, Злов, Ожогин, Мочалов-отец — умерли. Остались предания, все еще питающие тот классический стиль их игры, который был единственным стилем дощепкинской эпохи. Условность, как прием, еще господствовала в двадцатых годах XIX столетия и раскрывалась в мелодраме и водевиле. Новые веяния, еще смутные и противоречивые, пытавшиеся утвердить естественность, оказывали, в свою очередь, воздействие на молодых актеров — будущих товарищей Щепкина.
В 1831 году комедия «Горе от ума» Грибоедова давалась полностью, и Щепкин приступил к изучению роли Фамусова. Тогда же появился перевод мольеровского «Тартюфа» — Щепкин — Оргонт, и двух комедий Бомарше «Женитьба Фигаро» и «Севильский цирюльник» — в обеих Щепкин играл Бартоло.
Фамусов — одно из великолепнейших созданий Щепкина. Но роль далась ему не сразу. Щепкин сам находил себя не слишком подходящим Фамусову, говоря — «Какой же я барин!» И, действительно, отсутствие барственности было отмечено в исполнении Щепкина критикой. Но неустанно работая, Щепкин и этот образ поднял на огромную высоту мастерства.
Старый театрал Стахович, видавший в этой роли Щепкина в последние годы его жизни, писал, что «Фамусов в исполнении Щепкина был далеко не аристократ, да и мог ли быть им управляющий казенным местом, но барства и чванства много должно было быть в родственнике Максима Петровича. Именно таким московским барином двадцатых годов был в этой роли Щепкин. Важным, сосредоточенным был Щепкин даже во время ухаживания с Лизой, что он делал с легким оттенком галантности турецкого паши, и с лакеем в душе, Молчалиным, и с крепостными лакеями. Любезен только с одним Скалозубом. В III действии он только оттенял в своей надутой любезности разные категории гостей. В обращениях к Чацкому тон Щепкина была не только ироничен, а почти презрителен, постоянно слышалась ненависть к противнику и его взглядам.
Ключом всей роли Фамусова в исполнении Щепкина было слово «с кем» в IV действии:
«Бесстыдница, где, с кем…»
Найди Фамусов Софью в передней не с Чацким, а со Скалозубом, и Фамусов прошел бы мимо, не заметив».
Тридцатые годы в жизни Щепкина отмечены, наконец, самым решающим событием в истории его сорокалетней службы в Малом театре.
В 1831 году Щепкин встретился с Гоголем. Гоголь навсегда входит в жизнь Щепкина. Щепкин становится актером Гоголя.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ АКТЕР ГОГОЛЯ
1
Гоголь в пору своей встречи с Щепкиным был уже автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В первых числах июля 1832 года Гоголь впервые приезжал в Москву. Его имя, как свидетельствовал С. Т. Аксаков, было уже «известно и дорого». А в июне 1832 года Щепкин гастролировал в Петербурге в только что открытом Новом или Александринском театре, где его смотрит Гоголь.
В Москве, знакомясь с людьми литературного круга, Гоголь, восхищенный игрою Щепкина, являвшимся к тому же его земляком, искал с ним встречи. Знакомство состоялось в доме Аксаковых. Один из сыновей С. Т. Аксакова оставил описание этой встречи: «Не помню, как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять — у нас всегда много собиралось; стол по обыкновению накрыт был в зале; дверь в переднюю для удобства прислуги была отворена настежь. В середине обеда вошел в переднюю новый гость, совершенно нам незнакомый. Пока он медленно раздевался, все мы, в том числе и отец, оставались в недоумении. Гость остановился на пороге в залу и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни:
Ходит гарбуз по городу, Пытается своего роду: Ой, чи живы, чи здоровы Все родичи гарбузовы.Недоумение скоро разъяснилось — нашим гостем был Гоголь».
С первой встречи между Гоголем и Щепкиным установились дружеские отношения.
Романтический период юности Гоголя кончился. Уже в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» слышались скорбные ноты. В молодом писателе, так беззаботно хохотавшем в «Вечерах», чувствовалась «болезнь», которою одержимо было все его поколение — неудовлетворение и тоска» (собственные слова Гоголя в письме к А. С. Данилевскому). Уже назвал Гоголя Пушкин «веселым меланхоликом». Гоголь, начавший собирать «материал для духовной статистики России», искал встреч с людьми, которые могли бы нарисовать ему в ярких красках картины жизни. Щепкин в этом смысле был для Гоголя находкой. Та русская жизнь, которую Щепкин знал от лакейской до дворца, вставала в его веселых и грустных рассказах и анекдотах во всей своей обнаженности. Гоголь жадно ловил эти рассказы. Воспоминания Щепкина о его бабке, принявшей неожиданное появление одичалой кошки за предвестие близкой кончины, пригодились Гоголю для «Старосветских помещиков».
Щепкин, прочитав рассказ, сказал Гоголю:
— А кошка-то моя.
— Зато коты мои, — отвечал Гоголь.
Рассказ «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», понадобившийся Гоголю для второй части «Мертвых душ», принадлежит также Щепкину.
Михаил Семенович говорил, что для характера Хлобуева Гоголю послужила личность одного господина в Полтаве; с ним Щепкин часто встречался, служа в труппе Штейна. Щепкин передал Гоголю и анекдот о городничем, которому нашлось место в тесной толпе, и о сравнении его с лакомым куском, попадающим в полный желудок.
Замыслы о пьесе входили в строй новых мыслей Гоголя. Он всегда чувствовал и любил театр. Его отец писал пьесы и режиссировал домашними спектаклями. Сам Гоголь в нежинском лицее славился, как замечательный актер. Известно, что он пытался лопасть на императорскую сцену в Петербурге.
В 1831 году он явился к директору театра, князю Гагарину, и заявил о своем желании быть принятым в труппу на драматические роли. Директор распорядился произвести испытание. Инспектор труппы, Храповицкий, считавший себя великим знатоком театра и убежденный, что для трагического актера необходимы дикие завывания. предложил Гоголю прочесть монологи из трагедии Озерова «Дмитрий Донской» и из трагедий Расина «Гофолия» и «Андромаха» в дубовом переводе графа Хвостова.
Гоголь читал просто, без всякой декламации, но читал по тетрадке и сильно конфузился: испытание происходило в репетиционное время, и в зале присутствовали актеры. Храповицкий морщился и не дал Гоголю кончить монолог Ореста. Результатом испытаний была записка в дирекции: «Присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только в трагедии или драме, по даже к комедии. Не имея никакого понятия о декламации, даже по тетради читал очень плохо и нетвердо. Фигура его совершенно неприлична для сцены и в особенности для трагедии. В нем нет решительно никаких способностей для театра, и если его сиятельству угодно будет оказать Гоголю милость принятием его на службу к театру, то его можно было бы употребить разве только на выхода».
Храповицкий судил с точки зрения той традиции, которая, как мы помним из рассказа Щепкина, была целиком основана на завывающей декламации с «классически» поднятой правой рукой и бессмысленно застывшим лицом. А Гоголь читал просто. Больше того — из показаний многих современников мы знаем, что он читал «чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения и такой яркий колорит получали они в устах его», — свидетельствует П. В. Анненкова, а Погодин прямо утверждает: «Читал Гоголь так, как едва ли кто может читать: как ни отлично разыгрывались его комедии или, вернее сказать, как ни передавались превосходно некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как его чтение».
Манера чтения Гоголя в известной степени выражала и творческую его школу — то направление естественности, которое встретило у знаменитого Дмитриевского такие яростные нападки на князя Мещерского, боровшегося с ложно-классической традицией в русском театре, и, как мы помним, давшего могучий толчок Щепкину для развития его искусства, тем и высокого, что оно было близко к природе.
Гоголя и Щепкина называли представителями натуральной школы, и обоим пришлось потратить немало сил и энергии для того, чтобы эта новая школа русского театра и русской драматургии стала с сороковых годов XIX столетия главенствующей школой.
Вопросы театра и его репертуара всегда были близки Гоголю. В первый же его приезд в Москву Аксаков имел с ним любопытный разговор на театральную тему. Беседа шла о Загоскине. «Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. На это Аксаков возразил, что «ведь и писать-то не о чем, — на свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что
«…даже глупости простой В тебе не встретишь, свет пустой».Гоголь посмотрел на Аксакова значительно и сказал, «что это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим: но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы уже сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться. что прежде не замечали его». (См. «Разные сочинения С. Т. Аксакова — биография М. Н. Загоскина»).
У Гоголя было уже набросано несколько заметок о комедии и вырастал замысел «Владимира третьей степени» — пьесы незаконченной, дошедшей в отрывках: «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская».
О ней писал Гоголь:
«Уже и сюжет комедии было на-днях начал составляться; уже и заглавие было написано на белой толстой тетради: «Владимир третьей степени», и сколько злости, смеху, соли, но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается о такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пьеса не будет играться. Драма живет только на сцене; без нее она, как душа без тела. Какой же мастер понесет напоказ народу неоконченное произведение. Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, в котором даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости? Итак, за комедию я не могу приняться. Примусь за историю — передо мной движется сцена, шумят аплодисменты, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы — историю к чорту».
О замысле Гоголя знал Щепкин — подробность, раскрывающая те дружеские отношения, которые завязались между ними. Щепкин рассказывал, что героем комедии Гоголя был человек, поставивший себе целью жизни получить крест св. Владимира третьей степени. Из всех российских орденов именно этот орден давал особые привилегии и жаловался за выдающиеся заслуги и долговременную службу. Этот орден, единственный, давал право на получение дворянского звания. Старания героя пьесы получить Владимира третьей степени слагали сюжет комедии и давали обширную канву. В конце комедии герой ее сходил с ума и воображал, что он сам и есть Владимир третьей степени. С восхищением отзывался Щепкин о сцене, в которой герой, сидя перед зеркалом, мечтает об ордене и воображает, что он уже на нем.
Гоголь был вынужден бросить замысел о комедии «с правдой и злостью». Но слишком властной была эта картина аплодирующего партера, этих рож. высунувшихся из лож, из райка, из кресел, и Го голь решил обратиться к пьесе «с невинным сюжетом». Были начаты «Женихи», переработанные затем в «Женитьбу».
«Женитьба» была предназначена Гоголем для бенефиса Сосницкого в Петербурге и Щепкина в Москве. Но всегда недовольный собою, Гоголь решил еще раз переделать комедию. Четвертого сентября 1836 года Щепкин спрашивал Сосницкого о Гоголе и корил своего приятеля за то, что тот вернул ему полученную пьесу для переделки.
Но не «Женитьба», в которой Щепкин сначала играл — и не совсем удачно — роль Подколесина, оказалась решающей в сценической судьбе Михаила Семеновича: 25 мая 1836 года Щепкин впервые сыграл городничего в «Ревизоре». Городничий — величайшее создание Щепкина, так же как и «Ревизор» — величайшее создание Гоголя-драматурга.
Н. В. Гоголь
(Портрет 1836 г.).
Месяцем раньше московской премьеры «Ревизор» шел на Александринской сцене — 19 апреля 1836 года.
Инспектор труппы — чиновник Храповицкий — в своем дневнике под этой датой записал: «В первый раз «Ревизор». Оригинальная комедия в пяти действиях, сочинение Н. Гоголя. Государь-император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души. Пьеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество. Актеры все, в особенности Сосницкий, играли превосходно. Вызваны Сосницкий и Дюр».[5]
Гоголь на вызовы автора по окончании пьесы не вышел: его не оказалось в театре. Но он смотрел спектакль и был в настроении скучном и подавленном. Поставлена комедия была плохо. На генеральной репетиции Гоголь распорядился вынести роскошную мебель из комнаты городничего. И тогда же он снял замасленный кафтан с ламповщика и надел его на актера, игравшего Осипа.
Уже по этим подробностям постановки можно судить о поверхностном понимании театром великой комедии.
П. В. Анненков описал настроение зрительного зала: «Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах, словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это потом возрастало с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истиной, что раза два раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший. Аплодисментов почти совсем не было, зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое завершено было пятым актом. Общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «Это — невозможность, клевета и фарс».
Анненков собрал рассказы, передающие и о настроении самого Гоголя: после спектакля он отправился к своему другу Н. Я. Прокоповичу в самом раздраженном состоянии духа. Прокопович вздумал поднести ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами: «Полюбуйтесь на сынка». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи боже! Ну, если бы один, два ругали — ну, и бог с ними. А то все, все».
Гоголь часто возвращался к вечеру первого представления «Ревизора». В статье, в которой он хотел суммировать впечатления об исполнении пьесы и которую он писал в форме «Письма к одному литератору» — предполагалось, что к Пушкину, — он говорил, что «о восторге и приеме публики не заботился». Но на самом деле именно прием публики оказал решающее на него воздействие. Все ругали, все восстали, все против него! Это переживается Гоголем мучительно.
Посылая М. С. Щепкину экземпляр «Ревизора», он в большом письме к нему говорит, что «действие, произведенное комедией, было большое и шумное: все против меня — чиновники, пожилые, почтенные, кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины, и против тебя восстают, и не один человек, а целое сословие».
И в письме к Погодину он повторяет: «Все против меня, нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него». «Он зажигатель, он бунтовщик». И кто же говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были, хотя слегка, ее собственные нравы».
«Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене», удостоверяет сам Гоголь. На этот раз «люди государственные» разошлись во мнениях с царем Николаем Павловичем. Николай Павлович прочел в «Ревизоре» то, что было скрыто от полицейской услужливости Булгарина, Греча и Сенковского, доносивших на пьесу, как на разрушающую основы. Николай Павлович увидел в комедии не разрушение, а утверждение, ибо основная тенденция «Ревизора» — осмеять порочных чиновников, дурно исполняющих благодетельные государственные законы, и воздать должное недремлющему оку — высшей власти, которая, как нельзя более вовремя, посылает настоящего ревизора. Жандарм, стуком своей сабли наводящий порядок среди разбушевавшихся чиновников и громогласно заявляющий о прибытии чиновника из С.-Петербурга, этот жандарм — развязка комедии, в глазах заступившегося за пьесу Николая Павловича — апофеоз царевой мудрости.
Но прав Гоголь — целое сословие было против него. Царь сам был на представлении и министров послал в театр. Министр финансов Канкрин выразил точку зрения своего сословия — крупной петербургской бюрократии в такой оценке: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу».
Графу Канкрину вторил представитель литературного сословия вернее сказать, литературной школы, сдающей свои позиции, — Кукольник, который «иронически ухмылялся и, не отрицая таланта в Гоголе, замечал: «А все-таки это фарс, не достойный искусства».
На комедию обрушилась «Библиотека для чтения» и «Северная пчела». Рецензенты писали, что вся пьеса «анекдот», старый, всем известный, тысячу раз напечатанный, рассказанный и отделанный в разных видах и на разных языках». Рецензенты находили, что в пьесе нет никакой картины русского общества, нет характеров, нет ни завязки, ни развязки. Многое неестественно, неправдоподобно. «Совсем не выведены честные люди», наконец, что «в пьесе много длиннот и что г. Гоголь явно не выполнил даже своего анекдота».
Булгарин упрекал Гоголя в том, что у него дают и берут взятки не так, как это делается на самом деле, что его комедия страдает пошлостью разговоров, что на сцене произносятся слова, неупотребительные в хорошем обществе, например, «суп воняет», «чай воняет рыбой»; Булгарин находил, что Гоголь — «писатель с дарованием», от которого «мы надеемся получить много хорошего, если литературный круг, к которому он теперь принадлежит и который имеет крайнюю нужду в талантах, его не захвалит».
В «Театральном разъезде после представления новой комедии», Гоголь с язвительной тонкостью пародировал высказывания Булгарина и суждения публики.
2
В Петербурге «Ревизор» был сыгран в апреле, а через месяц, 25 мая, он был дан в Москве. История сценической судьбы комедии вступает в свою новую фазу. Здесь одним из главных действующих лиц, сыгравших историческую роль в деле приобщения комедии в репертуар русского театра, был Щепкин. Узнав через Сосницкого о постановке «Ревизора» на петербургской сцене, он в ответном письме говорил: «Благодаря театру, я приходил уже в какое-то ни спящее, ни дремлющее состояние; бездействие совершенно меня убивает. Я сделался здесь на сцене какой-то ходячею мишенью или вечным дядею, я давно уже забыл, что такое комическая роль, и вдруг письмо дало новые надежды, и я живу новою жизнью».
Мучительно было то угнетенное состояние, в котором находился Щепкин-художник. Зрелый мастер, с законченными убеждениями и взглядами на существо искусства, которое, как мы знаем, было для него тем выше, чем ближе находилось к природе, Щепкин уже не мог удовлетворяться тем успехом, которым он пользовался, играя разных Репейниковых, Богатоновых, Любских, и прочих, как он выражается, «вечных дядюшек». Даже Мольер и весь тот необширный классический репертуар, который ставился на Малом театре, не мог утолить его творческой жажды. Условные приемы водевиля и мелодрамы казались Щепкину все более и более чуждыми. Он вполне разделял убеждения Гоголя, писавшего, что «мелодрама и водевиль, эти незаконные дети ума нашего девятнадцатого столетия, совершенное отступление от природы, введшее множество мелких несообразностей». «Но какие были это водевили?» — спрашивал Гоголь и отвечал: «Они были переводы с французского… В Петербурге есть французский театр, и очень изрядный. Итак, кто же захочет смотреть французскую пьесу в переводе, играемую русскими актерами, не видавшими французского общества, тогда как он может на французском театре видеть ту же самую в оригинале, игранную природными французами?.. Несколько пьес появилось оригинальных; но какие были это пьесы? Эти пьесы были водевили — русские водевили. Это немножко смешно. Во-первых потому, что эта легкая бесцветная игрушка могла родиться только у французской нации, не имеющей в характере своем глубокой физиономии, если оказать сильно — национальности. Но что же теперь вышло, когда настоящий русский, да еще несколько суровый и отличающийся своеобразной национальностью характера, со своею тяжелою фигурою, начал подделываться под шарканье петиметра, а наш тучный, но сметливый и умный купец с широкой бородой, не знающий на ноге своей ничего, кроме тяжелого сапога, надел бы вместо него узенький башмачок и чулки ажур, а другую, еще лучше, оставил бы в сапоге и стал бы в первую пару во французскую кадриль? А ведь почти то же наши национальные водевили».
Не менее сурово суждение Гоголя и о мелодраме, которая «есть никак не более, чем программа для балета: она говорит только о чем должно итти дело, что такое есть в пьесе, а разрешать ее и создавать должны актеры сами. Главное в мелодрамах — оглушить вдруг чем-нибудь зрителей, хоть на одно мгновение. Вся мелодрама состоит из убийств и преступлений, и между тем ни одно лицо не возбуждает участия».
И в этой же статье («Петербургская сцена в 1835–1836 гг.») Гоголь, отмечая, что со всех сторон идут «всеобщие жалобы «а недостаток таланта в актерах», берет актеров под решительную защиту, потому что «талантам не на чем развиваться». «Разве попадается им (актерам) хоть одно лицо русское, которое они могли бы живо представить себе? Кого играет наш актер? Каких-то нехристей, людей не французов и не немцев, но бог знает кого, каких-то взбалмошных людей, не имеющих решительно никакой определенной страсти. Не странно ли, тогда как мы больше всего говорим теперь об естественности, нам, как нарочно, подают под нос верх уродливости. Русского мы просим! Своего давайте нам! Русских характеров, своих характеров! Давайте нас самих! Давайте нам наших плутов, которые тихомолком употребляют во зло благо, изливаемое на нас правительством нашим, которые превратно толкуют наши законы, которые под личиною кротости под рукою делают делишки, не совсем кроткие. Изобразите нам нашего честного, прямого человека, который среди несправедливостей, ему наносимых, остается неколебим в своих положениях… Бросьте долгий взгляд во всю длину и ширину нашей раздольной России: сколько есть у нас добрых людей, но сколько есть и плевел, от которых житья нет добрым, и за которыми не в силах следить никакой закон. На сцену их! Пусть видит их весь народ! Пусть посмеются им. О! смех великое дело».
Очень характерно для Гоголя, что он готов отвести в сторону всякий чужеземный репертуар, договариваясь, между прочим, до утверждения отсутствия у французов национальности, забывая при этом, что сам, как драматический поэт, был чрезвычайно многим обязан Мольеру. Упоминание о нашем тучном, но сметливом и умном купце с широкой бородой не случайно — грузно и властно вступала на передовые позиции экономической жизни молодая русская буржуазия.
В своих суждениях о русской сцене, страдающей от недостатка оригинальных и, как подчеркивалось Гоголем, национальных произведений, дающих возможность широко развернуться актерским талантам, автор «Ревизора» в Щепкине мог найти полного и убежденного сочувственника. Ведь Щепкин всей практикой своего театрального мастерства утверждал ту самую естественность на сцене, о которой — как верно заметил Гоголь — говорили больше всего.
Щепкин стремился к тому, чтобы изобразить русский характер, прекрасно понимая, что персонажи пьес Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, Писарева — все еще не национальны по существу своему.
3
Получив от автора экземпляр пьесы, Щепкин писал Гоголю, что он благодарит его за «Ревизора» не как за книгу, а как за комедию, которая, — говорит он, — осуществила все его надежды, и я совершенно ожил. Давно уже я не чувствовал такой радости, ибо, к несчастью, мои все радости сосредоточены в одной сцене. Знаю, что это почти сумасшествие. Но что же делать? Я, право, не виноват. Порядочные люди смеются надо мной и почитают глупостью, но я, за усовершенствование этой отдал бы остаток моей жизни». Это не было преувеличением: «Ревизор» сделал с Щепкиным — как выражался в письме к Гоголю М. П. Погодин — «чудо». «Щепкин плачет. При первом слухе о твоей комедии на сцене, он оживился, расцвел, вновь сделался веселым, всюду ездил и рассказывал».
Щепкин упрашивал Гоголя приехать в Москву, если не для того, чтобы поставить пьесу, то хотя бы для того, чтобы прочесть ее актерам; «Вы должны это сделать по совести, — убеждал он, — вы должны это сделать для Москвы, для людей, вас любящих и принимающих живое участие в «Ревизоре».
Но Гоголю комедия «надоела так же, как хлопоты о ней». Он хотел приехать в Москву и «прочитать собственногласно, дабы о некоторых лицах не составились заблаговременно превратные понятия», сообщал он Щепкину, и пояснил, почему он отказался от этой мысли: «Познакомившись со здешнею театральною дирекциею, я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе удержать поездку и попытку хлопотать о чем-либо».
Дирекция императорского театра сделала, действительно все возможное, чтобы вселить в Гоголе отвращение к сцене, к актерам, к хлопотам о пьесе. Неряшливая петербургская постановка, извращение актерами авторского смысла («Дюр ни на волос не понял Хлестакова»), оскорбительное неуважение к автору, выразившееся тем, что уже на следующий день после первого спектакля «Ревизора» шла стряпня неведомого сочинителя под названием «Настоящий ревизор», все это больно ранило самолюбие Гоголя. К тому же во главе дирекция стоял Гедеонов, человек грубый, в искусстве решительно ничего не понимающий и попавший на этот пост ловким маневром, о котором рассказывали современники так: однажды император Николай Павлович в один из своих приездов в Москву давал обед, на который приглашались лица по списку, составленному министром Двора. В один из таких приездов министр пригласил генерала, бывшего в немилости у императора. «Ну и обедай сам с ним, — сказал Николай, просматривая список, — я не буду». Дело приняло неприятный оборот. «Не беспокойтись, — сказал министру находчивый Гедеонов, — я все устрою». В назначенный день и час злополучный генерал в парадной форме в белоснежных штанах явился во дворец. По заранее составленному плану, лакею, бывшему в заговоре, крикнули снизу: «Подай скорее чернильницу!» Лакей бросился исполнять приказание, заторопился, споткнулся и совершенно натурально вылил содержимое чернильницы, на белоснежные штаны генерала. Совершенно натуральны были извинения чиновников и разнос лакея, и генерал уехал домой, вполне уверенный, что роковая случайность помешала ему предстать за обедом перед высокомилостивые очи монарха. Находчивый Гедеонов получил должность директора театров.
И этот Гедеонов, о котором ходило то городу столько курьезных анекдотов, вздумал, как писал Гоголь Щепкину, «отдать главные роли другим персонажам после четырех представлений, будучи подвинут какой-то личной мелочной ненавистью к некоторым главным актерам в моей пьесе». Нет, Гоголь решительно не желает терпеть новой неприятности еще и в Москве! Гоголь поручает Щепкину взять на себя все дело постановки «Ревизора» из дружбы к нему. «Я не знаю никого из актеров ваших, какой и в чем каждый из них хорош, — пишет он Щепкину. — Но вы это можете знать лучше, нежели кто другой. Сами вы, без сомнения, должны взять роль городничего, — иначе она без вас пропадет». Надо заметить, что критикуя петербургское исполнение и в особенности актеров, игравших Добчинского и Бобчинского, Гоголь, «создавая этих двух маленьких человечков», воображал в их коже Щепкина и Рязанцева» (из «Письма к одному литератору»).
Мысль о Щепкине, как об исполнителе городничего, явилась позднее. Но Гоголь был прав — играть городничего в Москве, кроме Щепкина, было некому. Щепкин блистательно оправдал решение Гоголя, предложившего ему эту роль.
Взять на себя все дело постановки Щепкину, как этого он ни хотел, не пришлось. Начались сложные закулисные интриги, и Щепкин вынужден был отказаться от поручения. Чтобы спасти положение, он предложил С. Т. Аксакову заняться постановкой и писал об этом своем плане Гоголю. Но уже было поздно: постановкой занималась сама дирекция.
Живейшим образом был заинтересован в судьбе «Ревизора» на московской сцене и Пушкин, который писал 6 мая 1836 года жене: «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву, прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться. Он говорит, комедия будет карикатурна и грязна (к чему Москва всегда имела поползновение), с моей стороны, я тоже ему советую: не надобно, чтобы «Ревизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге».
Но Гоголь не ехал, и Щепкин был в отчаянии. С. Т. Аксаков свидетельствует, что он «плакал» от своего затруднительного положения.
4
Первое представление «Ревизора» состоялось в Москве на сцене Малого театра 25 мая 1836 года. Дирекция пошла на расход: была написана новая декорация — комната квартиры городничего. Вообще с внешней стороны пьеса, за исключением костюмов, совершенно допотопных, была обставлена прилично. Городничего играл Щепкин, городничиху — Синецкая, дочку — Панова, Хлестакова — Ленский, Бобчинского — Никифоров, Добчинского — Шумский, Осипа — Орлов, Судью — Степанов, Почтмейстера — Потанчиков, Землянику — Баранов, Хлопова — Волков, Мишку — Шуберт. Приведенные имена свидетельствуют, что лучшие силы труппы были заняты в пьесе.
О том, как был сыгран «Ревизор», читаем в современных журналах. «Молва» писала:
«Что касается исполнения пьесы, то «Ревизор», сыгранный на московской сцене без участия автора, поставленный в столько же репетиций, как какой-нибудь воздушный водевильчик с игрою г-жи Репиной, не упал в общественном мнении, хотя в том же мнении московский театр спустился от него, как барометр перед вьюгою».
Щепкин в письме к артисту Сосницкому после первого представления «Ревизора» пишет: «Публика была изумлена новостью, хохотала чрезвычайно много, но я ожидал гораздо большего приема. Это меня чрезвычайно изумляло, но один знакомый забавно объяснил мне эту причину: «Помилуйте, — говорит, — как можно было лучше ее принять, когда половина публики берущей, а половина дающей».[6]
Главный недостаток общего исполнения пьесы была торопливость и скороговорка. Андросов в «Московском наблюдателе» замечает, что при первом представлении пьеса шла очень скоро, в разговорах не было той ленивой медленности, той благоразумной неспешности, которые составляют природные принадлежности нашего темперамента».
Публика первого представления «Ревизора» отнеслась к комедии более, чем сухо. В антрактах даже был слышен «полуфранцузский шопот негодования и полупрезрения по адресу автора. Ни один актер после спектакля не был вызван.
В большой статье, подписанной инициалами А. В. В. (предполагается, что она принадлежит В. Г. Белинскому или его другу В. П. Боткину) в «Молве», читаем о публике, бывшей на представлении «Ревизора». «На первом представлении была в ложах, бельэтаже и бенуаре так называемая лучшая публика, высший круг; кресла, за исключением задних рядов, были заняты тем же обществом. Не раз уже было замечаемо, что в Москве каждый спектакль имеет свою публику. Взгляните на спектакль воскресный или праздничный. Дают трагедию или «Филатку» («Филатка и Мирошка соперники» — водевиль П. Григорьева), играют Мочалов, Живокини, кресла бельэтажа пусты, но верхние слои театра утыканы головами зрителей, и вы видите между леса бород страусовые перья на желтых шляпах. Раек полон чепчиками гризеток, обведенных темною рамою молодежи всякого пола. Посмотрите на тот же театр в будни, когда дают, например, «Невесту Роберта» (так называлась тогда опера Мейербера «Роберт Дьявол»). Посетители, наоборот: низ, дорогие места полны, дешевые, верхние, пусты. И в том разделении состояния и вкусов видна уже та черта, которая делит общество ка две половины, не имеющие ничего между собой общего, которых жизнь, занятие, удовольствие разны, чуть ли ие противоположны, и, следовательно, то, что может и должно действовать на одних, не возбуждает в других участия, занимательное для круга высшего не встречает сочувствия в среднем».
Это очень ценное свидетельство: оно указывает на ту социальную диференциацию, которая в тридцатых годах столетия чрезвычайно явственно обнаруживается во вкусах театральных зрителей. Критик, из статьи которого приведено это описание зрительного зала, делает любопытнейшее замечание: «Нам бы надобно два театра, потому что публика делится на два разряда огромные». Критик как бы говорит, что Гоголь должен был бы итти в том театре, социальный состав публики которого соответствовал бы новому течению в литературе, не приемлемому партером и бельэтажем: Гоголь и Щепкин— реформаторы, смелые обновители дурно понятых традиций и пролагатели новых путей, свою публику могли встретить наверху — там, кроме «леса бород» и «чепчиков грезеток», была молодежь, разночинная интеллигенция, — те зрители, кошелек которых был достаточно тощ для того, чтобы приобретать билет «внизу».
Щепкин на следующий день после первого спектакля писал Сосницкому, что «Ревизор» дал ему немного приятных минут и вместе горьких, ибо в результате оказался недостаток в силах и в языке. Может быть, найдутся люди, которые были довольны, но надо заглянуть мне в душу». И в этом письме он просил сообщить Гоголю, что «Ревизор» игрался, нельзя сказать, «чтобы очень хорошо, но нельзя сказать, чтобы дурно. Игран был в абонемент и потому публика была высшего тона, которой, как кажется, она (комедия) многим не по вкусу. Несмотря на то, хохот был беспрестанно. Вообще принималась пьеса весело».
5
Исполнение Щепкина вызвало сравнительно высокую оценку. Но, играя городничего первый год, Щепкин чувствовал недоработанность образа и, как всегда, продолжал искать новых средств выразительности. Критик «Молвы», выражая «сердечное спасибо г-ну Щепкину за выполнение своей роли», говорил: «Если он не создал, по крайней мере показал нам городничего, сверх того, при ее выполнении он оставил многие привычки свои, потому-то не был похож на себя, как говорили иные ценители театра, не понявшие, что на сцене должно видеть Городничего, а не Богатонова».
Михаил Семенович Щепкин.
Портрет работы Н. В. Неврева (Третьяковская галлерея в Москве).
Продолжая работать над ролью годами, Щепкин достиг того, что среди его образов — городничий самое великолепное и законченное его создание.
Писатель Д. В. Аверкиев, видевший в роли городничего и Щепкина, и Сосницкого, говорит, что «оба артиста играли одинаково превосходно, различие же в исполнении зависело в сильной степени от самого рода дарования обоих: один — Щепкин — был по преимуществу комик, способности другого — Сосницкого — определялись так называемым амплуа больших характерных ролей. У одного городничий выходил простоватее, трусливее, и там, где был простор комической яркости и злости, например, в пятом акте, Щепкин делал чудеса. У Сосницкого городничий выходил сдержаннее, более себе на уме. Самое плутовство его было, так сказать, обработаннее, не являлось как бы естественной принадлежностью лиц, а походило на вещь, приобретенную долгим опытом».
Старый московский театрал В. М. Голицын вспоминал: «Сколько я ни видал городничих, но такого, каким был Щепкин, я не видал: один являл собою самодура или деспота аракчеевской школы, другой — простодушного старика, наполовину выжившего из ума. третий — человека себе на уме. мечтающего о служебной карьере, то Щепкин был одновременно и тем, и другим, и третьим, и вместе с тем он вел свою роль строго последовательно и оставался, однако, неизменно верным тому типу, который воплощен был в нем Гоголем. Он был совсем иным в первой сцене с чиновниками, чем в последующих сценах с Хлестаковым, с купцами, с женой и дочерью, в которых он опять разнообразил себя, а между тем, во всех сценах это был тот самый городничий, который олицетворял в себе творческую идею автора».
И как всегда, к этому монолитному, «зараз отлитому», как выражается критик, образу пришел Щепкин путем длительной доработки роли и не в процессе ее подготовительного создания, но в периоде ее сценического исполнения.
Гоголь, который в Щепкине нашел своего актера, великолепно понимал тот сложный процесс, в котором росла и поднималась роль. Отвечая Щепкину в 1842 году на письмо, в котором Михаил Семенович жаловался на упадок физических сил, Гоголь убеждал: «Вы напрасно говорите в письме, что старитесь. Ваш талант не такого рода, чтобы стариться. Напротив, зрелые лета ваши только что отняли часть того жару, которого у вас было слишком много и кото-рый ослеплял ваши очи и мешал взглянуть вам ясно на вашу роль. Теперь вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которого я видел прежде. У вас теперь есть то высокое спокойствие, которого прежде не было. Вы теперь можете царствовать в вашей роли, тогда как прежде вы все еще как-то метались».
Путем долгой работы над самим собой пришел Щепкин к тому, что Гоголь называет высоким спокойствием. Выработав в себе технику, Щепкин мог распоряжаться своими внутренними средствами, как хотел. Излишек огня, который, как мы видели, проступал у него в минуты особого душевного подъема на сцене, был изжит.
Как известно, Гоголь не только переработал первоначальный текст комедии, но и вложил новое понимание в самое существо своего произведения. Новое толкование было вызвано двумя основными факторами: необходимостью защиты себя от «нареканий на тему о «потрясении основ», нареканий, которые шли из консервативного лагеря, обвиняющего писателя в оппозиционности к правительству, и теми мистическими болезненными и упадочническими настроениями, которые владели Гоголем. Была написана «Развязка Ревизора». Действующие лица: «первый комический актер» — Михаил Семенович, «хорошенькая актриса», «человек большого света» и другой человек, тоже немалого света, но в своем роде, «любитель театра» и «литературный человек» — вступают в любопытный спор. «Любитель театра» возбуждает вопрос о пользе «Ревизора» для общества. «Человек немалого света» признает его вредным и дерзким. «Первый комик» объявляет, что он знает «небольшую тайну»: «Ревизор» без конца. Все требуют разъяснения. Михаил Семенович объясняет, что такого города, который выведен в пьесе нет, что это «ваш душевный город, что страшен «Ревизор», который ждет нас у дверей гроба и т. д. Ревизор — это наша совесть, а Хлестаков — это ветреная светская совесть».
Гоголь предложил Щепкину играть комедию непременно с «Развязкой», в которой ему предлагалась роль первого комического актера. Щепкин ответил Гоголю замечательным письмом: «Прочтя ваше окончание «Ревизора», я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей, я так видел много знакомого, так родного, и так свыкся с Городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще, это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как есть. Я их люблю, люблю со всеми слабостями, как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это — де не чиновники, а наши страсти. Нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился… Нет, я их вам не дам, не дам, пока существую. После меня переделайте хоть в козлов, а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог».
Здесь точка расхождения, здесь та пропасть, которая разделяет здоровый, органически чуждый всякой мистики, реалистический талант Щепкина от Гоголя, с его манией учительства, с его проповедью той мистики, которая приводила его к православию и самодержавию.
За городничим следовал в гоголевском репертуаре Щепкина Подколесин в «Женитьбе», затем в той же «Женитьбе» Кочкарев, Утешительный в «Игроках» и Бурдюков в «Тяжбе».
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ КРУГУ
1
Дирекция Малого театра в первые годы службы Щепкина в Москве состояла из людей просвещенных и искренно любящих дело искусства. Ф. Ф. Кокошкин, Н. М. Загоскин, затем А. И. Писарев, А. Н. Верстовский и не входивший официально в состав дирекции, но очень близкий к театру князь А. А. Шаховской были литераторами и не напоминали тех чиновников-бюрократов, которые вскоре пришли им на смену. М. С. Щепкин, общительный по натуре, любознательный, жадно ищущий новых знаний и никогда не замыкавшийся в узкие рамки своих профессиональных актерских обязанностей, близко сошелся с этими просвещенными людьми, которые, в свою очередь, ввели молодого актера в круг писателей, профессоров и журналистов.
Отыскался в Москве и родственник Михаила Семеновича — профессор математики П. С. Щепкин. Как мы помним, дед артиста Григорий Щепкин был сыном священника и оказался единственным закрепощенным за помещиком: остальные члены многочисленной семьи навсегда остались свободными. Из этой ветви щепкинского рода и происходил профессор Щепкин. Он познакомил Михаила Семеновича с передовыми людьми московского ученого мира.
Щепкин быстро завязывал прочные связи с лучшими представителями московской интеллигенции. Был он близок и с самыми выдающимися писателями своей эпохи. В тридцатые годы мы уже застаем его, как близкого человека Пушкину, Гоголю, Белинскому, отцу и сыновьям Аксаковым, Грановскому, Кудрявцеву, Киреевскому, Станкевичу, Герцену, Огареву, Каткову, Погодину, Шевыреву, Тарасу Шевченко, графу Сологубу, Боткину, Тургеневу. И это далеко не полный список.
Особенно близкие, как мы знаем, отношения сложились у Михаила Семеновича с семьей Аксаковых и через нее с Гоголем. В истории дружбы Гоголя и Щепкина рассеяно много подробностей, рисующих друзей в домашней обыденной обстановке. Современники запомнили частые посещения автора «Ревизора» гостеприимного щепкинского дома. Обычно после обеда сиживали они в углу гостиной Михаила Семеновича, перебирая в беседе обычаи и нравы Украины, их родины. Оба смаковали украинские блюда: «вареники, голубцы, паляници», и лица их сияли улыбкою.
Гоголь — любитель самых неожиданных прозвищ и винам давал разные названия: было вино под названием «квартальный» и «городничий», потому что, говорил Гоголь, квартальный и городничий в винном образе добрые распорядители, устрояющие и приводящие в набитом желудке все в должный порядок. Жженке, которая зажигается и горит голубым пламенем, было дано имя Бенкендорфа — шефа жандармов, а жандармы носили голубые мундиры.
— А что, — говорил Гоголь Михаилу Семеновичу после сытного обеда, — не заняться ли нам теперь «Бенкендорфом»? — и они вместе приготовляли жженку.
Дружба с Гоголем ярко проступает в биографии Щепкина с 1832 года — со дня начала знакомства и до самой смерти Михаила Семеновича. Даже разногласия в понимании смысла «Ревизора», возникшие между ними, не повлияли на сердечность дальнейших отношений. Гоголь, недоверчивый, настроенный подозрительно к самым близким людям, не всегда платящий вниманием за любовь и ласку, для Щепкина навсегда оставался внимательным и заботливым другом. Ревниво относящийся к материальному успеху своих сочинений, он с необычайной для него щедростью делал Щепкину такие подарки, как предоставление всех, кроме «Ревизора», пьес и отрывков для бенефисов Михаила Семеновича. Обычно авторы продавали свои новые пьесы дирекции театров за определенные суммы, за пьесы же уступленные бенефициантам, авторы от казны ничего не получали.
Когда И. С. Тургенев приезжал в Москву, то всегда бывал в доме М. С. Щепкина и иногда сам читал ему свои пьесы. И М. С. Щепкин любил анализировать все характеры его пьес в присутствии самого Тургенева. Из пьес Тургенева М. С. Щепкин любил «Провинциалку», в которой он играл стряпчего. Но особенно нравилась ему пьеса «Нахлебник» и роль самого нахлебника. Когда пьесу эту задерживали и она долго не появлялась на сцене, то М. С. Щепкин пробовал ставить ее на домашнем спектакле у своих знакомых и разучивал роль Кузовкина с величайшим удовольствием и одушевлением.
Тургенев очень хотел познакомиться с Гоголем. Щепкин решил помочь ему в этом, что было вообще делом далеко не легким: Гоголь в эту пору (начало пятидесятых годов) избегал всяких новых и в особенности литературных знакомств.
Михаил Семенович отправился к Гоголю и, как сам потом рассказывал, новел с ним такой разговор:
«— С вами, Николай Васильевич, желает познакомиться один русский писатель, но не знаю: желательно ли это будет вам?
— Кто же это такой?
— Да человек довольно известный, вы, вероятно, слыхали о нем: это Иван Сергеевич Тургенев.
Услыхав эту фамилию, Николай Васильевич оживился, начал говорить, что он душевно рад и что просит меня побывать у него вместе с Иваном Сергеевичем на другой день».
И. С. Тургенев в своих воспоминаниях об этой встрече рассказывал так:
«Гоголь жил тогда в Москве на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее, и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до этого дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора», он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики».
В этом отрывке тургеневских воспоминаний есть еще несколько строк, замечательно ярко передающих внешний облик Гоголя:
«Длинный заостреный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье: невыгодное впечатление! производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами; в их неопределенных очертаниях выражались — так, по крайней мере мне показалось — темные стороны его характера; когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук».
Встретил Гоголь приехавших приветливо, когда же Иван Сергеевич сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им, Тургеневым, на французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление, Николай Васильевич заметно был доволен и со своей стороны сказал несколько любезностей Тургеневу. Но вдруг побледнел, все лицо его искривилось какою-то злой улыбкой, и, обратившись к Тургеневу, он в страшном беспокойстве спросил:
«Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналам?»
Тут только я понял, — рассказывает Михаил Семенович, — почему Николаю Васильевичу так хотелось видеться с Иваном Сергеевичем».
Гоголь в эти дни болезненно переживал впечатление, произведенное на русское общество выходом его «Избранных мест из переписки с друзьями», книги, в которой утверждались самые мрачные стороны самодержавия и православия. Гоголь в глазах передовых людей эпохи был отступником. Статьи Герцена, тогда уже политического эмигранта, изгнанника, которого и ненавидело и боялось царское правительство, говорили об этом отступничестве, об этой измене Гоголя своему прошлому.
Вскоре после встречи Гоголя с Тургеневым происходило и чтение «Ревизора». Гоголь сам вызвался прочесть комедию, видимо, оставшись недовольным исполнением московских актеров. Тургеневу удалось добиться разрешения присутствовать на чтении. Он рассказывал, что, к великому его удивлению, «далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение автора, им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение… Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел точно больным человеком. Он принялся читать — и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской, глаза расширились и посветлели».
Из истории личных отношений Щепкина к Тургеневу нужно отметить еще приезд Михаила Семеновича к Тургеневу, высланному в свое имение за статью по поводу смерти Гоголя (1852 г.). Камердинер Тургенева, Захар Балашов, вспоминал, что Иван Сергеевич в первое время очень скучал в деревне. Раз, в полдень, послышался звон колокольчика, и в ворота усадьбы въехал почтовый тарантас. Тургенев вышел навстречу. В тарантасе на подушках утопала полная фигура в большом картузе. Тургенев бросился к тарантасу и начал обниматься с приезжим: это был Михаил Семенович — первый, приехавший его навестить. Старик не побоялся трехсот верст пути на почтовых.
— Что, вареники будут? — спросил после объятий и поцелуев Михаил Семенович.
— Будут, — отвечал, смеясь, Тургенев.
— Чтобы сто тридцать штук было, меньше не ем, — прибавил Михаил Семенович.
Не ради вареников, конечно, приехал Щепкин: он чувствовал себя нравственно обязанным подчеркнуть свое сочувствие писателю, на которого обрушилась ничем не заслуженная и грубая кара правительства.
2
В этом множестве встреч с историческими людьми, среди которых так хорошо чувствовал себя Михаил Семенович, ибо каждая встреча являлась живым плодотворным уроком, пополняющим запас его знаний, выла одна встреча, короткая, но навсегда запечатленная в документе, имеющем огромнейшее значение, — встреча с Пушкиным.
Михаил Семенович с ним познакомился в Соколове — подмосковной даче — у П. В. Нащокина, одного из ближайших друзей поэта.
Щепкин много рассказывал о своих крепостных годах. Это были увлекательные рассказы, полные яркой выразительности. Пушкин их оценил высоко. Ему показалось совершенно необходимым, чтобы Щепкин рассказал о себе и о своей жизни в мемуарах. Его прозорливый гений угадывал значение таких воспоминаний.
Долго не принимался за записки Щепкин: трудным казалось ему начать повесть своей жизни. Первые ее строки написал сам Пушкин, наверху листка оставив дату: 17 мая 1836 года, и далее — уже от имени Щепкина:
Начало записок М. С. Щепкина.
Первые две строчки написаны рукою Пушкина.
«Я родился в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на реке Пенке».
Этот листок еще долго оставался незаполненным. Потом Щепкин, выполняя завещание, оставленное ему великим поэтом, продолжил строки, написанные Пушкиным. Так создавались «Записки М. С. Щепкина».
В репертуаре Щепкина-актера Пушкин не занимает такого места, как Гоголь, и даже Тургенев: Щепкин играл барона в «Скупом рыцаре» и старика, отца Земфиры, в сценической переделке пушкинских «Цыган».
Из истории щепкинских дружб дружба его с украинским поэтом Тарасом Шевченко носит характер особой задушевности: в судьбе автора «Кобзыря» было много общего с участью великого артиста. Подобно Щепкину был выкуплен на свободу по подписке Гарае Шевченко, молодой живописец и поэт. Но из одной неволи скоро попал он в другую: арестованный по политическому делу, был он сдан в солдаты без права рисовать и писать. На далекой окраине томился Шевченко до 1857 года.
С Щепкиным он встретился, вероятно, в сороковых годах: стихотворение Шевченко «Хустка», написанное 13 декабря 1844 года, посвящено Михаилу Семеновичу. В письмах и дневнике Шевченко называет Михаила Семеновича «добрым, старым другом». Знакомство, таким образом, конечно, произошло до ссылки: или в один из приездов Щепкина в Петербург, или между 1843 и 1846 годами, когда Шевченко странствовал по Украине, а Михаил Семенович уезжал в провинцию на гастроли.
В своем дневнике Т. Г. Шевченко подробно рассказал о встрече с Михаилом Семеновичем в Нижнем-Новгороде, где, возвращенный из ссылки, должен был жить Тарас Григорьевич. Въезд в Москву ему был запрещен, и Щепкин предполагал устроить свидание на одной из подмосковных станций. Но сложилось удачнее: Михаил Семенович устроил гастроли в Нижнем-Новгороде. Здесь он пробыл шесть дней, о которых Шевченко в своем дневнике сказал так:
«Шесть дней, шесть дней полной, радостно торжественной жизни! И чем я заплачу тебе, мой старый, мой единый друже? Чем я заплачу тебе за это счастье, за эти радостные сладкие слезы? Чем же? Кроме молитвы о тебе, самой искренней молитвы, я ничего не имею.
Я все еще не могу притти в нормальное состояние от волшебного очаровательного видения. У меня все еще стоит перед глазами городничий, Матрос, Михайло Чупрун и Любим Торцов.[7] Но ярче и лучезарнее великого артиста стоит великий человек, кротко улыбающийся, друг мой единый, мой искренний, мой незабвенный Михайло Семенович Щепкин».
И в письмах к друзьям, делясь впечатлениями встречи, Тарас Григорьевич неустанно повторяет о дружбе Щепкина. Он не скупится на восклицания: «Какая живая, свежая, поэтическая натура! Великий артист и великий человек, и самый нежный, самый искренний мой друг, я бесконечно счастлив!»
3
Щепкин, имевший так много дружеских связей с литературными людьми самых разнообразных направлений, не мог не быть вовлеченным и в те ожесточенные схватки, которые происходили между представителями двух основных течений русской общественной мысли сороковых-пятидесятых годов: между западниками и славянофилами. Герцен в замечательной книге своих воспоминаний — в «Былом и думах» — оставил яркую характеристику этих двух направлений. Славянофилы, или, как их называли в кругу Герцена, «с л а в я н е», считали, что историческое развитие России незакономерно и грубо нарушено Петром I, который насильственно приобщил Русь к Западу — к западноевропейской культуре, весь дух которой чужд России. Противоположное им крыло — з а п а д н и к и — отрицало, что в истории России есть какие-то, только ей свойственные законы и особенности, и что дело Петра было делом исторически неизбежным и но существу прогрессивным. Западники видели в учении славян «новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви». Славяне обвиняли интеллигенцию в полном отрыве от народа и проповедывали возвращение к «народности». «Но это возвращение, — говорит Герцен, — они тоже поняли грубо. Они полагали, что делить предрассудки народа, значит, быть с ним в единстве, что жертвовать своим разумом, вместо того чтобы развивать разум в народе, — великий акт смирения. Отсюда натянутая набожность, исполнение обрядов, которые при наивной вере трогательны и оскорбительны, когда в них видна преднамеренность».
«Выход за нами, — говорили славяне, — выход в отречении от петербургского периода», в возвращении к пароду, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство, воротимся к прежним нравам!»
Но история не возвращается, жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами».
«Нам, сверх того, — продолжает Герцен, — не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика, а к ней-то и хотели славяне возвратиться, хотя они и не признаются в этом; как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и самые попытки возвратиться не к современной (и превосходной) одежде крестьянина, а к старинным неуклюжим костюмам?
Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок, а К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персиянина!»
М. С. Щепкин.
Портрет работы Тараса Шевченко. (Исторический музей в Москве).
Самыми сильными представителями славянофильства были братья Киреевские, Хомяков и Константин Аксаков. Их и их круг называет Герцен «не нашими». Нашими для западников были Огарев, Сатин, Грановский, Белинский, Кетчер, Кудрявцев и многие другие литераторы, публицисты и профессора университета. Споры между западниками и славянофилами были ожесточенные. Между ними велась своеобразная война, которая, — вспоминает Герцен, — сильно занимала литературные салоны в Москве.
«Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда парил А. С. Пушкин, где до нас декабристы давали тон, где смеялся Грибоедов, где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале, где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять, где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост, который все знали, где Редкин выводил логически личного бога, где Грановский являлся со своей тихой, но твердой речью, где все помнили Бакунина и Станкевича, где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воска лицом, сверлил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными, где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана до Рекамье, где Боткин и Крюков пантеистически наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выживая кругом все, что попадало».
Уже в этом живописном изображении Герцена московских гостиных, в которых велись споры между западниками и славянофилами, мы встречаем имя Щепкина. Михаил Семенович коротко знаком и с теми, кто был для Герцена «нашими», и с теми, кто в его глазах были чужими.
Щепкин не разбирался в социальных и политических оттенках мыслей и убеждений обоих враждующих кружков. Щепкин и тем и другим был равно приятен. Щепкину и те и другие были одинаково интересны, одинаково поучительны. Во многом он чувствовал себя ближе к западникам, чем к славянофилам. Та неутомимая жажда знания, которая была в нем так сильна, естественно влекла его к тем, круг познаний которых был шире уже по одному тому, что вмещал в себе западноевропейскую культуру, ненавидимую «славянами». Да и слишком хорошо знал Щепкин русскую жизнь, для того чтобы могла быть для него убедительной проповедь Киреевских или Аксакова о возвращении к «народности». Но он нисколько не чуждался славян. Среди них были люди, связанные с ним узами самой тесной дружбы. История поставила его свидетелем боев между двумя крылами.
Но и в кругу западников не могло быть полного единомыслия. И в их среде происходили глубокие процессы внутреннего расслоения. Наиболее решительные смело порывали с традициями прошлого и, устремляя мысль на Запад, впитывали в себя новые социальные учения. Отсюда колебания умов, настроенных нерешительно, отсюда и смелые сдвиги и в сторону исповедания социалистических учений — Герцена, Огарева, Белинского. Они стали социалистами и материалистами. Смерть рано унесла Белинского — нет сомнения, что он последовал бы за Герценом и в дальнейшем развитии внутреннего процесса, переродившего его интеллигентский радикализм в активную революционность.
Щепкин не понимал этих сложных процессов. Занимательный собеседник, «изучивший мясо современных рыб больше, чем Агасис кости допотопных», каким зарисовал его Герцен, он в биографиях борцов за новую революционную идеологию, проходит как неизменный застольный собеседник, неутомимый участник походов за грибами, как великолепный, наконец, рассказчик, анекдоты которого — украшение дружеских пирушек. Знаменательно, например, что Щепкин жил в том же Соколове, куда собрались Герцен и его друзья в то лето, которое оказалось роковым для дружбы Герцена и Огарева с Грановским. Здесь, в Соколове, произошел между ними разрыв, и здесь было принято Герценом решение стать бесповоротно на тот путь активной политической деятельности, который вел его за российские рубежи.
«В Соколове, — рассказывает Анненков, — было образовано нечто в роде подвижного конгресса из беспрестанно наезжающих я пропадавших литераторов, профессоров, артистов, знакомых, которые, видимо, все имели целью перекинуться идеями и известиями друг с другом. Хозяева жили в страшном многолюдстве и, повидимому, не имели времени сосредоточиться на каком-либо своем собственном, специальном занятии. Гости калейдоскопически сменялись гостями: тут, кроме Панаева, оставившего и описание соколовской жизни, промелькнули в моих глазах Н. А. Некрасов, давно уже мне знакомый и возбуждавший тогда общий симпатический интерес своей судьбой и своей поэзией, затем Ив. Ив. Павлов, здесь впервые мною и встреченный и поражавший оригинальной грубостью своих приемов, под которыми таилось у него много мысли, наблюдения, юмора и т. п. Е. Ф. Корш, старый Щепкин, молодой рано умерший Засядко, начинающий живописец Горбунов, сделавший литографированную коллекцию портретов со всего кружка, были постоянными посетителями Соколова…»
Разговоры, прения, рассказы, отражая все многообразие характеров, умов и настроений, носили еще один общий тон, который и был господствующим тоном всех бесед этой эпохи.
Щепкин снимал дачу по соседству. А. И. Герцен оставил его изображение: «в шляпе, с широкими полями, в белом сюртуке, с кузовком набранных грибов приходил он пешком, шутил, пел малороссийские песни и морил своими рассказами».
Казалось, что все идет мирно. Но на самом деле назревал конфликт. Происходили споры с Грановским. Грановский — профессор-историк, лекции которого привлекали толпы слушателей, сумел, как говорит о нем Герцен, «в мрачную годину гонений, от 1848 года до смерти Николая, сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения, стройно сочеталась женская нежность, мягкость форм и примиряющая стихия». И все-таки дружбе с Грановским был положен конец. Слушая рассуждения своих друзей о единстве материи и духа, Грановский заявил однажды: «Я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезнет бессмертие души. Может, вам его не надобно. Но я слишком много схоронил, чтобы поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо».
Было ясно, что здесь начинается та точка расхождения, которая свидетельствует о невозможности сохранить в дальнейшем прежние отношения, полные искренности и единомыслия.
Московский кружок западников сороковых годов распадался. Герцен, за ним Огарев стали изгнанниками.
4
Эпилог щепкинской дружбы с Герценом разыгрался далеко от Москвы: в Лондоне в 1853 году. Михаил Семенович, ездивший летом этого года в Париж, решил навестить старого друга. Но это не было обычной встречей после долгой разлуки: Щепкин, не устрашась морского пути и полного незнания английского языка, выполнял, как ему казалось, долг совести. Он ехал к Герцену с целью просветить «заблуждавшегося» редактора «Колокола», революционный звон которого будил спящее сознание людей, удушаемых николаевским режимом, ехал направить его на «путь истинный». Герцен давно порвал последние связи с той прекраснодушной, много разговаривающей, сладко мечтающей, но ничего не делающей либеральной интеллигенцией, которая продолжала числиться в западниках, все дальше и дальше отходя от социальных учений Запада. Революционная борьба, которую вел Герцен-эмигрант, была одинаково неприемлема и для «славян», и для переживающих пору своего распада западников. Герцен-изгнанник чувствовал себя одиноким. «Русские в это время все меньше ездили за границу и всего больше боялись меня», — восклицает Герцен. Он был одинок. Связи с «патриархальной Москвой» были порваны, отношения с людьми нового поколения, пришедшими на смену барской интеллигенции, не налаживались. Молодое поколение страстно спорило с Герценом. Активная революционно-политическая борьба, зачинавшаяся в нелегальных кружках шестидесятников, Герцену казалась преждевременной. Он теперь охотнее протянул бы руку Грановскому, при всем различии точек зрения на материализм, чем Чернышевскому, статьи которого в «Современнике» вызывали Герцена на ожесточенную полемику в «Колоколе».
Московские друзья не понимали тяжелой драмы, переживаемой Герценом. Они много говорили о его «заблуждениях» и хотели бы видеть его в России. Едва ли не послом этих друзей был М. С. Щепкин. Они наивно верили, что благодушный старик сумеет растрогать Герцена и внушить ему мысль бросить «политику», прекратить издание «Колокола» и даже вернуться на родину, помирившись предварительно с правительством. Герцен очень оценил самый факт приезда к нему старика-Щепкина — то движение его дружбы и любви, которые толкнули его на дальний путь. «Первый русский, ехавший в Лондон, не боявшийся по-старому протянуть мне руку, был Михаил Семенович», — говорил Герцен. Он выехал ему навстречу в Фолькстон. Щепкин был тот же, каким его оставил Герцен, с тем же добродушным видом. «Жилет и лацканы на пальто также в пятнах, точно будто сейчас шел из Троицкого трактира к С. Т. Аксакову».
На другой день разговоры перешли к вопросу, ради которого в сущности и приехал в Лондон Щепкин. Началось с типографии, в которой печатал Герцен «Колокол» и свои сочинения. Михаил Семенович стал говорить Герцену о тяжелом чувстве, с которым в Москве была принята сначала его эмиграция, затем брошюра «О развитии революционных идей в России».
Герцен понимал, что это не только личные чувства и сомнения старика. «Это были звуки московского консерватизма», — поясняет Герцен. Консерватизм объединял теперь в Москве образованных людей, литераторов, артистов, профессоров.
Щепкин был полномочным представителем этого московского консерватизма, для которого одинаково враждебными были и революционно-народнические убеждения Герцена и яркая социалистическая проповедь Чернышевского — вождя молодого поколения, пришедшего на смену «людям сороковых годов».
Щепкин убеждал Герцена: «вы знаете, как я вас люблю и как все наши вас любят… Я вот на старости лет, не говоря по-английски ни слова, приехал посмотреть на вас в Лондон. Я стал бы на свои старые колени перед тобой, стал бы просить тебя остановиться, пока есть время»…
Когда эти наивные, но полные любви и старой дружбы слова не подействовали на Герцена, Михаил Семенович попробовал предложить другой выход из положения: «Поезжай в Америку. Ничего не пиши. Дай себя забыть, и тогда — года через два-три — мы начнем работать, чтобы тебе разрешили выезд в Россию».
И это не подействовало. Мириться с царским правительством у Герцена не было никакой охоты. Ехать в Америку — зачем? Для того, чтобы подтвердить сдачу всех своих прежних позиций? Нет! Герцен горячо верил в правоту своего дела. Он знал, какое впечатление производит «Колокол» в России.
Михаил Семенович печально говорил: «Много, много радости вы у меня отняли вашим упрямством».
Старик был убежден, что это — «упрямство» со стороны Герцена.
«Он уехал, но неудачное посольство его все еще бродило в нем, и он, любя сильно, сильно сердился, — рассказывает Герцен. — Выезжая из Парижа, он прислал мне грозное письмо. Я прочитал его с той же любовью, с «которой бросился ему на шею в Фолькстоне, и пошел своей дорогой».
Это грозное письмо дошло до нас. Оно очень выразительно для Щепкина и до конца раскрывает его миросозерцание. В письме этом Михаил Семенович повторяет те же уговоры бросить заниматься политикой, которые выслушивал от него Герцен в Лондоне. Политика — не твое, не мое, вообще не наше дело, — вот к чему сводятся «доказательства» Щепкина.
«Вы можете возмутить немыслящую массу, можете взволновать, и в этой мутной воде люди с вопросами могут изловить кое-что для себя, а история пойдет своим путем, и народ без нравственного развития останется всегда народом», — пишет Щепкин, — желая, видимо, сказать, что «возмущают» народные массы политические честолюбцы, которые извлекают из этого личную пользу. Но дело не в них, а в истории, которая «пойдет своим путем», так как главное — «нравственное развитие».
«Политика утверждает равенство, но равенства, — убеждает Герцена Щепкин, — нет». «Что же касается равенства, то на это может тебе служить ответом вся природа. В ней нет ни в чем равенства, а между тем все в полной гармонии. Оставьте мир расти по своим естественным законам и помогайте его росту развитием в человеке нравственного чувства. Вейте мысль, но не поливайте кровью».
И еще из того же письма, так законченно изображающего Щепкина в лепете его наивно-младенческой проповеди о равенстве, политике и нравственном развитии: «Предоставим все естественному порядку, а со своей стороны будем полезны человечеству по нашим силам. Будем сеять мысль для нравственного состояния человека и поддерживать его примером. Не хватит сил для всего человечества, будем полезны тем, насколько нас хватит».
И в конце: «Право, прочь все вопросы, уезжай в Америку или в какую другую страну. Везде можно быть человеком, не истощаясь в бесполезных остротах и щегольских фразах: вспомни — ты отец, очищая детям будущую дорогу жизни, из своих жизненных ошибок укажи им только одно: быть человеком, да не мечтательными фразами, а делом, и поверь, что остальное пойдет своим путем».
Герцен ответил на письмо тем, что продолжал итти именно своим путем, который не мог понять Щепкин. Однако среди наивных, вызывающих только улыбку доводов старика Щепкина, на котором так ярко сказалось влияние патриархальной и консервативной Москвы, есть один довод, поражающий уже не наивностью, а полным забвением собственного прошлого. Щепкин против статей Герцена, в которых говорится о необходимости скорейшей отмены крепостного права.
«Ты сам знаешь по опыту, — читаем мы в его письме, — что рабы еще не хотят быть свободными. С чего напало на тебя человеческая гордость делать их свободными против их воли». И это говорит бывший крепостной, изведавший всю тяжесть неволи и выпивший до дна чашу горечи, человек, сердце которого много раз страдало от уколов самолюбия, человек с детских лет ощутивший всю социальную пропасть, лежащую между ним, рабом, и всеми остальными, не составляющими «крещеную собственность». Щепкин, друг западников, собеседник в сороковых годах Белинского и Герцена, пламенный сочувственник их проповедей, на склоне лет окруженный всеобщим уважением, громкой славой, ласкаемый не только обществом, но и правительством, давно забывший о годах неволи и нужды. Щепкин пятидесятых годов мало напоминает того молодого крепостного актера, чьи трагические повести пересказали и Герцен, и Сологуб. Щепкин, некогда выкупленный — по подписке — на свободу, уверен, что рабы не хотят быть свободными! Он не понимает того, что стало уже неоспоримой истиной не только для либералов, но и для консервативно мыслящих славянофилов. В письме к Герцену — забвение прошлого, измена тем чувствам ненависти к рабству, которые так страстно волновали молодого Щепкина и сближали его с лучшими людьми эпохи.
Нет, он никогда не был до конца в кругу тех, кого называл Герцен нашими! Он был их собеседником, их сотрапезником. Он заражался их молодым гневом, но выстраданная правда их убеждений не входила глубоко и прочно в сознание Щепкина. Только больное полицейское воображение московского генерал-губернатора, мрачного бурбона Закревского могло видеть в Щепкине «революционера». В 1857 г., то есть когда Щепкину было уже семьдесят лет и когда уже состоялось лондонское свидание с Герценом и было написано письмо о рабах, которые «не хотят» выйти на волю, Закревский в секретной справке, представленной шефу жандармов князю Долгорукову, среди многих пунктов поместил и такой: «Театральные представления. Актер Щепкин на одном из своих вечеров подал мысль, чтобы авторы писали пьесы, заимствуя сюжеты из сочинений Герцена, и дарили эти пьесы бедным актерам на бенефисы».
В другом пункте еще лучше: «Распространение сочинений Герцена. В прошедшем году, во время ярмарки в Нижнем-Новгороде в продолжение зимы один из сыновей Щепкина уезжал несколько раз из Москвы и, как говорят, развозил несколько тысяч экземпляров запрещенных сочинений на русском языке». И тут же о самом Щепкине: «Щепкин Михаил Семенович, актер. Желает переворотов и готов на все».
Каких переворотов желал Щепкин, мы знаем доподлинно из его собственного письма.
5
Очень полно выражает политические убеждения Щепкина история его бенефиса в 1855 году, о котором рассказал актер П. Каратыгин. Бенефис этот совпал с днем получения в Москве вести о падении Севастополя (Севастополь, как известно, после длительной осады, был взят французской и английской армиями). «Почтенный артист, составлявший свой спектакль задолго до этого события, набрал пьес в духе крайнего шовинизма, но времени и по политическим обстоятельствам совершенно неуместного. Он выбрал драматическое представление П. И. Григорьева «За веру, царя и отечество», а в антракте читал известное стихотворение Пушкина «Клеветникам России». В драме Григорьева старый солдат пост, что мы закидаем шапками всю Европу, затем поет, намекая на красные мундиры англичан, появившиеся в Балтийском море:
И наловим, ай-люли. Красных раков на мели.Этот бенефис произвел тяжелое впечатление на публику».
Еще бы! Севастопольская кампания была принята русским обществом, как итог зарвавшегося и упрямого империализма Николая Павловича. Мрачная эпоха его царствования отмечала свой страшный эпилог.
Поэт Хомяков, славянофильские убеждения которого никак не позволяют сделать заключение о его революционности, сказал об этой поре так:
И игом рабства клеймена; Безбожной лести, лжи тлетворной И всякой мерзости полна.Даже министр Т. Валуев и тот отметил в своих воспоминаниях, что последние годы николаевского режима создали обстановку, когда был «сверху блеск — внизу гниль». Запутавшийся в сложных политических комбинациях, растеряв недавних союзников, поссорившись со всеми императорами и королями, еще так недавно вступившими в священный союз, Николай доживал свои дни под гром французских и английских пушек, громивших русский флот в Севастополе.
М. С. Щепкин в роли Чупруна в пьесе „Москаль Чаривник".
(30-ые годы).
Тот же Валуев отметил, что в нашем флоте не было тех именно судов, а в сухопутной армии — того именно оружия, которые требовались для уравнения боя. что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны, что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог. А актер Щепкин со сцены уверял, что мы «наловим, ай-люли, красных раков на мели».
Все видели, в какой трагический тупик зашла страна. Поэт Тютчев говорил о Николае I так: «Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злополучного человека».
Но как выразительна для самого Николая его фраза, сказанная по поводу заявления одного из приближенных к нему лиц о том, что обитатели столицы очень волнуются положением военных дел: «Не понимаю, им-то что за дело?!»
Впрочем, придворные и аристократические круги вообще не понимали драматичности положения: когда появился английский флот неподалеку от Кронштадта, то смотреть на его суда ездили в виде развлечения. Актер Щепкин вполне соответствовал этому обществу; его шовинизм отвечал чванной тупости военщины.
Щепкин иногда ссорился с театральным начальством, но никогда не спорил с князьями, сановниками, высшей знатью. Он очень любил знаки внимания, оказываемые ему высшей властью. Охотно ездил во дворцы — читать Гоголя и рассказывать собственные сцены. Он был польщен приглашением генерала Закревского выступить на его домашнем вечере. Если бы знал Щепкин, что доносил о нем Закревский!
Герцен был прав: Щепкин выражал партиархальное лицо Москвы, такой далекой от всякого вмешательства в политику. О политике еще можно толковать в уютных курительных и гостиных английского клуба, куда, кстати сказать, Щепкин получил доступ первым из актеров. Английский клуб, в котором неистребимы были традиции фамусовской Москвы. — учреждение аристократическое и быть принятым в состав его членов не-дворянину, не-барину, была вещь почти невозможная. Но Щепкин стал не только гостем, но и членом этого клуба. Здесь он играл в карты с самыми знатными людьми, и эта честь, ему оказанная, давно стерла в нем юношеские воспоминания
о той поре, когда его барин граф Волькенштейн приказывал ему угощать актрис в буфетной. Щепкина уже десятилетиями кормили роскошными обедами и ужинами и не только на шумных пирушках Герцена и его друзей, но и в чинных столовых московской аристократической и денежной знати. Он был ведь всем приятен, всем мил, Разночинец Белинский и «шестисотлетний дворянин» Пушкин, лекарь Кетчер и «сам» Николай Павлович слушали его рассказы. Люди самых противоположных убеждений, стоящие на вершине социальной лестницы и робко жавшиеся у ее подножия, решительно одинаково воспринимали Щепкина.
«Светлый старик», называет его Герцен, но и царь относится с уважением к его почтенным сединам, сделав замечание маленькому наследнику, когда тот приставал к Михаилу Семеновичу, требуя повторения трудного рассказа.
В той статье, которую написал Герцен, узнав о смерти Михаила Семеновича, есть прекрасные строки, характеризующие не только Щепкина, но и годы, в которые жил, дряхлея в Москве, Щепкин: «патриархальное лицо Щепкина было крепко вплетено во все воспоминания нашего круга. Четвертью столетия старше нас, он был с нами на короткой дружеской ноге родного дяди или старшего брата. Его все любили без ума: дамы и студенты, пожилые люди и девочки. Его появление вносило покой, его добродушный упрек останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить облегчающие причины была школой гуманности… А как-то потухла его жизнь? Декорации, актеры и самая пьеса еще раз изменились. Что делал старик, доживавший, с одной стороны, до осуществления своей вечной мечты об освобождении крестьян, — в среде пресыщенного либерализма, патриотизма кровожадного по службе, в среде доносов университетских, литературных, окруженный изменниками своей юности, своих благороднейших стремлений?» Герцен спрашивает, он не знает, что в этой атмосфере Щепкин вовсе не чувствовал себя хуже, чем когда-то в салонах и гостиных Москвы, где велись словесные бои между славянами и западниками, или в Соколове, где так явственно сказывался процесс расслоения кружка единомышленников, где намечались те пути, по которым в разные стороны пойдут страстные собеседники, решавшие коренные вопросы миросозерцания. Щепкин не знал этих расхождений, не болел тяжелыми сомнениями, поколебавшими самые прочные дружеские связи. Он сохранил любовь всех, сам свою любовь деля на равные части между всеми. Не гражданский, а сценический подвиг вершил он в течение десятилетий. Мы знаем о нем правду и принимаем его в тех пределах, которые слагают его образ как человека и художника.
ГЛАВА ПЯТАЯ В БОРЬБЕ С ОСТРОВСКИМ
1
3 декабря 1849 года в доме профессора П. М. Погодина был литературный вечер. Молодой чиновник А. Н. Островский читал пьесу «Банкрот». «Слушающих собралось довольно. Актеры, молодые и старые литераторы, между прочим и графиня Растопчина. ‘Гоголь был зван также, но приехал среди чтения: тихо подошел к двери и стал у притолоки. Так и простоял до конца, слушая, повидимому, внимательно. После чтения он не проронил ни слова. Графиня Растопчина подошла к Гоголю и спросила:
— Что вы скажете, Николай Васильевич?
— Хорошо, но видна некоторая неопытность в приемах. Вот этот акт нужно бы подлиннее, а этот покороче. Эти законы познаются после, и в непреложность их не сейчас начинаешь верить.
Больше ничего он не говорил, кажется, ни с кем во весь тот вечер. К Островскому не подходил ни разу».
Так рассказал об этом чтении первой пьесы Островского («Банкрот» — первоначальное название комедии «Свои люди сочтемся») один из слушавших — Н. В. Берг. Он же записал и восторженные слова профессора Шевырева: «Поздравляю вас, господа, с новым драматическим светилом русской литературы».
Этот вечер решил литературную судьбу Островского. Он сам рассказывал: «Я не помню, как я пришел домой. Я был в каком-то тумане и, не ложась спать, проходил всю ночь по комнате». Начиналась новая эпоха русского театра. Щепкин, который также был среди слушателей «Банкрота», не понял и не принял исторического факта, завершающего то самое дело, за которое боролся он вместе с Гоголем — дело правды «а сцене. Островский дал этой правде новый смысл и новое выражение. И это было отлично почувствовано представителями молодой русской литературы. Славянофил Хомяков, с горечью отмечая, что «словесность пишет дребедень», делал исключение для «превосходного творения» Островского. В. Ф. Одоевский — автор «Русских ночей» — судил о «Банкроте», напечатанном в «Москвитянине», так: «Если это не минутная вспышка, не гриб, выдавившийся сам собою из земли, просоченной всякой гнилью, то этот человек есть талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкроте» я поставил номер четвертый».
Вечер у Погодина открыл целую серию чтений Островского, который выступал со своей комедией и в литературных, и аристократических, а в купеческих салонах. И бывало так, что в один и тот же вечер «Банкрот» читался дважды: в одном доме самим автором, в другом его другом актером Провом Садовским. Актер Пров Садовский стал для Островского тем, чем был Щепкин для Гоголя.
Не скоро дождался Островский появления пьесы на сцене. Для театра она была запрещена цензурой. За «Банкротом» последовала «Бедная невеста». И опять громкий успех на литературных чтениях и опять цензурный запрет для сцены. Островский становится постоянным сотрудником журнала «Москвитянин», редакция которого была обновлена литераторами, по своим убеждениям очень близко стоявшими к славянофилам. Самым восторженным поклонником Островского и его критиком стал один из главных сотрудников «Москвитянина» — Аполлон Григорьев. В эту пору своего сближения с «почвенниками», как называл своих единомышленников Аполлон Григорьев. Островский был автором, кроме «Банкрота» и «Бедной невесты», еще и «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок» и «Не так живи, как хочется». Из этого цикла первой прошла на сцене пьеса «Не в свои сани не садись» — в Малом театре 14 января 1853 года. Известный актер и автор сцен из народного быта И. Ф. Горбунов писал, что «с появлением этой комедии на московской сцене начинается новая эра».
Сценический реализм раскрывался все полнее и глубже. Это сказалось даже в подробностях постановки: «Когда впервые появилась на сцене комедия «Не в свои сани не садись», публика была не только поражена, она была ошеломлена этою простотою, этою фотографическою типичностью изображения. Появление Островского составило эпоху реализма на сцене. В пьесе «Не в свои сани не садись» впервые появилась героиня на сцене в ситцевом платье и гладкой прическе. До тех пор кисея, шелк и французская прическа были обязательными принадлежностями главных ролей», — отмечает один современник в своих воспоминаниях.
Островского славянофилы приняли, как своего полного единомышленника. К этому были некоторые основания: Островский в пылу спора однажды воскликнул: «Мы с Провом и Тертием (Т. Н. Филиппов— литератор, впоследствии видный чиновник-бюрократ) все дело Петрово перевернем».
Но славянофилом до конца Островский не был. Разночинцу, ему было чуждо дворянское славянофильство. Но и дворянское западничество едва ли могло его увлечь. Самым главным фактором, самым крупным событием его эпохи было торжество денежного хозяйства. Именно в эти годы прихода Островского завершались те процессы, которые к первой половине XIX столетия вели к развитию денежного хозяйства. Денежное хозяйство оказывало непосредственное влияние на политический строй и всю административную систему. Денежное хозяйство привело к техническим усовершенствованиям, — а это в свою очередь сделало невыгодным для дворянства и самого государства крепостной труд и вызвало его замену трудом вольнонаемным. Немец Гагстгаузен, изучивший Россию сороковых годов, писал: «Москва стала центром фабричной деятельности и из дворянского города превратилась в фабричный город. Значительная часть дворянства превратилась в фабричных предпринимателей».
Еще в двадцатых годах XIX столетия было положено начало огромного состояния Морозовых. Основатель этой фирмы, Савва Морозов, был простым ткачом и крепостным помещика Рюмина. В 1797 году он устроил небольшую фабрику шелковых лент, затем более крупную — парчи и шелковых материй — в местечке Зуеве. В 1620 году он выкупился на «волю со всей своей семьей (за 17 000 рублей), записался в купечество и стал одним из крупнейших фабрикатов России. Шерстяная фабрика Егорова в Клинском уезде в тридцатых годах представляла небольшую светелку, в которой владелец работал за станком наравне с другими ткачами. Основатель одной из крупнейших шелковых фабрик — Кондратов — был крепостным Бибикова. «В селе Вачи Муромского уезда фабрика стальных изделий была устроена в 1831 году крепостным крестьянином князя Гамизына — Кондратовым. В начале пятидесятых годов в Павлове насчитывалось уже много мастеров-фабрикантов, из которых особенно выделялись Завьялов, Калякин и Горшков, крепостные Шереметева. В 1815 году Прохоров предложил своему господину отпустить его на волю за небольшую сумму с тем, что эти деньги будут вносить за него будто бы московские купцы. Барин изъявил согласие. Прохоров купил в Москве большой дом и построил фабрику. Раз как-то Прохоров встретился в Москве со своим бывшим господином и пригласил его к себе в гости. Барин пришел и немало дивился, смотря на прекрасный дом и фабрику Прохорова» (Берлин, «Русская буржуазия». 1922 г., стр. 83).
Островский в своих «купеческих» пьесах ярко изобразил силу растущей буржуазии. В русскую жизнь должны были войти его Большовы и Аховы. «Исторически, — говорит один из исследователей творчества Островского, — это были Морозовы, Гучковы, Коноваловы, Терещенки т. п.». Деньги — вот что начинает царствовать над всей жизнью эпохи Островского (1847–1886 гг.) и что отражается в его творчестве. Когда-то все формы русской жизни определяла вотчина. Потом — поместье — «души» на ней, а в эпоху Островского командующим фактором становятся деньги. Островский воспринимал эту власть денег, — читаем мы у его биографа (Валериан Полянский, «А. Н. Островский», Госиздат, 1923 г.), — как проникновенный талант. Он не был теоретиком, не был и политиком. С неподражаемым мастерством, в ярких картинах переносил эту основную тему — деньги — в свои комедии на сцену, Но художественные обобщения не были для художника той предпосылкой, которая давала бы ему возможность не только описывать ужас положения, но и указывать выход из царства самодуров, путь к освобождению из-под гнетущей власти денег».
На торжество денежного хозяйства он смотрел глазами разночинца. «Разночинная интеллигенция его времени либо покорно шла за господствующим классом, либо брала на себя защиту нового, долженствовавшего сменить прежних владык: в этом была прогрессивная роль второй группы; к какой из двух принадлежал Островский? Его исключительная способность видеть острее и глубже своих современников позволила ему — одному из первых в литературе — отметить приближение капиталистической эпохи и в художественных образах представить наступившую эру господства денежного хозяйства. Он показался современникам Колумбом этой новой и далеко не для всех ясной стихии, и не даром за это открытие его славили, то указывая на него, как на первого обличителя «самодуров», то как на вскрывшего «глубины народного духа» художника, то как на «Пржевальского нашей внутренней Азии»: форма оценки диктовалась классовой и групповой психологией ценителя. Сам Островский сознавал это свое значение («я нашел рукопись, рукопись эта проливает свет на страну, никому до сего времени в подробности неизвестную и никем еще из путешественников неописанную. Страна эта, но официальным известиям, лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего вероятно и называется Замоскворечье»). Островский таким образом сделал источником своего творчества объективное явление своей эпохи и осветил его собственной идеологией, несильной и незамысловатой — пропорционально силе той группы, к которой он сам принадлежал».[8]
2
За «Не в свои сани не садись» последовала «Бедность не порок». Первое представление этой пьесы состоялось 25 января 1854 года. Это одна из самых важных дат в истории московского театра. И. Ф. Горбунов отразил впечатление публики словами старого учителя русской словесности Андрея Андреевича.
— Шире дорогу! Любим Торцов идет! — воскликнул по окончании пьесы сидевший с нами учитель российской словесности, надевая пальто.
— Что же вы этим хотите сказать: я не вижу в Любиме Торцове идеала. Пьянство — не идеал, — сказал студент.
— Я правду вижу, — отвечал резко учитель. — Да-с, правду. Шире дорогу — правда по сцене идет! Любим Торцов — правда. Это конец сценическим пейзанам, конец Кукольнику, воплощенная правда выступила на сцену.
Этой правды Щепкин не принимал. В труппе вообще разделились мнения о пьесе. Щепкин все время твердил, что если «Бедность не порок», то ведь и пьянство — не добродетель. Его воспитанник и ученик актер Шумский следовал за ним. Он говорил: «Вывести на сцену актера в поддевке и смазных сапогах — не значит оказать новое слово».
На эти злые замечания актер Степанов отозвался так: «Михаилу Семеновичу с Шумским Островский поддевки-то не по плечу шьет, да и смазные сапоги узко делает — вот они и сердятся».
Новое слово, сказанное Островским, застало целое поколение актеров как бы врасплох. Но выдвигались молодые силы — С. В. Васильев, Л. П. Косицкая, две сестры Бороздины и прежде всего Пров Садовский. Искусство Прова Садовского, воспитанное и выросшее на почве сценического реализма Щепкина (Щепкин первый заметил провинциального актера Садовского и помог ему перебраться в Москву), — это искусство стало приобретать новое выражение. Щепкин, борясь всю жизнь с дурными традициями прошлого, с теми навыками неестественной игры, которые были господствующими в пору его молодости, Щепкин, совлекая с себя «ветхого Адама» ложноклассического актера и побеждая ряд трудностей, стоявших на пути к раскрытию правды, естественности, простоты, все же не мог до конца растворяться в изображаемом им лице. О нем очень верно сказал Аполлон Григорьев, что Щепкин «играет страсти отдельно от лиц», а Садовский играет страсти сливая их с лицами — так, что между его кожей и кожей изображаемых им персонажей нельзя и иголки пропустить. Реализм Щепкина как бы исчерпал себя в Гоголе. Для Островского у него уже нехватило сил. Он должен был посторониться. Но ведь то, что изображал Островский, эту новую сильную, умную, хищную породу людей, для которых «власть денег» была определяющей все их жизненные отношения, это «самодурство» Большовых, Аховых, Брусковых было мало известно Щепкину. Купец, написанный Гоголем, уже был иным в яркой окраске Островского. «Купец, говорящий во имя интересов рынка, уже не тот аршинник, который двумя головами сахару в пользу городничего отстаивал свое право обмеривать и обвешивать. Нет, за этим купцом иногда целый мир разнообразных потребностей и вопиющих нужд народных и государственных», — совершенно верно отмечает Ф. Мещерский в своих «Очерках нашей общественной жизни в России». Вот этой новой полосы купечества Щепкин не знал. Он пробовал играть Островского. В Нижнем-Новгороде, куда, как мы знаем, он ездил на свидание с Тарасом Шевченко, он ставил «Бедность не порок» и выступил в роли Любима Торцова, хотя и находил ее «грязной». Играл он вместе с Садовским и в «Свои люди сочтемся» — купца Большова, играл бледно.
Сцена из пьесы А. Н. Островского «Доходное место» на сцене Малого театра в Москве.
3
Он нелегко сдался. Боролся против Островского. Известно, что он враждовал с Садовским. Ученица Щепкина А. И. Шуберт вспоминала, что Садовский отказался приехать к ней на именины — не желал встречаться со Щепкиным и его компанией. У Щепкина единомышленники были не только в московской, но и в петербургской труппе. В Александринском театре оппозицию Островскому составлял друг Щепкина Сосницкий. Но и в Петербурге был актер Островского — Мартынов.
И дело, конечно, не в том, что Щепкина называли в театре западником. Западники в той же мере могли считать Островского своим, как и славянофилы. Островский стал печататься в боевом органе русского радикализма — «Современнике», и глашатаем его славы был Добролюбов с его знаменитой статьей о «темном царстве».
Это был спор актерских поколений. Вражда двух сценических течений. Щепкин до конца остался верен своей точке зрения на Островского, как на талантливого, но грязного писателя. Щепкин всегда учил, что искусство, сколь оно ни близко естественности, все же должно быть несколько над жизнью. Оно должно быть очищенным от ее грубой правды. Когда появилась «Гроза», которая нашла такой восторженный прием и у славянофилов, и у западников, Щепкин в споре об этой пьесе до того разгорячился, как вспоминает Горбунов, что стукнул костылем и со слезами сказал: «Простите меня, или я к старости поглупел, или я такой упрямый, что меня сечь надо».
Горбунов совершенно точно передал отношение Щепкина к «Грозе». Сохранилось письмо Михаила Семеновича к А. Д. Галахову, по отзыву которого была присуждена Островскому в Академии так называемая Уваровская премия. Щепкин пишет ему язвительно, что он «на старости лет в настоящее время в самом страдальческом положении». Всю свою жизнь он изучал драматическое искусство и руководствовался «всеми великими творцами по этой части» и ему казалось, что за пятьдесят лет его трудов в театре он кое-чему научился и кое-что начал понимать. Но вот отзыв о «Грозе», и Щепкин убеждается, что он или «совершенный невежда или человек отсталый». Далее он издевается над целым рядом моментов в пьесе. Он глумится над Катериной, которая признается в своей измене мужу, над сценой в овраге, где, по его мнению, происходит нечто совершенно бесстыдное, и язвительно говорит, что, пожалуй, лучше было бы изобразить на сцене то, что происходит за кустами у Варвары с Кудряшом. «Вот бы эффект был небывалый».
«Видите ли, какой я отсталый человек, что придираюсь к таким мелочам, со всем тем пожалейте об моем тупоумии, а может быть тут примешивается и самолюбие. Позвольте мне остаться при моем невежестве и смотреть на искусство своими глазами».
Это письмо по тону чем-то напоминает знаменитое послание Михаила Семеновича Герцену, в котором он отговаривает редактора «Колокола» перестать заниматься политикой. Новые социальные явления в жизни, как и новые явления искусств, уже не воспринимаются Щепкиным. Когда он ругал Островского за полушубки, которыми он «провонял сцену», то в этом видели проявление его западничества. Но ведь от «славянофилов» Островского ничего не осталось в «Грозе». Здесь не утверждение «устоев» старой русской жизни, а такое изображение темных ее сторон, которое могло быть принято передовыми людьми эпохи, как страшное обличение. Но Щепкин в эту закатную пору своей жизни уже давно не был передовым человеком своего времени.
ГЛАВА ШЕСТАЯ «АРТИСТ И ЧЕЛОВЕК»
1
Когда пришел непонятный и отвергнутый Щепкиным Островский, репертуар артиста был огромен. Если двадцатые годы XIX столетия, к которым относится начало службы Щепкина по Москве, отличаются ролями комедийного и водевильного характера, не дающими художественного удовлетворения Михаилу Семеновичу, то следующие десятилетия приносят с собой ряд творческих побед, выросших на большом и ценном материале. Здесь Мольер — «Мещанин во дворянстве», «Мизантроп», «Скапен», «Школа женщин», «Тартюф», «Сганарель», «Скупой», Шеридан со «Школой злословия», Бомарше — «Женитьба Фигаро» и «Севильский цирюльник», Шекспир, в трагедиях которого «Гамлет» и «Ромео и Джульетта» играет Щепкин Полония и Капулетти, Шиллер с «Коварством и любовью» — Щепкин — Вурм; русский репертуар дал Фамусова, затем Городничего, Подколесина, Кочкарева, Утешительного и Бурдюкова в коме-днях Гоголя; затем две роли Тургенева — Ступендьев в «Провинциалке» и Кузовкин в «Нахлебнике» — эта роль принесла стареющему Щепкину триумф; Муромский в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина и, наконец, два выступления в Островском — Любим Торцов в «Бедность не порок» и Большов в «Свои люди — сочтемся».
Пятидесятые годы — пора физического угасания Щепкина, и тем не менее современники отмечают прежний огонь воодушевления, тот страстный темперамент, который, освободившись от налета излишней торопливости и сентиментальности, в чем упрекает Щепкина Гоголь, вылился в совершенные формы.
При ясном уме М. С. Щепкина, при его знании жизни, ему нетрудно было схватить характер лица в пьесе: он видел тотчас, к какому разряду людей принадлежит изображаемое им лицо. И с тактом художника угадывал он тон его речей, являвшийся уже цельным перед глазами зрителей.
Несмотря на полноту свою М. С. Щепкин был эластичен в движениях, силен и неутомим. Свойства эти сохранил он до глубокой старости; большинство ролей своих он играл еще на последнем году жизни, когда ему было уже более семидесяти лет. Он, конечно, уставал по окончании игры; но страсть приковывала его к театру, который он из года в год намеревался оставить.
Изучая роль, М. С. Щепкин усваивал большие внутренние движения души в человеке. В игре его не было подражания внешним привычкам, голосу и ухваткам различных сословий: он никогда никого не копировал. У него был талант — схватить сущность лица и передать это по-своему. В его умном взгляде вы читали мысли изображаемого человека, а тон речи и движения подходили к характеру роли. При художественном понимании внутреннего человека М. С. Щепкину нетрудно было создать роли русского быта; но и роли из комедий Мольера удавались ему как нельзя лучше. Так, в комедии «Мнимый больной» или в комедии «Доктор поневоле» в игре М. С. Щепкина вы видели живыми чудаков, созданных в воображении Мольера и являвшихся перед вами в лице М. С. Щепкина, который оставался всегда немного самим собой по внешности. Но вы видели, вместе с тем, верно переданный характер и забывали иногда о том, какой нации и какого слоя общества был этот чудак, выходки которого заставляли вас смеяться до слез.
Его влияние на формирующееся новое поколение актеров было бесспорно и огромно. Какую пользу принес он своим преподаванием в театральном училище! А эти постоянные наставления, которые он делал живущим у него Шумскому, Позняковой, которая стала знаменитой Г. Н. Федотовой, Лентовскому и многим другим. Его влияние перешло далеко за пределы Москвы. Любя гастролировать, он часто ездил в провинцию — был в Казани, Нижнем Новгороде, Орле, Полтаве, Одессе, в Крыму. В 1822, 1828,1832, 1844 и 1852 годах он играл в Петербурге. К нему идут за советом, его авторитетное слово— закон. Он охотно делится своими суждениями об искусстве. Автор корреспонденции из Орла о гастролях в этом городе Щепкина писал, что «по окончании спектакля он провел со Щепкиным вместе несколько часов. И старые и новые знакомые Щепкина, собравшиеся сейчас же после спектакля, благодарили знаменитого артиста, который в нашем кругу так охотно, добродушно разговорился о предмете, столько ему близком, об искусстве сценическом. Мы уверены, что слушать об этом мнение знаменитого художника в тысячу раз полезнее, чем прочесть сотни немецких эстетик».
История прохождения его службы на малой сцене сохранилась в официальных документах, переписке и делах, которые велись конторой императорских театров. Когда пришел срок окончания первого контракта, заключенного Щепкиным с дирекцией, и предстояло его возобновление, то на официальный запрос Михаила Семеновича, «благоугодна ли будет его служба при дирекции на дальнейшее время и на каких условиях», директор театров Загоскин написал на доношении Щепкина: «На сто лет, только бы прожил». А в другой официальной бумаге из театральной конторы говорилось, что «правящий должность директора, камергер Михаил Николаевич Загоскин в уважение отличного таланта Щепкина приятностью поставляет иметь его на службе при императорских театрах на тех же самых кондициях, какие были прежде».
Каждое новое возобновление контрактов приносило увеличение оклада. В 1843 году Щепкин стал получать пенсию в 1142 рубля 82 копейки серебром в год с оставлением на службе на два года. По существовавшим тогда правилам Михаил Семенович должен был в благодарность за пенсию отслужить два года, получая пенсию в счет жалованья. В 1845 году контракт был продлен с тем же жалованьем и с оплатой так называемых разовых, то есть за каждый сыгранный спектакль отдельно по 35 рублей 70 копеек. Через год разовая плата была увеличена до 40 рублей. Случалось, возникали между Щепкиным и дирекцией недоразумения. Из них Михаил Семенович выходил победителем. Он умел ладить с начальством и во время рассказанным анекдотом, где хитростью, а где и упрямой настойчивостью добивался своего. Известно, например, что хлопоча о прибавках — и не для себя только, а для труппы, — он прибегнул к решительному аргументу, в глазам петербургской бюрократии имеющему недвусмысленный политический оттенок: Щепкин заявил, что если ему откажут, то ему придется об этом написать в герценовском «Колоколе». Вот когда понадобился Михаилу Семеновичу тот самый «Колокол», от издания которого он умолял Герцена отказаться.
2
Признанный авторитет в вопросах искусства, высоко ценимый товарищами и учениками как художник, Щепкин тем не менее не пользовался любовью в труппе. Он свои в кружках западников и славянофилов, он близкий человек Грановскому и Белинскому, Герцену и Погодину — всей этой блестящей плеяде писателей, публицистов, профессоров. И воспоминания этого круга проникнуты необыкновенной симпатией к Михаилу Семеновичу. Не то в отношениях с людьми театра. Это отметил И. И. Панаев, единственный из литературных современников Щепкина, в тоне которого чувствуется несомненное недоброжелательство к Михаилу Семеновичу. Свидетельствуя о том, как Щепкина ценили и любили все литераторы, он говорит, что «блестящие рассказы Щепкина, исполненные малороссийского юмора, его наружное добродушие, вкрадчивость и мягкость в обращении со всеми, его пламенная любовь к искусству, о которой он твердил всем беспрестанно; толки о его семейных добродетелях, о том, что он несмотря на свои незначительные средства и огромное семейство содержит на свой счет сирот — детей своего товарища и т. д., — все это независимо от его таланта делало для тогдашней молодежи Щепкина лицом в высшей степени интересным и симпатичным. Темные слухи, робко выходившие откуда-то о том, что Щепкин будто бы интриган и человек умеющий ловко и льстиво подделываться к начальству и к сильным мира сего были с негодованием заглушаемы». Уже в этих строках Панаев подчеркивает и наружное добродушие, и вкрадчивость, и мягкость в обращении Щепкина. Так оно и было на самом деле. Его ученица А. И. Шуберт вспоминает, что Михаил Семеновича осуждали за низкопоклонство, и сама подтверждает: «Правда, Михаил Семенович страдал этим пороком». И тут же в оправдание Щепкину говорит, что «ведь Михаил Семенович вышел из крепостных и хотя был известный артист, но хорошо понимал, что находится в крепости у чиновников. В их руках были и благосостояние и талант его».
Но Щепкин был человеком своего времени и своей среды. Тяжелая школа жизни, которую он прошел, научила его той тактике поведения, которая диктовала ему быть в мире со всеми, быть угодливым, когда нужно — льстивым. И он великолепно понимал, что в глазах многих это сойдет за низкопоклонство. Однако, когда надо, он умел найти колкий и достойный своему человеческому самолюбию ответ зарвавшемуся барину, в глазах которого он был только актером, то есть человеком, стоящим на одной из низших ступеней социальной лестницы.
Однажды, когда Михаил Семенович отдыхал на кавказских водах, он встретился с двумя генералами. Михаил Семенович после прогулки сел отдохнуть. Генералы подходят к нему, он конечно встал. Генералы спрашивают:
«— Скажите, Михаил Семенович, отчего французский актер, хотя второклассный, ловок и свободен на сцене, тогда как наши и первоклассные-то связаны, а вторые уж бог знает что?
— Это оттого, что я перед вами встал.
— Что это значит?
— Я старик, устал, а не смею с вами сидя разговаривать. А французский старик не постеснялся бы. Снимите крепостное иго, и мы станем развязными и свободными».
Случилось, что одного из своих воспитанников Михаил Семенович рекомендовал в дом очень известного в Москве аристократа, где он должен был заведывать делами по фабрике или по имению; но вельможа предложил молодому человеку такую ничтожную сумму, что тот отказался. В тот же вечер он встретил Михаила Семеновича в Английском клубе.
«Мы не сошлись с вашим воспитанником, г. Щепкин, — сказал он ему, — потому что он ценит слишком дорого свои труды. Он, разумеется, человек со сведениями, но мог бы сделать мне небольшую уступку насчет денег, потому что в моем доме он пользовался бы другими выгодами.
— А какими именно, князь? — спросил Михаил Семенович.
— Он обедал бы за моим столом, — сказал аристократ, — а сознайтесь, что ему не всегда удается обедать с порядочными людьми.
— По крайней мере до сих пор ему это постоянно удавалось, ваше сиятельство, — отвечал Михаил Семенович, — он с самого детства обедает со мной, и я с него за это денег не брал».
Но где-то в глубине души у него таилась мысль, что актерам претендовать на равенство с людьми из «общества» вряд ли следует. Молодая актриса Пирунова-Шмидгоф пожаловалась ему на какого-то барина, который обошелся с ней презрительно. В поучение актрисе старик Щепкин рассказал случай из собственной жизни — о том как его, уже несколько лет игравшего на провинциальной сцене актера, угощали не за барским столом, а в комнате для прислуги, и он на это не обиделся. Ведь тот, кто его угощал хотел оказать ему внимание, только форма этого внимания была неуклюжа. Но что делать, таков взгляд общества на актеров! Зато когда дело доходило до вопросов искусства, тут Михаил Семенович не щадил людей того самого общества, неравенство с которым он принимал как нечто естественное. Однажды в знатном аристократическом доме в Москве готовился «благородный спектакль»; хозяйка пригласила Щепкина на репетицию с просьбой высказать свое мнение и дать необходимые советы. Михаил Семенович приехал, остался недоволен исполнением, разгорячился и вместо ожидаемых светских любезностей и похвал от него услышали только горькую правду: «По-моему, если играть, так играть. А на вздоры и звать было незачем. Ну, вы, графиня, разве можно так ходить и разве так вы ходите и кланяетесь в вашей гостиной, как теперь?» И он начал ее представлять со смешными ужимками. С тех пор, разумеется, его уже не думали приглашать на репетиции «благородных спектаклей».
Актер Ленский оставил немало злых эпиграмм, в которых Щепкин изображается всегда в самых темных красках. Вот несколько строк из шутливого стихотворения Ленского, описывающего кавалькаду актеров Малого театра, отправляющихся на загородную прогулку:
Вот Щепкин, как же он мясист! Да, это, право, — чудо-юдо: Он в супе мяса ест полпуда. Он превосходнейший артист, Умен, забавен и речист. Но жаль… душой не очень чист.Ленский испортил настроение Михаила Семеновича и в день празднования пятидесятилетия его сценической деятельности. Произносились тосты, лилось шампанское, все внимание отдано Михаилу Семеновичу. Старик растроган, плачет. И вдруг поднимается Ленский и произносит стихи, посвященные памяти Мочалова. И в этих стихах есть злые слова, обращенные непосредственно по адресу Щепкина: явившийся во сне Мочалов говорит грустно Ленскому:
Напрасно лавровым венком Почтил меня Щепкин во гробе. Давно в земной я утробе Покоюсь по воле Христа, А нет надо мною креста, Травой заросла вся могила И трудно дойти до нее. Москва обо мне позабыла, А я был любимец ее.Нужно заметить, что Щепкин был одним из инициаторов по постановке могильного памятника Мочалову. Но время шло, деньги на памятник не собирались, и Щепкин давно забыл об этом. И как напоминание о долге перед памятью товарища, прозвучали заключительные строки стихотворения Ленского:
Итак, благородные гости. Внемлите вы просьбе моей: Утешим Мочалова кости. Поставив ему мавзолей. Пусть каждый, кому что угодно, Подпишет по воле своей, И кончим тогда благородно Мы щепкинский наш юбилей.Щепкин мог бы ответить на это злому Ленскому, что в память великого Мочалова он сделал, пожалуй, нечто большее: в своей семье приютил он старуху — сестру Мочалова.
3
Современники оставили нам много воспоминаний о Щепкине в домашнем кругу. К 1831 году семья Щепкина состояла из двадцати четырех человек, в сороковых годах она сократилась до четырнадцати человек. Кроме жены и детей, в доме жили старуха-мать, три пожилых сестры и брат Михаил Семенович, дети покойного друга Барсова, старушка Мочалова, парикмахер Пангелей Иванович, молодые люди — будущий профессор Вабст, будущий актер Шумский и будущая знаменитая актриса Федотова.
В воспоминаниях его близких сохранилось много черт, рисующих: этот домашний муравейник щепкинского дома, где всех радушно принимала жена Михаила Семеновича. Ее приветливая улыбка и лицо, красивое в старости, освещались еще прекрасными темными глазами, с ее кротким и ровным характером она была вполне способна заботиться о домашнем приюте для стариков и сирот.
«По комнатам двигались дряхлые старушки в больших чепцах. Тут же расхаживали между ними молодые студенты, сыновья Щепкина к их товарищи, часто среди них появлялись молодые артистки, вместе с ними игравшие на московской сцене, и подходили к хозяину с поцелуями. Поцеловать М. С. Щепкина считалось необходимым, его обыкновенно целовали все — молодые и пожилые дамы, и знакомые, и в первый раз его видевшие: это вошло в обычай. «Зато ведь. — говорил Щепкин. — я и старых целую».
Его внучка А. Щепкина, впоследствии жена режиссера Малого театра Чернявского, вспоминая свои детские годы в семье деда, пишет: «Я как сейчас помню его полную, невысокую фигуру в коричневом репсовом халате, подкладка у которого была белая какими-то черными бобами, а перед был до невозможности испачкан, — каких только соусов тут ни побывало, но больше всего свекольного. Дедушка почему-то каждый день ел салат из свеклы перед обедом, и мы ждали его знака, чтобы подбежать к нему и получить свою порцию красного, как кровь соуса, такого сладкого, что он нам служил лакомством. Дед под старость так любил сладкое, что сыпал сахар даже в щи и борщ».
Воспоминания домашних рисуют Щепкина несколько скуповатым для семьи и щедрым для всех тех старух и сирот, которых он селил в своем доме. В последние годы он жил на Мещанской улице, продав тот дом на Спасско-Садовой, в котором он принимал Гоголя и где выросли все его дети.
Свободные вечера он любил проводить за картами. Это была его страсть. К картам относился серьезно. Однажды вышел забавный случай. Ждали Тургенева, который проездом из-за границы должен был навестить Михаила Семеновича. Не дождавшись, сели за карты, но во время игры приехал Тургенев, подошел поздороваться с Михаилом Семеновичем, тот даже не взглянул на него, наскоро пробормотав: «Здравствуйте»; Тургенев был удивлен холодностью приема. Один из сыновей Щепкина заметил эту сухость: «Погодите, батюшка, играть, посмотрите, кто приехал».
Михаил Семенович опомнился: «Ах, извините, Иван Сергеевич, я вас и не приметил!»
Ездил он играть и в Английский клуб.
Он пережил нежно любимую жену. Силы его стали слабеть, и он грустно говорил о том, что конец его близок. В доме жила сестра Мочалова, которую Михаил Семенович называл «моя милая трагедия». Шутя, они иногда подражали старинным драматическим приемам, читая монологи из трагедий. Весной 1863 года, накануне своей поездки в Крым, откуда он уже не вернулся, Михаил Семенович вместе с «милой трагедией» кормил воробьев на своей террасе в саду и сказал Мочаловой: «Помни, трагедия, ты видишь эти развернувшиеся листья, прежде чем они упадут на землю, меня уже не будет».
Летом 1863 года, получив отпуск и пособи» на лечение, Михаил Семенович отправился в Крым. По дороге — в Ростове на Дону — он назначил свои гастроли. Писатель Нестер Кукольник видел его здесь в «Ревизоре». Щепкин физически был уже очень слаб и, естественно, играл вяло, утомление чувствовалось на каждом шагу. Следующий объявленный спектакль «Горе от ума» пришлось отменить за отсутствием публики.
На старика это подействовало болезненно, он говорил, что в первый раз в жизни получил пощечину.
В Таганроге он свиделся с Кукольником на его даче и жаловался на прием публики. Он говорил, что верит в целительный воздух юга и убежден, что Крым ему поможет.
Литератор Н. П. Вагнер в своей «Записной книжке туриста Кота Мурлыки» (под этим псевдонимом печатал Вагнер-ученый свои беллестритические произведения) рассказывает о том страшном впечатлении, какое произвел на него Щепкин на пароходе:
«В Таганроге, часа за два до отъезда, привезли на пароход полного, больного старика. Он задыхался, постоянно стонал, его привез молодой лакей и сейчас же уложил на койку второго класса. При первом взгляде на старика я тотчас же узнал его. Это был знаменитый русский актер Михаил Семенович Щепкин.
Не доверяя глазам, я подошел к лакею, который уложил больного, остановился у притолоки в дверях каюты.
— Ведь это Михаил Семенович? — спросил я его.
— Да-с!
— Скажите, пожайлуста, что с ним?
— Больны. Вот в Крым везем.
Когда пароход отъехал, часа через два больной проснулся, встал. Его подвели к общему столу. Он посидел несколько минут, тяжело дыша, затем встал и опять улегся».
Пароход имел длительную стоянку в Керчи, и Вагнер отправился в город. К его удивлению, он увидел расклеенные афиши, извещавшие об участии Щепкина в пьесе «Москаль Чаривник».
«Как же это, — подумал Вагнер, — будет играть больной старик?»
Вернувшись на пароход, Вагнер увидел, что Михаил Семенович по-прежнему лежит на койке и стонет. Услышал он и разговор пассажиров:
— Помилуйте, — говорил один, вполголоса, — ведь это нужно быть деревяжкой, чтобы сзывать публику смотреть на умирающего старика, он еле дышит.
— Да в театре-то он был? — спросил другой.
— Был. Возили. Только растревожили. Вон теперь стонет. Видно опять хуже сделалось.
Чтобы не слыхать этих стонав, я вышел, — продолжает Вагнер, — на палубу. Вечер был тихий. Картина восхитительная, но я не мог любоваться ею. Там, внизу, из каюты, постоянно доносились тихие стоны».
Наконец пришел пароход в Ялту. Здесь Вагнер порадовался за больного Щепкина: его встретили на набережной, усадили в щегольскую коляску, с ливрейным лакеем Михаила Семеновича повезли в Алупку во дворец к Воронцовым.
Здесь во дворце просвещенного мецената графа Воронцова разыгрался страшный эпилог этого печального путешествия. Едва дав Михаилу Семеновичу отдохнуть с дороги, его заставили читать перед собравшимися гостями отрывки из «Мертвых душ» Гоголя. Весь вечер читал Щепкин. Ни хозяину, ни его обществу не было стыдно просить старика продолжать, а старик, по своей давней привычке быть всем приятным, постеснялся отказаться. Так до поздней ночи продолжалось это издевательство. Но ночью ему стало совсем плохо. Он задыхался, и положение его внушало самые серьезные опасения. Аристократические хозяева испугались, как — в их доме умрет этот старик? Это невозможно. Задыхающегося старика усадили в ту же щегольскую коляску и отвезли в Ялту. Там его поместили в здании Ялтинской Прогимназии. Здесь давался бал и над комнатой умирающего всю ночь гремела музыка.
На утро началась агония.
— Скорей, скорей одеваться!
— Куда вы, Михаил Семенович! Лягте!
— Куда, куда? Скорее к Гоголю.
— К какому Гоголю?
— Как к какому? К Николаю Васильевичу!
— Да что вы, родной, успокойтесь! Лягте! Гоголь давно умер.
— Умер?.. — спросил Щепкин. — Умер… Да, вот что… — низко опустил голову, лег, отвернулся лицом к стене и заснул навеки.
Это было 11 августа 1863 года.
Началась бестолковая и неумная суета. Родных не было, ждать приезда из Симбирска сына, извещенного слугою телеграммой, было невозможно. Прах Михаила Семеновича уложили в мебельный ящик, в газетах появились извещения о смерти великого артиста и в южных городах готовились к встрече — в Полтаве, Харькове, Курске. Здесь когда-то играл молодой актер — Михайло Щепкин — из дворовых людей графа Волькенштейна. Здесь прошумела первая о нем слава.
А. И. Шуберт, ученица Михаила Семеновича, служившая тогда в Орле, рассказывает, что здесь ждали прах Щепкина бесконечно долго и уже из Москвы получили телеграмму, что тело прибыло после того, как двое суток стояло в Орле в багаже вместе с мебелью. И никто в Орле об этом не знал.
Его похоронили в Москве на Пятницком кладбище. Михаил Семенович не раз говорил родным, что ему не хочется лежать на родственном, Даниловском, кладбище и указывал на Пятницкое, где могилы Грановского и его друзей.
Современник, присутствовавший на похоронах Щепкина, вспоминает, что в дом, где отслужена была панихида, попали только родные покойного и ближайшие его друзья и сподвижники. Масса молодежи и студентов с благоговейным и удрученным молчанием ожидала выноса гроба во дворе и затем сомкнутыми длинными рядами, с непокрытыми головами, молча, сопровождала гроб до Пятницкого кладбища. Процессия двигалась совершенно мирно и не сопровождалась никакими полицейскими стражами, зато шедшие за гробом были совершенно поражены значительным числом пешей и конной полиции, охранявшей ворота кладбища. Образовалась тесная цепь полицейских и жандармских чинов около ограды, в центре кладбища. Безмолвное оцепенение объяло всех при виде открытой могилы, в которую был опущен гроб великого артиста. Ни одного слова произнесено не было — полиция как бы лишала всех языка.
Автор этих строк рассказывает о том, что оцепенение на могиле Щепкина объяснилось тем общим настроением тревоги и тяжелых сомнений, которые вытесняли недавний общественный подъем. Надвигалась мрачная реакция. Самый факт погребения Щепкина рядом с могилой Грановского — представителя яркой общественной мысли сороковых-пятидесятых годов — казался правящим властям каким-то вызовом.
Этот очевидец щепки неких похорон через некоторое время должен был ехать за границу. На первой прусской станции — Эйдкунен, — бродя по вокзалу, он увидел недавно вышедший в Лондоне номер «Колокола». В «Колоколе» была статья Герцена, посвященная памяти Щепкина.
Герценовские слова о том, что Щепкин «первым в театре стал нетеатральным», как нельзя лучше выражают весь смысл художественного подвига этого великого артиста. Это значит, что Щепкин проложил пути русского сценического реализма. Эти пути оказались прочными и широкими. То, чего не успел сделать сам Щепкин, вступивший в борьбу с теми новыми течениями, истоки которых шли от той же «щепкинской естественности», «щепкинской нетеатральности», это дальнейшее завоевание и углубление жизненной правды на сцене было завершено актерами Островского — Садовским и Мартыновым, а затем всей школой обновленного русского театра. Наследие Щепкина было огромно — его богатствами щедро пользовалось русское сценическое искусство. Гениальный режиссер нашей эпохи, создатель Московского художественного театра — К. С. Станиславский мудро говорил, что этот театр основан на заветах Щепкина.
…Над его могилой поставлена цилиндрическая глыба, и на ней надпись:
„Михаилу Семеновичу Щепкину,
АРТИСТУ И ЧЕЛОВЕКУ",
БИБЛИОГРАФИЯ
Щепкин М. А. М. С. Щепкин. Записки его, письма, рассказы Щепкина, материалы для биографии и родословные. СПБ. Изд. Суворина. 1914 г.
Наиболее полный свод материалов биографического характера. Текст «Записок» М. С. Щепкина входит также а изд. «Академия» под ред. А Дермана.
Кизеветер А. А. М. С. Щепкин. М. 1916 г.
Книга, ценная большим фактическим материалом, освещающим сценический путь Щепкина. В работе Кизеветера Щепкин изучен как «эстетическое явление». Социальная природа Щепкина не вскрыта.
Ярцев А. Щепкин. Из серии издания Павленкова «Жизнь замечательных людей».
Много фактического материала. Работа устаревшая. Насыщена «либеральным гуманизмом».
Эфрос Н. М. С Щепкин. Изд. «Светозар». Петроград. 1925 г.
Монография, посвященная главным образом Щепкину-актеру.
Из мемуарной литературы о Щепкине.
Стахович А. А. Клочки воспоминаний. М. 1904 г.
Шуберт А. И. Воспоминания. Изд. «Академия».
Шевченко Т. Г. Дневник. Изд. Пролетарий. 1925 г.
Кони Ф. На жизненном пути. Т. II.
Тургенев И. С. Литературные воспоминания.
Афанасьев А. Н. Щепкин и его записки. «Библиотека для чтения» 1864 г. Февраль.
О Щепкине в общих трудах по истории русского театра.
Всеволодский — Гернгрос. История русского театра. Т. И, «Теакино-печать». 1929 г.
Варнеке Б. История русского театра. II издание СПБ, 1914 г.
Эпоха Щепкина
Герцен А. И. Былое и думы. Госиздат. Род. Лемке и в Серии «Русские классики» Гихл’а.
Анненков И. Воспоминания. Изд. «Академия». 1929 г.
Панаева А. Воспоминания. Изд. «Академия».
Евреинов Н. Крепостные актеры. Отдельный оттиск из «Ежегодника императорских театров». 1911 г.
Аксаков С. Т. Разные сочинения.
Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. Тихонравов. Сочинение. Том. III. Ч. I. («Ревизор в Москве»).
Гиппиус В. Гоголь. В письмах и воспоминаниях. Изд. «Федерация». 1931 г.
Мендельсон И. М. А. Н. Островский. В воспоминаниях современников и его письмах. Изд-во Т-ва «В. В. Думов», Насл. Бр. Салаевых. М. 1923 г.
Долгов Н. А. Н. Островский. 1823–1923 г. Госиздат. 1923.
Лебедев-Полянский И. А. Н. Островский. Биографический очерк. Госиздат. 1923 г.
Эфрос Н. Пров Садовский. Изд. «Светозар». 1920 г.
См. Также: Герцен А. И. Сорока-воровка. Соч. т. I.
Сологуб, гр. Соч. т. II. Рассказы «Воспитанница» и «Собачка».
А. Нифонтов. «1848 год в России». Гихл, 1931 г.
Примечания
1
См. Ключевский «История России».
(обратно)2
Граф в это время женился на сестре той самой А. А. Анненковой, которая пожалела солдата Степанова.
(обратно)3
Т. е. тот ружейный прием, который делали солдаты, отдавая воинские почести покойнику (прим. Ю. С.).
(обратно)4
В эпоху Щепкина оркестры были в драматических театрах перед началом спектакля и исполнялись обычно так называемые увертюры.
(обратно)5
Сосницкий играл городничего, Дюр — Хлестакова.
(обратно)6
Т. е. дающей и берущей взятки.
(обратно)7
Роли Щепкина в «Ревизоре», в «Москале Чаровнике» и в «Бедность не порок».
(обратно)8
См. статью 3. И. Чучмарева «Социально-экономический момент в творчестве Островского». Опыт марксистского освещения. Сборник «А. Н. Островский», под ред. Варнеке, Госиздат Украины. Одесса. 1923 г.
(обратно)
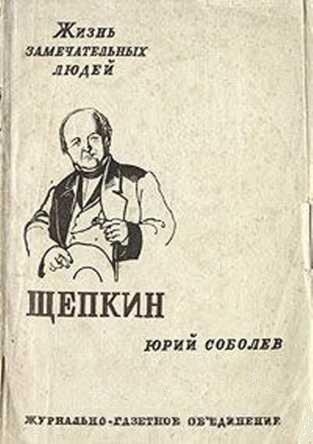


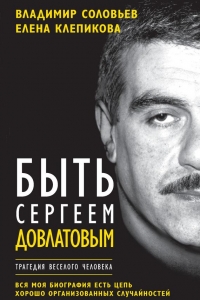



Комментарии к книге «Щепкин», Юрий Васильевич Соболев
Всего 0 комментариев