Дмитрий Левинский МЫ ИЗ СОРОК ПЕРВОГО… Воспоминания
От издательства
В основу настоящего издания лег машинописный экземпляр, подготовленный и изданный автором собственноручно в 2-х экземплярах.
В подготовке настоящей книги принимали участие Татьяна Тигонен и Анастасия Апина. При окончательном редактировании рукописи фрагменты сугубо не мемуарного или вторичного характера были опущены. Сделанные при этом сокращения обозначены знаком <…>. Авторское название рукописи «„Мы из сорок первого, или Ты — моя звезда“: Автобиографическая повесть» — укорочено. Явные опечатки исправлены без оговорок.
Сердечно благодарим Татьяну Дмитриевну Левинскую, дочь автора, предоставившую для работы семейный архив отца (впоследствии подаренный ею московскому обществу «Мемориал») и Федора Степановича Солодовника, председателя правления Межрегиональной общественной организации «Общество бывших российских узников Маутхаузена» и вице-президента Интернационального Маутхаузен-Комитета, за помощь в подготовке и издании этой книги.
Записки сержанта и поэта
До чего проклятая штука — война! Как она уродует жизнь человека, соприкоснувшегося с ней: одни погибнут в расцвете сил, не познав прелестей жизни; другие смолоду станут инвалидами до конца своих дней; третьи попадут в плен — война без плена не бывает, что бы там ни говорили! — и, если выживут, станут надолго считаться людьми второго сорта, предателями родины; четвертые пропадут без вести, и о них никто ничего не узнает; пятые, которым повезет и они вернутся невредимыми, вполне возможно, на всю жизнь останутся черствыми, жестокими людьми с надломленной психикой оттого, что им приходилось много убивать, — это сделалось их профессией, — и эта моральная травма будет долго их преследовать.
Дмитрий Левинский. Мы из сорок первого…В 1997 году петербургский «Мемориал» устроил презентацию моей книги «Жертвы двух диктатур» у себя в Питере. После дискуссии, оживленной и доброжелательной, ко мне подошло несколько человек из числа «персонажей» книги, и мы еще долго разговаривали.
С одним из них мы увиделись в этот же или на следующий день у него дома. Он хотел непременно дать мне почитать то, что написал сам.
Это был Дмитрий Константинович Левинский.
В руках у меня оказалась удивительная книга. На колофоне было проставлено: «Сигнальные экземпляры изданы во второй авторской редакции и на средства автора. Компьютерный набор, верстка и печать выполнены автором. Сдано в набор 01.04.96. Подписано в печать 28.04.96. Формат 60*84/16. Бумага типографская. Печать высокая. Уч. — изд. л. 20,6. Тираж 2 экз. Цена договорная».
Здесь все правда, кроме одного: купить эту книгу было невозможно, в продаже ее не было. Так что в руках у меня находился необычный «самиздат» — эпохи гласности и перестройки…
Начав читать, я не мог оторваться от книги, пока не дочитал ее до конца. Интерес и восхищение вызывало буквально все — и сама военная судьба Левинского, и его любовь, и его редкостная аналитичность, и даже то, как книга была написана.
За предыдущие период мы как-то привыкли к военным мемуарам лиц, в годы войны служивших на маршальских, генеральских или, самое меньшее, полковничьих(как, например, Л. И. Брежнев) должностях. Помнится, как вся страна всерьез зачитывалась книгами Жукова или Штеменко.
О том же, сколько в них было похвальбы, лжи и, что то же самое, умолчаний, не стоит и говорить, как не стоит разбираться и в том, где прошелся «внешний», а где «внутренний» цензор.
Впрочем, на Западе в те же годы выходили воспоминания и не столь высоких чинов, главным образом из числа военнопленных-невозвращенцев, но, кажется, ни один из них ни на шаг не отвлекался от перепитий собственной судьбы и не замахивался на размышления о войне в целом, об отдельных ее составляющих, о ее тактике и стратегии. Единственный, кто всерьез покусился на эту неписаную прерогативу штабистов, стал, пожалуй, автор «Ледокола».
Записки сержанта (или, по занимаемым должностям, младшего лейтенанта) Дмитрия Левинского решительно и уверенно рвут с этой «традицией». Автор — не только замечательный мемуарист, но и прирожденный аналитик, мобилизующий все доступные ему сведен и я по затронутому вопросу и накладывающий их на то, что пережил сам. Страницы «чистых» воспоминаний чередуются со страницами исследовательского или полемического склада. Но и в сохраненных памятью, подчас самых малых деталях — от амуниции до построения на марше — он умеет видеть отражение больших событий или масштабных замыслов. Жанр, в котором написаны его мемуары, я бы так и назвал — «аналитические воспоминания».
Приучивший себя к интеллектуальной самостоятельности (а то, что в свои преклонные годы он самостоятельно набрал, сверстал и «издал» свой труд аж в двух экземплярах, видится мне также одним из проявлений этого свойства), Д. Левинский не признавал непререкаемых авторитетов и равно серьезно, убедительно и жестко полемизировал и с советскими военачальниками (с генералом Тюленевым, например, или с авторами выходившей в 60-х годах 6-томной «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945»), и с Виктором Суворовым (скажем, сего построениями о таинственной 9-й ударной армии вторжения Южного фронта).
В книге пять глав: первая — «На службе в РККА. 1939–1941», вторая — «На Южном фронте. 1941», третья — «В германском плену. 1941–1942», четвертая — «В нацистских тюрьмах и концлагерях. 1943–1945» и пятая — «На службе в РККА. 1945–1946». Армейская служба как бы естественным образом закольцовывает композицию. Главы разбиты на главки, обозначенные географически, — по местностям, где то или другое событие происходило. В каждой большой главе просматривается та или иная главная, или сквозная, общая тема. Например, в первой главе это — готовился ли СССР к войне с Гитлером (диалог с Суворовым), а в третьей — искусство выжить в плену: так, осенью 1941 года, находясь в пересыльном лагере в Яссах, автор стал выменивать на сигареты теплые вещи у военнопленных западных украинцев, ожидавших со дня на день скорого освобождения, и тем самым «подготовился» и пережил лютую зиму(мало того, видя предпочтение, которое оказывалось украинцам, он и сам назвался Левченко) и так далее.
Вот характерный образец такого рода обобщения, поводом для которого послужила нелепая инструкция по оповещению полкового начальства о начале войны — бегом через всю Одессу с конвертом в руках и обратно, но уже вместе с командиром и почему-то тоже бегом: «Сейчас только диву даешься, сколько „мусора“ было в наших солдатских головах в то далекое время. Но такими нас упорно делала система: другие ей были не нужны. Этого мы тогда не понимали, но целиком соглашались с таким положением. Мы тоже по-другому не мыслили и во всем поддерживали систему. Мы являлись ее продуктом, ее детьми, ее оплотом… Существовавшая система напрочь отучала людей думать самостоятельно даже в одиночку: вдруг кто-нибудь мысли услышит? Думать стало опасно! Прикажут — выполним, а думать — нет, от этого избавьте: жить хотим. Кто много думал — тех уже с нами нет. Результаты такого подхода не замедлят сказаться… Наша дивизия называлась „дивизией прикрытия границы“, а командир полка не мог воспользоваться ни велосипедом, ни мотоциклом, ни автомашиной, ни повозкой на худой конец. Неужели так можно начинать войну? Как объяснить это самому себе?
Но тогда мы просто бежали, а думать о нелепости такой системы оповещения стали намного позднее. А почему нельзя было оповестить по телефону? Много возникает таких „почему“, а вразумительных ответов не найти. Таков был наш общероссийский порядок, засекреченный вдоль и поперек!»
В силу ли личных качеств или по-юношески крепкой памяти, но по интересу к точности и по любви к мелкой детали Дмитрий Левинский мало кому уступит: «В пехоте на переднем крае долго не живут — ни рядовые, ни командиры. „Старожилы“ переднего края — редкое явление. К середине июля в ротах на лейтенантских должностях пооставались одни сержанты. Наверное, потому, что вначале сержантов было в 3–5 раз больше, чем лейтенантов, вот и осталось их больше. Но главное в другом: воевали сержанты по-другому. Им не надо было демонстрировать перед бойцами свою удаль и отвагу. С лейтенантами было сложнее…»
Или другой, еще более яркий пример. В феврале 41-го года в одной из одесских газет попалось ему на глаза стихотворение никому не известной Елены Ширман. Уже название «Так будет» было весьма недвусмысленным: «…И час придет. Я встану, холодея./Скажу: „Фуфайку не забудь, смотри…“/Ты тщательно поправишь портупею/ И выпрямишься. И пойдешь к двери…»
В стихах этих он расслышал пророчество о будущей войне с Германией, столь совпадавшее с тогдашними ощущениями и его самого, и многих-многих других. Приведя стихотворение (оно сохранилось благодаря тому, что было послано с письмом в Ленинград), он пишет: «Что же получается? Сталин упорно не хочет видеть приближения войны. Он ее не ждет, носам готовит! А Елена Ширман не только ждет ее со дня на день, как и мы, грешные, а описывает ее начало, причем тревожно и трогательно, как-будто уже провожает мужа на фронт.
Вывод: ничего не видел только тот, кто не хотел видеть, как приближалась война. В сознании многих она уже шла! Сложное чувство осталось от этого стихотворения. Больше я его никогда не встречал».
Для книги существенно и то, что написана она не только столь много видевшим и испытавшим и притом столь внимательным и вдумчивым человеком, но еще и поэтом (его романтические стихи вплетены в ткань повествования). Но и этого мало: перед нами еще и подлинный рыцарь в дон-кихотовском смысле слова, чьей путеводной звездой и не-призрачной Дульсинеей была реальная ленинградская девушка, Нина Граур, долгие семь лет разлуки хранившая верность своему рыцарю, как и он ей. Несмотря ни на что, он не позволил своей душе ожесточиться, заматереть, и не это ли в конечном счете спасло не только душу, но и тело — саму жизнь! — ленинградского мальчишки Димы Левинского от гибели! А смерть всегда была где-то рядом, в двух шагах: по ходу записок — в главах о войне, о плене и о концлагере — я насчитал не менее двух десятков ситуаций, живым из которых выйти было труднее, чем мертвым.
Но судьба долго хранила его — храброго сержанта, влюбленного поэта и размышляющего историка.
До выхода своих воспоминаний в свет Дмитрий Левинский, увы, не дожил, но хочется верить, что книгу его читатель оценит по достоинству.
Павел ПолянМы из сорок первого…
Светлой памяти без вести пропавших в 1941–1945 годах
Предисловие
Не знаю что — судьба или подкова
Хранит меня в плену земных забот?
…И в смертный час я не умру, а снова
Вернусь обратно в сорок первый год.
Вернусь обратно в пекло канонады,
В соединенье братства на крови,
К отмеченным отсутствием награды -
Однополчанам жизни и любви…
Михаил Дудин… Как я выжил — будем знать
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
Как никто другой…
Константин Симонов
Эта повесть охватывает период трудных для страны лет — с тридцать девятого по сорок шестой (тут же подумалось: а когда у нас были легкие годы?). Повесть — не вымысел, а документ. Все события, факты и имена — подлинные (а все, что дается от третьих лиц, — специально оговорено).
Что побудило меня к ее написанию?
Неимоверную цену заплатила страна за Победу. Заплатила многими жизнями и многими судьбами, в том числе и моих товарищей по боям, и по плену.
На моей книжной полке стоит много послевоенной мемуарной литературы. Но сегодня я не могу ее читать: настолько суровая правда войны перемешана там с обязательной, но красивой ложью. Эти книги трактуют события в хвалебном тоне. Но пришло время, и появились другие авторы, пишущие по принципу: все, что было, все было плохо!
В память павших за Родину, в том числе и безвестных солдат, я себе не позволил ни того, ни другого. Что хорошо, а что плохо — пусть рассудит читатель. И о роли партии я не умалчиваю стыдливо, поскольку партией для меня в те годы были лучшие и храбрейшие мои товарищи и командиры, о которых могу сказать только добрые слова. Это они, партийные и беспартийные, завоевали Победу ценой жизни.
И пусть сегодня говорят, что тогда сражались не за Сталина, а за Россию, за Союз. Это не так: отдавали жизнь и за Сталина, но главное — отстаивали целостность своей земли, пусть даже и с тем порядком, который на ней утвердился. Бездарно и бесславно начал войну Вождь, но мы не желали отдать врагу на поругание все то светлое и радостное, с чем выросли и что нас окружало.
Я имею в виду, впрочем, только тех из нас, молодых, кому повезло и кто не успел напрямую столкнуться с репрессиями. Об этом забывать нельзя: страна жила двойной жизнью, причем одни ее граждане видели только хорошую сторону, а другие — только плохую. Мне повезло, я не испытал на себе репрессий[1]. Таким, как я, дорого было многое — и песни Дунаевского, и патриотические кинофильмы, и челюскинцы, и Чкалов, и праздничные демонстрации, и пионерские сборы.
Перед моими глазами стоят ушедшие навсегда сверстники предвоенных лет: какой одухотворенный свет излучают их прекрасные лица с давно поблекших фотографий. Сегодня их могут назвать чудаками, но я — один из них, и всегда буду с ними, павшими и живыми. Многим сегодня покажется странным, что мы в 15–16 лет мечтали попасть добровольцами в республиканскую Испанию, стремились схватиться с фашистской Германией, отчетливо сознавая, что, пока там Гитлер, нам спокойно не жить.
Почему большинство из нас были такими максималистами? Еще с Гражданской войны, расколовшей страну на два непримиримых лагеря, мы все сделались либо «нашими», «красными», либо — «не нашими», «белыми», то есть врагами. Истоки навязанной нам жесточайшей классовой борьбы — одновременно в Кремле и в коммунальных кухнях. Среднего было не дано — никаких компромиссов: «Врага — уничтожают!»
Каждый из нас с малолетства впитывал эти идеалы и готов был биться за них смертным боем — в школе, на улице, в окопах. Мы пели: «Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян!» Это понятно: остальных за борт! И еще мы пели: «Взвейтесь кострами синие ночи, мы — пионеры, дети рабочих!» А здесь непонятно — крестьяне куда+то исчезли. А их за что? Ну, интеллигенция — врачи, учителя, инженеры, артисты — это понятно: классово чуждая, ненадежная, почти вражеская прослойка. Но почему тогда в «Мартирологе», выпущенном в Петербурге в 1995 году, столько рабочих и крестьян? Выходит, диктатура пролетариата только на лозунгах, а в жизни все иначе? Били «нэпманов», всех «бывших», а заодно и «гегемона революции» — сам пролетариат.
На примере своей нелегкой жизни и судеб тех, с кем рос, учился и воевал, я хочу показать, как мое поколение стало таким, каким требовалось стране. А от других она избавлялась.
Вспомним: после революции на улицах Петрограда полно подрастающей молодой поросли. Она бегает, шумит, ворует, дерется и хулиганит, а в обществе — полнейшее смятение умов: кто+то ворчит, другие — негодуют, третьи — разочарованы, четвертые — затаились в злобе, пятые — все потеряли… Этих уже не переделаешь, это в массе — сложившиеся люди, их можно только давить и давить. А вот молодежь следует вылепить по образцу и сделать ее готовой жертвовать собой за освобождение трудящихся всех стран от ига капитала, ибо мы — самый справедливый общественный строй, первые на этом историческом пути — островок социализма в море хищного, агрессивного мира.
И страна сделала нас такими, какими требовалось. Как тут не восхититься мудростью партии, сумевшей справиться с этой сложнейшей задачей в короткий исторический срок, когда впереди была война?!.
На примере моей семьи берусь утверждать: не только партия приложила к этому руку, но и… мои родители. Из моих родных в 1918 году расстрелян дед (отец матери — Василий Иванович Комендантов, купец 2+й гильдии), а в 1937–1938 годах — два родных дяди (брат отца — Евгений и брат матери — Николай, бывшие офицерами-окопниками в Первую мировую войну). А меня все равно вырастили борцом за идеалы коммунизма. Сколько себя помню, отец и мать тщательнейшим образом скрывали от меня свое истинное отношение к Великому Октябрю либо действительно восприняли революцию сердцем и душой, как и многие российские интеллигенты того времени. За годы детства я при всем желании не могу припомнить ни единого раза, когда мои родители поругали советскую власть, выказывали ею недовольство, чем+либо возмутились. И вообще, на серьезные темы, за которые можно запросто «сесть», они ни со мной, ни при мне между собой не говорили. Чего не было — того не было.
Мои родители, трезво оценивавшие обстановку в городе и стране, просто избегали моего присутствия при подобных разговорах между собой. Они видели, не могли не видеть, как на их глазах наливался живительным соком еще один Павлик Морозов. Но в любом случае великое им спасибо. Если бы они по простоте душевной сызмальства вовлекли меня в оценку текущих событий вразрез с партийной пропагандой, то тогда моя жизнь сложилась бы по+другому. Будучи очень эмоциональным по натуре и не терпящим лжи и несправедливости, я оказался бы в стане «врагов народа», а так я до преклонного возраста свято верил во все то, чему меня учили в пионерии, комсомоле и партии. Я жил со страной, с большинством своего народа и был счастлив тем, что пути страны и мои пути не расходятся, как это бывало у других. Мы выросли такими, такими встретили войну — но об этом в повести.
И еще: с каждым годом, отдаляющим ныне живущих от тех страшных лет, особый интерес приобретают детали быта и жизни довоенной армии: питание, обмундирование, вооружение, взаимоотношения солдат со своими командирами, а также то, о чем мы думали в предвоенные годы, то, как встретили первый день войны. Такие щепетильные вопросы, как германский плен, нацистские тюрьмы и концлагеря, тоже ранее не могли освещаться с достаточной степенью достоверности.
Но тогда возникает вопрос: кто сейчас поверит тому, о чем думали тогда солдаты, — ведь прошло столько лет! Но я — один из них, и в моем архиве хранятся письма из армии к своей будущей жене: они написаны в тот самый «период трудных лет» — с 1939 по 1946 год (за исключением времени, когда я числился пропавшим без вести). Моя подруга сохранила письма, и наиболее характерные места из них нашли свое место в повести.
Повесть названа «Мы из сорок первого…». Мы — это те, кто погиб безымянным и не был захоронен, кто пропал без вести навсегда или сгинул в лагерях военнопленных и в концлагерях. Их следов не отыскать. В основном такая судьба была предначертана парням 1919–1922 годов рождения, составлявшим костяк рядового и сержантского состава довоенной кадровой армии. Из них вернулись с войны единицы, а павшие взывают к памяти.
Будем надеяться, что события тех лет найдут своих историков и исследователей, которым будет дано правдиво, объективно и без прикрас рассказать о том, как все было на самом деле.
Свидетельства и воспоминания еще живущих участников войны должны тому поспособствовать.
В том числе и мое свидетельство.
Глава первая На службе в РККА 1939–1941
Чернигов
1
22 июня 1939 года состоялся выпускной вечер в 11-й средней школе Петроградского района Ленинграда. Школа находилась на углу Большого проспекта и Пионерской улицы — напротив пожарной части. Этот день нам запомнился надолго. Нам — это бывшим ученикам четырех десятых классов. Мы прощались со школой и учителями.
Вечер был организован с теплотой и душевностью, выглядел торжественно. Все были нарядными, особенно девочки; был буфет с мороженым; была музыка, многие танцевали; мальчики ухаживали за девочками; кое-кто грешным делом сумел и выпить. Мы понимали, что школа позади, а впереди новая, никому не известная жизнь — жизнь еще не взрослых, но уже не детей. Какой она сложится у каждого из нас? Многие уже задумывались об этом, строили планы, о чем-то мечтали, объяснялись в любви. Было весело и неповторимо, но легкая грусть незаметно витала над нами, напоминая о том, что радость школьных дней ушла навсегда и сохранится на годы только в нашей памяти.
Незадолго до конца выпускного вечера мы с Ниночкой Граур сбежали и до утра гуляли по Малому проспекту: нам хотелось быть только вдвоем. Путь от Ждановской набережной — ее дома — до Бармалеевой улицы — моего дома — мы проделали за ночь несчетное количество раз. Белая ночь поддерживала возвышенное настроение, и нам было очень хорошо вместе.
Я познакомился с Ниной осенью 1937 года, когда был переведен из класса «восьмой-четвертый» в класс «девятый-третий». Перевели меня из-за плохого поведения, чтобы в этом новом классе, который составляли почти одни девочки, меня наконец исправили. Мальчиков вместе со мной было всего пятеро, а остальные незадолго до того ушли во вновь созданную артиллерийскую спецшколу, готовившую ребят в военные училища. Я же мечтал о море. Старостой класса и оказалась Ниночка Граур — властная, решительная, с твердым характером, но милая, добрая и отзывчивая девочка. Ее отец — кадровый военный — был родом из южной Бессарабии, как раз из тех мест, где мне позднее придется служить и воевать. Я звал ее «молдаваночкой»…
Так случилось, что за 9-й класс я действительно поумнел, исправился и перестал представлять собой «темное пятно» на фоне очередного класса. Может, была в этом и заслуга Ниночки, а может, возраст повлиял — когда-то надо становиться человеком. Более того, за девятый класс мы с Ниной подружились, а в течение десятого — стали неразлучными друзьями. Так «барышня и хулиган» нашли друг друга. Часов, совместно проведенных в школе, нам стало не хватать, и после уроков мы до вечера гуляли по городу.
Нине часто надо было что-то найти и купить съестного для дома, а я случайно оказывался на ее пути, и мы вдвоем бродили по магазинам. Мы сполна ощутили всю радость общения друг с другом и осознали, что нам обоим хорошо только тогда, когда мы вместе. Мы ни от кого не скрывали наших более чем товарищеских отношений, и нас никто не пытался дразнить: девочки видели, что все это серьезно, наверное поняв даже раньше нас самих.
В ту июньскую ночь после выпускного вечера мы гуляли, взявшись за руки, и кто-то из нас двоих первым произнес заветную фразу:
— Как хорошо бы так рядышком пройти всю жизнь…
— Да, — ответил другой.
Этим все было сказано, и больше к этому вопросу мы никогда не возвращались. Родители Ниночки не беспокоились, что она всю ночь где-то пропадает: они знали, что она может быть только со мной, а я к тому времени пользовался их доверием. Только под утро мы разошлись по домам. Нелишне напомнить сегодняшнему читателю, что обниматься и целоваться «просто так» при серьезных отношениях не очень было принято в те годы. В противном случае мгновенно пропадала вся целомудренность и таинственность отношений. При этом легко было опошлить возникшее глубокое чувство, которое мы старались сохранить в чистоте и трепетно желали продлить, насколько удастся, святость и непорочность отношений, чтобы они не увяли, не обесцветились под приливом плотских вожделений. Мы берегли выстроенный в своем сознании лучистый мир детской радости, очень дорожил и всем этим, оберегали и боялись утерять то светлое, дорогое и единственно-неповторимое, что дарила нам жизнь. Мы непроизвольно продлевали всем этим свое затянувшееся детство и не хотели его терять. У нас не было цели стремиться к удовлетворению малопонятных желаний расцветающей юности, но мы твердо хотели обрести в каждом из нас такого друга на всю жизнь, которому можно будет верить больше, чем себе. А все разрушить можно было так легко: необдуманным движением руки, жестом, взглядом, словом — чем угодно… Но мы как сговорились: все у нас было ладно, а потому и сохранилось навсегда.
Такова была точка зрения обоих. Мы считали, что все придет в свое время, а торопить события ник чему. Скоро сама жизнь позаботится об этом.
Нина, окончившая школу с аттестатом отличницы, была автоматически зачислена студенткой первого курса географического факультета университета. Мне же, имевшему в аттестате «четверку» по химии, предстояло сдавать вступительные экзамены. Я подал документы на судоводительский факультет Института водного транспорта, но медкомиссия не пропустила по зрению, и мне предложили поступать на судомеханический факультет, что я и сделал. В результате июль ушел на подготовку к конкурсным экзаменам. В августе я их успешно выдержал, и меня зачислили студентом первого курса в группу С-11.
Казалось, впереди все безоблачно, но это было далеко не так.
В ту памятную ночь с 22-го на 23-е июня мы не просто беззаботно гуляли, наслаждаясь переполнявшим нас взаимным чувством веры друг в друга, надежды и любви, а на самом деле прощались перед долгой и страшной разлукой, о неотвратимости которой и не подозревали. Трудно было и предположить, что ожидало меня впереди. Может показаться странным, но я всегда неосознанно готовил себя к чему-то необычному. Примеров тому много.
Пример первый. В пору, когда мне было лет 12, я выкидывал такое: после школы, выбрав день с морозом, метелью и ветром, уезжал в Пулково только для того, чтобы обратный путь проделать пешком. На это уходило несколько часов. К вечеру я, усталый, вваливался домой с синим носом. Аппетит после того был отменный, но мама не ругала: она давно привыкла к моим чудачествам и считала, что мне виднее, что я должен делать. Но я-то еще сам не знал, что мне надо. Проверить себя? Возможно. Для чего? Наверное, так устроены все мальчишки.
Пример второй. В те же годы, увлекшись мечтой о море, придумал себе «тренаж кочегара» — назовем это так. Раздевшись до пояса, я вставал перед топившейся печкой и открывал дверцу настежь, чтобы меня обдавало жаром. В каждую руку брал по два чугунных утюга и точно воспроизводил движения кочегара морского судна при забросе угля в топку котла. При этом я уделял внимание поворотам и наклонам туловища с учетом обязательной качки. Это занятие продолжалось в буквальном смысле «до седьмого пота».
Я готовил себя к морю. Разве мог я тогда знать, что действительно буду служить на флоте именно старшим механиком — хозяином котлов и машин?
Пример третий. Любил обливаться холодной водой, закаляя организм. Бегал на длинные дистанции более 25 километров, проезжал на велосипеде до 150 километров вдень. Это — до Луги.
Пример четвертый. Сдав экзамены в институт, на следующий день обратил внимание на большой плакат, висевший на здании института: «Товарищи студенты! Поможем Торговому порту!» Здание института примыкало к Главным воротам порта — все было рядом. Кончался август 1939 года, и, видать, рабочих рук не хватало. Мы сколотили бригаду и проработали в порту до начала занятий в институте. Порядок расчета с нами был простой: заработанные деньги выдавали в тот же день за выполненную норму, причем удавалось заработать за смену до 70 рублей на каждого. Это по тем временам были большие деньги: чайная колбаса стоила 80 копеек за 1 килограмм, ветчина и масло — 1 рубль 60 копеек, сахарный песок — 30 копеек.
Первые дни работали на разгрузке железнодорожных вагонов, прибывших с юга с тюками хлопкового семени. Эта работа считалась легкой. Труднее оказалось загружать солью открытые трюмы финских грузовых пароходов. Одни из нас ссыпали соль из тачек в трюм, а другие, раздетые до трусов из-за жары, разравнивали ее лопатами. Я выбрал трюм, обливался потом, каждая ссадинка на теле давала себя знать, когда на нее попадала соль — мы были белыми от нее. Финские матросы, думая, что мы «ишачим» с голодухи, предлагали нам хлеб, но мы, не задумываясь о нормах международного этикета, показывали им такие понятные на всех языках мира жесты, что они в ужасе отскакивали, принимая нас за «гопников», но никак не за студентов. Закончив работу, мы тут же купались, получали расчет и разъезжались по домам. Спрашивается: зачем мне, сыну вполне обеспеченных родителей, нужны были тяготы полукаторжного труда? Если требовались мне деньги на «карманные расходы», то мог попросить — родители никогда не отказывали. В чем же дело? По-видимому, все то же: проверка силы воли и физических возможностей. Не мог же я чувствовать наперед, что меня ожидало? Проработав с неделю, мы расстались с портом, дабы подготовиться к занятиям и купить тетради, чертежные принадлежности и другие, необходимые для учебы вещи.
Пока мы трудились в порту, многое произошло в стране и в мире, что определило судьбы народов на весь обозримый последующий период.
19 августа в Москве состоялось сверхсекретное заседание Политбюро, о котором Дмитрий Антонович Волкогонов расскажет только 16 января 1993 года в газете «Известия». А Виктор Суворов, автор книг «Ледокол» и «День-М»(1993 и 1994 годы соответственно), утверждает, что в тот день на заседании Политбюро было принято решение начать освобождение Европы от фашизма военным путем не позднее лета 1941 года. Все последующие действия Советского правительства в 1939–1941 годах, по Суворову, будут полностью направлены на подготовку удара по фашистской Германии. <…>
20 августа мало кому известный комкор Г. К. Жуков начал блистательную операцию по разгрому 6-й японской армии на реке Халхин-Гол в братской Монголии, а 23 августа в Москве был подписан Договор о ненападении между Германией и СССР, получивший название «пакт Молотова-Риббентропа».
В нем были определены сферы государственных интересов обеих сторон, то есть попросту поделена Европа. Поскольку пакт был заключен сразу же после бесплодных переговоров в Москве с военными делегациями Англии и Франции, то все сочли пакт фикцией, полагая, что это вынужденный шаг с целью наказать Англию и Францию за несговорчивость. Но мы ошибались: пакт был глубоко продуман хитрым Сталиным, на этот раз ловко обдурившим Гитлера. В результате Германия опять получит войну на два фронта, как в 1914 году.
1 сентября 1939 года германские войска вторглись в Польшу, а мы впервые сели за студенческие парты и были заворожены вводной лекцией доцента Пурышева[2]. Он очень живо, популярно и увлекательно преподнес нам историю борьбы пароходных компаний мира за своеобразный приз — «Голубая лента Атлантики». Мы были восхищены услышанным и сразу почувствовали себя настоящими моряками. Увы: нас ожидали отнюдь не морские дороги.
В этот же день мы узнали, что 4-я внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла «Закон о всеобщей воинской обязанности»[3], который непосредственно коснулся и нас, только что ставших студентами.
До 1939 года всеобщей воинской обязанности в нашей стране не было. В армию призывали выборочно. Призывной возраст составлял 21 год.
По новому закону каждый юноша обязан был служить в армии, а призывной возраст снижен до 19 лет. Кроме того, для окончивших десять классов средней школы призывной возраст устанавливался 18 лет, и нам сперва надлежало отслужить в армии положенный срок и только после этого учиться в институте. Во исполнение принятого Закона осенью 1939 года ушли служить парни 1918–1920 годов рождения, а также и мы, 1921 года рождения, окончившие 10 классов и достигшие 18-летнего возраста. Все это обсуждению не подлежало. Можно было только представить себе, насколько за короткий срок увеличит свои ряды армия.
Уже на следующий день, 2 сентября, мы проходили призывную комиссию Кировского райвоенкомата, работавшую во Дворце моряков. Всех определили в стрелковую полковую школу, любезно пояснив, что пока Военно-морскому флоту столько призывников не требуется. Не успев начать учиться, мы вынуждены были оставить институт. Правда, нас утешили: «Ваши документы сохраним, и когда отслужите, — осенью 1941 года — ждем вас обратно в институт». Что такое «два года» в 18 лет? Чепуха! Никто из нас и не переживал: отслужим и вернемся. Любовь тоже подождет: крепче станет!
Эх, юность, юность!
Тем временем 3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии. Тучи на мировом небосклоне сгущались. Позднее историки назовут этот день началом Второй мировой войны. Люди тогда еще так не считали, а мы, молодые, вообще находили, что объявленная война где-то очень далеко, нас не затрагивает, хотя рядом, в соседней Польше, уже умирали польские солдаты, пытаясь сдержать натиск нацистов…
Ребята в институте появляться не стали, ожидая отправки в часть. Я же получил повестку, обозначавшую, что оставлен «до особого распоряжения», поскольку мне недоставало целых четырех месяцев до 18-летия[4]. Это худо: чем же заняться? Проболтавшись без дела какое-то время, я узнал, что в институте, потерявшем в один день всех своих первокурсников, открыт набор на «второй поток»: это приглашались на учебу девочки, не прошедшие по конкурсу, а также ребята 1922 года рождения, которым еще рано идти в армию. Вскоре «поток» заработал, и я снова приступил к учебе.
17 сентября Красная армия перешла польскую границу, чтобы протянуть «руку братской допомоги», как тогда говорилось, нашим братьям — западным украинцам и белорусам. Мы привыкли к таким скоротечным локальным конфликтам и воспринимали их спокойно: раз Сталин считает это нужным, значит — так и надо!
Неожиданно меня вызвали еще на одну призывную комиссию. Теперь — по месту жительства через Петроградский райвоенкомат. Даже показалось любопытно: вдруг на этот раз на флот попаду? Призыв проходил в Доме культуры имени Ленсовета на Кировском проспекте. Итог был поразителен: меня признали негодным к военной службе по зрению и выдали «белый билет». Я растерялся, не ожидая такого исхода. Теперь мне оставалось продолжать учебу в преддверии первой экзаменационной сессии. Я перестал думать об армии и даже записался в секцию борьбы вольного стиля при спортобществе «Водник». Мы занимались по вечерам в ДК моряков.
У меня стало что-то получаться, скоро должны были присвоить спортивный разряд, я уже был включен в состав сборной института на городские соревнования, которые планировалось провести 17 декабря на улице Софьи Перовской. В институте я учился охотно: прилежно чертил сложнейшие эпюры по начертательной геометрии и осваивал основы технического черчения. Нина тоже успешно занималась в университете. О завтрашнем дне мы не думали, оба были заняты «по горло», так как учеба в вузе отличалась от школьной, если, конечно, хочешь учиться, а не «валять дурака».
30 ноября внезапно началась «война с белофиннами», так ее тогда называли, и я сразу получил повестку на отправку в часть. Я знал, что рано или поздно уехать придется, неопределенность положения изрядно надоела, и я горевать не стал. Ехать так ехать! Сборы просты и задача одна: надеть на себя все, что похуже. Это не сложно: «получше» отсутствовало, и можно ехать в своей повседневной одежде.
2
Последние дни пролетели незаметно. Вот и 8 декабря. В тот день моя жизнь круто изменилась. Я надолго покинул свой город, свою любовь, всех родных и близких. Потом доведется свидеться далеко не со всеми: многих не будет в живых.
<…>
Мне вспоминаются проводы тех далеких дней. Никому и в голову не могло прийти уклоняться от службы в армии. Мы отлично знали, что впереди — схватка с фашизмом. У всех еще жила горечь и боль от недавнего поражения республиканской Испании и «чесались руки» наказать Гитлера.
Иногда становится обидно от мысли, что мои проводы в 1939 году выглядели настолько буднично и прозаично, словно их и не было. Утром, уходя на работу, отец только произнес:
— Ну, служи! Писать не забывай… — и исчез за дверью. Он меня очень любил, но к нежностям не был расположен. Да и сколько можно было меня провожать? Практически с сентября по декабрь я все время «уезжал», оставаясь в Ленинграде. Родители успели привыкнуть к постоянным «вот-вот», «не сегодня-завтра». Уехала и моя тетушка Анна Ивановна служить в действующую армию на севере Карелии в районе города Кемь. Ее призвали сразу по окончании 1-го Ленинградского мединститута. Призвали двоюродного брата Юрку 1916 года рождения, имевшего отсрочку от призыва.
На очереди был другой двоюродный брат — Леша. Он 1922 года рождения, и ему идти в армию в следующем — 1940 году. Выходило все нормально — ни к чему волноваться.
Быть может, отец, никогда не служивший в армии, будучи единственным кормильцем многодетной семьи, оставшейся после смерти моего деда в 1902 году, плохо представлял себе военную службу? Но у него было столько приятелей среди военных, особенно офицеров Первой мировой войны, да и потом пятеро его родных братьев в разное время служили в армии: одни — в старой, а другие — в новой. А может, отец думал, что пока нас, молодых, обучат, финская война закончится? Не знаю, но ни объятий, ни поцелуев не было. Отец вообще не был склонен к подобному. Я не припоминаю, целовал ли он меня когда-нибудь. Мама — наверное, целовала, но и этого не помню. Правда, я какое-то время отбился от дома, хулиганил в школе и во дворе. Родители махнули на меня рукой, занятые исключительно добыванием денег. Отец — всю жизнь на двух работах, мать — с утра до вечера за пишущей машинкой. Они не были сентиментальными людьми, которые могли «сюсюкать» по поводу и без повода над своим единственным чадом. Потому я не находил ничего предосудительного в их действиях. Это сейчас — на склоне лет — кажется странным, а тогда все представлялось естественным. Я оставался мальчишкой, которому не свойственно было анализировать, чем руководствовались родители…
После ухода отца я поспешил к Нине. Мне следовало прибыть на сборный пункт к 12 часам дня, и время для прощания с Ниной у меня оставалось. Погода в то утро стояла сухая, почти бесснежная, с легким морозцем.
На Нине, как всегда, был любимый мной беличий полушубок серого цвета и белый пуховый берет. На мне — старенькое демисезонное пальто: новенького я не имел. На голове — мечта каждого ленинградского мальчишки — морская фуражка с «крабом», на котором в первый и в последний раз гордо красовался красный флажок Совторгфлота. Он и сейчас хранится дома в коробочке, как память тех далеких дней и несбывшихся надежд.
Ниночка в тот день не пошла на занятия в университет, и мы гуляли по городу. Я прощался не только с Ниной, но заодно с Петроградской стороной и Васильевским островом. Нина рассовала мне по карманам плитки шоколада в дорогу, а я угощал ее им же. Так, сладостью шоколада, мы пытались уменьшить горечь предстоящей разлуки, тем более что всего-то на два года!
Простились тепло и дружески. Обещали друг другу писать. Напоследок Нина уверенно произнесла:
— Служи спокойно, Димок. Я буду ждать тебя столько, сколько потребуется. Не забывай меня, пиши… — В ту минуту она не могла знать, что ей предстоит сверхчеловеческая задача — прождать своего суженого целых семь лет, но она была готова с честью справиться с тяжелым испытанием.
А я если останусь жив, то хотел ответить ей тем же. Это было единственное, что мы тогда твердо знали: мы бесконечно верим друг другу и дождемся встречи, чего бы это ни стоило. Но об этом — впереди. Впоследствии Нина признавалась в письмах, что тогда она не очень поверила моим обещаниям часто писать ей: «Все обещают, а писать ленятся». Можно подумать, что она не раз провожала мальчиков в армию.
Расстались около ее дома, и я поехал на трамвае за чемоданом. Мама была давно одета и волновалась, что я могу опоздать. Она пошла проводить меня до остановки на углу улицы Ленина и Большого проспекта. Подошел трамвай № 8. Мама, всплакнув, поцеловала меня, и я уехал, не ощутив всю значимость момента: я оставил отчий дом, оставил родителей и впервые отправился один неизвестно куда, теперь мне предстояло самостоятельно барахтаться в волнах житейского моря — родительской опоры рядом не будет, а мне еще нет и 18 лет, я еще маленький.
Сегодня считаю, что отнимать единственного сына у немолодых родителей, которым перевалило за пятьдесят, жестоко. Каково им будет в опустевшей квартире свой век доживать? Они станут ежеминутно заглядывать в почтовый ящик, но их любящий сын на пять писем девушке отправит лишь одно в адрес родителей. Наверное, так было всегда… А что касается единственного сына, то Сталин, преследуя возвышенную цель — построение коммунизма, — никогда не задумывался о благополучии отдельной советской семьи: причем тут семья, когда пролетариат взялся перевернуть мир вверх ногами во имя общего счастья, но не каждого в отдельности. А ведь до революции царь не призывал в армию единственных сыновей[5]. Доживем ли мы до этого?..
В трамвае на меня произвела неизгладимое впечатление сцена из невеселых: на задней площадке, где я стоял, молодая женщина в слезах буквально повисла на шее мужчины в морском бушлате. По-видимому, ее муж, как и я, ехал на сборный пункт мобилизованных, а попросту — на войну, которую тогда никто всерьез не воспринимал, но она уже была рядом. Оглядевшись вокруг, я заметил, что в трамвае ехало много мобилизованных, в основном 1910–1915 годов рождения. Всех провожали жены с заплаканными глазами. Мне не забыть выражения глаз женщины, стоявшей рядом: она оплакивала мужа так, словно уже его потеряла. Он не успокаивал ее: видно, его одолевали такие же мрачные мысли.
Горе моих случайных попутчиков было настолько безысходным, что я невольно почувствовал разницу между собой, призывником, которого отняли у родителей на конкретный срок службы, и ими, мобилизованными, оторванными от семьи на неопределенный срок, а главное — прямо на войну. Потому, как они держались, не было сомнения в том, что на благополучный исход мало кто надеется, и все в мыслях давно приготовились к худшему.
Когда мальчишки играют в войну, они никогда не плачут. В том возрасте война представляется им азартным, героическим, чуть ли не радостным занятием. Они далеки от мысли, что любая настоящая война — большая или малая — несет горе многим семьям, потерю любимых людей. Разве мальчишкам до того? И я был не лучше их, не ощущая никакой тревоги: победно закончились бои у озера Хасан в прошлом году и на реке Халхин-Гол совсем недавно, начавшаяся финская война пока была далеко и не ощущалась зримо в ближнем тылу, каким был Ленинград. Закончится благополучно и эта война. А как же иначе? Всегда так было и всегда так будет! Иначе быть не должно!..
Сборный пункт — на площади Стачек. В военкомате — полно отъезжающих. Предъявляя повестку принимавшему нас майору, я одновременно протянул ему и «белый билет», робко спросив:
— А что делать с этим?
Майор, едва взглянув на сей драгоценный документ, невозмутимо порвал его и небрежно бросил в урну:
— Следующий!..
Так я снова стал годным к строевой службе. Я не суеверный человек, но нетрудно представить себе, — не тогда, конечно, а сейчас, — что могло ожидать меня в Ленинграде в положении «белобилетника», если отбросить моральный ущерб: «Как это я не гожусь в армию?» Этого я принять не мог — а что скажут девушки? Я склонен полагать, что майор, не думая в тот момент ни о чем, кроме выполнения плана по отправке призывников в часть, в конечном счете невольно поступил с документом в моих интересах: в результате к началу большой войны я стал достаточно опытным солдатом, сержантом, младшим лейтенантом, наконец, и смог постоять и за себя, и за людей…
Мы распрощались со своими гражданскими космами, после чего нас накормили вкусным обедом. Помню, на второе подали гуся с тушеной капустой. Я набросился на обед, так как дома поесть не успел, а до того с Ниной нажевался шоколада, но он горячий обед не заменит. Почему это так врезалось в память? Разве я голодал? Скорей всего, вечно не хватало времени поесть нормально: все происходило набегу. Дома почти всегда был обед. Не мог же я тогда предположить, сколько лет мне придется прожить в постоянном недоедании, считай — в голоде.
Под вечер двинулись колонной на Витебскую товарную станцию. Эшелон теплушек ушел только к ночи.
3
Обстановка в поезде была тяжелой: все смирились стем, что в жизнь каждого из нас ворвалось что-то новое, незнакомое, тревожное.
Все подспудно понимали, что уехать намного проще, чем потом вернуться: отныне мы себе не принадлежали. Одни из нас без конца глушили припасенную водку, другие — горланили песни, а третьи — лежали пластом, уткнувшись носами в чемоданы, наедине со своими думами, как и я.
Переезд в теплушках не выглядел светло и радостно: вагоны — грязные; нары — жесткие, вонючие; болталась над головой закопченная керосиновая лампа; напоминала о себе параша; стоял сплошной гул пьяных голосов и мат. Знакомых пока никого не было. Среди нас были рабочие, студенты, вчерашние школьники. Мы все были разные и каждый — сам по себе, но вскоре нелегкая солдатская служба объединит нас в сплоченный воинский коллектив.
Осталась в памяти песня, которую пел вагон. Это была одна из ходивших по Питеру блатных песенок двадцатых годов. Приведу пару куплетов, не ручаясь за подлинность текста:
…Лети ты, поезд, по оврагам и горам, Летит он неведомо куда. Я, мальчик, назвался бандитом и вором, Я с жизнью простился навсегда! Лети ты, поезд. Прости, Анюта. Кондуктор, нажми на тормоза: Я матери родной в последнюю минуту Хочу показаться на глаза…Эту песню обычно напевали вполголоса, тренькая на гитаре, а в хоровом исполнении истошными голосами пятидесяти молодых здоровых глоток никогда слышать не доводилось. Это была не песня, а многоголосый рев.
Песня гремела на путях, заглушала шум летящего в ночи эшелона, заглушала удары колес на стыках рельсов, стук от непрерывных толчков вагонных сцепок и даже паровозные гудки. Она рвалась из вагона на простор ночи. В эту песню завтрашние солдаты, которые вовсе не были «бандитами и ворами», вкладывали все, что связывало их с родным городом. Этой надрывной песней они прощались с Ленинградом и всей прежней жизнью.
Странно, но за всю дорогу других песен наш вагон не пел. Эта блатная песня окажется деланым мусором, показной шелухой, которые быстро слетят с молодых парней: они в самое короткое время станут заправскими солдатами, сержантами, лейтенантами — скоро их будет не узнать, и они будут петь совсем другие — строевые — песни. Сталин знает, что делает! В 1941 году именно эти парни заслонят страну от фашистских орд и примут на себя первый удар врага. Они почти все погибнут, мало кто останется в живых. Так будет угодно Всевышнему, и песня продолжала звучать, пробуждая в душе смутное предчувствие этой тяжелой и трагической судьбы. Даже слова песни: «поезд летит неведомо куда», «я с жизнью простился навсегда», «я матери родной в последнюю ми нуту хочу показаться на глаза», — если вдуматься поглубже, начинают звучать совсем по-другому, обретая свой зловещий смысл. Надо же было кому-то выбрать именно такую песню!
Мы тогда и не предполагали, что нас ожидает впереди жестокая и долгая война; что будет блокада Ленинграда; что враг дойдет до Волги и оккупирует огромную территорию; что с войны вернутся 2–3 человека из 100[6] и далеко не все найдут своих близких живыми и здоровыми. Об этом мы не думали и никакого понятия о возможных перипетиях военной службы не имели. В противном случае пили бы водку и пели песни все поголовно, а не через одного. Мне очень повезло: я попал в эти 2–3 человека и вернулся, пройдя невероятные испытания, хотя знаю, что на фронте было несравненно тяжелее…
Поезд останавливался на всех узловых станциях, где каждый находил себе дело. Я сумел с дороги отправить Нине три открытки — из Дно, Витебска и Гомеля. Почтовые ящики отыскивал с трудом, поскольку эшелон предусмотрительно останавливали на дальних запасных путях. Каждый такой «забег» я рисковал не найти свой эшелон или опоздать к его отходу: ночью все эшелоны похожи, а вагоны — тем более. В то самое время ребята сбивали пломбы и замки с других вагонов, стоявших на путях; находили в них водку; тащили ящики с консервами, с печеньем, на бегу крича:
— Нас не догонишь!..
Пьянка, песни, мат в вагонах не прекращались. И так — всю дорогу.
4
В ночь с 10 на 11 декабря прибыли в Чернигов. Этой же ночью нас ожидали баня и солдатское обмундирование. Пьянки кончились — ребята сразу стали серьезнее. Когда мы, одевшись, посмотрели друг на друга, то не могли узнать — кто из нас кто? Мы и не подозревали, что волосы придают человеку такой индивидуальный колорит. Мы все стали на одно лицо, но пройдет парадней, и мы без труда разберемся друг в друге.
По пути в военный городок с интересом читали городские вывески на украинской мове, например — «Перукарня». Думали, что это пекарня, а оказалось — парикмахерская.
Нам предстояло пройти недолгий карантин в 236-м запасном стрелковом полку Киевского особого военного округа. Моя рота — 2-я пулеметная. Дома по сей день хранятся конверты, посланные Нине из Чернигова с совершенно четким адресом: «УССР, Черниговская область, город Чернигов, 236-й запасный стрелковый полк, 2-я пулеметная рота». Хотелось крикнуть: «Разведчики всех стран — не теряйтесь!» К концу года эта «лавочка» закроется, и будут введены полевые почты[7]. А пока, пожалуйста — информация открыта.
На второй день пребывания в Чернигове я сообщаю Нине в письме от 12 декабря: «…кормят здорово, но однообразно: щи, каша, хлеб, сахар, чай. Черт его знает, а настроение хорошее, если не больше».
В чем дело? Насчет хорошего настроения не понятно: маменькина сыночка оторвали от родителей, бросили в запасный пехотный полк, намотали на ноги двухметровые обмотки, неизвестно что его ожидает, а он радуется. Уж не «того ли» он? Нет — все гораздо проще: еда — хорошая; товарищи по роте — лучше не бывает; командиры — тоже; сам — молодой и здоровый. Чего еще желать? Да, забыл: девушка еще любит…
А что касается питания, то оно для солдата, особенно для молодого растущего организма, дело первостатейное. Так, как нас кормили первый месяц в Чернигове, больше не кормили нигде и никогда: борщ был мясной, наваристый, густой, одним словом, настоящий украинский борщ; на второе — куски мяса с кашей; на третье — кисель или компот; хлеба на столах — сколько съедим, он не нормировался; добавки было вдоволь, пока не наедимся. Я не припоминаю, чтобы дома в последние годы бывали такие полновесные обеды. Стыдно вспоминать, но братва за столом кидалась хлебом.
Интересно и другое: молодые ребята, призванные из республик Средней Азии, не ели свинину, но — недолго. Они говорили:
— Моя чушка не кушай, Коран не позволяй. — Мы с удовольствием поглощали за них жирные куски. Но, увы — вскоре Коран стал прощать им этот грех, и они не отставали от нас.
Зимой 1939/40 года СССР увеличил армию в 2,5 раза, в том числе за счет нас, окончивших среднюю школу. А тут еще и мобилизация в трех пограничных военных округах — Ленинградском, Белорусском и Киевском. Потребовалось накормить столько лишних молодых ртов! Финская война еще была в начальной стадии и не успела повлиять на продовольственные возможности южных военных округов — Киевского, Харьковского и Одесского, — но скоро положение изменилось. И еще до того, как оно изменилось, уже через месяц, уходя из столовой, мы стали набивать карманы хлебом на день про запас, и им больше никто не кидался: постепенно мы втянулись в режим.
Что мы тогда носили? Письмо от 13 декабря характеризует наше обмундирование: «На каждом шагу дают себя знать мелочи, о которых не позаботилось начальство: разные ботинки (один длиннее), отсутствие шнурков (ищи, где хочешь), ужасные шинели…»
Все так и было. Как мы хохотали, когда рядом вставали высокий Саша Белостоцкий в шинели выше колен и невысокий Жора Бурцев в шинели до пят! К тому — нижняя кромка шинели выглядела у них так, словно ее отъели собаки. Но такое положение продлилось недолго, и к концу декабря каждый сумел подобрать себе шинель по росту и по размеру.
На голове напоминала о легендарном прошлом Красной армии буденовка времен Гражданской войны. В моем альбоме хранится черниговское фото, где я снят в первые дни армейской службы. Носили шинель и все остальное, что положено, в том числе ботинки и совершенно новый для нас элемент — чудо-обмотки двухметровой длины. К ним мы привыкли нескоро: слабо обмотаешь ногу — весь взвод на ходу с хохотом наступает на размотавшийся конец, хлопот не оберешься; туго замотаешь — нога вспухнет, ступать больно. Ничего, научились носить и обмотки. Вскоре многие из нас предпочли обмоткам краги, и я в том числе — мне они пришлись по нраву: быстро надеваются, ногу облегают свободно, а ремешки сами не расстегиваются.
Наше снаряжение, с которым расставались только ночью, если спали в казарме, состояло из заплечного ранца на ремнях, противогаза, саперной лопатки, фляги и двух подсумков для патронов. К этому вскоре добавились плащ-палатка и каска с подшлемником. Оружие — не в счет.
Первое время режим дня на карантине был более чем щадящий: занятия только до обеда. В основном — изучение материальной части оружия пулеметной роты: станковый пулемет «Максим», трехлинейная винтовка Мосина образца 1891 года, пистолет ТТ.
Занимались и строевой подготовкой, частыми были политзанятия и политинформации. После обеда валялись на койках и травили анекдоты. Занятия в поле проводились только до 15 градусов мороза, а если температура опускалась ниже — занимались в казарме. Вскоре и этот распорядок изменился.
На четвертый день пребывания в Чернигове рота получила боевое оружие, и мы в первый раз вышли на стрельбище.
На карантине близко познакомился с двумя, как и я, несостоявшимися студентами. Я спал с ними рядом. Это были: Геннадий Травников из Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТа) и Алексей Токмачев из Ленинградского кораблестроительного института (ЛКИ). Травников был племянником известного академика Щербы[8], и с Геной мы прослужим вместе год.
Мы быстро научились ходить в строю, да еще с заливистой песней и со свистом. Запевал всегда Митя Колобов. Мы были ленинградцами и старались держать «марку» в военном городке.
В первой шеренге взвода шли четыре командира отделения — немолодые командиры запаса, недавно мобилизованные. Их личное оружие — пистолеты ТТ. (Я и в дальнейшем буду уделять внимание вооружению частей, в которых мне доведется служить). Во второй шеренге шагали четыре первых номера пулеметных расчетов взвода, и в их числе Гена Травников. Каждый нес на плече кожух пулемета весом 16 килограмм. Личное оружие — те же пистолеты ТТ. В третьей шеренге взвода — вторые номера пулеметных расчетов: Митя Колобов, Сережа Никитин, Саша Скворцов и я. Каждый из нас нес самую тяжелую часть пулемета — станок весом 32 килограмма — и личное оружие — пистолет ТТ. Не припомню, как я вошел в эту славную когорту «тяжеловесов». По-видимому, вызвался сам: здоровье позволяло носить тяжести.
Мы с Травниковым составляли один бессменный пулеметный расчет в течение почти всего 1940 года. Первый номер вел огонь, а второй номер следил за прохождением пулеметной ленты, устранял ее перекосы, вставлял новую и в любой момент был готов заменить товарища.
Станок пулемета самому не поднять, не надеть и не снять. Одевали и снимали станок специально выделенные бойцы отделения. Они заводили нам станок через голову так, чтобы рукоять оказывалась на груди, а катки и станина — сзади: они ложились на ранец. Мы, вторые номера, имели преимущество перед остальными бойцами взвода: наши руки всегда были свободны, и мы в любой момент могли скрутить себе цигарку, что не удавалось сделать на марше другим, поскольку они несли винтовки и коробки с пулеметными лентами. Первый из подносчиков патронов, следовавший за нами в четвертой шеренге, нес не коробку с лентами, а щиток пулемета весом 8 килограмм. Таким образом, у всех, кроме вторых номеров, руки были заняты, и нам приходилось скручивать цигарки почти всему взводу, благо махорка не была в дефиците.
В «тяжеловесах» я прошагал весь первый год службы (пока не стал командиром отделения) и никаких неудобств, кроме повышенного аппетита, не испытывал. Правда, ребята подшучивали, что расти перестану. Путь следования на марше мы не выбирали: идти с пулеметами на плечах приходилось и в гору и с горы, через канавы и по колено в снегу, по лесу и по болоту, по пашне — одним словом — пехота! Были и льготы: вторые номера освобождались от несения нарядов, чем мы очень дорожили. К гарнизонным нарядам это положение не относилось.
Мы понемногу постигали солдатские премудрости, предусмотренные уставом: разобрать и собрать затвор винтовки за 7–9 секунд, а затвор пулемета — за 35 секунд. Стрелять все стали сразу хорошо: до армии оружие не раз бывало в наших руках. Я, к примеру, в школе являлся завсегдатаем стрелкового кружка и постоянно пропадал в тире: мы с Ниной входили в состав школьной команды на районных стрелковых соревнованиях. Нина очень метко стреляла, а я имел охотничье ружье — тульскую двустволку 16-го калибра, да еще на бездымный порох, что тогда было редкостью, и мне удавалось бить тетеревов в лёт.
Мы спокойно относились к таким неудобствам нашего быта, как отсутствие воды, — пили только в 7.30 утра и в 9.30 вечера; не умывались от бани до бани (дней 20!); в казарме не было света; печь топилась раз в неделю; мы мерзли, так как одеты были по-летнему — без теплого нижнего белья. Но мы были молодыми, а наши запросы — более чем скромными. Кроме того, мы являлись солдатами первого в мире социалистического государства, у которого еще многого не хватало, и это государство стремились уничтожить хищные акулы империализма, а потому главное — метко стрелять, а умываться можно и снегом!
Большинство из нас во время призыва получило назначение в стрелковые полковые школы, но опоздали: набор был закончен в сентябре-октябре. К тому же стало известно, что школы комплектовались в основном из тех, кто имел за плечами неполное среднее образование, а десятиклассники оттуда бегут: их не устраивает пониженный уровень подготовки. Многие еще в декабре ушли на ускоренные курсы младших лейтенантов. Среди них Сергей Виноградов и Токмачев — оба стройные, складные, будто военная служба была их предназначением, ушли и другие. Кое-кто подался в военные училища, и я не придумал ничего лучшего, как послать заявление о приеме в Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. Ответ из училища пришел в Чернигов незамедлительно: «Набор закончен. Обратитесь по команде в следующем году». Стало ясно, что, пока служу в пехоте, не представляю интереса для Военно-морского флота. Надо было думать об этом раньше, а то пожелал Сингапур посмотреть и в Сиднее побывать…
5
Насколько мы были информированы о международном положении и о ситуации в стране?
В письме от 12 декабря — на второй день службы в полку! — я Нине сообщил: «Наш карантин будет очень недолгим ввиду международной обстановки (Румыния). После двух месяцев подготовки мы будем отправлены… на румынскую границу». Дело в том, что тяготы финской войны себя еще не проявили, и командование южных военных округов надеялось на скорую победу там, на севере, а потому решило готовить нас не на финскую войну, а на запланированное свыше освобождение Бессарабии.
Как тут не вспомнить упомянутую ранее книгу В. Суворова «Ледокол», в которой обстоятельно излагаются планы командования Красной армии, а точнее — Политбюро, предполагавшие не только возвращение Бессарабии, а главным образом захват нефтяных промыслов в Плоешти, что снабжали нефтью германскую военную машину.
Что же это за планы, если их раскрывают молодым солдатам, только что одевшим гимнастерки? Справедливости ради следует заметить, что слово «Плоешти» никем не произносилось. Узнав о готовящемся ударе по Румынии, мы были готовы к тому, чтобы после Бессарабии идти дальше, а до каких пор — нам все равно: куда прикажут. Почему так? А потому, что фашизм еще со времени боев в Испании так всем осточертел, что мы, не начавшие толком служить, рвались в бой против Германии.
И еще из письма Нине от 16 декабря: «Вечером было общее собрание трех батальонов — есть кое-что новое в сообщении комиссара — писать не буду…» Все же «конспирацию» приходилось соблюдать. Не написал об этом в письме — таки не знаю, что имел в виду комиссар полка, но готовили нас к схватке основательно с первого дня службы, чтобы «мозги не закисали!»
О собраниях говорилось и в письме от 25 декабря: «Сейчас пришел с комсомольского собрания — оно шло больше пяти часов…» Сейчас трудно предположить, о чем можно было столько времени говорить, если к тому же учесть сказанное мной ранее в письме от 16 декабря: «У нас отменили все комсомольские собрания вплоть до особого распоряжения, вставать на учет не надо, и личные дела оставить у себя — выводы из этого можешь сделать сама…»
Как видно, решения менялись непрерывно из-за обстановки на севере, осложнявшейся с каждым днем. И еще о «конспирации». В письме от 22 декабря нашли свое место следующие перлы: «Я очень и очень рад, что Юрка так дружит с Тасей Игнатьевой (речь идет о наш их одноклассниках. — Д. Л), только Юрку надо держать в ежовых рукавицах образца 1938 года или в рукавицах „Берия“ образца 1939 года…» Когда после войны, возвратившись домой, увидел у Нины эти ужасные строчки, давно позабытые, нам обоим стало и смешно, и страшно задним числом: как смог такое написать? По-видимому, спасло то, что в Чернигове я никогда не отправлял письма через штаб полка, а лазал через забор и опускал в городской почтовый ящик, висевший на вокзале, — так они быстрее доходили до Ленинграда. Добавить тут нечего, но Берия меня прозевал…
Занятия в полку шли своим чередом, а я между делом укреплял здоровье: утром, после обязательной зарядки, всегда обтирался до пояса снегом в любой мороз, а на марше с охотой ел чистый снег вместо воды, когда хотелось пить. Увы, все это скоро мне пригодится.
В середине декабря приняли военную присягу, а 24 декабря полк участвовал в выборах в Верховный Совет СССР, причем мое участие являлось незаконным, как и служба в армии весь этот месяц, поскольку мне еще не исполнилось заветных 18 лет!
Все же в интересное время мы жили тогда: фамилия кандидата в депутаты никого из нас не интересовала, и мы всецело доверялись тем структурам, которые его выдвигали. <…> Конечно, мы тогда не задумывались о том, что депутаты — каждый в отдельности и все вместе — были ничего не значащими в политике фигурами: за них все решала партия, а они своим существованием помогали делать вид, что в стране есть выборная советская власть, которая якобы и решает важнейшие вопросы. Мы не скоро это поймем, и то не все, и не в одночасье.
И вот отголоски отнюдь не победоносной финской войны докатились и до Чернигова. Из письма Нине от 23 декабря: «Сегодня мы прощались со своими командирами (9/10 всего среднего и младшего комсостава нашего полка отправили в полном боевом снаряжении и в касках). А днем прострелил себе ногу один старший лейтенант — как тебе это нравится?
Я зря это пишу, ты не разглашай…»
Были случаи и малодушия: каждый человек — это отдельный мир. Я ничего не пишу о наших командирах: мы их не запомнили из-за того, что те часто сменяли друг друга. Полк запасный, поэтому личный состав менялся непрерывно. Часть наших ленинградских, с кем вместе приехали, уже отправили на Западную Украину, другую часть — в Золотоношу.
Отчетливо помню, как в первые дни пребывания в Чернигове едва не поддались гадкому чувству, что вот нами, студентами, командуют люди с трехклассным образованием. Слава богу, хватило ума понять нелепость этого: не вина младших командиров, а их беда, что не смогли учиться. Нельзя забывать и о том, что лишь в середине 30-х годов в стране ликвидировали неграмотность, и только в 1930 году, когда я пошел в школу, ввели всеобщее обязательное начальное образование. А нам повезло: мы жили в большом городе в семьях со средним достатком и могли учиться, не думая о хлебе насущном.
Чем же тут гордиться? Мы считали себя сознательными комсомольцами и сделали для себя единственно правильный вывод: «Мы, солдаты с десятью классами, и они, наши командиры стремя классами, пришли в армию для того, чтобы сделать ее сильной и боеспособной, то есть мы пришли делать одно общее дело, необходимое для страны. Так в чем же тогда вопрос?» И мы раз и навсегда установили с нашими командирами теплые, товарищеские отношения, и больше никогда не «возникали».
Что мы знали о финской войне? Сперва — ничего, а вскоре…
К концу декабря стало известно от поступающих с фронта раненых, что наше командование не оценило противника, которого шапками не закидать; забыло о том, что в летнем обмундировании воевать зимой в Финляндии нельзя; понадеялось на то, что финские рабочие и крестьяне не захотят защищать свое буржуазное правительство и только мечтают с января 1918-года о том, чтобы мы помогли установить у них советскую власть.
На примере Финляндии проявила себя непреложная истина: любому народу — малому или большому — дорога свобода, и никаких «освободителей» он не потерпит. Вспомним: после того, как независимые Эстония, Латвия и Литва под давлением Москвы осенью 1939 года подписали «Пакты о взаимопомощи» с СССР[9], туда немедленно были введены советские войска для защиты этих государств от фашистской агрессии. Но агрессия на тот момент была надуманной, просто эти государства входили в сферу интересов Сталина по известному договору с Гитлером от 23 августа 1939 года.
Когда наступил черед Финляндии подтвердить свою «лояльность» по отношению к СССР аналогичным образом и полюбовно «отдаться» восточному соседу, она наотрез отказалась. Переговоры в октябре-ноябре 1939 года закончились ничем, что привело к расторжению «Договора о ненападении» 1932 года со стороны СССР. Используя опыт немцев при вторжении в Польшу 1 сентября 1939 года, наши не хуже их спровоцировали пограничный конфликт: финны «посмели» обстрелять великую державу![10] Так 30 ноября началась эта не очень популярная в истории война, принесшая нам огромные людские потери и материальные затраты, большое количество пленных и моральный урон: «чем советская агрессия лучше германской?»
Все оказалось ошибочным и абсурдным. Финские солдаты проявляли незаурядное мужество, защищая свой дом и свою землю. Только через многие годы мы узнаем правду о том, как поднялся простой народ Финляндии на священную для него войну; как, забросив домашние дела, женщины-труженицы своими руками и безвозмездным трудом помогали экипировать солдат всем необходимым — от теплых носков до меховых варежек; как шли добровольцами на фронт студенты, школьники и медсестры; как бывший российский генерал Маннергейм сумел талантливо организовать оборону рубежей Финляндии… [11]
Из Швеции шли в Финляндию эшелоны с добровольцами из многих европейских стран, чтобы сражаться на стороне финского народа против Красной армии. Совсем недавно такие же эшелоны с добровольцами шли в республиканскую Испанию на борьбу с фашизмом. Англия и Франция, проявляя нервозность, уже сколачивали экспедиционный корпус для отправки в Финляндию вместо того, чтобы воевать с Германией, которой они недавно объявили войну.
Советское командование понимало, что кончать войну следует как можно быстрее. В первые недели боев сказались неудовлетворительное оснащение наших войск, плохая подготовка наступления в укрепленной полосе, недостаток техники и многое другое. В результате наступление захлебнулось, потери оказались неожиданно велики, а три стрелковые дивизии попали в окружение и были полностью разгромлены финнами. Мне довелось видеть фотоснимки того, что осталось от этих дивизий: исковерканные орудия, разбитые автомашины и повозки, а вокруг — множество замерзших трупов красноармейцев. Командиров дивизий незамедлительно расстреляли, руководство приняло меры: заменили командование фронтом, прибыли свежие части, но на этот раз в валенках и полушубках; поступила техника, особенно много — артиллерии; произведены перегруппировка войск и тщательная подготовка к новым наступательным боям, что и не замедлило сказаться. Но не все можно было исправить: эта война обошлась советской стороне в 130 000 убитых[12], а финны потеряли 25 000 человек.
Моя тетушка, Анна Ивановна, о которой упоминалось выше и которая прошла финскую кампанию от первого до последнего дня, с болью вспоминала «огрехи» кампании: как в первые дни войны голова колонны стрелковой дивизии, растянувшейся на несколько километров по лесным дорогам, неожиданно упиралась в собственный арьергард; как не давали покоя «кукушки» — снайперы, засевшие в ветвях деревьев, — выбивавшие в первую очередь командный состав; как велик был процент обмороженных бойцов и командиров, которых Анна Ивановна, будучи врачом медсанбата, едва успевала отправлять в тыловые лазареты. Не раз были случаи ошибочной бомбежки краснозвездными самолетами расположенных в лесах своих же частей. Сказывалась плохая лыжная подготовка и неумение вести рукопашный бой. Недочетов — не перечислить.
По моему мнению, кое-что финская война дала, но слишком дорогой ценой: граница от Ленинграда была отодвинута, хотя это должен был предусмотреть Ленин в процессе дарения Финляндии независимости в декабре 1918 года; Генштабу долго придется устранять изъяны в боевой подготовке войск, в их снаряжении и технической оснащенности; проявился недостаточный профессионализм командных кадров, выдвинутых в короткий срок на высокие должности взамен старых, более опытных, которые были репрессированы в 1937–1938 годах и в большинстве уничтожены; после финской войны многих уцелевших командиров станут понемногу выпускать из лагерей. В это число попадут и такие известные впоследствии боевые генералы, как Рокоссовский, Лукин и другие.
В истории финской войны есть еще одна любопытная деталь.
Речь идет об одном стихотворном опусе, слова которого были записаны в виде песни на граммофонную пластинку в Ленинграде за несколько месяцев до войны. Песня предназначалась для финского народа, чтобы убедить его в том, что советские войска пойдут не завоевывать, а освобождать Финляндию.
Почетный и срочный заказ на такую песню получили поэт Анатолий Френкель и композиторы — братья Дмитрий и Даниил Покрасс, которые в свое время прославились такими полюбившимися песнями, как «Марш Буденного», «Если завтра война», «Три танкиста» и другими. Творческая бригада с заданием партии справилась. Песня называлась «Принимай нас, Суоми-красавица», отдавала дешевкой и не украшала Политуправление РККА.
В словах песни проступал и неприкрытый издевательский тон. Вот эта невостребованная песня:
Сосняком по околкам кудрявится Пограничный скупой кругозор. Принимай нас, Суоми-красавица, В ожерелье прозрачных озер. Ломят танки широкие просеки, Самолеты жужжат в облаках. Невысокое солнышко осени Зажигает огни на штыках. Мы привыкли брататься с победами, И опять мы проносим в бою По дорогам, исхоженным дедами, Краснозвездную славу свою. Много лжи в эти годы наверчено, Чтоб запутать финляндский народ. Раскрывайте ж теперь нам доверчиво Половинки широких ворот! Ни шутам, ни писакам юродивым Больше ваших сердец не смутить. Отнимали не раз вашу родину, Мы приходим ее возвратить. Мы приходим помочь вам расправиться, Расплатиться с лихвой за позор. Принимай нас, Суоми-красавица, В ожерелье прозрачных озер.Песня не помогла: финский народ ответил огнем на поражение, не убоявшись самолетов, танков и штыков, которыми мы надеялись его запугать. Но все это и составляет часть нашей истории, которую мы продолжаем познавать…
6
Но тогда мы ничего этого не знали, да и знать не желали. Наш девиз был однозначен: «Бей врага!»
В конце декабря многое изменилось: официально объявили, что полк начинают в темпе готовить к отправке на фронт. Комсостав, призванный из запаса, уже был отправлен 23 декабря.
Стрелковым ротам дали месяц на подготовку, и они должны были покинуть полк в конце января. Пулеметчикам, минометчикам и артиллеристам дали по два месяца, и в конце февраля наступал наш срок отправки на север. Таким образом, Румыния пока отодвигалась на задний план.
Весь январь прошел в интенсивной солдатской учебе, мы много стреляли — огневой подготовке уделялось особое внимание. Питание стало беднее, в магазинах Чернигова исчезли продукты, в город продолжали прибывать раненые с фронта.
В январе я решил не писать Нине: у нее зачетная сессия, а я и так скоро попаду на север! Мы, ленинградцы, только и ждали отправки на фронт и стремились ускорить это событие высокими показателями стрельбы. Мы питались слабой надеждой заскочить на пару минут домой во время следования эшелона через Ленинград: это высвечивалось пределом мечтаний, а что ожидало нас за этим — никто и не задумывался.
Неожиданно стало известно, что весь состав полка передается другой, но уже регулярной части, а на наше место придут новенькие.
Утром 30 января 1940 года мы выехали двумя эшелонами к новому месту службы.
Ромны
1
С карантином было покончено. Теперь мы не запасный полк, мы — настоящие солдаты и тем неуемно горды! Проехали Нежин и Бахмач. Позади 210 километров. Пункт назначения — город Ромны Сумской области. Новая часть — 147-я стрелковая дивизия, 640-й стрелковый полк, 1-я пулеметная рота. Новая дивизия дислоцировалась в Харьковском военном округе.
В городе Ромны жителей немного — всего 15 000 человек (а в Чернигове было 67 000). В недалеком прошлом город славился как курорт: живописные окрестности; улицы широкие, обсаженные тополями; склоны высокой горы, на которой расположился город, летом утопают в зелени фруктовых садов. Город чистый, публика хорошо одевается. На улицах много народа. Дома невысокие — в один и в два этажа; есть шесть школ-десятилеток, а на окраине города — табачная и кирпичная фабрики. Транспорт гужевой; ходит автобус, а машины исключительно военные, но и их немного. Воздух чист и прозрачен.
Большая казарма, а точнее — здание, приспособленное под казарму, была в центре города. Быт тот же, что и в Чернигове: без воды (от бани до бани), без радио, без столовой. Последняя находилась в 500 метрах от казармы прямо на городской улице и под открытым небом. Столовая — это ряды длинных дощатых столов без сопутствующих скамеек, чтобы едоки не задерживались, но под легкими тентами от дождя и снега.
На все, начиная с хлеба, был установлен жесткий лимит. Рацион питания резко ухудшился: обеденный суп — одна вода с блестками жира, заправленная томатом, в которой плавало несметное количество крупно порезанных долек соленых огурцов. Они всегда оставались горками на столах, иногда ими швырялись. Мясо, жиры и сахар стали редкостью: война давала себя знать. Своим родителям я написал, чтобы не присылали продуктовых посылок: кушать масло и колбасу без хлеба не хотелось, хлеба же катастрофически не хватало, только-только на обед.
В военном городке — красноармейский ларек. В нем, кроме махорки и туалетных принадлежностей, ничего не было. Иногда привозили ситро, но его не купить, так как к ларьку не пробиться: плотные ряды атакующих едва не валили его наземь.
В магазин комсостава нас не пускали: мы его содержимое вмиг расхватаем, но и там ассортимент был беден.
В Чернигове в магазинах лежали булочки, баранки, конфеты, сахар — все, кроме ржаного хлеба. В Ромнах — шаром покати! В городе 5–6 продуктовых магазинов с пустыми прилавками: жителей отоваривали непосредственно на предприятиях.
У нас зачастую бывал такой покупательский азарт, что готовы скупить все: кусок хлеба, хвост селедки, булку — но ничего этого не было. Мы не голодали, но питались однообразно и не калорийно: всегда хотелось чего-то еще, например, сладкого, особенно когда не дотерпеть до обеда или ужина. Но это в дни и часы, которые мы проводили в военном городке. В поле же было не до еды.
В Ромнах у нас был такой распорядок дня, что Чернигов с карантином в запасном полку показался раем. Здесь нас принялись ускоренным темпом готовить к отправке на фронт. На занятия в поле отводилось 12 часов вдень. В основном это были тактические занятия: пулеметная рота «в наступлении» и очень редко — «в обороне». «Оборона» считалась отдыхом.
Подъем в семь утра, отбой в час ночи. Ежедневно выходили на дальнее стрельбище, занимались инженерной подготовкой — рытьем окопов, траншей и блиндажей. До места занятий еще надо дойти с пулеметами на плечах: 10 километров туда и 10 обратно, подняться на гору в город, спуститься с обледеневшей горы. Нередко — по нескольку раз в день.
Нам объявили, что полк считается на военном положении, увольнительные отменяются, а все личные вещи (письма, тетради, писчую бумагу, карандаши и другие мелочи) держать только в ранце, ибо в любой день можем не вернуться в казарму.
Строевых занятий было мало — только тактика и стрельба.
Из письма Нине от 11 февраля: «Я вспоминаю, как жаловался Юрка (наш одноклассник. — Д.Л.) на усталость от нескольких часов строевых занятий в день. Мы их считаем отдыхом…» Строевые занятия, как правило, проводились в перерывы, но и те были редкими и короткими.
Целый день в чистом поле по колено в снегу, на ветру и морозе пробыть не просто, но от нас требовалось не пробыть, а выполнить всю программу занятий: лежать за пулеметом, вести огонь и поражать цель, устранять перекосы ленты, бежать с пулеметом «в наступление», рыть окопы и траншеи, вести штыковой бой и тому подобное. Еще нововведение: обязательное ежедневное ползание по-пластунски на 500 метров, не вставая. Одолели и это, соблюдая железное правило — если приподнимется от земли зад, то считай, что в бою получил в него пулю, а сейчас — штрафное очко: либо повторить упражнение заново, либо скоблить после отбоя полы и туалет.
Ежедневные занятия в поле стоили немалых физических усилий. Первое время мы здорово уставали, но потом втянулись. Из письма от 18 февраля: «Мы теперь стали людьми, незнающими усталости — кажется, что на ногах можем быть сколько угодно. Но зато и спать можем в любое время и сколько угодно…»
К ночи мы возвращались в казарму с полевых тактических занятий или со стрельбища всегда насквозь мокрыми от талой воды, снега, пота — в зависимости от погоды, но сухими — никогда. Спали без одеял, укрываясь мокрыми шинелями. Всю мокрую верхнюю одежду, в том числе портянки, брюки, рукавицы, подшлемники, на ночь раскладывали на матрасе в надежде высушить до утра теплом собственного тела. И так — каждую ночь. В казарме была круглая металлическая печь, но на ней хватало места развесить одежду лишь 5–6 человек. Все чаще приходилось спать до утра в противогазах. Привыкли и к этому.
Мы прекрасно понимали, что это все «цветочки», а «ягодки» ждут нас на Карельском перешейке. Это заставляло весьма добросовестно, скрупулезно, по многу раз отрабатывать каждый прием, доводя его до совершенства, не жалея сил и выкладываясь до предела. Все рвались на север и на быт не обращали внимания. Командиры только качали головами: «Если бы все так служили!» Мы же, ленинградцы, постигали солдатскую науку намного быстрее, чем это предусматривалось нормативами и уставами. Науку — убивать!
Как ни странно, у нас не было лыжной подготовки, и мы за зимний период 1939/40 года лыж в глаза не видели. Толи весь их запас находился на фронте и пропадал там безвозвратно, то ли командование планировало использовать нас в боях весеннего периода…
Буденновский шлем был заменен на стальную каску с серым, вязаным, довольно плотным, с вырезом для глаз и рта подшлемником, который согревал на морозе голову под каской и заправлялся под шинель, заменяя ворот свитера или кашне в домашних условиях. У подшлемника был один недостаток: от учащенного солдатского дыхания (на горбу 32 килограмма металла!) он мигом обрастали ледяной коркой, которую непрерывно приходилось скалывать всеми доступными способами.
Нам выдали кирзовые сапоги взамен ботинок и краг, но у меня размер обуви 43,5, и я, не сумев подобрать сапоги, остался в крагах.
В короткие перекуры грелись махоркой, приплясыванием, шуточной борьбой. При этом я отрабатывал на ребятах приемы борьбы вольного стиля, вызывая их «телячий восторг» и неподдельное восхищение. Эти приемы я сам постиг только недавно в Ленинграде, о «каратэ» и «джиу-джитсу» мы тогда не знали. А греться было необходимо. Местные старожилы говаривали, что такой суровой зимы на Украине давно не было, в Одессе даже лиманы замерзли. Очень стыли ноги в ботинках, которые «по уши» забивались снегом и льдом. Но мы больше переживали за тех из нас, кто уже уехал на север, отчетливо сознавая, каково в такой мороз на фронте.
Часто можно было слышать:
— Хотя бы насморк схватить, да пару дней на кухне отогреться… — Но ни одна хвороба к нам не приставала.
Когда в поле приходили полевые кухни — был праздник на час. Пока мы разделывались с первым блюдом, второе — пшенная каша в крышке котелка — превращалась в лед. Съесть кашу уже было невозможно. Мы в ранце приносили ее в казарму и перед отбоем расправлялись с ней.
У нас были обычные плоские котелки тех лет с крышками. В один котелок мы получали суп на двоих, во второй — чай на двоих, а в каждую из двух крышек — по порции второго. Так мы с Геной Травниковым весь 1940 год и хлебали суп из одного котелка. Мыть котелки было нечем, обтирали их снегом, а мороз уничтожал микробов.
Стрелять приходилось много, особенно нам с Геннадием, поскольку нашим оружием был «Максим». В те дни командование патронов не жалело. Нормативы, например, такие: уничтожить двумя очередями за одну ми нуту батальонную пушку, находящуюся на расстоянии 900 метров. Макет пушки поднимали из окопа на короткое время, за которое следовало: обнаружить, когда цель появится в твоем секторе стрельбы, зарядить, установить прицел, навести, закрепить, поразить цель.
Подготовка первого и второго номеров пулеметного расчета предусматривала полную взаимозаменяемость. С нормативами мы с Геной справлялись, но у меня больше оценки «хорошо» не было: трудно бить на расстояние 900 метров — сказывался недостаток зрения, который я тщательно скрывал, желая стать полноценным солдатом. Строго говоря, если бы мы с Геннадием не выполняли нормативы стрельбы, то мигом подлежали «разжалованию»: станковый пулемет — не игрушка, а в те годы — главное оружие батальона и вся надежда стрелковых подразделений в бою, для огневой поддержки которых мы и предназначались.
Бывали и забавные моменты, когда я просил ребят:
— Свистните, когда цель появится!
А они надрываются от смеха:
— Давно стоит, сейчас уберут! — Так я успевал всадить в цель две полагающиеся очереди.
Ходили слухи, будто вышел приказ НКО брать в армию всех, у кого с очками зрение становилось нормальным. Не ведаю, может оно и так, но у меня была близорукость (0,1–0,3 диоптрий с минусом), и я служил без очков.
Наконец в казарме появилось радио, но слушать было некогда. Вторично пришлось принимать военную присягу: все документы остались в Чернигове.
Выходных дней у нас не было, но в субботу — тогда в стране были шестидневки — занятия проводились только до обеда.
Ежедневно с двенадцати до часу ночи — чистка оружия, при этом глаза от усталости слипались. Независимо оттого, проходили в этот день стрельбы или нет, оружие было на морозе более 12-ти часов. В такие минуты мы с Травниковым завидовали тем, кому было только винтовку почистить, а нам — целый пулемет. За ним мы тщательно следили, зная, что с ним придется завтра идти в бой. Пулемет не имел права подвести ни нас с Травниковым, ни нашу пулеметную роту, ни батальон…
В праздничный день, 23 февраля, вместо обычного черного хлеба получили на завтрак белый хлеб, чем остались весьма довольны.
До обеда на вещевом складе упаковывали и обшивали для отправки домой свою гражданскую одежду. После обеда состоялся митинге последующим торжественным маршем по городу с духовым оркестром.
О моих планах на будущее можно узнать из письма Ниночке от 26 февраля: «Мои планы: через два года быть дома, если не „увлекусь“ службой, во-первых, и если не угробят — во-вторых…»
Так грубо успокаивал я свою любимую подругу. А дело было в том, что тогда существовала должность замполитрука роты. Знаки различия — четыре треугольничка в петлице и красная звездочка на рукаве гимнастерки. У нас его звали Васей (фамилию забыл). Он часто отсутствовал в роте, и как-то в течение месяца мне пришлось его замещать по просьбе политрука роты. Халтурить я не умел, а потому, когда Вася вернулся в роту, политрук, довольный моим усердием, пообещал направить меня в соответствующее военное училище, хотя согласия я пока не давал. Я знал, что Нина, выросшая в семье военного на артиллерийских полигонах, могла только приветствовать мое решение поступить в любое военное училище.
Из наш их командиров хорошо запомнились только двое, наверное, потому, что у них был и похожие по звучанию фамилии: Косенко и Власенко. Оба — помкомвзводы в возрасте сорока лет, мобилизованные, оторванные от семей, и мы по-человечески сочувствовали им, особенно когда сердечно провожали их в феврале на финский фронт: они могли не вернуться оттуда на «свою мать — ридну Украину».
Командиром роты был старший лейтенант Мищенко, воображавший себя Чапаевым. Он любил повторять: «Мои пулеметчики…» Он также был немолодым человеком небольшого роста, с усиками, ничем не отличался от других командиров рот, и видели мы его редко…
Конец февраля внес изменения в нашу устоявшуюся было жизнь. Поступил приказ готовиться к отправке на фронт. Все занятия разом закончились, началась суета: кто торопился отправить домой последнее письмо, кто — забрать из ателье готовые фотографии, кто — часы из ремонта… Нам сразу выдали теплое нижнее белье. До фронта надевать его не разрешалось. Выдали и неприкосновенный запас продуктов: сухари, воблу, консервы, сахар, махорку. Это было необдуманным решением. Поскольку мы считали себя вполне заправскими солдатами, то трезво оценили ситуацию и, не задумываясь, в течение двух дней уничтожили дарственный «НЗ», сообразуясь с железной логикой бойца: «Голодными в бой не пошлют, что-нибудь дадут!»
С 1 марта полк приступил к новому ежедневному виду тренажа — учебной погрузке в эшелоны. Мы помногу раз заводили в вагоны и на платформы повозки с лошадьми, пулеметные тачанки, орудия, станковые пулеметы, минометы, размещались повзводно и поротно сами, а потом снова разгружались.
Полку предстояло грузиться по боевой тревоге, которую ожидали каждую ночь. Все погрузочные операции отрабатывались до автоматизма. Ежедневно стали уходить на фронт эшелоны 147-й стрелковой дивизии. Наш эшелон был одним из последних. Он стоял на запасных путях, поджидая нас. Уже уехали многие из тех, с кем мы прибыли в Чернигов из Ленинграда. Мы на ходу прощались с ними.
Однажды, после учебной погрузки в эшелон, команды на выгрузку не последовало. Это могло означать только одно: сегодня в ночь отправляемся.
Шли первые дни марта 1940 года, война подходила к концу, и внезапно последовала команда: «Разгрузить эшелон!» Отправка приостанавливалась: мы фронту уже были не нужны.
Все приуныли. Теплое белье пришлось сдать на склад, за съеденный «НЗ» никому не попало: весь полк с аппетитом отвел душу.
Мы остались в Ромнах, хотя давно видели себя на севере.
2
Снова началась учеба: побаловались и хватит! Мечтали о 8-часовом рабочем дне, но командир роты объявил, что пока в армии остается по-прежнему 12-часовой рабочий день.
На ротном собрании узнали, что наша 1-я пулеметная рота с честью выдержала труднейшие условия нынешней зимы: у нас был лишь один случай обморожения, а в других ротах около половины бойцов было госпитализировано. Из батальона почти 150 человек находились в госпитале длительный периоде обморожением конечностей в результате 12–14-часового ползания по снегу.
Маршала Ворошилова на посту наркома обороны сменил маршал Тимошенко[13]. Теперь у нас новое правило: чем крепче мороз, тем дольше в поле!
В казармах появилась вода. Умываться теперь могли ежедневно, но одеял по-прежнему не давали: они все в госпиталях.
В окрестностях города все растаяло и поплыло: приближалась весна. Тактические занятия временно прекратились из-за непролазной грязи. Мы понимали, что жалеют не нас, а оружие — и это правильно. Вместо тактики — стрельба в тире, гранатометание, штыковой бой, химподготовка, инженерное дело, стрелковый тренаж, изучение уставов.
А раненые с севера продолжали поступать. Пришел очередной эшелон, и прямо на станции произошел прискорбный случай: к одному лейтенанту из города приехала жена, вся накрашенная, модная, увидела, что он лежит без ног, и отказалась от него: «Ты мне такой не нужен!» Лейтенант схватился за пистолет, а его нет — еле удержали.
По радио передали, как тепло и радостно встречает Ленинград возвращающихся с фронта бойцов. У нас щемит сердце, что настам нет. Получили весточку от ребят нашего полка, которые успели выехать с последним эшелоном: они 10 марта прибыли в Ленинград, 12 марта кончилась война, и их оставили служить в Петергофе. Теперь они имели возможность по выходным бывать дома.
А в полку опять неладно. Из письма Нине от 6–9 апреля: «Есть и еще чем похвастать можем: полк завшивел, не успев побывать в окопах, не поголовно, это ясно. И кроме того — массовое заболевание паратифом (в нашей роте нет). Дождалось командование, так ему и надо!» После этого начались поголовная дезинфекция, санобработка, переезд в другие помещения и прочее…
По окончании финской войны полк стали чаще привлекать к несению караульной службы, что ранее — в период интенсивной подготовки к фронту — носило эпизодический характер.
В карауле нам довелось познать лиха: стояли по четыре часа, так как больше было не выдержать из-за мороза. Потом это время даже сократили до двух часов, выдали шубы и полушубки, а также разрешили выстрелом в воздух вызывать разводящего и просить смену, когда не совладать с холодом.
Травников обычно стоял в черте города на охране вещевых складов. Здесь не было ураганного ветра, было теплее и спокойнее.
Я, как правило, стоял на охране пороховых складов в поле, далеко за городом, где всегда метель, ухудшавшая видимость донельзя, и готовый тебя унести ветер.
Как-то лейтенант, старший по караулу, признался мне, что хотел ночью подползти к посту с целью проверки моей бдительности, но побоялся. Недавно стало известно, что в Чернигове начальник караула — тоже лейтенант — за подобную шутку поплатился головой: часовой всадил в него пулю, и часовому ничего за это не было. Как видно, наш лейтенант по молодости немногим отличался от нас.
Были и другие случаи. Из того же письма Ниночке от 6–9 апреля: «Опять в карауле. Опять — пороховые склады. На этот раз стоять веселее, так как недавно было нападение на один из постов, и теперь усилили караулы, наладили сигнализацию вплоть до телефонной связи с гарнизоном и даже придали караулу ручной пулемет. А ураган свистит!»
Иногда думается: все бы были такими солдатами, как Травников, — ну до чего покладистый человек! В письме Нине от 22 февраля я писал: «…У меня есть друг — Травников, студент ЛИИЖТа. Он ко всем требованиям относится очень просто: Проползти 200 метров? Пожалуйста! Проползти 500 метров? Пожалуйста! С 5 утра до 10 вечера в любой мороз быть на стрельбище? Пожалуйста!» Только восхищаться можно таким человеком. Он был высокий, худой, сутулился при ходьбе; чрезвычайно интеллигентный, если в то время и в тех условиях приемлемо так говорить о нас; сердечный, добрый, приветливый человек, верный товарищ. Наши дороги разошлись в августе 1940 года, и его судьба мне не известна[14].
Понемногу приучали нас и к походам: сперва к малым, а вскоре и к большим. Из письма Нине от 19 марта: «О походе. 17-го утром полке оркестром и песнями ушел из города. Продвинулись на 20 километров со встречными „боями“. На следующий день вернулись. Рота получила отличную оценку, и сегодня дали выходной, то есть — спать до 6-ти вечера…»
Мы привыкли к армейской службе. Нам казалось, что служим давно, а на самом деле — всего 4 месяца. Дивизию полностью укомплектовали личным составом взамен выбывших на фронт.
Познакомились с новым «Дисциплинарным уставом РККА»[15].
В старом говорилось, что подчиненные должны выполнять любой приказ командира, за исключением явно преступного. Это были отголоски времен Гражданской войны, когда на службу в Красную армию пришли тысячи офицеров старой армии. Командование полностью им никогда не доверяло. Но простите меня за наивность: как может солдат в бою отличить преступный приказ от непреступного? Устав давно устарел, да и командирами теперь были выпускники военных училищ и академий Красной армии, то есть «свои в доску».
В новом уставе было такое нововведение: командир любого ранга для того, чтобы заставить подчиненного повиноваться любому приказу, имеет право и обязан применить все доступные средства вплоть до оружия. При этом ответственности за последствия он не несет. Если же командир в экстремальной ситуации не применит оружие, то сам подлежит привлечению к суду военного трибунала.
А как реагировали на новый устав мы, солдаты-первогодки, которые до того изучали старый устав и знали его «на зубок»? Да никак! Мы были настолько вымуштрованы системой, что о невыполнении приказа не могло быть и речи. Во-первых, командир на то и поставлен, чтобы командовать. Во-вторых, завтра мы сами станем командирами. О чем же тогда речь?
В итоге никто из нас и не удивился такой постановке вопроса в новом «Дисциплинарном уставе РККА» 1940 года.
Ближе к маю началась усиленная строевая подготовка к военному параду, в котором нам предстояло участвовать впервые, и мы не должны были подкачать.
Строевой подготовкой занимались прямо в центре города неподалеку от казарм, а маршировали взад-вперед через весь город. Оркестр гремел, и бодро шагали наши шеренги, но на первых порах все было не так просто. Острие твоего штыка должно находиться чуть впереди правого глаза идущего перед тобой товарища, и у твоего правого глаза так же колышется штык идущего сзади. Если кто из нас зазевается, штык ударяет по каске идущего впереди и начинается веселый перезвон.
— Отставить! — Обычно кричал на это старший по колонне.
В письме Нине от 12 апреля я писал: «Вчера был смотр строевой подготовки полка к 1-му Мая — как всегда, по городу. Собираются целые толпы вдоль главной улицы и стоят часами. И задумчиво смотрят на проходящие колонны со штыками наперевес. А какая-нибудь старушка еще и прослезится в платочек: „О, господи, какие все молодые…“»
Старушка права: мне, к примеру, было от роду 18 лет и 3 месяца…
Продолжали стрелять. Мои успехи в стрельбе были скромными, но стабильными: из винтовки на 100 метров — только «отлично», а из станкового пулемета на 900 метров — «хорошо».
Подошел май. 1 Мая в Ромнах состоялся общегородской митинг трудящихся города и его гарнизона — воинских частей 147-й стрелковой дивизии. Потом прошел военный парад на центральной площади с последующим торжественным маршем по городу. Вторую половину дня мы вповалку проспали.
2 мая провели на стадионе, где гоняли в футбол. Смотрели новый фильм «Истребители». Картина понравилась, а особенно песня «Любимый город может спать спокойно» в исполнении Марка Бернеса, которая как нельзя лучше отвечала нашему настроению.
Заговорили о выезде в летние лагеря. И вот — выезд состоялся, только не в лагеря, а произошла очередная передислокация дивизии.
10 мая полк уезжал с пассажирской платформы городского вокзала на глазах собравшихся жителей города. До сих пор сохранилась в памяти впечатляющая картина: когда полк грузится в полном боевом снаряжении — есть на что посмотреть! Если садятся в вагоны солдаты «без ничего» — в пилотках, шинелях, с пустыми руками, — никто внимания не обратит, и тем более это не вызовет никаких эмоций. Но когда ни одного бойца толком не разглядеть под кучей амуниции, снаряжения и оружия, это совсем другое. Грузятся армейские повозки, пулеметные тачанки, походные кухни, пушки, минометы; звенит металл; вполголоса раздаются команды, и в этом процессе одновременно участвует несколько тысяч вооруженных людей в касках и с примкнутыми штыками. Такой концентрации различного оружия гражданское население в мирное время в обычных условиях не видит: тут и ручные пулеметы, и станковые, и зенитные установки, и минометы двух калибров, и артиллерийские орудия 45 мм и 76 мм…
Не знаю, чем была вызвана необходимость грузить войска в дневное время на глазах населения, но у наблюдавших за погрузкой возникало много вопросов:
— Что случилось?
— Опять война?
— Куда их отправляют? — Разные чувства возникали у смотрящих: у кого-то погиб на финском фронте сын или муж, у кого-то пропал без вести, а кому-то скоро идти в армию. Многие плакали, настолько тяжелым было происходящее — недаром запомнилось надолго.
Многих из нас тоже одолевали вполне определенные эмоции. Так, нам с Геной вспомнились проникновенные слова Александра Блока:
Петроградское небо мутилось дождем, На войну уходил эшелон. Без конца — взвод за взводом и штык за штыком Наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячью жизней цвели Боль разлуки, тревоги любви, Сила, юность, надежда… В закатной дали Были дымные тучи в крови…[16]Все повторялось. Поэт написал эти строки 1 сентября 1914 года, когда уже шла Первая мировая война. Мы же грузились в Ромнах, а не в Петрограде. Вместо дождя у нас ярко светило солнце. Вторая мировая война началась восемь месяцев назад, а до Великой Отечественной оставалось чуть более года.
В тот день мы простились с Ромнами, а когда загремели колеса, мне невольно вспомнилось: 22 апреля 1915 года в таком же эшелоне, набитом людьми в таких же серых шинелях, уезжал на войну добровольцем двадцатилетний брат отца Борис, который пропал там без вести. Другой брат отца — Евгений — воевал офицером с первого дня германской войны.
Все повторялось…
Кривой Рог
Ехали, как всегда, с песнями. Сидели в открытых дверях теплушек, болтали ногами, предвкушали перемену мест. Мы успели свыкнуться с частыми переездами: нас так и тянуло неизвестно куда.
Наш путь лежал строго на юг. За время следования мне, «штатному» пропагандисту, надлежало проводить политинформации во всех взводах роты, а это четыре вагона, так что ни письмишка с дороги не написал: я по-прежнему исполнял обязанности замполитрука Васи, которого к тому времени командировали на учебу.
Конечно, речь у нас шла и о «странной» войне союзников — Англии и Франции — с фашистской Германией. Их войну иронически называли и «сидячей», и «смешной». Ни один снаряди ни одна бомба пока не упали на германскую территорию. Солдаты томились от безделья.
Начало этой странной войне было положено в сентябре 1939 года, когда Англия и Франция бросили своего союзника — Польшу — на растерзание Гитлеру, вто время как решительные действия на западе могли в самом начале коренным образом изменить ход начавшейся мировой войны, но, к сожалению, история не признает сослагательного наклонения. Даже начальник оперативного руководства германского верховного командования Иодль впоследствии признал на Нюрнбергском процессе: «Если мы еще в 1939 году не потерпели поражения, то это только потому, что примерно 110 французских и английских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на Западе против 23-х германских дивизий, оставались совершенно бездеятельными» (Великая Отечественная война Советского Союза. С. 21).
Но к весне 1940 года на западных границах Германии сосредоточились уже не 23, а 115 германских дивизий, и план нападения на Францию был утвержден еще 24 февраля 1940 года.
События на западе назревали: в апреле 1940 года немцы оккупировали Данию и Норвегию, а 10 мая вторглись в Бельгию, Голландию и Люксембург. Стало ясно, что на очереди удар по Франции, благо союзники не стремятся к активным действиям. 3 июня немцы возьмут полуразрушенный Дюнкерк, а 14 июня парадным маршем пройдут по Елисейским Полям Парижа. 21 июня Франция будет повержена.
Тревожное состояние от надвигающихся событий передавалось и нам. В полку вновь заговорили о Румынии, имея в виду освобождение Бессарабии и Северной Буковины, отторгнутых королевской Румынией от Советской России в прошлом. Но пока все события происходили далеко от нас…
Мы оставили за собой Ромодан, Кременчуг, Александрию и, проехав около 400 километров, 12 мая 1940 года прибыли к новому месту дислокации дивизии. Это был город Кривой Рог Днепропетровской области, а нашим «хозяином» стал Одесский военный округ, с которым связана вся моя последующая служба.
В Кривом Роге 200 000 жителей, есть электричка, ходит единственный номер трамвая. Как и Ромны, Кривой Рог стоит на горе, но над этим городом днем и ночью простирается облако малинового дыма. Здесь мало зелени, почва каменистая, и в окрестностях города никакие сельскохозяйственные культуры не растут. Под ногами — шпат, слюда, киноварь и другие минералы. Металлургический комбинат наложил отпечаток на всю жизнь города.
Мы расквартировались на территории военного городка в двух километрах к югу от Кривого Рога рядом с железнодорожным полотном.
На этот раз нас разместили в благоустроенных казармах городского типа.
В основном все здания военного городка были четырехэтажными.
Наша рота на третьем этаже, а из окна — куда ни глянь — море огней Кривого Рога. С новосельем освоились быстро: нам не привыкать!
В выходной день с Геннадием с упоением походили по… городскому асфальту. В Ромнах мы, городские жители, такого удовольствия не имели, успев напрочь забыть о существовании твердого покрытия, будто всю жизнь провели в сельской местности.
Часто развлекались на стадионе. Служба вновь пошла своим чередом, в том числе и караульная: охраняли артиллерийский парк соседней воинской части. Поговаривали, что нас, станковых пулеметчиков, ожидает месячный лагерный сбор в двенадцати километрах от города, а стрелковые роты останутся в городских казармах.
23 мая действительно перебрались в лагерь. Теперь нас окружал чудесный, сказочный сад. Из города киновари, песчаников и железняков попали в парк, такой же молодой, как и сами. Все аллеи были обсажены красивейшими цветами, каких мы никогда и не видывали. Перед отбоем мы с Геннадием обычно гуляли, а наши сердца учащенно бились и жаждали, как в песне, «любить и жить».
В письме Нине от 25 мая я не удержался и видоизменил две строчки стихотворения Радуле Стийенского «Сады Черногории»[17]. У него было так:
Все есть в Черногории милой — Коммуны одной не хватает!Меня больше устраивали иные слова, о чем я не замедлил сообщить своей подруге:
Все есть в Кривом Роге — милой, Тебя одной не хватает!Молодость брала свое. В письме было и другое: «Но и здесь начались свои прелести: „1-я пульрота! Приготовиться к наступлению на… километров!“ — а солнце стоит в зените, и ни глотка воды. Стоит жара, что же будет в середине лета?» Стояла небывалая для нас — северян — жара. В своих письмах в Ленинград я отмечал, что «из меня после армии будет хорошее вьючное животное»: с родным пулеметом мы по-прежнему не расставались.
Один из выходных дней мы с Травниковым провели на славу!
С утра политрук роты пригласил нас обоих пойти с ним в военный городок на совещание, которое проводил политотдел дивизии, а потом с двенадцати часов дня отпустил нас, чем мы и воспользовались до вечера, как вырвавшиеся на свободу мальчишки. Собственно, пока мы ими и оставались. Мы с наслаждением лакомились мороженым, пили ситро, несколько рейсов прокатились на трамвае, не выходя из него на конечных станциях, чему молодая кондукторша и не думала удивляться:
— Вы не первые, — смеялась она. — Таких любителей покататься у меня за день много бывает…
Заодно решили сфотографироваться: Травников сидит на табурете, а я стою рядом и держу руку у него на плече; оба с кобурами от пистолетов ТТ; виду нас вполне воинственный. К этому времени мы были одеты прилично и могли без стыда спокойно гулять днем по городу — совсем не то, что в первые дни в Чернигове.
Главным из запомнившихся событий того дня было то, что вечером мы возвращались из города в лагерь впервые «вольно», без строя и снаряжения, налегке, то есть так, как за полгода службы вообще ходить не приходилось.
Упиваясь дарованной на день свободой, мы шли легко, а из головы у меня не выходили слова Анны Ахматовой:
Долго шел через поля и села, Шел и спрашивал людей: Где она, где свет веселый Серых звезд — ее очей?[18]А голос за кадром уже ядовито шипел: «Не торопись, не каркай — скоро пойдешь!»
Так оно и случилось. Всего месяц пробыли мы в Кривом Роге.
10 июня по боевой тревоге пулеметные роты полка стремительным броском вернулись в военный городок, а дивизия уже грузилась в эшелоны.
«Странная» война на западе начинала приобретать вполне определенные зловещие очертания. В эти дни немцы форсировали линию Мажино.
Мы спешно оставили Кривой Рог, не успев получить фотоснимки.
Ташлык
1
На этот раз эшелон спешил на запад. Все понимали, что не сегодня-завтра нас ожидает «работа» именно там. Хорошо, что командование наконец определилось с нами, а то целую зиму только и стращало то Финляндией, то Румынией, то черноморскими проливами. Эшелоны дивизии летели без остановок и на разъездах не стояли — настоящая «зеленая улица». Значит, мы действительно где-то были нужны. Сход у проскочили Знаменку, Кировоград, Первомайск и Котовск. Путь в 550 километров окончился на станции Ивановка Одесской железной дороги, в 75 километрах к югу от Котовска. От государственной границы с Румынией на Днестре нас отделял всего один переход в 45 километров.
Прибыли ночью. Разгружались долго. Это было вызвано тем, что одновременно прибыло несколько эшелонов, явно мешавших друг другу при разгрузке. В кромешной тьме южной ночи путались повозки, артиллерийские орудия. Не сразу разобрались, кому что принадлежит. Никто не ожидал одновременного прибытия такого количества войск. Потребовалось несколько часов на то, чтобы все подразделения нашли свое место в длиннющих колоннах полков и дивизий.
Мы с интересом наблюдали, как под утро прибыл эшелон станками КВ («Клим Ворошилов») и ИС («Иосиф Сталин»)[19]. Таких тяжелых танков мы еще не видели. Наши сердца радостно и неистово колотились:
— Даешь Бессарабию! Вон нас сколько!
С рассветом выступили. Пулеметы пришлось нести на себе, так как повозки до предела были забиты боеприпасами и продовольствием. Везли черные сухари, пшенный и гороховый концентраты, воблу, сахар, махорку и другие так необходимые на войне грузы. Мы направлялись отвоевывать Бессарабию — ни больше ни меньше! Никто этого и не скрывал. За зиму столько разговоров было о Бессарабии — мы ее во сне видели.
Обстановка вскоре прояснилась: идем не на границу, а на промежуточный рубеж сосредоточения. Там предстояли тактические занятия на извечную тему «пулеметная рота в наступлении». Десять дней будем снова постигать солдатскую истину: тяжело в ученье — легко в бою!
Самый первый день похода — всего каких-то 30 километров — показал, что к подобным передвижениям мы не готовы. Зимой ходить можем, а летом еще не умеем. Несмотря на то что до места было не так далеко, добрались до большого привала не все. Начну с того, что выступили в поход после трех бессонных ночей; жара — невыносимая; фляги мигом оказались пустыми; шли в касках, обливаясь потом, в непрерывных, сплошных облаках пыли от упряжек артиллерийских батарей, без конца обгонявших наши колонны; несли пулеметы, скатки шинелей, плащ-палатки и всю амуницию; мечтали о дожде, но его все лето не будет.
Для нас, служивших по первому году, этот летний поход оказался не под силу. Первый десяток километров полк бодро шагал в ногу — это в утренние часы, — но затем всех одолела неописуемая жажда. В селах, которые мы миновали, сердобольные женщины выставляли на скамьях перед хатами ведра с ледяной колодезной водой. Пить во время движения не разрешалось, а почему — мы тогда не понимали. Узнали через пару часов.
На пятнадцатом километре бойцы не выдержали, и строй рассыпался в разные стороны: люди припали к ведрам с водой. Сейчас можно верить или не верить, но мы залпом выпивали по 3–5 литров. Фляги емкостью в 1 литр хватало только на хороший глоток. Мы не пили в обычном понимании этого слова, а попросту выливали флягу за флягой в рот. Приписной состав от нас не отставал. Командиры не удерживали — им следовало подготовить нас к этому до похода.
Результаты «водопоя» не замедлили сказаться. При подъеме на очередную гору полк бесшумно и молча улегся в дорожную пыль. Такого ощущения я никогда ранее не испытывал: вода «ударила» в ноги. Так повлияло на организм безмерное накачивание его ледяной водой.
Командиры не делали попыток поднять полк — мы все куда-то провалились и не подавали признаков жизни. Проехало большое начальство и укатило дальше, даже не «отматюгав» наших командиров. Те чувствовали себя виноватыми, но изменить ничего не могли: нам надо было через все это пройти. Очень скоро мы усвоили железные правила питьевого режима в летнем походе, и такое с нами больше не повторялось.
Всю оставшуюся часть дня двигался не солдатский строй, а толпа взмыленных, измученных людей, еле волочивших ноги от нескончаемой жажды и уже заработанных водяных мозолей. Многие продолжали осаждать колодцы, которых так много оказалось на нашем пути! Колонна теряла бойцов на каждом шагу. Мы шли, а сбоку от дороги одного упавшего отливали водой, другого — клали на носилки и куда-то тащили, а третий лежал, закатив глаза, и дышал, как паровоз. Я в тот день больше не пил, а потому до вечера с ног не валился. В целом наша колонна представляла собой жуткую пародию на «Железный поток» Серафимовича.
Со следующего дня начались тактические занятия по отработке «наступления» — в армии даром есть хлеб не положено. Наступили трудные дни: часами мы двигались бегом и ползком с пулеметами то в гору, то с горы; гимнастерки были насквозь мокрые от пота, который буквально хлестал из-под касок, заливая лицо; ночью гимнастерки высыхали и становились белыми от выступившей соли, а потом — лопались.
Не все сумели выдержать это испытание. В один из больших привалов два представителя солнечной Грузии, исчерпав моральные и физические силы, дружно застрелились из своих пистолетов ТТ. То ли у них действительно иссякли силы, то ли от мысли, что через неделю-другую — в бой, сейчас судить трудно, но этот прискорбный факт имел место в соседнем батальоне, и с ним долго разбирались. Мы, северяне, выдержали и жару, и перегрузку, а они — нет. Никто из нас их не осуждал, но и не жалел. Трудные, порой невыносимые, условия армейской службы в пехотных частях того времени, с которыми пришлось столкнуться, приучили нас негативно относиться к проявлениям человеческой слабости типа «я больше не могу», «я устал», «у меня нет сил» и тому подобным. Большинство моих товарищей считали, что солдат обязан выносить все тяготы службы, а иначе — какой же он солдат, тем более что немолодые командиры запаса делили их наравне с нами.
В эти нелегкие дни я все же сумел отправить Нине целых две открытки без какой-либо надежды, что они дойдут до Ленинграда. На самом деле, у меня в резерве оставалась одна открытка — мы так лихо выехали из Кривого Рога, что покупать было некогда. Эту единственную открытку я аккуратно разрезал вдоль на две половинки. То, что нижняя оказалась без марки, не имело значения: при получении ее Нина оплатит услуги почты непосредственно почтальону, поскольку тогда существовал такой порядок — почту доставляли непосредственно в каждую квартиру.
Разумеется, обратного адреса я не имел, но свое местонахождение указал непосредственно с карты: 47°10″ северной широты и 29°40″ восточной долготы. Моя подруга — будущий картограф — без труда определила место, где я находился, а ее отец[20], носивший четыре «шпалы», думаю, сумел ответить ей на вопрос, что я делаю на границе с Бессарабией, откуда он был родом.
Каждая из половинок открытки действительно дошла до Ленинграда, продемонстрировав тем самым полное единение армии и народа! Ведь вручал я эти горе-открытки в селах прямо на ходу женщинам в руки с просьбой отдать их на почту, а там сразу видели, что посылает солдат, находящийся в экстремальных условиях, да к тому и влюбленный! А женщинам — великое спасибо: это были жители будущего «Приднестровья» девяностых годов[21].
Питьевой режим мы освоили быстро. Выяснилось, что пока солнце над головой, пить не следует вовсе. Если же станет невмоготу, можно прополоснуть рот слегка подсоленной водой из нагревшейся к тому времени фляги и сплюнуть, не глотая. И только, когда солнце уйдет за горизонт, за ужином — перед самым сном — можно отвести душу и с наслаждением выпить 2–3 котелка горячего чая с сахаром и хлебом. Такой режим питья я сохранил на долгие годы, и он меня никогда не подводил.
Еще в эти дни научились ухаживать за ногами: на привалах подолгу держали их в холодном ручье и поднимали на время вверх, чтобы облегчить отток крови. Как только представлялось возможным, тщательно стирали портянки. Все это составляло часть солдатской науки.
2
В двадцатых числах июня, когда правительство маршала Петэна подписало в Компьене акт капитуляции Франции[22], мы наконец вышли на границу и сменили там пограничников. Их миссия закончилась: на границе встала регулярная армия — она шутить не привыкла!
Наш 640-й стрелковый полк занял боевые позиции на самом берегу Днестра в районе большого пограничного села Ташлык. До Кишинева — 45 километров. Поскольку мы не пограничники, то и «охранять» границу стали по-своему.
В село входили ночью. Оно выглядело вымершим: жителей не видно. Мы крались вдоль известковых заборов, стараясь, чтобы нас не засветила луна. Временами нас обстреливали стой стороны.
Вдоль берега Днестра мы вырыли окопы в несколько рядов.
В них все светлое время дня отсыпались, наблюдали за действиями румынских пограничников и набивали впрок пулеметные ленты патронами. Румыны тоже готовились. Они таскали на волах пушки и нахально устанавливали их на прямую наводку. Все происходило на наших глазах, так как Днестр здесь неширокий, кусты и деревья растут редко, не образовывая густых зарослей.
Ночные часы были для нас наиболее тяжелыми. Ночь напролет мы носили на руках металлические понтоны для будущих переправ: по ним устремятся через Днестр войска первого эшелона, то есть — мы. Понтоны доставлялись на границу автотранспортом, а мы волокли их к урезу воды и укладывали так, чтобы переправу навели в срок, отведенный нормативами. Ночью разговаривать и курить в первые дни стояния на границе категорически воспрещалось, дабы излишне не нервировать румынскую сторону.
Для освобождения Бессарабии в июне 1940 года на границе сосредоточили такое количество войск, которое при всем желании невозможно замаскировать, а видимость конспирации походила на случай со страусом, прятавшим голову под крыло. В Молдавии не было лесов, подобных белорусским, а дивизии и полки стояли уже в несколько эшелонов. Готовились наступать боеспособные стрелковые соединения, артиллерийские полки и бригады, танковые батальоны, зенитные и инженерные части, а также все службы обеспечения.
Позднее мы с грустью вспоминали об этом. Подобного скопления войск на границе на том же самом участке фронта в июне 1941 года мы не увидим! Сколько их там будет, об этом речь пойдет дальше, но в июне 1940 года командование не скупилось на войска. <…>
3
Пока мы готовились воевать с румынами, я успел 26 июня отправить Нине еще одно письмецо-треугольничек непосредственно из Ташлыка. В нем я сообщал: «На грязь не обращай внимания — пишу в окопе. Сейчас я тебе об ЭТОМ могу написать, так как когда получишь письмо, то ЭТО не будет иметь никакого значения…» Не мог я в те дни называть события своими именами. И далее: «Вчера сжег все письма из дома — твои оставил, хотя карманы нужны для другого. Адреса не имею (он за спиной в ранце)…»
В том же письме в качестве эпиграфа я привел строчки из стихотворения Радуле Стийенского «Абиссинскому народу»:
Но горизонт становится серее, Ползет туман от каменной гряды, И на границе древней Эритреи Легионеры строятся в ряды[23].Эритрея — это Румыния, а легионеры — это мы. Поэтические волны накатывались на меня независимо от окружавшей обстановки. В любом случае это письмо могло оказаться последним: завтра в бой!
Страна в эти дни жила спокойно и ничего не ведала о нас, всерьез готовившихся к боевым действиям. Дивизионная газета «За Родину» выходила с четким, недвусмысленным заголовком: «За советскую Родину, за Сталина, за советскую Бессарабию — вперед в наступление!» Бойцы и командиры писали в газету, что «не пожалеют ни сил, ни жизни для выполнения ЛЮБОГО приказа Родины!»
Ротный «Боевой листок», который я выпускал с самой зимы, конечно же не уступал дивизионной газете и призывал к тому же. Но о вероятном ударе на Плоешти не было даже и слухов, а солдаты, как известно, всегда знали обо всем. Точнее — могли знать раньше, но с приездом Жукова любая утечка информации каралась самым строгим образом…
В нашей пулеметной роте был сформирован четвертый взвод и оснащен зенитными установками на базе крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм. Мы сами смонтировали их на треногах, не задумываясь над вопросом: «А была ли у румын авиация?»
Второй взвод, в котором я служил, получил боевую задачу: на бронетанков-амфибий, давно стоявших в кустах за нашими спинами, форсировать Днестр. Танки должны были уйти вперед, а мы — занять оборону на румынском берегу и вести пулеметный огонь по противнику до тех пор, пока не наведут понтонную переправу и по ней не ринется вперед первый эшелон наступающих войск. Первый и третий взводы должны были прикрывать нас огнем елевого берега, а четвертый взвод — следить за «воздухом».
26 июня Румынии был предъявлен ультиматум, смыслом которого было: «Верни Бессарабию по-хорошему!»
Началось томительное ожидание. Все дела давно переделаны. Казалось, теперь можно и отоспаться, но никто о сне и не думал. Нервы у всех напряжены. Завтра столкнемся со смертью. Для тех из нас, кто не успел побывать на финской, это будет первый бой. Такое не забывается. Разве тут доена? Мы с Травниковым без конца проверяли и смазывали замок пулемета, чтобы он не подвел нас в бою.
В последнюю мирную ночь никто на границе не спал. На берегу Днестра пылали костры. С конспирацией давно покончено; сверкали в ночи штыки и каски; бойцы молча стояли вокруг костров и ждали рассвета, а с ним и команды «Вперед!».
Каждый думал о своем и мысленно прощался с домом, сродными и любимыми. Мы понимали, насколько все серьезно, что нас ожидает настоящий бой, а не учебный, как было до этого.
Утром обстановка прояснилась: Румыния капитулировала. Небо покрылось краснозвездными самолетами. Враз грянули солдатские песни над Днестром. Споро навели понтонные переправы, и по ним пошли танки, а за ними — пехота. Мы снова будем жить!
Население Бессарабии встречало войска цветами, песнями и танцами, как настоящих освободителей. Кто думал иначе — заранее сбежали в Румынию. Осталась беднота, тяготевшая к Советской России и не боявшаяся советской власти.
Мы же так и остались в своих окопах наблюдателями всеобщего праздника. Помню, как не понравились командиру полка речи бойцов:
«В бой нас первыми посылали, а в Бессарабию с песнями другие пошли?»
Но приказ — есть приказ. В мирной Бессарабии столько войск не требовалось, и всех повернули назад.
Наша 147-я стрелковая дивизия осталась дежурной частью на старой границе. В направлении Кишинева пошел наш сосед справа — 95-я стрелковая дивизия. Ее штаб расположился в Кишиневе. На левом фланге в направлении Комрат-Кагул двинулась 25-я Чапаевская дивизия. Ее штаб — в Кагуле. Обе дивизии — стрелковые, одни из лучших и боеспособных дивизий Одесского военного округа. До начала Великой Отечественной войны обе дивизии оставались в Бессарабии. Они встретили на границе первый день войны и первыми вступили в бой с противником. В 1941 году они опять будут правым и левым соседями моей дивизии, которая займет рубежи обороны на реке Прут между ними точно так, как в июне 1940 года на рубежах Днестра. Только номер станет другим — 150-я стрелковая дивизия, куда меня скоро переведут.
А пока, в первой декаде июля, 147-я стрелковая дивизия получила приказ походным маршем двигаться обратно на восток. Переход на станцию Ивановка на этот раз тяжелым не показался. Мы освоили марш нагруженной пехоты в условиях знойного южного лета. На станции все боевое имущество погрузили в эшелоны, в том числе и оружие. Нам предстоял необычный марш — налегке! Все радовались, а мы с Травниковым — вдвойне: без пулеметов почувствовали себя именинниками. Хоть раз отдохнем от него, родимого, ибо летом таскать пулемет намного трудней.
16 июля покинули Ивановку. Оставили места, где готовились воевать и умирать, и опять зашагали навстречу недолгой мирной жизни.
До свидания, Бессарабия! Мы так и не побывали на твоей гостеприимной земле, но через год нам суждено вернуться в твои цветущие края для участия в смертельной схватке с фашизмом.
Все, что было здесь в июне 1940 года, явилось лишь прелюдией к большой войне. Она была не за горами, она — приближалась.
Мы еще вернемся!
Александрия
Пока разбирались с Румынией, произошли изменения и в далекой от нас гражданской жизни: 26 июня 1940 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». В нем же устанавливалась уголовная ответственность за 21-минутное опоздание на работу[24].
Указ Президиума ВС СССР об увеличении длительности рабочего времени (восьмичасовой рабочий день и семидневная рабочая неделя) без изменения размеров тарифных ставок и окладов, о запрещении неоправданного ухода рабочих и служащих с предприятий и из учреждений и наказании за прогулы 2–4 мес. исправительных работ.
Требования к трудовой дисциплине ужесточались, а мы продолжали ждать и надеяться на сокращение длительности своего солдатского рабочего дня. Вывод напрашивался немудреный: пока не схлестнемся с Гитлером, наши помыслы бесплодны. Страна продолжала готовиться к нешуточной войне, и принятые меры казались оправданными.
Кстати, сталинская Конституция 1936 года, принятая в свое время с большущей помпой, гарантировала советскому народу семичасовой рабочий день. Сегодня же обстановка в Европе диктовала иное: рано или поздно фашизм должен быть уничтожен. Ради этого можно и потерпеть…
Тем временем полки дивизии двигались по заданному маршруту. Нам не надо было вновь осваивать режим питья и учиться ухаживать за собственными ногами. Мы опять превратились в нормальный солдатский строй и стали ротой, батальоном, полком. Поток войск нескончаем. Начала и конца запыленных колонн не видать. Солдаты шли свободно и не валились с ног от жажды и изнеможения. Мы перешли в следующий «класс» армейской школы.
Нам предстояло пройти по Украине около 450 километров в «пиковую» жару в период с 16 по 26 июля — по 50 километров в сутки. Походы зимой освоили в Ромнах, походы летом — в Молдавии. Теперь нам было «море по колено».
Напоследок лакомились сладкими ягодами молдавского тутовника и пели, пели без конца. Что мы пели? Да то же, что и зимой: «Три танкиста», «Катюшу», «Песню 27-й дивизии», «Авиационный марш», «Пехотную строевую», «Галю молодую» и другие. Самой близкой и душевной казалась нам «Катюша». Почему? Да мы только что сами ушли с «дальнего пограничья». А еще любили песню, где припевом служили слова:
Белоруссия родная, Украина золотая! Наше счастье молодое Мы стальными штыками защитим![25]<…> В походе держали строй и печатали шаг; в городах и поселках проходили парадным расчетом перед командованием дивизии, которое заблаговременно заботилось о возведении импровизированных трибун; гремели полковые оркестры; вокруг трибун — скопление местных жителей; ораторы провозглашали здравицы и приветствовали проходящие колонны: «Привет освободителям Бессарабии!», «Да здравствует Красная армия!», «Слава Сталину!» От такой торжественности мы невольно задирали носы и ощущали себя всамделишными освободителями несчастной Бессарабии, хотя и одной ногой в ней небыли. Правда, случись бой — тогда мы оказались бы в штурмовой группе первого броска…
Миновали Ак-Мечеть (Белую Церковь) и Кировоград. В последнем состоялся внушительный парад дивизии. Как и до того, оглушительно громыхали духовые оркестры, звенели песни, нам кидали цветы и посылали воздушные поцелуи. По глазам восторженных людей было видно, что это не надуманный, не трафаретный праздник, а волеизъявление души — собравшиеся выплескивали на солдат частицы безудержного личного счастья от сознания того, что на этот раз обошлось без войны! Это и неудивительно: родные многих, окружавших нас, также служили в частях Одесского военного округа…
Мы втянулись в режим похода с первого дня и сохраняли его до конца пути: подъем в 2 часа ночи и завтрак; шли около десяти часов до обеда, то есть до 12 или часу дня; обед и привал в тенечке со сном до 5–6 часов вечера; снова шли до 10–11 часов вечера, ужинали и спали до двух часов ночи. Выходило, что мы двигались по 14–15 часов в сутки.
За лето спать в полевых условиях научились не хуже, чем в казармах. Как правило, мы с Геннадием неразлучно спали вдвоем: одну шинель стелили на землю; на нее ложились и укрывались второй шинелью, а также двумя плащ-палатками; под головами — неизменные противогазы. Вполне комфортно. Как ни странно, но ночи бывали холодными — особенность континентального климата.
В этом триумфальном походе мы все-таки падали наземь в строю, но не от усталости — с этим все в полном порядке, — а оттого, что засыпали на ходу. Звенели каски, стукаясь одна о другую; идущие рядом с хохотом помогали подняться заснувшему в строю, и шли дальше. Я научился подолгу идти с закрытыми глазами и не падать. Бывало, одним глазом посмотришь вокруг, но темень южной ночи такова, что хоть глаз выколи — все равно ничего не видать.
В дневное время нас спать не тянуло: мы с любопытством всматривались в новые, невиданные ранее места — знакомились с ландшафтом южной Украины. На этот раз мы не выглядели пародией на «Железный поток» Серафимовича, а и впрямь шли железным потоком.
По истечении десяти походных дней прошли город Александрию и остановились в летнем лагере военного городка в восьми километрах от нее. Началась привычная солдатская учеба. Снова стали спать под крышей и есть за столом. Эти житейские привычки мы успели утратить.
Не проведя в Александрии и четырех дней, я внезапно был вынужден выехать в Одессу: не спросив согласия, мне по быстрому оформили документы и командировали в Одесское пехотное училище имени К. Е. Ворошилова. Я говорю: «Меня по глазам не примут», а мне в ответ: «Вот твое личное дело. Тебя при призыве определили в стрелковую полковую школу. Ты скоро год, как служишь, а все — рядовой. В Одессе разберутся!»
Спорить было не о чем — выехал в Одессу. До нее 450 километров по железной дороге. Проехал Знаменку, Кировоград, Вознесенск и Березовку. В районе последней через год произойдет страшнейшее событие в моей жизни, но об этом — позже…
Вот и Одесса. В ней никогда не бывал. Очень красивый город, много зелени, цветов и лазурное море. Чем-то Одесса напомнила мне Ленинград в миниатюре.
Пехотное училище поразило главным образом своей сногсшибательной столовой. Это был совсем другой мир: официантки в белоснежных кофточках и с кружевными наколками на царственных прическах. Обслуживание — на уровне фешенебельного ресторана. А каким оказался обед! До этого я и представить не мог, что пехоту так могут кормить — мы не подводники и не летный персонал. На первое — мясной борщ с белым хлебом, на второе — мясные котлеты с макаронами и подливкой, а на третье — кисель или компот из свежих фруктов. Все это после повседневных пшенно-гороховых концентратов и ржаных сухарей казалось непривычным, ошеломляющим, присущим какой-то другой, незнакомой жизни. Поневоле захочешь поступить в училище.
К сожалению, медкомиссия не пропустила по зрению, и я был направлен обратно в полк. Стало грустно: вести огонь из пулемета в бою пригоден, а командовать пулеметами не гожусь. С нашей роты в училище приехали трое, в том числе и Травников. Он тоже не прошел, его уже отправили в полк, а мои документы задержались.
Вернувшись в Александрию, с огорчением узнал, что полка не стало: приписной состав отпустили домой, а остальных направили в Котовск — во вновь формируемый мехкорпус. Так я навсегда потерял Травникова. Через пару дней с остатками расформированного 640-го стрелкового полка я выбыл из Александрии к новому месту службы — снова в Одессу.
Одесса
1
Это — опять судьба. Я, как и Травников, как и все ленинградцы, что прибыли тогда в Чернигов, находился в списке на отправку в Котовск — в рождающийся мотомехкорпус. Но это только звучит здорово. Корпус к началу войны не успели укомплектовать техникой, а только — пехотой. В результате, встав на пути врага, он был практически разгромлен в жестоких приграничных боях, и его следы затерялись. Это произошло на левом фланге Юго-Западного фронта…
Итак — снова Одесса. Моя новая часть — 674-й стрелковый полк 150-й стрелковой дивизии. Этот полк стал третьим по счету за девять месяцев первого года моей службы.
У дивизии был большой послужной список: она прошла Польшу и Финляндию. Например, во время финской кампании полком командовал Герой Советского Союза полковник Нетреба[26]. В то время, о котором идет речь, он уже был переведен с повышением… Две военные кампании изменили людей: они прошли через смерть и ранения, научились хладнокровно убивать, теперь многие не могли разговаривать без мата. За весь 1940 год, как бы нам не было трудно, мы обходились без него. А эти люди, познавшие огонь войны, необходимость убивать других — на войне ты должен убить первым, иначе убьют тебя! — не могли обходиться без мата, хотя, считаю, что элемент распущенности и вседозволенности имел место.
Зачастую начальник штаба батальона орал на лагерной линейке:
— Командир третьей роты! Какого х… рота не выстроена?
Не знаю, чем объяснить, но было и такое: «Порядочек в полку: если в строю по команде „смирно“ шевельнешь головой или рукой — 10 суток ареста, а при команде „вольно“ — 5 суток. Уже есть много „жертв“, как тебе это нравится?..»
Дивизия прибыла в Одессу недавно, имея большой некомплект личного состава. Многие еще находились в госпиталях. Личный состав полка в эти дни обновлялся. Старослужащих, призванных из запаса на Польшу и Финляндию, наконец отпустили домой. В моей пулеметной роте их осталось совсем немного, да и то не все еще выписались из госпиталя.
До начала войны с Германией дивизия составила гарнизон Одессы. Наш полк располагался в стационарном летнем лагере на окраине города, вытянувшись вдоль Пролетарского бульвара, идущего от центра города в сторону прибрежной парково-пляжной зоны отдыха, именуемой Аркадия. От нас до моря было всего 1,5 километра, а мимо наших палаток целый день с грохотом проезжали трамваи. Палатки были настоящие: на фундаментах, с койками и электроосвещением.
Из письма Нине от 17 августа: «В этом полку свободных минут нет. Строевой подготовкой занимаемся 12 часов в день. Уехали последние старички. На их место приехали новенькие — лет на 10 моложе — 1912–1915 годов рождения. Нашел земляка, но он уже сегодня увольняется. Это командир первого взвода, лейтенант запаса, призванный осенью 1939 года с завода „Электрик“. Два раза был ранен. Он много мне рассказал о войне. Есть еще один из Ленинградской области, из Окуловки, — это лейтенант нашего взвода, но он еще не выписался из госпиталя, и пока замещаю его я».
Надо пояснить: осенью 1940 года в армию призвали лиц, окончивших высшие учебные заведения и пользовавшихся до этого отсрочкой от призыва. В этот список попали те, кто родился с 1912 по 1915 год. Среди них через короткое время я уже имел много друзей и знакомых.
В отношении меня было много неясного: мне предстояло служить два года, причем второй год — младшим командиром. За это время меня должны были подготовить на младшего лейтенанта, но звание присваивалось райвоенкоматом по месту жительства при постановке на военный учет после увольнения в запас. Вроде все просто, но для меня — не совсем: я опасался, что плохое зрение помешает присвоению звания младший лейтенант и я останусь служить на третий год сержантом. Все это было «вилами по воде писано», но в принципе так могло случиться.
Я благополучно сдавал все нормативы по курсу подготовки сержантского состава, но что-то всегда мешало присвоению звания: то подготовка к финскому фронту, то летняя кампания по освобождению Бессарабии, то переводы из одной воинской части в другую, где все начиналось сначала. В тоже время я всегда имел целый ряд дополнительных служебных обязанностей, потому что у меня было среднее образование; я прослужил почти год и неоднократно прошел курс полковой школы или учебной роты. Таким образом, подготовку я имел, а отсутствие звания сержанта — это как бы недоразумение, которое вот-вот будет исправлено. Так и тянулось из полка в полк. В новой части меня сразу ставили на соответствующую сержантскую должность, но без оформления приказом по полку. Это было даже выгодно: не надо увеличивать денежное довольствие. Я одновременно рядовой, но исполняю обязанности сержанта — это удобно: куда надо, туда и пошлют. Меня это тоже устраивало — я всегда находился на особом положении, а командиров в полку постоянно не хватало.
Так, по прибытии в Одессу меня определили первым номером пулеметного расчета, комсоргом роты, редактором стенгазеты и исполняющим обязанности помощника командира взвода. Поскольку командир взвода после госпиталя подлежал демобилизации, то возникал вопрос: что я за помощник командира, который практически в полк не вернется? Было ясно, что мне придется полностью заменять командира взвода до тех пор, пока не приедет выпускник училища. Это могло произойти и через месяц, и через два.
Кормили в полку вполне прилично, если учесть, что в летних походах мы часто отрывались от обозов и питались одними ржаными сухарями с колодезной водицей…
Я снова был в гарнизонном карауле. На этот раз на аэродроме. Пост достался весьма необычный: 60 истребителей, выстроенных в одну линию. Ночью приходилось шагать и шагать вдоль них, пока все не обойдешь. Зато днем хорошо: они все в воздухе, и охраняешь только пустую площадку да детали от разобранных самолетов.
В письме Нине от 25 августа я писал: «Как бы я хотел тебя увидеть!!!» И Бог услышал мою мольбу: через пару дней я был вызван в штаб полка, где мне предложили — в который раз! — ехать в военное училище. На этот раз на повестке дня стоял мой город — Ленинград! Разнарядка была такой: от полка требовался один человек в Ленинградское артиллерийско-техническое училище и один человек в Ленинградское ветеринарное училище. На следующий день мне следовало подать рапорт по команде. Вот задача! Если укажу артиллерийское, то меня смогут и не послать, если у других абитуриентов показатели окажутся лучше моих (характеристики — служебная и комсомольская, стрельба, тактика и пр.), да и желающих поступить в артиллерийское училище всегда более чем достаточно: артиллерия — бог войны! Если укажу ветеринарное училище, то пошлют наверняка — тут претендентов не будет, и примут обязательно, потому что зрение здесь не помеха, но роль «лошадиного доктора» меня вовсе не радовала. А в Ленинграде побывать так хочется! Как поступить?
Думал-думал и рискнул махнуть рукой на поговорку о двух зайцах. В рапорте я изложил просьбу направить меня в артиллерийское училище, а если не будет такой возможности, то — в ветеринарное. Обосновал свое решение тем, что хочу учиться в любом училище, но в своем городе. Назавтра меня известили о том, что я направлен в артиллерийское училище.
Как поется в песне: «Были сборы недолги…» — и 1 сентября 1940 года я покинул Одессу. За этот месяц я освоился в новом полку, приобрел хороших товарищей, и меня уже знали многие. Друзья попрощались со мной в полной уверенности, что в полк я не вернусь.
2
В Ленинград прибыл 3 сентября. Сразу заявился в училище — оно на Литейном проспекте напротив Большого дома и называлось: «3-е Ленинградское артиллерийско-техническое училище».
Спрашивают:
— Ленинградец?
— Да.
— Ночевать есть где?
— Конечно.
— Тогда поживи пару дней дома — у нас все переполнено…
Конечно, я не стал возражать. Но лучше бы не предлагали: загулял я с Ниной, а когда вернулся в училище, то чуть не угодил под трибунал за «самоволку» — тогда с этим строго было.
Отец ездил к начальнику училища бить челом. Я был прощен и откомандирован обратно в полк. Выехать из Ленинграда мне следовало на следующий день — 11 сентября. Билеты на руках, документы — тоже. В те годы их сворачивали в трубочку, заклеивали и вручали владельцу, а по почте не посылали.
Поезд на Одессу уходил днем с Витебского вокзала. Была суббота. Сутра мы с Ниночкой опять прощались, как и год назад, гуляя по Большому проспекту. К 12 часам я вернулся домой забрать вещевой мешок (заплечные ранцы ушли в небытие сразу после Бессарабии!), документы и ехать на вокзал. Родители еще не знали о моем отъезде. Мама спросила:
— Будешь сейчас обедать или папу подождешь? — Отец иногда приходил на обед домой.
Мне уже обедать некогда было, а борщ выглядел так заманчиво! С минуту я колебался:
— Наливай, мама. — Это означало, что сегодня я никуда не поеду. Мне трудно объяснить свой поступок, но это случилось.
Пообедав, я остался дома — теперь спешить было некуда. Я решил вскрыть сверток с документам и и впервые увидел свои прекрасные характеристики из полка — служебную и комсомольскую, — а также и новый документ, извещавший штаб о том, что я не принят в училище «по причине недисциплинированности». Дело «пахло керосином», но я мгновенно принял новое решение. Письмо на имя командира полка порвал. Документы снова свернул и заклеил. С ними в понедельник пойду по всем училищам города: авось, где-нибудь пригожусь!
Первый визит я нанес в 1-е Ленинградское артиллерийское командное училище на Васильевском острове. Здесь прием закончился, и свободных вакансий не было. Поехал во 2-е Ленинградское артиллерийское командное училище. Оно — на улице Воинова. Встретили хорошо. Майор, начальник строевой части училища, познакомил меня с двумя солдатами, пришедшими за несколько минут до меня. Они — артиллеристы из Ленинградского военного округа, не то что я — пехота из далекой Одессы.
Майор был озадачен:
— Что мне с вами делать? Прием в училище давно закончен.
Все же он решил ознакомиться и с моими документами, разорвал сверток — теперь я в любом случае спасен! — и обомлел: настолько сказочные характеристики выданы мне полком. Как оказалось, у моих новых приятелей документы были не хуже: каждый полк стремился выполнить разнарядку по училищам.
Майор забеспокоился:
— Не хочу вас отпускать. Пойду к начальнику училища. Попрошу зачислить дополнительно.
Мы ждали долго. Наконец, майор появился:
— Начальник училища не разрешил. Вам предлагается на выбор ряд артиллерийских училищ, где прием еще не закончен: Пензенское и Тамбовское — противотанковые, Севастопольское и Бакинское — зенитные. Выбирайте!
Мы поняли друг друга с первого взгляда: нас привлекло Бакинское зенитное училище (оно подальше других!), и майор начал готовить наши документы к переоформлению, но у артиллеристов все было в порядке, а у меня…
— У вас уже взят билет на обратную дорогу? — удивлен но спросил майор.
— Так точно, — отвечаю. — Разрешите съездить на вокзал, сдать билет и вернуть воинское требование. Мой поезд ушел еще позавчера!
— А получится?
— Надо попытаться!
Оставив вещи и документы в училище, я помчался на Витебский вокзал. Там меня огорошили:
— Ваши проездные документы сданы в отдел доходов Кировской железной дороги, Фонтанка, 117. Туда и обращайтесь.
Среди огромного количества комнат многоэтажного здания не сразу нашел ту единственную, которая была нужна. После продолжительных объяснений и с разрешения начальника дороги воинское требование мне вернули.
Я поспешил в училище, где меня с нетерпением ожидали все трое. Артиллеристы сидели и читали журналы, а майор волновался, так как был уверен, что требование на билет мне не возвратят.
Появившись, не скрывая радости, я бодро отрапортовал:
— Товарищ майор! Все в порядке — вот требование на билет.
Довольный таким окончанием дела, майор тут же оформил нам троим единые документы на Баку, после чего мы поблагодарили его и тепло попрощались. Я был признателен майору за то, что он невольно меня выручил. Выйдя на улицу, попросил артиллеристов встретить меня вечером у вагона московского поезда, а сам — в который раз! — поспешил прощаться с Ниной. Родителям я ничего не объяснял, отделываясь шуточками, однако под занавес бросил загадочную фразу: «Есть на свете страна, и зовется она — Закавказье!» После в письмах все им объясню, а на словах — не нашел времени. Поздно вечером, взмыленный, я прилетел на вокзал к отходу поезда. Ребята, ожидая меня, не находили себе места:
«Не опоздаю ли я?»
В ночь с 12 на 13 сентября 1940 года мы выехали из Ленинграда в Москву, где предстояла пересадка на поезд Москва-Тбилиси, проходящий через Баку.
Дальнее путешествие до Баку прошло без приключений. На такое расстояние — около 3000 километров — ездить мне не приходилось. Позади — Москва, Воронеж, Ростов. На Северном Кавказе тоже не бывал и с интересом смотрел на экзотические названия станций, мелькавших за окном вагона, — Армавир, Невинномысская, Гудермес, Махач-Кала и Дербент.
16 сентября прибыли в Баку. Училище вкратце звучало довольно оригинально — БУЗА. Это — Бакинское училище зенитной артиллерии.
В первый же день мы выдержали вступительные экзамены, прошли мандатную комиссию, и вот мы — курсанты. На второй день приступили к занятиям — началась обычная учеба.
В составе учебной батареи, куда был зачислен, ежедневно с песнями шагал по улицам и проспектам солнечного Баку, занимаясь строевой подготовкой. По выходным лакомился чуреками и виноградом, гуляя по городу уже один, без строя. С режимом училища я освоился с ходу: служба есть служба, где бы она ни проходила.
Я уже писал Нине и домой письма, с удовлетворением сообщая, что жизнь и служба в Баку вошли в нормальное русло, как внезапно нам устроили медкомиссию. Она немедленно забраковала меня. Какой же я зенитчик, если недостает остроты зрения? Я был расстроен, так как вполне прижился в училище. Снова мне оформили проездные документы, и я, успевший привыкнуть к Баку, 27 сентября выехал обратно в Одессу, в полк. Месячный «отпуск» был окончен. Впереди лежал путь в 2300 километров.
На одной из станций согрешил. Вышел из вагона посмотреть торговые ряды, которые выстраивались к приходу каждого поезда. И чего только там не было: всевозможные фрукты, жареные курочки, отварной картофель, исходящий паром, соленые огурчики и пунцовые помидоры. Я заинтересовался арбузами: взял в руки один из них и устанавливал его спелость. Вдруг — сигнал на отправку. Я пошарил по карманам, а там одна мелочь — ее слишком долго считать. В Баку я издержался и возвращался в Одессу практически без денег. Что делать? Я бросился с арбузом в руках догонять тронувшийся поезд, а продавец закричал, как будто его режут:
— Солдат, солдат! А как же деньги? — «Ладно, — думаю, — пусть пожертвует свой арбуз на благо защитнику отечества, не обеднеет»…
И вот за окном появились ставшие родными украинские поля, холмы и перелески. Скоро Одесса. Вагоны — полупустые, пассажиров совсем мало. На одной из станций напротив меня устроился старший лейтенант. Форма — с «иголочки», портупея новенькая, все ремни тщательно пригнаны, поскрипывают, лучи солнца играют на хромовых сапогах: те блестят, как начищенный самовар. Сам лейтенант выбрит чисто, до синевы, наверное, штабник. Чем-то он мне не понравился: слишком красивый, холеный был, что ли? Во всяком случае, обычного разговора попутчиков по купе у нас не получилось:
— Откуда родом, солдат?
— Из Ленинграда.
— А где служишь?
— Товарищ старший лейтенант! Разрешите на вопросы о службе не отвечать! — сказал как отрезал. Пусть видит, что и солдаты службу знают: командирскую форму каждый может одеть, а шпионов в стране навалом. Мой попутчик явно не ожидал такого ответа, но тем не менее я заметил искорки удовлетворения, промелькнувшие в его глазах. Странно, что это за человек? Разве мог я тогда предположить, что именно с ним будет связана моя дальнейшая судьба? До самой Одессы мы таки не разговаривали: каждый из нас с безразличным видом смотрел в окно и скучал.
Приехали. Вышли в город и разошлись каждый по своим делам, на прощание откозыряв друг другу: я довольно холодно и равнодушно, но четко, как заправский строевик, а он — довольно доброжелательно и чуть ли не с легкой усмешкой, но небрежно, как и положено штабникам.
3
В полку меня встретили радостно. Никто и не ждал — всего-то месяц прошел! И снова и моя жизнь потекла своим чередом в пулеметной роте.
Наступил октябрь. Пошли дожди. Наши красивые с виду палатки оказались вполне протекаемыми, и мы буквально плавали в них по ночам. Температура нулевая и ураганные ветры. Мы и прошлой зимой так не мерзли, а теперь едва не обмораживали руки и ноги. Занятия проходили в окопах и траншеях, залитых водой. Задень все обмундирование намокало. Ложась спать, мы, не раздеваясь, завертывались в одеяла с головой. Кроме того, днем находили разные тряпки и пришивали их к гимнастеркам с внутренней стороны — на грудь и на спину. Это немного согревало. Мы неделями не раздевались, не разувались и не снимали шинелей. Почти как на фронте. А в Баку было так тепло…
В конце октября меня перевели младшим командиром во вновь созданную специальную учебную роту, в которой готовили командиров-пулеметчиков. Ее состав — специалисты с высшим образованием, имевшие ранее отсрочку от призыва и родившиеся в основном в 1913–1914 годах.
В этой учебной роте я пробыл менее месяца, а затем — переведен в другое подразделение. Тем не менее в учебной роте у меня осталось много друзей и хороших товарищей, с которыми впоследствии не раз сталкивался как в рядовых, так и в чрезвычайных ситуациях. Многих из них я запомнил надолго. Среди них — Семивеличенко, серьезный, плотный мужчина. Вскоре он пожелал перевестись на ускоренные курсы младших лейтенантов. Смирнов и Могилевский — оба высокие, быстрые, решительные. Они будут активно работать в полковой разведке на фронте в 1941 году. Михаил Абрамович Кур — учитель географии из Симферополя. Борис Ткачук и Иван Юхимович Кучеренко — учителя математики…
Спрашивается: неужели учителям не было другого применения, как делать из них командиров отделений пулеметных взводов? Учителей математики в любом случае следовало использовать в артиллерии — это и я тогда понимал. Мы видели, что Сталин торопился с увеличением числа корпусов, полков, дивизий и военных училищ. Во многом — неразбериха, например, меня, пехотинца из Одессы, послали в Ленинградское артиллерийское училище. Это же ненормально! Недосуг было возиться с каждым из нас в отдельности, да еще считаться с нашими желаниями — для системы мы представляли собой просто человеческий материал, причем не только солдаты, но и командиры всех рангов. Мы понимали и соглашались с этим, поскольку все, что работало на будущую Победу, устраивало нас, и тот настрой, которым были охвачены еще в Чернигове, оставался с нами…
На этот раз меня перевели в необычное, только что сформированное подразделение типа полковой школы. Оно также должно было выпускать новоиспеченных младших командиров, но контингент здесь оказался особым.
Осенью 1940 года в освобожденных год назад областях Западной Украины и Западной Белоруссии состоялся первый призыв местной молодежи в ряды РККА. В наш полк прибыла партия молодежи из города Львова. Из них сформировали подобие полковой школы. Их и одели получше, чем одевали своих; и поселили в добротной казарме; и все делали для того, чтобы они быстрее адаптировались к непривычным для них условиям нашей армии.
Когда решался вопрос о младших командирах для этой особой полковой школы, то командование полка по указанию дивизии направило в школу по индивидуальному отбору тех старослужащих — а я уже относился к этой категории, — кто имел за плечами десятилетку, кто сам прошел полковую школу и по оценке командования мог успешно справиться с поставленной задачей. Так я стал помощником командира пулеметного взвода, причем командиров взводов, да еще пулеметных, в полку по-прежнему не хватало, и я, как и ранее, фактически занимал эту должность. Намного позднее мне стало известно, что это была вполне целенаправленная политика: намного дешевле обходилась армия, когда подготовленные рядовые замещали командиров взводов. Сержантских треугольничков я пока так и не имел, но в полковых документах числился годным для такой работы, исходя из опыта предыдущей службы. Звание вот-вот обещали присвоить, а я не форсировал этот вопрос по соображениям, изложенным выше.
В результате пришлось мне привыкать к особенностям этого необычного контингента, к их языку, нравам и обычаям. Русский язык они категорически отвергали. Я старался быть снисходительным ко всему, чем они отличались от наших парней. Но одно просматривалось четко: служить в нашей армии они не хотели, хотя это нежелание обретало мягкие формы протеста, агрессивных действий или высказываний с их стороны я не припоминаю. Они упорно называли меня «пане командир» вместо «товарищ командир». Работать с ними было интересно, но нелегко. Многие из них окончили гимназию. Малограмотные среди них не встречались.
Когда полк приступил к усиленной строевой подготовке в преддверии ноябрьского военного парада, который в Одессе издавна проходил на так называемом Куликовом поле, наша школа тоже включилась в эту подготовку. В центре Одессы нам выделили широкие асфальтированные улицы, где мы и маршировали сутра до вечера.
Случались и казусы. Нам приходилось по многу раз проходить со штыками наперевес мимо среднего медучилища. Как-то в середине дня из его парадных дверей высыпала стайка веселых девчат, у которых только что закончились занятия. Что тут произошло с нашим строем? Все одновременно обернулись в сторону этих прелестных созданий, штыки застучали по каскам впереди идущих, и такой пошел перезвон по колонне, каких у нас еще не бывало. Хохотали девчата, смеялись солдаты, улыбались командиры. Порядок в шеренгах навели быстро, но этот забавный эпизод запал в память.
К ноябрьским праздникам мы получили новое зимнее обмундирование и приоделись. Впервые зимним головным убором стала шапка-ушанка.
7 ноября в парадном строю мы продемонстрировали мощь 150-й стрелковой дивизии. После парада, как всегда, спали, а вечером смотрели кино. Праздники у нас проходили, как правило, весьма скромно.
10 ноября ночью произошло землетрясение. Для Одессы — это редкий случай. Был всего один толчок — как сообщало радио — силой 7 баллов по шкале Рихтера. Говорили, в городе обвалилось несколько домов. Больше других пострадала Ришельевская улица. Горожане в нижнем белье выскакивали на улицу.
Мы вели себя не лучше. Казарма оказалась прочной: она только раскачивалась, да стены немного треснули, и с них посыпалась штукатурка. Из оружейной пирамиды винтовки с примкнутыми штыками посыпались на пол. При падении они поранили нескольких человек. Мы спали в большой зале — все 400 человек — и интуитивно поняли, что надо, не мешкая, выскакивать на улицу. Одни бросились к лестнице, ведущей во двор, а кто-то полез на подоконник, чтобы прыгнуть со второго этажа вниз. В конечном счете все оказались во дворе военного городка, где уже было полно однополчан.
Пострадавших ни у нас, ни в городе, послухам, не было. Все длилось не более 3–5 минут, но запомнилось. Многие бывали либо на лодке, либо на судне и знали, что палуба всегда ходит под ногами. Так и должно быть, поскольку происходит на воде. А в отношении земли-матушки, почвы, на которой выросли и живем, с детства усвоили истину: земля незыблема! В момент землетрясения именно она заходила под ногами, и это показалось страшным. Это стихия природы, и никто не застрахован ни от каких случайностей, а изменить что-либо, противостоять этому нам не дано. Сознание полной беспомощности вызывало неподдельный страх. Долго еще мы вспоминали те неприятные минуты…
Снова потеплело, даже стало жарко. Мы опять стали ходить в пилотках и без шинелей, а ведь совсем недавно замерзали. Даже листва сохранилась зеленой и не пострадала от ранних холодов. В полях еще можно было встретить цветы, а в огородах — помидоры. Последние мы с охотой поедали во время тактических занятий.
В письме Ниночке от 15 ноября есть такие слова: «Но это только сейчас тепло, а скоро будет жарко (примерно когда Молотов покинет Берлин). Тогда будет настоящее „лето“…» Так мы, солдаты и младшие командиры срочной службы, по-своему откликались на события текущего дня.
Через две недели должен был исполниться годе начала моей службы в армии. Как-то незаметно пролетело время. Куда меня только не кидало: и на север, и на восток, и на запад. Впечатлений было хоть отбавляй, но однообразной, монотонной, тягостной или скучной военная служба для меня не была. Служил нормально, как и все вокруг меня: ждал обеда, ждал отбоя, ждал писем, ждал увольнения в запас, выполнял все, что требовали уставы.
И вот, пожалуйста, очередной «сюрприз». Неожиданно в школе появился посыльный из штаба полка и потребовал идти с ним в штаб. Там у меня знакомых не было. Странно: кому я мог понадобиться?
Пришли в штаб, поднялись на второй этаж и направились в конец коридора, где находился локальный пропускной пункт: стоял часовой с винтовкой, аза ним — две двери в решетках. Посыльный вызвал кого-то из первой двери, доложил ему и ушел. Меня пригласили войти в первую дверь. Я вошел и от удивления обалдел: стоит старший лейтенант, с которым я так недружелюбно обошелся в купе поезда Баку-Одесса, и у него только глаза улыбаются, а сам все такой же чистенький исправный Моя судьба шла за мной по пятам:
— Ну, здравствуй…
— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!
— Садись, — он указал на стул возле небольшого круглого столика, стоявшего возле двери, и продолжал: — Хочешь работать у меня?
Я обратил внимание на слово «работать», поскольку считал, что в армии служат, а не работают. Он уловил мое замешательство и пояснил:
— Рассказывать тебе о работе я не имею права: сперва надо оформить допуск к совершенно секретной работе. На это уйдет около месяца. Работа интересная, скучать не придется. Долго не думай, о работе ничего не узнаешь. Если согласен, то вот анкета. Можешь заполнять. — И он придвинул ко мне листок бумаги. Что оставалось делать?
Серьезных командиров я обожаю. Я и спал-то все время в разных местах: то в пулеметной роте, то в учебной роте, то со львовскими курсантами. Оставался последний год службы, и показалось заманчивым обрести постоянное место. Высокая секретность, которую не переставал подчеркивать старший лейтенант, конечно, подогревала интерес к будущей работе, в которой сточки зрения взбалмошного юноши, мечтавшего о дальних морских походах, явно просматривалось романтическое начало. Да еще впервые спрашивают мое согласие — я к этому не был приучен: меня просто назначали, куда находили нужным.
Я согласился и заполнил анкету, включавшую в себя, как обычно, бабушек и дедушек, «не судился, за границей не был, в других партиях не состоял» и т. п.
— Когда придет время, я тебя вызову. А пока иди — учи своих курсантов! — И старший лейтенант улыбнулся, прощаясь со мной.
Вернувшись в школу, пару дней думал о предстоящих изменениях на службе, но месяц на пролет думать не будешь: я успокоился и занялся с курсантами обычным делом — стрельбой, тактикой, оружием…
Из письма Нине от 1 декабря: «…международная обстановка такова, что вряд ли кто из нас попадет домой ранее 3–4-х лет. Но я еще борюсь за два года…» Кстати, присвоение звания в который раз отодвигалось — его теперь должны были присваивать по новой военно-учетной специальности…
В полку новшество: по выходным дням мы теперь могли идти в любой городской театр. Видано ли такое? Билеты свободно продавались в клубе за наличный расчет, и я успел побывать в оперетте, в Русском драматическом, а также слушал «Кармен» на украинском языке в оперном театре. Так служить можно!
К середине декабря ударили морозы, но на этот раз до минус 20 °C, без снега. Ураганы пронизывали нас до «мозга костей» и житья не давали. Занимались тактикой на морском берегу, а там ветер особенно неистовствовал. Опять начали мерзнуть. А побережье моря для учебных занятий взвода я выбрал неслучайно: как-никак море рядом, и вроде ты не в пехоте служишь…
4
Предложение старшего лейтенанта давно ушло из памяти, я уже мало в него верил. Работа с курсантами, а их у меня было 60–70 человек, не оставляла ни минуты свободного времени. И все же мой час настал. За неделю до нового, 1941 года меня вызвали в штаб полка. Теперь я знал дорогу — провожатых не требовалось. Пришел. Поднялся. Постучал. Вошел. Часовой заранее был предупрежден.
— Здравия желаю.
— Здравствуй, садись.
Я устроился за тем же круглым столиком.
— Допуск на тебя оформлен. Можешь приступать к работе.
Вот и все. Старший лейтенант тут же ввел меня в курс дела.
Прошло более пятидесяти лет, и все секреты можно раскрыть. Но главный «секрет» оказался в другом: случайная встреча со старшим лейтенантом в поезде определила мою дальнейшую военную судьбу и подарила мне жизнь вместо смерти.
Старший лейтенант Данилов Павел Александрович занимал должность помощника начальника штаба полка по разведке и мобработе, а коротко — ПНШ-3. Он родился в 1904 году, коренной ленинградец, петербуржец. Жена с двумя сыновьями жила в Ленинграде. Через много лет — после войны — я узнал, что он с молодых лет служил в органах ВЧК, работал в Большом доме на Литейном, 4. В 1937 году в числе многих чекистов был репрессирован, а затем выпущен на свободу, реабилитирован и призван в армию для участия в финской кампании. Так он оказался в 674-м стрелковом полку.
Он был очень уравновешенным, серьезным, молчаливым, весьма порядочным человеком, хорошим командиром. Как ни пытаюсь, не могу приписать ему ни каких отрицательных черт. Подражая Владимиру Маяковскому, на вопрос: «Жизнь сделать с кого?» — я бы ответил: «Делай ее с товарища Данилова!» Но в душе он так и не смог простить арест, хотя верно служил партии всю жизнь. Обиду он молча пронес до самой смерти.
Данилов прекрасно знал свое дело. Он никогда не повышал голоса, был непреклонен в отстаивании своих позиций, если чувствовал правоту, исключительно добросовестно относился к своим служебным обязанностям. Командование ценило его, считалось с ними всемерно поддерживало его усилия по повышению боеспособности полка. Ко всему Данилов — неразговорчивый, замкнутый и достаточно строгий командир. Пусть покажется странным, но я предпочитал строгих и умных командиров и легкое ними срабатывался. Вот таким и был Данилов…
В мирное время разведкой сопредельной стороны — в нашем случае это была Румыния — ни полк, ни дивизия не занимались. Всю необходимую работу проводило Главное разведывательное управление НКО, привлекая военные округа только в исключительных случаях. Дивизии и полки получали для ознакомления и хранения готовую, обработанную Генштабом информацию разведывательного характера. К примеру, мы получали специальные альбомы на редкой по качеству бумаге с цветными фотографиями и схемами расположения укреплений приграничной полосы нашего потенциального противника. Подробно освещалась конструкция дотов, дзотов, эскарпов, минных полей и всего того, с чем должен был столкнуться агрессор в процессе наступления. С востока это могли быть только мы — РККА во главе с Тимошенко и Сталиным. Мы хранили эту развединформацию на специальных стеллажах и в сейфах, время от времени приглашая к себе только командира полка для ознакомления с поступившими материалами. В полку допуск к совершенно секретным материалам имели только три человека: командир полка, Данилов и я.
Особенности нашей работы состояли в следующем:
1. У нас был гриф секретности — «Совершенно секретно» или «00» (как говорилось, «два нуля»).
2. В нашу рабочую комнату имел право войти только один человек — командир полка. Его мы приглашали раз в неделю для ознакомления с поступившей почтой, касавшейся его, и для подписания исходящих документов принципиального характера, подготовленных нами к отправке в штаб Одесского военного округа, в Горвоенкомат и в другие организации, с которыми полк был связан напрямую.
3. Существовал строгий порядок оформления каждого документа, подлежавшего отправке кому-либо из перечисленных выше адресатов:
— обязательно указывалась фамилия исполнителя, т. е. моя;
— указывалось, в каком количестве экземпляров и кем отпечатан документ (печатал на машинке только я — пришлось освоить и эту премудрость);
— сообщалось об уничтожении копировальной бумаги, использованной при печатании, а также — кто ее уничтожил и как;
— готовый к отправке документ по-особому сшивался вместе с конвертом, ниточные швы обрабатывались сургучной печатью и многое другое.
До меня у Данилова работал старший сержант, который только что уволился в запас, и я его не застал. Когда потребовалась замена, Данилов вспомнил нашу «встречу» в поезде, посчитав, что я должен соответствовать его стандартам, поскольку научен держать язык за зубами, что недавно с успехом емуи продемонстрировал, да к тому же еще и земляк — ленинградец.
Излишне говорить о том, что я не имел права даже намекнуть о характере своей работы никому из друзей-товарищей по полку, а у меня их было немало. Исключалась малейшая возможность утечки информации. Любителей трепать языком на такую работу не брали, и те, кто этой работой дорожили, указанные правила соблюдали со всей строгостью.
Первое время друзья здорово обижались на меня, так как они обычно делились друг с другом обо всем, чем им приходилось заниматься, а я не мог. Долго дулись они на меня, предполагая, что я воображаю из себя кого-то или набиваю себе цену. Потом, видно, поняли, что все это серьезно, и они успокоились, приняв мое молчание как должное. Наши дружеские отношения были восстановлены.
Между Даниловым и мной сложились тоже весьма специфические для такой работы отношения. База для таких отношений была непростой. Данилов — старый заслуженный чекист, опытный, умудренный работой и жизнью, да и лиха успел познать, будучи арестован как «враг народа».
И вот появляется новый работник — я. Что обо мне, помимо анкеты, знает Данилов? По-настоящему — ничего. Допустим, что я не болтун, и в смысле утечки информации его не подведу, но этого мало! Я могу оказаться невнимательным, халатным человеком, неисполнительным, забывчивым, небрежным, неаккуратным — да мало ли таких моментов в работе, когда я, совершенно того не желая, могу его крепко подвести. Практически это могло иметь место на каждом шагу.
А может, я к тому германский либо японский шпион? Мало ли что могло взбрести в голову опытному чекисту-разведчику. Все это я понимал, сознавал, чувствовал и старался работать так, чтобы ни одна «кошка» не прошмыгнула между нами.
К моему великому удивлению, Данилов с первого дня стал доверять мне полностью во всем. Он ни одним жестом или взглядом не выдавал мне своих возможных сомнений. Недоверия ко мне с его стороны я тоже никогда не замечал, не чувствовал и не подозревал, а по натуре я, будучи рыба ком и охотником, человек довольно внимательный. Через короткое время я понял, что наша работа могла успешно вестись только при условии абсолютного доверия друг к другу.
Данилов подолгу отсутствовал, находясь то в штабе округа, то в Горвоенкомате, то в дивизии. Целыми днями я пребывал в нашей крохотной комнатушке около 12 квадратных метров один. У меня был совершенно определенный и самостоятельный круг работы по мобилизационному плану полка. Повседневное руководство Данилова не требовалось: я имел жесткий план-график по разработке мобплана на 1941 год.
Я сам готовил все необходимые документы, подписывал их у командира полка и отправлял адресатам через спецсвязь, а иногда отвозил сам. Бывало, что, нарушая правила, заскакивал в кабинет командира полка для подписания очередного срочного документа, если у майора в этот момент никого не было. Мне не хотелось беспокоить его из-за одного письма: одно дело, когда ПНШ-3 Данилов просит его зайти к нам, и другое — если я.
Надо подчеркнуть, что в своей работе мы с Даниловым подчинялись не командиру полка, а непосредственно разведотделу дивизии, а тот, в свою очередь, замыкался на разведуправлении штаба Одесского военного округа и т. д. Особый отдел полка (военная контрразведка) шел не по нашему ведомству и тоже был самостоятельной структурой. Мы с ним общих дел не имели.
Даже мне было видно, что майор в душе не одобрял такого положения, что ПНШ-3 и начальник контрразведки (особенно — второй!), находясь в штате полка, ему не подчиняются. Его это по-человечески ущемляло. Он понимал целесообразность этого, но принять не мог, хотя и старался не показывать, держась с нами всегда ровно и корректно…
Рабочий день у меня длился с 8 утра до 12 часов ночи. Когда Данилов уходил домой — комсостав полка жил на квартирах в центре города, — я еще оставался, чтобы напечатать на машинке письмецо Нине: днем я такой возможности не имел, но время с 12 до 2 ночи принадлежало мне. Закончив личную переписку, я опечатывал комнату мастичной печатью и сдавал под расписку стоявшему у двери часовому.
Утром дневальные по штабу полка затапливали мне печку, которая, естественно, обслуживалась со стороны коридора. После завтрака я приходил, осматривал печать, вскрывал комнату и приступал к работе, которой было невпроворот, но она, а также условия работы и отношения с начальником мне нравились.
Любопытная деталь: в этом глухом конце коридора за нашей комнатой находилась еще одна — так называемая «секретная комната».
В ней сидел и работал человек, ведавший секретной документацией полка. Гриф секретности — «О». Здесь хранилось знамя полка, данные о личном составе, о количественном составе каждого подразделения и тому подобное. Заведовал всем этим хозяйством техник-интендант Исаев, с которым меня связывали самые тесные, приятельские отношения. Мы с ним быстро нашли общий язык. Данилов не курил, а мне в одиночку это делать было не интересно. Когда Исаеву хотелось покурить, он легонько стучал мне в стену установленное количество раз. Если я мог оставить работу, то отвечал ему тем же, после чего закрывал свою комнату на ключ и шел к Исаеву курить. Бедный Исаев ко мне прийти не мог: «два нуля» были старше «одного нуля», да и подчинялись мы с ним разным ведомствам. Такова была субординация в секретном и совсекретном делопроизводстве в то время…
Пришло время рассказать о характере моей основной работы. Официально это звучало так: разработка и постоянная корректировка мобилизационных планов полка на текущий и последующие годы.
Мобплан полка, как и любой воинской части, предусматривал отработку тысячи всевозможных вопросов, привязанных к так называемым дням «икс». Первый день войны носил индекс M1, второй — М2 и т. д. В эти дни объявлялась всеобщая или частичная, как во время польской и финской кампаний, мобилизация; войсковые соединения переходили на штаты военного времени, получали необходимое количество инвентаря, вооружения, боеприпасов, медикаментов, продовольствия, без чего не может существовать действующая армия. Каждый из дней «икс» — M1, М2, М3 и т. д. — предусматривал постепенное пополнение конкретными людьми, военнообязанными запаса, а также получение службами полка всего перечисленного выше.
В дни «икс» предусматривались и перестановка командных кадров, и формирование новых соединений. Так, в первый день будущей войны наш 674-й стрелковый полк должен был сформировать новый, «дочерний» 105-й запасный стрелковый полк. Командиром этого полка вдень Ml по плану становился майор Галузо, который пока являлся командиром первого батальона 674-го стрелкового полка и ни о чем подобном не подозревал. Если война не случится, он об этом никогда и не узнает. Так получалось, что ежедневно, встречаясь с Галузо на плацу и приветствуя его, я знал, кем он станет в первый день войны, а он не знал. Такова специфика мобработы под «двумя нулями».
Старший лейтенант Данилов в день Ml должен был стать начальником штаба 105-го запасного стрелкового полка и т. д. Комплектование полка личным составом из запаса в дни «икс» предусматривалось мобпланом до мельчайших деталей: из какого райвоенкомата Одессы — Кировского, Ленинского, Овидиопольского, Ильичевского и других — придет к нам пополнение. Этим процессом управляли мы с Даниловым, а точнее — теперь я.
Согласно разнарядке горвоенкомата, каждый райвоенкомат должен был направить к нам в день «икс» конкретное количество рядовых, сержантов, лейтенантов и т. д. Обычно я приезжал в тот или иной райвоенкомат — меня уже везде знали — и мне предоставлялось укромное место, чтобы никто не мешал работать. Передо мной раскладывались списки и журналы приписного состава. На основе этих исчерпывающих данных я проставлял «галочки» против тех фамилий, воинских званий, военно-учетных специальностей, которые отобрал для полка. Поскольку наш полк являлся основным в гарнизоне Одессы, то имел преимущество перед теми полками дивизии, что располагались вне города, и я, его полномочный представитель, мог отбирать нужных мне людей.
Пополнение полка рядовым и сержантским составом я производил главным образом из числа лиц, проходивших срочную службу в пограничных войсках, в частях НКВД, уже воевавших, а также из коммунистов и комсомольцев. Мы, молодые, в те годы были так воспитаны и подготовлены ко всему, что учить нас тому, по какому принципу отбирать нужных людей, не требовалось: мы «сами были с усами». Аналогичным образом отбирался и командный состав, медперсонал и другие военные профессии. Наверняка в лежавших передо мной списках молодых выпускниц медтехникумов Одессы были и те веселые девчата, которых мы недавно так дружно приветствовали перезвоном штыков во время подготовки к ноябрьскому параду 1940 года.
Райвоенкоматам я оставлял данные о том, в какой день, куда и сколько мобилизованных должны явиться. Принимать их должны были представители нашего полка, среди которых числился и я.
Заодно решались все важные для полка вопросы: поставка в день «икс» энного количества тонн муки с мельничного комбината; резервировались в трамвайных парках города грузовые вагоны для доставки муки в полк; поставка повозок, сбруи, конского состава, медикаментов и многого-многого другого.
Уточнение необходимого количества приписного состава я производил в соответствии со штатным расписанием полка военного времени, а что касалось снабжения, то все делалось иначе.
Через дежурного по штабу я рассылал письменные приглашения начальникам всех служб полка, назначая каждому из них свой день и час, в который ему следовало прибыть в моботдел, то есть ко мне.
Скажем, приходил ко мне начальник артиллерии полка. Я сажал его за тот самый круглый столик, давал ему специальные листы-формы мобплана по его части, отпечатанные в типографии, объяснял задачу и показывал, где он должен проставить цифры. Например, вдень M1 ему потребуется столько снарядов одного калибра, а столько — другого; то же в день М2 и т. д. Неудобно было на первых порах, но затем я быстро вошел в роль. Часто бывало, что у капитана волосы дыбом: «Откуда я знаю?» Дело объяснялось просто: человек только недавно на своей должности и с мобпланом сталкивается впервые. Тогда я терпеливо разъяснял капитану, что здесь требуется не столько знать, сколько мозгами шевелить. В общем, смех да и только: норм расхода мы не имели и должны были импровизировать. На один залп всех стволов полка снарядов потребуется столько, а количество залпов в сутки — такое-то и т. д. В таких случаях каждый старался заказать побольше. На первый взгляд все выглядело не очень серьезно, но в результате совместных усилий что-то обычно получалось. Другого способа мы не знали. Через два-три часа работы каждый приглашенный подписывал совместно сработанный документ, благодарил меня за помощь и, радуясь, что отделался от тяжелейшего умственного труда, исчезал за дверью. Когда мы принимали кого-либо у себя, то в комнате ни одной бумаги на столах — Данилова и моем — не лежало. Порядок есть порядок.
Приходили начальник ОВС (обозно-вещевого снабжения) — техник-интендант 2-го ранга, начальник химической службы Белов, начальник медико-санитарной службы военврач 3-го ранга Гальперин и другие. Они не могли игнорировать наши требования, так как имели строгое предупреждение от командира полка о личной ответственности за свой раздел мобплана. Все проявляли сознательность, понимая важность задачи, для решения которой каждый находил свои пути-дороги. Часто с надеждой смотрели на меня. Можно подумать, что я во всех этих цифрах «собаку съел», а ведь я в то время был работником моботдела, что называется, «без году неделя».
Сам Данилов никогда этой галиматьей не занимался, предоставив мне расхлебывать и уточнять все мобилизационные потребности полка. Он словно чувствовал, что эта работа не пригодится, за исключением пополнения полка личным составом.
Я же с удовольствием втянулся в работу; у меня все сразу стало получаться; Данилову не приходилось ни поучать меня, ни поправлять, ни делать замечания: я тоже с первого дня оказался на своем месте. За спиной я имел 10 классов средней школы, три месяца института и один год военной службы. Этого оказалось достаточно — Данилов никогда не вмешивался в мою работу, и я сам отвечал за нее.
Я сразу получил жетон для беспрепятственного входа и выхода из военного городка в любое время суток, хотя на КПП — контрольно-пропускном пункте — меня и так знали.
Приближалось мое 19-летие. Я постарел еще на год и становился почти взрослым. Год службы пролетел незаметно. В письме от 5 января 1941 года я писал Нине: «Если будет мирная обстановка, то я вернусь в сентябре этого года. Вот и катится к концу армейская служба, а разве долго?
А уходить мне от нее не хочется…» Это уже что-то новое. У Данилова я к тому моменту работал две недели, но и за это короткое время мне многое удалось сделать по верстке мобплана 1941 года, и это вскоре оценили!
5
Вечером 9 января зашел к нам командир полка, держит в руках какую-то бумагу, по-особенному смотрит на меня и молчит. Мы с Даниловым встали со своих мест и ждали, что последует. Майор сам никогда к нам не приходил, а только по приглашению. Наконец он молча протянул мне телеграмму о смерти отца с вызовом на похороны в Ленинград. Отец скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг в ночь с 8 на 9 января 1941 года. Известие о его смерти ошеломило меня: ему не было и 55 лет. Похороны были назначены на 12 января.
Газета «Ленинградская правда» от 11 января сообщала: «Дирекция, партком, местком, профком и комитет ВЛКСМ Ленинградского электротехнического института имени В. И. Ульянова (Ленина) совместное дирекцией и общественными организациями Ленинградского энерготехникума с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной смерти одного из старейших преподавателей института и заместителя директора энерготехникума доцента КОНСТАНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА ЛЕВИНСКОГО…»
Командир полка, выразив соболезнование, предложил мне выбрать одно из двух: либо ехать сразу не более чем на два дня, либо, закончив мобплан, уехать в краткосрочный отпуск на десять дней. На похороны я так и так не успевал — самолеты тогда не летали, поэтому я выбрал второе. Успешно закончив мобплан, я получил 14 дней с дорогой и 25 января выехал в Ленинград.
Данилов попросил зайти к его жене за продуктовой посылкой. Она жила на улице Воинова. А потом — в 1-ю Образцовую типографию на Садовой улице, где он когда-то работал начальником секретного сектора, и передать его записку с просьбой помочь штабу полка писчей бумагой.
У него там остались дружеские связи, и меня нагрузили бумагой выше головы. Обе просьбы я выполнил. Когда заходил к Клавдии Дмитриевне Даниловой, Ниночка осталась ждать меня в парадном. После войны, когда я поведал Клавдии Дмитриевне об этом эпизоде, она выразила сожаление, что мы не зашли к ней вдвоем.
Когда я ехал в Ленинград, то было очень тяжело при мысли о смерти отца, и в поезде родились следующие строчки:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Как больно вспомнить вечер тот январский: Глаза друзей так странно вдруг горят, И желтый лоскут страшной телеграммы Под серою шинелью почтаря. Уплыли розовые краски возвращенья, И в памяти воскресло: на бегу В двенадцать ночи скорое прощанье, И поезд под парами на Баку. И вот теперь ничто не возвратится… Ушел навек, а как в груди болит, Что без меня его на скорбной колеснице В последний раз по городу везли. И горе нарастало дни за днями, Как знойные ветра перед грозой парят, Пока не загудел, сжимая сердце, Тот скорый под парами в Ленинград. Но вот и он встречает тьмой кромешной. Растет вокзал, и поезд мчит скорей… Еще один день скорби неутешной В созвездии девятых январей! Как мне поверить: вправду ль это было, Иль только снится, что меня с дали Судьбы безжалостной невидимые нити На белую могилу привели?..Пребывание в Ленинграде было не из радостных. Собака сидела дома в одиночестве. Мама приходила ее кормить, а сама дома нежила и не ночевала, спасаясь от постигшего ее горя у папиной сестры — тети Шуры. Мама пребывала в забытьи, еще не оправившись от удара судьбы, а та, подлая, уже готовила новые.
Мы с Ниной съездили к папе на могилу. Тогда на месте будущего Серафимовского кладбища было поле, занесенное снегом, и мы с великим трудом нашли свежую могилу отца. В последний вечер мы с Ниной долго сидели возле открытой печки, греясь ее жаром. Собака лежала у наших ног тихая и грустная, словно понимала, что с хозяином случилась беда, и он никогда не вернется. Мама рассказывала, что за несколько дней до смерти отца собака непрерывно скулила за его креслом, на котором он сидел, работая по вечерам: верный пес будто предчувствовал неладное. Говорят, такое случается.
Повидав всех родственников, нагруженный, как верблюд, 5 февраля я уезжал в Одессу — теперь там мой дом. Поезд уходил днем с Витебского вокзала. Нина провожала меня. Она всплакнула на перроне. Прощание было невеселым, словно мы оба уже осязали неотвратимость приближающейся долгой разлуки с неизвестным концом: что ни говори, а страна жила ожиданием неизбежной войны.
Нашему прощанию я посвящу в 1944 году пару стихотворений — они там и найдут свое место.
Возвращаться в Одессу было не менее тоскливо, чем ехать до этого в Ленинград. Впервые тоска так душила меня.
В пути завел знакомство со старшиной сверхсрочником, чье место было рядом с моим. В соседнем купе ехала молодая мамаша с семилетней дочуркой. Девочка всю дорогу провела у нас. Об этом я напишу Нине в письме от 13 февраля: «…и мы втроем рисовали лошадок и птичек. Он (старшина. — Д.Л.) давно не был дома, у него такая же дочка… Ну, а у меня хоть дочки и нет, но… хотел бы иметь. Это ты должна понимать». Далее в письме были и такие слова: «Задумал авантюру, но она возможна лишь при условии мирной обстановки, а таковая никак в этом году не предвидится. Запомни эти слова, скоро что-нибудь будет…»
Пока два дня томился в поезде, с интересом прочел поэму Николая Асеева «Маяковский начинается», которую Нина дала мне в дорогу. Под влиянием поэмы я тут же написал свою. Она получила название «Дорожная лирика, или Повесть о дружбе». Вот она:
Столбы убегают вдаль, бегут вперегонку с днями, Идущих ускоренным маршем неповторимых лет. Мы все в наши годы любим жизнь услаждать стихами, Хоть каждый отлично знает, что далеко не поэт. И я стой минуты как вновь город родной растаял, Пока не дохнуло весною от украинских сел, Забившись на полку вагона, стихами тоску прогоняя, Повесть Асеева трижды от корки до корки прочел. Он написал хорошо и строк дал горячих немало О Маяковском по-маяковски и не забыл себя. Там одно место в повести взоры мои приковало — В строчках, которых нет проще, мысли мои сквозят: «Я больше теперь никуда не хочу выходить из дому. Пускай все люстры в лампах горят зажжены. Чего мне искать и глазами мелькать по-пустому, Когда ничего на свете нет нежнее моей жены. И шорох зеленых садов, и яблонь цветущих касанье, И каждого ясного утра просторная тишина, И каждая строчка — обязаны ей — Оксане, Которая из бессчетных единственная жена!» Я славлю тот день и час, как увидел тебя впервые, Когда непослушным стало в привычных руках весло… Когда ж ожила земля и всходы взошли яровые — Из первого смутного трепета огромное чувство росло. Когда отцвели сады, нагрянули белые ночи, А юность ломилась в ставни и звала любить и жить — Я уже знал, я убедился воочию, Как от зари до заката с девушкой можно дружить. Назавтра сказали: «Пока!» и встретили юность в шинели, В казармах, теплушках, окопах, в горластом пехотном строю. Мы жизни хлебнули вдоволь, а прифронтовые метели, Лицо обжигая до боли, пели нам песню свою. И вот походы прошли: в степях, крутыми холмами Пролег наш тернистый, славный, потом политый путь. А дружба? Будьте спокойны: привязанность, выношенную годами, Ни время, ни люди не в силах теперь пошатнуть! Скоро расплавят снега солнца лучи. Неземные, Сладкие сны нам приснятся — ты улыбнешься весне. Я буду в далекой Одессе, но вестники дружбы немые — Цветы белоснежных акаций — напомнят слегка обо мне. Я верю, что время придет — мы сможем сказать детям, Их провожая в жизнь, в омут житейской кутерьмы: «Дорогие наши — в жизни своей сумейте Ценить настоящую дружбу, дружить, как дружили мы!» Где-то в груди поплывут чудной мелодии звуки. В памяти светлые встанут прожитые вместе года. Мы с любовью пожмем крепко, но нежно, руки, В глаза глубоко заглянем, счастливые, как никогда. И промолвив: «Пора» — в тиши золотого вечера, Пожелает спокойной ночи всем счастливая мать… Вот о такой чудесной, дружбе простой, человечной, Так, между прочим, сегодня — я и хотел сказать.6
Одесса встретила весной. Снег стаял. Везде была непролазная грязь. Я не успел появиться в полку, а начальник штаба уже выловил меня на ходу, чтобы отправить на шестимесячные окружные курсы по моей новой специальности мобработника. При этом он пояснил:
— Вернешься к нам через несколько месяцев и будешь получать 800 рублей в месяц. Мать привезешь в Одессу.
Было о чем задуматься: это были большие деньги — отец столько зарабатывал на двух работах. Я с трудом отказался от предложения, поскольку еще не решил для себя, кем хочу стать: то ли моряком, о чем мечтал в школе, толи выберу другую профессию.
Служба пошла своим чередом. В том же письме Нине от 13 февраля, где писал про «лошадок», были и такие строчки: «Не скучай и будь здорова, / Веселись от всей души, / Слушай „Дружбу“, / Помни дружбу / И скорей пиши!» — я был неисправим.
Посетил концерт хора Одесского театра оперы и балета. Мы все скучали на концерте, так как его программа явно не соответствовала вкусам нашей солдатской аудитории. За несколько дней до этого состоялся концерт самодеятельности «Ансамбля жен начсостава» гарнизона Одессы. Вот это был концерт! Пели женщины, познавшие войну, тревогу за близких и боль утраты. У многих в зале на глазах блестели слезы, и полюбившийся ансамбль долго не отпускали со сцены.
В период душевной подготовки к большой войне мы не воспринимали классическую музыку в рамках спокойной, незнакомой нам мещанской жизни, любовь к которой нам так старались привить оперные артисты. Мы в массе уже были «испорченным народом». Наши души согревали слова совсем других песен, например: «Наша школа, школа полковая, Командиры — впереди…», или «Пойдут колонны сталинской пехоты, Пойдут в последний бой с врагом…» Это нам тогда было ближе и понятней, с этими песнями мы жили и собирались воевать с Гитлером. Простите нас за это, но другими мы быть не могли. Чтобы нас понять, для этого надо было послужить вместе с нами в то время.
Из письма Нине от 15 февраля: «Сегодня у нас был митинг, посвященный 18-й партконференции. Был доклад о международном положении. Он заставил меня серьезно призадуматься. В этом году что-нибудь будет…» Как мы все ждали войну!
Но даже у Данилова «за пазухой» мне не жилось спокойно. Вот письмо Нине от 17 февраля: ‹‹…Веселые дела, приподнятое настроение. Спешу поделиться. Сегодня днем пришел приказ свыше: вышибить из штаба полка всех, не имеющих на руках документа о том, что они нестроевики. Вместе со мной отправляются 90 % обратно в старую школу. Мой начальник еще этого не знает. Работы по горло, а заменить меня раньше чем через месяц никто не имеет права. Завтра снова лягу за «Максима» и реже буду писать моей дорогой Ниночке…
Нинка, мне хочется через тысячи километров, отделяющие нас, крикнуть во весь голос тебе:
Мы сегодня звонкой песней Распрощаемся с Одессой И штыками встретим завтра Измаил!!!››Я никак не пойму: или я — пророк, или это дар предвидения, или — реальная оценка обстановки. Но все, о чем говорилось в последних трех строчках, сбудется через четыре месяца: будут штыки, будут песни, будет Измаил, но, к сожалению, еще добавится и кровь!
Очень любопытное стихотворение попалось мне на глаза в феврале 1941 года в одной из одесских газет. Автор — Елена Ширман[27]. Название стихотворения было весьма недвусмысленным, и я включил его в письмо Нине от 23 февраля:
ТАК БУДЕТ
Я буду слушать, как ты спишь. А утром Пораньше встану, чай вскипячу. Сухие веки второпях напудрю И к вороту петлицы примечу. Ты будешь как всегда. Меня шутливо «Несносной хлопотухой» обзовешь. Попросишь спичку. И неторопливо Газету над стаканом развернешь. И час придет. Я встану, холодея. Скажу: «Фуфайку не забудь, смотри…» Ты тщательно поправишь портупею И выпрямишься. И пойдешь к двери. И обернешься, может быть. И разом Ко мне рванешься, за руки возьмешь. К виску прильнешь разгоряченным глазом, И ничего не скажешь. И уйдешь. И если выбегу и задержусь в парадном, Не оборачивайся, милый. Уходи. Ты будешь биться так же беспощадно, Как бьется сердце у меня в груди. Ты будешь биться за Москву, за звезды, За нынешних и будущих детей. Не оборачивайся. Ночь морозна, И слез не видно на щеке моей.Странные мысли возникают по прочтении этого стихотворения. Это строки не о финской войне, которая закончилась год тому назад, и приписной состав уже распущен. Кроме того, на финской войне бились не «за Москву, за звезды (кремлевские!), за нынешних и будущих детей», а за «свободу финского народа от ига капитала». Значит, это стихи о будущей войне с Германией, которая действительно будет «за нынешних и будущих детей», то есть на взаимное уничтожение двух воюющих сторон, двух систем. Петлицы, портупея — все это говорит о новой мобилизации командного состава.
Что же получается? Сталин упорно не хотел видеть приближения войны. Он ее не ждал, но готовил! А Елена Ширман не только ждала ее со дня на день, как и мы, грешные, а описала ее начало, причем тревожно и трогательно, как будто уже проводила мужа на фронт. Вывод: ничего не видел только тот, кто не хотел видеть, как приближалась война. В сознании многих она уже шла! Сложное чувство осталось от этого стихотворения. Больше я его никогда не встречал.
И еще из письма от 20 февраля: «Мое положение выяснится лишь 25–28 числа. Напишу. Если будет спокойно — вернусь летом, но спокойно не будет, а наоборот. Это жаль, но может быть и к лучшему, но грозит быть затяжным. Пиши почаще, не забывай, если скоро уеду из Одессы…» Надо пояснить, что большинство из нас, служивших срочную службу, твердо знали, что не сегодня-завтра предстоит схватка с фашистской Германией, что это неизбежно: две системы-антипода с общей границей долго мирно сосуществовать не смогут. Война обязательно будет. А если так, то что лучше: встретить войну в своем родном полку с друзьями-товарищами или уволиться в запас, вернуться домой и потом уходить на войну под слезы родных и близких, а затем попасть в новую часть, где никого не знаешь? Все стояли за первый вариант: сперва война, а домой — потом.
При этом мы считали, что война будет скоротечной, например, через 2–3 месяца будем в Берлине, а там — кому как повезет: кто-то останется вечно молодым, а кто-то вернется домой. О затяжной войне никто тогда и не думал. Ведь мы как собирались воевать:
Мы войны не хотим, Но себя защитим, Оборону крепим мы недаром, И на вражьей земле Мы врага разгромим Малой кровью, могучим ударом!Так мы пели каждый день. И считали, трезво оценивая ситуацию, что вернуться домой могли только через войну.
Итак, я снова был в подразделении — в моей родной 1-й пулеметной роте. Оказалось, что львовских ребят и учебную роту куда-то перевели. Обстановку в роте характеризует письмо Нине от 22 февраля: «Вчера вечером перебрался назад в старую первую роту и притащил с собой целый взвод таких же „несознательных“, увиливающих от высокого звания советского командира. Моего взвода „старичков“ уже нет — они выпущены. Вчера в 11 вечера ушли в баню, и при обычной организации подобных процедур продержали нас там до 5-ти утра. В роте скучно, серо и однообразно, а атмосфера… удушающая. Чересчур много командиров-птенцов, они никак не могут насладиться удовольствием покомандовать и сутра до вечера попусту дерут свои глотки. А я в исключительных случаях повышаю свой голос, и все мои бойцы с радостью и бегом выполняют любые приказания, вплоть до мойки полов». Действительно так и было: в полный голос я отдавал команды только на строевых занятиях на плацу и на тактических занятиях в поле.
Из того же письма: «На днях два наших батальона вернулись с выхода. Поход был небольшой, но люди осеннего призыва 1940 года натерпелись здорово. Ходили за 50 километров от Одессы на старую границу и там рыли учебную линию укреплений, окопы — 7 км по фронту и 3 км в глубину. Жили под открытым небом 12 дней, питались так: утром 2 селедки на 5 человек и горсточка сухарей без воды, а вечером — чай из талого снега с теми же сухарями. Работали все время, оставляя на сон не больше 2–3-х часов в сутки. Работали по колено в воде под проливным дождем. Сушиться негде. Вернулись облепленные грязью, на лица было страшно смотреть — все малиновые, распухшие, с волдырями и нарывами. Привели их ночью, чтобы не видел город. Это их первая закалка…» Вот так готовили воевать наших доблестных солдат. Я воздержусь от оценки. Я прошел через все это, и мне нечего сказать.
И я снова втянулся в привычную жизнь пулеметной роты. Нас продолжали готовить к приближающейся войне. Из письма Нине от 25 февраля: «Вчера у нас был кросс. Должен был быть лыжный Всеармейский имени Тимошенко, но так как у нас снега давно нет, то заменили пешим походом по грязи. В полном снаряжении надо было преодолеть 25 километров за 3 часа 1 минуту и 35 секунд. Время нашего взвода — 2 часа 56 минут. Сегодня здорово болят ноги. Скоро будет поход дней на 12…» За время работы у Данилова я приобретенных навыков преодолевать трудности, как видно, не потерял.
В письмах же мирно сосуществовали международная обстановка и наши чувства. В письме Нине от 3 марта я писал: «Тебе, наверное, легко писать про моих „деток“, а мне читать не очень, так как мать у них может быть только одна. В противном случае их у меня не будет. А твое пожелание „иметь сыновей, а не дочек“ — это и мое желание, но: кого Бог пошлет. Нинка, ты не представляешь, насколько ты стала для меня близкой и родной…» Наше взаимное чувство крепло с каждым днем, но мы оставались по-прежнему теми, что и в школе, настолько уважали и ценили друг друга. За все время дружеских отношений мы не позволили себе расслабиться: мы даже в письмах еще… не поцеловались! Такими многие из нас были тогда. Солдатская судьба весьма неопределенна: сегодня ты жив, а завтра… Зачем же ломать жизнь любимому человеку? Не мог я себе этого позволить, пока все не образуется. Не судите меня…
Тем временем события в Европе продолжали развиваться.
В сентябре 1940 года был подписан «тройственный» пакт между Германией, Италией и Японией[28]. Это был открытый военный союз, направленный против СССР. В ноябре к агрессивному блоку присоединились Венгрия, Румыния и марионеточное правительство Словакии. 1 марта 1941 года о присоединении к пакту заявило царское правительство Болгарии, и в тот же день в страну вступили германские войска. В результате переговоров между Гитлером и румынским диктатором Антонеску было заключено соглашение о совместном нападении на Советский Союз: Румыния должна была вернуть себе Бессарабию, потерянную в 1940 году.
Война неуклонно приближалась к нашим границам. Разведданные, которые приходили к нам с Даниловым, еще когда я у него работал, красноречиво это подтверждали.
Мартовскими ночами 1941 года шли и шли через Одессу какие-то части на колесах и гусеницах в сторону границы, в том числе и мотоциклетные подразделения. Но как ни удивительно, когда началась война — и следов этих частей мы не видели, о них ничего не слышали и не знали.
Куда они подевались?
Я по-своему реагировал на события в мире. В письме Нине от 7 марта я писал: «В последние дни произошли, кажется, немалые события. Пожалуй, не только о мае думать не приходится, а и о сентябре…» Дело в том, что в полку ходили слухи, что мы, призванные в 1939 году из институтов, будем увольняться в запас в мае 1941 года. Этому никто из нас, конечно, не верил, но слухи обрастали деталями: якобы будут отпускать студентов, чтобы 1 сентября они смогли приступить к занятиям. Этому так хотелось верить! Очень может быть, что такие слухи распространяли мы сами или, вполне вероятно, разведуправление РККА с целью напустить туману — в расчете на дураков.
В эти же дни я вернулся работать к Данилову. Вот как об этом говорилось в письме Нине от 8 марта: «Есть новость: теперь я „официальный“ нестроевик. Чтобы вернуть меня, мои начальники направили на гарнизонную комиссию. Там назначили через неделю явиться повторно для проверки. После второго раза велели прийти в третий раз и принести служебную характеристику. В результате получил странное заключение: „К службе в РККА годен. В порядке индивидуального подхода может быть использован на нестроевых должностях“. Не подошел ни под одну статью, меня должны были обратно направить в строевую. Вернулся к прежней работе».
Мое сердце продолжало рваться в Ленинград к своей горячо любимой подруге. Из письма Нине от 11 марта: «Когда-то я вновь буду в Ленинграде и увижу тебя? Наверное, очень и очень нескоро. Ноты так уверенно пишешь в своих письмах, что „все зависит лишь от меня“, что можно надеяться и через 5 лет встретить все ту же „старую Нину“. Где бы я ни был, куда бы меня ни занесло — всегда буду стремиться в Ленинград, только к тебе, найду тебя, где бы ты ни была…» До чего поразительное совпадение мечты и реальности: именно через пять лет, о которых упоминалось в письме, и произойдет наша следующая встреча, но для этого еще надо остаться в живых! А пока только мечты и планы: «Нинка, если у тебя когда-нибудь будет сын, как бы ты хотела его назвать?» (из письма Нине от 3 апреля).
«Амурные» дела развивались и в городском масштабе, а не только в нашей переписке. У нас недаром пели: «Что за Одесса — не город, а невеста!» В письме от 19 марта я сообщал Нине: «Вчера было комсомольское собрание. В „разном“ комиссар полка говорил о „воинской чести“, которую каждый выходной без исключения личный состав полка меняет на „одесскую мещанку“ (это он так выразился)…» Все это действительно было проблемой для полка: сколько наших было госпитализировано из-за своего легкомыслия, приведшего к венерическим заболеваниям.
Распорядок дня у меня сложился довольно стабильный: «Ты просишь меня рассказать о своей жизни. О жизни могу, но о работе — нет. Встаю в 6. Делаю зарядку на снарядах, на плацу — теперь уже самостоятельно, как дома. Потом умываюсь, завтракаю. С 8 до 10 — стрельба или другие занятия. С10 до 14 — на работе. С 14 до 14.30 перерыв на обед. Потом до 20, до ужина, снова работа. Потом она же с 20.30 до… как придется».
В полку проходили учебные сборы приписанные к нам гражданские врачи. Много совсем молодых девушек 1919–1920 годов рождения — это медсестры, недавно окончившие медтехникум. Страна продолжала готовиться к войне. Теперь при стрельбе если поразишь цель с первого выстрела, то больше патронов не давали. Экономить, что ли, стали накануне войны?
Но если в мыслях мы боролись с мировым империализмом, то наделе пока приходилось бороться со стихийными силами природы.
Из письма Нине от 23 марта: «Сейчас ночь. Я на дежурстве, Облисполком не дает покоя. Дело серьезное. За 30 километров от Одессы море прорвало дамбу, возведенную еще в 1932 году, и уровень воды в Сухом лимане поднялся на 75 сантиметров!!! Каждый день мы отсылаем по 300 человек на работу (а сколько частей еще там?). Сейчас отправил еще 100 человек. Там грузят мешки с песком, возводят стену, но море бушует и размывает. Такого здесь еще не было…
…В эти дни у нас очень остро стоит вопрос насчет училищ. Приходится серьезно призадуматься. Я к армии привык, тяготит лишь разлука с тобой. Ты пишешь, что твои мысли соответствуют тем моим строчкам из „Дорожной лирики“. Неужели в самом деле, Нинка? Только… я не сомневался… Значит, это — наша правда…»
И опять о международных делах. Из письма Нине от 25 марта: «Международная обстановка таит в себе много „хорошего“. Уважаемый Гитлер решил ударить „британского льва“ по одной из его лап — Ближнему Востоку, а на пути — знакомые проливы, на которые мы целимся сами испокон веков, а сейчас — как никогда». Ничего не скажешь: далеко мы замахивались. В письме Нине от 10 апреля опять о Балканах: «На балканском театре разыгрывается веселая картина! Неужели мне в сентябре не суждено вернуться в Ленинград? Если придется ввязаться, то пожалуйста: „Мы с превеликим удовольствием“ — только жаль, хочется скорей к вам всем!» Сейчас только диву даешься, сколько «мусора» было в наш их солдатских головах в то далекое время. Но такими нас упорно делала система: другие ей были не нужны. Этого мы тогда не понимали, но целиком соглашались с таким положением. Мы тоже по-другому не мыслили и во всем поддерживали систему. Мы являлись ее продуктом, ее детьми, ее оплотом.
Работы у нас с Даниловым было много, но я находил время развлекаться. Из письма Нине от 30 марта: «Сегодня решил сходить познакомиться с Одесским театром Революции. Была поставлена „Мораль пани Дульской“. После театра пошел по Одессе, куда глаза глядят. Центр напоминает Ленинград. Публика одесского центра забьет нашу, наводняющую Невский. Очень много попадается моряков торгового флота, но больше всего в Одессе военных. А я, „доблестный страж юго-западных рубежей“, развернув плечи, с самодовольной улыбкой, большими шагами шагал через залитый солнцем и наполненный музыкой и весельем город, чувствуя себя в этом кипучем водовороте жизни каким-то чужим и враждебным. А в Ленинграде не так, там не такой народ, как в этой „шикарной“, подозрительной Одессе. Здесь тебя боятся, а там уважают и любят. Какая-то не советская Одесса! Одесса… маклеров, дельцов и шулеров.
С какой теплотой и душевностью встречали нас украинские села в июле прошлого года во время похода, была настоящая демонстрация чувств. А молдавские селения наши, пограничные, встретили нас притихшие, настороженные, с тревогой выжидающие: „Зачем они сюда пришли? Почему их так много?“
Одесса — красивый, построенный на холмах в несколько ярусов город, и люди красивые, но нехорошие. Нинка! Не шовинизм ли это у меня?
Военная служба хороша, но только не в мирное время, когда она вычеркивает из твоей жизни несколько лет. Уж лучше, если и вычеркнет всю жизнь, да с толком». О, ужас! Как спорно и неумно это звучит.
В первых числах апреля установилось настоящее лето, и я открыл купальный сезон, а с 1-го апреля бросил курить с условием: закурю вновь только в случае увольнения в запас (по-видимому, от радости) или в случае начала войны (от горя?).
Утренние занятия теперь проводили на море. Много купались…
И опять тревожный сигнал. Из письма Нине от 13 апреля: «Только что запечатал комнату. Приходил разводящий, рассказал мне, что сегодня под вечер наши летчики посадили на окраине Одессы турецкий самолет. Завтра узнаю точно — вообще, очень возможно…»
На этом переписка 1939–1941 годов обрывается. Письма за апрель-июнь 1941 года не сохранились…
Тем временем агрессивный союз завершил формирование своих рядов. Помимо Германии, Италии и Японии к маю 1941 года в него вошли Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия, Хорватия и Финляндия. Практически входила и Греция, но она к тому времени не была независимым государством, будучи расчленена и поделена между Германией и Италией. Теперь возможными объектами последующих ударов со стороны германской военной машины были Великобритания и Советский Союз. Что выберет Гитлер?
По предположениям В. Суворова, Гитлер уже перенацелился с Англии на СССР и готовился осуществлять план «Барбаросса». Это было видно всем, кто хотел видеть, хотя сам план агрессии находился под строжайшим секретом, и о нем не знали. Агрессия против СССР должна была явиться логическим продолжением борьбы Германии за мировое господство.
По В. Суворову, Сталин упорно готовил собственное выступление, запланированное якобы на июль 1941 года, и не принимал во внимание вероятность опережающего удара Германии.
Если предположить, что В. Суворов ошибается, то тогда возникает масса вопросов, которые остаются без ответов.
1. Чем объяснить полную «открытость» западных границ? Все так и было, как подробно описывает В. Суворов. Укрепления не строились. Мы только делали вид, что их возводим. Даже на старой границе укрепления демонтировались и разоружались под разными предлогами и без них.
2. Почему аэродромы располагались вблизи границы? На случай собственного наступления? Другого объяснения не найти.
3. Почему базы снабжения горючим, боезапасом и прочим располагались вблизи границы? Опять другого объяснения не найти.
4. Почему накануне войны, 21 июня 1941 года, на заседании Политбюро были юридически оформлены фронты, существовавшие якобы с начала 1941 года? В мирное время фронты не создают, тем более если не верят в агрессию Гитлера. Выходит, Сталин сам готовился наступать?
Много вопросов и все без ответов. Также В. Суворов утверждает, что 12–15 июня 1941 года всем западным приграничным округам — а их пять — был отдан приказ: все дивизии выдвинуть на границу.
Со своей стороны должен заявить, что наша 150-я стрелковая дивизия, расположенная в 200 километрах от границы, такого приказа не получала, или такое отстояние не в счет? Ниже я более подробно остановлюсь на мерах, принятых командованием Одесского военного округа накануне войны.
Я склонен согласиться с В. Суворовым, что Сталин хотел наступать, но <…> летом 1941 года он готов не был, Гитлер и тут опередил его…
А пока мы с Даниловым продолжали корректировать давно утвержденный мобплан 1941 года, тщательно уточняя детали. Когда мы оставались вдвоем, то, нарушая служебную субординацию, обращались друг к другу, как на «гражданке»: «Павел Александрович» и «Дмитрий».
Будучи дежурным по штабу, — а дежурить мне приходилось довольно часто, — мне не раз доводилось докладывать командиру дивизии:
— Товарищ генерал! Полк находится на занятиях. Происшествий нет. Дежурный по штабу…
Генерал-майор Пастревич — командир дивизии — был невысокого роста, полный, квадратного телосложения и почти всегда — в кожаном полупальто.
Подходил май. Впервые я не был участником торжественного парада: «штабные крысы» на парад не ходят. В этом я ощутил свою неполноценность и несколько дней переживал.
В мае произошло еще одно событие: неожиданно Данилов, вызвавший в Одессу свою жену и двух сыновей, получил приказ выехать в округ на курсы усовершенствования командного состава. Его подчиненный от своих курсов отвертелся, а начальник вынужден был поехать.
Я горевал по Данилову. Мы с ним хорошо сработались. Кто его заменит? Данилов почему-то был уверен, что его преемнике работой не справится, но он ошибся.
На место Данилова прибыл новый ПНШ-3 — капитан Батеха. По натуре, комплекции, характеру это был человек совершенно противоположного склада. Но поскольку идейная база была идентичной, то, конечно, капитан прекрасно справился со своими служебными обязанностями. Мы с ним сразу сработались. Почти всю первую неделю мы вдвоем разъезжали по городу.
В отличие от Данилова Батеха стремился лично побывать в каждом райвоенкомате и в остальных местах. К концу рабочего дня у него всегда поднималось настроение от удачных поездок, ион на обратном пути даже напевал разные мелодии. Со стороны на нас посмотреть — два мальчишки, а не ответственные сотрудники разведуправления! Совместная работа захватывала и увлекала нас обоих, доставляя наслаждение, несмотря на то, день был или ночь…
А война приближалась, и мы уже чувствовали ее дыхание. На улицах Одессы в те июньские дни можно было встретить и совсем еще девочку в форме военфельдшера, лицо которой впервые сделалось серьезным; и почтенного папашу с дитятей на руках, гуляющего в выходной день в окружении всего семейства — это командиры запаса, призванные на учебные сборы. Трудной окажется их судьба. Им, как и всем нам, придется через неделю идти на войну. А кто из нас вернется с войны?
В июне в наш полк прибыли служить молодые ребята 1923 года рождения, только что окончившие десятилетку и призванные в армию. Из них скомплектовали очередную полковую школу: интеллект десятиклассников в армии пропадать не должен!
Полк снова вышел в лагеря. Они были в трех трамвайных остановках от военного городка. Я находился попеременно то там, то в штабе. Лето было жаркое, и я много купался в море. Иногда в свободное время садился на трамвай и ехал в лагерь сражаться в шахматы со своим постоянным партнером — начальником штаба полка капитаном Овчинниковым Николаем Григорьевичем. Мы с ним ночами дулись в шахматы, выигрывая попеременно. И это — накануне войны: полнейшая беспечность и старших, и младших по званию!
Обмундирование на мне было новое. Перед праздником 1 Мая получил сержантские треугольнички — на этот раз отвертеться не удалось, но думаю, что теперь это на сроках службы не отразилось бы, поскольку вот-вот должна была начаться война.
Насколько были осведомлены о вероятной войне командир полка, начальник штаба, капитан Батеха, наконец? Понятно, что стратегические планы Политбюро и Генштаба, которые были, а их не могло не быть, тщательно скрывались от командного состава армии. Это и неудивительно, если вспомнить, сколько германских, японских и других «шпионов» было даже среди первых Маршалов Советского Союза! А тем более командиры корпусов, дивизий, полков никогда вообще не посвящались до последнего часа, когда уже было пора выступать. Но какая-то информация должна была просачиваться? Поскольку ПНШ-3 по разведке и мобработе, равно как и командир полка, ничего подобного и не подозревали, то можно только предполагать высочайшую степень секретности таких стратегических планов. В курсе дела могло быть только ограниченное число генералов Генштаба.
Поэтому жена Данилова и приедет к нему в Одессу накануне войны, и намучается с детьми досыта от такого летнего «отдыха», попав в оборону Одессы. Очень трудно понять такую беспечность. Я до сих пор не перестаю удивляться полнейшей неосведомленности как командира полка, таки ПНШ-3 по разведке и мобработе.
И вот первая ласточка: 14 июня — за 8 дней до начала войны — радио и печать распространили по стране успокоительное сообщение ТАСС, которое вконец усыпляло чувство бдительности советских людей. В этом опровержении говорилось о том, что Германия не намерена порвать пакт и напасть на нас, а переброска германских войск к границам СССР вызвана якобы каким и-то другим и мотивами.
Мы прослушали это сообщение днем 14 июня по принципу: в одно ухо вошло, из другого вышло! Командование полка прямо заявило нам: «Эта информация не для нас, а для Германии и других европейских стран». Правда, если Сталин готовился в июле наступать на Германию (по В. Суворову!), то такая информация, безусловно, была полезной. К сожалению, там были не глупее нас.
Затем нам в полку объявили, что 15 июня состоится выступление В. Молотова — второго лица в государстве — по радио. Прождали весь день, но выступления так и не услышали. Обстановка в полку становилось все напряженнее: все понимали, что со дня на день должно что-то произойти, и с тревогой и нетерпением ожидали этого.
Ждали, но ничего не предпринимали! Никаких приготовлений в полку к вероятным боевым операциям не производилось. Мое рабочее место — отдел разведки и мобработы — позволяло мне знать намного больше, чем любому в полку, но все равно похвастать было нечем: все тайны и секреты надежно хранились в сейфах Генштаба. Армия никаких приказов, кроме как «держать порох сухим» и не поддаваться на провокации, число которых непрерывно росло, не получала.
Такая страусиная политика станет величайшим преступлением Сталина против армии и всего народа, приведет к неисчислимым потерям и жертвам, утрате инициативы в приграничных боях. Мы всегда были крепки задним умом, а надо было поставить артиллерию на прямую наводку и по-русски сказать фюреру: «Гитлер! Не дури — получишь в рожу»…
И опять все о том же: мобплан 1941 года лежал в моем рабочем столе, но никаких команд даже на скрытую мобилизацию приписного состава к нам из дивизии не поступало. До последнего дня полк оставался на штатах мирного времени, а приписной состав находился дома. Мне известно, что соседние стрелковые дивизии Одесского военного округа приказа о переходе на штаты военного времени тоже не получали. Наш полк продолжал обычную учебу, а на календаре уже стояло 21 июня 1941 года. Ничто не предвещало войну именно завтра. Ждали ее, проклятую, каждый день, но чтобы в такое чудное солнечное воскресенье — этого никто не предполагал. И это случилось…
22 июня 1941 года около 4 часов утра дежурный по штабу весело разбудил меня толчком в плечо и протянул два запечатанных сургучом конверта. Я их сразу узнал, поскольку сам их когда-то печатал для дня Ml.
В соответствии с мобпланом я, сержант такой-то, в случае боевой тревоги должен был немедленно известить об этом командира полка и начальника штаба. Другие сержанты в то же самое время обязаны поднять командиров батальонов и практически весь командный состав полка, в то первое военное утро мирно посапывавший в обнимку с женами: пусть Гитлер подождет, они еще не выспались!
Подумал ли я в тот миг о том, что мне предстоит известить своих командиров о начавшейся войне? Конечно, нет! Почему? Во-первых, в субботу вечером все отдыхали, слушали концерты, смотрели кино… Какая может быть война? А может, это просто учебная тревога? Во-вторых, каждый усвоил жесткое правило службы — бегом выполнять любой приказ, не расходуя драгоценное время на ненужные расспросы и разного рода «думанья». Для всего этого есть твои командиры. Хорошо это или плохо? Моя позиция тогда была совершенно четкой: только на такой основе и может существовать армия, иначе — это неуправляемая масса людей. Так ли это?..
Не думая ни о какой войне, я быстро оделся, натянул сапоги, засунул «совсекретные» пакеты под гимнастерку и выскочил за ворота. Часов тогда у нас ни у кого не было, зафиксировать время я не смог. Но об одном подумать на бегу я все же успел. Пробегая мимо кухни, я почувствовал такой родной запах жареной камбалы, которую в это утро должны были подать с картофельным пюре на завтрак — божественная вещь для солдата! Подумалось: а вдруг я опоздаю на завтрак или мне его не достанется? Мысли о возможности не успеть на вкуснейший завтрак заслонили войну, подстегнули меня, и я побежал быстрее.
Квартиры комсостава находились в домах по Пушкинской улице, в центре города, примерно в двух-трех километрах от военного городка.
Я легко бежал по пустынным улицам спящего города — налегке, без обычного «полного боевого» снаряжения, без которого, бывало, шагу не ступишь. Вокруг было тихо, и война еще ничем себя не выдавала.
С командиром полка и начальником штаба я имел постоянные контакты по службе. Оба командира жили на одной лестничной площадке. Влетев на второй этаж, позвонил одному и другому.
Командир полка майор Остриков был серьезным, вдумчивым и немногословным человеком в возрасте около 45 лет; на Гражданской войне он получил орден Боевого Красного Знамени; в полку пользовался авторитетом и уважением. Первой открыла дверь его жена. На ней был накинут халат. Я откозырял ей и показал конверт: отдавать можно только майору.
Она изменилась в лице и споро пошла за мужем. Вошел майор. Поприветствовав его, я вручил конверт и спросил:
— Товарищ майор, какие будут приказания?
— Обожди, я оденусь. Вместе…
Пока он одевался, я известил капитана Овчинникова и вернулся в квартиру старшего начальника. Майор уже был готов, и жена вывела к нему двух маленьких славных дочек — попрощаться с отцом. Они были в длинных до пят ночных рубашонках светло-розового цвета.
У меня что-то ёкнуло в груди: на учебную тревогу так не уходят. Майор поднял девчушек на руки и долго целовал их, как будто прощался навсегда. Он их больше не увидит. Жена, провожая его, не могла сдержать слез. Эта неожиданная сцена прощания подействовала на меня, отрезвила, и только тогда в сознание закралась мысль о том, что происходящее начинает походить на приближение войны.
Меня поразило и другое. Я — мальчишка, сержант, мне по штату положено бежать через весь город с конвертом за пазухой. Но обратно мы дружно бежали втроем! Это было неслыханно! Я не могу об этом забыть до сих пор. Командир полка и начальник штаба, люди весьма немолодые, бежали по городу поднимать полк на войну! Наша дивизия называлась «дивизией прикрытия границы», а командир полка не мог воспользоваться ни велосипедом, ни мотоциклом, ни автомашиной, ни повозкой на худой конец. Неужели так можно начинать войну? Как объяснить это самому себе? Но тогда мы просто бежали, а думать о нелепости такой системы оповещения стали намного позднее. А почему нельзя было оповестить по телефону? Много возникает таких «почему», а вразумительных ответов не найти. Таков был наш общероссийский порядок, засекреченный вдоль и поперек!
Мы благополучно добежали до полка и разбежались: кто в штаб (Остриков с Овчинниковым), а кто в столовую (это, конечно, я). Мои действия оказались весьма предусмотрительными, иначе в этот день позавтракать мне бы не пришлось.
Пока ел, мне было официально объявлено, что с этого дня, с 22 июня 1941 года, вступает в свои права рожденный в муках мобплан.
А потому, наспех проглотив любимую камбалу, я вынужден был тут же надеть полное боевое снаряжение, в том числе и каску, несмотря на жару — так теперь полагалось — и отправиться по-быстрому принимать пополнение из Ленинского райвоенкомата. О каске я упомянул неслучайно, и ниже о ней еще будет речь.
Первые трамваи уже пошли. Выйдя из военного городка, я направился на трамвайную остановку. Тем временем полк покинул лагерь и вернулся в казармы.
Трамвайная остановка была напротив КПП. Мое внимание привлек в эти утренние часы низенький мужичонка, довольно неряшливо одетый. Он все время подозрительно крутился, высматривая что-то по сторонам. Требовалось немедленно проявить бдительность, и я его спросил, что он тут делает? Он стал довольно невнятно лопотать, спрашивая в свою очередь меня, как ему проехать на такую-то улицу, причем название улицы употребил старое, дореволюционное. Вынув из своих карманов горсть монет старой чеканки, он продолжал болтать. Мне этого было достаточно. Выяснять с ним отношения я времени не имел, поэтому вежливо взял его за шиворот, довел до КПП и сказал стоявшим на посту:
— Этого «дядю» отведите к Тараканову. Пусть разберется с ним. Скажите — от меня. Болтается напротив КПП и высматривает.
Старший политрук Тараканов был начальником особого отдела полка, представлял военную контрразведку. Я часто контактировал с ним в период работы в моботделе. Ребята на посту скучал и и с явным удовольствием выполнили мою команду.
Освободившись от «дяди», я сел в трамвай и поехал в райвоенкомат. Как приятно ехать в полупустом трамвае. Второй раз бежать по городу не пришлось.
На всю жизнь врезались в память сцена прощания во дворе райвоенкомата. После войны ее будут часто показывать в кинофильмах, например в «Летят журавли» и в других. Глядя на проводы мобилизованных, я воочию убедился в том, насколько правы были мы, молодые солдаты, когда не хотели уходить на войну через военкомат, а желали встретить ее в родном полку. Тяжело было смотреть на прощавшихся. Все понимали, что провожают своих близких на войну, которая вот-вот будет, а надетая мной каска усиливала серьезность момента, и люди менялись на глазах: раз у сержанта на голове каска, значит, это не просто сборы приписного состава, а что-то другое. Дело в том, что страшное слово «война» пока ни в полку, ни в военкомате, ни в городе — никем не произносилось. Не было такого слова в обиходе в первую половину дня — 22 июня. Все чувствовали, что война уже рядом, но боялись произносить это слово, чтобы оно не стало реальностью. А вдруг еще не война?
«Берут на сборы? — Да, берут».
«Война может случиться? — Да, может, но пока ее нет».
«Вроде Одессу в это утро бомбили где-то на окраине? Мы слышали отдаленный гул и стрельбу зениток. Но может, это учебные стрельбы?»
Пока никто в Одессе в это утро не ощущал, что началась настоящая война, и я в том числе.
Время прощания кончилось. Документы оформлены. Пора мне было вести людей в полк. Те безликие фамилии бывших солдат и сержантов, которых я пол года тому назад отмечал «галочками» в списках военкомата, обрели плоть и кровь и через пару часов должны был и стать бойцам и и командирами РККА.
Время уводить людей: долгое прощание расслабляет…
— Внимание! Закончить прощание! За мной в колонну по четыре становись!
Я часто вспоминал эту тяжелую сцену, особенно когда стало ясно, что мало кому из нас, действующих лиц, посчастливится вернуться домой. Такой кровавой и длительной войны никто из нас не ожидал.
А пока наш строй бодро шагал по улицам Одессы, и горожане, появившиеся к тому времени на улицах, не обращали на нас никакого внимания. Ведь в последние месяцы столько солдатских колонн и приписного состава передвигалось по городу, что все давно привыкли к ним. Вот только на мою каску иногда посматривали с улыбкой: «Бравирует молодой сержант. Можно подумать — на войну собрался». Так думали пока в Одессе.
Я передал людей на обработку и поспешил в Кировский райвоенкомат за таким же пополнением. Везде повторялось одно и то же.
Приближалось время обеда, когда объявили, что по радио ожидается выступление В. Молотова. На этот раз оно действительно состоялось.
Наконец все встало на свои места, и слово «война» было произнесено. Все восприняли это сообщение спокойно и продолжали делать свое дело.
Сразу после выступления В. Молотова майор Остриков вывел полк на Пролетарский бульвар в полном боевом вооружении и повел его на границу. По-настоящему полк следовало бросить на границу автомашинами, но такой возможности округ не имел: не один наш полк в этот день выдвигался к границе! Полк шел на войну не спеша, обычным походным шагом, да еще нагруженный до предела вооружением и всем, чем положено, в сопровождении повозок, доверху забитых патронами, снарядами и прочим.
Капитан Батеха, по-видимому, ушел с полком. В военном городке я его в эти дни не видел.
Мое рабочее место было у специального окошечка: мне сдавали паспорта и повестки. Я бросал их в урну и называл каждому его подразделение и должность. За этим окошечком я просидел весь оставшийся день — 22 июня — и до вечера 23 июня. Поесть было некогда, но обо мне вспоминали и приносили обед. Наспех глотая суп и макароны, я продолжал приемку и распределение людей.
К вечеру 23 июня пополнение полка — около 1500 человек — было одето, обуто, накормлено и вооружено. Помощник командира полка по материальному обеспечению майор Цуран, восседая на белом коне, повел колонну на фронт для воссоединения с кадровой частью полка.
105-й запасной стрелковый полк, согласно мобплану, также был сформирован и пока оставался в Одессе.
Из горвоенкомата прислали за мной полуторку. На ней я должен был отвезти все бывшие совсекретные бумаги мобплана и вообще все, что находилось в моботделе. Я упаковал свое хозяйство в картонные коробки и ящики от патронов, отвез в горвоенкомат и передал на вечное хранение. Но все эти документы погибнут в период обороны Одессы, и никто и никогда не сможет подтвердить тем, кто останется в живых, а также родным погибших, что люди были призваны в конкретный день, в конкретную часть и т. д. Они уже тогда стали наполовину без вести пропавшими!
После передачи документов полуторка подбросила меня до полковой колонны. Водители тепло попрощались со мной и уехали. Я снова был с полком. Вокруг — темнющая ночь, и только дыхание тысячи людей выдает присутствие колонны.
С Одессой я распрощался навсегда. Побывать мне в ней больше не удастся, но мне очень дороги воспоминания об этом чудном южном городе, так похожем на мой Ленинград. Главное — из этого города я ушел на большую войну…
Глава вторая На Южном фронте 1941
Комрат
1
Всю ночь шли. Вот и раннее утро. Развиднелось. В клубах желтой, въедливой пыли, извиваясь на косогорах, как змея, вразвалку, нагруженно ползла солдатская колонна: нет начала, нет конца. Мерно колыхались штыки, и плавно, грузно плыло над головами бойцов тяжелое оружие пехоты — пулеметы и минометы. Дыхание людей учащенное, тяжеловесное — шли неторопливо, настороже. В таких случаях говорили: «Пылит пехота…»
А куда денешься, коль мы и есть пехота!
Мобпланом 1941 года — МП-41 — давалось три дня на полную мобилизацию соединений первых эшелонов армий прикрытия границы.
Мы в этот срок уложились.
Нас много шло. Практически, по штатам мирного времени, двигался к фронту полновесный полк — только он именовался пополнением. Такому бы полку бывалых, служилых солдат, прошедших польскую и финскую кампании, дать вволю боезапаса, придать артиллерии, поддержку танками и обеспечение с воздуха — и ничем его не собьешь с рубежей, которые он завтра займет. Да чтобы командование армии не допустило окружения с флангов, а дальше — все будет зависеть от количественного соотношения резервов воюющих сторон и реальности тактических и стратегических замыслов фронта. Так должно быть. Будет ли все это?
Многие из идущих надеялись, что война продлится недолго, но тем не менее — ни разговоров в строю, ни улыбок, ни смеха. Каждый шагал молча, замкнувшись в мыслях, сосредоточившись на чем-то своем, личном. Люди только вчера находились дома в кругу семьи, а теперь шли на войну. Запевать и в голову никому не приходило — долго не будет песен в солдатском строю…
По малозаметным деталям я видел, что приписной состав успел отвыкнуть от походной жизни: не все сумели ладно подогнать снаряжение; другим явно мешали болтающиеся не на месте лопатки и противогазы; не все держали строй. Но много было и таких, кто совсем недавно распрощался с армией, и вот она позвала их вновь.
Согласно Указу о мобилизации военнообязанных от 22 июня 1941 года, подлежали призыву граждане, родившиеся в 1905–1918 годах. Рядом со мной шли ребята 1918 года рождения — сразу видно, что они строй забыть не успели — вон как лихо шагают. Один из них — Андрей — оказался рядом со мной. Мы познакомились. Он — тоже сержант и с чувством собственного достоинства говорил об этом. Мы с ним шли по обочине, а не в строю, потому что мы — командиры, хотя и младшие, и вполне сознавали всю ответственность: мы ведь тоже вели колонну и следили за порядком движения.
Новый дружок не желал считаться с войной и всю дорогу — сперва один, а затем на пару со мной — напевал вполголоса модную тогда песенку:
Эх, Андрюша, нам ли быть в печали: Возьми гармонь — играй на все лады И пой, чтобы горы заплясали И зашумели зеленые сады!Андрей пел про Андрюшу — таким я его и запомнил. <…> Мы с сержантом шагали легко. В 1940 году оба прошли хорошую школу и ходить умели. На фронте я Андрея не видел. Мы большее ним не встречались, но он мне очень пришелся по душе.
При переходе через Днестр нас обстреляли из пулеметов пикирующие «мессершмитты», но этого немцам показалось мало, и они отбомбили понтонную переправу. Урон нам был нанесен небольшой, но среди нас появились первые жертвы войны, хотя большинство успело разбежаться по укрытиям.
В те дни и наши не остались в долгу: 24 и 25 июня армейские и флотские бомбардировщики бомбили румынские нефтяные промыслы в Плоешти, а 26 июня два эсминца обстреляли и подожгли нефтяные баки в Констанце. Но как бы там ни было, немцы на Южном фронте с первых дней войны упорно завоевывали господство в воздухе.
Мы шли по бессарабской земле. С удивлением встретили тяжелый пушечный полк, идущий навстречу. Спросили артиллеристов:
— Куда вы, братцы?
— На север нас перекидывают. Вроде — на Западную Украину…
Это было реально: мы уже знали, что в районе Львова разворачивались ожесточенные танковые бои.
Тем временем Дунайская военная флотилия высадила два десанта 51-й стрелковой дивизии на вражеский берег Дуная в районе Килии. Этот плацдарм удерживался до 18 июля, пока не поступил приказ фронта об отходе дивизии к Днестру[29].
Мы двигались к границе, а точнее — к фронту, среди сплошных полей кукурузы и подсолнечника. Солнце слепило глаза. От пыли, поднимаемой тысячью ног и сотен повозок, было не продохнуть. Путь недолгий — всего 160 километров. Все явственней становился отдаленный гул бомбовых ударов и раскаты артиллерийских батарей. Все более надвигалось дыхание фронта. Вышли к Пруту на рассвете 26 июня.
Не обошлось и без чрезвычайного происшествия. Старший по колонне — хозяйственник майор Цуран — очевидно, не выслал головной дозор, и колонна в предрассветной мгле напоролась на своих, и нас обстреляли. Вдоль берега Прута сплошной линии фронта не было. Колонна появилась как раз там, где был разрыв фронта, и повернула вдоль границы в поисках полка. Части 150-й стрелковой дивизии, ежедневно отражавшие на своем берегу фланговые выпады противника, приняли колонну за просочившихся ночью на нашу сторону вражеских солдат. На этот раз в отличие от воздушного налета немцев на Днестре жертвы оказались с обеих сторон, так как колонна спросонья (люди двигались третью ночь без сна!) и не разобравшись, открыла ответный огонь.
Такое будет и впредь: халатность, беспечность, недомыслие и прочие подобные качества. Никак без этого не обойтись! Когда все стихло, бойцы пополнения влились в боевые порядки полка, и о «недоразумении» никто не вспоминал…
<…>
2
Поскольку моя военная судьба неотделима от 9-й армии и всего Южного фронта, то я скажу обо всех соединениях 9-й армии, а не только о своей 150-й стрелковой дивизии. Объясняется это просто: всего через месяц остатки перечисленных частей перемешаются между собой при попытке выйти из окружения на участке Днестр-Южный Буг.
Тяжело об этом вспоминать, но судьба дивизий 9-й армии трагична:
— О 99-й и 116-й стрелковых дивизиях ни в мемуарной литературе, ни в других документах почти не упоминается. По-видимому, они смешались с частями 18-й армии, отходившей на восток, и были разгромлены противником в период с 20 июля по 12 августа на правом фланге Южного фронта, не сумев отойти в направлении Котовска;
— 30-я, 51-я и 150-я стрелковые дивизии были разбиты на подступах к переправам через Южный Буг в период с 5 по 12 августа, после чего о них также нигде не упоминается;
— судьба 25-й и 95-й стрелковых дивизий предстает героической и трагической. Отступив на рубежи обороны Одессы в составе вновь созданной Приморской армии, они составили вначале основное боеспособное ядро войск, защищавших Одессу. После эвакуации войск Одесского оборонительного района в октябре 1941 года в Крым обе дивизии, пополненные личным составом, приняли самое активное участие в обороне Севастополя до последних его дней.
<…>
Я хочу поведать о последних днях 25-й и 95-й дивизий, бывших левого и правого соседей моей дивизии с первого дня войны. На месте любой из этих дивизий могла оказаться и моя, тем более что именно 95-я стрелковая дивизия по приказу фронта заменила нашу, 150-ю, входившую в состав Приморской армии с первого ее дня. Поэтому так дорога мне память об этих двух дивизиях.
Что касается приведенной выше цитаты о том, что часть людей эвакуировалась, а часть ушла к партизанам, то приведу вкратце воспоминания одного из участников обороны Севастополя, которые опровергают и первое, и второе.
Бывший сержант 175-го отдельного зенитного дивизиона 95-й стрелковой дивизии Е. Г. Левин, проживающий в нашем городе, встретивший войну на границе 22 июня 1941 года, рассказывает о последних днях Севастополя: «30 июня 1942 года враг прорвался к городу. Нам объявили: „Отобьете последнюю атаку, и все будете эвакуированы“. Якобы для этих целей на внешнем рейде стоит эскадра. Эскадры никто из нас не видел. Если бы эскадра и появилась, то была бы немедленно уничтожена с воздуха. Эвакуировать Приморскую армию командование флота уже не могло, но зачем же было врать? В этой последней атаке я был ранен. Сознание не терял, с трудом мог передвигаться, но крови потерял много. Многих раненых, и меня в том числе, разместили на Херсонесском маяке. Немецкие войска заполонили город, и все перемешалось: и наступающие немецкие части, и наши обессилевшие солдаты и матросы, которые практически разом стали военнопленными.
Вместе с немцами активно действовали и добровольческие отряды из крымских татар. Они были хорошо вооружены советским оружием, подобранным прямо на поле боя, то есть на улицах города.
Под общим руководством немцев именно крымские татары производили отбор среди военнопленных, тщательно выискивая среди нас в первую очередь командиров, политработников, евреев. Я попал в число отобранных. Татары стали загонять нас в воду и расстреливать из пулеметов.
Будучи хорошим пловцом, я нырнул под воду, проплыл под водой до заградительного бона, качавшегося на волнах, и сумел продержаться за ним со стороны моря до наступления темноты. От воды ране стало легче. Ночью я выбрался на берег и примкнул к большой колонне военнопленных, направлявшейся в сторону Симферополя. Меня узнали друзья по зенитной батарее и удивились: „Мы же видели, как вас всех расстреляли“. Сомневаюсь, чтобы обессилевшие люди могли пробиться к крымским партизанам, если бы они и были, через немецкие и татарские кордоны».
По словам сержанта, количество пленных в Севастополе в те дни было велико, но цифры, которые он приводит, я не называю, так как не имею подтверждения[30]. Во всяком случае, в состав Приморской армии тогда входили три стрелковые дивизии, две бригады морской пехоты и ряд других подразделений.
<…>
Чтобы закончить с 95-й стрелковой дивизией, осталось упомянуть, что она создавалась еще в 1918 году в Бессарабии на базе партизанских отрядов и всегда стояла на западной границе. После падения Севастополя через какое-то время этот номер присвоили другой дивизии — бывшей 13-й мотострелковой дивизии НКВД. Эта новая 95-я стрелковая дивизия впоследствии станет 75-й гвардейской стрелковой дивизией и победно закончит войну, а о довоенной 95-й Молдавской стрелковой дивизии все забудут. Потому я не могу умолчать о дивизиях, бок о бок воевавших с моей 150-й. Каждая дивизия — это не абстрактный номер, а многие тысячи людских судеб, бойцов и командиров, не вернувшихся с войны.
По этим «исчезнувшим» дивизиям — я их так называю в повести — Центральный государственный архив Советской армии на запросы уцелевших ветеранов обычно односложно отвечает: «Документов на хранении нет». Такой ответ получил и я. Это означает, что данное соединение исчезло с лица земли со всеми документами. Вроде никогда такого соединения и не существовало. Это как наказание: дивизии не стало, из истории войны ее долой — лучше воевать надо было!
Многие и сейчас не хотят понять, что победу 1945 года обеспечили в 1941 году именно эти «исчезнувшие» дивизии, державшие фронт до последнего своего часа. За каждым номером довоенной кадровой дивизии стоят имена и фамилии тысяч военнослужащих, судьба которых никогда не будет установлена: их кости сгнили на дорогах войны, не будучи захоронены в круговерти боев 1941 года, или в адовых условиях фашистского плена и концлагерей.
Об этих дивизиях почти нет ни строчки в воспоминаниях полководцев, в других мемуарах и даже на картах-схемах многотомной «Истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 1961 года.
Объясняется это просто: действительно нет данных. Они исчезли вместе с личным составом. Те, кому посчастливилось уйти за Южный Буг и Днепр, впоследствии попали в другие части и по праву считают себя ветеранами этих новых для себя частей. Короткий же период пребывания на фронте в дивизиях прикрытия границы в 1941 году они считают недолгим и тяжелым эпизодом в своей военной судьбе.
Другие попали в плен и по возвращении домой — если выжили — долгие годы вообще молчали о начальном периоде войны, словно чувствуя себя виноватыми. И таких вернувшихся, чудом уцелевших, тоже не сыскать по всей стране — так их мало. Я знаю многих ветеранов, которые за 50 послевоенных лет так и не сумели разыскать однополчан из своих довоенных частей.
Возьмем 150-ю стрелковую дивизию. Лично я за все годы не отыскал никого из своей дивизии, а про 674-й стрелковый полк и говорить нечего. Где-то кто-то должен еще жить, но не объявлять же всероссийский розыск, когда далеко не все родители отыскали своих детей, потерянных в годы войны. Однажды я узнал, что в Москве объявился совет ветеранов 150-й стрелковой дивизии, и сразу написал туда. Вскоре получил ответ: «Сердечно поздравляю Вас и семью с наступающим Новым годом (На пороге был 1976 год. — Д.Л.). Искренне Лев Павлович Шустер. P. S. Дивизия (150) и полк (674), в котором Вы служили, были первого формирования. Совет ветеранов нынешней 150-й сд — третьего формирования».
Стало известно, что боевые знамена полков и дивизии сохранились, и в начале 1942 года 150-я стрелковая дивизия была сформирована вновь как дивизия второго формирования. Она просуществовала в составе вновь образованной 9-й армии до харьковского окружения в мае 1942 года, откуда она не вышла.
Наконец в сентябре 1943 года родилась 150-я стрелковая дивизия третьего формирования, командиром которой с весны 1944 года стал полковник В. М. Шатилов. Этой третьей дивизии было суждено дойти до Берлина, штурмовать Рейхстаг и водрузить на нем знамя Победы, после чего дивизия стала именоваться так: 150-я стрелковая ордена Кутузова 2-й степени Берлинская дивизия 79-го стрелкового корпуса, 3-й ударной армии, 1-го Белорусского фронта.
А теперь я хочу спросить: на этом уцелевшем красном знамени третьей по счету 150-й стрелковой дивизии разве нет капель крови бойцов и командиров тех двух 150-х дивизий — довоенной и второго формирования, погибших на первых этапах войны? И полки те же: 469,674 и 756-й, а меня признать не захотели.
Конечно, новая дивизия совсем другое соединение, но тогда и брали бы новый номер. А если сохранили номер дивизии, то не следует вычеркивать из ее истории довоенную 150-ю стрелковую дивизию и 150-ю стрелковую дивизию 1942 года.
Видно, все дело в людях, которые этим процессом управляют. Приведу в пример весьма схожую ситуацию. Выше говорилось, что в Петербурге есть совет ветеранов Приморской армии. Он является объединенным — в нем две самостоятельные секции: ветеранов-приморцев 1941–1942 годов и ветеранов-приморцев 1943–1944 годов. Когда, бывало, 9 Мая мы ежегодно проходили праздничной колонной по Московскому проспекту в составе ветеранов-однополчан войск южного крыла советско-германского фронта и Черноморского флота, то возглавляли колонну приморцы 1941–1942 годов, а за нами шли приморцы 1943–1944 годов. Каждый занимал свое место в соответствии со своей нелегкой военной судьбой. Никто не был забыт или обойден вниманием.
Разве московский совет ветеранов 150-й стрелковой дивизии третьего формирования не мог поступить так же? Да, не мог: возобладали амбиции, и славу штурма Рейхстага они делить ни с кем не пожелали, не понимая того, что нам, бойцам и командирам 1941 года, их славы не надо, на это мы не претендуем, а в истории боевого пути дивизии мы просто обязаны существовать.
Интересно заметить, что термины «второго формирования», «третьего формирования» возникли только в годы Великой Отечественной войны: не было раньше такого понятия, как «исчезнувшая» дивизия. В этой же войне таких дивизий оказалось много. О них еще должны будут вспомнить. (Кстати, аналогичная судьба и у 147-й стрелковой дивизии, в которой я служил в 1940 году.)
Пусть кто-нибудь, увидев знакомые номера частей, скажет с тихой грустью: «В этой дивизии служил мой дед, или отец, или муж, или брат — спасибо, вспомнил, добрый человек!» Пусть эти строки взывают к памяти пропавших без вести бойцов и командиров довоенных дивизий, судьба которых сложилась столь трагично в первые месяцы войны.
А может, командирами «исчезнувших» дивизий были бездарные личности, не умевшие воевать? Думаю, что для ответа на этот вопрос надо стучаться в кабинет Верховного — ему виднее!..
В конце второго тома шеститомного издания «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945» приводятся подробные списки номеров воинских частей и соединений, о которых хотя бы одним словом упоминается в тексте, с указанием на соответствующие страницы.
В данном случае речь идет о тех частях, которые в разное время участвовали в боях с 22 июня по декабрь 1941 года. Я сознаю, что о каждом соединении упомянуть невозможно даже в шеститомном издании, а можно сказать только об отличившихся соединениях, да и то вскользь двумя-тремя словами. Но в списке должны были найти место все корпуса и дивизии, участвовавшие в боях 1941 года (речь идет только о втором томе), а вместо ссылки на страницы текста — дать прочерк, если о них не упоминается, и оговорить в «Примечании», но составители сборника не нашли это нужным.
Сопоставляя приведенные во втором томе списки частей и соединений 1941 года с реальностью, я с горечью обнаружил, что отсутствуют номера именно тех частей, которые я выше отнес к числу «исчезнувших». Так, в сборнике не упомянуты совсем по Южному фронту: 14-й и 35-й стрелковые корпуса и соответственно 30,51,99,116 и 150-я стрелковые дивизии 9-й армии; 48-й стрелковый корпус 18-й армии. А также нет 147-й стрелковой дивизии Одесского военного округа, в которой я служил в 1940 году; 155-й стрелковой дивизии, в которой встретила войну моя тетушка Анна Ивановна. Ее дивизия входила в Западный особый военный округ. Упоминаются с искажением фактов: 25-я стрелковая дивизия (говорится только об ее участии в обороне Одессы в 1941 году); 95-я стрелковая дивизия (только участвовала в обороне Севастополя в декабре 1941 года). Ни слова не сказано о том, что 25-я и 95-я дивизии вынесли на своих плечах оборону двух городов-героев — Одессы и Севастополя — и полностью погибли в последнем. Красиво получается: города сами сделались героями без участия людей.
Как можно так писать историю войны? Получается, что остальные, перечисленные выше части вовсе не участвовали в боях 1941 года. Кому-то было выгодно именно так писать историю без «исчезнувших» дивизий.
<…>
3
Но, оставив полемику, вернемся к оставленным в ее пылу событиям июня 1941 года.
…Наконец я был среди своих — увидел Острикова, Овчинникова, Батеху, Исаева, Тараканова и остальных. В одной из хат, где разместился штаб полка, под руководством неунывающего секретчика Исаева даже работала вольнонаемная машинистка. Глядя на то, как она спокойно печатает возле открытого окна с видом на сад, не хотелось верить, что идет война. Эту молодую и приятную женщину я больше не встречал — таки не знаю, что ей было уготовлено: я в штабе потом не бывал, да и штаб как таковой сохранялся недолго — только пока стояли на границе.
674-й стрелковый полк занимал позиции на участке Вишневка-Баймаклия в центре 150-й стрелковой дивизии. Южнее нас расположился 469-й, а севернее — 756-й стрелковые полки. Пока дивизия шла из Одессы, ее участок фронта держали полки 25-й и 95-й стрелковых дивизий, а теперь и 150-я прочно закрепилась на своих рубежах.
Штаб дивизии и полевые склады находились где-то в районе Комрата — это районный центр Гагаузии. Есть такая народность в Молдавии — гагаузы. Их предками были болгары[31].
Я узнал печальные новости первых дней — уже были потери. Впервые держал в руках страшный документ, каким является «Журнал потерь». Листая его, нашел знакомую фамилию: мой тезка — сержант из политотдела — Зуев Дмитрий Павлович убит 24 июня и похоронен в селе Епурени. Странное чувство появилось — война уже бьет по-живому.
Забегая вперед, скажу, что все из нас, кому будет суждено погибнуть в первый месяц войны, попадут в «Журнал потерь» и в основном будут захоронены. Те, кто погибнут за Днестром после 24 июля — на второй месяц войны, никуда не будут записаны и не будут похоронены. Но и те, и другие навсегда останутся для родины без вести пропавшими солдатами: «Журнал потерь» из окружения не вынесли. Теперь о погибших можно толковать, кому что заблагорассудится: «Человек с войны не вернулся. Кто знает, что с ним стало. А может он…?» И на родных солдата станут смотреть как-то особо! Вот она — суровая правда войны. Кто же замолвит доброе слово за тех, «пропавших без вести», погибших у нас на глазах? Не дай Бог пропасть без вести…
По-разному попадали солдаты и командиры в категорию пропавших без вести. Не имея документального подтверждения таких случаев по Южному фронту, приведу для примера некоторые цифры по Западному фронту, которые в те дни были характерны для любого участка фронта.
Так, в донесении о потерях в 117-й стрелковой дивизии, участвовавшей в двухдневной операции под городом Жлобин 5 и 6 июля 1941 года, говорилось: «Потери личного состава 2324 человек или 19,3 % к штатной численности дивизии. В том числе: убито 427 человек, ранено 311 человек, пропало без вести 1586 человек»[32]. Что можно добавить к сводке? И это за два дня боев и только в одной дивизии!
Очень легко было оказаться в числе пропавших без вести. Все ли знают, что на фронте мы пребывали безымянными?
Приказом НКО № 171 в 1940 году вводились красноармейские книжки для рядового состава и младших командиров в качестве единственного документа, удостоверяющего личность[33]. Но этим же приказом красноармейские книжки отменялись для действующей армии. Так, с началом войны мы были «засекречены» от самих себя, то есть были в полном смысле слова неизвестными личностями, знавшими друг друга только в лицо. Абсурд на каждом шагу, но так было. Я исключаю партийные и комсомольские билеты — их запрещалось использовать в качестве удостоверений личности.
Правда, в самом начале войны мы занесли краткие данные о себе в «смертный медальон»[34] — так мы называли их тогда, — который хранили в верхнем кармане гимнастерки вместе с махоркой. По молодости лет мы относились к медальонам несерьезно, хранили небрежно, часто попросту теряя их. Как правило, опознать погибшего могли только знавшие его в лицо, а похоронная команда далеко не всегда могла установить его личность, да и команды эти существовали у нас в дивизии очень короткое время, они были расформированы и направлены в строй.
И только 7 октября 1941 года приказом НКО № 330 введут красноармейские книжки с фотографией — они надолго станут единственным документом, удостоверяющим для тыла и для фронта принадлежность красноармейцев и младших командиров к Красной армии, но, пока их получит каждый, еще много воды утечет. Мы же в те дни не имели ничего и умирали безвестными…
По прибытии в полк я узнал еще одну неприятную новость. Начальником последней полковой школы обычного типа у нас в полку накануне войны стал старший лейтенант, ленинградец, выпускник пехотного училища на Садовой улице, что напротив Гостиного двора. На него приятно было смотреть: высокий, стройный, кучерявый, порывистый — красавец, да и только!
Помню, как в момент ухода полка из Одессы он обратился к майору Острикову с просьбой не оставлять полковую школу в Одессе, как распорядился командир полка, а следовать с полком на фронт:
— Товарищ майор! Разрешите! Мои орлы еще покажут себя…
Полк поспешно уходил, и Остриков только махнул рукой:
— Ну, идите…
«Орлами» были ребята 1923 года рождения, выпускники средних школ этого, 1941 года. Они не имели ни огневой, ни тактической подготовки и совершенно не были подготовлены к ведению боя. Мне рассказывали, как многие из них утыкались носом в бруствер окопа и палили… в небо.
В результате в течение первой недели боев полковая школа почти перестала существовать. Уцелевших сняли с передовой и отправили в тыл. Мы тяжело переживали первые потери, а особенно — неоправданные, но вскоре к этому придется привыкнуть. Кстати, сам старший лейтенант тоже был ранен…
<…>
А насчет того, чтобы беречься на войне, — сложный вопрос. Часто новички, бегавшие от пуль и осколков, чаще других на них и нарывались. Воевать надо уметь и пехотинцу. А о возможной смерти никто из нас в те дни и не думал. Наверное, в силу молодости — она отвергает всяческие мысли о смерти…
<…>
4
С первых дней пребывания в полку оказалось, что я на фронте лишний. Моботдел свои функции прекратил, а разведка противника в классическом понимании не требовалась. Противник? Вон его окопы за Прутом на виду. Численность войск противника — нам все равно, так как на дивизию приходилась полоса обороны до 100 километров! Кто у них командир полка — нам «до-лампочки» У них снарядов полно, а у нас «кот наплакал».
Над нашими головами весь день кружила воздушная разведка противника, а мы от нее только больше в землю зарывались, да еще от снарядов и мин.
О какой разведке могла идти речь?
И потом: разведка в первую очередь нужна тому, кто готовится наступать, а мы знали, что рано или поздно оставим границу. Откуда мы это знали? До нас доходили неутешительные сводки с фронтов: 26 июня оставлен Даугавпилс, 28 июня — Минск, 1 июля — Рига, 6 июля — Остров, 7 июля — Бердичев, 9 июля — Псков и Житомир. Немцы продвигались в глубь нашей территории почти по всему фронту. Мы сознавали, что с имеющейся плотностью войск на границе фронт не сдержать. А раз так, то пока мы здесь стоим в глухой обороне, где-то в далеком тылу наверняка уже готовятся новые стратегические рубежи, и их занимают свежие резервные дивизии и армии. Так должно быть! Мы же, скорее всего, должны будем просто стоять до последнего часа, а если повезет, то получим добро на отход в самый последний момент.
В любом случае к наступлению мы не готовы, да и оно пока нереально. Кроме того, немцы успешно продвигались в направлении Киева, и этот глубокий прорыв мог привести к полному окружению войск Южного фронта. Так что отход представлялся нам тоже непростым делом, даже если на то и последует приказ фронта.
Итак, выполнения ни моботдельских, ни разведывательных функций от меня не требовалось. Практически мы с капитаном Батехой остались не удел. Лично я не знал, чем должен заниматься ПНШ-3 (капитан Батеха) и его «аппарат» (это я) в военное время. Кто-то сказал, что меня должны перевести в контрразведку к старшему политруку Тараканову, что меня в принципе вполне устраивало. Пока же я успел получить от капитана Батехи одно-единственное задание, выполнив которое я больше капитана никогда не встречал. По-видимому, его куда-то откомандировали.
А поручение состояло в том, что под мое начало был выделен обоз в 60 парных повозок, на которых мне надлежало доставить в полк патроны, мины и снаряды из тыловых складов дивизии, располагавшихся в 40 километрах от границы. Такая роскошь, как карта или компас, была в те дни недоступна. Пришлось выполнять боевую задачу по солнцу и по принципу: «— Тетя, скажите, как проехать в…» — И смех и слезы.
Но самым интересным оказалось то, что из всего состава моей команды в 60 с лишним человек кадровым военнослужащим был только я один, а остальные…
Вынужден сделать отступление. В первую неделю боевых действий в наш полк прибыло необычное пополнение. Это были добровольцы, местные жители — гагаузы, которые из-за преклонного возраста не подлежали мобилизации. В домашней одежде, в своих остроконечных, конусообразных, черных, барашковых шапках, на собственных подводах с низкорослыми, но очень резвыми молдаванскими лошадками, они гуртом заявились в полк и потребовали считать их бойцами. За один год со времени освобождения Бессарабии они не успели разочароваться в советской власти и дружно поднялись на ее защиту в грозном 1941 году. Уверен, что их и в списки полка никто не удосужился включить — такого еще не было, да и одевать их было не во что, дай возраст не позволял…
Они до конца оставались с полком, возили подогнем все, что требовалось батальонам, и молча погибали безвестными наравне с нами. Доброе слово они заслужили, но тогда и этого не было — недосуг!
Я до сих пор восхищаюсь этими скромными и мужественными людьми, так своеобразно понявшими свой гражданский долг. Назад к румынам они явно не стремились.
Вот такой обоз был придан мне для выполнения первой боевой задачи. Благодаря необычному контингенту я без труда мог разыскать любое нужное мне село в прифронтовой полосе. Карта и компас не требовались. Мои проводники находили дорогу и ночью, и днем.
Моя задача только на вид казалась простой. Сплошной линии фронта не было, и отдельные группы противника ночью просачивались на левый берег Прута и рыскали по селам, пока их оттуда не вышибали подоспевшие поутру роты полка. Я мог запросто угодить в лапы непрошеных «гостей»: одна винтовка и один пистолет ТТ имелись лишь у начальника колонны, то есть у меня, а мой «личный состав», кроме кнута, другого оружия не имел. Запомните, пожалуйста: так мы начинали воевать с хорошо отмобилизованным, обученным и до зубов вооруженным противником.
За 2–3 дня поставленную задачу моя команда выполнила — боезапас пришелся как нельзя кстати. Грузить и разгружать пришлось моим старикам…
<…>
5
1 июля на участке фронта севернее Яссы и Ботошаны 11-я немецкая и 3-я румынская армии перешли в наступление на Могилев-Подольском и Бельцском направлениях. В последующие дни 18-я армия Южного фронта, не имея достаточных сил для сдерживания противника, стала с боями отходить от границы.
После 3 июля противник прорвал Юго-Западный фронт в направлении Житомира и Винницы, а Южный фронт — в направлении Кишинева.
Обстановка на фронте продолжала накаляться. Поэтому моим непосредственным начальникам — майору Острикову и капитану Овчинникову — было не до меня, и я принялся сам искать себе работу: нельзя же на фронте задаром есть пшенную кашу.
Кстати, о каше. Среди солдат ходила такая байка: «Если бы русского солдата кормили котлетами и шоколадом, как немецкого, то мы через месяц-два дошли бы до Берлина!» Если бы было так!
Дело себе я нашел не задумываясь — просто явился в родную мне 1-ю пулеметную роту и предложил себя в качестве «внештатного инструктора» или на любую сержантскую должность, поскольку командиров отделений уже недоставало.
С неделю провоевал в своей бывшей роте. Воевал, как и все, — ничего героического не совершил. Целый день мы находились в окопах и вели прицельный огонь по противнику. Плохо было то, что с воздуха нас постоянно пасла «рама» — самолет-разведчик немцев. Она непрерывно передавала данные о нашем расположении, о любых передвижениях (а мы только и затыкали «дырки» по фронту!), любых новых целях вплоть до появления на передовой полевых кухонь. Теперь кухни вынуждены кормить наст олько ночью.
Практически все светлое время суток мы находились под ураганным артиллерийским и минометным огнем. Наша артиллерия экономила каждый снаряд и стреляла редко. Все ожидали прибытия обещанного эшелона со снарядами. Железная дорога из Одессы через село Романовку на румынскую сторону проходила как раз в полосе обороны 150-й стрелковой дивизии. Но когда эшелон пришел, оказалось, что привезли противогазы, и все чертыхались.
Иногда днем лодочные расчеты румын под прикрытием артиллерии внезапно выбегали из укрытий, грузились в лодки и отчаливали. На середине реки они оказывались под прицельным пулеметным и винтовочным огнем с нашей стороны и несли большие потери. Уцелевшие поворачивали назад. Многие из нас уверяли, что когда румыны гребли к своему берегу, то якобы попадали под огонь немецких заградительных отрядов, но подтвердить не могу — не до того было, но то, что румынские солдаты являлись для германской армии «пушечным мясом» и немцы их презирали и как солдат, и как нацию — это факт.
Чаще было по-другому: пользуясь слабой плотностью наших войск на рубежах обороны, противник ночью проникал на нашу сторону, и его приходилось каждое утро с трудом выбивать то из одного села, то из другого. Если бы это были не румыны, а немцы — неуверен в том, кто кого вышибал бы тогда из села: мы в те дни еще только учились воевать, и воевали пока «на ура», а не «по науке».
Не забыть, как в одно лучезарное, тихое утро рота с ревом, матюгами и выстрелами на бегу буквально штыками выбивала румын из прибрежного села. Это было где-то около 1 июля. Мы неслись толпой по широкой главной улице села, поднимая клубы пыли. Мы орали, стреляли, кидали гранаты, кололи штыками.
В это утро мне довелось в первый раз перепрыгнуть через поверженного неприятеля. До этого случая наша война проходила на расстоянии, мы убивали друг друга издалека. А тут я внезапно остановился как вкопанный: передо мной, раскинув руки, лежал вражеский солдат. То л и мою пулю он схватил, то ли моего напарника, не знаю — все стреляли на бегу. Он лежал на спине, каска валялась рядом, и на вид ему было лет 18, не больше. Мгновение стоя над ним, я успел подумать: «На черта ты полез к нам? Тебе что — дома было плохо?» Стоять было нельзя — самого могли шлепнуть — и я побежал дальше, перескочив и через следующего убитого. Мне запомнилось смиренное и даже удивленное выражение его молодого, но уже мертвого лица.
Что можно добавить к этому эпизоду? Бой это был или не бой?
А если не бой, то что? Мы преследовали противника. Нас было много. Противник бежал от нас, оборачиваясь только для очередного выстрела в нашу сторону. Правда, кидали и гранаты.
Для большинства моих товарищей, а равно и для меня, это был первый ближний бой, когда вражеского солдата можно достать и штыком, и прикладом — вот он, рядом! Но что-то было нам пока несвойственно. От нас бежали, отстреливаясь на бегу, малограмотные румынские крестьяне, вчера переодетые в солдатскую форму. Мы хорошо знали, за что воюем. Понимали ли они, за что принимают смерть?
Да и с нами не все было просто. Война еще только началась, и злости к врагу, в хорошем смысле слова, у нас еще не было. Ни у кого не сожгли дом, не убили родителей или детей, не надругались над женой. Это все будет, но позднее. А пока мы воевали только в рамках солдатского долга и присяги: коль пришла война, надо стрелять и убивать — так было всегда, но необходимой для ближнего боя ненависти к врагу тогда у нас не было.
Мы долго будем «запрягать», а поедут, видимо, другие.
Как просто было втыкать штык в чучело на занятиях штыковым боем: «Коротким — коли!», «Длинным — коли!» — и все дела. А как воткнуть свой штык в тело живого человека, которого и врагом своим не явно ощущаешь? Пока твой враг другой — тот, кто залил кровью республиканскую Испанию, кто уничтожает в концлагерях немецких коммунистов, захватил всю Европу, а теперь полез на нас. Тот, другой, в униформе черного цвета, со скрещенными костями и черепом на фуражке, в рогатой каске, с засученными рукавами, полупьяный с автоматом в руках, уничтожающий все живое, не исключая стариков, женщин и детей. Этот другой — сверхчеловек! С ним мы еще встретимся.
И потом: что это за штыковой бой, когда один бежит (это — противник), а другой (это — я) должен всаживать штык ему в спину? Пока все выходило не по-человечески: надо колоть штыком в спину, стрелять — тоже в спину. Раньше мы об этом не задумывались, что на войне и так бывает.
А что было делать? Кололи в спину, стреляли в спину. Многие старались поражать выстрелом, нежели штыком вблизи, — это казалось более гуманным.
Для того чтобы колоть штыком живого человека, пусть даже вражеского солдата, надо было созреть и озвереть, необходимы были соответствующее душевное состояние и психологический настрой. В этот момент наружу должно выйти звериное нутро человека, которое обычно запрятано глубоко. Для этого нужно время, да и есть ли у каждого такое нутро? Мы же пока были просто человеками. Одних тошнило от вида своих окровавленных штыков, а у других глаза становились очумелые от такого боя, точнее — избиения. К тому же штыки у нас были не трехгранные, а ножевые, плоские, как у японцев.
Но и оставить в живых вражеских солдат было нельзя, да и стреляют они, наконец. У них такие же пулеметы, винтовки, гранаты. Надо было убивать.
Сами немцы, насколько я знаю, не были идиотами, чтобы принимать штыковой бой — они избегали таких варварских способов, когда это касалось их непосредственно. Штыковой бой — это анахронизм. В той войне успех в ближнем бою решался автоматическим оружием, а его-то у нас и не было.
Я считаю штыковой бой отголоском прошлых войн, и как бы он не рекламировался в литературе как истинно русский способ уничтожения врага, он мне не симпатичен. В случае захвата вражеских окопов нападающая сторона вступает в ближний бой, и в ход идут и штыки, и кинжалы, и автоматы — это уже вынужденная необходимость, в окопах не развернуться. Когда попадешь в эту сутолоку, будешь и колоть штыком, и бить прикладом в лицо — деваться некуда, но я против этого, особенно в случае, когда надо бить в спину — противно это.
Когда бойня закончилась и мы поостыли, то добрая половина из нас не могла спокойно смотреть в глаза товарищам, люди отворачивались, многих тошнило — что-то надломилось в каждом из нас. Для всех это было внове, но вскоре прошло. А мне тогда и показать нельзя было, что испытываю те же самые чувства. Я — пехотный сержант и должен был для своих бойцов служить примером в таких делах.
<…>
6
3 июля мы узнали о выступлении по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина.
10–11 июля начались Смоленское сражение и оборона Киева.
Это были совсем не радостные вести. Нам стало известно, что правофланговые части Южного фронта не могут сдержать натиск 11-й немецкой армии и им угрожает окружение. Две трети территории северной Молдавии потеряно. Враг приближался к Сорокам, Рыбнице, Кишиневу, а это уже полоса обороны нашего правого соседа — 95-й стрелковой дивизии. Скоро очередь дойдет и до нас.
Всю первую неделю июля я еще оставался в 1-й пулеметной роте, где пришелся ко двору. Узнав из выступления Сталина о том, что ничего не должны оставлять врагу, мы приняли это близко к сердцу и решили ответить делом на призыв любимого вождя. К этому времени все приграничные села на нашем участке были брошены жителями на произвол судьбы. Женщины и дети ушли на восток, угоняя скот, а мужчины, как говорилось выше, приходили в полки и воевали вместе с нами.
В батальонах и ротах давно приелась постоянная пшенная каша, которой нас кормили ежедневно. Других ресурсов не имелось, а скоро и того не будет. В селах же взаперти и впроголодь томились представители домашнего пернатого царства: куры, утки и гуси.
Надо было кого-то кормить: либо их, либо нас. Но за родину воевали мы, а не они — значит, кормить следовало нас. По моей инициативе мы целую неделю кушали этих птичек. Разработали «график» — кому и когда идти на охоту. Недаром до армии я успел полюбить охоту. В села ходили по 2–3 человека, ночью. Сонные птицы сидели на насесте. Без труда в полной темноте мы сворачивали хрупкие головки и совали отощавших птиц в вещевые мешки, а утром возвращались в роту.
В светлое время суток предстояла более трудная задача — сварить птицу. Для этого те из нас, на кого пал жребий, ползли по-пластунски со скарбом в сторону противника подальше вперед от своих окопов — не меньше, чем метров на 100, — находили ямочку за бугром, разводили костерок, ставили на него ведро с водой и выпотрошенной по всем правилам птицей и быстренько отползал и. Дело в том, что все это было довольно рискованной операцией. Обычно противник, усмотрев в наших действиях определенно установку секретного оружия, не менее того, открывал шквальный огонь артиллерии. Нам надо было все сделать ювелирно: чтобы снаряды не накрывали наши окопы, чтобы не пострадало ведро, чтобы сами не взлетели на воздух вместе с недоваренной птицей, а там — как повезет. В любом случае мы сутки напролет проводили под тем же самым огнем. Насколько помню, за ту неделю по костру попадали не один раз, но никто из нас не пострадал. А птица нам с голодухи казалась невероятно вкусной. Естественно, лейтенанты были с нами солидарны — они питались той же пшенной кашей из общего котла…
Неожиданно меня разыскали мои командиры: капитан Овчинников и майор Остриков:
— Кто разрешил уйти в роту?
— Товарищ майор, я без дела…
— Это мы исправим. Знаешь ведь, что ты один «совсекретчик» на весь полк и не имеешь права без приказа рисковать собой. Чтобы это было в последний раз. Ступай в ветлазарет. Скажи, чтобы дали лошадь, и с завтрашнего дня будешь моим связным — куда пошлю…
— Слушаюсь.
Оказывается, моей персоной дорожили в полку, а я по молодости лет об этом и не догадывался. Потом мне с хохотом рассказывали друзья, что майор прослышал о куриных делах 1-й пулеметной роты и о «внештатном инструкторе» по этой части. Забегая вперед, скажу, что недалеко время, когда по приказу Острикова в полевых кухнях начнут варить лошадей. Просто в эпизоде с курами мы ненамного опередили время.
Итак, теперь у меня были новые обязанности. Но лучше бы их не было! В ветеринарном лазарете мне подобрали симпатичную кобылу из числа выздоравливающих после ранения, но извинились, что седла у них нет, а стремена кто-то вчера уволок:
— Вот только уздечка сохранилась…
Я поблагодарил и за это, нашел прутик, с телеги залез на кобылу и был таков.
«О, героическая Красная армия! До чего ты докатилась?»
Пожилой майор — командир полка — бежит через всю Одессу поднимать полк по боевой тревоге на войну, а молодой сержант, который никогда в жизни и близко не подходил к лошади, будет связным со штабом дивизии, будет доставлять секретные пакеты на этой кобыле. А где телефонная связь, где рация, велосипед, мотоцикл? Ничего нет! Опять лошадка, как в Гражданскую войну, а на той стороне — армады колесной и гусеничной техники, новейшие радиостанции. Как женам их победить?
С неделю я выполнял функции связного, и все бы ничего, но кобыла была с норовом, как хороший осел: хотела — шла, не хотела — не шла, а бежать — ни в какую. Может, ее не вылечили до конца, не ведаю. Вместо седла я использовал шинель. Со стороны на нас посмотреть — обхохочешься. Знал бы противник, что так секретный агент разъезжает, — не поверил бы!
Однажды на дороге произошла веселая сценка: навстречу мне полз бронетранспортер командира дивизии, которому я когда-то докладывал в Одессе, будучи дежурным по штабу. Генерал-майор Пастревич[35] стоял, наполовину высунувшись из люка, и осматривал на ходу местность. В коричневом кожаном пальто и с биноклем в руках он выглядел внушительно. Я четко поприветствовал генерала, успев переложить прутик в левую руку. Генерал ответил на приветствие, видимо посчитав, что я достойно олицетворяю ударную мощь вверенной ему дивизии.
Когда разминулись, я едва от смеха не скатился со своего четырехногого вездехода. Я выглядел похлеще бравого солдата Швейка: в каске, при оружии, на тихоходной кобыле без седла и стремян. Смех, да и только, но после этого мне стало грустно: не такой желал бы я видеть нашу армию.
В другой раз было совсем не смешно. Возвращался в полк. Сплошной линии фронта давно не было. Разрывы между батальонам и и ротами прикрывать было нечем. Смотрю — три фигуры вдалеке машут руками и что-то выкрикивают. Явно не наши — румыны, а у меня за пазухой секретный пакет из штаба дивизии. Я не ответил, и они стали стрелять. Это мне было совсем ни к чему. Кобыла моя еле-еле передвигала ноги. К тому же если бы я свалился наземь вместе с шинелью, заменявшей седло — а это было так легко! — то в чистом поле без подручных средств я на кобылу больше забраться бы не смог. Хоть и жалел я это славное животное, на сей раз пришлось ей каблуками живот прогладить. Только после того она вынесла меня в сторону, в укрытие, и я благополучно добрался до полка.
Господин случай нередко выручал меня на фронте и потом. Примеров хоть отбавляй. Ехал на кобыле по дороге в гору справа — лес.
Что меня дернуло свернуть в лес именно в том месте? Слез, привязал кобылу к дереву. Всего-то пару минут перекуривал, как очередной шальной снаряд разорвался на дороге буквально в том месте, где я должен был находиться, не сверни в лес. Даже похолодело под сердцем — так близко прошла смерть. Мы давно привыкли и к свисту снарядов, и к их разрывам в непосредственной близости, и считали это явление неотъемлемой частью нашего фронтового быта, особенно тогда, когда у противника снарядов навалом, а у нас их нет. Но такие случаи, как этот, действовали на психику. Хочешь не хочешь, а поверишь в какую-то Высшую Силу.
Были и совсем нелепые случаи, которые не делали мне чести. Как-то возвращался под вечер в полк, но на этот раз без кобылы. Дорога шла с горы, и вдалеке маячили роща и дымок от полевой кухни, которая привезла батальону ужин. Я туда и направлялся за пшенной кашей — в полку стало голоднее, а птицу давно съели.
Ситуация банальная: дорога пролегала между позициями противника и нашими. Справа от дороги залегли наши, а слева — румыны. Дорога вилась по ничейной полосе — так называемой нейтралке — метров 500–600. Я не помню, как попал на нее, по-видимому, не хотел петлять, стремился к каше напрямую. Сперва по мне открыли огонь румыны, а наши, разглядев меня, с матюгами стали прикрывать огнем справа, и мне пришлось выходить из-под него по всем правилам пехотного искусства. Все обошлось благополучно, но ругани в свой адрес наслушался досыта. Спасибо второму батальону за «огонек» — они меня здорово выручили…
Вскоре после выступления Сталина по радио и в связи с прорывом противника на Житомир, Винницу и Кишинев были приняты первые важные решения по обороне Одессы.
6 июля решением Военного совета Южного фронта была создана Приморская группа войск, которая 19 июля будет переименована в Приморскую армию.
Первоначально в состав Приморской группы войск вошли: три левофланговые дивизии 9-й армии — 25,15 и 51-я, — укрепрайоны, 26-й и 79-й погранотряды НКВД, Дунайская военная флотилия и Одесская военно-морская база. Во главе группы войск был поставлен по совместительству командующий Одесским военным округом генерал Н. Е. Чибисов[36]. Узнав об этом, мы поняли, что наша дивизия в самое недалекое время начнет отход к Одессе. Всех нас это устраивало: Одесса — наша мама!
Через пару дней на участке 150-й стрелковой дивизии положение резко обострилось. «8 июля в районе Фельчиу противник форсировал Прут и стал, наращивая усилия, продвигаться в восточном направлении. 150-я стрелковая дивизия контратаковала врага и, нанося ему значительные потери, отбросила на западный берег, восстановив положение» (Тюленев И. В. Через три войны. С. 132).
В тот же день командующий Приморской группой войск получил от штаба 9-й армии приказ об отводе войск от Прута и Дуная к Днестру. Но Приморская группа войск продолжала вести кровопролитные бои на границе с прорвавшимся противником и отходить не стала. К концу дня стало известно, что приказ об отводе левофланговых дивизий отменен. Видно, принимая решение на отход, командование не было уверено в том, что 95-я и 150-я дивизии, на чьих участках прорвался противник, сумеют выстоять в эти дни.
Бои 8–9 июля были действительно кровопролитными. Дивизия и полк понесли невосполнимые потери. Проезжая 9 июля мимо медсанбата, я был поражен, какое огромное количество раненых, лежавших вповалку на траве, ожидало очереди на обработку ран. Хирурги не справлялись с нагрузкой, валились с ног от усталости. Число погибших тоже было велико. В этих боях батальоны заметно поредели. Теперь потери нам не восполнить.
Если бы за два дня до боев под Фельчиу майор Остриков не забрал меня из пулеметной роты, моя песенка была бы спета.
<…>
7
Через некоторое время мне представился случай избавиться от четырехногой подруги. Меня разыскал комсорг полка Белозеров. Я его хорошо знал. Он сообщил мне, что сколачивает комсомольскую разведроту и предлагает мне войти в ее состав то ли командиром отделения, то ли помощником командира взвода — смотря потому, сколько наберется добровольцев. Чтобы избавиться от кобылы, я готов был на что угодно. Тем более что в этой роте уже были мои старые друзья по учебной роте — Смирнов и Могилевский, оба — сержанты.
Получив разрешение командира полка, а ему после жестоких боев под Фельчиу опять было не до меня, я дал согласие Белозерову.
Этим новым делом мы прозанимались с неделю, но то была не разведка, какой она обычно понимается. Каждую ночь мы производили групповой поиск вдоль рубежей обороны, особенно обращая внимание на те участки оголенного фронта, где совсем не было наших войск. Полностью прикрыть границу дивизия давно не могла. Мы стремились обнаружить скопление групп противника именно на таких участках. При этом мы действовали не столько глазами — много ли увидишь ночью, — сколько ушами, слушая чужую речь, пьяные песни, ругань. Противник пренебрегал всякой маскировкой: в открытую пользовался зажигалками, фонариками, иногда жег костры, чувствуя себя победителем, и это было нам на руку.
Мы появлялись перед их носом как тени и также исчезали. Вступать ночью в перестрелку с противником нам не разрешалось, и на их огонь мы не отвечали. Ночной поиск, как правило, обходился без происшествий, хотя отдельные группы и попадали иногда «в переплет», несли потери и не все возвращались под утро.
С рассветом командир полка вносил оперативные изменения в расположение рот и батальонов по данным нашей разведки, а мы днем отсыпались. Противник постоянно вел воздушную разведку, нашей же авиации, ни фронтовой, ни армейской, мы за все то время на участке дивизии не видели. У нас разведка работала только «на брюхе».
Обращаясь к тем далеким дням, я поймал себя на мысли, что не могу припомнить лиц лейтенантов полка, да и всего среднего комсостава за небольшим исключением. Почему так? А я знал многих.
Может, их было мало в полку? Да нет, 22 июня все штатные должности были укомплектованы от командира взвода до командира батальона. Все дело в том, что лейтенантов очень быстро не стало в полку: либо они были ранены, либо убиты.
В пехоте на переднем крае долго не живут — ни рядовые, ни командиры. «Старожилы» переднего края — редкое явление. К середине июля в ротах на лейтенантских должностях остались одни сержанты. Наверное, потому, что вначале сержантов было в 3–5 раз больше, чем лейтенантов, вот и осталось их больше. Но главное в том, что воевали сержанты по-другому. Им не надо было демонстрировать перед бойцами свою удаль и отвагу.
Лейтенантам было сложнее. Перед самой войной их к нам в полк прибыло много из военных училищ, в том числе из Ленинградского пехотного имени С. М. Кирова. Они должны были заменить выбывших по ранению на финской войне, имели отличнейшую боевую подготовку, являлись в полном смысле слова профессионалами своего дела, большинство имело спортивный разряд, парни хоть куда — все, как один, «кровь с молоком»!
А беда их была в том, что лейтенантов не готовили к обороне в условиях превосходства противника, не учили беречься от пуль и осколков. Молодые командиры не могли позволить себе бросаться на землю на глазах бойцов при свисте летящего снаряда или мины. Они считали, что обязаны личным примером воспитывать бесстрашие у рядовых и сержантов: этому их обучали в училище, и они первыми поднимались из окопов, если надо было вести людей вперед, и первыми погибали.
Лейтенанты более старших возрастов, призванные из запаса, держались в строю чуть дольше, особенно те из них, кто побывал на финской. Но многие в гражданской жизни успели растерять навыки боя, былую подвижность, внимательность.
В любом случае на передовой люди долго не задерживались, а молодые лейтенанты платили слишком большую цену за свое бесстрашие. Но война — это прежде всего трудная работа. И тяжелее всего было тем лейтенантам, которые до училища не прошли службу рядового бойца и не побывали «в шкуре» сержанта.
В дальнейшем время внесет свои коррективы. Научатся воевать и рядовые, и лейтенанты, а пока наши потери были неоправданно велики…
К середине июля обстановка на всем Юго-Западном направлении приближалась к критической черте. Продолжали в тяжелейших условиях отход на юго-восток в направлении Умани 6-я и 12-я армии Юго-Западного фронта. Давно отходила на юго-восток в направлении Первомайска 18-я армия Южного фронта. На участке 9-й армии 16 июля уже был оставлен Кишинев.
Учитывая все это, командование Южного фронта 13 июля отдало приказ вывести из «мешка» левофланговые дивизии 9-й армии, продолжавшие упорно стоять на государственной границе. Речь идет о 51, 25, 150 и 95-й стрелковых дивизиях. Людей в них становилось все меньше, но враг на участке границы от Килии до Леово — это более 270 километров — продвинуться на восток так и не смог.
13–14 июля первой начала отходить с боями на восток 95-я стрелковая дивизия, стоявшая севернее других в районе Кишинева. 16 июля оставила границу наша 150-я стрелковая дивизия, а 18 июля пришли в движение наши самые южные соседи — 25-я и 51-я стрелковые дивизии.
Итак, 16 июля мы ушли с границы, на которой простояли с первых дней войны: 14-й стрелковый корпус оборонял Прут с 22 июня по 16 июля 1941 года. Относительно стабильные условия оборонительного боя на границе для нас закончились. Теперь, на марше, в невыгоднейших условиях дивизия вынуждена была вести навязанный противником бой, не имея почти 50 % личного состава. Аналогичное положение было и в соседних дивизиях (об их фронтовой судьбе я рассказал выше). А 15 июля по приказу Ставки во всей РККА были временно расформированы все стрелковые корпуса. Теперь в составе общевойсковой армии будет 5–6 стрелковых дивизий.
Начавшийся отход войск Южного фронта продолжался до конца августа, пока на рубежах Днепра на короткое время не остановили врага вновь сформированные резервные дивизии, но и это ненадолго.
А вернутся на Прут — Государственную границу СССР с Румынией — наши части не скоро: только 26 марта 1944 года придут сюда войска 2-го Украинского фронта. Они выйдут на Прут на широком фронте и к середине апреля, форсировав реку, продвинутся в глубь Румынии севернее Яссы более чем на 100 километров, а войска 3-го Украинского фронта в это же время прочно займут рубежи на Днестре от Дубоссар до Черного моря.
И только 24 августа будет освобожден Кишинев.
А первыми выйдут на Прут в его среднем течении танкисты 2-го Украинского фронта, которые будут двигаться с северо-запада, и танкисты 3-го Украинского фронта, которые будут наступать с востока. Они соединятся в районе Хуши-Леово в 30 километрах севернее Вишневки, где в июне-июле 1941 года держала оборону 150-я стрелковая дивизия, правда — без танков.
Березовка
1
С 16 июля, с того дня, как дивизия получила приказ отходить на днестровский рубеж обороны, многое изменилось в нашей солдатской жизни. Теперь мы ночью постоянно находились в движении, а с наступлением дня занимали оборону на промежуточных рубежах — до следующей ночи.
Покидая ставшие родными места: Баймаклию, Комрат, Вишневку, Романовку, Михайловку, Тараклию, мы оставляли в этих краях много могил, но о них никто никогда не узнает, поскольку и списки личного состава, и «Журналы потерь» давно не велись, а вскоре будут безвозвратно утеряны.
С каждым днем все более ощущалась неустроенность нового походного быта. Вскоре стала неустойчивой связь дивизии со штабом армии, а потом и полков со штабом дивизии. Это назовут «полуокружением». Давно не было газет, радио и хлеба. Скоро не станет и патронов.
Через день-два поступил очередной приказ: не задерживаться, двигаться быстрее к Днестру, пока нас не отсекли в районе Бендер. Темпы движения колонн возросли. Двигались и днем и ночью. Начинал сказываться дефицит сна. Днем не давала покоя «рама». Она постоянно держала нас под контролем и корректировала артиллерийский огонь противника.
Села по-прежнему были пусты. По пути мы продолжали выполнять приказ Сталина: ничего не оставлять врагу. В погребах брошенных домов нам попадались громадные бочки с красным вином. Мы расстреливали их из стрелкового оружия, и драгоценная влага потоками выливалась на землю. Сами почти не пробовали вина, так как день напролет не могли укрыться от артогня, и вино было совсем не кстати. Не то время, чтобы «балдеть»: мы едва успевали бросаться на землю-матушку от очередного снаряда. Кроме того, после исчезновения из рациона хлеба мы постоянно ощущали голод.
Ежедневно мы несли большие потери. Противник буквально преследовал нас по пятам, а мы ему наносили мизерный урон — нечем! Начали экономить патроны.
С рационом совсем стало плохо. В одном селе разжились сырыми яйцами — нашли целую бельевую корзину. Положили ее на подводу, и несколько дней питались одними яйцами: разобьешь и выпьешь без соли и хлеба. А что оставалось делать, если нас и мирная жизнь не слишком баловала? Раз достали бочку меда, и тоже — на подводу. С неделю питались медом, запивая его водой.
Наши роты заметно поредели. Из двух рот делали одну, из двух взводов — один. Да и что за взвод в 15 бойцов? Отделения ликвидировались сами собой. Потери несли ежечасно, а противника достать было нечем: мы давно воевали без полковой артиллерии и минометов, а пока они были — вечно без снарядов и мин.
Не забыть один случай. Было это в районе Романовки. Как-то днем заскочили в пустую брошенную хату перекурить в тенечке — выдался такой момент. Только развалились на холодненьком полу, начался очередной артналет. Стали гурьбой выскакивать из хаты, чтобы сориентироваться в обстановке и залечь в канаве. В дверях образовалась шутливая давка. Кто-то с хохотом меня оттолкнул, выскочил из хаты и упал, сраженный осколком. Это был Михаил Абрамович Кур из бывшей учебной роты — учитель географии из Симферополя — очень веселый человек, непревзойденный рассказчик еврейских анекдотов, хороший товарищ. По всем законам на его месте должен был оказаться я, а он оттолкнул меня. Ребята были потрясены. Подобных случаев было много, но этот запомнился особо.
Прошли Тараклию, приближались к Бендерам. На днях нас крепко бомбили. К снарядам мы сумели привыкнуть и даже научились избегать поражения осколками, но к бомбежкам привыкнуть так и не смогли: все гудит и грохочет, небо закрывается черной землей, взлетающей на воздух, а ты лежишь и думаешь: «Попадет или не попадет?» При этом невольно ощущаешь свою полную беспомощность…
Опять испытал судьбу. Под утро полковая колонна остановилась на горе перед большим селом — оно внизу, как на ладони. Мы с приятелем из комсомольской разведроты, которая давно стала взводом, решили спуститься с горы и узнать, есть ли противник в селе? Сперва присели перекурить и понаблюдать. А когда спустились с горы идо первого дома оставалось метров 30, были ошарашены: на наших глазах шальной снаряд разворотил половину глинобитной хаты. Не задержись мы наверху, нас бы уже не было в живых. Настроение безмятежного утра было испорчено, и мы вернулись в полк: раз бьют по селу, значит, немцев в нем нет.
Сохранилась в памяти и такая неприятная сцена. На пригорке в пыли стояло 15–20 пленных румынских солдат вместе с нашим конвоиром. Надо было видеть, как тревожно и растерянно крутили они головами, сбившись в тесную кучу. Они понимали, что в сутолоке, хотя и планомерного отхода наших войск, до них никому нет дела. Хуже того, их нельзя отпустить «с миром»: где это видано? — и незачем было тащить с собой неизвестно куда. Они оказались лишними на этом свете и хорошо это понимали — большинство из них были пожилые солдаты. Кто их знает, может, они и сами сдались? Румыны без особой радости воевали за Гитлера. Не вовремя эти несчастные люди угодили в плен — их расстреляют.
Наш конвоир — молоденький солдат — все это еще не успел осознать, но его лицо выражало озабоченность оттого, что ему поручили охранять столько пленных и не сказали, что с ними делать…
Тем временем меня ожидало еще одно испытание. Как-то под вечер колонна приближалась к Бендерам. Тирасполь был уже недалеко. Меня разыскал капитан Овчинников:
— Сержант! Бери человек 50 и дуй в том направлении, — он махнул рукой в сторону, — там десант. Его надо уничтожить!
Солнце садилось. Выкликнув добровольцев на уничтожение десанта противника, я не мешкая повел отряд в заданном направлении. Тогда мы много не рассуждали: получил приказ — выполняй! За тебя командир подумал, теперь — твой черед действовать.
В те дни Остриков и Овчинников, да и другие, меня называли то сержантом, то младшим лейтенантом. Это звание мне должны были присвоить в условиях нормального, стабильного фронта, когда работают штабы, пишутся приказы, стрекочут пишущие машинки и штабники могут себе позволить менять подворотнички. В наших условиях все это исключалось, и майор с капитаном без конца повторяли:
— Как только образуется, так и оформим приказом… — Но образовываться не светило, а становилось только сложнее…
Скорым шагом отряд двигался в сторону большого села, где горели хаты. Ручных и станковых пулеметов с нами не было — их и в полку оставалось немного. Для уничтожения десанта мы располагали только самозарядными винтовками с магазином на 10 патронов. Они имели автоматическую подачу очередного патрона в казенник после выстрела. Штыки, как я уже говорил, были плоские, ножевые. Все бы ничего, но когда попадал песок, автоматика не срабатывала, что многим стоило жизни. Скоро эти винтовки заменят, но не нам, а тем, кто придет после нас…
Было 20 июля. Опустилась ночь. Наш путь лежал через село. Людей не видно, все попрятались. Догорали 5–6 хат. Впереди слышались непонятные шумы. Обратили внимание, что на дороге что-то белеет. Подошли. На спине, раскинув руки, лежала мертвая молодая женщина в растерзанном виде. Мы остановились. Молчим. Впервые за месяц войны увидели мертвого гражданского человека, да еще женщину. Нам это было в диковинку: «Неужели и женщин на войне убивают? А их-то за что?» О, святая наивность!
В западной части Молдавии гражданского населения мы не встречали, местные жители стали попадаться ближе к Днестру. Поэтому то, что мы увидели, потрясло нас всех. А тут еще возле изгороди притулился мальчуган лет семи. Всхлипывает и трясется. Мы спросили его:
— Что случилось? — И он, плача, пояснил нам, что эта женщина — учительница, жена командира Красной армии, приехавшая вслед за мужем в Бессарабию в 1940 году. За это ее немцы и убили, как «коммунистку». Еще муторней стало на душе — война стала оборачиваться к нам совсем другой, истинной своей стороной. Мы смогли только погладить мальчугана по головке и продолжали путь: приказ надо выполнять.
За селом простиралось картофельное поле. За ним — довольно широкая канава с водой и крутой подъем в гору, из-за которой и доносились шумы.
Рассыпавшись цепью, стали медленно подниматься в гору: луна выглянет — ложимся, спрячется — идем дальше. Я первым разобрал невдалеке немецкую речь, обращенную к нам:
— Wer ist da? Halt! Hende hoch![37]
Я тихо подал команду, и мы залегли. Немцы, почуяв недоброе, открыли сверху шквальный огонь. Они не были любителями ночных приключений. Они старались ночью спать, а тут мы потревожили их сон, и они всю свою тревогу и злость вложили в беспорядочный, но весьма плотный огонь. На первых порах завязалась перестрелка, причем мы так же били вслепую, как и немцы, в основном — на вспышки выстрелов. Ночь была черная, луна спряталась, звезд не видать.
На нашу беду немцы пустили вход ротные минометы, и нас сразу стало обдавать горячей воздушной волной при разрыве мин. Огонь немцы вели настолько интенсивный, что трудно было развернуть правую руку и достать из кармана шинели очередную обойму. Было ясно, что это не десант, а войсковая часть, устроившаяся на ночлег.
Лишних патронов для соревнования в бесполезной стрельбе мы не имели, людей терять было ни к чему, и я дал команду отходить. «Отходить» пришлось на животе и ногами вперед: развернуться под огнем многие не рискнули. При форсировании канавы шинель и гимнастерка задрались, и наши горячие животы окунулись в холодную воду. Так бесславно закончилось «уничтожение десанта». Вспышки выстрелов еще дол го мерцали по всей горе. Мы здорово растревожили немцев, но и только, продемонстрировав полнейшую беспомощность.
На наше счастье немцы не могли вести прицельный огонь, а нам из-под горы об этом нечего было и думать.
Как только выбрались на картофельное поле и смогли развернуться, легко оторвались от противника. Все это продолжалось недолго.
В противном случае потерь было бы не миновать, атак — вернулись все.
Через несколько километров мы наткнулись в чистом поле на цепь бойцов, спавших мертвецким сном в обнимку с винтовками.
Я упоминал, что нам не хватало сна, и обессилевшие бойцы стремились использовать для него любой подходящий момент. Мы для порядка обложили спящих матом:
— Мы там… а вы здесь… — перешагнули через них и пошли искать начальство.
Оказалось, что, услышав нашу перестрелку, которую издалека нетрудно было принять за настоящий ночной бой, командование полка остановило колонну и развернуло всех в цепь до выяснения результатов нашей «разведки боем».
Я доложил, что и как, но и так все было ясно: кольцо окружения упорно смыкалось. Ни о каком десанте больше речи не шло. Надо было спешить прорываться к Тирасполю, пока не поздно, и при этом сохранить как можно больше людей. Сразу последовала команда: «Встать! Продолжить движение!» К утру надо было оторваться от противника.
Это был далеко не единственный случай в ряду сомнительных разведывательных операций комсомольского разведвзвода… Капитан Овчинников позднее признался мне, что послал нас ночью зря и только боялся, что я потеряю людей. Пока есть люди — неважно сколько! — есть и полк.
У командира полка был уже третий ординарец — всего их будет пять. Два предыдущих погибли. Ординарцы вроде меня никогда не были кавалеристами, и им не всегда удавалось уходить от пуль и осколков. Майор чаще всего находился в седле, вспоминая молодость и Гражданскую войну. Но нынешняя война оказалась совсем другой, и он к ней не был готов. Вряд ли так необходима была чапаевская лихость, а рубака он, видно, был в прошлом отменный. В условиях этой, так неудачно для всех начавшейся войны от него требовалось нечто другое, но он явно растерялся, живя только прошлым опытом.
Скажите, а как управлять полком, если связь с дивизией от случая к случаю; сколько людей в полку — не известно: к нам ежедневно присоединялись бойцы других частей, выходившие из окружения со своими командирами. Кухни и медсанбаты не известно где. Не было патронов, хлеба, медикаментов и многого другого. Управляемость потеряна, а немцы продолжали планомерно нас уничтожать. Днем они били в лоб прямой наводкой.
Мы резко сворачивали в сторону, петляли, но от губительного огня было не скрыться. Трудно воевать голыми руками.
Моя тетушка Анна Ивановна, о которой я не раз упоминал выше, начавшуюся войну встретила в Барановичах военврачом 786-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии 10-й армии. После войны она вспоминала, как в лесах Западной Белоруссии отстал и затерялся ее медсанбат, полный раненых. Случайно на них наткнулся отходивший на восток зенитный артполк, а точнее — то, что от него осталось. Их медицина тоже затерялась вместе с врачом, и зенитчики охотно приняли медсанбат в свой состав. Военный врач, к тому же прошедший финскую войну, оказался зенитчикам очень кстати, а они — Анне Ивановне и ее раненым. С этим артполком дошла она до Москвы. Такая обстановка была почти на всех фронтах.
24 июля мы вышли к Тирасполю, пройдя с обозом, нагруженным ранеными, около 120 километров за 9 дней под непрерывным огнем, в бесконечных мелких стычках с наседавшим противником. И это были нестарые наши «друзья» румыны, а хорошо обученные немцы. 11-я немецкая армия, еще не потрепанная в боях, сосредоточилась на правом берегу Днестра, готовясь рассечь Южный фронт.
Днестр переходили по мосту. Запомнилась Тираспольская консервная фабрика имени 1-го Мая. После войны я часто видел этикетки этой фабрики в Ленинграде на банках с фруктовыми консервами.
При входе в город мы обратили внимание на артиллеристов какой-то части, хлопотавших возле своих повозок.
— Пехота, давай помогай!.. — кричали они нам.
Оказалось, что артиллеристы торопятся разгрузить цеха и склады фабрики, работавшей до последнего часа. Готовая продукция находилась на втором этаже. Мы сразу присоединились к артиллеристам и быстро нагрузили более двадцати подвод яблочными и персиковыми компотами, а также макаронами с мясом. Неделю питались этим богатством, но как всегда — без хлеба.
<…>
Трудно сейчас установить, чем было вызвано решение фронта о срочной переброске нашей дивизии в Котовск. Либо командование считало 150-ю стрелковую дивизию вполне боеспособным соединением — увы, этого не было — и хотело за счет нас укрепить поредевшие ряды 9-й армии на правом фланге. Либо, наоборот, могло считать, что дни дивизии сочтены из-за больших потерь — которые понесли тогда все дивизии — и пусть хоть какую-то пользу принесет дивизия, обороняя Котовск. Но она и этого не смогла.
Положение на правом фланге Южного фронта в районе Котовска, Ананьева и Первомайска, где отходили сбоями измотанные и немногочисленные части 18-й армии, было в те дни угрожающим: окружение всего того, что еще оставалось от 9-й армии, становилось реальностью. Собственно, мы давно находились в окружении, но не хотели признаваться в этом сами себе. Но все было именно так. И когда мы прорывались на восток со своими верными лошадками, пути отхода нам перекрывала колесная и гусеничная техника противника на несопоставимых с нашими скоростях. Мы были обречены остаться в окружении, хотя настроены были вполне оптимистически: «Противник напал на нас внезапно, скоро положение выправится, и мы им…»
А пока 150-я стрелковая дивизия получила приказ срочно погрузиться на автомашины 9-го автотранспортного полка для передислокации из Тирасполя в Котовск с целью удержания города, на который наступали части 11-й немецкой армии.
Преодолев на полной скорости 120 километров, 25 июля мы оказались в Котовске. Наши раненые с остатками медсанбатов других частей оставались в Тирасполе, а подводы дивизии — наша основная «непробиваемая» сила — нагнали нас на следующий день.
Мы рассредоточились на северных окраинах города и заняли рубежи обороны. Город горел и весь был в дыму пожарищ. Горели дома и деревья. Тут и там сиротливо торчал и изуродованные бомбежкой опоры линий электропередач; дороги искорежены гусеницами немецких танков, прошедших перед нами на Первомайск. Куда ни глянь — везде воронки от бомб и снарядов. Людей не видно. Притом Котовск продолжали бомбить, а артиллерийский огонь не прекращался ни на минуту. Это был какой-то ад, но мы уже привыкли ко всему.
Мы опять несли большие потери, и с первого дня обороны Котовска всем было ясно, что удержать город мы не в силах. Надо сказать, что в те дни задержать противника на 1–2 дня было совсем не мало.
28 июля по приказу фронта мы оставили Котовск: кольцо окружения смыкалось. 30 июля немецкие части переправились через Днестр.
Обстановка на фронте была хуже некуда. Под Уманью, захваченной еще 21 июля, немцы добивали в окружении остатки 6-й и 12-й армий Юго-Западного фронта, переданных в конце июля Южному фронту, но так и не вышедших из окружения. Южный фронт их так и не дождался.
О последних днях этих двух армий так говорится в книге «Великая Отечественная война Советского Союза» (с.89): «6-я и 12-я армии с тяжелыми арьергардными боями отходили на восток и юго-восток. Входе этих боев главными силами 1-й танковой группы врага совместное войсками 17-й немецкой армии удалось перехватить 2 августа коммуникации основных сил 6-й и 12-й армий и окружить их в районе Умани. Остальные соединения этих армий отступили в район южнее Первомайска. Окруженные войска вели героическую борьбу до 7 августа, а отдельные отряды — до 13 августа. Часть войск с упорными боями прорвались из окружения, многие воины стали партизанами, но тысячи верных сынов Родины пали смертью храбрых. Многих бойцов и командиров постигла тяжелая участь фашистского плена».
Насчет прорыва из окружения — сомневаюсь, так как противник с воздуха контролировал все передвижения войск, а для прорыва нужна еще и техника — на подводах далеко не уйдешь. Насчет партизан я тоже сомневаюсь: слишком в тот период этот район был запружен немецкими войсками, укрыться где-либо или проскочить в советской военной форме было невозможно. Большинство, конечно, погибло или попало в плен. Я специально воспользовался этой цитатой, чтобы по степени правдивости ее можно было сравнить стой, ранее приведенной цитатой, где описывались последние дни обороны Севастополя…
2–3 августа были оставлены Первомайск и Кировоград. Фронт уже на 160–200 километров завис северо-восточнее Котовска, который мы только что оставили.
В Котовске наши батальоны совсем поредели, и полк пришлось свести в один батальон, и то в нем было много присоединившихся к нам бойцов из других частей. Еще на подходе к Днестру нашей дивизии был придан 263-й Домашкинский имени Фрунзе стрелковый полк, оторвавшийся от своей 25-й стрелковой дивизии, повернувшей на юг к Одессе. От полка осталось тоже не более батальона. Такого перемешивания частей, как в 1941 году, наверняка не знала история войн. Все это увеличивало трудности в управлении войсками — своими и «чужими».
2
После Котовска наш путь лежал через Березовку на Николаев к переправам через Южный Буг, а если повезет, то от Березовки попытаемся прорваться к Одессе. Об этом мечтали все, от командира полка — у него там осталась семья — до последнего бойца, но после Котовска оторваться от противника мы уже не могли, и немцы принялись нас просто истреблять. Двигался обоз. По нему прямой наводкой били замаскированные батареи врага. Вспышки выстрелов отчетливо блестели перед нами. Колонна сразу сворачивала и неслась на полной скорости влево или вправо от дороги прямо по полям. Через 1–2 часа все повторялось сызнова, и мы снова куда-то сворачивали.
В первые дни августа майор Остриков поручил мне сейф полка. Это был небольшой оцинкованный металлический ящик размером с порядочный чемодан. Ключ находился у майора. Что было внутри, я не знал, да меня это и не интересовало. Мое дело — не потерять его. А как можно потерять? Очень даже просто: на каждом ухабе. Умные люди, считавшие, что сейф должен стоять в штабной комнате, не допускали мысли, что его когда-то придется привязывать к повозке — петелек или ручек не предусмотрели.
Но сейф, даже будучи кое-как привязанным, так и стремился при движении вылететь из телеги. К тому же повозку могло разбить снарядом, лошадей сразить осколком, что же мне в таком случае делать? Не на спине же тащить сейф вместо пулемета?
Определился и постоянный «экипаж»: Ваня Кучеренко, мой друг по бывшей учебной роте, учитель математики из-под Киева, и я — его начальник. Когда я отлучался, Ваня следил за сохранностью сейфа. На самом деле, ящик никому не был нужен — ни нам, ни немцам. Кому нужны «секретные» данные о полке, который уже не существует?..
У нас не было хлеба, патронов, медицинской помощи. Все обессилели от недоедания и недосыпания. Ели с полей, что находили.
А спать почти не приходилось: надо было спешить к переправам через Южный Буг, а то останемся на этой стороне. В Одессу уже не пробиться — она полностью окружена.
Мы тоже окружены со всех сторон, нас обстреливали и днем и ночью. Но мы сохраняли чувство юмора и бодрое настроение — человек до последнего момента надеется на лучшее.
Мне запомнилось 3 августа. Мы только что ушли от очередного артналета. Лежали в подсолнухах, переводили дух, курили. Майор решил посоветоваться: «Что делать дальше? Как вырваться из окружения?» Перекуривало нас около пятнадцати человек — ближайшее окружение командира полка. Все хорошо знали друг друга по довоенной службе и старались держаться вместе. Это были командиры разных рангов, но уже без подчиненных: сам комполка майор Остриков, начштаба капитан Овчинников, начальник особого отдела старший политрук Тараканов, физрук пол ка старший лейтенант Фрунжиев, начальник химслужбы полка лейтенант Белов и другие. Из приведенного перечня должностей видно, что батальонных, ротных и взводных командиров среди нас не было — они либо погибли, либо были ранены, либо они пропали без вести.
Я в той беседе не участвовал — лежал, курил, смотрел в синее небо. Не мне решать что делать — есть командиры постарше. И вдруг ко мне обратился Тараканов:
— Слушай, сержант, тебе надо вступать в партию. Как ты на это смотришь?
— Комсомол всегда был резервом партии! — ответил я с улыбкой, принимая его слова за шутку. Но это оказалось не шуткой. Овчинников подхватил:
— Мы насчет тебя решили: Остриков, Тараканов и я дадим тебе рекомендации. Возражений нет?
Теперь молчал я. Шутки в сторону. Дело серьезное. Так или иначе, рано или поздно, связывать свою жизнь с партией мне было на роду написано: я — передовой, сознательный, да еще из города трех революций… и так далее.
— Ну, что молчишь, сержант? — это опять Тараканов.
— А тут и вопроса нет. Что я в комсомол вступал так — войти и выйти?
— Тогда порядок. Мы в тебе не ошиблись. На днях подготовим партбюро, — сказал Овчинников. Все мы еще верили в лучшее.
Что касается порядка вступления в партию в то время, то, согласно Уставу ВКП(б), для того чтобы стать кандидатом в партию, требовались рекомендации трех коммунистов с трехлетним партийным стажем и знающих вступающего не менее года. В моем случае все условия были соблюдены, так как я служил в 674-м стрелковом полку с начала августа 1940 года.
Очень скоро, с 19 августа 1941 года, это положение изменилось: для действующей армии стали требоваться рекомендации трех коммунистов с годичным стажем…
Но партбюро так и не состоялось. Подходили наши последние дни. Кстати, комиссара полка батальонного комиссара Волкова и секретаря партбюро старшего политрука Тряпина я после Одессы таки не видел. Мы всех растеряли, но я продолжал считать: где командир полка, там и полк, и старался не потеряться.
У майора Острикова погиб пятый ординарец. Слава богу, комполка, целый и невредимый, успел выскочить из под огня, а ординарца сразило. Майор больше не в седле. Мы держались за него, как за «батю». Практически он давно уже не был командиром полка: без комбатов, без командиров рот, без самих рот — нет и полка. Осталось несколько старших командиров, пара сержантов, разрозненные группы бойцов из других частей — и все. Присоединившиеся к нам люди из других дивизий безропотно выполняли команды оставшегося в живых комсостава: дисциплинированные солдаты, они держались за него и боялись отстать от колонны.
В эту последнюю неделю Остриков уже не командовал. Он только своими «шпалами» отличался от нас. Он просто оставался хорошим старшим товарищем, уходил на восток вместе с нами, стараясь сохранить людей.
Мог ли Остриков организовать нормальную оборону на любом из приглянувшихся рубежей? Это явный абсурд. Он ничего не мог предпринять. Для боевых действий в обороне требовалось многое, чего у него не было. Фронта, как такового, тоже не существовало, управление частями отсутствовало, как и сами части. Наша группа — это не часть. Нормальное сопротивление врагу исключалось. Несопоставимы были и силы сторон. Еще оставались варианты перехода на партизанские методы борьбы с врагом и ухода на восток малыми группами по 2–3 человека и без обоза. Однако и это в те дни и в том районе было весьма проблематично.
Для ведения партизанской войны кадровые части были психологически не готовы, да к тому же для этого надо заранее организовать базы с оружием, запасами еды, медикаментов и прочего. Кроме того, во фруктовых садах партизанский отряд не скроешь. Плотность немецких войск в Одесской области была настолько велика, а воздушная разведка столь эффективна, что укрыться было невозможно. Даже позднее, когда немецкая группировка ушла дальше на восток, Одесская область оставалась не лучшим местом для партизанской войны.
Но все это мысли сегодняшнего дня, а тогда мы надеялись вырваться из окружения, перейти через Южный Буг и… достичь стабильного фронта. Увы! Стабильного фронта не будет даже на Днепре в начале сентября.
К 5 августа перед войсками Южного фронта находилось уже 46 вражеских дивизий (в их числе 4 моторизованных и 6 танковых), что создавало четырехкратное превосходство в пехоте. Об этом пишет бывший командующий Южным фронтом генерал И. В. Тюленев, но боюсь, что при этом он опирается на завышенный численный состав советских дивизий, имевших совсем мало активных штыков. Не мог Тюленев знать количество людей в дивизиях — они сами этого не знали, да и дивизий как таковых уже к этому времени не было.
Лучше всех сохранились только 25-я и 95-я стрелковые дивизии, которые смогли прямо с днестровских укреплений уйти почти без потерь и создать линию неприступной обороны вокруг Одессы. Они не блуждали в кольце окружения и не теряли людей зазря, как мы. Мы — это 30, 51, 150, 99 и 116-я стрелковые дивизии, которые от самого Днестра пытались вырваться из окружения, пробиваясь на восток, но достичь Южного Буга посчастливилось не многим. В основном от дивизий ничего не осталось. Пример тому — наша 150-я стрелковая дивизия, о которой я уже подробно рассказал.
6 августа немцы предприняли наступление на всем левом фланге Южного фронта. Форсировав Днестр, десять немецких дивизий прорвали оборону 9-й армии и к 8 августа разрезали фронт в стыке между 30-й (она была южнее) и 51-й (она была севернее) стрелковыми дивизиями в направлении Березовки. Между этими двумя дивизиями как раз и оказалась 150-я. Худшего было не придумать.
В образовавшийся прорыв вошла 11-я немецкая армия, оттеснив на восток 9-ю армию, а Приморскую армию — к Одессе.
В сторону Одессы сумели отойти и некоторые части 9-й армии, которые впоследствии пошли на пополнение 25-й и 95-й стрелковых дивизий, так как теперь самостоятельного значения не имели. Это были группы бойцов из 30-й и 150-й стрелковых дивизий, оторвавшиеся от своих частей. Мы тоже стремились прорваться к Одессе, нонам все пути перерезали немцы, стремительно продвигавшиеся к Южному Бугу.
8 августа немцы перекрыли шоссейную дорогу Одесса-Николаев. 10 августа остатки 9-й армии подошли к Николаеву и начали переправу через Южный Буг. «9-я армия истекала кровью, но не могла спешить с отходом, так как соседняя, 18-я, еще не успела переправиться через Южный Буг» (Тюленев И. В. Через три войны. С.139). Таков был приказ командования Южного фронта.
Об этих днях так говорится в шеститомнике «История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»: «К концу июля многие соединения Южного фронта понесли большие потери, особенно в вооружении и технике. Войска были утомлены длительными боями и тяжелым отступлением. К тому же часто возникавшая необходимость производить сложные перегруппировки для отражения ударов противника в условиях полуокружения привела к перемешиванию частей и не позволила армиям создать нужное оперативное построение».
О каком четком управлении могла идти речь? Штабы продвигались отдельно от своих разбитых частей, управлять им было некем. Все двигались на восток сами по себе. И далее там же: «В особенно трудных условиях отходила 9-я армия. С фронта ей пришлось отражать удары трех армейских корпусов 11-й армии (восемь дивизий), а с севера вести борьбу с 48-м мехкорпусом и венгерскими корпусами, стремившимися отрезать армии пути отхода. Это им удалось сделать, и 13 августа основные силы 9-й армии оказались окруженными в районе Николаева. Начались тяжелые бои».
С моей точки зрения, для характеристики тех дней слово «армия» не применимо, так как если штаб не в состоянии управлять своими соединениями, и они действуют самостоятельно, то армии как таковой нет, а есть разрозненные неуправляемые группы из состава этой бывшей армии. Весь механизм управления войсками был давно сломан входе боев, и восстановить его, а точнее, создать заново, можно было только в условиях стабильного фронта и при наличии свежих резервных частей.
И еще: если нет четкой линии фронта, которую должна занимать армия, то нет и самой армии. Выше я упоминал, что на картах-схемах периода начала войны стоят слова «Южный фронт», но линия фронта отсутствует на всем протяжении от Днестра до Днепра. Так оно и было. Это говорит о том, что нас уже нет, мы больше не существуем, нас неумолимая история списала «в расход». Мы — это бойцы и командиры бывших дивизий Южного фронта, все еще пытающиеся вырваться из кольца окружения.
Первая линия обороны войск Южного фронта после приграничных июльских сражений на Пруте появилась на картах Генштаба только к 10 сентября на Днепре, а в течение всего августа продолжалось планомерное уничтожение противником наших окруженных разрозненных групп…
Мы продолжали двигаться на юго-восток. Впереди — крупная узловая станция Березовка. Наши физические силы были уже на исходе, а моральные, как это ни странно, еще на должной высоте. Мы даже о хлебе не столько думали, как о том, чтобы не остаться без последних патронов. Я их всегда держал россыпью под гимнастеркой — так они в любой момент под рукой. Шинель давно утерял, никаких лопаток, противогазов, плащ-палаток и в помине не было. Все это нам уже не требовалось.
Мы были молоды, нам было легче, а нашим командирам — людям более старших возрастов — было намного тяжелее. Мы это понимали и оберегали их, как могли.
Как-то произошел прискорбный случай: где-то ребята достали пару ящиков с водкой. Борис Ткачук — учитель математики из бывшей учебной роты — «отвел душу» водкой, после чего застрелился. Не все выдерживали. Увидев такое, мы прикладами сокрушили содержимое ящиков.
Из-за непрекращающегося артогня нас оставалось все меньше и меньше, а до мифической Березовки — еще около 30–40 километров. Но мы совсем не продвигались в нужном направлении: немцы нас упорно не пускали на восток и при этом практически не несли потерь.
3
Наступил последний день существования нашего полка — 10 августа 1941 года. Каждая минута того дня до сих пор стоит перед глазами.
Когда забрезжил рассвет, колонна двигалась по большаку навстречу всходившему солнцу. В общей сборной колонне было около 50–100 пустых повозок. Те, в которые впряжены по две лошади, — это наша «техника», мы ее берегли. С ее помощью мы на скорости уходили от губительного огня.
Не успели порадоваться солнышку, как впереди засверкали вспышки от стоящих впереди нас на прямой наводке батарей. Сразу начались попадания в колонну, и мы, развернувшись влево, погнали лошадей по полю вниз, в балку. Там поблизости оказалось большое село. На какое-то время мы ушли от огня, но многие повозки, как всегда в таких случаях, взлетели на воздух вместе с людьми.
Главная улица села, вдоль которой располагались хаты и сады, упиралась в довольно высокую церквушку. Перед ней дорога поворачивала влево на горбатый мостик через совсем небольшую речушку. За мостиком дорога поднималась в гору, а там снова начинались поля.
Мы расположили повозки на околице в районе церкви, чтобы в случае чего было легче покинуть село и не плутать в нем. Непосредственно за церковью находилась горушка, густо поросшая фруктовыми деревьями.
Мы давно не останавливались в селах. Прокормить отступавший Южный фронт жителям было не по силам, а нам обращаться за помощью совесть не позволяла. Кроме того, немцы сразу переносили огонь на село, и мы боялись, что из-за нас пострадают люди. И еще: в тех условиях окружения даже за короткое время, проведенное в селе, бойцы расхолаживались, дисциплина падала. Поэтому мы и старались обходить села стороной.
А тут решили разгуляться. Деньги оставались почти у всех — тратить было не на что от самой Одессы. С Ваней Кучеренко мы зашли в сад к хозяйке, и она покормила нас хлебом, творогом, сметаной и персиками, а от денег наотрез отказалась:
— На что они мне? Завтра здесь будут немцы, да вот они! — И она показала куда-то рукой.
В стороне послышались нарастающие автоматные очереди, но немцы за деревьями были пока не видны.
Тем временем в село спустилась с большака еще одна отступающая колонна. Повозки принадлежали артиллерийской части и были забиты ранеными, лежавшими вповалку, чуть ли недруг на друге. Повозок у них было больше нашего, и они заполнили всю главную улицу.
К восьми утра над селом пролетела дежурная «рама» и передала по рации данные о скоплении обозов в селе. При этом разведчики не могли не видеть повозок с ранеными. Сразу начался интенсивный обстрел: немцы к тому времени позавтракали и их «рабочий день» начался.
Обстрел велся со стороны церкви. Трассирующие снаряды пролетали над мостиком и нашими головами. Вот один ударил в торцовую стену хаты, стоявшей недалеко от мостика, и снес добрую половину строения. Каждый снаряд находил свою цель — настолько была забита повозками улица села.
Не изгладится из памяти и картина уничтожения обоза артиллеристов. Все было так, как я когда-то читал в книгах: «летели кони, летели люди». Каждый взрыв поднимал в воздух куски лошадей и части человеческих тел. Все происходившее было страшным по своей сути даже для нас, повидавших к тому времени достаточно смертей.
С началом обстрела жители попрятались по погребам. Вслед за интенсивным артналетом за церковью послышались приближающиеся автоматные очереди. Это шли цепи пьяных немецких солдат с засученными рукавами, но в касках. Они двигались в нашу сторону и вели беспорядочный огонь из-за деревьев.
Капитан Овчинников скомандовал выводить наши уцелевшие повозки через горбатый мостик на гору и в поле. Одновременно он приказал мне занять оборону с оставшимися в строю бойцами и крикнул набегу:
— Уйдешь последним! — В этот момент он явно позабыл о том, что со мной все еще находился злополучный сейф. Теперь было не до него.
Прикрывать отход остатков полка осталось человек тридцать. Мы расположились под защитой церкви и открыли прицельный огонь по наступавшим фигуркам врага — они хорошо просматривались среди деревьев. Сверху на нас падали куски штукатурки, отлетавшие от стены, когда в нее попадал снаряд. Ведя огонь — кто стоя, кто с колена, а кто лежа, — мы успевали наблюдать за уходом повозок из села. Мы видели, как повозки проезжали через горбатый мостик, а над ними совсем низко роем пролетали трассирующие снаряды. Сам мостик был пока цел. Повозки, благополучно его миновавшие и вырвавшиеся из села, снова при подъеме в гору попадали под прямую наводку. Многие из них взлетали на воздух. Все это было страшно своей беспомощностью.
Повозки артиллеристов вообще не могли покинуть село. Они стояли так плотно, что уцелевшие повозки не могли выбраться из месива лошадей, людей и искореженных телег. Кроме того, — и это являлось главным препятствием — гнать на полной скорости по ухабам повозки с тяжелоранеными нельзя. Артиллеристы все остались в селе — им было не уйти. Виноваты ли эти люди? А если они не виноваты, то кто же тогда виноват? Война?
Конечно, мы не французы, и ни о каком «белом флаге» ни у кого мысли не возникало. Да это ничего бы и не дало: шло истребление окруженных частей, и его не остановить, настолько все было скоротечным.
За церковью наших повозок становилось все меньше, а немцы уже входили в село. Пора было уходить, и нам тем более что кончались патроны. Я крикнул сержанту Фасахову:
— Пошел! — И предпоследняя повозка рванула через мостик, снаряды ее не задели.
Теперь была и наша с Ваней очередь. В последний момент, оторвавшись от наседавших немцев, выскочили из села. Мы разлеглись животами на повозке, чтобы нас не задело, и птицей пролетели мостик: это я со всех сил вонзил ножевой штык в круп лошади, и обе вынесли нас на простор. Нам с Ваней повезло не только проскочить горбатый мостик, но и гору, и поле невредимыми. Везде валялись разбитые повозки. За полем нашлась большая балка, в которой еще до нас с Ваней сосредоточились веете, кому удалось уйти от этой бойни…
Название села я совершенно случайно узнал через много лет после войны. Я тогда работал на флоте и находился в очередной командировке в Петрокрепости (Шлиссельбурге), где у нас был Невско-Ладожский технический участок. Смотрю — появился новый работник, славная девушка, техник по образованию, недавно окончившая речное училище в Ленинграде. Чем-то она мне приглянулась, и я машинально спросил:
— Светланочка, а где ваш дом?
— Ой, Дмитрий Константинович, мой дом далеко…
— А все-таки, разве это секрет? — Настаивал я.
— Я издалека — с Украины. Вы все равно не знаете…
— Света! Я на Украине много где бывал. Скажите, пожалуйста, мне очень интересно…
— С Одесской области я…
После такого заявления пришлось нам уточнить все, что только было можно. Я описал ей село, церковь, горбатый мостик, речушку и все остальное. Что же оказалось? Света родилась в 1940 году. В тот день, 10 августа 1941 года, она находилась на руках матери в погребе той самой крайней хаты, в которую угодил снаряд в начале артналета, о чем я поведал выше.
Мы со Светой были всем этим ошеломлены. Света поделилась со мной и такими деталями: ее мать на всю жизнь запомнила этот страшный день. Вот как случается. От Светы я и узнал название села. Это была Ананьевка и совсем недалеко от Березовки…
В балке скопилось много уцелевших повозок — наших и не наших. Последние присоединялись к нам, поскольку среди нас находились старшие командиры — майор и капитан. На Березовку, как говорилось выше, двигались сплошные потоки обозов разбитых частей. Все перемешалось.
Перевязочных средств мы не имели, врачей и санитаров — тоже. Рвали пропотевшие рубашки, делали из них жгуты, чтобы приостановить кровотечение. Это было все, что могли сделать. Практически оказаться раненым в той обстановке — это неминуемая гибель. Но каждый из нас, кого пока не задело пулей или осколком, оставался бодрым и невозмутимым: так устроен человек.
Появилась чья-то походная кухня. Опять разделывают лошадь, но на этот раз поесть не пришлось. Сперва я отправился на поиски патронов. Кое-что удалось добыть. Вернувшись, узнал, что меня разыскивает майор.
Он протянул мне флягу:
— Сержант, поищи водички… — И я отправился на поиски ручья. Неподалеку обнаружил мутный ручей с желтой водой. Набрал воды в обе фляги, напился сам, вернулся к Острикову и напоил его.
Тем временем он с другими командирами обсуждал старый вопрос, не дававший нам покоя: что делать дальше? Сколько можно изображать из себя кроликов, мечущихся перед пастью удава?
И майор принял первое кардинальное решение:
— Сержант! Возьми ключи от сейфа, вскрой его и сожги все содержимое до последней бумажки. После этого объяви всем, чтобы сдали тебе свои письма и фотографии, а насчет документов пусть каждый решает сам. Когда все сожжешь, приходи…
Я выполнил последний приказ командира полка. Из своих личных бумаг я оставил только комсомольский билет и довоенные фотографии Нины. Помню, как сейчас, что не только добросовестно все сжег, как просил майор, но и пепел для чего-то закопал — совсем как в моботделе! Видно, окончательно сдурел под конец.
После этих мало приятных процедур майор объявил о своем втором решении:
— Будем расходиться группами по 2–3 человека и ночами продвигаться к Южному Бугу. Большими группами и с повозками дальше не пройти. Есть другие мнения? — Последние слова Остриков произнес совсем тихо: все это давалось ему не легко. Это — конец полка.
Ответом было наше гробовое молчание. Что оно означало? Как же дальше жить без полка? Полк — это наш дом и наша солдатская семья. Создалась абсолютно непривычная ситуация. Мы спокойно служили и воевали, как могли, зная, что за нас думает командир. А теперь он командовать больше не будет, думать надо самим. Мы к этому не привыкли, насучили выполнять приказы, и только. Привыкнем ли? Лучше бы такого не было.
Все продолжали молчать. Молчал и Остриков, не поднимая головы. Мы понимали, как ему было тяжело. Никто из нас не двигался с места. Никому не хотелось расходиться «кто-куда». Все понимали: воевали бы лучше, этого бы не случилось. Я и сейчас не могу сказать, лучшим ли было то решение майора. Чтобы судить, надо было находиться на нашем месте.
После длительной паузы все были вынуждены согласиться с майором. Повозки давно пора бросать и уходить, как пишут в романах, «тайными тропами в ночи».
Очень трудно было осмыслить происходившее чисто психологически. Солдаты и командиры кадровой, регулярной армии принимают решение о самороспуске того, что еще оставалось от полка. Партизанских навыков мы пока не имели, да многие из нас и не признавали такой формы борьбы — не созрели еще. А полк когда-то называли «красой и гордостью Одесского гарнизона»!
Итак, мы все согласились. По большому счету майор Остриков, потерявший полк, подлежал суду военного трибунала и расстрелу. А командир дивизии, от которой ничего не осталось? А командующий армией, растерявший армию? А командующий фронтом, разваливший фронт? А Верховный Главком Сталин, разваливший все фронты? Он один все решал. Винить следует нашу общественную систему, допустившую все это. А Сталин, вместо того чтобы предстать перед судом за преступления перед армией и страной, приведшие к 1941 году, присвоит себе звание Генералиссимуса под аплодисменты оставшихся в живых…
А потому так ли виновен в случившемся майор Остриков, честный и храбрый солдат войны? Пусть рассудит история. А мы, его бойцы и командиры, бывшие с ним до последнего часа, знаем, что он сделал все, что мог сделать в той сложной обстановке на Южном фронте, которая сложилась в результате бездарного руководства армией и всей военной машиной, по крайней мере, накануне войны и в начальный ее период…
Вовремя успел майор Остриков переговорить с нами. Практически он прощался со всеми. Опять прилетела «рама», засекла нас в балке, и начался очередной артналет. На этот раз били гаубицы. Их огонь всегда был более губительным для нас — другой калибр!
Все повторилось. Опять повозки понеслись в гору, вылетели в поле и рассыпались в разные стороны от огня. Как только мы выскочили на просторы широченного поля, так не замедлили открыть огонь пушечные батареи, как всегда — на прямую наводку. Впереди нас, пока еще вдалеке, послышались автоматные очереди. Это нам с Ваней вовсе ни к чему. На этот раз советоваться с ним было некогда, и я принял решение. Со словами:
— Держись крепче, Ваня! — я во второй раз вонзил штык в израненный круп лошади, и повозка стремительно понеслась по полю. Затем я подал Ване знак, и мы на полной скорости, на животах, с винтовками в руках, выбросились из повозки на стерню. Лошади еще долго неслись в сторону немецких батарей, привлекая внимание и отвлекая огонь на себя.
Все поле было в небольших стогах. Вокруг многих из них копошилась наша братва, а кругом все продолжало лететь на воздух: земля, убранный урожай, уцелевшие повозки и люди…
Нам предстояло принять последнее решение:
— Ваня, до темноты отсидимся в стогу, а ночью пойдем.
Ваня только кивнул головой в знак согласия — теперь он полностью полагался на меня. Армейская субординация продолжала жить.
Мы споро разместились со своими винтовками внутри стога. Я очутился на «первом» этаже, а Ваня — на «втором». Долго вокруг нас свистели снаряды, в ушах стоял грохот разрывов, визжали осколки. Мы же, не успев устроиться поудобнее, провалились в глубокий сон, и нам все было нипочем, хотя возможность взлететь с копной на воздух оставалась. Наконец и моральные, и физические силы иссякли — наступила реакция. Кто мы теперь без полка?
Засыпая, насквозь мокрые от соленого пота, наслушались, кроме воя снарядов, и совсем непривычных звуков: гудения, писка, жужжания мириад всевозможных насекомых. И ползающих, и прыгающих, и летающих. Кого тут только не было! Но уснули сразу крепко, несмотря ни на что. Мы не помнили, когда дремали часок-другой в последний раз.
К несчастью, нам пришлось проснуться до наступления темноты. И вот как это было. По краю поля двигался немецкий обоз. Такие же кони, только покрупнее; такие же повозки, только попрочнее; такие же солдаты, только не измотанные до предела и не голодные. Все то, да не то. Перед наступлением темноты немцы остановили обоз и принялись растаскивать стога, чтобы приготовить на ночь постели. Какой стожок нетронут, а там везде наши — кто спит непробудным сном, кто лежит раненый, а кто и контуженный.
После такого открытия немцы переворошили все поле, не оставив нетронутым ни одного стога. В результате появилась большущая колонна пленных — измученных людей, с трудом стоявших на ногах. Почувствовав неладное, я мгновенно пробудился от сна и услышал, как Ванюшку поднимают штыками. В этот момент и меня толкнули вбок:
— Los! Auf! Нende hoch![38]
Один из солдат уткнулся штыком мне в спину, другой ловко выхватил из сонных рук винтовку и трахнул ее об землю, а третий рванул за оттопыренную гимнастерку, откуда посыпались с таким трудом собранные патроны. С этой минуты мы с Ваней стали называться обидным и позорным словом «военнопленные». Действительно, лучше надо было воевать, но все ли зависело от нас?
Ночь провалялись на земле, а утром нашу колонну погнали в сторону Березовки. Сколько в нашей жизни будет таких бесконечных колонн! Дошли добывшей машино-тракторной станции имени Шевченко, где всех раскидали по разным сараям и заперли.
Мы начали приходить в себя, осматриваться и находить знакомых. С удивлением увидел двух молоденьких девчат в военной форме, которые пытались делать простейшие перевязки, помогая раненым больше добрым словом, нежели делом — медикаментов они давно не имели.
Это были те самые девчата — медсестры и военфельдшеры, — которых накануне войны призвали в Одессе на учебные сборы. Я тогда их часто встречал во время прогулок по городу. Особенно тяжело было видеть этих милых существ в гнусных условиях плена — в туалет никого не выпускали. И лет им было совсем немного, как, впрочем, и нам.
В этом заточении продержали более двух суток. Есть и пить не давали. Хорошо, что мы давно привыкли обходиться без еды. К нам без конца продолжали заталкивать все новые группы пленных. Все были без шинелей. На многих не было и гимнастерок. Кое-кто из среднего комсостава сбрасывал гимнастерки с целью скрыть звание, но оно никого не интересовало.
Я оставался со своими треугольничками — все равно петлицы насквозь проколоты[39], да и сержант — не велика птица!
Трудными оказались бы для нас эти несколько суток, если бы не сон: мы отключились от всего земного. Мы лежали вповалку и спали без конца. Раненые стонали — мы ничем не могли им помочь. Через пару дней нас вывезут отсюда на запад.
Эту главу я назвал «Березовка». Мы о ней грезили, но до нее так и не дошли…
Глава третья В германском плену 1941–1942
Будешти
1
Моему поколению прививали постоянную мысль о неотвратимости большой войны за освобождение всех пролетариев от ига мирового капитала. И как-то не приходило в голову, до чего же проклятая штука — война! Как она уродует жизнь человека, соприкоснувшегося с ней: одни погибли в расцвете сил, не познав прелестей жизни; другие стали инвалидами; третьи попали в плен — война без плена не бывает, что бы там ни говорили! — и те из них, кто выжил, долгое время считались людьми второго сорта, предателями родины; четвертые пропали без вести; пятые, которым повезло и они вернулись невредимыми, вполне возможно, на всю жизнь остались черствыми, жестокими людьми с надломленной психикой оттого, что им приходилось много убивать. Хорошо и спокойно могут чувствовать себя только те, кто не находились непосредственно на передовой, не видели врага вблизи и не убивали его своими руками. Они будут рассказывать много интересного и героического о войне, о том, в чем сами не участвовали и чего не совершали (к летчикам и артиллеристам это рассуждение не относится).
Не так давно по телевидению выступала группа ветеранов Отечественной войны. Некоторые из них произносили очень резкие слова о том, что в войну одни только посылали других в бой. Они теперь живут дома и умирают в своих постелях, а те, кого посылали, с войны не вернулись, и их кости лежат в лесах и болотах. Это прозвучало жестоко, но большая доля правды скрыта в этих словах. Однако дело не в том, что кто-то посылал, а кто-то шел в бой и погибал. Вся беда в том, что иначе армия существовать не может: одни отдают, а другие выполняют приказ. При этом шансы остаться в живых у всех разные. Другой война просто не бывает: ей всегда присуща смерть.
А там, как распорядится судьба: кто-то погибнет 22 июня 1941 года, а кто-то — 9 мая 1945 года. Я знал и таких.
А разве меньше горе тех, кто останется в живых, но никогда не сможет разыскать любимую жену, детей, родителей, родных и близких, затерявшихся на просторах огромной страны либо в эвакуации, либо в качестве беженцев, высланных, репрессированных? О пропавших без вести я говорил выше — повторяться не буду.
Сколько семей разрушила война, сколько горя принесла всем.
В далеком детстве мне довелось видеть впечатляющую антивоенную кинокартину западного производства «Снайпер». Она демонстрировалась в Ленинграде в эпоху немого кино в конце 20-х годов. В основу нехитрого сюжета был положен смертельный поединок двух снайперов — германского и французского. Каждый из них прятался за крупом павшей лошади, и они выслеживали друг друга часами. В фильме много документальных кадров, масса тяжелейших сцен Первой мировой войны. Но самое большое впечатление на меня произвел следующий эпизод. Сначала после надписи «Как весело идут солдаты!» нам показывают солдат, парадно марширующих по улицам европейских столиц. Их строй четко печатает шаг, на губах солдат — победные улыбки. Возникает следующий текст: «Как красива их форма!» Крупным планом нам дают аксельбанты, мундиры, кокарды, погоны, кивера, причудливых форм каски. Все это и грает в лучах солнца. А после слов: «Как блестят женские глаза!» — в кадре возникают восторженные девушки и женщины, посылающие солдатам и офицерам воздушные поцелуи. Радостно и возбужденно блестят красивые женские глаза.
Затем все меняется. После слов: «Как весело идут солдаты!» — мы видим, как в сплошном дыму и грохоте, под разрывами снарядов и шрапнели солдаты разных армий стремительно бегут, перепрыгивают через траншеи, окопы и падают замертво один за другим. «Как красива их форма!»
А крупный план дает лохмотья, потерянные каски, оборванные болтающиеся ремни и портупеи, вся одежда в грязи — солдаты валяются в ямах и воронках, заполненных водой. За словами: «Как блестят женские глаза!» — на экране возникают ряды могильных крестов на солдатских кладбищах. Глаза женщин полны слез.
Картина очень талантливо поставлена и снята операторами с высоким профессиональным мастерством, но сейчас ее мало кто помнит, а зря.
С каждым столетием оружие совершенствуется, а войны вовлекают в свою орбиту все большие массы гражданского населения. Если человечество может допустить третью мировую войну, то оно неизлечимо больно: эта война станет последней для людей Земли.
Но до большой войны было много малых, последняя из них — финская. Все войны победно кончались, а о потерях умалчивали. До сих пор неизвестно о судьбе военнопленных финской кампании, об их количестве, и куда они исчезли сразу после войны. Их оказалось неожиданно много с нашей стороны. Их число еще назовут. По телевидению называли внушительную цифру, но подтверждений я не нашел, так как все это тщательно скрывалось. Финны сразу вернули наших военнопленных после марта 1940 года — лишние рты им были ни к чему. Но Сталину, у которого пленных не бывает, а только дезертиры, они тоже оказались не нужны. Есть предположение, что их расстреляли «за измену».
Так что понятия «плен» для нас, молодых солдат, не существовало. Слово это никогда и никем не произносилось до тех пор, пока сами не оказались в плену.
Теперь пришлось задуматься: а что я все-таки знал о плене?
Стал вспоминать по прошествии первых недель плена: в детстве читал книжку малоизвестного автора под названием «За колючей проволокой». В этой почти документальной повести автор рассказывал о пребывании русских военнопленных в германском плену в годы Первой мировой войны. В книге приводились данные о том, какие ужасные условия были в лагерях; насколько велика была смертность; как русские военнопленные рвались на родину, узнав о революции в России; как правительство Ленина боролось за возвращение домой своих пленных солдат. Правда, об офицерах в книге почему-то ничего не сообщалось, хотя известно, что и их немало было в плену. В общем, книга тяжелая и нерадостная. Она произвела на меня, мальчишку, тягостное впечатление.
Затем я вспомнил, что мой родной дядя, брат матери, Николай Васильевич Комендантов, старший лейтенант-артиллерист, тоже был в плену, а в 1937 году его расстреляли в застенках НКВД как бывшего офицера царской армии и германского шпиона.
И еще: в 1929–1930 годах отец снимал на лето комнату в деревне Перечицы в четырнадцати километрах от станции Толмачево. Фамилия престарелого хозяина была Петухов. По его просьбе отец зимой в нашей квартире предоставлял раскладушку его немолодому сыну, учившемуся в Ленинграде на курсах сельских бухгалтеров. Федор Васильевич Петухов мне очень нравился, и мы провели с ним много приятных вечеров. Я внимательно и с большим интересом разглядывал его исключительно аккуратные и содержательные конспекты. Я восхищался тем, как он старательно учился, а ему было за сорок. Очень серьезный, выдержанный и порядочный человек с чувством собственного достоинства, одним словом — настоящий крестьянский сын. Как-то я обратил внимание на то, с каким трудом он пишет правой рукой, на которой не хватало двух пальце в. С мальчишеской непосредственностью я спросил его об этом.
— Я их оставил в 1916 году в германском плену, — ответил он.
Еще вспомнилось, как родной брат отца, мой дядя Борис Григорьевич, в августе 1915 года добровольцем ушел на фронт и не вернулся, пропав без вести. Ему тогда едва минуло двадцать лет.
Выходило, что в разное время я соприкасался с понятиями «плен» и «без вести пропавший», но по молодости лет значения тому не придавал.
<…>
…Мы не сразу привыкли к своему полному бесправию. Нас теперь никто не мог защитить: «ни бог, ни царь и ни герой». Это походило на положение африканских негров, вывозившихся некогда в качестве рабов на американские земли. Но так было, и от этого никуда не уйти.
Меня и моих товарищей по плену в первые дни никто не убивал, а также не допрашивал: «Кто твой командир и какой номер части?» Мне не приходилось стоять встрою при отборе «комиссаров, коммунистов и евреев». Я всегда считал, что, по крайней мере, каждый второй советский человек мог смело именовать себя «беспартийным большевиком» и с успехом мог заменить комиссара в бою. Мы, молодые, являлись детьми своей эпохи и другими быть не могли.
Относительно несостоявшихся избиений и допросов следует пояснить. Советские солдаты и офицеры, в июле-августе 1941 года на Южном фронте попадавшие в плен в огромном количестве, были из уже разгромленных противником полков и дивизий. Никакого интереса к информации разведывательного характера немцы не проявляли и фамилиями командиров частей не интересовались: командиры были вместе с нами, а номера разбитых частей, участвовавших в приграничных сражениях, немцы знали еще до войны. А главным было то, что они тогда слепо верили фюреру в отношении реальности «блицкрига» и считали, что еще до зимы СССР будет побежден.
Из сказанного вовсе не следует, что так было всегда и везде. Никакие обобщения тут не уместны. В то же самое время, но в другом месте или где-то рядом — все могло быть иначе. Также через день-два в этом самом месте опять все могло быть по-другому. О других фронтах и говорить не приходится. Помимо всего прочего, многое зависело и от индивидуальности каждого отдельного солдата противника, соприкасавшегося с нами — от его настроения и общего настроя в данный момент. Считаю, что значение этого фактора довольно велико. Просто нам повезло, что мной и моими товарищами, окружавшими меня, в том месте и в то время немцы не интересовались. К тому же слишком много нас было — каждого не допросишь…
Советских военнопленных начали вывозить в Германию уже в июле 1941 года. Но затем из-за появившихся опасений процесс был приостановлен. Однако недостаток рабочей силы в Германии в скором времени привел немцев к необходимости пересмотреть это положение, и с 31 октября 1941 года было разрешено использовать советских военнопленных во всех сферах экономики Третьего рейха…
Мы быстро поняли, что у нас впереди. У одних наступили полная апатия и депрессия, у других — неприкрытое отчаяние, а третьи метались в бессильной злобе на все и на вся. Все, что случилось с нами, для большинства солдат и командиров было полным крушением всех жизненных планов, карьеры в лучшем смысле этого слова. Каждый из нас переживал, как бы дома, на родине, не узнали о том, что он находится в немецком плену. Большего позора для себя мы и представить не могли. Многие сменили фамилии: пусть никто и никогда не узнает о том, что мы погибли в плену.
У многих сразу же возникла мысль о побеге. Очень скоро она овладеет умами практически всех военнопленных, несмотря на то что репрессивные меры будут ужесточаться и по отношению к бежавшим, и в отношении оставшихся в лагере. В назидание другим расстреливали каждого пятого, четвертого. Но пленные продолжали убегать, причем необязательно на восток, до которого становилось все дальше, а и на запад, и на юг. Советские военнопленные вливались в группы сопротивления французских отрядов маки, в ряды бельгийского и итальянского сопротивления, в Югославскую народную армию и храбро сражались бок о бок с патриотами. О наших бойцах и командирах и сейчас тепло вспоминают антифашисты многих стран, а также напоминают многочисленные обелиски на могилах бывших советских военнопленных в Европе.
Советские военнопленные оказались самым неудобным и беспокойным контингентом для конвойных и охранных подразделений гитлеровского рейха. Наши бежали из лагерей, из рабочих команд, из товарных вагонов при перевозке. Они отказывались работать, портили оборудование, создавали подпольные антифашистские группы и комитеты.
Генерал-лейтенант Д. М. Карбышев, Герой Советского Союза, погибший в концлагере Маутхаузен, говорил своим друзьям: «Плен — страшная штука, но ведь это тоже война, и пока война идет на родине, мы должны бороться здесь». Об этом же писал в газете «Красная Звезда» за 3 июня 1958 года генерал-майор авиации В. Лавриненков, дважды Герой Советского Союза, во время войны бежавший из плена: «Следует сказать совершенно твердо: мы, начальники, должны воспитывать своих подчиненных в духе требований присяги, разъяснять им, что плен — позор для воина, что надо биться с врагом на поле боя до последнего дыхания, до последней капли крови. Но бой — есть бой. В нем много неожиданностей, много такого, чего не предусмотришь заранее. И может быть, при каких-то обстоятельствах, при каких-то конкретных случаях — последнюю пулю нужно оставить для себя.
Однако такая смерть в какой-то степени пассивная. Ведь есть много возможностей более активно даже в плену бороться с врагом. И такое активное сопротивление — тоже показатель высоких моральных качеств советских воинов».
<…>
2
На третий день к сараю подогнали крытые брезентом автомашины, нас погрузили и в сопровождении усиленной охраны вывезли в полевой сборный лагерь на окраине Кишинева. Путь недолгий — всего 180 километров.
Лагерь — это участок земли, огороженный колючей проволокой. Она теперь долго будет нас сопровождать. Уже стояли и вышки с пулеметами — теперь мы все время будем «на мушке». Охрану несли солдаты вермахта, как и в Березовке, где нас караулили солдаты тыловых подразделений.
В лагере под Кишиневом нас держали недолго — дней 16, но большую часть времени мы с Ваней не запомнили, так как продолжали спать как убитые: наступила реакция обессиленного организма, обостренная колоссальной душевной травмой. Мы спали сутками напролет и почти не просыпались. Но больше всего нас поразила тишина, от которой мы уже успели отвыкнуть. Весь фронтовой период мы пребывали в сплошном грохоте снарядов, под гулом бомбовых ударов, а тут — вернулась тишина, и это было так непривычно.
Но самое удивительное ожидало нас с Ваней впереди. Отоспавшись, мы начали знакомиться с расположением лагеря и искать однополчан. Первым, кого мы обнаружили, был физрук полка старший лейтенант Ильюша Фрунжиев. Мы очень обрадовались встрече. Написал и задумался: какая же это радость, встретиться с любимым командиром и товарищем в фашистском плену? Век бы такому не бывать!
Потом Фрунжиев с таинственным видом потащил нас с Ваней в дальний угол лагеря, где за проволокой отдельно содержалась большая группа военнопленных. Илья подвел нас поближе и сделал кому-то знак. Через короткое время стой стороны к проволоке приблизились несколько человек, среди которых мы узнали наших командиров. Командир полка майор Остриков, начальник штаба полка капитан Овчинников и начальник особого отдела полка старший политрук Тараканов стояли перед нами. Мы не верили своим глазам.
У них тоже все произошло очень просто. Они где-то раздобыли полуторку и пытались группой в 12 человек ночью прорваться к Николаеву. Слишком большая плотность немецких войск в этом районе не позволила осуществиться их планам: их схватили в ту же ночь, что и нас.
Майор Остриков больше молчал, хмурился. Видно было, как он тяготится своим положением: это конец службы, а возможно, и жизни. Не такими он их себе представлял. Начальник штаба пытался шутить, но у него это плохо получалось. Тараканов выглядел особенно подавленным. У всех нас, шестерых, было одинаково пакостное состояние. Радость встречи закончилась, не успев начаться.
На нас заорал часовой с вышки, и пришлось разойтись.
У Фрунжиева был редкий дар художника, а также он оказался настоящим товарищем. Он быстро нашел применение своему таланту в тех условиях: стал рисовать пляжные картинки с обнаженными купальщицами на фоне тропических пальм и теплого южного моря. Свои рисунки Илья дарил немецким солдатам, приходившим от нарисованных девушек в восторг. Не много им требовалось! В результате Илья получал заслуженный гонорар в виде кусков хлеба, остатков каши и макарон с немецкой кухни, а также сигарет. Это было целое богатство, при помощи которого мы поддерживали и наших командиров, с трудом проталкивая еду через проволоку разными способами: на фанерке, на картонке, в консервной банке. Так у нас получалось до тех пор, пока их не отправили дальше.
Как ни странно, но в этом сборном лагере кормили совсем не плохо, или мы просто оголодали за полтора месяца на фронте, или немцы всерьез верили в скорый конец войны. В кишиневском лагере мы с наслаждением поглощали ежедневную порцию черной чечевичной похлебки с кусочками рыжей, подгнившей моркови и лиловой конины сомнительного вида и даже мечтали о добавке, которая иногда нам и перепадала. Особенно радовались конине, к которой успели привыкнуть еще на фронте.
Как-то все лежали вповалку — спали, дремали, тихо переговаривались. Ветер донес до нас с Ваней обрывки приватной беседы двух военнопленных, лежавших от нас неподалеку. Мы знали их: это были батальонный комиссар и старший политрук. Они пока не были отделены от нас. Немцы тогда не очень интересовались всеми нами — они торопились закончить войну. Так вот, эти двое обсуждали свои планы на послевоенный период. Обсуждали деловито и неторопливо. Один из них тихо произнес: «А я бы колбасный магазинчик открыл…» Услышав такое, мы с Ваней сперва обалдели от слова «колбаса», а затем — от сути услышанного. Но, трезво оценив долетевшие до нас слова, мы решили, что в ряды доблестных политорганов проник классовый враг, о чем все время предупреждал Сталин, или там оказались случайные люди, которых не распознали в 1937 году. Прошибить нас с Ваней было нелегко — сказывалась идейная закваска, привитая с раннего детства.
В конце августа нас перевезли еще километров на 100 дальше на запад, уже на румынскую землю, в пересыльный лагерь на окраине города Яссы. Мы разместились в примитивных бараках типа складских помещений для хранения сена. Охраняли по-прежнему солдаты вермахта. Здесь нас тоже никто не бил, не убивал и не интересовался: «кто есть кто?»
В Яссах мы встретили сержанта Фасахова и рядового Абекенова из нашего полка. Ваня их тоже знал хорошо, а с Фасаховым не так давно мы вели огонь из-за церквушки в злополучной Ананьевке.
С неделю пришлось поработать на железной дороге. Мы складировали бревна в штабеля. Это оказалось для нас тяжелейшим испытанием: мы успели ослабеть от лагерного режима. Частыми были случаи увечий и гибели наших под массивными бревнами, которые мы вручную кантовали и перетаскивали. Правда, солдаты попались сознательные: не били и не подгоняли нас.
На бревнах я работал в паре не только с Ваней, но и с начхимом полка лейтенантом Беловым. Он бывал у меня в моботделе, участвуя в разработке мобплана 1941 года по своей невостребованной части. Конечно, это счастье, что начхим на фронте оказался не у дел — нам хватило лиха и без химии. С Беловым повстречались в Яссах и тоже обрадовались: как-никак родная душа. Когда закончились наши муки по складированию бревен, мы все отметили: «Ну, пока живем…»
Лагерь военнопленных в Яссах оставил воспоминание о необычном хлебе, который нам давали. Когда-то это был кукурузный хлеб, но со временем он превратился в куски сплошной плесени ярко-зеленого цвета. Самого хлеба в привычном понимании внутри давно уже не было. Когда разломишь зеленую булку пополам, то сразу обдает зеленой пылью и плесневелым дымком. Ели мы его и даже раскрошившуюся зелень с земли подбирали. Чечевичная похлебка здесь была без конины, а порции убавились наполовину. Шел октябрь месяц, и мы, военнопленные, видно, стали объедать Германию, что с каждым днем сказывалось на пайке. Не следует забывать, что к этому времени нас в германском плену находилось уже более двух миллионов.
В лагере под Яссами впервые увидели человека в советской военной форме, который орал на военнопленных, угрожал им палкой, а иногда и бил. Это был один из тех, кого впоследствии назовут «полицаями». Он был крупным мускулистым мужчиной квадратного телосложения, с круглым бронзового цвета лицом и пышными иссиня-черными усами. Он всегда ходил обнаженным по пояс, поигрывая мускулами, и имел ярко выраженную цыганскую внешность. Кличка его была «Бессараб». По-видимому, он был родом из освобожденной Бессарабии и ему было за что мстить нашему брату. Мы старались держаться от него подальше. Вскоре он куда-то исчез, и больше таких типов нам видеть не приходилось.
Ходили слухи, что германское командование собирается отпускать по домам украинцев — жителей западных областей Украины. Называли Львовскую, Каменец-Подольскую и Винницкую области. Говорили, что где-то якобы уже отпускали. Украинцы повеселели и стали ждать этот час.
Мой Ваня киевский, и ему не светило. Подумали мы с ними решили воспользоваться ситуацией. Мы с ним были в одних гимнастерочках, а приближалась зима. Шинелей у нас не было, еще хорошо — сапоги уцелели. Немцы иногда разували наших, но мне такого видеть не доводилось. Мы решили скопить «валюту». Ее роль в лагере играли сигареты, неизвестно как проникавшие к нам. Возможно, за какие-то услуги немецким солдатам: кто картинку нарисует, кто часы починит или продаст свои…
Мы с Ваней стали есть одну пайку хлеба на двоих, а вторую откладывать и продавать на «толкучке» за сигареты. Так, дней через десять мы заимели начальный капитал и вскоре сумели купить две вполне добротные шинели у тех чудаков, кто собирался домой. Еще купили по паре солдатских обмоток, из которых сшили себе теплые майки под гимнастерку. Вместо иглы приспособили проволоку потолще, а вместо ниток — проволоку потоньше. Все это можно было найти на свалке. В итоге мы здорово приоделись, но нам и этого показалось мало: мы вошли во вкус — понравилось заниматься рукоделием. Сколько можно валяться без дела? Купили еще неизвестно откуда взявшиеся в лагере два больших мешка из стекловолокна — то ли из-под цемента, то ли из-под муки. Из них сшили две теплые куртки-безрукавки, чтобы носить под шинелью. Мы думали, что теперь встретим зиму во всеоружии, но все оказалось намного сложнее.
Насколько помню, ни из-под Кишинева, ни из лагеря в Яссах побегов не было. Нам объявили, что за каждого бежавшего будет расстреляно столько его товарищей по бараку, сколько немцы сочтут нужным. В моем окружении случаев побегов или расстрелов не было. Что касается лагеря в целом, то, если бы это имело место, мы, безусловно, знали бы об этом.
Пока мы присматривалась к новой обстановке. Многое было нам в диковинку. Украинцы ожидали отправки домой, а русские думали о том, как сделаться украинцами и «легально» удрать из плена. Такая мысль овладела многими, но мы с Ваней в эту затею не верили с самого начала. В свою очередь, львовские строжайше соблюдали «чистоту своих рядов», чтобы не допустить к себе «москалей» и прочих. С львовскими наши дороги еще не раз пересекутся.
Всего в лагере под Яссами мы прожили около 40 дней, после чего нас затолкали в товарные вагоны за колючей проволокой и повезли дальше на юго-запад.
4
Мы проехали Фокшаны, в которых мне доведется служить после войны; проехали набившие оскомину Плоешти, которые Сталин так и не решился захватить в 1940 году (по Суворову!); миновали столицу Румынии — Бухарест.
На одной из промежуточных станций, не доезжая Бухареста, разыгралась следующая сценка. На путях одновременно остановились два встречных железнодорожных состава: один — воинский, шедший на восток, и наш, арестантский, следовавший на запад. Мы прильнули к крохотным верхним оконцам под проволокой: нам было интересно все, что происходило вокруг — мы никогда не были в Европе. Какая она? И мы увидели Европу.
Воинский состав шел из Греции на Восточный фронт и состоял из открытых платформ, на которых под чехлами стояли орудия, а немецкие солдаты развлекались возле них, кто во что горазд. При виде нас их положительных эмоций прибавилось: они пели, плясали, пили из бутылок вино, рвали зубами апельсины, швыряясь в нас шкурками, выкрикивали что-то несуразное, корчили рожи, делали «рога», мычали, грозили нам спьяну кулаками и всем своим видом хотели показать: «Скоро войне конец! Вас разбили и остальных разобьем! Слава фюреру: мы с ним завоюем мир!»
Мы молча наблюдали за этим спектаклем, и на душе было отвратительно. Утешала только одна мысль: «Подождите, гаврики, еще хлебнете горя там, в России». А пока предстояло хлебнуть нам в Румынии.
Эшелоны отправились по своим маршрутам. После Бухареста мы повернули на юг. Проехав от Ясс по железной дороге около 500 километров, прибыли на станцию назначения Будешти. Это был небольшой населенный пункт с 10 000 жителей. Он располагался в 20 километрах к северу от болгарской границы, проходившей по Дунаю.
Мы прибыли в Будешти во второй половине октября 1941 года. Здесь нас ожидал пересыльный лагерь для советских военнопленных. Тогда мы не видели разницы в словах «сборный лагерь» (прифронтовой) и «пересыльный», но вскоре узнали в подробностях эту бесчеловечную механику.
Сущность понятия «пересыльный» лагерь мы быстро поняли: здесь нас никто не избивал и тем более специально не убивал, но невероятные условия, которые ожидал и нас, вызвали зимой 1941/42 года большую смертность среди военнопленных, что позволило приравнять этот лагерь к «лагерям уничтожения врагов Третьего рейха». С такими местами многим из нас тоже предстояло познакомиться. А в этом лагере все было предельно просто: тебя не убьют — ты умрешь сам. Если выживешь — твое счастье, а если нет — таков твой рок. Изменить эти условия мы не могли.
Первое время, около месяца, нас держали в «карантине»: в огромном высоком бараке без окон и дверей. Похоже, что это помещение использовалось ранее для хранения сена или соломы. Снаружи барак опоясывала колючая проволока. Нами никто не «управлял», мы были никому не нужны и могли всласть валяться на земле и балагурить. Но вскоре жизнь в бараке сделалась пыткой.
Наступил ноябрь, а с ним пришли холода. Эта зима обещала быть морозной даже на самом юге Румынии. Барак насквозь продувался — ворот не было. Внутри барака сперва образовались ледяные сосульки, а затем и настоящие айсберги. Холод стал вторым врагом после голода. Согреться можно было только прыганьем, но на это не хватало сил — мы постепенно превращались в дистрофиков. Рацион ухудшался и уменьшался с каждым днем. У многих появились желудочно-кишечные заболевания. Другим грозил конец от воспаления легких. Развились фурункулез, сыпь, различные флегмоны, кровавый понос, чахотка — все не перечислить. С наступлением морозов начались обморожения конечностей. Как ни странно, но косившую всех смерть большинство встретило спокойно, как должное: не надо было попадать сюда!
В середине ноября, когда нас становилось все меньше и меньше и жить из-за наступивших морозов стало совсем невозможно, нас перевели в основной лагерь, посчитав, что карантин свое дело сделал. Так и не дождались каменец-подольские и винницкие обещанного им освобождения. «Блицкриг» провалился, и в недалеком будущем они окажутся нужными в качестве рабочей силы не у себя на Украине, а в самой Германии, если переживут зиму.
При переводе в основной лагерь для нас с Ваней возникла угроза разлучения. Оказалось, что лагерь территориально поделен на три зоны: русскую, украинскую, а между ними — зона бараков охраны. Нас срочно стали делить на русских и украинцев. Мы с Ваней этого не ожидали, но выход сразу нашли: я стал «киевским», а фамилию изменил на Левченко. Проблема была разрешена.
Зато короткое время, что мы провели под Кишиневом и Яссами, было видно, насколько благосклонней относятся немцы к военнопленным украинцам, нежели к русским. Немцы считали, что в затянувшейся войне, так не похожей теперь на молниеносную, виноваты именно русские своим бессмысленным сопротивлением. Особенно враждебно относились немцы к москвичам и ленинградцам, выделяя их из общей массы военнопленных. Наверное, немцы предполагали, что на севере Красная армия состоит из одних русских, а на юге — из украинцев. Во всех таких вопросах мы учились разбираться на ходу.
Например, когда нас как-то переписывали, немцы не переставали удивляться: «А где летчики, танкисты, артиллеристы, пулеметчики?»
А мы, как сговорившись, называли себя исключительно поварами, санитарами, писарями, ездовыми, строительными рабочими и т. п. Про танкистов и летчиков, которых на нашем участке фронта и в помине не было, мы говорили: «Они в плен не сдаются». Все это было верно еще и потому, что пулеметчики, минометчики и артиллеристы действительно до Южного Буга не дошли. Они либо погибли, либо были ранены в июльских боях за Днестром, где мы понесли большие потери. Из стрелковых батальонов до Южного Буга дошли только разрозненные группы, а непосредственно на восток сумели отойти в лучшем случае обозы и штабы…
Итак, на этот раз мы с Ваней не разлучились — это казалось самым страшным для нас обоих в то тяжелое время.
Лагерь охраняли солдаты вермахта — немолодые, призванные из резерва, они слепо верили в скорую победу германской армии. К нам они относились вполне лояльно по принципу: «Вам — сидеть, а нам — охранять!» Солдаты были удовлетворены своим положением: они далеко от фронта, служба — спокойная, а война скоро кончится. Злобы и ненависти к нам они не испытывали, не успев соприкоснуться с фронтом…
Бараки в основном лагере были деревянными, одноэтажными, небольшими. В них обычно размещалось не более 200 человек, но с каждым днем живых становилось все меньше. На дощатом полулежали стружки и опилки, на которых мы спали. На день полагалось эти стружки сгребать в угол, чтобы не ходить ногами «по кровати».
Узнали еще одного врага — тифозную вошь. Это было ужасно: за короткое время противные твари расплодились в таком количестве, что куча стружек в углу барака шевелилась. Создавалось впечатление, что в куче больше вшей, чем стружек. За ночь мы по многу раз вставали, выходили из барака на улицу, сдергивали с себя одежду и с остервенением вытряхивали кровососущих тварей на снег, но их было столько, что сразу избавиться от них мы, естественно, не могли. Поэтому приступали ко второму этапу очищения: мы долго и настойчиво давили теперь тех, что попрятались в швах белья и одежды. Так продолжалось каждую ночь, но такую роскошь могли себе позволить не все, а только те, у кого еще оставались силы и не наступило полное безразличие ко всему с одним лишь ожиданием смерти-избавительницы.
У тех, кто надеялся обеспечить себе спокойную ночь, на «вошебойку» полностью уходило дневное время.
Температура воздуха в бараках — уличная. Мы погибали от холода, а насекомые были настолько живучи, что казалось — они совсем не боятся мороза. Это мы согревали их своим телом, отдавая последнее тепло.
К нам вплотную подобрался сыпной тиф. Уже метались люди в горячке, а мы не понимали, что это за болезнь. Думали — простуда, или воспаление легких, или что-нибудь еще. По молодости лет мы не сталкивались с сыпным тифом. Правда, мама рассказывала, что в 1919 году в Петрограде от него погибли два ее младших брата — Борис и Евгений. Они заразились, работая санитарами в тифозных бараках Петрограда. Новее это было давно, а сегодня тиф уже ходил вокруг нас.
Спали мы на полу, на стружках, вповалку рядами, тесно прижавшись друг к другу для тепла. Утром проснешься, а сосед уже «стучит» — за ночь умер и к утру окостенел. Каждую ночь смерть забирала чьи-нибудь жизни. Утром мы выносили тела умерших и складывали их в водосточной канаве, идущей вдоль барака. Там трупы копились в течение недели, высота таких «могил» достигала окон барака. Трупы обычно раздевали — одежда нужна живым. Далеко не все были так защищены от холода, как мы с Ваней. Раз в неделю накопившиеся вдоль бараков тела мы должны были относить метров за 100 в сторону и укладывать рядами друг на друга в специально вырытые траншеи. Каждый ряд посыпался хлорной известью, а затем клали следующий ряд, и так продолжалось всю зиму. Мы относили трупы на руках с большим трудом, по нескольку раз падая вместе с ним на снег от изнеможения. Полежим рядом с телом, передохнем, тащим дальше. Волочить труп за ноги мы негласно, по молчаливому сговору, считали кощунством. Постановили: своих боевых товарищей носить только на руках.
А в общем, мы настолько привыкли к лежащим вокруг бараков обнаженным телам соотечественников, что перетаскивание трупов казалось рядовой работой, и конец всем ясен. К чему эмоции?
Надо сказать, что немцы на нашей, украинской, стороне не появлялись. Знали ли немцы о том, что в лагере начался тиф? Не знаю, но боюсь, что если бы узнали, то могли принять решение просто уничтожить нас, не подвергая себя риску заразиться. Казалось, они с тифом были также незнакомы, как и мы. Немцы на первых порах избегали вшей, фурункулеза, гнойных язв, кишечных заболеваний и нашей общей грязи в целом. Каждый из нас, безусловно, представлял собой с трудом передвигающийся источник заражения для любого нормального, здорового человека.
Подавленные происходящим, мы вначале пассивно существовали: болтались взад-вперед без дела; валялись на полу, прикрывшись от холода всем, чем только можно; без конца делились воспоминаниями об утраченной жизни; грустили о приближающемся ее бесславном завершении. Потом многие из нас поняли, что, помимо болезней, цеплявшихся за нас, голода и холода, к колоссальному ослаблению организма приводит отсутствие движения. Сильно страдали и те из нас, кто не находил в себе силы воли отказаться от пагубной привычки к курению. Они вынуждены были менять пайку хлеба — всего 150–200 грамм — на табак, чем неумолимо приближали свой конец. Ваня Кучеренко вообще не курил. И мне пришлось воздержаться: я стал курить только тогда, когда случайно находил «чинарик».
Условия жизни в лагере ухудшались с каждым днем. Настроение немцев резко упало: «блицкриг» не состоялся; под Москвой — невиданной силы контрудар русских; то же под Тихвином и Ростовом; по-прежнему держались Севастополь и Ленинград. Где же обещанная фюрером победа? Допускаю, что эти события прямо или косвенно повлияли на условия нашего существования в лагере и на ухудшение нашего рациона.
В то же время Будешти находился на самом юге Румынии, в стороне от направлений основных ударов гитлеровской армии. Поэтому сюда, в южные районы Румынии, после сентября 1941 года перестали поступать в такой массе советские военнопленные с Южного фронта, как это еще имело место на западном и центральном направлениях. Мне кажется, что в лагерях военнопленных, расположенных в тылу группы армий «Центр», условия в лагерях должны были быть намного хуже, чем у нас. Мы здесь поедали стратегические запасы сателлита Германии — Румынии, — а севернее нас все обстояло гораздо хуже. Там действительно было не прокормить такую массу военнопленных, особенно в первую зиму 1941/42 года, когда немцы оказались неподготовленными к снабжению собственных войск в зимнее время. Поэтому они в первую очередь принимали меры к тому, чтобы не заморозить свою армию. До военнопленных ли им было тогда?
При этом я вовсе не оправдываю гитлеровцев в преступлениях против военнопленных, от которых отказался их любимый вождь, а пытаюсь объективно разобраться в причинах, способствовавших ухудшению нашего положения в ту страшную зиму.
Смертность среди нас все возрастала, угроза схватить неизлечимые болезни висела над каждым из нас, кто еще оставался в живых. Все были доведены до отчаяния, но многие продолжали бороться сами с собой — с желанием «плюнуть» на все и помирать, раз все равно этого не избежать.
И все же нам в Будешти «повезло»: таких сцен, какие описывает в своей повести «Это мы, Господи!..» писатель Константин Воробьев (Наш современник. 1986. № 10), мы избежали.
Воробьев вспоминает, что случилось после того, как гитлеровцы загнали в лагерь раненую лошадь: «И бросилась огромная толпа пленных к несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо… А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляла на трех ногах кляча, лежала груда кровавых теплых костей и вокруг них о кол о ста человек убитых, задавленных, раненых…»
Слава тебе, Господи, что мне и моим товарищам не довелось видеть такого (да к тому же ни ножей, ни бритв у нас не было)! И это в какой-то мере подтверждает мою мысль о том, что в самых южных лагерях типа Будешти выжить было легче. Во всяком случае, сомневаюсь, чтобы мы, несмотря на наше ужасное состояние в декабре 1941 года, были способны потерять все человеческое, что еще оставалось в нас и отличало от зверей, и рвать на куски, а затем поедать живую или мертвую лошадь. До такого мы не доходили. На пустые после раздачи пищи большие котлы мы действительно бросались гурьбой и старались выскрести ложками остатки лагерной баланды, прилипшей к стенкам. При этом друг друга не убивали и не затаптывали. Чего не было — того не было.
Насколько помню, среди нас всегда в нужный момент оказывались старшие товарищи, которые всегда умели овладеть ситуацией: короткими, но доходчивыми репликами они могли создать необходимый настрой коллектива и не позволить подобных спектаклей на утеху гитлеровцам. Сил у нас не было, но самолюбия и гордости за свой народ еще хватало. Как будто понимали, что если только переступим за ту грань, о которой повествует К. Воробьев, то нас уже ничто не спасет.
Все же надо отдать должное и немецким солдатам, охранявшим нас: они ни разу не опускались до того, чтобы устраивать вышеописанные сцены. Они и близко к нам не подходили и никаких контактов с нами не имели, предоставив нам спокойно помирать без их участия.
Попробую поставить точку. Зададим себе вопрос: чем бы кормила в 1941 году наша страна 3 миллиона немецких военнопленных, если бы в плен попали они, а не мы? И где бы их разместила? Вряд ли смертность в этом случае, да еще в суровых условиях Сибири, оказалась меньше, чем среди нас в фашистских лагерях. Но это не оправдание нацизма, а лишь размышления.
Для справки: за всю войну 1941–1945 годов и после капитуляции Германии в советский плен попало 3,15 миллиона немецких военнослужащих. При этом каждый третий из них там умер. Много это или мало? Среди советских военнопленных в плену погиб каждый второй. Разница не так велика (см.: «Война Германии против Советского Союза 1941–1945» — документальная экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Советский Союз. Берлин, 1992).
А пока жизнь в лагере продолжалась. Многие стали объединяться в группы по принципу землячества или фронтового знакомства. Такие группы на день разбредались по лагерю в поисках чего-либо съестного, которое научились добывать разными, но вполне легальными путями. Кто найдет очистки от картофеля, кто — зерна кукурузы, а кто и окурок. Все приносилось к вечеру в барак и складывалось в «общий котел».
Так нас стало шестеро близких друзей-товарищей, как говорится, «не разлей вода», которые теперь держались вместе: я, Ваня, сержанты Коля Литвин и Миша Веремиенко, младший лейтенант Митя Маевский и рядовой Петя Онашко. Все в отличие от меня были настоящими киевлянами, но тем не менее старшим оказался я.
Сначала мы околачивались по закоулкам лагеря, где иногда удавалось кое-что добыть. Затем мы с Ваней решили поднять планку «профессионализма» и надумали более активный способ добывания пищи.
Переход через калитку из нашей «украинской» зоны в следующую, немецкую, охранялся солдатом, который приплясывал на своем посту от мороза, низко надвинув распущенную пилотку на уши и обвязав ее шарфом. Поскольку это был внутрилагерный пост, то особой бдительности от солдата не требовалось. Мы разыгрывали сценку в духе солдатской самодеятельности: Ваня, скрючившись в три погибели, изображал из себя тяжело больного и громко стонал, а я, поддерживая его под руки, тащил к охраннику. Зная пару десятков слов по-немецки, я обращался к солдату со словами:
— Mann ist krank. Ich soil ihn nach Lasarett bringen![40]
Услышав родную речь, замерзший солдат кисло улыбался и показывал рукой:
— Los, herein![41]
Такого объяснения обычно хватало, чтобы войти в зону немецких бараков, а большего нам и не надо было. Лазарет располагался на территории «русского» лагеря, в нем были двух и трехэтажные нары. В нем мы пока не бывали, а потому даже не знали, кого туда кладут, и есть ли там вообще медперсонал. Лазарет пока нам не требовался, но скоро будет нужен сперва Ване, а потом и мне.
Попав в зону солдатских бараков, мы нахально стучали в окошко или в дверь любого из них:
— Дровишки не надо поколоть?
— Да, да, обязательно! — И нам вручали пилу и топор. Мы честно отрабатывали свой будущий гонорар: и напилим, и наколем, и аккуратно сложим, и фанеркой дрова прикроем для порядка. Солдаты всегда были очень довольны и щедро вознаграждали нас за добросовестный труд остатками каши, макарон, корками хлеба, а иногда супом и сигаретами. Солдаты-тыловики часто сами находились на весьма скромном довольствии. В результате обе стороны были довольны друг другом. Что мы не могли унести с собой, съедали на месте, а остальное делили на всех.
Этот промысел поддержал нас в самые морозные дни декабря.
К тому же, кроме пищи телесной, мы обрели и духовную, которой давно были лишены. Мы так понравились солдатам своим усердием, что они сознательно стали заворачивать остатки пищи в обрывки старых газет и вручали нам это с каким-то загадочным выражением лица. Мы сберегали эти обрывки, приносили в барак, замерзшими пальцами кое-как складывали разорванные части и, к всеобщей радости, проводили «политинформацию» по горячим следам. Это всем прибавляло сил в борьбе с лишениями. К тому времени я научился читать немецкие газеты «между строк». Так неожиданно мы стали узнавать самые свежие новости с фронта: о блокаде Ленинграда, о голоде, о больших жертвах среди горожан; о разгроме немцев под Москвой в декабре 1941 года и другие новости. Прочитали мы и о развернувшейся в Германии кампании по сбору теплых вещей для замерзающих на фронте немецких солдат, об экономии материальных ресурсов в германской экономике, о потерях немцев на фронте и многое другое.
Меня очень взволновала суровая правда о ленинградской блокаде, и я переживал за маму, за Нину, за всех своих родных. Ребята пытались приободрить меня — весь барак знал, что я ленинградец.
Однажды мне попался в руки клочок белогвардейской, другими словами, эмигрантской газеты. Они выходили во всех странах Европы. Название газеты было оторвано, а что смог прочесть, помню и сейчас. В статье говорилось о том, как Сталин обманным путем уничтожил наркомвоенмора Фрунзе. Излагалось довольно подробно. Ну и что? Отнеслись мы тогда к этому абсолютно индифферентно: «Мало ли что брешут!» Мы даже и не пытались осмыслить и оценить прочитанное. Просто мы не созрели для серьезного анализа событий, происходивших тогда в нашей стране. Но обрывки этой газеты, не сговариваясь, сразу уничтожили, да еще и руки обтерли, как после чего-то мерзкого, склизкого. Это был единственный случай за годы плена, когда в мои руки попала подобная газета.
В конце декабря Ваня обморозил ступни обеих ног, причем серьезно. Он не мог ходить, и его пришлось положить в лазарет. Поскольку Ваня не казался безнадежным больным, а за него просило столько друзей, какую-то помощь ему удалось оказать. Надежды на поправку он не терял, духом не падал, держался стойко. Наша «шестерка» продолжала его навещать. Иногда удавалось что-нибудь принести. Болеть в условиях лагеря было не просто.
В это самое время закончились походы на дровяной промысел. Как я ни старался оперативно менять своих «больных», подстраиваясь под часовых, — в закутанном состоянии их трудно было различить, — конечно, нас разгадали. Мы получили «по шапке», и доходное место закрылось, просуществовав чуть более десяти дней. Мы не одни промышляли подобным образом — были ребята и поизобретательнее нас, шло настоящее соцсоревнование: кто лучше надует немцев.
В один погожий январский день 1942 года немцы объявили, что требуются 80 человек на заготовку дров. Братва растерялась: идти или не идти? Было неясно, а где заготавливать дрова? Если в лесу, в мороз и по пояс в снегу — нам никому не выдержать. Раздумывать было некогда, и мы пятеро решили рискнуть, пошли в эту первую рабочую командуй не просчитались.
Все было за то, что мы будем жить. Смерть отступила. Нас поселили в настоящем бараке, оснащенном двумя круглыми металлическими печками типа «буржуек» и дощатыми двухэтажными нарами с тюфяками и одеялами. До этого времени мы спали только на полу. Спать на нарах — это уже роскошь.
Работать предстояло рядом, на территории лагеря, в громадном высоком и пустом сарае. На козлах мы пилили двухметровки на полметровки, а затем кололи их. Дрова предназначались для всех хозяйственных служб лагеря, в том числе для кухни и для лазарета. На этой работе надсмотрщиков не было, и никто нас не подгонял. Взвесив все «за» и «против», мы решили работать на совесть, понимая, что это единственный шанс остаться в живых. Но у меня и тут не обошлось без фокусов. Дело в том, что через пару дней потребовались несколько человек для работы подсобниками в лагерной пекарне. Сразу решили пойти мои друзья — Веремиенко, Литвин, Маевский и Онашко. Я же заартачился и возмутился: «Не пойду с вами работать на немцев». Как будто дрова пилил не для них. Много дури было в нас тогда, но что было — то было. Ребята дружно восстали против моей неумной позиции, высмеяли меня и на утро отправились на работу в пекарню без меня, а я продолжал работать пильщиком, посчитав эту работу меньшим грехом.
В результате все получилось как надо. Пильщики кончали работу раньше, чем приходили с пекарни мои друзья. Каждый вечер им удавалось приносить в карманах своих шинелей немного муки, из которой я стал к их приходу с работы регулярно готовить суп из самодельной лапши. Я никогда не был хлебопеком, только в детстве наблюдал за мамой, раскатывавшей тесто. Это мне пригодилось в лагере. Я по всем правилам замешивал тесто, раскатывал его, резал на полоски и в консервной банке варил на буржуйке суп, который являлся существенной добавкой к нашему скудному рациону. Оказалось, что если бы я ходил с ребятами в пекарню, то готовить было бы некогда.
Супом стали подкармливать и Ваню в лазарете — мне удавалось заскочить к нему днем в самое рабочее время — то-то было радости! Навещали Ваню и гурьбой: подолгу сидел и у него, ахали и охали, но помочь ничем не могли. У него обе ступни были забинтованы, болели, вставать он не мог. Все это вызывало у нас тревогу, а он успокаивал нас:
— Заживет. По весне ходить буду, — а мы делали вид, что верим ему.
5
Наступившей для нас безмятежной жизни суждено было быстро закончиться. В конце января 1942 года немцы начали отправлять на запад тех из нас, кто пережил зиму и кто не слег от дизентерии, тифа, воспаления легких и прочих недугов. Нас вывозили в специальные стационарные лагеря для военнопленных, так называемые «Шталаги», которые, как правило, размещались на территории Германии и Австрии. Наша отправка объяснялась тем, что Германии потребовались рабочие руки. И особенно были нужны такие «кадры», которые выдержали «естественный отбор» и которых не свалила ни одна «холера». А на наше место прибудут новые партии пленных, война продолжается — так считали немцы.
Эвакуация лагеря началась с русской зоны. Эшелоны уходили один за другим. Надо сказать, что такой поворот событий нас никак не устраивал. Большинство из нас мечтало бежать из лагеря с приходом первых весенних дней, если до них доживем. А тут — на запад! Оттуда не убежишь — далеко! И братва начала убегать, не дожидаясь весны. Из нашей команды пильщиков каждую ночь кто-то исчезал.
Пришло время вспомнить добрым словом немецкого шефа команды пильщиков. Это был невысокого роста, молодой, смуглый, черноволосый ефрейтор, прекрасно владевший русским языком. Мы знали, что его отец, в прошлом крупный заводчик на Украине, в 1918 году бежал с семьей в Германию. Ефрейтор родился в Германии, а потому и служил в немецкой армии, как гражданин этой страны. Все было до банальности просто. Самое интересное в другом. Приходя утром в барак и узнавая о том, что нас за ночь опять стало на 2–3 человека меньше, он загадочно улыбался и произносил:
— Скатертью дорога!
Это означало, что все в порядке вещей: военнопленным положено бежать из лагеря, а он не собирается препятствовать. При таком отношении если и не хочешь, то побежишь. Спасибо ему!
Я посоветовался с друзьями — как будем? Не ехать же на запад? Рассудительный Коля Литвин стоял на том, что в первую декаду февраля, в мороз, по заснеженным небывалыми снегопадами полям далеко не уйдешь, да и как быть с Ваней? Внутренне я был полностью согласен с Колей, но так хотелось хоть на короткое время почувствовать себя свободным человеком, не военнопленным! А если поймают, то опять останусь в лагере с Ваней — так думал я.
Русский лагерь продолжали вывозить. Скоро подойдет и наша очередь.
Так, в один прекрасный день в глубине барака прозвучало:
— Кто со мной? — Это означало, что еще один смельчак готовится опробовать свои силы в зимнем побеге. Я немедленно пошел на этот голоси увидел того, кто искал себе напарника для побега. Обычный парень. Он ничем не выделялся, сидел на нижних нарах и сапожничал — подбивал сапоги в дорогу. Я без приглашения присел рядом с ним:
— Ну, я.
— Давай знакомиться.
— Дмитрий.
— Михаил.
— Идем?
— Идем!
Вот и все. Знакомство состоялось. У каждого из нас было обостренное «шестое чувство» для распознания товарища, а мне вообще всегда везло на хороших людей, надежных и верных друзей. Таким оказался Мишка. Я пытался разыскать его после войны, будучи уверен, что он остался жив, но так и не сумел найти: слишком большая наша страна. Миша при первом знакомстве назвал две фамилии — Петров и Теряев. Почему две, а не одну? Была ли хотя одна из них настоящая, не имею понятия. Он был то ли воронежский, то ли курский, то ли тамбовский. Служил в береговой обороне в районе Николаева. Его иногда называли матросом. Вот и все, что сохранила память. Биографий друг другу мы не рассказывали, а адреса вообще были «засекречены». Мы не имели опыта и не могли тогда по молодости предположить, что если останемся живы, то потом будем искать встречи друг с другом, которая так и не состоится.
Посидев с ним рядом, я научился сапожничать. Миша ловко откалывал деревянные шпильки от березовой щепы, а затем метким ударом железяки укреплял подошвы своих избитых кирзовых сапог.
— Снимай сапоги. Подправлю. — Он принялся ремонтировать и мои, которые тоже давно просили «каши».
По окончании хозяйственных дел мы обговорили все детали: уходим в ночь через 2–3 дня. Хлеб больше не едим — копим в дорогу. Решили питаться только жидкой пищей. Нам выдавали на день на четверых около 400 грамм кукурузного хлеба из жмыхов и опилок, и мы планировали скопить две булочки.
Наследующий день Коля Литвин, Михаил и я пошли к Ване в лазарет — посоветоваться и попрощаться. Я познакомил Михаила с Ваней. Всем четверым было предельно ясно, что в любом случае Ваню в Германию не повезут, а нас не оставят в Румынии. В таких делах мы разбирались хорошо, трезво оценивая жестокие реалии нашего бытия. Вместе с Ваней нам больше так и так быть не суждено. Ваня все прекрасно понимал и только требовал, чтобы мы уходили из лагеря, пока не поздно. Решение принято: мы с Мишей уходим, как наметили. Коля Литвин даже подарил нам в дорогу 10 леденцов, неизвестно где приобретенных.
Начался февраль. Снег сыпал непрерывно. Весной и не пахло.
В эти дни нас, украинцев, стали посылать на весь рабочий день вместо обычной пилки дров на территорию опустевшего русского лагеря для уборки бараков. Мы вытаскивали на улицу стружки со вшами, с удовлетворением отмечая, что «русских» паразитов оказалось не меньше, чем «украинских», а может, и больше. Мы с запоздалой яростью сжигали этих тварей вместе со стружками, производили уборку территории; находили оставшиеся в закутках окостеневшие трупы, сносили их в траншеи, засыпая хлоркой и землей. План побега созрел именно во время работы: к концу рабочего дня мы отстаем от команды, где-нибудь прячемся до темноты, а ночью уходим.
Бежать было нетрудно. Ограждение лагеря состояло из двух рядов колючей проволоки на столбах высотой около трех метров. Между двумя рядами ограждения, отстоявшими друг от друга на 2,5 метра, находились скрученные в спираль мотки колючей проволоки. Стояли вышки с часовыми. Проволока в Будешти была не под напряжением. Вдоль наружного ограждения курсировали двое часовых. Время их смены мы накануне заблаговременно засекли, а место перехода через ограждения выбрали посередине между двумя смежными вышками.
Попрощавшись с Ваней в лазарете, мыв назначенный день к вечеру исчезли из рабочей команды, благо нас никогда не пересчитывали. Ребята пожелали нам удачи. До темноты мы укрылись водном из пустых бараков. Наконец закурили по последней. Часовые сменились, скоро и нам идти. Тут я заявил:
— Миша, я сегодня не пойду.
— Ты что, сдурел? Что случилось?
— Миша, я карточки оставил… — пришлось ему пояснить, что утром впопыхах забыл вытащить из укромного места в постели Ниночкины фотографии, а без них не пойду — пути не будет!
Миша все понял, ругать не стал, а принялся убеждать:
— Если благополучно уйдем, ты ее и так увидишь. А если нас вернут в лагерь, то карточки тебя дождутся — ребята наверняка обнаружат их в твоих тряпках. В конце концов я вынужден был с ним согласиться. Потом у нас возникло еще одно непредвиденное разногласие: в какую сторону идти? Я предложил идти на юг через замерзший Дунай в Болгарию, в горы. Все же болгары — славяне и «братушки». Миша считал, что это слишком в сторону от России, а пока мы находимся на расстоянии не более 200 километров от советской границы, лучше идти на восток. Меня самого, конечно, больше тянуло на восток, поэтому я принял его предложение.
И вот — пора! Опустился густой белесый туман — это нам на руку. Морозная ночь. Звезд не видать. Каждый держал в руках по заранее приготовленной широкой доске, приблизившись к проволоке, просунули доски внутрь, сделав, таким образом, себе два перехода через мотки проволоки, и второпях полезли на ограждения. Мы легко преодолели первый ряд проволоки. Труднее было перебраться по прыгающим доскам на проволочных спиралях, но одолели и их. Миновали второй ряд ограждения и оказались на свободе, сами не веря в случившееся. На мгновение мы остановились. Наше внимание привлекли ладони. Они все были в кровавых крестиках — следах лихорадочного цепляния за колючую проволоку. Мы улыбнулись друг другу, поплевали на ладони и растворились в тумане. Мы не мешкали, и часовые нас не заметили.
Еще до побега мы знали, что ночами будем идти, а на день залезать в копну или стожок и отсыпаться до вечера. Людей категорически будем избегать и своевременно уходить от них. В села решили не заходить, а обходить их стороной. Теоретически все было складно, а практически познаем через день-другой.
На нас были длиннющие шинели, пилотки и кирзовые сапоги.
В первый день почувствовали всю трудность зимнего побега. Двигались мы по прямой независимо оттого, что попадалось на пути. Мы форсировали балки, овраги, заснеженные поля, где снега было больше чем по колено. Двигаться по глубокому снегу без лыж было очень трудно. На это мы расходовали последние силы. Ко всему стога оказались жалкими копенками, которые нас ни от ветра, ни от холода защитить не могли. В тот день, когда выглядывало солнце, мы с Мишей стелили на снег одну из шинелей, ложились на нее и укрывались второй. Сапоги мы обязательно снимали, а портянки раскладывали на прутиках на солнышке, чтобы проветрить и хоть немного подсушить. На тщательном уходе за ногами настаивал я — представитель «царицы полей» пехоты.
Приятных сновидений на ветру и на морозе не получалось. Отмучавшись до темноты, продолжали движение до следующего полдня. Потребление хлеба мы ограничили, как только могли. Единственно, что позволяли себе есть без всякой нормы, это чистый, удивительной белизны снег. Им в основном и питались, пока не стали отказывать ноги: силы кончались.
Я служил в пехоте и потому без особого труда постоянно уходил вперед, как бы прокладывая дорогу в глубоком снегу, а напарник, служивший в береговой обороне, в походах не бы вал. Через несколько дней он натер ноги до кровяных мозолей.
Мы шли уже неделю. Миша все больше отставал от меня, но и мои силы тоже были на исходе. Отмахали около 100 километров. Наконец, кончился хлеб. Пора принимать решение. Подошла ночь, а впереди открылось море огней. Большое приграничное село на берегу Дуная преградило нам дорогу. Если обходить его слева, то до утра не управиться, а сил нет. Справа — граница, Дунай, а вокруг — глубокий снег, бесконечные рытвины и канавы. Решили идти к селу и укрыться на сеновале ближайшей хаты. Мы еще не понимали, что это капитуляция с нашей стороны, но Миша передвигаться уже не мог.
Еды у нас не было. Предстояло либо входить в контакт с крестьянами, либо воровать. Ни того ни другого делать было нельзя, но не возвращаться же в лагерь добровольно, да еще с повинной?
До побега мы знали о том, что румынское население, подогреваемое гитлеровской пропагандой, было настроено по отношению к советским военнопленным «хуже некуда». Маршал Антонеску, которому Гитлер подарил не взятую Одессу, положил под этим героическим городом столько румынских солдат, что город стал румынам не в радость. Румыны были чрезвычайно озлоблены на русских за Одессу. Кроме того, они прекрасно помнили, что на Южном фронте, на границе, в районе Прута, где наступали 11-я немецкая и 3-я и 4-я румынские армии, ими были понесены значительные потери в живой силе задолго до боев за Одессу.
Была и еще одна причина, по которой румынские крестьяне не любили русских военнопленных. Когда наши бежали из лагеря, то не шли, как мы, чудаки, не жравши, на восток, а отыскивали первое попавшееся село и пытались достать пропитание, мягко говоря, без спросу. Этим они вызывали гнев и возмущение румынских крестьян, называвших нашего брата не иначе, как «руспрезионер разбой», что означало: «русские пленные — бандиты и воры». До интернациональной дружбы двух народов было так же далеко, как до неба. К тому же за каждого пойманного беглеца немецкое командование выплачивало до 200 лей.
Мы с Мишей знали, что нас ожидает в селе, но деваться было некуда. В поле до утра не выдержать, а куда утром без еды?
Село называлось Келераши. Мы осторожно подошли к первой хате. Она чем-то не понравилась, направились ко второй. Тихонечко зашли во двор, приставили к сеновалу лестницу, залезли наверх и провалились в сон, измученные донельзя.
Но отдых оказался недолгим. Расслышали разговор. По интонации, по жестам и логике без особого труда определили содержание разговора: старик румын, живший в первой хате, видел из окна, как мы входили во двор. Хозяин второй хаты уверял соседа в том, что так далеко от лагеря русских еще не было. Когда же они обнаружили приставленную к сеновалу лестницу, все вопросы исчезли. Один из них, кряхтя, полез наверх и легко обнаружил непрошеных гостей. В смущении поздоровавшись, мы слезли вниз. Все-таки было неприятное чувство, словно мы — пойманные воришки. Старики повели нас по деревенской улице куда-то в ночь. Справа рядами стояли хаты, а слева манило чистое поле. Румыны важно шествовали по бокам. Мы с Мишей шли покорно и еле тащили ноги вроде наших стариков.
И вдруг, будто какая муха укусила, посмотрели друг на друга, все поняли с первого взгляда и… рванули в чистое поле. Это было совсем неумно, это был жест отчаяния, но он состоялся. Мы побежали не в одну сторону, а под углом, чтобы затруднить преследование. Но не тут-то было. Стариканы завопили так, словно мы их резал и живьем. Мигом из хат повыскакивали подростки, молодые женщины, и все с граблями, с вилами, с кольями бросились за нами. Нетрудно было догадаться: это несчастные вдовы и жены румынских солдат, погибших или еще сражавшихся на Восточном фронте. Можно ли их за это осуждать?
На ногах у нас были кирзовые сапоги, длинные шинели болтались — мы их в свое время для тепла подбирали, а не для того, чтобы в них стометровки бегать — пустые противогазные сумки на боку тоже мешали бегу. Все против нас. А у наших преследователей на ногах изумительно легкая обувь — ее называли «постолы» или «постолыки». Сделаны из бересты, вроде наших лаптей, но проще, легче и ажурнее. Не сомневаясь в том, что нам не убежать, мы бездумно расходовали последние силы. А бежать-то и некуда, даже махонького леска не видать, а на снежном рационе мы больше были не ходоки.
Оглянувшись на бегу, я увидел, как над Мишиной головой взметнулся кол, опустился, и Миша с разбегу уткнулся лицом в снег. В туже секунду другая славная дочь румынского народа огрела и меня колом по голове, из глаз посыпались искры, и я распластался на снегу. Нас выволокли на дорогу, связали руки ремнями — мою правую с Мишиной левой — и торжественно повели дальше в шумном сопровождении.
В селе располагался пост пограничной службы по охране румыно-болгарской границы. Погранохрана осталась с довоенных времен и являлась чисто символической, ибо немцы хозяйничали в обеих странах. На заставе дежурили двое солдат и сублокотенент — старший лейтенант, — проводившие дни напролет в беспробудной пьянке, мучаясь от безделья и страха, что могут когда-нибудь загреметь на фронт. Нас они приняли достойно и вполне дружелюбно, словно к ним ежедневно приводили беглых русских. Отнеслись к нам хорошо, а узнав, что мы не успели в этом селе ничего украсть, выказали полное удовлетворение. После первого знакомства любезно препроводили в погреб под полом, одарили полной кастрюлей макарон с томатом и заперли до утра. Мы набросились на еду, но при этом все же остерегались, как бы не получить с голодухи заворот кишок.
По сравнению с улицей в погребе было достаточно тепло. Выспались чудесно, хотя оказались не одни: рядом в бельевой корзине важно восседала на яйцах упитанная гусыня и всю ночь сердито шипела на нас. Утром нас ожидала подвода с двумя конвоирами. На подводе повезли в лагерь. Никто не поинтересовался, откуда мы взялись: в округе другого лагеря не было. Нас ожидало международное турне: везли по болгарской территории, так как на румынской стороне не было приличных дорог — все занесены снегом. Недаром за неделю побега мы не встретили ни одного села и ни одной живой души. На болгарской стороне вдоль Дуная проходила дорога через села Силистра и Тутракан, затем снова через Дунай, мимо Олтеницы и прямехонько в Будешти.
Конвоиры обрадовались разнообразию в своей унылой жизни и везли нас не торопясь. Часто останавливались в селах. У них везде полно знакомых. В каждом селе они выпивали, закусывали, делились новостями, в сотый раз повествуя о деталях нашей поимки, но глаз с нас не спускали. Кормили и нас, за что мы пилили и кололи дрова. Посмотреть со стороны, вроде и войны никакой нет — товарищи, да и только. В итоге везли нас обратно дольше, чем мы провели в бегах. Мы видели, что они готовы везти нас и дальше, но дальше было некуда.
В лагере за побег нас ожидал штрафной каменный бункер. Он именовался карцером, но был просто ямой под лестницей в кирпичном здании лагерной администрации. Бункер надежно закрывался. В нем нас продержали около недели без еды и почти без питья.
К этому времени лагерь вывезли на запад, но мы успевали на последний эшелон. Когда выводили из карцера, то сообщили: «Срок отсидите на новом месте», что и записали в наше «досье» — оно всегда будет нас сопровождать.
Я дулся на Мишку, считая, что из-за него лишился дорогих мне фотографий. Ему нечего было возразить, и он отмалчивался, сожалея об утрате вместе со мной.
А с Ваней Кучеренко мы так никогда и не увидимся. Его фотография, где он снят до войны со своей прелестной женой, чуть не пропала вместе с моими карточками в Будешти.
С этим лагерем покончено. Мы опять в дороге. Что нас ждет впереди?
Кайзерштейнбрух
Непоправимое случилось: нас отвозили дальше и дальше от советской границы. Опять в тех же вагонах для перевозки скота. Мы с трудом поднимались по чьей-нибудь спине и по очереди с любопытством смотрели через колючую проволоку нате места, которые проезжали. На пути Бухарест и Плоешти — здесь мы уже бывали. Пошли незнакомые города — Брашов, Сибиу, Клуж. Ехали через Карпаты, поросшие лесом. Красиво. Горы местами почти отвесные. Много туннелей. В ущельях — неширокие быстрые речки. Снег повсеместно стаял.
И надо же вновь состояться встрече двух железнодорожных составов, как это было в октябре 1941 года, — воинского и арестантского. Оба эшелона остановились опять один напротив другого. Воинский шел из Франции на Восточный фронт. Такие же платформы, забитые артиллерийскими орудиями и тягачами. Все было таким же, кроме сам их солдат. Среди них больше не было веселья; они сидели на передках орудий хмурые, подавленные и тихо пиликали что-то грустное на губных гармониках; они не кривлялись, рож не корчили, кулаками не грозили. Эти уже не рвались на совсем уже не победную войну, они начинали понимать ее суть, а прошло не более полугода, для нас — уже пол года. С другой стороны, мы сознавали, что за такое настроение немецких солдат отдали свои жизни многие тысячи наших под Москвой, Ленинградом, Тихвином и Ростовом…
Дальше на нашем пути Венгрия — сказочная страна. Запомнилась красочная «попугайная» форма жандармов на станциях и вокзалах. Необычайно красивые Буда и Пешт, мост через Дунай, знаменитая гора Геллерт — все это мы видели впервые.
Везли нас около недели. Мы проехали 700 километров по Румынии, 430 по Венгрии, 30 по Австрии. Под конец пути мы опять были еле живые, и Европа уже не смотрелась.
Высадились в 30 километрах от стыка трех европейских границ: австрийской, чехословацкой и венгерской. Наше новое пристанище — стационарный лагерь военнопленных «Шталаг 17-А» в местечке Кайзерштейнбрух, в 40 километрах к юго-востоку от столицы Австрии — Вены. Охрану лагеря несли войска вермахта — резервисты. Так случилось, что, пробыв в этом лагере с пол года, я не смог узнать ни размеров лагеря, ни расположения бараков… Знал только, что часть лагеря занимали бараки французских военнопленных. Наши иногда прорывались к проволочным ограждениям их половины лагеря, и тогда французы делились с русскими, чем могли, — они получали из дома продуктовые посылки. Питались французские военнопленные и содержались несравненно лучше нас.
На первых порах нас поместили в барак, где находились ребята из бывшей команды пильщиков. Увидев нас с Мишкой, они удивились не меньше нашего и стали загадочно улыбаться. Когда объятия и вздохи закончились, друзья хором потребовали:
— Димка, пляши, а то не получишь…
Я не поверил глазам: в руках у Коли Литвина неожиданно появились мои фотографии, которые я давно считал безвозвратно утерянными. Бывает же так! В другой стране, за 1200 километров, через полтора месяца дорогие мне фотографии вернулись! Хотел было сплясать, но не получилось — совсем ослабел. Ребята пожалели и вручили фотокарточки так.
Миша радовался вместе со мной, искрился счастьем товарища, а главное — был прощен за содействие в утере фотографий. Карточка Вани Кучеренко так же вернулась ко мне.
Радость встречи со старыми друзьями была недолгой. Нас с Мишей забрали из общего и поместили в специальный изолированный барак, отделенный от лагеря колючей проволокой, который назывался: «штрафной барак № 11». В нем мы с Мишей досиживали свой срок за побег из Будешти.
В нем я и пробыл практически все время, что находился в лагере 17-А. Сперва сидел за побег, а потом — за новые проступки. Поэтому я и не видел лагеря, сосредоточившегося для меня в одном штрафном бараке. Находясь в нем, мы не могли общаться с лагерем.
Удивились, узнав о том, что в этом лагере за побег пороли. Мы чудом избежали этой участи, поскольку бежали не отсюда. Из штрафного барака через проволоку мы наблюдали, как пороли одного русского. Весьма противная и унизительная сцена. А ведь проштрафившийся мог быть и командиром! Как же мы допускали над собой подобное действо? Или мы уже нелюди? Да, это так: мы — военнопленные! Позднее мы узнали имя того, кто порол своего. Его звали Николаем. Больше я его в лагере не видел. Такие люди, к счастью, быстро исчезали из вида. На моей памяти остались только двое, у которых рука поднялась на своих: «Бессараб» в лагере Яссы и вот теперь — Николай. Я рад, что мне за все время плена такие субъекты встретились лишь дважды, да и то на расстоянии. В противном случае я мог и не уцелеть — горячим и невыдержанным бывал порой…
Не успели мы с Михаилом привыкнуть к специфическим условиям штрафного барака, как на этот раз я серьезно заболел. В лагере Будешти мне удалось избежать сыпного тифа, а здесь, в Австрии, эта болезнь наконец настигла меня. Возможно, я подорвал остаток жизненных сил в зимнем побеге. У меня началась горячка, температура подскочила выше 40 °C, и я впал в забытье. Не знаю, где Мишка и градусник сумел достать — вроде ребята у французов позаимствовали. Что только не предпринимал Мишка, чтобы облегчить мое состояние, но тщетно. Мне становилось все хуже, и в сознание я не приходил. Впоследствии мне ребята рассказывали, как Миша упросил унтер-офицера, шефа штрафного барака, разрешить стащить меня в санитарный барак, находившийся неподалеку. В нем лежало много таких, как я. Лечить было нечем и некому. Как всегда в таких случаях, больные просто лежали на нарах и ждали конца. У кого организм сумеет победить болезнь, тот придет в сознание и останется жить, у кого не сможет — тот погибнет.
Говорили, будто старшим лицом в санитарном бараке был врач из военнопленных, вроде из Смоленска. Мишка накрутил ему, что я тоже смоленский, и просил не выкидывать меня в ров раньше времени:
— Он обязательно должен поправиться. Я в это верю…
Поместив меня в санитарный барак, Мишка через несколько дней покинул лагерь — его затолкали в рабочую команду. В те дни в лагере усиленно комплектовались такие группы из военнопленных, которые почти ежедневно отправлялись в разные концы Австрии на работу. Братва мигом сориентировалась и в этом вопросе: если требовались 100–200 человек, то все разбегались и хоть палками загоняй — никто не хотел туда, так как это наверняка на шахту или куда-то в этом роде; если же требуются 5–10 человек, то желающих хоть отбавляй.
Мишка был пронырой в хорошем смысле слова, и ему удалось, не досидев положенного срока в штрафном бараке, попасть на сельхозработы. Позднее кто-то сообщил мне — это было уже в мае, — что он успешно работает трактористом. Я всегда не переставал восхищаться Мишкиным упорством, умением не растеряться в любой обстановке, его жизнерадостностью и оптимизмом, наконец. Он никогда не унывал и сохранял твердость духа. Когда мы с ним расстались, я нередко потом в трудных ситуациях спрашивал себя: «А как бы поступил в этом случае Мишка?» — и всегда находил ответ.
Попасть в хорошую команду Мишке помог унтер-офицер штрафного барака. О нем следует сказать пару добрых слов. Он благоволил к нам, штрафникам, и своими, малозаметными для стороннего наблюдателя, действиями помогал нам, как мог. Он ко всем относился ровно, почти дружелюбно, тщательно скрывая свою симпатию к нам. Он и мне дважды помог в то лето, намекая:
— Твой друг просил за тебя… — Досужие языки говорили, будто Мишка то ли часы ему загнал, то ли сапоги подарил, но я такой информацией не располагаю. Вот таким был и остался в моей памяти Мишка…
А пока я продолжал лежать в лазарете и остался жить на этот раз лишь благодаря стараниям Миши Петрова-Теряева. Без его помощи мне не выжить тогда, в апреле 1942 года. Конечно, меня не лечили. Слава Господу, что не выкинули в ров, пока я не подавал признаков жизни. Пробыв без сознания более десяти дней, я начал понемногу приходить в себя. Научился сам вставать и передвигаться, держась руками за стенку. Обнаружил, что волосы на голове повылезали, и я превратился в ходячий скелет. Вскоре я уже мог сидеть на приступочке крыльца барака и греться на майском солнышке. Жизнь возвращалась, силы восстанавливались. В середине мая я оказался годен для включения в рабочую команду. Такой случай не замедлил представиться: требовалось около десяти человек. Так я попал в свою первую настоящую рабочую бригаду.
Нас повезли на пассажирском поезде в обычном вагоне.
Меня ожидала работа на табачной фабрике в городе Хейнбург-ам-Донау, расположенном в 30 километрах к северу от лагеря в живописном месте на самом берегу Дуная. На другой стороне реки находились Чехословакия и город Братислава.
Я включился в разгрузку барж, приходивших из Болгарии скипами табачных листьев. Мы таскали тюки с причала во двор фабрики, а затем при помощи ленточного транспортера подавали их на второй этаж — в цехи. Австрийские рабочие, работавшие на фабрике, относились к нам доброжелательной всегда делились едой, принесенной из дома.
Жили мы в специальном помещении казарменного типа, где стояли двухъярусные нары. Нас — 80 человек, все в прошлом кадровые солдаты и сержанты, мои одногодки. Близко познакомиться и подружиться я успел за пару дней только с одним из них, с которым рядом спали. Это был Вася Турбин, сержант погранвойск.
При желании на этой фабрике можно было работать и работать: работа сносная, отношение к нам хорошее, с питанием тоже все в порядке — мы не были избалованы ни до плена, ни в плену. Не зря унтер-офицер советовал мне идти в эту рабочую команду. Конечно, он неплохо знал фабрику.
Но, видно, я не очень стремился потрудиться во славу Третьего рейха, так как пробыл на фабрике весьма короткое время.
По вечерам, после работы, мы обычно валялись на нарах и делились воспоминаниями: кто где служил, кто где воевал, как попал в плен и все такое. Интересы и взгляды у всех одинаковые, и мы на фабрике — как одна большая семья, хоть сразу роту комплектуй! Нов семье не без урода: на нашу беду в команде оказался и совсем чуждый нам человек по фамилии Белка. Он был намного старше нас, родом из левого Приднестровья, и у нас с ним сразу стали возникать конфликты. Например, он как-то ошарашил нас таким заявлением:
— Мой сын самолично политрука застрелил… — такое мы услышали впервые за полгода плена и крепко задумались.
Белка мгновенно почувствовал наше враждебное отношение к нему, и все закончилось необычайно просто. На пятый день моей работы на фабрике арестовали шесть человек и поместили в бетонный бункер под лестницей — как это было знакомо! В эти шесть человек попали: Вася Турбин, ветеринарный врач — старший лейтенант, еще трое и я. Белка назвал нас организаторами задуманной акции, включавшей в себя, по его словам, поджог фабрики, расправу с ним, верным слугой фюрера, и побег. Все это несусветная чушь. Поджигать фабрику мы, естественно, не собирались, но гарантировать Белке личную безопасность во время работы в цехе возле транспортера — не могли. Он мгновенно уловил смертельную опасность и решил напасть первым. Выходило, кто первым гавкнул, тот и прав.
Отсидев в бункере три дня без еды, мы были доставлены в лагерь 17-А и помещены в ставший для меня родным — штрафной барак № 11.
Начинался июнь 1942 года. Через несколько дней мы узнали, что специально для нас в лагерь вызван следователь гестапо, и скоро нас поволокут к нему на расправу. Тогда мы слишком мало знали о гестапо, а точнее — ничего не знали. Когда-то что-то читали, но в памяти ничего не сохранилось. Сами же пока не имели «счастья» узнать, что это такое. Теперь это нам предстояло и ничего хорошего не предвещало.
На допрос повели сразу всех шестерых, посадили на скамейку в коридоре и велели входить по очереди. Первым в кабинет втолкнули Васю Турбина. Пробыв там какое-то время, он вернулся. Следующим был я.
Не успев ничего спросить у Васи, я вошел к следователю. За столом сидел человек, как это ни странно, очень похожий на моего отца. Бывают же такие совпадения! Широкоплечий, крупный мужчина, полный, широколицый, и возраст за 50. В тем ном гражданском костюме, в белой рубашке с галстуком. Лицо на удивление вполне человеческое, а не звериное, как я ожидал встретить у сотрудника гестапо. И все же такое, наверное, бывает только в сказках. Что оказалось? Передо мной сидел настоящий русский человек, да еще и земляк. Его фамилия была Борисов. Он — эмигрант. До революции жил на Петроградской стороне в доме на углу Широкой улицы — теперь улицы Ленина — и Большого проспекта, то есть недалеко от моего дома. Ко всему он окончил Петербургский университет в 1911 году, а мой отец в 1913, хотя и был старше Борисова.
Все это выяснилось в самом начале разговора, который никак не походил на допрос. Вначале Борисов предложил мне рассказать, как обстояли дела на фронте в 1941 году и почему Красная армия не сдержала натиск немцев. Борисов знал, что после разгрома немецких дивизий под Москвой в декабре 1941 года последовал очередной разгром наших армий под Харьковом в 1942 году, то есть совсем недавно. Борисова интересовали все подробности приграничных сражений до мельчайших деталей. Я понял, что Вася Турбин, попавший в плен в первые дни войны, не мог ответить на эти вопросы Борисова, который не удовлетворялся поверхностным объяснением причин. Для меня беседа явилась первым серьезным экзаменом на способность к логическому и абстрактному мышлению, к анализу происходящих событий и явлений. Это было не просто. Натрепать ерунды можно без труда, а удовлетворить не праздный интерес сведущего и эрудированного человека намного сложнее. В противном случае собеседник просто прекратил бы беседу, увидев, что имеет дело с недалеким человеком. Многому я и сам научился за время разговора. Политинформации в роте до войны было куда легче проводить, чем просвещать опытного сотрудника гестапо. А Борисов копал все глубже и глубже, не подозревая, что ровно через год в другом месте и совершенно с другим человеком у меня состоится аналогичная беседа. Только тогда оттого, как я сумею ответить на те же самые вопросы, будет зависеть моя жизнь. На этот разя справился с задачей, как смог.
Со стороны наша беседа выглядела как разговор учителя с учеником: ровно, спокойно, взаимно выдержанно и доверительно. Казалось, Борисов вполне удовлетворен моими ответами, и я сумел вселить ему надежду на обязательную победу наших. Я подчеркиваю: не моих, а наших!
Надо сказать, что всех честных людей Европы, благоволивших к нашей социалистической стране, в том числе многих русских эмигрантов, до боли в сердце беспокоил один вопрос: чем объяснить неудачи Красной армии в 1941 году и в мае 1942 года под Харьковом? Когда советские войска перестанут отступать? Что случилось с Россией? Или ей действительно не совладать с гитлеровской военной машиной? Судьбы многих из тех, кто переживал наши неудачи на фронте, зависели от исхода войны, и таких я много встречал на своем пути. Борисова это вряд ли касалось. Похоже, он преуспевал в Германии, но его подноготная была мне не известна.
Зато я точно знаю, что немцы никогда не испытывали доверия ни к бывшим белогвардейцам, ни к коммунистам, попавшим в плен и предлагавшим свои услуги. Были и такие — о них речь впереди. Ни одному русскому немцы не верили до конца, отчетливо сознавая, что в какой-то момент бывший русский захочет снова стать русским и пошлет своих благодетелей далеко-далеко. Хорошо известно, что даже генерал-лейтенанту А. А. Власову Гитлер не доверял и побаивался его.
И только в конце нашей задушевной беседы на военную тематику Борисов поинтересовался, что произошло на фабрике. Я и это объяснил ему, ничего не скрывая. Ответом он остался доволен и тепло попрощался со мной, попросив о беседе никому не рассказывать. Я это обещал. Борисов предупредил, что остальным заходить к нему не надо — ему все ясно. Я вернулся к ребятам, которые извелись в ожидании, и сказал:
— Вы не нужны, я за вас отработал. — Они не знали, о чем и подумать: мы с Борисовым проговорили полтора часа. На вопросы о содержании беседы я отвечал шуточками.
Нас отвели в штрафной барак, где предстояло отсидеть по два месяца каждому в наказание за содеянное на фабрике. Это правило Борисов отменить не мог, да и ни к чему — посидим как миленькие. Он сам был «под колпаком», и ему незачем было навлекать на себя подозрение немцев: настоящее гестапо шуток не признавало. Так благополучно окончилось мое первое и последнее знакомство с русским гестаповцем. Побольше бы таких!
Через некоторое время Борисов выехал на табачную фабрику, поговорил с военнопленными, с самим Белкой, после чего тот был отправлен в другое место, а ребята на фабрике вздохнули свободно…
В конце июня в лагере и в штрафном бараке появились новенькие, попавшие в плен в боях под Харьковом в мае 1942 года. Среди них мое внимание привлек ростовчанин Петя Шестаков, старший лейтенант. Мы с ним крепко подружились, и до конца плена наши пути-дороги неоднократно пересекались.
Петя много рассказывал мне про харьковское окружение. По его словам, эта катастрофа выглядела посерьезней, чем наши потери в приграничных боях: у нас это длилось два-три месяца, а у них все случилось за несколько дней. Результат тот же — полный разгром. Не годился тогда Сталин в полководцы. Вина за харьковское окружение лежит всецело на нем…
Еще я познакомился со старшим лейтенантом, Героем Советского Союза, летчиком, грузином по национальности. Он много рассказывал нам о фронте, собирался бежать при первом удобном случае, но пробыл у нас недолго — был отправлен в офицерский лагерь. Фамилию его я не запомнил.
Понемногу проходило лето, а в штрафном бараке не видать ни неба, ни солнца, неслышно пения птиц — они избегали невеселого места.
Но разные сведения, хотя и с запозданием, до нас доходили. Так, узнали, что старший сын Сталина Яков находится в плену и отец отказался от предложения немецкой стороны о его обмене. Мы восприняли это нормально, помня о непреклонности Тараса Бульбы в отношении сына Андрея.
Наконец мой срок отсидки в бараке № 11 кончился, и в конце августа меня перевели в общий лагерь.
В первые сентябрьские дни состоялся «невольничий рынок»: в лагерь приехали крестьяне за работниками. Они щупали наши жидкие мускулы, осматривали зубы, интересовались, кто из нас умеет пахать, ухаживать за скотом и т. д. Мне невольно вспомнились прочитанные в детстве книжки о работорговле. Я врал, как только мог, а унтер-офицер не моргнув глазом засвидетельствовал мои великие способности в сельском хозяйстве. Всего отобрали пять человек, в том числе меня, и повезли на новое место работы.
В лагерь 17-А я больше не вернулся.
Целлерндорф
1
Везли нас в пассажирском поезде. В Вене — пересадка. Красивое остекленное двухуровневое здание вокзала чем-то напоминало наш Витебский в Ленинграде.
На нас никто не обращал внимания — подумаешь, пленные.
В городе их и так хватает: тут и русские, и французы, и поляки, и многие другие. Дальше поехали на север. Вышли на станции Целлерндорф — это в 75 километрах от Вены (в 10 километрах к северу — чешская граница). Места живописные, природа богатая. Здесь нам предстояло работать.
В рабочей команде — 80 военнопленных. Мы жили в специальном помещении с койками нормального типа, даже не нарами. Старший по команде — немецкий ефрейтор. Он жил вместе с нами в маленькой комнатушке. У него была винтовка со штыком, который хранился отдельно, и ефрейтор им никогда не пользовался.
Распорядок дня нас ожидал следующий. Каждое утро в четвертом часу ефрейтор кидал на плечо винтовку и чинно вел нас строем по широкой деревенской улице. Завидев свой двор, мы самостоятельно покидали строй и заходили в нужную калитку. Так начинался рабочий день. Вечером каждый из нас сам возвращался в казарму, смотря потому, кто когда заканчивал работу. Длительность рабочего дня у всех колебалась от 12 до 16 часов, то есть с 4 утра до 8 вечера. В воскресные дни я работал по укороченному графику, и после 4 часов дня мог считаться свободным, хотя возвращаться в казарму не спешил.
Команда мне попалась особенная: все ребята — западники. Это все тот же, знакомый мне контингент, из которого состояла полковая школа в Одессе, где я был несколько месяцев помощником командира пулеметного взвода. Я их хорошо изучил, поэтому сразу занял четкую позицию: себя не раскрывать и держаться с ними вежливо, но — подальше!
Я знал наперед, что друзей у меня здесь не будет, и в течение всего периода моей работы в Целлерндорфе мы были чужими, выбрав худой мир вместо доброй ссоры. Мне надо было восстановить силы и отъесться, так как за длительное пребывание в штрафном бараке, где кормили плохо, да еще после тифа, я здорово сдал.
Моя мнимая принадлежность к украинской национальности первые дни делала меня для них своим, но мое корявое произношение, когда я пытался говорить с ними на украинской мове, быстро выдало меня, и они не сомневались в том, что я москаль, а не тот, за кого себя выдаю.
Но все были настолько поглощены работой и к вечеру изрядно уставали, что ни у кого не было ни сил, ни желания заниматься разборками — ночь для отдыха была слишком короткой. Я же держал себя тихо, как мышка, и не «возникал». Все же их 80 человек — это сила! Я знал, как худо будет одному, но ничего изменить не мог. Зато мне повезло с работой и с семьей, куда я попал в качестве батрака.
Глава семьи — Берта Хейлингер, 30-летняя австрийская крестьянка с двумя маленькими дочками 3-х и 4-х лет. Ее муж находился в армии, но не в действующей, а в составе экспедиционного корпуса в Норвегии, и она была за него спокойна. Родители мужа жил и тут же — отец и мать. Оба старенькие, кожа на лице морщинистая, грубая, руки жилистые, заскорузлые, крестьянские. Я обращался к ним также, как и хозяйка: фатти и мутти, что являлось искаженными словами от немецких слов — отец и мать. Самой характерной особенностью этой рядовой крестьянской семьи было то, что всю жизнь они работали не покладая рук. Когда старик решался закурить, то старуха немедленно делала ему замечание: «Работа стоит, а ты куришь!» Я так и не узнал, кто занимался с девочками, но их куда-то отдавали, а мать и бабушка работали со мной от зари до зари и без выходных.
Меня направили в эту семью, чтобы компенсировать потерю рабочих рук, поскольку хозяин дома — он же основной работник — находился на военной службе по приказу и в интересах фюрера. С моим появлением в этой дружной и работящей семье старику стало немного легче.
— Димитрий, покурим? — обращался он ко мне, и тогда двух мужчин женщины одергивать уже не решались, но и мы, понимая их, не злоупотребляли добротой обеих.
Дом был большой, во всяком случае — не халупа, с пристройками, крепкий и добротный, хотя и построен давно. К богатым дворам его не отнесешь — обычный средний крестьянский дом. Во дворе — колодец, сеновал, помещения для скота и домашней птицы. В хозяйстве две коровы, теленок, несколько откормленных свиней, по 10–15 штук гусей и кур. По нашим старым понятиям, это крепкое середняцкое хозяйство, где работают только члены семьи, причем обязательно все без исключения. Вряд ли в наших колхозах в мирное время так работали, а о военном судить не могу — не видел. Эти же люди всю жизнь трудились не покладая рук.
Я, не искушенный в сельском хозяйстве человек, многое видел, узнавал и постигал впервые, но самым неожиданным было следующее. Обеих коров и теленка я обмывал в течение дня столько раз, сколько требовалось «по обстановке»; 3–4 свиньи я должен был мыть не менее двух раз в день — утром и вечером. Ежедневно я чистил до блеска коня. Для этой цели имелся специальный набор различных скребков и щеток. На эту работу уходило не менее получаса. Особенно тщательно требовалось приводить в порядок красивейшую гриву и длиннющий хвост. Коровы на пастбище не ходили, стояли в коровнике. Ежедневно я накашивал им травы «по росе», убирал навоз и менял солому. Теленок содержался отдельно. Кормил я его в специальном корыте, куда насыпал муку, добавлял молоко, обязательно теплую воду и все тщательно размешивал, стараясь, чтобы не успело остыть. Для свиней я варил на пару отборный картофель. В хозяйстве имелась специальная пароварка на 10 килограмм картофеля, похожая на большой самовар. Когда картофель был готов, а хозяев рядом не видно, я первым снимал пробу с картофеля и съедал не менее килограмма вкусной, рассыпчатой картошки, не пахнущей ни химикатами, ни нитратами, ни навозом и никакой другой гадостью. Такой картошки мне больше никогда кушать не приходилось. Я мял картофель в деревянном корыте, добавлял молоко, муку, немного теплой воды, после чего кормил свиней. После таких процедур можно только представить себе вкус будущей свинины, ветчины или окорока! Гусям и курам я давал кукурузные зерна, предварительно очищая початки.
В пищу птице шли и помидоры. Их выращивалось довольно много, но сами хозяева их не ели. Помидоры небольшого размера, продолговатые, очень сладкие, назывались «паратайс». Когда я набросился на них, поедая прямо с куста, австрийцы смотрели на меня, как на дикаря:
— Димитрий, их же не кушают — это для птицы…
Не могу объяснить, почему у них так было. В то время расспрашивать я не стремился: некогда и незачем.
Для меня необычным был весь уклад жизни в данной конкретной семье, и особенно нескончаемый физический труд. Они не могли позволить себе расслабиться, находясь все время в напряженном состоянии — работы хоть отбавляй. Они могли попросить второго военнопленного, но боялись, что двоих изголодавшихся работников им не прокормить. Тогда получается, что это скорей бедняцкое, а не середняцкое хозяйство — запутался я в нашей соцтерминологии…
Я быстро научился запрягать коня в подводу, брал косу и оселок, ехал в поле косить траву для коров — освоил и это. Каждая семья имела участок, и с кормами ни у кого сложностей не возникало. Наделов земли хватало всем.
Как и чем питалась эта крестьянская семья? Весь светлый рабочий день мы вчетвером были на глазах друг у друга, и у меня нет ни малейших оснований считать, что хозяева добавляли за моей спиной что-то свой рацион. Не такие это были люди! А вот я это практиковал неоднократно.
Эта семья никогда не пила молоко, не производила и не употребляла в пищу молочные продукты, не пила чай, кофе. Сахар напрочь отсутствовал в доме, как и сливочное масло.
Когда мы работали в поле с отрывом от дома, то брали с собой на день несколько бутылок виноградного вина, глиняный горшочек свиного смальца и пару буханок хлеба с солью — и так всегда. Даже отварной картошки ни разу не взяли с собой — не принято было. Но о вине следует сказать особо. Такого вина я тоже больше никогда не пил. Естественно, это безалкогольный напиток — то, что мы именуем сухим вином типа «Рислинг», но домашней выработки и совсем другого качества, в полном смысле слова — натуральный продукт.
Вот при такой трапезе в поле я поступал нехорошо, улавливая момент, когда на меня не смотрели, и зачерпывал из горшочка столовой ложкой смалец, отправляя его побыстрее в рот. Правда, так я делал только в первые недели после лагеря.
Вечером, по окончании рабочего дня, вся семья садилась за широкий стол и ела по-крестьянски из одной суповой миски или из одной сковороды совершенно так, как это делают крестьяне в любой стране. Меня никто в этой семье не считал человеком «второго сорта», я сразу стал равноправным членом семьи и вместе со всеми запускал ложку в сковороду в порядке живой очереди.
Обычно вечером ставились на стол две большие сковороды. На одной из них находился особым образом обжаренный мелкими ломтиками картофель, панированный в муке. Это блюдо называлось «штерц».
На другой сковороде — фасоль в томатном соусе. После 14–16-часового рабочего дня еда казалась невероятно вкусной, да так оно и было. Вчетвером, дружно и не мешкая, мы опустошали две семейные сковороды, запивая все тем же вином.
В качестве первых блюд, которые подавались очень редко, можно упомянуть хлебный суп с луком (бротзуппе), фасолевый суп (фасолензуппе) и суп с мучными кнелями со свининой (кнеллензуппе). Других, как правило, не варили.
К этому рациону я добавлял помидоры и кукурузные початки, но особо налегал на хлеб со смальцем…
Теперь о работе. Я попал в Целлерндорф в начале осени, в разгар уборки винограда. Хозяйка со стариками срывали гроздья винограда и клали их в специальный, долбленый из дерева, заплечный сосуд на двух ремнях. Сосуд весьма вместительный, превосходил размерами самый большой рюкзак наших рыболовов. Я должен был относить сосуды с виноградом в каменное строение. В нем по центру располагался огромный чан, выложенный из камня. В нем делали вино. Виноградник, принадлежавший семье, находился на склоне горы, и мне приходилось тащиться с грузом в гору. Я высыпал виноград в чан, туда же опускал свою физиономию, упивался до отвала виноградным соком и отправлялся за следующей партией винограда. Уборка винограда продолжалась больше недели.
Собирали помидоры, кукурузу. Потом пришло время копать картофель. Каждый из нас, четверых, брал по грядке, мы становились рядом и устраивали «соцсоревнование» друге другом. А как иначе назвать?
Я, городской житель, никогда не копал картофель. Но, к чести своей, нисколько не отставал от хозяев, улавливая благодарные, но недоуменные взгляды, как бы говорившие: «Оказывается, русский не только есть, но и работать умеет!» Но я-то был молодым, а вот как такой темп работы под палящим солнцем выдерживали два милых старика — фатти и мутти — уму непостижимо. Кстати сказать, семейство фрау Берты сразу поняло, что я не сельский труженик, а потому и удивлялось моим способностям налету постигать навыки тяжелого крестьянского труда.
Отдельно надо сказать о коне — он этого заслуживает. Это был чудо-конь, красавец, резвый, с норовом, высоченный, а главное — любитель кусаться. Оказалось, что до меня в этой семье работали двое: сперва француз, а затем русский — Василий, настоящий крестьянин, а не фальшивый, как я. Вредный конь сумел обоим прокусить руки выше локтя, и их отправили в лагерный лазарет. Узнал я об этом в первые же дни от ребят и подумал: «Как быть?» Возвращаться в лагерь с прокушенной рукой совсем не было желания.
И вот неотвратимое случилось: когда я чистил коня, он схватил мою левую руку выше локтя и слегка сжал зубами. Ему оставалось лишь немного сдавить зубы — и конец моей работе. Стойло для коня очень тесное, и мы с трудом в нем размещались. Во время чистки я почти вплотную вынужден был прижиматься к телу коня — иначе не повернуться. Теперь злодей держал мою руку в зубах, а глазищи его, большие и умные, совсем около моего лица смотрели на меня, как бы говоря: «Что с тобой сделать? Хочешь, без руки останешься?» Я сразу сообразил, что вырывать руку ни в коем разе нельзя, да это и невозможно: останусь без руки. Я только мог попытаться усовестить его и повел сладкие речи:
— Ну что, дурачок? Тебе полегчает, если прокусишь? Другого пришлют. Может, он еще хуже меня будет. Разве можно всех подряд кусать? — Неожиданно такие слова пришлись коню по нраву, но он продолжал держать руку. Разговаривать я старался как можно спокойней и даже с оттенком любви и нежности к нему. И чудо свершилось: конь разжал зубы, отпустил руку и больше так гнусно со мной не поступал. Я был спасен! Видно, совесть у коняги была — умное животное.
Но у меня не все с ним получалось и на трудовом фронте. Подошло время осенней вспашки зяби. Я запряг своего любимца, положил на подводу плуг, хлеб, вино и отправился в поле. Я наврал, что всю жизнь пахал, на самом деле делать это мне никогда не приходилось. В первый день пахоты была не работа, а одно мучение. Мне никак не удавалось придать ножу плуга нужный наклон на той скорости движения, которую избирал сам конь. Я невольно забирал глубже, чем требовалось, и коню становилось не под силу. Умная скотина понимала, что я пока никудышный пахарь, и принимала свои меры по принципу: «Спасайся, кто может!» В результате конь стремительно вылетал из борозды вместе с перевернутым вверх тормашками плугом и носился по всему полю вдоль и поперек, а я без конца ловил его. По-настоящему второй человек должен был вести коня под уздцы, по крайней мере, пока я и конь не сработаемся, но лишних рук в семье не имелось. Обычно такую работу выполняют дети, но девочки фрау Берты были еще слишком малы для этого.
Так прошел первый день. На второй день у нас обоих что-то начало получаться, а на третий — все пошло как по маслу: мы пахали!
Сыпал сухой морозный снежок, я брел за плугом, а в голову лезли отвратительные мысли. Что же получается? Я в плену, а не на фронте, да еще как вол работаю на Германию. Правда, здесь еще вопрос: на кого я работаю? Вроде на крестьянскую семью. Но так ли это? Я немного отъелся, снова окреп, и пора что-то предпринимать. С таким «багажом» на родину не вернешься, а другое исключается: ведь меня ждет Нина, я обязан вернуться к ней, если останусь жив. Вспомнилась беседа в лагере Будешти. Сидели как-то Миша Петров, Ваня Кучеренко и я.
— Если вернемся, нам дадут медаль: «Тем, кто пережил фашистский плен», — с иронией промолвил Ваня.
Я возразил ему:
— Как бы судить не стали зато, что живыми в плен попали.
Мишка и со мной не согласился:
— Что-то больно много нас таких-то в плену оказалось. Это что — все так и бежали сами к Гитлеру в плен сдаваться?
Многих тогда беспокоил вопрос: насколько велика наша вина в том, что не сдержали фронт? Мы понимали, что в конечном случае, виноватым всегда остается стрелочник.
Что же мне делать? Продолжать работать в деревне и ждать конца войны? Или задушить ефрейтора, забрать его винтовку с двадцатью патронами и занять круговую оборону? Оставалось только бежать. Но зимой я уже раз бежал. Это не годится. Бежать надо весной, летом, осенью, а время шло. В Польшу и Югославию все равно не дойти. Выхода я так и не находил. Он придет, как всегда, сам, но немного позднее. Его пришлет Провидение. А пока я шел за плугом, и очередные поэтические строчки родились сами собой. Я их записал в черном ледериновом блокнотике, да еще на всякий случай и зашифровал. Но блокнот вскоре пропал, и стихи вместе с ним. В памяти сохранилась только пара строк:
Смыть пятно позора перед Родиной, Гражданином стать страны родной…Стихи сложены на мотив известной в свое время питерской блатной песенки 1920-х годов:
И осенний мелкий дождик моросил. Шел без шапки пьяною походкою, Шел и о девчоночке грустил…В середине декабря вся семья отправилась на подводе километров за 20 заготавливать дрова на 1943 год. Так делали все ежегодно в одно и тоже время, когда убран урожай и закончена вспашка зяби. Лесник пометил зарубками те деревья, которые становились собственностью семьи фрау Берты. Форма расчета за лес для меня осталась неизвестной, экономикой я не очень интересовался. Мы пилили деревья, валили их, обрубали ветки, разделывали, двухметровками грузили на подводу и отвозили в деревню. Дальнейшая работа с дровами станет главным моим занятием надолго.
В лесу порядок строгий: по окончании всех работ полагалось прибрать после себя до последней веточки, а не так, как это делается у нас. В лесу мы проработали больше недели.
Незадолго до нового, 1943 года хозяйка заколола свинью, и в тот день на обед сварили чудесный суп с кусищами свежайшей и вкуснейшей свинины и большими мучными кнелями.
Последующие дни проходили за пилкой и колкой дров, выкладкой поленниц, зачисткой кукурузных початков и другими работами по дому. Так протекала моя безмятежная жизнь…
У моих хозяев часто оказывались свежие газеты. Фрау Берта просила меня пояснить, где находится тот или иной город в России, и я рисовал на земле простейшие географические схемы. Я учил их, что любую сводку надо читать «между строк», а иначе она ни о чем не скажет, и показывал, как это делается.
В те дни был разгар боев в Сталинграде. Я и раньше не мог удержаться от того, чтобы с долей безобидного ехидства не подчеркнуть такой интересный факт: летом 1942 года в сводках сообщалось о взятии того или иного города, а осенью о том, что бои идут в Сталинграде за дом по улице такой-то. Сообщения становились все более и более туманными. Мои слушатели начинали понимать суть этого страшного для них явления: германская армия выдыхалась, советская — набирала силу. Я объяснял им, почему так происходит. У моих хозяев и их соседей, заходивших к нам «на огонек», прослышав о новоявленном политинформаторе, закрадывалось сомнение в благополучном для Германии исходе войны. Австрийских крестьян Гитлер не притеснял. Они одинаково жили как до, таки после оккупации Австрии. Поражения Гитлеру они желать не могли, понимая, что, чем сильнее становится Красная армия, тем больше «похоронок» придет не только в Германию, но и в Австрию. Как же в таком случае можно желать поражения? Прозрение к ним придет, но значительно позже.
Вот такой это был непростой вопрос. У меня складывалось впечатление, что в Целлерндорфе крестьяне или не имели негативного отношения к фашистскому режиму в миролюбивой Австрии, привнесенному оккупантами, или они — крестьяне — умели свое отношение тщательно скрывать. Я склоняюсь к последнему.
Чем сложнее становилась обстановка в Сталинграде, тем больше мои австрийские друзья выпытывали у меня мои мысли по поводу событий на фронте, и тем продолжительнее бывали беседы, тем более что работа по двору уже не носила такой напряженной формы, как при уборке урожая.
А тут еще оказалось, что их повышенный интерес к событиям в Сталинграде возник не на пустом месте: в конце ноября муж фрау Берты в составе своей части внезапно вместо Норвегии оказался в Сталинграде, и вся семья очень переживала за него, не скрывая все возрастающей тревоги. Я воздерживался успокаивать их, но осуждал развязанную Гитлером войну в целом.
Я пытался им объяснить, что их сын и муж является врагом моих соотечественников только до тех пор, пока держит в руках оружие и находится на моей земле. Мы с ним в этом не виноваты. Я деликатно предлагал им подумать об этом, а сам понимал: Гитлер, конечно, виноват, но муж и отец детей фрау Берты — у нее один. Ей-то как быть с этой ненужной войной?..
В один из первых воскресных январских дней 1943 года после 4 часов дня, когда я собирался уходить в казарму, вдруг открылась калитка, и во двор робко протиснулся Илья Фрунжиев собственной персоной. Да, да! Тот самый старший лейтенант, физрук нашего полка, что в кишиневском лагере пляжные картинки рисовал. Ума не приложу, как он сумел меня разыскать. Мы страшно обрадовались встрече, посидели рядышком на крыльце, обменялись новостями. Илья сообщил, что наши командиры — майор Остриков и капитан Овчинников — бежали из эшелона, проделав дыру в полувагона, но попались снова на венгеро-румынской границе. Пока их след затерялся. Илья принес и совсем невероятную весть: Мишка Петров работает трактористом в 30 километрах от Целлерндорфа, знает о том, где я нахожусь, мечтает увидеться. Уходя, Фрунжиев на прощание сказал:
— На следующий раз жди в гости нас двоих.
Мы уже планировали к весне побег на велосипедах и в гражданской одежде. Во время нашей беседы велосипед хозяйки как раз стоял у крыльца за моей спиной и дразнил нас своим никелированным видом. Из такого побега вряд ли что получилось бы, но бездействовать больше мы не могли.
Илья ушел, а я теперь был сам не свой: надо же такому случиться — Мишка совсем рядом. Я начал подумывать о том, чтобы обратиться к хозяйке за разрешением навестить друга, как неожиданно все изменилось — произошли два события, круто изменившие мое существование, всю мою дальнейшую жизнь.
2
В один погожий день в семью Берты Хейлингер приехал с фронта гость. Это — ефрейтор, однополчанин хозяина дома, получивший отпуск по ранению. С его приездом вся семья три дня кряду просидела, запершись в доме, а гость без конца рассказывал и рассказывал о Сталинграде. О чем он им поведал? Например, что русские совсем не такие добренькие, как ее Димитрий, — они стреляют и убивают бедных австрийцев…
Три дня я был заброшен, как и скотина. Я делал все обычные работы по двору и конюшне, кормил себя и свиней сваренной на пару картошкой. Мной больше никто не интересовался, и я ждал чего-то недоброго. И оно не замедлило прийти. Мне заявили, что семья в моих услугах больше не нуждается. При этом глаза у хозяйки выглядели вспухшими и красными от слез. Возможно, ефрейтор поведал всю правду о Сталинграде, и фрау поняла, что муж не вернется с войны, а может, уже что-то случилось… Представляя себе, как изверги-русские стреляют в ее мужа, она не могла больше видеть в своем доме советскую военную форму. Я ее прекрасно понимал и нисколько не осуждал, но помочь нив чем не мог.
Все закончилось очень просто. На другой день ефрейтор — шеф нашей рабочей команды — отвел меня к новому хозяину, а фрау Берта сделала заявку на французского военнопленного.
Если семью Хейлингер можно отнести по нашей классификации к середняцкой прослойке, то мой новый хозяин был настоящим зажиточным кулаком. Противное слово «кулак». Так и хочется заменить его чем-то другим — хороший хозяин или чем-то в этом роде. В лицо хозяина я не видел.
Не знаю — работал ли он сам? У него трудились шестеро военнопленных.
Я стал седьмым. Мне было поручено мыть 14 коров, убирать навоз и менять им подстилку. Целый день я не выпускал вилы из рук. Как это ни странно, но оказалось, что на новом месте работать несравненно легче, чем у фрау Берты. Там сама хозяйка задавала такой темп работы, что в течение дня и дух не переведешь, а отставать от нее самолюбие не позволяло. Да и как я тогда смогу с ними за общей трапезой сидеть? А здесь хозяин не появляется, а ты машешь себе вилами весь день, не спеша, и никто тебя не подгоняет. Остальные шестеро тоже неподалеку от меня с чем-то копошатся. И кормил новый хозяин совсем по-другому: вкусно и сытно. На обед в установленные часы мы получали густой горячий суп. В нем и кнели, и картофель, и куски свинины — в общем-то, что надо. У фрау Берты вечная сухомятка, и только вечером за ужином — штерц.
Я сделал вывод, что на новом месте работать легче, а еда намного лучше, да и от кусачего коня я наконец избавился. Все последнее время я чистил его с опаской: мало ли что он еще надумает?
Не проработал я и недели, как однажды вечером, после работы, ефрейтор надумал впервые за несколько месяцев построить нас в казарме. Встав в две шеренги лицом друг к другу, мы стали ожидать необычного. Из комнатушки ефрейтора появился низкорослый, седой, с лохматыми кустистыми бровями фельдфебель и, не торопясь, подошел к нам. С удовлетворением оглядев наши сытые и довольные физиономии, он встал между шеренгами и обратился к нам с речью:
— Фюрер видит вашу хорошую работу на победу Германии и считает, что вы заслужили право на большее доверие. Вам предлагается вступить добровольцами в африканский корпус фельдмаршала Роммеля. Вы будете служить в хозяйственном подразделении и помогать перетаскивать пушки по песку. Стрелять в своих союзников — англичан — вам не придется. Вы получите немецкую форму, довольствие немецкого солдата и… все остальное. Рекомендую использовать столь редкий шанс!
В зиму 1942/43 года в Германии развернули широкую кампанию по вербовке советских военнопленных. Наш случай — из этого ряда.
Все молчали. Никто не шелохнулся. Видно, что пока всех больше устраивало перебрасывать навоз. Выдержав необходимую паузу, фельдфебель подошел к одному из нас. Надо сказать, что мы все были как на подбор — только пушки таскать. Мы окрепли на крестьянской работе и на крестьянских харчах. Я не слышал, что ответил первый. Тогда фельдфебель на выбор подошел ко второму. Его ответ я тоже не расслышал — оба стояли далеко от меня. Третьим оказался я. Медленно пройдя вдоль шеренги, фельдфебель остановился около меня.
— Ты! — Он ткнул мне в грудь старческим пальцем и уставился на меня, пронизывая взором. Не успев даже сообразить, что мне делать, — все происходило слишком быстро, — я сумел выпалить как автомат:
— Ich bin russische Soldat. Ich kann nicht deutsche Soldat sein![42]
Кустистые брови фельдфебеля нервно задергались. Подобного категорического отказа он никак не ожидал. Думаю, что его, когда направляли к нам, предупредили: рабочая команда состоит из западников, так что отказов быть не должно — все согласятся. И вдруг я один испортил всю обедню. Фельдфебель не произнес ни слова, сердито махнул рукой и удалился с ефрейтором в комнату последнего. Строй распустили. Мы разошлись по своим койкам. Меня никто не осуждал, но и не поддерживал. Казалось, другие в Африку тоже не рвались.
Больше фельдфебель у нас не появлялся. Наследующий день, придя вечером с работы, я обнаружил, что у меня исчез блокнот, находившийся в изголовье. В него я заносил стишки, осенявшие меня временами. Они были далеко не «во славу фюрера», поэтому мне приходилось их так шифровать, что и сам с трудом потом разбирался. Но так было спокойнее. После обыска тучи надо мной сгустились.
На следующее утро ефрейтор приказал мне мыть полы в казарме, а сам повел строй на работу. В этот день мыть полы была не моя очередь. Опять что-то не то! Помыв полы, я стал ждать ефрейтора. Он вернулся, но на работу меня не отпустил. Достал винтовку, примкнул штык — это что-то новое — и сказал:
— Бери шинель. Иди за мной.
Таким оказался мой последний день в Целлерндорфе. Подумалось: «Опять в шталаг 17-А, в родной штрафной барак». Мы двинулись с ефрейтором к железнодорожной станции.
Так закончилась первая и последняя попытка завербовать меня в немецкую армию. Но вопрос о вербовке совсем не такой простой, как может показаться на первый взгляд, и на нем стоит остановиться подробнее.
Я знал по слухам, что немцы вербуют наших военнопленных в различные военные и полувоенные организации, но в тех лагерях, где я содержался, — в Будешти и в шталаге 17-А — таких вербовщиков за время моего пребывания там и в помине не было, тем более что из штрафных бараков вообще не вербовали. Так что этот вопрос для меня разрешался просто: не видел, не слышал, ничего об этом не знаю. За все время плена мне ни разу не приходилось видеть живого власовца.
<…>
Глава четвертая В нацистских тюрьмах и концлагерях 1943–1945
Цнайм
1
И снова меня повезли в пассажирском поезде. Как ни странно — на север, а не на юг, к Вене, как я ожидал. Куда едем — конвоир даже не намекнул. Спрашивать бесполезно. Это парадокс, но он меня побаивался. Он знал, что меня ждут допросы в гестапо — вдруг я «нечаянно» скажу нечто такое, что скомпрометирует его, тогда и ему несдобровать. Ведь неспроста такой тихий и послушный работник, которого он вынужден сопровождать, в одночасье стал «опасным». Кто он на самом деле? Этих русских не поймешь…
А вокруг сидели пассажиры и на первый взгляд не обращали на нас никакого внимания. Но это не так. Я видел, как некоторые, особенно женщины, незаметно бросали удивленные взгляды, стараясь при этом не выдать своего любопытства.
Люди привыкли к тому, что Центральная Европа наводнена советскими военнопленными. Где их только не встретишь. В 1941–1942 годах их возили взад-вперед по всей Европе: гоняли в маршевых колоннах, перевозили за решеткой, в вагонах для скота за колючей проволокой — кому что выпадет. К концу 1942 года большая часть военнопленных осела в рабочих командах — на шахтах, рудниках, заводах и фабриках, на селе, на строительных и других работах. Постепенно облик военнопленных поменялся: вместо пилоток появились кепи и береты, вместо шинелей — сюртуки и куртки. Все это доставалось разными путями, да и не каждый попадал в плен в пилотке и шинели, чаще — полураздетыми. Что-то надо было носить.
Так что же удивило пассажиров? «Почему его везут одного? Почему он не истощен? Ведь не должны пленных кормить лучше, чем питаемся мы, верные слуги фюрера? А одет во все советское…» Да. На мне был полный комплект советского военного обмундирования. Даже на петлицах гимнастерки виднелись места, где не так давно красовались алые сержантские треугольнички. Это и удивляло пассажиров. Время массовых пленений советских солдат и командиров давно миновало. Последний такой случай имел место в мае 1942 года под Харьковом, когда доблестные войска фюрера окружили шесть советских дивизий и взяли в плен четверть миллиона русских. «Может, это все-таки новенький?»
Нет, «новеньких» так просто по стране не возят. Их сперва адаптируют к скотским условиям плена в лагерях. Надо сломить этих фанатичных советских солдат и физически, и морально — лишениями, голодом, побоями, болезнями, расстрелами, чем угодно, лишь бы вытравить из них то, чем они жили, что было им дорого…
«Нет, это не новенький. А сидит со своим конвоиром спокойно, в окно посматривает, словно на пикник едет. Может, сам сдался?» Немногие из пассажиров знали о том, что кто хотел, сдался в плен еще в 1941 году. Например, молодые ребята со львовщины, которых Сталин сделал советскими в сентябре 1939 года и впервые призвал в Красную армию осенью 1940 года. С началом войны большинство из них добровольно сдавались в плен: они не собирались воевать за обретенную родину и не скрывали этого.
«Да, как же мы не заметили главного — штык-то у конвоира примкнут! О, значит это арестованный?» Ближние пассажиры сразу почувствовали себя неуютно. «Но почему они с конвоиром так дружно сидят рядом, как хорошие приятели, только оба помалкивают, но видно, что у них полное взаимопонимание? Да, непонятно. А лучше и не соваться, мало ли что может случиться? Скорей бы они сошли».
Так или при мерно так рассуждали пассажиры. Обыватели вообще народ любопытный, но только ни вопросов не зададут, ни выводами не поделятся, все молча: откуда знаешь, что в мыслях у соседа по купе? Идет война. Доверять нельзя никому. Кругом на стенах домов надписи метровыми буквами: «Тс-тс! Враг подслушивает и подсматривает! Будьте бдительны!» Обстановка в Германии и особенно в оккупированных ею странах — Австрии и Чехословакии — была весьма схожа с нашей времен тридцатых годов. Потерять свободу в результате проявления соседом «патриотизма» ничего не стоило. В этом мне еще предстояло убедиться.
Так что лучше помолчать. Кстати, о молчании. За всю дорогу мы с конвоиром действительно представляли странную пару. Оба молчали, каждый думал о своем, никакой враждебности не проявляли. Я сидел спокойно, и чуть ли не с любовью поглядывал на ефрейтора, несмотря на примкнутый штык. Но было видно, что конвоир находится в состоянии большого внутреннего напряжения. Он боялся, чтобы я не выкинул чего-либо, и хотел только одного — благополучно довезти меня до места назначения. До ареста отношения у меня с ефрейтором были хорошие. Хозяева мной были довольны, я работал как вол, не перечил, конфликтов ни с кем не имел. Он искренне где-то в глубине души жалел меня, зная, куда направляемся. Ефрейтор с удовольствием поболтал бы со мной напоследок, но он старый служака: попробуй, поболтай! Он мог себе позволить на людях только одернуть, наорать на меня, но для этого не было повода, дай не тот он был человек. Зато он прекрасно знал свою страну и свой народ. Любой из пассажиров мог оказаться тайным осведомителем спецслужб рейха, и тогда прощай спокойная служба в тылу: «Тебе хочется поболтать с врагом? Мы предоставим тебе такую возможность, но только на Восточном фронте и только через прорезь прицела!» А кому этого хочется? И ефрейтор молчал…
По солнцу я видел, что мы едем на север, но не слишком задумывался над тем, куда везут. Да и не первый это был арест. В двадцать лет всегда приятна перемена мест, какие-то изменения в твоем положении — чаще пребываешь оптимистом, нежели пессимистом. Так свойственно молодости. Но ничего хорошего я не ждал и только жалел, что так внезапно оборвалась связь с Ильюшей Фрунжиевым, и он теперь не сможет навестить меня с Мишей Петровым, как они собирались, и не придется втроем бежать весной. Но куда? По территории Австрии, Венгрии и Чехословакии передвигаться и скрываться нашему брату почти невозможно, за исключением случаев использования товарных составов, но это надо еще суметь: не многим из наших это удавалось…
2
Путь оказался недолгим. Вот и приехали. Вышли. Тонкий слой снега искрился на солнце. Посмотрел по сторонам: провинциальный городок, ухоженный, зеленый, красивый, каких много в Центральной Европе. До и после войны — это Зноймо (немцы окрестили его Цнайм). Он находится в Южной Моравии недалеко от австрийской границы — на север от нее — и в 50 километрах юго-западнее города Брно. Мы пересекли чехословацко-австрийскую границу. Надо сказать, что границы в оккупированной Гитлером Европе являлись понятием символическим: по одну сторону — немцы, по другую — немцы, и везде они чувствуют себя как дома и безнаказанно по отношению к местным жителям.
Итак, я впервые стоял на земле многострадальной Чехословакии — жертвы мюнхенского сговора.
Когда шли по городу, конвоир подтянулся, принял театрально-воинственную позу. Знает службу старый солдат — столько глаз вокруг! Не дай бог, кому-то покажется, что он недостаточно грозен для арестанта. Я же олицетворял полное повиновение: зачем досаждать хорошему человеку?
Вот и пункт назначения: небольшое круглое двухэтажное здание в стороне от других строений. Но сердце сразу защемило: над входом большая вывеска светло-желтого цвета, на которой чернела надпись готическим шрифтом — «Гестапо». Вот оно что! Я вспомнил первую встречу с представителем гестапо в лагере 17-А и невольно улыбнулся, но только на миг. Там было… «русское» гестапо, там — Борисов, земляк. Такое случается далеко не часто. Здесь — настоящее гестапо, берегись, солдат!
Вошли в здание. Прекрасно обставленный холл с интерьером гостиничного типа: низкие полированные столики, похожие на журнальные; низкие мягкие креслица. Одним словом, приемная вполне респектабельного учреждения. Спецслужбы умело применяли маскировку от случайных глаз.
Ефрейтор подошел к малюсенькому окошку и постучал. Оно отворилось. Конвоир откозырял и подал сопроводительные бумаги на мою персону. Все бы ничего, но я заметил, как в окошке, в руках принимающего, исчезла моя заветная записная книжка в черном ледериновом переплете со стишками, отнюдь не восхвалявшими Германию и ее фюрера. «Не догадался вовремя ликвидировать», — пронеслось в мозгу. Окошко закрылось, конвоир покинул мрачное здание. Я остался сидеть в мягком кресле и ждать своей участи. В этой и в последующих подобных ситуациях я как действующее лицо оказывался каждый раз впервые, так что наработанных приемов поведения, конечно, не имел. Все ново, не опробовано, многое еще только предстоит познать.
Потекло время. Я понемногу успокоился: мягкая мебель, никто не бьет. Посижу, посмотрю, что будет дальше. Вдруг пронесет, как бывало ранее.
Ждать пришлось долго, чуть ли не до вечера. Скоро ожидание превратилось в пытку: нелегко целый день изображать из себя сидячую статуэтку в позе полной покорности. В середине дня мое одиночество на пару часов нарушилось. Привезли нового «клиента». Он так же сел в кресло поблизости от меня.
Это был гражданский человек старше средних лет, немного полноватый. То ли чех, то ли австриец. Вблизи границы население, как правило, смешанное. Через некоторое время мы вступили втихую, немногословную беседу. За время плена мы быстро научились много слушать и мало говорить. На вопросы нового знакомого я отвечал односложно:
— За что забрали?
— Не знаю.
— Русский?
— Да.
— Давно взяли?
— Сегодня.
— В плену давно?
— Давно.
С первого момента я отверг мысль о том, что это осведомитель, подсаженный ко мне. Много чести! Да и «шестое» чувство редко меня подводило. Иногда только увидишь человека, а тревоги он не вызывает, наоборот — доверие. Не помню случая, чтобы я ошибся: у военнопленных свои университеты.
Мой собеседник оказался намного разговорчивей меня, собственно, потому он здесь и оказался. Его история до банальности проста:
— Лежу в кровати, а уже десятый час утра. Плохо себя чувствую. Позвонила соседка по лестничной площадке. Попросила соли. Я поделился. Она заметила: «Мой муж в снегах под Сталинградом, а вы в кровати валяетесь!» Я сгоряча ей ляпнул: «Дуракам закон не писан». И вот я здесь, с вами.
Его в этот день куда-то увезли раньше меня. Через полгода мы встретились в концлагере Гузен. Он очень обрадовался, дол го тряс руку и не отпускал меня, предлагая помощь. Это было во второй половине 1943 года, я к тому времени уже состоял в подпольном антифашистском лагерном комитете и смог без ущерба для себя, но вежливо и с большой благодарностью отклонить его предложение о помощи. Данные о нем передал в комитет для проверки. Все оказалось в порядке, и сомнения, если они и были, рассеялись. Он был с чехами, и они его знали. Провал одного человека мог вызвать провал всей цепочки, и рисковать этим я не имел права…
3
Только к вечеру занялись мной. На легковушке, правда, без почетного эскорта, меня отвезли на другой конец города в старинную тюрьму, многоэтажную, похожую на средневековую крепость, сложенную из крупных блоков темно-серого камня. Поместили в одиночную камеру на четвертом этаже. Я сразу с интересом начал ее обследовать, поскольку в настоящей тюрьме пока сидеть не приходилось. Камера — прямоугольная, площадью около семи квадратных метров. Потолок высокий. Окошечко маленькое, узкое, под самым потолком — неба не видать, мешают толстые стены. До окна не допрыгнешь. Под окном возле пола — батарея водяного отопления. Теплая. У одной из стен — стол с табуретом. Оба предмета металлические, их ножки вмонтированы в цементный пол. В другой стене — ниша, куда на день убирается посредством шарниров металлическая сетка кровати с тюфяком и другими принадлежностями. Все это запирается до вечера на замок: днем спать не полагается. Между нишей и входной дверью — раковина умывальника, над ней — зеркало. Напротив — унитаз.
О чем подумалось? Во-первых: да это санаторий! Так жить можно. Мне давно не приходилось находиться в таких хороших условиях. А во-вторых, я с большим удовлетворением отметил тот факт, что камера заставлена предметами — стол, кровать, табурет, раковина, унитаз — можно сказать, не разбежишься. Вот в этом и все дело. В такой камере бить наотмашь не смогут: если размахнешься, то обязательно куда-нибудь кулаком трахнешь, а вокруг все из стали. Бить можно только прицельным ударом, но для этого нужны профессионалы, а их не так много. Это меня порадовало и немного успокоило.
Кормили сносно: утром — эрзац-кофе, в обед крошечная порция баланды в алюминиевой мисочке, называвшейся «манашкой», и пара ложек второго. На ужин — опять кофе, но уже с кусочком хлеба. Голода я пока не испытывал, так как за время работы в Целлерндорфе отъедался впрок, предчувствуя, что крестьянская еда продлится недолго.
Но самые важные открытия ожидали меня впереди. Оказалось, что мой надзиратель, старик-чех, в Первую мировую войну находился несколько лет в русском плену где-то в Сибири. Он привез домой самые теплые воспоминания о широкой душе братского славянского народа. Как он меня выручал впоследствии, как старался облегчить мою участь, зная, чем это грозило ему! Он нашел в себе мужество каждое утро через окошечко в двери буквально на пару минут совать мне одну из двух утренних венских газет: либо «Народный обозреватель», либо «Венские новости», а то и обе сразу. Мне нужна была только сводка Верховного главнокомандования германской армии (Oberwehrmachtskommandobericht), которую я читал между строк, что вряд ли получалось у тех достопочтенных граждан, для которых эти газеты предназначались. О большем я не мог и мечтать в условиях тюрьмы гестапо.
Ежедневно по утрам мы совершали прогулку по тюремному двору. Точно так, как это показывают в кино. Арестанты ходили друг за другом на расстоянии 6–8 шагов, держа руки за спиной, молча, под охраной и тщательным наблюдением, исключавшим любые контакты. Прогулка вносила не только разнообразие в наше тюремное бытие, но и приносила «материальные блага». В то время, по моим наблюдениям, я был единственным русским в тюрьме, да еще и в советской военной форме. С прогулки мы обычно возвращались тюремными коридорами, где вдоль стен на полусидели арестанты из числа тех, кому срок определен. Они чистили лук, по-видимому, для кухни тюремного персонала, так как в нашем меню лук себя не обнаруживал. Когда я проходил мимо них, они торопливо совали мне на ходу луковицы покрупнее в оба кармана шинели. Национальность этих людей мне не известна, но это были братья по классу…
Луку я нашел оригинальное применение. Утренний эрзац-кофе был без хлеба — не наешься. Стал крошить луковицы в горячий кофе, и это становилось пищей, а не только питьем. Я уверен, что за время пребывания в тюрьме Цнайма, а это около месяца — с января по февраль 1943 года — лук здорово поддержал мои силы.
Время в камере проходило в утомительной монотонной ходьбе от двери до окошка, из угла в угол — часами. Так было надо, чтобы не одеревенели мышцы, поскольку короткая прогулка приносила мало пользы. Ходил и ходил весь день, обдумывая, что можно предпринять для изменения своего положения, но ничего путного не находил. Приходилось только ждать этих изменений, и они вскоре наступили.
Буквально на третий день утром прозвучала команда:
— Lewtschenko, Mantel anziehen![43]
На той же автомашине привезли в знакомое здание гестапо. Допрос проводился на втором этаже в уютной комнате, обставленной не казенной, а домашней мебелью. Комната квадратная. Окна с решетками. Посреди комнаты — продолговатый стол, за которым сидели двое сотрудников. Они, понятно, будут «работать» со мной. Про себя я их окрестил: «тонкий» и «толстый». Оба в гражданских пиджаках, но бриджи и сапоги — военного покроя.
Меня посадили напротив, предварительно застраховавшись от случайностей: руки в запястье прихватили металлической цепочкой с небольшим замком. Такие мне приходилось видеть до войны в Ленинграде — их применяли для сохранности велосипедов, оставленных возле магазина. Меня это нисколько не удивило, показалось вполне нормальным.
Забегая вперед, скажу, что такие допросы стали регулярными: они проводились с немецкой пунктуальностью каждые вторник, четверг и субботу. Остальные дни проходили в камере. Серьезных обвинений против меня не было — все по мелочи. Но свой хлеб гестаповцам надо отрабатывать, и они вынуждены были делать из мухи слона. Мы же, грешные, с первых дней плена научились «ваньку валять». При этом очень важно было не перестараться. Если «перегнешь палку» и противная сторона инстинктивно почувствует малейшую издёвку над собой, тогда несдобровать — «пиши пропало!» Такие случаи имели место. И ни в коем случае нельзя улыбнуться над собственным ответом, не дай бог! А «досье» на меня исчерпывающее — канцелярии лагерей работали добросовестно.
— Почему бежал из лагеря Будешти в Румынии?
— Помирал с голоду. — Почти так и было.
— За что арестовали на табачной фабрике в Хейнбурге?
— Арестовали по ошибке. Потом признали, что никакой вины за мной не было. — Это заслуга Борисова, сумевшего все перевернуть с ног на голову.
— Ты проводил агитацию в Целлерндорфе среди крестьян, читал им газеты о Сталинграде?
— Люди просили пояснить, где географически находится тот или иной населенный пункт, упоминавшийся в военной сводке. Какая может быть агитация, когда германская армия уже на Волге? О чем тут агитировать? — это нравилось, восклицали: «Ja, Ja!»[44]
— Зачем к тебе приходили военнопленные издалека, из других рабочих команд?
— Только один раз приходил земляк. Он случайно узнал, где я работаю, а право посетить меня ему дали за его хорошую работу.
— Почему ты отказался от предложения помочь армии фельдмаршала Роммеля? Тебя не воевать просили, а хотели зачислить во вспомогательный хозяйственный взвод. В чем дело?
— Россия и Германия находятся в состоянии войны. Военнопленные не имеют права служить в армии другой стороны. Вы ведь тоже не стали бы?
— Но много ваших согласились служить у нас?
— Каждый отвечает за себя.
И все в таком духе, но не могу забыть три дурацких вопроса:
— Ты учился в ленинской школе?
— У настолько они и были — других не было.
— Ты был комсомольцем?
— У вас гитлерюгенд, а у нас — комсомол.
— Скажи: мы победим?
Это вопрос «на засыпку». Как удовлетворить их? Ответ нашелся сразу и далеко не самый умный:
— Победите. Для этого надо дойти до Тихого океана и вырезать всех до одного…
Два дурака ответом остались довольны:
— Дойдем, вырежем! — а я думаю себе: «Ну-ну, не кажи „гоп“, пока не перескочишь…»
Но в таком мирном плане беседа, к сожалению, бывала недолгой. Почти каждый ответ сопровождался ударом ребра линейки по голове — для порядка, чтобы не забывал, где нахожусь. Линейка длиной 50 сантиметров, толщиной 8 миллиметров, била очень больно. При этом били по тем местам головы, которые закрывала шевелюра. После сыпного тифа у меня вновь отросли густые волосы, и они немного смягчали удары. А били аккуратно — только по голове, но не по лицу: меня еще надо было везти в тюрьму через весь город. Могут сказать: в гестапо — звери. Не хотели сотрудники подмочить репутацию этого страшного монстра.
Но полдня сидеть за столом и выслушивать мои ответы, даже сдобренные линейкой, тоже быстро надоедало. Тогда начиналось второе действие спектакля. Гестаповцы вставали из-за стола, профессиональным ударом вышибали меня со стула на пол и начинали играть в футбол, где роль мяча отводилась мне. На сапогах у них вечные металлические подковки.
Били со вкусом, не торопясь, прицельно, соблюдая дьявольскую джентльменскую очередь. Люди молодые, хорошо, если за тридцать, энергии хоть отбавляй, разрядиться надо, а на фронт не хочется. И они старались!
Кости у меня в молодости были крепкие, некоторое время перед армией занимался борьбой вольного стиля, а также боксом. И все же они могли с успехом превратить меня в инвалида, но не сумели. Мои руки были схвачены цепочкой спереди, а не сзади, чтобы все время видеть их в процессе допроса. В этом — мое спасение. Когда меня избивали ногами, я старательно прикрывался руками, тем самым снижая эффективность каждого удара. Свяжи они мне руки за спиной — не знаю, чем это могло кончиться. Так продолжалось около месяца, и создавалось впечатление, что я — единственный враг рейха, а иначе им нечем и некем заняться.
К вечеру привозили в тюрьму. Когда входил в камеру после первого допроса, на глазах выступили слезы: на еле теплой батарее отопления аккуратно стояли мисочки с моим обедом, чтобы не остыли. Это было чисто символично — они конечно же давно остыли, — но сам факт такой заботы и сострадания со стороны надзирателя помогал исцелению как физических, так и душевных ран.
Ран, собственно, не было. По возвращении в камеру я проводил осмотр мест, по которым били, оценивая количество и размер синяков, кровоподтеков, ссадин. В самом плачевном состоянии оказывалась голова: она была вся лиловая и вспухшая донельзя. Руками до нее не дотронуться, и я перед зеркалом осторожно раздвигал волосы, чтобы увидеть, во что превратилась за день моя голова. До сих пор не могу понять, как я это выдержал и не стал в конце концов идиотом. У меня впоследствии только с сосудами головного мозга было неладно да головные боли досаждали. А тогда самой тяжелой оказывалась ночь: класть голову на подушку я был не в состоянии. Приходилось свешивать ее с кровати в проход, и так она висела до утра. Через день все начиналось сызнова.
Иногда для разнообразия меня ставили к стенке под дула двух револьверов — гестаповцы всегда были при оружии, — говоря:
— Признавайся, даем две минуты.
— Я все сказал. Больше нечего…
При этом я отлично сознавал, что для того, чтобы меня прикончить, вовсе не требовалось пачкать моей славянской кровью их арийский паркет. Для подобных акций много других, более подходящих мест. Это был театр, но я уже стал им пресыщаться, теряя с каждым днем тот запас жизненных сил, который восстановил в Целлерндорфе. Чувствовал, что скоро не выдержу этих регулярных избиений, если они не прекратятся. До головы давно было не дотронуться, каждый удар становился невыносимым, а на тело страшно смотреть — следы от подковок гитлеровцев говорили сами за себя. Но они уточнили и этот вопрос — что меня ждет впереди:
— Если не признаешься, переведем в спецподвал. Там заговоришь!
В этот день я понял, что неумолимо приближается конец. На подвал ни физических, ни тем более моральных сил у меня не оставалось.
Сразу вспомнилась всяческая чертовщина из литературы — пытки на дыбе и прочие прелести во времена Грозного, Бирона, Петра. Значит, надо с этим кончать — отгулял…
А все-таки я под счастливой звездой родился! Через день-другой надзиратель, не скрывая радости, сунул в дверь очередную свежую газету, и я не поверил своим глазам: все листы газеты по периметру были окаймлены черной траурной полосой-рамкой чуть ли не в сантиметр шириной. Германия объявляла три дня траура по армии фельдмаршала Паулюса, разбитой в Сталинграде. Это — 2,3 и 4 февраля 1943 года. Прочитал, и у меня перехватило дыхание: я почему-то вообразил, что к следующей зиме наши дойдут до Чехии, а следовательно, никакой слабости, терпеть все и выдержать то, что еще предстоит. Мне стало стыдно от мысли, что только вчера решил искать способ свести счеты с жизнью.
К моему великому удивлению, в допросах наступил перерыв, и на последнем из них — уже после 6 февраля — мне предъявили обвинительное заключение, которое следовало подписать. Внизу стояло: «Возвращение нежелательно». Не глядя на текст и ни на секунду не задумываясь, я подписал все, что требовалось. Неужели кончили бить?
Когда меня уводили от них, они злобно прошипели:
— Ты сдохнешь, как собака, у нас в Германии.
— На другое я и не рассчитывал, — отвечал я.
И опять впереди была неизвестность…
Вена
1
Прощание было коротким: во дворе тюрьмы группу арестантов посадили в крытый фургон типа «Черный ворон» — пользуюсь отечественным лексиконом — и повезли в Вену. Путь от Цнайма недалек — около 150 километров.
Я четырежды бывал в столице Австрии проездом — то в Хейн-бург, то в Целлерндорф. И вокзал ее каждый раз напоминал мне последний отъезд из Ленинграда в Одессу 5 февраля 1941 года, отзываясь болью в сердце. Вена — один из красивейших городов мира, но красавицей она была не для нас, которых ждала очередная тюрьма — на сей раз «Gestapo Gefängnis 14-te Bezirk», или «Тюрьма гестапо 14-го округа».
Оформляли долго. Наступил вечер. Только к ночи затолкали в просторную общую камеру. Под потолком горело тусклым светом ночное освещение. На полу вповалку спали такие же арестанты — 40–50 человек. Как выяснилось, здесь находились поляки и русские, греки и голландцы — собрались со всей Европы. О, Германия: гостеприимству твоему нет предела!
Мы, вновь прибывшие, стали искать глазами место для ночлега. Вдруг поднялась сонная и взъерошенная голова, и удивленный голос воскликнул:
— Дима, это ты?
— Я, Петя… — с Петей Шестаковым не виделись год. Он опять со своим неразлучным другом — Федей-парикмахером. Его все так звали, и я привык. Они оставались в лагере 17-А, когда меня увозили в Хейнбург. Через неделю меня вернули в лагерь в связи с арестом, но их уже не было.
А сейчас мне стало легче: снова рядом родные души.
В этой камере никакой мебели не водилось. Весь день проходил на ногах. Валяться днем на полу не возбранялось, и никто под наблюдением нас не держал. Все слонялись по камере, строили предположения о том, что нас ожидает.
Дни текли однообразно, но только для таких, как я, — кто имел приговор и для кого Венская тюрьма — пересыльный пункт. Для других же — допросы шли полным ходом, причем здесь гестапо «трудилось» непосредственно в самой тюрьме, и через весь город, как в Цнайме, арестантов на допрос возить не требовалось. Поэтому бить могли без всякого удержу. Так и делали. На своих ногах с допроса никто не возвращался: товарищи еле живых с разбитыми лицами носили на руках. Мы, как могли, пытались облегчить участь пострадавших. Обмывали раны водой, обрывками от белья примитивно перевязывали искалеченные места. От всего было мерзко на душе. Иногда закрадывалась мысль: а вдруг снова потащат на допрос? Моих друзей пока не вызывали. Люди ждали отправки в какие-то особые лагеря, о которых часто говорили всеведущие поляки, но об этих лагерях тол ком никто ничего не знал.
И вдруг — баня! Настоящая баня с горячей водой и эрзац-мылом. Пусть кто-нибудь скажет, что так не бывает, но предыдущая баня у меня была в Одессе за неделю до войны. Два года без бани — это срок! Кстати, следующая будет тоже через два года — в 1945 году, после освобождения.
После бани, а было это в марте 1943 года, нас вновь ожидал арестантский вагон и новый пункт назначения, похоже — на этот раз — последний. Сопровождение — венские жандармы. Поезд Вена-Линц повез нас дальше на запад.
2
Возвращаясь в сегодняшний день, подумалось вот о чем: действительно, трудно стало жить в нашей стране. Политическая нестабильность, экономика разваливается, инфляция продолжается, жизненный уровень падает. По вполне объективным причинам многие не выдерживают этого и, чтобы обеспечить более сносную и спокойную жизнь себе и детям, покидают Родину, уезжая за рубеж — в США, Германию, Израиль, в другие страны. Я понимаю, что жить трудно, просвета пока не видать, а нам, старикам, и подавно. Но отъезжающие отстраняются от участия в строительстве новой России — пусть это делает кто-то другой, а они переждут. Некоторые обещают вернуться, когда жить станет полегче.
Не знаю, осуждать мне своих сограждан или нет. Пожалуй, склонен осудить. Но я всегда вспоминаю другое тяжелое время и тех, кто не мог себе позволить забыть Родину ради живота своего. А ведь как легко было нам тогда изменить положение к лучшему: надо всего лишь согласиться сотрудничать с врагом. И тогда — хорошее питание, форма, выпивка, женщины и многие другие «блага».
Конечно, не так мало оказалось и тех, кто пошел на это. Недавние публикации об армии генерала Власова называют цифру в 1 миллион «предателей родины» — об этом говорилось выше. Одни не выдержали условий плена; других — сломили физически; третьи — и так в душе были врагами советской власти; четвертые — надеялись, получив оружие, сбежать к своим. Я благодарен судьбе, уберегшей меня от общения и контактов с такими соотечественниками. Бог им судья.
Но я всегда буду помнить тех, кто перечисленные выше «блага» променял на бесчеловечные допросы в гестапо, на тюрьмы и концентрационные лагеря. Те, среди которых мне довелось находиться, никогда не сомневались в правильности выбора своей судьбы, предпочитая погибнуть, но не изменить своему дому, своим родным и близким, своей памяти о прошлой жизни, какой бы она ни была. Мы, старики, прошедшие путь, ниспосланный свыше, никогда не забудем своих товарищей, кто сознательно шел насмерть, не допуская и мысли о том, чтобы принять условия врага, а потом не возвращаться на родину. Кто, несмотря на то что многие смутно догадывались: после войны за плен по головке не погладят, все равно рвался домой. Лишь бы вернуться, а там будет видно. Мы тогда по молодости не отдавали себе отчета в том, что «сидеть» безвинно у своих в моральном плане намного тяжелее, чем «сидеть» в качестве врага у врага. Это мы поняли позднее — с возрастом.
Я бы уехать не мог…
Маутхаузен
1
Нас было не много — не более 150 человек. Мы не знали, куда нас везут, что нам предстоит, и грустили при мысли, что опять увозят на запад — дальше и дальше от России. И расстояние проехали по российским меркам всего ничего: от Вены каких-то 170 километров, но — на запад.
Вот и наше новое пристанище — городок, расположившийся на левом берегу голубого Дуная. На станционном строении такие же готические буквы, как и на здании гестапо в Цнайме, и цвет тот же, но название другое — «МАУТХАУЗЕН». Так именуется городок. С годами это слово станет нарицательным, а тогда мы о нем ничего не знали.
На этот раз нас встречали: вокзал был оцеплен. Что за люди? Такую униформу мы видели впервые. На фуражках — черепа со скрещенными костями. У всех автоматы и овчарки. Это — эсэсовцы. Они стояли молча, неподвижно, как вкопанные, с хмурыми, перекошенными физиономиями, не предвещающими ничего хорошего. Нас неоднократно пересчитали. Жандармы уехали в Вену, а эсэсовцы повели колонну в горы.
Город как вымер: жители старались исчезнуть из поля зрения конвойных — уж они-то хорошо знали, куда нас ведут. Мы — не первая и не последняя колонна.
Шли под гортанные окрики эсэсовцев. Сплошная ругань. Удары прикладами. Тот, кто с краю, тому было хуже всех. Солдаты вооружились палками, били наотмашь, подгоняли, требовали ускорить шаг. Собаки бесновались на поводках.
— Los! Los! Schneller![45]
Мы поднимались все выше и выше. Городок остался позади, бить стали чаще и сильнее. Начали падать первые обессилевшие, и мы узнали, что означает — упасть: расстрел на месте. Наши силы таяли.
Впереди показались строения, похожие на крепость. Высокие стены, сторожевые вышки с пулеметами, колючая проволока на изоляторах, тяжелые стальные ворота между двумя возвышающимися каменными башнями — это главный вход в лагерь, так называемая брама. Над воротами брамы — фашистская свастика и массивный орел. В дни освобождения свастику и орла сбросят наземь, а много позднее перед брамой поставят памятник советскому генералу Д. М. Карбышеву, зверски замученному в лагере.
Прозвучало слово «концлагерь». Отсюда можно выйти на волю только через крематорий. Это и был Маутхаузен. Сейчас о нем многие знают, но долгие годы после окончания войны зловещее словосочетание «концлагерь Маутхаузен» было изъято из лексикона. Прошла эйфория дней, когда наступавшая Красная армия освобождала один лагерь за другим — в Польше, в Австрии, в Германии. Наши солдаты и офицеры увидели своими глазами ужас того, что насаждал фашизм. Увидели, ужаснулись, помогли, чем смогли, и передали освобожденных людей в добрые руки Родины. Люди плакали от радости, не веря, что кошмар кончился и они остались живы.
Но о концлагерях скоро забыли. Помнить ни к чему: надо восстанавливать народное хозяйство. Те, кому посчастливилось вернуться домой, потупив взор, с неуверенностью, а то и со страхом, писали в анкетах о том, что находились в концлагере. Если брали на работу, что имело место не всегда, то анкета подшивалась в дело, а ты никогда и нигде не упоминал об этом. Многие не раз слышали обидные слова: «Наверняка — ты шпион. Не может быть, чтобы тебя не завербовали!» — так смотрела на каждого бдительная служба безопасности страны. В газетах и журналах о концлагерях не упоминали, книги на эту тему не выходили. Кинематография тоже обходила стороной: война дала столько героического материала для сценариев — до концлагерей л и тут?
Да и опасно заострять эту тему без надобности. Вдруг какой-нибудь чудак наивно спросит: «Ау нас есть концлагеря или нет?» Ему скажут: «Нет!» А если он засомневается, а потом второй, третий… Этого допустить нельзя.
В 1948 году я приобрел вышедшую у нас книгу Жана Лаффита «Живые борются» (М., 1948). Автор — антифашист, видный общественный деятель Франции, в прошлом — один из руководителей подпольного интернационального комитета в Маутхаузене. После прочтения книги осталось горькое чувство: а где же наш брат? Вроде и не было в Маутхаузене русских. Могло быть итак, что автору, активному члену Французской компартии, наши партийные деятели вежливо, но настоятельно, порекомендовали «на всякий случай» поменьше писать о русских.
В годы хрущевской оттепели на книжные рынки многих городов страны начали поступать воспоминания бывших военнопленных и узников фашистских концлагерей. С приходом к власти Брежнева этот поток иссяк.
Сейчас, когда исчезли идеологические барьеры ЦК КПСС, отчетливо просматриваются те места воспоминаний, где авторы вынужденно отходили от правды. Весьма уважаемые люди несколько приукрашивали события, чтобы возвеличить роль партии, а также сознательно изменяли или умалчивали отдельные факты. К сожалению, в то время они иначе писать не могли. Это не их вина, а их беда. И так было со всей литературой о войне. Можно взять любые мемуары прославленных полководцев о войне, и видно, как велика была тяжесть идеологического груза. Мемуары легендарного Жукова не приятно было читать: вокруг него Сталин планомерно уничтожал командный состав армии, а он не имел права даже упомянуть ни об одном из пострадавших друзей, однокашников, однополчан. И так поступали все — ложь возводилась в закон. В этом плане я дождался своего часа: могу писать свободно, не опасаясь высказать личные суждения и оценку событий, а особенно по такому щепетильному вопросу, как плен или концлагерь.
Я поставил перед собой задачу рассказать только то, чему лично был свидетелем, в чем непосредственно участвовал, и не использовать художественный вымысел, чтобы более полно удовлетворить интересы читателей, для которых эта тема граничит с детективом.
Но даже и в таких строгих рамках не все просто. В послесловии к повести «Парень из Сальских степей» Игорь Неверли пишет: «И еще одно признание: я показал вам не всю правду лагерей. Показал так только, в общих чертах, чтобы вы имели представление о ней. Не показал не только потому, что не хотел заразить юное воображение, отравить трупным ядом свежесть ясных чувств и глаз. Правда Майданека и Освенцима — это очень трудная правда, и для тех, кто прошел через это, — очень личная правда.
Мне кажется, что отображение этой правды во всей ее сложности станет возможным лишь в произведениях будущих поколений. Она, эта правда, будет подлинной, как смерть, но уже не будет отравлять. И будет прозрачной до дна, пронизанной лучами новой и, будем верить, лучшей жизни» (Роман-газета. 1968. № 1). С такими проникновенными словами трудно не согласиться. Но как только в работах А. И. Солженицина, Т. В. Тигонен и других авторов вспыхнула кровавым светом зловещая правда ГУЛАГа, это высказывание И. Неверли потеряло свою остроту.
Система ГУЛАГа в стране, «где так вольно дышит человек», существовала главным образом для массового уничтожения невинных граждан. А фашистские концлагеря были фабриками смерти в основном для действительных врагов нацизма — испанцев, французов, русских, поляков, югославов, представителей всех народов оккупированной Европы. Во всяком случае, большинство заключенных таковыми и являлись. Я не рассматриваю лагеря уничтожения — Освенцим, Майданек, Треблинку и другие, — где в массовых количествах уничтожались мирные женщины, дети и старики по расовому и национальному признаку, — это особая статья в преступлениях нацизма. Своих соотечественников Гитлер уничтожил по политическим и расовым мотивам около 90 000 человек…
Надо продолжать рассказывать правду, именно правду, тем более что возраст очевидцев и участников событий уже критический, и вскоре просто некому будет об этом поведать. И здесь я несогласен с И. Неверли в том, что «произведения будущих поколений» якобы смогут более достоверно показать трудную и страшную правду фашистских концлагерей. Кабинетная работа с архивными материалами не в состоянии подменить память людей — легко сделать ошибочные выводы.
Вот пример. К 25-летию освобождения Маутхаузена в мае 1970 года мне прислали оттуда поздравительную открытку. Подтекстом, кроме подписи непосредственного отправителя, моего друга австрийского коммуниста Георга Слуга, стояло еще пять подписей бывших русских узников Маутхаузена, которые приглашались в Австрию на торжественную церемонию по случаю празднования юбилея. В числе подписавших — Игошкин, Евдокимов, а также Сахаров, автор известной книги «В застенках Маутхаузена» — все активные участники подполья. Какой напрашивается вывод? Все, подписавшие открытку, знают лично того, кому она адресована, то есть меня. Ничего подобного. В данном случае я знаю этих пятерых товарищей только заочно по книге В. И. Сахарова, а они меня — лишь со слов других бывших узников лагеря. Так что вывод оказывается неверным.
Небезынтересно отметить, что в последнее время журналисты и общественность все чаще применяют слово «концлагерь» в любом случае, когда налицо вышки с пулеметами и колючая проволока. Это далеко не так. Концлагерь — это особо тщательно разработанная система насильственного уничтожения заключенных. Подробнее об этом — в следующей главе.
Сказанное не означает, что обычный лагерь военнопленных намного лучше. Увы, это тоже не так. В зиму 1941/42 года в лагере Будешти нас никто и пальцем не тронул, а смертность от голода, холода и болезней была настолько высокой, что не успевали убирать трупы, и они штабелями лежали вокруг бараков — об этом уже говорилось. Люди погибали сами, их организм не мог побороть лишения, выпавшие на их долю. Сравнивать лагерь военнопленных с концлагерем следует не по проценту смертельных исходов, а исходя из определенных специфических условий содержания и особенно способов уничтожения заключенных.
<…>
2
Мы отстояли свое на холодном, пронизывающем ветру — приемка закончена. Команда — раздеться. Продолжая стоять на ветру, стучали зубами от холода, тревожного ожидания и нервной дрожи, но теперь — без одежды. Начался досмотр снятой одежды, но у нас не было ни золотых украшений, ни других драгоценностей. Принимающие разгневались, что им нечем поживиться: стали бить сильнее, кричать, суетиться. После переклички за нас принялись парикмахеры: они ловко снимали машинками растительность стела, стригли наголо волосы на голове, а по середине пробривали полоску от лба к затылку в два пальца шириной. Если сбежишь, легко опознать, откуда ты. Но мне не приходилось слышать об удавшихся побегах из концлагерей. После обмазывания тела жгучей жидкостью против насекомых нас загнал и дубинками под струи холодной воды. Выскочить было нельзя — могли забить насмерть. Это мы уже усвоили.
Когда «санобработка» кончилась, выдали рубаху и кальсоны, а на ноги — долбленые деревянные колодки, называвшиеся «пантоффель». Мне достались размера примерно 39, а мой размер — 43,5. Пришлось колодки носить в руках: за потерю имущества рейха — смерть. Выдали металлический номерок, который надолго заменит каждому из нас имя и фамилию. Его следовало укрепить проволокой на запястье руки, чтобы тебя опознали, когда станешь трупом. Мой номер — 25 249. Только недавно я случайно установил, что В. И. Сахаров получил номер 25 253, за четыре человека от меня. Выходит, что мы прибыли одним транспортом?
Вспоминая эти процедуры, до сих пор не могу понять, как и где сумел спрятать и пронести в Маутхаузен дорогие мне фотокарточки Нины, Вани Кучеренко и других — ведь я уже раз терял их при побеге в Румынии. Совсем как в песне: «…что-то с памятью моей стало…» Они и сейчас хранятся в семейном альбоме, а как сберег — не припомнить…
Наконец надсмотрщики с ревом погнали нас в карантинный блок 20[46], изолированный от лагеря каменной стеной и находящийся под особой охраной. Из него мы лагерь практически не видели. Внутри блока пусто — нар не было. Нас выстроили перед блоком и держали до отбоя. За малейшее шевеление в строю — удар, по второму разу — сильнее. Цель карантина — сломить морально и физически, принудить к безусловному повиновению каждой команде, не думать, не разговаривать с соседом, свыкнуться с положением бесправного раба, которого в любой момент можно убить.
Спали «сардинками»: все лежали на полу на одном боку. Среди ночи перевернуться на другой бок можно только всем вместе. Если вылезешь один — твое место сразу исчезает.
Подъем в 4.30 утра. Снова рев надсмотрщиков, удары дубинками, выгоняли из блока на построение и больше стоять не давали. Оказалось, что стоять часами — это отдых, а мы не знали. Нас ожидали и другие испытания. По команде, пересыпанной отчаянной руганью, нас загоняли в блок.
В узких дверях образовывалась неимоверная давка. Удары сыпались на головы. Мы прикрывали их руками, но больше всего страдали те, кто был в числе последних. Как только все заскакивали в блок — новая команда: «Raus!»[47]. Вылетали из блока — нас били спереди и сзади. Потом все начиналось сызнова. К середине дня глаза начинали вылезать из орбит, голова кружилась, ноги в коленях тряслись от перенапряжения, все тело и конечности были избиты. Кто свалился и не вставал — для того муки закончились. Так мы познавали карантин. Эта пытка продолжалась более недели.
Мы тогда не могли знать, что этот карантинный блок 20 впоследствии назовут «блоком смерти», и из него из-за невыносимых условий в ночь со 2 на 3 февраля 1945 года совершат беспримерный по дерзости массовый побег более двухсот советских офицеров, среди которых — много летчиков, сбитых в последних боях. Известно, что сумели уйти от преследования и после войны вернуться на родину только 6–8 человек. О них писали центральные газеты в 1960 году во время визита Н. С. Хрущева в Австрию. Все остальные были зверски убиты. Один из руководителей побега — летчик, майор Леонов, ленинградец, незадолго перед этим сбитый над Веной. Его судьба так и не установлена. В Ленинграде у него оставались жена и дочки-близняшки…
И последнее о Маутхаузене. Я расстался с командиром полка майором Остриковым и начальником штаба капитаном Овчинниковым, а также с другими командирами полка в Кишиневе, в сборном лагере военнопленных. Их увезли на запад раньше нас — рядовых, сержантов и тех командиров, что предпочли сойти за рядовых и остались с нами. В 1943 году, когда я уже находился во «внешней команде» Маутхаузена — Гузене, мне поведали о судьбе Острикова и Овчинникова. Не могу вспомнить, кто именно рассказал, но, хорошо зная своих командиров, я верю, что именно так могло произойти на самом деле.
Осенью 1942 года, после неудачного побега из эшелона, их доставили в Маутхаузен. Когда построили, эсэсовский офицер скомандовал: «Коммунисты, три шага вперед, марш!» Из общего строя вышел один майор Остриков, и его тут же расстреляли. Он мог так поступить, но надо ли? Я ранее отмечал, что радужных перспектив на возвращение к прежней жизни и службе на родине у него не было — все отняла война!
Капитан Овчинников ненадолго пережил своего командира полка: на «лестнице смерти» в 186 ступеней, известной в Маутхаузене под названием «Виниграм», он окончил свой жизненный путь, выбившись из сил, и был утоплен в бочке с водой, специально стоявшей наверху для этих целей. В этом усматривалась «господами жизни и смерти» доля гуманности: не сжигать узников живыми, но это — кому как повезет. Майор и капитан были вдвое старше моих сверстников, и им было намного тяжелее.
И вот теперь, через пятьдесят лет, имею ли я моральное право рассказать о том, чему сам не был свидетелем? У майора в 1941 году в Одессе остались жена и две маленькие дочки. Я не смог их разыскать после войны, так как семьи командиров вечно кочевали с мужьями по всей стране и постоянных адресов не имели. Вдруг его дочери, уже немолодые женщины, прочтут эти строки и почувствуют боль при воспоминании о дорогом человеке. Если майор домой не вернулся, то все это — правда. Что же лучше? Знать подобие правды или ничего не знать? Я бы выбрал первое, и заранее прошу у них прощения за то, что не в состоянии молчать…
Карантин на блоке 20 кончился, изрядно измотав наши моральные и физические силы и подавив всякие надежды на избавление. Многие из нас стали считать избавительницей — смерть. Цель карантина палачами была достигнута: оставалось совсем немного, чтобы нас окончательно сломить.
К ночи построили и колонной погнали в Гузен, крупнейший филиал Маутхаузена, расположенный рядом с основным лагерем. Опять раздавались дикие выкрики, бесконечные удары, бесновались собаки и конвойные, в упавших стреляли или добивали прикладами. Всю ночь напролет сыпал мокрый снег. Под босыми ногами — месиво из грязи и снега. Колодки под мышкой — на ноги не налезают, а бросить нельзя. Колонна почти бежала в нижнем белье — видно, одевать будут на новом месте.
Еще затемно мы очутились в Гузене, падая от изнеможения…
А в Маутхаузен мы больше не вернемся. Он будет освобожден американскими войсками 5 мая 1945 года. В этот момент в нем будут находиться 16 650 узников, из них 7566 — больных. Кто доживет до этого светлого дня?
Гузен: лагерь уничтожения
Пока колонна не вошла в лагерь, самое время дать краткую характеристику структуры нацистских концлагерей, условий жизни и смерти в них, отличия от других лагерей Германии.
Концлагерь Маутхаузен имел на территории Австрии 50 филиалов или так называемых «внешних команд». Крупнейший из них — Гузен.
Он официально числился так: «Konzentrationslager Mauthausen / Unterkunft Gusen», что означало — «Концентрационный лагерь Маутхаузен / Команда Гузен». Термин «команда» возник не случайно: он подчеркивал территориальную близость Гузена, практически единое командование и охрану, единую нумерацию заключенных и другие связи. Например, когда один крематорий не справлялся, то трупы везли во второй.
Помимо Гузена, наиболее известны такие филиалы Маутхаузена, как Мельк, Эбензее, Гроссраминг, Штейер, Энс, Санкт-Пельтен, Санкт-Валентин, Винер-Нойштадт и другие. В большинстве филиалов условия содержания заключенных были еще хуже, чем в Маутхаузене.
По своему режиму Маутхаузен и Гузен относились к «третьей ступени», о чем свидетельствуют архивные документы (Концлагерь Гузен: Документальная повесть/ Сост. Ганс Маршалек. Вена, 1968): «Начальник охранной полиции и службы безопасности Рейнгард Гейдрих в одном из циркуляров, датированном 1 января 1941 года, разделил все нацистские концлагеря на три ступени: ступень 1 — для заключенных за незначительные преступления и, безусловно, подлежащих перевоспитанию (Дахау, Заксенхаузен и другие); ступень 2 — для заключенных за тяжкие преступления, которых все же можно перевоспитать (Бухенвальд, Флоссенбург, Аусшвиц и другие); ступень 3 — для заключенных за тяжкие преступления уголовного и асоциального характера, неисправимых и едва ли подлежащих перевоспитанию (Маутхаузен и Гузен)». Полагаю, что такое разделение могло существовать только на бумаге, которая, как известно, «все стерпит». А практически — кто в состоянии безошибочно отнести заключенного к той или иной категории? Возможно, это мог определить справедливый суд присяжных, но в нем не нуждались правящие структуры нацистской Германии также, как и в моей любимой стране в подобных случаях. Такова логика нацизма, а теперь — мы знаем — и коммунизма.
В Маутхаузене действительно содержались те, кого вывезли из оккупированных европейских стран, те, кто не только люто ненавидел фашистский режим, но и познал вооруженную борьбу с ним: участники боев в Испании 1936–1939 годов — испанские республиканцы; националистически настроенные польские офицеры, ставшие военнопленными в сентябре 1939 года; антифашисты и коммунисты Польши, Франции, Германии и Австрии, Чехословакии, югославские партизаны и, конечно, советские люди, как гражданские лица, так и военнопленные солдаты и командиры, которых и погибло больше всего…
На блоках висели доски с издевательскими надписями: «Есть только один путь к свободе. Его верстовыми столбами являются послушание, прилежание, порядок, опрятность и чистота, честность, готовность к самопожертвованию и любовь к родине!» В этих словах ложь и лицемерие: из концлагерей заключенные на свободу не выходили — недаром, концлагеря справедливо называли еще и лагерями уничтожения, хотя существенные отличия между ними все же были.
<…>
Гузен находился в округе Перг, Верхняя Австрия, при впадении реки Гузен в Дунай, между городишком Санкт-Георген и местечком Лангенштейн. Это в 4,5 километрах на западе от Маутхаузена. Строительство лагеря началось в декабре 1939 года. (Какое невероятное совпадение: именно в декабре этого года я начал военную службу, дороги которой привели меня в Гузен!) В те дни каждое утро из Маутхаузена направлялись две рабочие команды на строительство нового лагеря Гузен. В них — четыреста немецких и австрийских заключенных. Вечером обе команды возвращались в Маутхаузен. Март 1940 года считается началом функционирования Гузена, как стационарного концлагеря. Из числа первого контингента немецких и австрийских заключенных, строивших лагерь и уцелевших в зиму 1939–1940 годов, было сформировано ядро самоуправления, которое составили: лагерный староста, лагерный писарь, старосты блоков (блоковые), старосты штуб[48] (штубовые), блоковые писари и полицаи, капо рабочих команд (бригадиры) и другие — все это преимущественно были отпетые уголовники. У лагерных функционеров на правом предплечье крепилась черная повязка с белыми буквами, обозначавшими их должность: «Капо», «Обер-капо» (старший капо), «Блокельтесте» (блоковый) и т. п.
Строительство лагеря продолжалось до конца 1944 года. А на конец 1943 года на участке долины размерами 350x150 метров и площадью 5,25 гектаров определилась внутренняя жилая зона лагеря из 29 деревянных блоков и 3 каменных строений. В блоках под номерами 1–24 жили заключенные; в блоках 25 и 26 располагались лагерные мастерские и складские помещения; блоки 27–32 занимал ревир (лазарет). В зиму 1943–1944 года на краю аппель-плаца[49] отстроили блоки под индексами А, В, С и D, где разместили тех, кто в то время работал в штольнях и в мастерских военного производства «Штейер».
Ряд лет блоки 15 и 16 служили для изолированного содержания отдельных групп заключенных — евреев, штрафников и советских военнопленных. Последние с конца 1941 года до освобождения лагеря находились в блоке 16, но с конца 1943 года и эти два блока — 15 и 16 — стали обычными. В блоке 24 содержались малолетние узники. В основном это были русские.
Летом 1941 года между рядами блоков 17–19 и 25–27 выстроили собственный крематорий, чтобы не возить трупы в Маутхаузен, а первая кремация состоялась ориентировочно в конце сентября.
Но и это еще не все. В июне 1941 года рейхсфюрер СС Гиммлер инспектировал концлагерь Гузен и дал указание открыть бордель для заключенных. В 1942 году вдоль южного участка лагерной стены между брамой и блоком 1 выстроили блок-бордель, в строительстве которого участвовали главным образом немецкие и польские функционеры. В борделе содержалось от восьми до десяти немецких проституток, доставленных из концлагеря Равенсбрюк. Посещать это заведение могла только лагерная «элита». Посещение стоило 2 немецкие марки, причем 50 пфеннигов получала проститутка, а 1 марка и 50 пфеннигов шли в казну эсэсовской комендатуры.
Охрану лагеря несли подразделения СС «Мертвая голова».
На черной или серой униформе у них было нашито изображение черепа с двумя костями и буквы «KL», значившие «концлагерь». Всего в Гузене к 1945 году в охране лагеря было задействовано около 13 охранных рот общей численностью до 3000 человек. Вокруг лагеря располагались две цепи постов — ближняя и дальняя. Первая — непосредственно вокруг лагеря, а вторая охватывала все каменоломни, штольни и другие места вне жилой зоны лагеря, где в светлое время суток работали заключенные.
К вечеру, когда узники возвращались в лагерь, дальняя цепь постов сближалась. Расстояние между постами составляло около 100 метров. Кроме того, постоянная охрана находилась на сторожевых вышках лагерной стены высотой 3 метра.
Все эсэсовские подразделения Гузена подчинялись коменданту Маутхаузена штандартенфюреру СС Францу Цирайсу. Эсэсовскую администрацию Гузена с середины 1943 года возглавляли хауптштурмфюрер СС Фриц Зайдлер и его заместитель хауптштурмфюрер СС Ян Бек. Начальником рабочих команд и поверок на аппель-плацу был обершарфюрер СС Михаэл Киллерман, шефом ревира — хауптштурмфюрер СС доктор Гельмут Веттер. Всего начальников из числа высших рангов СС в Гузене насчитывалось от 60 до 90 человек.
Еще в Гузене имелось так называемое «политическое подразделение» (политическая полиция), находившееся в ведении гестапо.
По прибытии в лагерь каждому заключенному взамен имени и фамилии присваивался номер. Это были черные цифры на полоске белой ткани, пришивавшейся на левую сторону куртки на уровне груди, а также на правую штанину выше колена. В дополнение к этому узники носили на запястье левой руки алюминиевый или жестяной номерок, крепившийся при помощи тонкой проволоки. Соответственно полагалось докладывать, сняв шапку и встав по команде «смирно»:
— Польский заключенный номер 25 845 просит разрешения пройти.
Кроме присвоения номеров, всех заключенные относили к той или иной категории, для чего существовала система винкелей. Винкель пришивался на куртку непосредственно над номером. Каждая из сторон треугольника — 5 сантиметров.
Описание наиболее часто встречавшихся в Гузене винкелей я привожу ниже (сначала указывается цвет треугольника и наличие букв на нем, а потом — чем характеризуется данная категория заключенных):
ТАБЛИЦА ВИНКЕЛЕЙ, наиболее распространенных в Гузене[50]
Кроме этих, были и другие цвета и буквы, но они попадались на глаза очень редко, а потому не запомнились. Почти не видел «лиловых» и «розовых» немцев, «зеленых» русских.
О русских следует сказать особо. На первый взгляд казалось странным: зачем русских разделили натри категории, когда практически наибольшую часть составляли военнопленные? Конечно, такое деление было чисто условным, но тем не менее попытаемся это объяснить.
Первыми русскими в Гузене были советские военнопленные с красным винкелем «SU», поступившие в лагерь в конце 1941 года в количестве 2150 человек. Из них на 31 марта 1942 года осталось 382 человека, а на 31 января 1944 года — 106 человек. Вышли на свободу в мае 1945 года только 18 человек. Такова печальная статистика жизни и смерти одного конкретного транспорта.
Что же за военнопленные поступили в Гузен? Ничего особенного: просто построили людей в обычном полевом лагере военнопленных, отсчитали, сколько требовалось, и отправили на уничтожение в Гузен. Могли отправить и в другой лагерь — это значения не имело. По воспоминаниям товарищей, уцелевших из этого транспорта, немцы, обходя строй, выкрикивали: «Ты — юдэ! Ты — комиссар! Ты — офицер!» Это происходило в октябре 1941 года на центральном участке фронта, когда лагеря военнопленных были переполнены. Немцы считали, что война идет к победному концу, трудовых ресурсов в Германии предостаточно, беречь военнопленных в качестве потенциальной рабочей силы ни к чему — долго воевать с Россией они не собирались. Все же я склонен считать это поступление советских военнопленных в Гузен отдельным транспортом без инкриминированной им вины перед рейхом случайным и единичным явлением. Зачем везти их так далеко, когда в полевых лагерях военнопленных в первую военную зиму смертность не уступала смертности узников в концлагерях? Помимо того, железнодорожный транспорт, шедший с фронта в сторону Германии, был забит ранеными вермахта, скотом, зерном и всем тем, что так легко досталось немцам в первые месяцы войны. Известно, что вывозили все, что можно увезти. Хотя в то время дальняя транспортировка военнопленных казалась нецелесообразной — помрут и в ближних к фронту лагерях, — но такой случай имел место.
К другой категории русских в лагере отнесли нас, тоже военнопленных, но успевших попасть в «черный список» по числу проступков — это и неудавшиеся побеги, отказы от работы, отказ от вербовки в немецкую армию, агитация в лагерях и среди местного населения и многое другое. Такие русские с винкелем «R» начали поступать в Гузен небольшими группами только со второй половины 1942 года. Потом их количество увеличивалось пропорционально тому, как росло сопротивление фашизму в лагерях и рабочих командах. Победа Красной армии под Сталинградом вызвала волну неповиновения и побегов, а все дороги в таких случаях вел и в Гузен и подобные ему лагеря. Так, на 31 января 1944 года русских с красным винкелем «R» было 877 человек, именовались они «цивильными рабочими». За всех сказать не берусь, но в моем случае — это прямая ложь.
Гестапо всячески скрывало свою ведущую роль в репрессивных мерах по отношению к советским военнопленным. Гестапо не фигурировало нив одном сопроводительном документе, как будто не оно арестовывало, избивало и пытало на допросах. Например, выше я упоминал о том, что получил архивную справку из «Международной службы розыска» от 21 июня 1993 года за №Т/Д-1454634, подтверждающую факт моего пребывания в концлагере Маутхаузен-Гузен. Так вот все несуразности в изложении фактов моей биографии, которые я обнаружил и которые были заложены 50 лет тому назад службами СС и гестапо в архивные документы лагерной канцелярии, я выборочно свел в таблицу:
Так, по документам гестапо, я перестал быть военнопленным и совершил несуществующий побеге работы. Как после этого доверять архивным данным и производить статистические выкладки?
С другой стороны, логично считать, что те из военнопленных, кто на момент последнего ареста находился в составе рабочих команд, автоматически переходили из категории «военнопленных» в категорию «цивильных рабочих». Это обусловливалось тем, что, согласно Женевской конвенции 1936 года о военнопленных, последние могли использоваться в рабочих командах только при их согласии или пожеланию, а принудительный труд по принципу — «либо умирай от голода, либо работай» — исключался. Но немцы придерживались подобных положений лишь в тех случаях, когда это им было выгодно и могло принести политический капитал, например в отношении военнопленных англичан и американцев, да и то не всегда. А на советских людей конвенция вообще не распространялась.
И, наконец, третья, малопонятная категория русских с зеленым винкелем «SV». На 31 марта 1944 года их было в Гузене 30 человек. Я их в Гузене практически не видел.
Испанцы с голубым винкелем «S» именовались «Rotspanier» («Красные испанцы»). Кстати, испанские республиканцы содержались лишь в двух концлагерях — Маутхаузене и Гузене, а их «статистика смерти» по архивным данным такова:
на конец 1941 года в лагере находилось 3846 человек;
на 31 января 1944 года в лагере находилось 440 человек;
вышел на свободу 5 мая 1945 года 821 человек.
Несоответствие цифр 440 и 821 объясняется тем, что не удалось установить данные о поступлении в Гузен в 1944–1945 годах испанцев. По моим предположениям, в указанный период они могли поступить из Маутхаузена в качестве станочников для работы на подземных производствах. Но это лишь предположение, и весьма сомнительное, если принять на веру тот факт, что в других концлагерях испанцы не содержались и больше их было неоткуда привозить. О том, что Гиммлер мог их «позаимствовать» у генерала Франко в качестве рабочей силы, сведений также нет, но откуда-то они прибыли.
Поговорим об условиях проживания и труда заключенных Гузена. Как я уже сообщал, работоспособные узники жили в блоках с 1 по 24, а также в блоках А, В, Си D. Каждый блок составляли две большие комнаты — штуба А и штуба В — на 150 человек каждая, а всего в блоке могли находиться около 300–350 узников. В средней части блока между двумя штубами находились две небольшие комнатки для блоковых функционеров, в число которых входили: блоковый, два штубовых, блок-полицей, блок-шрейбер, а также несколько капо рабочих команд. В штубах — трехэтажные нары с полупустыми тюфяками и старыми солдатскими одеялами. Зачастую на один матрас клали двух, а то и трех узников. Чтобы не мерзнуть ночью, многие пытались спать в одежде, но за это жестоко наказывали.
Нижнее белье — рубашка и кальсоны — обменивались нерегулярно в течение 2–4 месяцев. Обувью служили деревянные колодки, которые только во второй половине 1943 года заменили обычной обувью, для чего использовалась обувь армий побежденных стран Европы. Выстирать и высушить свое белье могли только функционеры. Клопы, вши и блохи господствовали в каждом блоке, за них убивали на месте, но даже частые дезинфекции не были эффективными.
В основном мы носили куртку и брюки из арестантской полосатой ткани, на которой чередовались серо-голубые и белые полосы. Кроме того, узников одевали в форму солдат бывшей югославской королевской гвардии, в бельгийскую, греческую, французскую форму и в другие.
В этой одежде мы выглядели весьма пестро, так как преобладали голубой и красный цвета.
С ранней весны и до осени подъем был в 4.45 утра, а зимой — в 5.45. Звучал колокол, после чего заключенных поднимали с нар плетьми и гумами[51]. За этим следовала быстрая заправка коек, выравнивание досок, разглаживание тюфяков и одеял, причем за плохую заправку койки тоже убивали на месте. В темноте наспех все бежали в уборную и в умывальник, после чего проглатывали утреннюю порцию супа или кофе. После завтрака лагерь выстраивался на аппель-плацу. С окончанием поверки в бешеном темпе формировались рабочие команды, и под крики «Los! Los! Schnell! Rasch!»[52] мы покидали жилую зону лагеря до вечера.
В каменоломнях «Гузен», «Кастенхофен» и «Пирбауэр» работу начинали летом в 6.30 утра, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Кончали работу в 18.00 зимой и в 19.00 летом. Зимой из-за темноты работу начинали в 7.30 утра, но зато имели получасовой перерыв на обед. С ноября 1943 года для каменоломен всех концлагерей был установлен 11-часовой рабочий день. Для тех, кто работал под крышей, — тоже 11 часов. В воскресенье, как правило, не работали.
Тела умерших, забитых, расстрелянных и утопленных в течение рабочего дня вечером узники везли на специальных двухколесных тележках, а также в вагонетках по многочисленным узкоколейкам вслед за возвращавшимися в лагерь рабочими командами.
К рабочему времени следует прибавить пешие переходы от лагеря до рабочих мест и обратно, утренние и вечерние поверки — аппели — всего лагеря, бесконечные стояния в ожидании раздачи пищи, при всевозможных контролях на вшивость и других, в очередях на посещение уборных, обязательное время на чистку обуви и одежды, заправку коек и т. п. В результате чистое время сна составляло менее 6 часов в сутки.
В качестве горячей пищи в период с сентября по март выдавалась главным образом похлебка из кормовой брюквы. Ее размельчали, позднее — перемалывали, варили без соли и жира. Иногда в небольшом количестве попадался мороженый картофель. Полагалось класть в котел немного мяса, но оно начисто разворовывалось эсэсовцами и кухонными рабочими. С апреля по июль был тяжелейший период в питании узников — ежедневно варился шпинат. Получалось густое, вонючее месиво серо-зеленого цвета, своеобразная каша. В этом вареве попадались лягушки, черви, песок, улитки в раковинах и другие несъедобные включения. Все это мгновенно съедалось заключенными. Что только не предпринимали узники с целью получения добавки, и не было большей радости, когда при раздаче пищи блоковый зачерпывал варево со дна. Начиная с августа становилось легче — иногда в шпинате попадался картофель.
Дневной рацион узников до 1944 года включал в себя: утром пол-литра порошкового супа (100 калорий), в обед литр брюквенного или шпинатного супа (362 калории), вечером 360–400 граммов хлеба[53]
(791 калория) и 25 граммов колбасы (39 калорий). Хлеб выпекался из жмыхов и картофельной муки. Один раз в неделю вместо колбасы выдавалось 25 граммов маргарина (160 калорий), а в воскресенье вечером — одна столовая ложка мармелада (66 калорий). С лета 1944 года утром вместо супа стали выдавать эрзац-кофе. До конца этого года суточное содержание калорий на одного заключенного колебалось в пределах 1200–1500, а в 1945 году — 600–1000 калорий. Но и эта норма не доставалась большинству заключенных, а была реальной только для работавших в подземных мастерских и для выполнявших военные заказы. Мое мнение, что в военное время любой заказ является военным: будь то изготовление вооружения, щебня или выращивание хлеба. А что касается медицинской нормы, то каторжный труд требовал не менее 4000 калорий в сутки.
Вся жизнь узника концлагеря проходила под постоянным страхом всевозможных штрафов и наказаний. Дисциплинарные наказания налагались как высшим руководством лагеря, так и внутрилагерным персоналом — блоковыми, штубовыми и капо. В отдельных случаях массовые акции против узников санкционировались Берлином, но это было редким явлением. В Гузене применялись следующие виды штрафных санкций:
1. Стояние возле брамы по стойке «смирно», руки сзади головы крест-накрест. Длительность — от 3 до 12 часов.
2. «Спорт» — разной длительности упражнения, бег часами вокруг аппель-плаца, прыжки, перекатывание и прочее. Об одной такой массовой акции я расскажу подробно.
3. Подвешивание — связывались за спиной руки, и за них подвешивали человека.
4. Порка ремнем из бычьей кожи или гумой. Обычно назначалось 25 ударов. Если ставилась цель убить, то 50.
5. Перевод в штрафную команду на срок до месяца. Только немногим удавалось остаться в живых после штрафной команды, да и то, как правило, такими счастливцами могли оказаться только немцы или австрийцы.
6. Штрафной бункер «Целленбау» — изоляция внутри лагеря. Это означало верную смерть.
7. Смертная казнь через повешение.
Самым наказуемым проступком являлась попытка совершить побег или участие в подготовке к нему. Не допускалось иметь гражданскую одежду, деньги, ножи, а также все, что могло быть использовано в качестве оружия. Даже второй комплект нижнего белья вызывал подозрение и являлся нарушением лагерного режима. Каждый, кто был схвачен при попытке совершить побег, немедленно подлежал расстрелу или забивался насмерть. Это происходило на аппель-плацу во время вечерней поверки на глазах многотысячной толпы узников: несчастного жестоко избивали, а затем вешали. Кроме того, за побег, помимо казни непосредственных участников, следовали коллективные штрафные санкции против либо группы узников той же национальности, либо в отношении конкретной рабочей команды, либо — целого блока.
Практически в Гузене наказывали за все: за медленное вставание с нар при подъеме; за плохо заправленные тюфяки; за неснятую рубаху в умывальнике; за слишком короткое по времени или, наоборот, длительное умывание; за то, что узники плохо держат равнение в очереди при раздаче пищи; за то, что криво подают миску; за задержку в уборной; за опоздание с формированием рабочей команды; за медленную работу; за разговоры во время работы; зато, что ложишься спать в кальсонах; за курение в блоке и на работе. Ночью нельзя посещать другие блоки, обмениваться чем-либо, воровать хлеб внутри блока друг у друга. Воровство наказывалось смертью. Также строго запрещалось: иметь и читать какую-либо литературу — газеты, книги, журналы; обсуждать политические вопросы; слушать радио и передавать сведения другим, особенно о положении на фронтах. Не допускались солидарность и взаимопомощь узников. Преследовались попытки облегчить участь советских военнопленных, вообще — русских, а также лиц еврейской национальности или тех, кто приговорен к смертной казни. Строго запрещалось использование денег, алкоголя, драгоценностей — за все полагалась смерть.
Из-за описанных выше условий средняя продолжительность жизни узника в Гузене составляла, согласно официальной статистике: в 1940–1942 годах — 6 месяцев, в 1943 году — 8 месяцев, в 1944 году — 12 месяцев, в 1945 году — в зависимости от обстоятельств.
Реальные сроки были значительно ниже указанных выше. Кроме того, имела значение национальность: одни нации оказались и морально и физически более стойкими в нечеловеческих условиях концлагеря, а другие быстро ломались, и их положение было плачевным, но об этом — ниже.
Я — в лагерном сопротивлении
Перед нами ворота лагеря. Знакомая картина: каменные стены, пулеметы на вышках, брама. Видно, такой же лагерь уничтожения, как и Маутхаузен, только поменьше, и называется — Гузен.
29 марта 1943 года. Начинало светать. Лаяли овчарки, лаяли эсэсовцы, прогоняя нас через браму. Мы выстроились на аппель-плацу. Порывистый ветер со снегом. Нас без конца пересчитывали — многие не дошли. Специальные команды отправлены найти, собрать и доставить в лагерь не дошедших.
После карантина в Маутхаузене не покидало гнетущее чувство: нет сомнений — здесь будет еще хуже. Мы понимали, что это конец — если не для всех, то для очень многих из нас. Надежды на жизнь — никакой.
Эсэсовцы остались за брамой. На аппель-плацу полное господство лагерной номенклатуры, функционеров всех мастей — блоковых, штубовых, полицеев, капо. Они орали, били палками и гумами, бегали вокруг нас с перекошенными лицами. В лагерь прибыл свежий «человеческий материал», и они без работы, а также без пайков будущих мертвецов не останутся.
Рядом русских не видно — кругом в основном поляки, переброситься словом нес кем. Стояли с трудом, ноги подкашивались, незаметно подкрадывалась полная апатия, безразличие ко всему, что происходит. Вскоре многие из нас поймут, что такое состояние опасно, и станут упорно бороться с ним, помогая в этом друг другу, будут поддерживать в товарищах веру и надежду на лучшее, которые слабо, но все-таки вспыхнут в нашем сознании.
Обратили внимание на новое явление, которое в Маутхаузене прошло незамеченным. Это приторно-сладковатый запах горелого мяса, жира и костей. Маслянистый темно-коричневый дым из трубы крематория низко стелился над нами, над всем лагерем. От него никуда не спрячешься. Мы будем жить в этом дыму и сознавать, что каждый стоит в этой зловещей очереди на уничтожение. Все было в истории человечества: варили грешников в кипящей смоле, отрубали головы, четвертовали, сжигали живьем. Подумать, так фашисты не первые в деле варварского уничтожения неугодных им людей, но первые в невероятных масштабах, в размахе и массовости акций. Такого действительно не было — в этом нацисты превзошли палачей из Средневековья. Достаточно вспомнить Освенцим…
Снова занялись нами. Прозвучала команда гуськом заходить в крайний блок на регистрацию. В блоке стояли длинные столы. За ними сидели писари, работавшие в лагерной канцелярии. Писари — это узники, которым суждено пережить кошмар лагеря, они промененты[54], лагерная элита. За их спиной сновали блоковые и капо, ругались, подгоняли нас.
Мы подходили к писарям, и те заполняли учетные карточки. Вопросов к нам совсем немного, мы уже нелюди, мы — хефтлинги (заключенные концлагеря!), и главным для нас является номер, а он выдан в Маутхаузене и сохраняет силу. Остальное о себе должны забыть, его просто больше не существует. Я получил красный винкель с буквой «R», что означало — я не военнопленный, а «русский цивильный рабочий». Категория — политический. Хоть не уголовником записали, и на том спасибо. Теперь никто не сможет обвинить службу СС в том, что военнопленных убивают в концлагерях — их здесь нет, нет и все!
— Имя, фамилия?
— Левченко, Дмитрий.
— Когда родился?
— 31 декабря 1921 года.
— Где родился?
— Ленинград, — это прозвучало впервые за годы плена. Теперь с Киевом покончено. Ванюша Кучеренко остался где-то далеко, а помирать я предпочел ленинградцем. Больше можно было не врать — ник чему.
— Профессия?
— Студент.
— Пошел! Следующий!
На пути к выходу из блока кто-то остановил меня за локоть. Обернулся — узник невысокого роста, по одежде явно капо, один из тех, что стояли за спиной писарей, наблюдая за регистрацией.
— Ты из Ленинграда?
— Да.
— Студент?
— Да.
— Что изучал? — Стоп, не торопиться! Спокойно. Свой институт инженеров водного транспорта я, разумеется, не назову: нас готовили в Совторгфлот или, как принято было говорить, «на загранку», и мандатная комиссия, при приеме «копавшаяся» в родословной поступающих, выглядела достаточно строгой по тем временам. Надо врать, а то придерутся еще, кто их знает? Мигом нашлось спасительное слово:
— Медицину.
— Хорошо, иди, — вот и весь разговор. Откуда я тогда мог знать, что это магическое слово решит мою судьбу, хотя бы и на первое время.
Вышел из блока, встал в строй. Ждали дальнейших команд. Провозились с нами весь день. Выдали одежду, распределили по блокам. Мой блок — 20, штуба В. Номер блока тот же, что и в Маутхаузене. Почти все нары заняты. С трудом нашел свободное место. На прибывших ранее узников страшно было смотреть — это живые мертвецы. Лица землистого цвета, заострившиеся скулы — это не люди, а скелеты, одетые в полосатую одежду. Руки костлявые, но цепкие. Прикоснись к любому, и он упадет. Крайнее истощение. Кроме того, в помещении, которое никогда не проветривалось, стоял специфический запах давно не мытого тела, грязной одежды и белья, запах от многочисленных гнойных нарывов и фурункулов. Мы пришли «с воли», еще не пропахли всем этим, но нам скоро предстояло стать такими же.
В первый вечер «познакомились» со штубовым. Это был невысокий, но очень крепкого телосложения человек, плечистый, черноволосый, с горбатым носом, смахивал на грека, но уголовник Альфред Шамберг с зеленым винкелем был арийцем и требовал к себе уважения.
Перед отбоем обычно проводился лейзенконтроль, то есть проверка на вшивость. Узники по одному подходили к табурету, обнажались, перегибались и… беда тому, у кого обнаруживали насекомых. В этот вечер нашли только у одного, а точнее — на нем прекратили осмотр. Штубовый так, как он это делал много раз, сбил узника с ног и на глазах у всех с невозмутимым видом сапогами размозжил несчастному голову. Труп вынесли. Пол замыли штубендисты, дневальные. Все разошлись по своим местам. Мы, новенькие, были подавлены случившимся. Дрожь не унималась. Ночью не могли уснуть. Подобной дикости видеть не приходилось. Со мной рядом лежали два поляка. Они всю ночь крестились и шептали: «Матка бозка! Матка бозка!» Лагерь уничтожения оправдывал свое название.
На второй день после утреннего аппеля до вечера занимались бесконечной правкой одеял, разравниванием тюфяков, уборкой территории вокруг блока, пришивали номера и винкели, часами стояли перед блоковым, выслушивая одни и те же наставления. Это — первый и последний день «отдыха».
Под вечер разбрелись по койкам и перед отходом ко сну пытались незаметно заводить первые знакомства на смеси разных языков.
Вдруг в тишине блока отчетливо прозвучал властный голос штубового:
— Номер 25 249! — Я не сразу сообразил, что вызывался мой номер, не привык еще, да и не ожидал. Заработаю по шее — привыкну.
Штубовый повторил, но уже с ноткой недовольства в голосе:
— Номер 25 249!! — На этот раз я вышел вперед и со страхом доложил, как полагалось:
— Хефтлинг номер 25 249 ждет дальнейших указаний.
— Пойдешь с ним. — Штубовый показал на молодого поляка, стоявшего рядом. Куда меня поведут? Поляк хорошо ориентировался и, несмотря на сгустившиеся сумерки, быстро привел к одному из блоков, где передал меня чеху и растворился в темноте.
В небольшой комнате царил полумрак. На столе — лампа под абажуром. За столом кто-то сидел.
— Садись, Димитрий. — Я давно перестал удивляться чему-либо и даже не обратил внимания, что меня назвали по имени. Сел. Глянул — напротив сидел тот самый капо, что подзадержал после регистрации и поинтересовался моей профессией. Сидел. Молчал. Думал о чем-то. Не торопясь разглядывал меня. А потом потекла беседа, длившаяся более двух часов. В тот вечер повторилось все, как при встрече с Борисовым, да и вопросы оказались те же, только резко повысилась ставка. Ей стала моя жизнь, и не меньше!
Память не позволяет восстановить подробности разговора. Капо задал несметное количество вопросов. Его интересовало все: как попал в Гузен? За что? Где был до этого? Воевал ли? Кем и где? Почему в 1941 году отступали? Как я оцениваю то, что видел и в чем сам участвовал? Что знаю о Сталинграде? Чем кончится война? Я не в состоянии перечислить все вопросы, да и ни к чему. Их у собеседника накопилось слишком много. Как и Борисов, капо требовал пояснений, интересовался мельчайшими деталями, выспрашивал меня самым дотошным образом.
В первые минуты я колебался: как держать себя? Что это за человек и чего он хочет от меня? Но прямота, честный и открытый взгляд, ненавязчивая доброжелательность располагали, и он сумел быстро вытащить меня на откровенность. Что-то подкупало в этом неброском, тихом человеке. Немаловажная деталь — его винкель был красным и без буквы. Значит, немец, политический, а возможно — и коммунист. Это мы знали по Маутхаузену. Как всегда в таких случаях, я понимал, что можно надеть куртку с любым винкелем, но сразу отогнал такие мысли, и мы разговорились как хорошие, давние товарищи, словно сто лет знали друг друга. Я с удовольствием втянулся в беседу, так как речь пошла о наиболее сокровенном, наболевшем для каждого из нас, будь то узник, или военнопленный, или кто другой, попавший в лапы нацистов.
Экзамен был достаточно строгий. А то, что беседа являлась экзаменом, я понял в самом начале. (Мне не раз потом приходилось проводить подобные беседы, выискивая нужных и надежных людей.) Здесь, в Гузене, немецкие и австрийские коммунисты в начале 1943 года, когда стали «пачками» поступать в лагерь русские военнопленные, решили привлечь последних для налаживания работы среди соотечественников и просто с целью спасти их, насколько это удастся, от неминуемой гибели. Они искали таких русских, которые смогут стать активными членами антифашистского сопротивления в лагере.
На вопрос капо о партийности, я не скрыл, что в августе 1941 года, в окружении, партбюро полка наметило принять меня на ближайшем заседании в кандидаты ВКП(б), но по известным причинам оно не состоялось, а я с того дня считал себя коммунистом, так как решение о том принял твердо и сознательно, всерьез и надолго. Я шел к тому в течение ряда лет и не мыслил жизни вне партии. А с партбилетом можно и подождать. Не может быть так, что сегодня ты не коммунист, а назавтра им проснулся. Коммунистами в один день не становятся, для этого требуется время…
Итак, экзамен мной был выдержан. Мой собеседник сообщил о себе, что он немец, родом из Судетской области, зовут его Эмиль Зоммер. Он руководил ячейкой Компартии Чехословакии. После оккупации страны в марте 1939 года был немедленно арестован нацистами и отправлен в концлагерь. Сейчас он — капо ревира. Товарищи по комитету приняли решение внедрить в персонал ревира русских. Цель внедрения ясна и понятна: для организации помощи ослабевшим, для налаживания связей с лагерем, поднимать у узников волю к жизни и борьбе, нести правду, вовлекать людей в группы поддержки и самообороны, распространять сводки с фронта и многое другое.
В тот памятный вечер для меня прояснилась ситуация. Для того чтобы остаться в живых, надо было занимать в лагере какую-нибудь должность. Однако ставить русских на должности, дающие хоть малейший шанс выжить, категорически запрещалось. До нас, русских, в 1941–1942 годах та же проблема была и с испанцами, поляками и чехами, которые в массе погибали. И лишь некоторые из них к 1943 году сумели разными путями, в основном при помощи сложившейся группы немецких и австрийских коммунистов, прочно обосноваться на привилегированных должностях. Особенно преуспели поляки, которые неплохо знали немецкий язык, были организованней и сплоченней многих других. Такой же путь надо было пройти и русским. В их числе и мне предстояло много раз падать, снова подниматься, не один раз быть на краю гибели, и каждый раз «невидимая рука комитета» будет вытаскивать меня и возвращать к жизни. Труден будет путь. И так до конца 1943 года, пока мое положение в Гузене не упрочится окончательно.
Более полное понимание ситуации пришло позднее на конкретной работе, а пока я почувствовал главное: надо мной вновь зажглась звезда, обозначавшая «путевку в жизнь», хотя и без гарантии. Снова я оказался нужным коллективу, значит, помирать обождем, поборемся, раз так надо. Именно в первые дни так необходимо снова собрать волю в кулак, а не поддаваться безысходности положения. Это был пока только шанс, но как много он значил. Эмиль Зоммер стал мне вторым отцом, подарил мне жизнь и сделал это своеобразно — он как бы бросил меня в воду, сказав:
— Плыви! Выплывешь — будешь жить, а плавать учись на ходу.
Помню, отец рассказывал, что у него в детстве был аналогичный случай, когда его отец, мой дед, действительно бросил его в воду, чтобы он сам научился плавать — и отец поплыл, не тонуть же! Большего в условиях концлагеря Эмиль Зоммер пока сделать не мог, а дальше время расставит все по своим местам.
Почему я так подробно остановился на этом? Чтобы читатель понял, что у каждого из нас, переживших концлагерь, был свой Зоммер. Иначе бы мы не вышли на свободу. А потом на каких-то этапах лагерной жизни каждый из нас становился для кого-то Зоммером. Только так можно было выжить.
Так случилось, что и Зоммеру потребовалась моя защита, но через 50 лет! В 1989 году в московском издательстве «Советский писатель» вышла книга Всеволода Остена «Встань над болью своей». Автор — мой сверстник, младший лейтенант, воевал и попал в плен в сентябре 1941 года на Днепре, а я — в августе 1941 года на Южном Буге. Он находился в Гузене с конца 1942 года, а я — с начала 1943. В лагере мы не знали друг друга. Однако, читая книгу, я не мог поверить, что ее написал не я, а другой человек. Такой правдивой она была, так поразила меня суровым, беспристрастным описанием всех деталей лагерной жизни. Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Мне казалось, что я стою где-то рядом с ним в описываемых им местах лагеря.
К великому сожалению, когда я через издательство, которое в годы перестройки сменило название и стало именоваться «Современный писатель», узнал адрес автора, мне сообщили о его смерти. Так мечте установить с ним контакт и повидаться осуществиться было не суждено. Скорбь моя была беспредельной. Я потерял хорошего товарища, не успев узнать его поближе. Как безжалостно время! Всеволод Остен как раз принадлежал к «особо опасным» русским, носившим зеленый винкель с загадочными буквами «SU», и от него я хотел получить информацию об этой категории заключенных. И еще мне так хотелось сообщить ему об одной-единственной неточности, которую обнаружил в его книге. На странице 261 автор описывает сцену в бане ревира, где очередная группа заключенных ждет осмотра для приема в ревир в качестве больных. Его проводил всегда сам капо Эмиль Зоммер. Привожу текст из книги: «Из группы уголовников отделился приземистый широкоплечий человек с бычьей шеей. Я знал его. Это был почетный заключенный Эмиль Зоммер. В прошлом военный моряк, командир подводной лодки, он чем-то проштрафился и угодил в концлагерь. Однако эсэсовцы учли заслуги бывшего офицера перед фатерляндом и удостоили его звания почетного заключенного. Эмиль пользовался определенными льготами: ему не забрили лоб, не нашили на куртку треугольник, а главное — ему назначили солдатский паек». Я с Эмилем Зоммером имел каждодневный контакт около двух лет. Безусловно, в лагере мог находиться описанный Остеном человек и носить похожее имя, но он не мог быть капо ревира, да и уголовников в ревире не было. Теперь это не установить.
После войны я как-то получил от австрийских товарищей по комитету известие о том, что Эмиль Зоммер жив, здоров и трудится на ответственном посту в Министерстве внутренних дел ГДР. Я сразу написал в Германию, но допустил оплошность, наспех ошибочно переведя наименование министерства и адресовав запрос в Комитет госбезопасности ГДР. Большей глупости в те годы и представить было трудно. Либо наши попридержали письмо, либо немцы, но ответа я не получил, а вторично писать воздержался: «переписка с заграницей» тогда не приветствовалась…
Но вернемся к тому судьбоносному вечеру. Закончив инструктаж на первые дни и провожая меня, Зоммер вручил на прощание буханку хлеба и пачку сигарет. Это — невиданное богатство. Я вернулся в блок. Поскольку друзей еще не успел завести, то поделился подарком с тем и, кто лежал рядом, устроив им маленький праздник. Откуда хлеб — они не спрашивали. Лагерь научил их скрывать любопытство.
Вскоре я с немалым удивлением отметил про себя, как резко изменилось отношение ко мне штубового Альфреда Шамберга: будто кто-то, не известный мне, вежливо пояснил ему, что если со мной что-либо случится, то… Таковы законы лагерной жизни. Шамберг усвоил их намного раньше меня. Для Шамберга я стал — «табу». Немцы-уголовники в Гузене считались с немцами-политическими, или — «зеленые» с «красными». Все же и те и другие являлись немцами, сказывался «голос крови», имела влияние общность положения — все были заключенными, а кроме того, каждая сторона сознавала силу и возможности другой стороны. Между теми и другими как бы негласно был заключен «брак по расчету». Все это было очень серьезно, так как в случае конфликта любой представитель сторон мог исчезнуть, «не попрощавшись».
Но такое положение сложилось в лагере только после поражения немцев под Сталинградом. До 1943 года «зеленые» обычно говорили «красным»:
— Война окончится, мы выйдем, а вы останетесь. И потом — мы знаем, за что сидим, мы убивали, а вы за болтовню сидите.
В 1943 году ситуация на фронте начала резко меняться, и «зеленые» стали все чаще задумываться о своей реальной послевоенной судьбе. Уже становилось неясным, кто выйдет на свободу в случае поражения Германии, а кто останется в лагере или — того хуже — предстанет перед судом теперь уже за преступления, совершенные в концлагере. В результате «зеленым» приходилось считаться с «красными», несмотря на то что «зеленых» в Гузене было значительно больше, как и в любом другом лагере подобного типа: своих коммунистов партия Гитлера уничтожала с особой жестокостью, и их осталось немного. Например, на 1 января 1942 года в Гузене находилось 280 «зеленых» и 80 «красных», но последние были дружней и сплоченней, крепко стояли друг задруга, а «зеленые» чаще в массе являлись индивидуалистами по принципу «каждый за себя». В этом была их слабость.
Так или иначе, знаки внимания ко мне со стороны Альфреда Шамберга стали проявляться на каждом шагу, а в трудную минуту — особенно. И таких «минут» ой как много еще будет…
Наследующий день после утреннего аппеля меня воткнули в одну из рабочих команд. Зловеще выглядело начало рабочего дня в Гузене. По команде раппорт-фюрера бегом формировались на аппель-плацу рабочие команды. Этот процесс сопровождался звериными выкриками капо и блоковых, сновавших между рядами заключенных и щедро раздававших удары налево и направо. Так нас «заряжали» на весь рабочий день.
Выход команд из лагеря тоже был непростым. При подходе к браме рабочих колонн обер-капо орал: «Mutzen ab!»[55] По этой команде весь строй, как один человек, должен был правой рукой сдернуть с головы шапку и хлопнуть ею по правому бедру так, чтобы послышался один общий хлопок. Это было трудным делом для истощенных людей, но… вдохновляли орущие вокруг эсэсовцы с овчарками, окружавшие браму, и палки и гумы капо и блоковых. Научились мы этому быстро. Проходить через браму полагалось с прижатыми к бедрам руками, печатая шаг, как бывало на праздничных парадах. Для бывших солдат это было делом привычным, только никак не хотелось верить, что все ушло навсегда.
После прохода брамы следовало: «Mutzen auf!»[56], и команды расходились по своим маршрутам, сопровождаемые теперь и эсэсовцами. Вечером все повторялось в обратном порядке стой лишь разницей, что одни возвращались с работы на своих ногах, в общем строю, а других везли в лагерь на тачках, тележках и в вагонетках — крематорий тоже должен работать, а капо и блоковым нужны для бизнеса продукты, которые останутся от мертвецов. Когда крематорий бывал перегружен, трупы отвозили в Маутхаузен, а когда перегрузка у них — привозили к нам.
Первое рабочее место, которое мне указал и, не оставляло сомнений в том, что комитет меня уже «ведет». В высоком, одиноко стоящем каменном здании размещалась камнедробилка «Шаторзилон». Я должен был выполнять работу масленщика — смазывать шестерни, подшипники, следить за нагревом трущихся, весьма нагруженных деталей, за механизмом в целом. Работа под крышей, в теплом помещении, а эсэсовцы и капо сюда не заглядывали. При такой легкой работе, где к тому же никто не бьет, можно и выжить.
Со мной работали испанцы, чехи, поляки. Но это продолжалось не более недели. Какие-то силы в лагере посчитали, что не должен русский работать в такой престижной команде, это место не для него. Я незамедлительно вылетел из «Шаторзилона», так и не узнав, а кто там капо? Как узнать, если тебя никто не бьет?
Пока я работал в «Шаторзилоне», на меня «вышел» Коля Шилов. (Здесь я применяю терминологию, которая у нас тогда была входу, и кавычки необязательны.)
Все же мы тогда слишком мало знали друг о друге, как будто понимали, что из лагеря нам не выйти, искать товарищей после войны не придется. К чему излишние подробности? А теперь это не исправить, да и время упущено. Что я знал о Шилове? Приятный, высокий, статный молодой человек, вроде из Смоленска или воевал под Смоленском, вроде старший лейтенант медслужбы, безусловно, военнопленный. Вот и все. Да еще хороший и надежный товарищ по подполью в условиях нацистского концлагеря.
И больше — ничего. Но тогда и этого было много.
Мне передали от Зоммера, чтобы я отправился на аппель-плац и держал шапку в руках. Ко мне подойдет человек. Это было в воскресенье.
Я пришел на аппель-плац и стал делать вид, что нежно разглаживаю помявшуюся шапку — казенное имущество рейха. Дело в том, что в 1943 году аппель-плац все время находился под наблюдением эсэсовских постов на сторожевых вышках и людей капо Лёзена из лагеркоманды. В его подчинении находились уборщики территории лагеря, они же свозили трупы в крематорий, подбирая их ежечасно по всему лагерю. Всегда была вероятность, что тебя могут вычислить: лишних людей на аппель-плацу быть не должно, и если ты не из лагеркоманды, то что ты тут делаешь? В то время болтаться просто так по аппель-плацу строго запрещалось. Позднее, в 1944 году, можно будет в свободные часы — перед отбоем или в воскресенье — походить по кругу, переговариваясь, обмениваясь новостями. Такие ежедневные вечерние встречи потом станут регулярными, и мы уже не сможем без них обходиться. А пока шел 1943 год, и смотреть следовало в оба!
— Дима?
— Да.
— Здравствуй, Шилов Николай. Будем знакомы.
— Привет. — У него в руках была маленькая тележка с мусором, а мне он подал заостренный металлический прут. Мы двигались по аппель-плацу как можно медленнее. Он еле толкал тележку, а я втыкал прут в попадающийся по пути сор и отправлял его в тележку. Оба усердно делали вид, что очень, уж очень стараемся не пропустить ни одну мусоринку. Сейчас это забавно вспоминать, но тогда ничего смешного мы в том не находили.
За нами следила не одна пара внимательных и заинтересованных глаз, и мы это знали и видели. За примерами далеко ходить не требовалось. На площадке возле борделя грелись на солнышке его обитательницы, жмурясь от ярких лучей раннего, весеннего светила. Одеты они пестро, даже нарядно. С одной из них увлеченно болтал кто-то из блоковых, оба весело смеялись, но я прекрасно видел, как внимательно следил блоковый за каждым нашим движением. Лагерь быстро вырабатывал такие навыки и тем, кто ими пренебрегал, не прощал.
Я тогда не считал аппель-плац лучшим местом для подобной встречи, и Зоммер впоследствии согласился с этим, но одно преимущество казалось явным — разговор не мог быть никем услышан. В любом другом месте всегда рядом найдется нежелательный третий.
Пока все было спокойно, и Шилов продолжал:
— Мне велел тебя разыскать Эмиль Зоммер. Слушай внимательно. Недавно ему удалось втиснуть меня, как врача, в персонал ревира на 27-й хирургический блок. Там все — поляки. Мои обязанности: найди, принеси, подай, но и на том спасибо. Если пройдет благополучно, и я закреплюсь на ревире, следующим будешь ты. Сразу двоих Эмиль не может. Пару месяцев надо обождать. За тобой будут смотреть, чтобы ты «не сыграл» раньше времени. Учти: сам никуда не лезь, на меня или на Зоммера ни в коем случае не выходи. Будешь нужен — найдем. Шамберг предупрежден, чтобы с тобой, по крайней мере в блоке, ничего не случилось, а он мужик дисциплинированный — сам хочет жить и знает, с кем имеет дело.
Шилов начал торопиться. Весь сор мы убрали, разговор пора заканчивать.
— Слушай главное. Связь будешь держать раз в неделю с писарем шрейбштубы[57] бельгийцем Люсьеном через Франсуа, это — француз. Люсьен будет регулярно сообщать тебе сведения о каждом новом транспорте — откуда люди, что за люди. Если сможет, то будет давать тебе данные об отдельных из них прямо по учетным карточкам, но на это особенно не рассчитывай, трудись сам. В первую очередь нужно выявить строевых командиров от сержанта и выше, а также политработников и коммунистов. Только с их помощью и при их непосредственном участии мы сумеем создать ядро организации и сформировать группы взаимопомощи и самообороны, которые они же и возглавят. Каждый должен знать только троих или пятерых. Раз в две недели будешь передавать людей дальше. А чтобы их найти, сам ищи время и способы заводить с людьми из новых транспортов беседы. Узнаешь, кто чем дышит, кого следует привлечь к работе, кому срочно нужна помощь и т. п.
Эмиль сам этой низовой работой заниматься больше не будет, ему запретили, чтобы не засветиться, — он фигура в лагере заметная, да и языковой барьер ему не преодолеть. Он сказал — у тебя должно получиться, он так считает. Все понял?
— Да.
— Об этом разговоре — никому. И учти — тебе только слушать, а о себе не рассказывай, только — если что соврать…
— Это я уже проходил.
— Тогда — порядок. Вижу — ты не новичок. Расходимся. Обо мне пока забудь.
Вот так все начиналось.
Ищу «землячков»
Люсьен оказался покладистым парнем, встречаться с ним всегда приятно. Во взаимной симпатии мы дошли до того, что стали обучать друг друга языкам — я его русскому, а он меня французскому. Нам обоим стало противно объясняться на немецком — языке общего врага. К сожалению, мы оба к названным языкам оказались неспособными, и ничего из этой затеи не получилось — мало времени, записывать ничего нельзя, каждая мелочь бросается в глаза и может быть истолкована кем угодно и как угодно, а Люсьену приходилось быть особенно осторожным — у него в лагере уже налаженные связи! — и мы учебу бросили.
Встречи с ним продолжались длительное время, но моя деятельность приводила к весьма скромным результатам. Время для бесед ограничено лагерным распорядком. Использовать можно лишь только вечернее время, а оно короткое, либо — воскресенье, когда все у всех на виду.
При этом нельзя показать себя излишне навязчивым, сверхлюбопытным — серьезных людей это настораживало, и они замыкались в себе. Просматривались две основные категории узников — словоохотливые и молчуны. Первые, как правило, помоложе. Они старались высказать о себе как можно больше, словно боялись, что их собеседник может подумать о них что-либо предосудительное, и они торопились сообщить о своих всевозможных положительных качествах. В таких случаях надобность в последующих встречах на какой-то период отпадала.
Вторые — молчуны — чаще замкнуты, и если вступали в беседу, то старались побольше выведать обо мне. Это было лучше, но для установления более тесного контакта требовалось время. Казалось, такие товарищи поставили перед собой планку времени — месяц, а то и более, пока не установятся стабильные, товарищеские, доверительные отношения. После этого наша связь прерывалась, и они передавались по цепочке.
Успехи мои пока были невелики: за половину мая, июнь и половину октября я нашел не более десяти человек. В остальное время мне самому было не до того (об этом впереди), но с чего-то надо было начинать. Кстати, я не один работал на выявление нужных для организации людей, но по понятным причинам связи ни с кем из моих «коллег» не имел.
В мае 1943 года с одним из очередных транспортов в Гузене оказались мои давние друзья — старший лейтенант Петя Шестаков с Федей-парикмахером. После радостных объятий они сразу включились в эту работу, разгрузив меня наполовину, и не бросали ее до самого конца. Я и в 1944 году по привычке, хотя к тому времени у меня были другие задачи, регулярно бывал в лагере и продолжал полюбившееся дело. Новые люди с их интересами, взглядами, оценками и опытом, зачастую намного выше моего, обогащали и меня.
Так, в разное время удалось вытащить из состояния депрессии многих бойцов и командиров, ставших впоследствии активными участниками подполья. Это — военинженер 2-го ранга Киселев Михаил Васильевич; майор Голубев Иван Антонович, бывший командир артполка в Прибалтике; майор Шинкарчук, бывший командир стрелкового батальона; старший лейтенант Андрюшин Константин Григорьевич; старший лейтенант Пономаренко, Володя-«малер», Владик, Петро, военврач Кужелев, Михаил Лисовский — всех не припомнить, да и фамилии не у всех были настоящие, как у меня самого. Но их облик, образ людей, делавших все для того, чтобы возрождать к жизни и посильной борьбе упавших духом однополчан, соотечественников, земляков, — будет всегда стоять перед глазами. Каждый узник, которого они смогли уберечь от уничтожения, и он снова начал верить в победу, или он этой веры никогда не терял, а исчерпал только свои физические силы — в каждом случае это была наша маленькая общая победа. И конечно, информация о положении на фронтах: мы делали все возможное, чтобы люди всегда находились в курсе событий войны, поскольку только это и придавало им силы. Данные о боевых действиях мне регулярно предоставляли члены комитета.
Как-то мое внимание привлек молодой парень, которого никак нельзя было отнести к словоохотливым собеседникам. Он появился в Гузене летом 1943 года. Оказалось, что, будучи военнопленным, он был завербован в полувоенное-полуполицейское подразделение, надел немецкую форму и участвовал в акциях против польских партизан. Был ранен, а после излечения «демобилизован» за негодностью к строевой службе и направлен простым рабочим к зажиточному фермеру, где так и не смог примириться с положением раба наравне с другими, работавшими у фермера, «восточными рабочими». Как же, он успел повоевать за фюрера и достоин большего! И как только в окриках фермера он уловил явную непочтительность к своей персоне, то не выдержал и огрел хозяина лопатой. Ему повезло: его не убили сразу, как славянина, поднявшего руку на арийца, а отправили в концлагерь на уничтожение. Так впервые я познакомился сбывшим нашим человеком, носившим немецкую военную форму.
Я старался не попадаться ему на глаза. Такие люди бывают опасны. Чтобы восстановить к себе доверие своих новых «хозяев», они, эти люди, могли в предчувствии неминуемой гибели пойти на прямое предательство. Завоевать доверие у своих они уже не могли. Не знаю, что заставило его надеть немецкую форму, но больше мы не виделись. Бог ему судья!
А рядовые беседы протекали обычно так. Молодой парень, из новеньких, докуривает окурок, сидя на завал инке у своего блока. Подсаживаюсь:
— Не землячок часом?
Молчит. Человек подавлен всем случившимся, у него нет желания ни с кем разговаривать. Он уже готовится к смерти. Я был таким совсем недавно, но надо же его разговорить:
— Нашего брата здесь не так много. Вся Европа тут, а поговорить не с кем.
— А чего говорить? Хана нам и все тут.
— Не скажи. По-разному бывает.
Опять молчание. Я не тороплю:
— А в какую команду определили?
— Каменоломня Гузен — Гузенштейнбрух.
— О, это тяжелая штука.
— Работал? — Начинает проявлять интерес к разговору.
— Нет, пока пронесло, но через Штейнбрух мы ходим за мороженой картошкой на кагаты[58]. Никогда незнаем, вернемся ли назад.
— Это что, чтобы лишнюю неделю протянуть? А на что это надо?
— Отдать концы никогда не поздно. А вот раньше срока — ни к чему.
— А кто срок установил?
— Концлагерь построен на том, что за два месяца человек должен полностью исчерпать свои жизненные силы и волю к жизни. А ты решил досрочно?
— Ничего я не решил…
— Ну и правильно. Всегда наперед подумать полезно.
Теперь начинает спрашивать он:
— Ты — военнопленный?
— Да. Из наших — большинство военнопленные. А воевал ты где — на севере или на юге?
— А ты?
— Я в Бессарабии, потом между Одессой и Николаевом не стало ни полка, ни дивизии.
— Вот видишь — хана и есть хана.
— Это пусть историки определяют, где и кому хана, а наше дело — выстоять, не сломаться, не забыть мать родную, раз довелось в плен угодить. Братва на фронте каждый день под пули идет, а мы тут сопли распускаем — убивают нас, видишь ли, не нравится нам. А их убивают, им нравится?
— Мы свое отвоевали…
— Пока война не кончится, никто не отвоевал. И все же: с какого фронта?
— Я фронт не знаю, под Харьковом влип в мае 1942 года.
Если столкуемся, определю его к Пете Шестакову — он тоже «харьковский».
— Пехота, артиллерия?
— Связист, катушки таскал.
— Вот и познакомились. Дмитрием меня зовут.
— Иван. Фамилию уже забыл: хефтлинг номер… мать твою… Начинает злиться. Это хорошо. У меня припасен резервный окурок.
Пора покурить. Мундштуки у нас давно самодельные. Вынимаю. Прикуриваю:
— Давай перекурим. Сейчас будут разгонять на отбой.
— Оставишь «сорок»? — Так обычно просили оставить докурить.
— Ну что ты спрашиваешь, Ваня?
Раздаются дикие окрики, загоняют по блокам. Мы наспех докуриваем и разбегаемся:
— Приходи завтра!
— Приду. Держись, Ваня.
На другой день сознательно не приходил, надо было переждать. Пусть как девушку ждет, пусть помучается, если «полюбил», и чтобы никакого особого интереса с моей стороны к себе не заподозрил. Да и поляки, сидевшие рядом, все старались прислушаться к нашему разговору — не понравились они мне, но уйти было нельзя…
И вот снова встреча. Поздоровались, но руки друг другу не протянули — в концлагере товарищество в открытую подчеркивать нельзя. Лагерному начальству любая форма дружбы или солидарности заключенных, как кость в горле. Им нужны звериные отношения между нами, тогда они будут спокойны за себя, но этому не бывать! Поэтому мы с Ваней подчеркнуто холодны. Меня это радует: значит, парень не такой уж простачок, каким хочет казаться — соображает. Говорю:
— Я окурочек принес…
— Погоди, я сигарету выменял.
— А вот это делать не советую — хлеб сам съедать должен.
— А курить что?
— От этого не умирают, зато с куревом быстрей концы отдашь.
— Э, все равно…
— Да нет же. Военная судьба отняла у нас все, что было дорого: и родных, и любимую девушку, у кого была, и друзей-товарищей, что полегли в бою. Я — пацан еще, а дослужился до сержанта, должны были младшего лейтенанта присвоить. Меня в полку уважали — а сейчас я кто?
И ты мне предлагаешь со всем этим смириться и, как кролик, ждать конца? Нет, Ваня, я на это не согласен. Немцы хотят нас уничтожить, это верно, но мы помогать им в этом не будем. Фронтовую спайку надо возродить, вытаскивать друг друга, это факт. В одиночку не выжить, учти, я это уже понял. А так, сообща, можно и сводку с фронта узнать, и еды иногда раздобыть, из одежды чего…
— Давно в лагере?
— С месяц…
— Порядочно. А какого года?
— Двадцать первого. Служу с тридцать девятого.
— Я двадцать третьего. Призван в сорок первом.
— Из Ленинграда я. Поступил в институт, а тут — призыв.
— Воронежский я. В институт не поступал, только успел курсы младших лейтенантов закончить, и недели не провоевал…
— Не ты один. Все знают про харьковское окружение.
— Да, знают?
— А ты думал? Я тебя со своим дружком с 3-го блока познакомлю, с Петром, тоже под Харьковом взяли. Держись его, мы с ним второй год в корешах ходим. А меня не ищи. Так надо, Ваня, понимаешь?
— Понял я все. Спасибо тебе. Не будет по-ихнему! Мы им…
— Нет, Ваня! Пока мы ничего не можем, только искать друг друга и держаться вместе, а там видно будет…
— Сам дошел?
— Дело не хитрое, все дошли до этого, вроде коллективного опыта. Ты сам год в плену, о чем спрашиваешь?
Опять крики блоковых, день кончился, загоняют по блокам. Еще одним хорошим товарищем стало больше. Позднее Ваня станет лучшим напарником Пети Шестакова.
А вот и другая беседа. Сидел пожилой человек, осторожно, чтобы не обжечь пальцы, досмаливал окурок и при этом успевал посматривать по сторонам. Около него свободно. Присаживаюсь. Молчу. Потом обращаюсь:
— Извиняюсь, земляков ищу. — Читатель, конечно, уже догадался, что эта шаблонная фраза давно играет роль своеобразного пароля. Кто на нее откликнется «с понятием», стем дело сладится.
— Откуда сами будете? — О, вот это мило, Обращение на «вы» присуще старшим командирам, особенно штабным. Что же это он так, сразу открывается?
— Питерский я.
— Хороший город. Бывал в нем не раз. А я — москвич.
— Столица мира. Тоже чудесный город, — я принял его вежливую форму беседы, — и совсем рядом. А с какого фронта, если позволите?
— Севастополь. Ранили в самом конце. Не успели эвакуировать.
— И тут мы с Вами почти земляки — я под Одессой попал, но в 1941 году.
— А здесь вы давно?
— Да уже месяц.
Беседа протекала ровно, спокойно, без выкрутасов. Я давно понял, что это строевой командир. Только при третьей встрече он представился майором, бывшим командиром стрелкового батальона. Я его передал непосредственно Коле Шилову, согласно договоренности, старшие командиры все шли к нему. Впоследствии Шинкарчук, так его звали, очень помог в организации «пятерок» самообороны.
Но попадались и «опасные» ребята — излишне горячие, легко возбуждались, злые на все вокруг — они готовы были на немедленные активные действия по принципу: «Бей! Круши все подряд!» — и при этом совершенно игнорировали осторожность, необходимость конспирации, сокрытие истинных чувств и намерений. Если бы на такого заключенного обратили внимание капо и прочая нечисть, тогда несдобровать и тем, кто находился рядом с таким беспокойным и невыдержанным человеком. Такие люди нам были тоже нужны, но лишь при условии соблюдения строжайшей дисциплины.
Чтобы закончить с вопросом создания в Гузене подпольных групп самообороны из числа русских, подытожу сказанное выше. Группы начали создаваться с апреля-мая 1943 года, когда члены комитета впервые ввели нас с Шиловым в курс дела и подробно осветили обстановку в лагере. В связи с неожиданным шоком немцев после поражения в Сталинграде интернациональный комитет решил начать направленные акции по спасению прибывающих в лагерь русских. До этого было нельзя, да и русских было совсем мало — единицы. Нам предложили самим создавать такие группы, к чему мы и приступили.
Члены комитета, в свою очередь, обязались, пользуясь своими связями и влиянием, способствовать направлению русских в такие рабочие команды, где можно выжить или, по крайней мере, были хотя бы шансы выжить, а также обещали организовать посильную помощь едой, одеждой, лечением и регулярными сводками с фронта, поскольку имели хорошо законспирированные каналы притока информации. Такая помощь была неоценима. Без нее руководители групп, кроме как добрым словом типа «Держись, братва, не падай духом!», облегчить участь своих людей, как правило, были не в состоянии. И это понятно. Только реальная помощь комитета могла поддержать людей.
Наша работа, так активно начавшаяся, почти замерла в период с июня по октябрь 1943 года (по ряду причин, о которых я расскажу ниже). Тогда русские понесли большие потери в результате зверской массовой акции против них, и те из нас, кто чудом остался жив, не скоро смогли оправиться от перенесенного. Только к началу 1944 года работа по созданию групп продолжилась.
Интересно проследить, как менялось количество русских в Гузене:
на 1 января 1942 года не было совсем (я не беру в расчет военнопленных из блока 16, содержавшихся в строжайшей изоляции),
на 31 января 1944 года 992 человека,
на 5 мая 1945 года 8046 человек.
Следовательно, за 1944–1945 годы в лагерь поступило 7054 русских.
В течение 1944 года продолжались заметные послабления в лагерном режиме — Германия отступала на всех фронтах, да тут еще и покушение на фюрера. Все это способствовало тому, что к середине 1944 года, когда количество русских в лагере уже перевалило за 1000 человек, в Гузене стали стихийно возникать подпольные группы русских. Чаще всего по личной инициативе наиболее активных заключенных — командиров, коммунистов, сильных духом людей. Никакой связи с лагерным комитетом сопротивления они не имели, да и на случай провала небольшие группы лучше, чем создание рот и батальонов, к чему нередко призывали отдельные горячие головы. Но зато и возможности таких самостоятельных, независимых от комитета групп были весьма ограничены, хотя они и сплачивали людей, не давали им опустить руки в борьбе за жизнь и свободу. Такие группы создавались и распадались, поскольку узников отправляли из Гузена и в другие филиалы Маутхаузена.
Как-то в середине 1944 года меня пригласили в один из блоков на встречу с группой, костяк которой составляли бывшие военные моряки.
У нас состоялся долгий разговор «о житье-бытье», но они произвели на меня впечатление очень лихих ребят, очень шумных. Во всех их речах сквозила излишняя бравада. Один из них называл себя капитаном 2-го ранга, хотя я и не спрашивал его об этом. Они дружно дали понять, что «общее руководство» им не требуется, они сами способны держать своих людей на плаву и терять самостоятельность не желали. Я им это и не навязывал, предлагая лишь некоторую необходимую помощь. Но они и от этого отказались, так как все работали в подземных штольнях, где кормили чуть-чуть лучше. Конечно, комитет согласился с их желанием, и мы их не беспокоили. Я встречался с ними от случая к случаю, поскольку в то время часто болтался в лагере по разным делам, но это были ни к чему не обязывающие дружеские встречи товарищей по несчастью, и не более. Но что не забыть, так это их песни, которые они хором распевали прямо в блоке, зажигая окружающих своей верой в скорую победу Красной армии. Спасибо им за это!
Всеволод Остен в книге «Встань над болью своей» также отмечает, что во второй половине 1944 года в Гузене стали стихийно возникать подпольные группы, каждая из которых объединяла по 12–16 заключенных. Так, ему были известны три группы. Одну возглавлял Иван Керн, который в тексте именуется «полковником советской разведки»; вторую — Николай Дубов, ученый-историк из Ленинграда; третью — врач Василий Кумичев. Я этих товарищей не знал и с ними никогда не встречался, за исключением Кумичева, который был из первого транспорта военнопленных, из 16-го блока. Перечисленные группы действовали тоже самостоятельно и связи с другими почти не имели.
Другой автор, Валентин Сахаров, в своей книге «В застенках Маутхаузена» вспоминает: «В середине 1944 года к нам в Маутхаузен поступили сведения из Гузена о том, что там имеется крепкая группа коммунистов, объединившихся вокруг Купровича». Купрович Иван Павлович — интернированный моряк из Ленинграда, член ВКП(б) с 1930 ангода. Я его знал, встречался с ним, но настойчивое желание членов его группы оставалось твердым — только самостоятельность, не подчиняться никому. Надо сказать, что в такой самостоятельности большинство групп видело гарантию от провала, и они были в этом абсолютно правы.
Еще Сахаров упоминает майора Кондакова, ленинградца, и майора Шинкаренко Михаила Яковлевича, москвича, вокруг которых тоже объединились группы русских. Кондакова я в лагере не знал, а с Шинкаренко встречался, когда он только поступил в Гузен. Кажется, Люсьен сообщил мне о нем. Но майор Шинкаренко дал мне понять, что направлен в Гузен интернациональным комитетом Маутхаузена для налаживания связей между подпольными группами. На контакты с нашим комитетом он не пошел, ссылаясь на инструкции из Маутхаузена, и предпочел действовать самостоятельно. Я с ним больше не встречался — у него, похоже, все было в порядке. С удовлетворением отмечаю, что за все время провалов в Гузене не было.
Группы создавали мощный пласт движения сопротивления фашизму в условиях концлагеря, и каждая в отдельности привносила свой вклад в общее дело внутрилагерной борьбы. К 1945 году такие группы были в каждом блоке, об объединении речи не шло — они и так все были на виду и действовали уже в открытую без всякой конспирации. Это — не 1943 год!
Все понимали, что конец фашистской Германии близок. И все знали, что в трудный час, когда будет брошен клич: «На проволоку!» или «На пулеметы!» — каждая группа советских людей, которая создавалась в самых серьезных целях, безусловно, найдет свое место в последней смертельной схватке с врагом.
Но это уже в 1945 году а в 1943 все было иначе. Вспоминая пережитое, задумываешься: конечно, мне и Шилову крупно повезло, что комитет разыскал каждого из нас, и мы к тому времени могли сносно объясняться на немецком языке. Это было немаловажным обстоятельством. Если бы нас с Шиловым в начале 1943 года не нашли австрийские и немецкие коммунисты, то вряд ли мы смогли бы сами разыскать в лагере членов комитета и предложить им свои услуги. Это исключалось, и тогда эти воспоминания писал бы кто-то другой[59]. Вот многие группы так и не вышли на комитет и функционировали самостоятельно, как могли. Во всяком случае, членам групп довелось впервые в открытую встретиться между собой лишь на митинге в день освобождения лагеря, и, конечно, все, о ком я упомянул выше, благополучно вышли на свободу.
А как обстояло дело с другим и национальностями? Мне известно, что небольшие группы по землячествам и другим признакам были среди испанцев, французов, бельгийцев, югославов, чехов и поляков. Об испанцах, немцах, австрийцах и поляках речь будет впереди, а об остальных группах я знаю только, что они были разрозненными, малочисленными, достаточно законспирированными до самого конца и действовали самостоятельно на свой страх и риск. У нас, русских, все это носило более массовый характер, казалось более фундаментальным и целеустремленным.
И последнее — о возможности восстания. Не упомянуть об этом нельзя. Во многих книгах воспоминаний, например, о Бухенвальде и Маутхаузене авторы довольно подробно описывают восстания заключенных.
Я воздержусь от оценок этих событий, поскольку пишу только о том, что видел сам и в чем непосредственно участвовал. Возможно, так и было, как они пишут. Не будем забывать, что это написано в 1950–1960-е годы итак, как об этом следовало писать.
Почему вопрос о восстании в Гузене на комитете и в группах не ставился? В 1943–1944 годах любое восстание исключалось. Можно было только завалить лагерь трупами на радость врагу. Охрану ОС не прорвать, а если прорвем — пробиваться через всю Германию? Чушь! (Вспомним, чем кончился массовый побег здоровых и сильных людей «с воли» из блока 20 в Маутхаузене в феврале 1945 года, когда бежало — по разным источникам — 200 или 700 военнопленных офицеров, а выжили и добрались до своих только 6–8 человек. Слишком большая цена!) А в предпоследний день лагеря стало понятно, что воевать уже не с кем: эсэсовцев не было, охрана заменена. В той обстановке важнее было сохранить спокойствие и порядок в лагере, а главное, не дать уйти от возмездия преступникам, «зеленым»…
Вернемся к апрелю 1943 года.
Баулейтунг-2
После «Шаторзилона» следующей моей рабочей командой стала строительная команда Баулейтунг-2, где надо было рыть траншеи под фундаменты новых строений.
Старший надсмотрщик двух строительных команд Баулейтунг-1 и Баулейтунг-2 — оберкапо Вилли, гориллоподобный тяжеловес, но весьма подвижный, вся грудь и руки в волосах и в татуировке, лицо широкое, красное, а голос — мертвого подымет. Винкель у него был зеленый. Бил Вилли нещадно — на глаза и под руку не попадайся. О нем ходили по Австрии байки, что, когда капризничал ребенок и не хотел, скажем, спать или слишком шалил, мать говорила: «Не будешь слушаться, отдам тебя дяде Вилли», и ребенок умолкал. Австрия знала многих своих «героев».
К счастью, непосредственно во главе каждой из этих двух команд стояли красные капо: Георг Слуга (лагерная кличка — Жорж) и Вальтер Винн (лагерная кличка — Герберт). Их настоящие имена я узнал только через много лет, когда разыскал их после войны, и у нас завязалась переписка. Первый из них — австриец, очень высокий и крупный мужчина. Второй — немец, невысокого роста и среднего телосложения. Оба — коммунисты.
Вспоминается, как мы славно «работали» в Баулейтунге-2: стояли в траншее, полусогнувшись, опершись на лопату. Ни один из нас не шевелился, все как замерли. А наверху, на самой высокой куче земли, стояли два наших красных капо — Жорж и Герберт — и… наблюдали, но только не за нами, а затем, чтобы внезапно не появился оберкапо Вилли. Как только тот приближался, Жорж и Герберт начинали деланно орать на нас, матюгаться, изображать из себя чуть ли не зверей. Мы яростно рыли и кидали землю, как будто и не прекращали работы. Когда же Вилли долго не появлялся, у нас затекали плечи, и мы начинали раскачиваться и слегка помахивать пустыми лопатами. И так изо дня в день. В моей бригаде было шесть человек: француз, бельгиец, испанец, чех, югослав и я. Команда Баулейтунг была далеко не командой смертников, и, конечно, я попал в нее не случайно.
До работы в Баулейтунге я не знал, что Жорж является одним из капо этой команды, но знал, что он живет в том же блоке 20, что и я. По утрам Жорж раздавал нам «каву». Так называли узники эрзац-кофе, заменявший завтрак.
Тогда я очень многого не знал. Например, что коммунист Зоммер сразу же сообщил коммунисту Жоржу, чтобы он незаметно «пас» лагерного новичка, несостоявшегося коммуниста Дмитрия, и чтобы наблюдал за тем, насколько добросовестно уголовник Шамберг выполняет просьбу Зоммера «нечаянно» не убить меня. Оказалось, все было взаимосвязано, и не один человек задействован в цепочке помощи тем из нас, кто хотел и мог работать в лагерном подполье.
За время работы в Баулейтунге мне запомнились бесхитростные и добрые наставления испанцев, не знавших, что я уже через многое прошел к тому времени. Они говорили мне:
— Димитра, имма гукка! — Это были искаженное немецкое: «Dimitry, immer gucken!», обозначавшее «Всегда смотреть! Особенно — сзади!» Я потом часто с улыбкой вспоминал эти слова. Они всегда были актуальны в условиях концлагеря, я передавал их другим, и мы старались не забывать о них. Если забудешь — вот тогда действительно хана, как любил повторять Ваня.
Испанцы находились в Гузене давно, с 1940 года, их осталось мало, и они очень тепло относились к нам, советским, как и мы к ним еще со времен гражданской войны в Испании 1936–1939 годов…
Недалеко от места работы находился глубокий овраг, а попросту — большая и неухоженная яма, в которой изредка попадался порченый, промерзший еще зимой картофель, и кое-кому удавалось находить за обеденный перерыв 1–2 клубня. В обед Герберт подкидывал мне полмиски своей баланды, но растущему организму всегда не хватает. Вот и дернуло меня спуститься в овраг, чтобы его обследовать. Я сразу за это поплатился. Наверху появился молодой смуглый эсэсовец и этак, пальчиком, манит меня:
— Ну-ка, вылезай! — В стороне наблюдал за нами Герберт, но помочь ничем не мог.
Я выкарабкивался из ямы прямо на эсэсовца — так полагается. Если полезешь в сторону от него — будет стрелять, как в беглеца. Вылезать пришлось на четвереньках — овраг крутой. Не доползая до эсэсовца 2–3 шага, встал, выпрямился и жду наказания. Оно тут же последовало — точный удар в голову, и я снова на дне ямы. Летел кубарем. Надо сказать, что устоять в том положении я не мог, но падать назад мог менее стремительно, чем падал. Это я делал для того, чтобы он сполна ощутил свою силу нибелунга, насладился своим умением бить и в результате остался доволен собой. Снова позвал меня на подъем. Я вылез, удар — и опять полетел вниз. Так повторялось раза 3–4, пока ему не надоело и он не удалился. Редкий случай — обычно просто стреляли, а так я дешево отделался: ни за что только физиономию раскровенил и вышиб пару зубов, но зато был проучен и в овраг больше не лазил.
Герберт сказал с сожалением:
— Проворонили мы его с тобой, Димитрий! Я тебе добавлю супа, только в овраг больше не лазай. — Как ему объяснишь, что дорого то, что достанешь сам?
Памятны мне и коллективные походы на кагат за картофелем.
В самый разгар рабочего дня, по очереди, по два человека вдень, отправлялись на промысел. Подземное хранилище промерзшего картофеля находилось далеко. Для этого надо было пройти через территорию одной из рабочих команд — каменоломни «Штейнбрух-Гузен». С этой целью один из нас брал большую доску, а другой — камень, но такой, чтобы самому не упасть под ним. Кто шел с легким камнем, мог не дойти — его могли убить по пути именно за то, что он несет слишком легкий камень, а если нечаянно возьмешь камень потяжелее, то сам не донесешь, упадешь под ним. Вот и выбирали золотую середину. Это делалось для маскировки.
Мы осторожно пробирались через гущу хефтлингов и вагонеток, через весь человеческий муравейник работавших в каменоломне. Сами же изображали рвение. Несем — не зная что, куда и зачем. Но с пустыми руками живым не дойдешь! На кагате выискивали по 10–15 небольших картофелин на брата, прятали их на себе и отправлялись в обратный путь, зная, что если у нас обнаружат добычу, то смерть неизбежна. Такое капо не прощали, это не эсэсовцы: добрых капо среди «зеленых» не бывало. Кстати, о капо.
Во всех небольших командах они всегда на виду, их видно издалека. А в многотысячном «Штейнбрух-Гузене» капо было много, они все в гуще узников, одеты в полосатое, и их не сразу отличишь. Приходилось пробираться с особой осторожностью именно по этой причине.
По благополучном возвращении мы, шестеро, украдкой пекли мороженый картофель в горячем варе. Спекшуюся черную кожуру отбрасывали, как ореховую скорлупу, а картофель был добавкой к рациону. Очередь идти снова — через два дня на третий, так как нас — шестеро. Нашим лозунгом оставался: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Мы все говорили на разных языках, но отлично понимали друг друга. Так мы познавали интернациональную солидарность в борьбе за мороженую картошку.
Проработав больше месяца, я влип в очередную историю. Видно, спокойная жизнь мне не была уготовлена. Был у меня на блоке 20 дружок Петя, очень молодой, никогда неунывающий паренек. Собственно, с нытиками я и не сходился. Мы оба работали в Баулейтунге, а по воскресеньям иногда слонялись по лагерю в порядке общего знакомства с ним, особенно в части поискать «где что плохо лежит». Но все лежало хорошо. Неожиданно мы нашли то, что непроизвольно искали. В стороне от жилых блоков на краю лагеря находился Бротмагазин — блок, приспособленный для хранения хлеба.
Мы с Петей оказались случайными свидетелями оригинальной сцены: два испанца, природная смекалка и смелость которых не уступала тем же качествам у нас, у русских, с помощью металлического прута ловко вытащили из окна две буханки хлеба. В окне была решетка из вертикальных стальных прутьев, расстояние между которыми чуть больше половины толщины буханки. Один из испанцев через решетку втыкал прут в торец буханки, подтаскивал ее к решетке, а второй, поддерживая буханку левой рукой, правой аккуратно разрезал хлеб вдоль на две половинки, которые они затем осторожно вытаскивали через прутья. Вытащив, не мешкая, таким образом две буханки, они вмиг испарились, не успев привлечь к себе внимание. Мы — не в счет! Видно, они хорошо натренировались на этом цирковом трюке, который по законам лагеря грозил смертью. Но делали они свое дело ювелирно!
«Ну что же, век живи — век учись!» — сказали мы друг другу с Петей и за неделю нашли и припрятали прут, а в воскресенье, убедившись, что на подступах к заветному окну отсутствует очередь, — и такое могло быть, есть хотели все — повторили подвиг испанцев. Коленки тряслись от страха — грешно, воруем! Но мы были смертниками и отпустили себе этот грех. Удовлетворившись на первый раз одной буханкой, мы исчезли. Наследующее воскресенье — повторили, вытащив уже целых две буханки, а в третий раз нарвались на эсэсовца. Все же я под счастливой звездой родился! Эсэсовец оказался на редкость благородным субъектом. Законы лагеря требовали застрелить нас на месте преступления, а он приказал нам следовать за ним к браме. Толи пожалел Петькину молодость, то ли вид у нас был жалкий, то ли после обильного обеда и употребления спиртного настроение у него оказалось хорошим. Какие-то причины были. Не должен эсэсовец жалеть узников — не положено это в рейхе. Он привел нас к браме. Там мы поднялись на площадку второго этажа, спустили штаны, перегнулись через перила и получили по мягкой части пониже спины по 25 ударов гумой. Это называлось получить «фюнфундцванциг». Если будешь кричать от боли, тогда получишь все 50, а это — смерть. Рот открывать нельзя, но мы были счастливы, что относительно легко отделались. Последствия были стандартными: сидеть не могли, кожа сошла, тело стало лиловым и кровоточило. Страшно смотреть.
На этот раз выручил Альфред Шамберг: назвав идиотами, назначил для вида штубендистами недели на две, пока не зажило, и прятал нас таким образом в рабочее время на блоке. Когда нам стало легче, он дал нам по баночке с краской и кисти, приказав делать вид, что красим койки и оконные рамы на случай, если кто войдет в блок. Мы передвигались по штубе, но красить, конечно, не требовалось. Так Шамберг держал слово, данное Зоммеру: он сохранял мне, а заодно и моему другу жизнь, а ему так хотелось прикончить обоих. Он с трудом скрывал это желание: Курской дуги еще не было, Германия держалась и готовилась в летнем наступлении 1943 года взять реванш за Сталинград. Случись что-либо с Зоммером, не знаю, что тогда могло меня ожидать.
Когда мы с Петей подлечились, естественно, без лекарственных препаратов, то вернулись в Баулейтунг. Как не получили заражения, не знаю, но в целом уже приближались к полной дистрофии и по внешнему виду и облику уже походили на «мусульман». Так называли в лагере заключенных, истощенных до предела, не имеющих «покровителей» и дополнительных источников питания сверх лагерного рациона, работающих в одной из тяжелых рабочих команд и смирившихся с близким концом.
Были и другие случаи — обо всех не расскажешь. Так прошел июнь 1943 года, а впереди нас, русских, ждали более грозные события, которые унесут много жизней.
Июльская экзекуция 1943 года
Все началось ранним июльским утром. Нам, выстроившимся на аппель-плацу, объявили: «Вот русский. Он пытался бежать, но его поймали. Сейчас его казнят, и так будет с каждым!» В центре аппель-плаца на специальный помост поставили беглеца. Я стоял далеко и едва различал полосатую фигуру несчастного. Действительно ли он пытался бежать, или это провокация, а точнее — месть за Сталинград, мы таки не узнаем, но большинство считало именно так. Узника за несколько минут забили насмерть на глазах всего лагеря.
Это не ново для нас, и все восприняли как должное. Нас ежедневно забивали на каждом шагу — в блоках, в рабочих командах, десятками человек, но, правда, не так «торжественно». Но того, что объявили следом, не ожидал никто:
— Слушать всем! С сегодняшнего дня ни один русский на работу не пойдет. Весь рабочий день русские должны заниматься «спортом» на аппель-плацу. В течение месяца устанавливается половина суточного рациона питания, в ревир русских класть запрещается. Все понятно? — Лагерь молчал. Половина рациона — верная смерть в первую неделю. Сразу последовала команда:
— Лагерь! Строиться по рабочим командам и на работу марш-марш! Русским — остаться на месте!
Застучали колодки, мигом выстроились колонны рабочих команд и поспешно исчезли за брамой. Все переживали за нас, но помочь не могли. Русские сиротливо торчали небольшими кучками на аппель-плацу. Новая команда:
— Построиться! — Мы выстроились, как было приказано. А вокруг нас уже стояли наготове наши мучители: на некотором расстоянии от нас — эсэсовцы с собаками, поближе — весь свободный состав лагерполицаев, блоковых, капо. Все они выражали нетерпение, желая принять участие, причем самое активное, в предстоящей бесчеловечной акции. Все орали дикими голосами, размахивали палками и гумами, били заранее, чтобы создать настрой полной обреченности.
И началось: одна за другой следовали команды, требующие передвигаться то прыжками, то «гусиным шагом», то на корточках, то бегом, а «зеленые» неистовствовали, били наотмашь. Эсэсовцы только орали да изредка стреляли по тем из нас, кто уже не мог подняться. В первый день я находился не с краю, а внутри прыгающей массы узников, и ударов мне доставалось несколько меньше, чем другим. Более страшным оказалось иное, совсем непредвиденное: мы теряли на бегу свои деревянные колодки, а «зеленые» подбирали и изо всех сил метали их в нас, целясь, как правило, в голову. Горе тому, кто получал такой удар, это — почти конец. Мы продолжали прыгать, стараясь руками защитить голову.
К исходу дня на аппель-плацу возле блока 5 осталась лежать груда тел, сваленных друг на друга. Их ожидал крематорий, и так теперь будет каждый день. Кто из нас сможет выдержать месяц такого «спорта»?
Всеволод Остен в книге «Встань над болью своей» (М., 1989) называет такие цифры: «В первый день начали бегать более 1700 русских, и к вечеру у блока 5 осталось лежать около 200 трупов. К концу экзекуции осталось 432 узника, выдержавших все».
Вечером, когда лагерь вернулся с работы на аппель-плац, мы заняли свои места по блокам, как ни в чем не бывало. Но никогда не изгладится из памяти, как тряслись колени от перенапряжения. Эту дрожь было не унять. Стоять вечером на поверке оказалось не менее тяжелым, чем бегать и прыгать. До полутора часов нас считали по головам, пока все не сошлось. Ноги подкашивались, многие падали тут же в строю. Нам не совладать с собой, а месяц только начался!
У В. Остена на странице 265 есть такие слова: «Экзекуция 1943 года была самой страшной и самой кровавой из всех, которые знала история лагеря Гузен». Я подтверждаю это.
Так мы бегали и на второй день, и на третий. Становилось все труднее, а нас — меньше. Моим последним днем стал пятый или шестой. Когда меня отволокли и бросили в кучу тел, я находился без сознания и ничего не чувствовал. Слава богу, мои мучения окончились. Но судьба распорядилась по-иному. Я пришел в себя только через несколько дней и не сразу осознал, что нахожусь на штубе В блока 31 ревира. Это была штуба неизлечимых от туберкулеза и дизентерии больных-смертников, дни которых сочтены. Я лежал среди неубранных трупов.
Через две недели я стал вставать, пробовал сам передвигаться. Я и до того выглядел не слишком респектабельно, успев превратиться в ходячий скелет. Помню, как-то в июне ночью вышел из блока 20 в уборную. Надо было пройти вдоль блока и завернуть за угол. Ослепительно светили прожекторы с вышек. На мне короткая нижняя рубаха — на ночь полагалось раздеваться. Впервые сосредоточив внимание на собственных ногах, я обомлел и мне стало страшно от увиденного — ноги казались спичками. Подумалось: «Как же они держат меня и не ломаются?» Ощущение пренеприятнейшее. Организм по-своему реагировал на наше скотское существование…
Но если бы этим все и ограничивалось. Нет, к сожалению. Все тело, руки и ноги покрылись сплошными очагами фурункулеза. Одни ранки с запекшейся гнойной корочкой, другие сочились гноем и кровью. Все впитывалось в одежду, она прилипала кранам и издавала ужасный запах, а по существу — зловоние. Мочки ушей попросту сгнили, истекали гноем, потеряли форму, и можно было без труда отщипывать болтающиеся и мешающие кусочки мяса с гноем и жидкостью. К отвратительному запаху гниения живого тела примешивался постоянный запах жженого мяса и костей от крематория. Скрыться от всего этого — некуда…
Когда сознание полностью восстановилось, я наконец узнал, что со мной произошло. После аппеля груду тел от блока 5 перевезли в умывальник, именовавшийся «вашраумом» и находившийся напротив блока 30 ревира. На ночь трупы и полутрупы складировали внутри умывальника так, чтобы утром их легче вытаскивать, то есть располагали ногами или головой к выходу, обычно в несколько рядов друг на друга. К утру часть полу-трупов становилась полноценными трупами, и их можно было сжигать — гуманность соблюдена. Для «гарантии» процесса умерщвления на ночь открывалась вода, накапливавшаяся до уровня высоченного порога, и полутрупы становились еще и утопленниками.
Я оказался наверху и головой к выходу. Это все и решило. Кто-то из блока 20, пробегая мимо — когда один вашраум[60] занят телами, бежали в другой — и случайно остановившись, узнал меня. Из последних сил, сам еле передвигая ногами, он добрался до ворот блока 31 ревира и вызвал Колю Белкова, с которым я к тому моменту не был знаком, но он обо мне уже кое-что знал.
— В вашрауме — Димка! Наверху лежит! Вроде живой…
Коля сбегал в 27-й блок ревира к Шилову. Тот немедленно связался с Зоммером, в результате чего блоковый 31-го блока Карл Кефербек — убийца из убийц — получил приказ выкрасть меня из вашраума, положить в штубу В смертников и вылечить. Если не отойду, так и останусь трупом, никто ничего не терял. Ребята из блока 31 все и организовали. В вашраум для счета, чтобы утром не обнаружилась «пропажа», положили мертвеца со штубы В блока 31, а меня на его место. Все прошло гладко, видно делалось не впервые.
Николай Шилов в апреле-мае 1943 года стал уже четвертым русским в персонале ревира, состоявшего из немцев, поляков и испанцев.
Я оставался в резерве на пятого. А первыми тремя, работавшими на блоке 31 еще с 1942 года, были Коля Белков, Миша Ибрагимов — его звали «урмахер», часовой мастер: эсэсовцы и лагерная номенклатура ремонтировали у него свои часы — и западник Владик, хороший, покладистый и компанейский парень. Западники тоже разные бывают. Все трое — из первого транспорта 1941 года, военнопленные, содержавшиеся в изоляции на блоке 16. Они работали рейнигерами (уборщиками) на блоке смертников, а потому их возможности в процессе лечения узников были весьма ограниченны, да на блоке 31 и не лечили.
Эмиль Зоммер по решению комитета поставил перед собой задачу в течение 1943 года внедрить русских именно на блоки 29 и 30, считавшиеся привилегированными. Они предназначались, как правило, для променентов, то есть элитных заключенных, имевших среди персонала ревира и номенклатуры знакомых и друзей, земляков, однополчан, родственников и т. п. «Мусульмане» редко попадали на эти блоки, поскольку не обладали перечисленными преимуществами, по крайней мере — до 1944 года. На административный блок 28 и хирургический блок 27 внедрили Колю Шилова, а меня ждал блок 29, наилучший в ревире, но я об этом и не подозревал.
И вот, когда я смог стоять на ногах, мне устроили смотрины, как невесте. На штубе В блока 31 в сопровождении Коли Белкова и Миши Ибрагимова появился сам Эмиль Зоммер. Ранее он туда ни ногой. Ему поставили в проходе табуретку, и он, сев поудобнее, скомандовал:
— Димитрий! Выходи, покажись! — Меня вывели под руки из темного угла, где прятали на нарах среди полумертвецов, и я предстал перед своим спасителем.
— Сними рубашку! — Эмиль долго рассматривал меня и остался вполне удовлетворен, поскольку ожидал худшего — Гузен не санаторий!
Ко мне он не подходил. Я представлял собой гниющий кусок живого мяса, к тому же невероятно грязный.
— Хорошо! — Сказал Зоммер. — Кормите его получше, пусть лежит, пока не поправится. — С тем и ушел.
Заботами Коли и Миши я за месяц с небольшим действительно сумел поправиться — молодость взяла свое, как и после тифа. Гнойники мне подлечили дерматолом и ихтиолом. Тогда поступила команда от Зоммера: перевести меня на блок 29 ревира и включить в штат персонала блока. Правда, штат давно заполнен, и я стал работать сверхштатным рейнигером на штубе А. Но на этот разя проработал там не более десяти дней.
Ревир периодически посещал эсэсовский врач хауптштурмфюрер СС доктор Гельмут Веттер. Место его постоянного пребывания — Маутхаузен. Он проходил по лучшим блокам ревира, наводил своим видом страх на персонал, бросал второпях кучу указаний, которые потом никто не выполнял, раздавал выговоры и опять исчезал на неделю-другую.
И вдруг, осматривая самую привилегированную штубу А элитного блока 29, он наткнулся на мою персону, еще производящую своим видом отвратительное и отталкивающее впечатление. Веттер обалдел, увидев среди вытянувшегося «по струнке» персонала такое чудовище. Он резко остановился, и у него едва не слетело с носа пенсне. Доктор потерял дар речи, потом пришел в себя, вытянул руку в кожаной перчатке и заорал:
— Прочь эту гадость! Немедленно!
Никто не ожидал, что он столкнется со мной на узкой дорожке, а меня не догадались предупредить, чтобы не попадался на глаза. Оплошность не исправить. В тот же миг я пулей вылетел в лагерь на ставший родным 20-й блок.
Дружков и знакомых в блоке не осталось, почти всех поглотил крематорий. «Землячков» в лагере тоже поубавилось, многих не было в живых. Уцелели только те, кого я ранее упомянул в тексте, а точнее — их имена я и запомнил только потому, что они остались живы. И мена тех людей, с которыми имел дело в апреле, мае, июне и которые погибли, я не смог восстановить в памяти — так быстро они ушли из жизни. Массовых акций по спасению русских в тот период комитет не мог проводить. Спасать удавалось только отдельных счастливчиков, и то с трудом, как было со мной.
Наследующий день после того, как вылетел из ревира, я уже шагал в колонне новой рабочей команды «Штейнбрух-Гузен», думая о том, чтобы не пострадали те, кто укрывал меня, но все обошлось.
Почему я попал в эту страшную команду? Просто утром после аппеля меня палками затолкали в нее, как самую многочисленную. Мое возвращение из ревира на блок 20 прошло незамеченным. Ни Жорж, ни Зоммер не успели отреагировать и дать команду по цепочке, чтобы меня пристроили в более безопасную команду. Так на какое-то время я опять оказался предоставлен самому себе и судьбе. Снова надо было ждать случая, а уже шел октябрь.
Все-таки страшное место «Штейнбрух-Гузен». Большая ровная площадка окружена горами. Непосредственно на склоне гор работала другая команда — «Штейнбрух-Кастенхофен». Там подрывники закладывали по определенной схеме взрывчатку и в обеденный перерыв взрывали очередной скальный участок горы. Камни при этом разлетались во все стороны. Команда Кастенхофен транспортировала камни к нам в долину. Мы же доставляли их к камнедробилке «Шаторзилон», где из них делал и гравий и щебенку. Процесс транспортировки простой — на руках, в вагонетках, на тачках и тележках. Здесь не постоишь, как в Баулейтунге. Море людей, все копошились, падали, снова вставали, таскали камни, толкали вагонетки. Передышек в работе и перекуров здесь не было. Разговаривать тоже особенно не с кем — русских почти не видно.
Но страшнее нашего работать в команде Кастенхофен. Эсэсовцы стояли на верхних площадках скал, у них прекрасный обзор, удобно стрелять в узников, как только захочется, а то просто ногами сталкивали вниз камни, которые, падая на заключенных, калечили и убивали их. Это был настоящий ад, как в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Капо тут сновали между узниками, раздавая удары, орали, появляясь то с одной стороны, то с другой, — никак не увернуться от ударов.
Обер-капо я так и не обнаружил, он был где-то в другой стороне, так что характерных личностей наших палачей зрительная память не сохранила. Но я их все же назову, сославшись на воспоминания Всеволода Остена: «Особо жестокими капо каменоломни были испанец Астурия и поляк Заремба». Мне приходилось слышать эти имена, но близко видеть не пришлось.
Работа в каменоломне быстро подточила мои еще не окрепшие силы, и я в который раз начал превращаться в «мусульманина».
Нет худа без добра. На второй неделе со мной случилась очередная беда, и больше в каменоломню я не вернулся. Как-то мы впятером толкали порожнюю вагонетку в сторону Кастенхофена. Рельсовый путь шел на подъем. Внезапно передняя вагонетка, получив удар от впереди идущей, подалась назад и ударила нашу вагонетку. Она так же подалась назад, и все бы ничего, да в этот момент пятка моей правой ноги оказалась в развилке рельс, и мне уже было не выдернуть ногу, поскольку колесо вагонетки наехало на нее. Я заорал от боли, товарищи уперлись в вагонетку, сумели ее остановить, помогли освободить ногу. По-видимому, я заработал трещину в лодыжке. Кожа содрана, ступать на ногу не мог. Кто-то из нашей пятерки сбегал в соседнюю команду Баулейтунг-1, разыскал там капо Жоржа, и тот сумел под своей «охраной», придумав какую-то версию для эсэсовцев на браме, организовать доставку меня на штубу В блока 20. Шепнув на ходу что-то Альфреду Шамбергу, Жорж испарился.
Опять я находился под неусыпным попечительством Шамберга. Все же спасибо ему и на этот раз — он честно прятал меня в глубинке штубы почти месяц, пока трещина не срослась. Когда начал наступать на ногу, опять появились старые друзья — банка с краской и кисточка, и я стал усердно изображать работающую фигуру. К ноябрю нога зажила, и пора было вновь собираться на работу. На этот раз дорога на каменоломню была заказана — Жорж направил меня в Баулейтунг-2 к Герберту.
Снова рыл котлованы под фундаменты, бетонировал, работал каменщиком и ходил на кагат за мороженой картошкой, а точнее — за гнилой. В свободное время встречался с Люсьеном, ходил по блокам, завязывал знакомства с прибывающими русскими из новых транспортов. Без этого я не мог, это стало частью моей жизни.
Не забыть случай, имевший место в одно солнечное воскресенье ноября. День был чудесный. Я болтался между блоками центральной части лагеря, искал глазами новеньких русских, когда на меня с разбегу налетел Федя-парикмахер, дружок Пети Шестакова, да так, что я еле устоял на ногах. Весь мокрый, в нижнем белье, лицо белое, от пережитого стресса сам не свой, его трясло. Федя узнал меня, обхватил за шею и повис на мне. Оказалось, он только что сумел выскочить из бочки с водой и удирал со всех ног.
По выходным дням молодые эсэсовцы и немолодые капо любили в порядке развлечения хватать первого попавшегося под руки узника и топить его в бочке с водой. Такие бочки стояли во многих местах. Возможно, это вода на случай пожара, но пожаров в Гузене не было, а заключенных в бочках топили. Эсэсовцы спьяну подзадоривали, а капо заталкивали узника в бочку.
Федя — крупный парень, когда-то был сильным. Он не уместился в бочке, вырвался из рук и ударился в бега. Обычно убегавшего не догоняли, а хватали другого: не все ли равно, кого топить — русского или поляка, все одно раса неполноценная. На этот раз Феде повезло — убежал. Поблизости находился вашраум блока 5. Там я спрятал Федю на короткое время и, убедившись, что его не ищут, быстренько переправил на блок к Пете Шестакову.
Такие дела часто случались по воскресеньям. Эсэсовцы, не нюхавшие пороха, на фронт не стремились, а стрелять и убивать хотел и. Они прохаживались по лагерю и стреляли по живым целям, узникам, сидящим на завалинке у блока с окурком в руках. Им это интересно, а для нас — на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Поневоле лишний раз вспомнишь совет испанцев: «Имма гукка!» — смотри в оба, а особенно сзади.
Весь ноябрь я проработал в Баулейтунге-2, пока со мной не произошло очередное приключение. Съев в обед какой-то дряни, получил жуткую рвоту, от которой выворачивало внутренности. Совладать с собой не мог, нашел укромное местечко среди монтажных плит, забился как зверек, скрючился в три погибели и приготовился помирать от несносной боли в желудке, рвоты, поноса — все это не прекращалось. Да и любой капо мог обнаружить меня и забить на месте за уклонение от работы. Но дальше все повторилось — меня нашли испанцы:
— Димитрий, что с тобой? Ты болен?
Они вытащили меня из укрытия, тут же кое-как почистили и чуть ли не волоком потащили в лагерь. К тому времени на браме в рабочее время пропускной режим не был таким строгим, как раньше. Испанцы ловко соврали, что я — незаменимый специалист, заболел, и капо велел им отвести меня на ревир. Благополучно миновав браму и не успев поблагодарить своих очередных спасителей, я оказался в ревире. Боль не стихала, состояние оставалось тяжелым.
В ревире в эти часы Эмиль Зоммер с Николаем Шиловым заканчивали осмотр поступивших больных, распределяя их по блокам ревира. Там же находился и мой «хороший знакомый» доктор Веттер, но он меня не узнал. Шилов с Зоммером незаметно протолкнули меня в группу больных, назначенных на блок 29, и что-то шепнули блоковому. В результате я оказался на одной из коек штубы А блока 29 в качестве больного, которого следовало вылечить, что персонал блока и сумел сделать за неделю. После выздоровления блоковый дал мне одежду и сказал, чтобы я приступал к своей прежней работе на штубе А, как это было пару месяцев назад, но при этом хитро подмигнул — мол, не нарывайся больше на доктора Веттера. Я это и сам усвоил.
На первое время блоковый запретил мне выходить в лагерь и вступать в контакты с кем-либо. Зоммер считал, что меня могут узнать и начать интересоваться, что это за птица, которая непрерывно кочует из одной рабочей команды в другую («Шаторзилон», Баулейтунг-2, ревир, «Штейнбрух-Гузен», Баулейтунг-2, ревир), из одного блока в другой (блок 20, блок 31, блок 29, блок 20, блок 29). Я вынужденно согласился с запретом, но уже через месяц стал снова появляться в лагере. Что делать, если это вошло в привычку?
Боязнь и тревога Зоммера были небезосновательными — я с лета был тесно связан с 5–6 членами подпольного лагерного комитета и провалиться на этом не имел права. Что касается мороженой картошки и Бротмагазина, то это совсем другое дело и «другая статья».
Во всех перечисленных неблагополучных ситуациях, а точнее, смертельных, в которые я попадал в течение 1943 года (этой июльская экзекуция над русскими, «фюнфундцванциг» за украденный хлеб, походы за картошкой и работа в каменоломне, попадание ноги под вагонетку, случай с отравлением и другие), я остался жив только благодаря помощи многих людей, действовавших по указанию подпольного комитета. Он упорно не давал мне погибнуть даже тогда, когда я желал этого сам (отравление) или уже находился при смерти (в куче трупов в в ашрауме). Такие ситуации поджидали каждого узника, и его гибель была неминуемой, если за ним никто не стоял.
Пришло время рассказать о блоке 29, о моих обязанностях, о новой жизни. В этом блоке я пробыл с декабря 1943 года по день освобождения — 5 мая 1945 года.
Два лагерных комитета
Блоки ревира 27–32, располагавшиеся в ряд вдоль западной стены лагеря, в направлении с юга на север, были деревянными и попарно сообщались крытыми переходами — 27 и 28,29 и 30,31 и 32. Переходами мог пользоваться персонал только в исключительных случаях, поэтому они всегда были заперты на ключ. Между каждой парой блоков предусмотрены двустворчатые ворота. Они тоже всегда закрыты. От лагеря блоки ревира отгораживались по линии их торцов большими проволочными сетками на массивных деревянных рамах. Хождение в лагерь персоналу запрещалось, а больным — тем паче.
Блок 27 занимало хирургическое отделение. В нем господствовали поляки. Главным хирургом работал польский врач Тони Гастинский, родом из Познани. Собственно, почти все поляки, обосновавшиеся в ревире, по законам землячества — из Познанского воеводства. Не могу не помянуть добрым словом хирурга — это настоящий врач в том смысле, что для него существовали лишь больные, нуждавшиеся в его помощи, но не больные-русские, не больные-югославы, не больные-итальянцы и т. д. Никаких национальных различий среди больных Тони не признавал, чего нельзя сказать о других врачах. Например, патологоанатом Кошинский — ярый реакционер. После войны он укроется от народной Польши в далекой Австралии.
К блоку 27 был приписан Коля Шилов. Я же там бывал очень редко и только в особых случаях, но об этом — речь впереди.
Блок 28 считался административным. В нем размещалась резиденция капо ревира, там производился прием новых больных, находились баня и другие вспомогательные и хозяйственные помещения.
Блоки 29 и 30 с начала функционирования лагеря предназначались для больных с инфекционными заболеваниями. Впоследствии благодаря усилиям персонала, блок 29 стал блоком для променентов, лучшим блоком ревира. Блок 30 от него почти не отличался.
Блок 31 — для больных поносом и дизентерией. В 1941–1942 годах он был самым страшным блоком ревира, особенно штуба В, где больные лежали на трехэтажных нарах прямо на досках, без тюфяков. Никто из персонала туда не входил, а еду совал и по полу через дверь. Все лежали и ждали смерти. К середине 1943 года, когда меня укрывали на штубе В, условия стали чуть лучше, персонал мог входить, но смертность по-прежнему оставалась высокой. Иногда входил блоковый и плетью ускорял естественный процесс. Этим занимался, например, Карл Кефербек, своими руками убивая узников. Лагерные правила, установленные нацистами, требовали постоянно умерщвлять тех больных, которые своим заболеванием могли невольно способствовать распространению эпидемий. Особенно следили за больными сыпным и брюшным тифом, а также — туберкулезом. В этом «железная» логика фашизма: сперва сделать людей больными, а затем уничтожить их за то, что они заболели. Кроме того, в 1941–1942 годах на блоке 31 в массовом масштабе проводились различные опыты на заключенных, которых после этого убивали инъекцией в вену или в сердце. Для опытов клали на «операционный» стол и давали наркоз хлорэтилом. При этом лиц еврейской национальности и советских военнопленных из блока 16 наркозу не подвергали. Вводили фенол, бензин, керосин, хлорат магния и другие, после чего смерть наступала мгновенно. Тело вытаскивали во двор, заводили следующую жертву. Делалось все то, что имело место в любом концлагере под эгидой ведомства СС.
Как-то я обратил внимание на то, что во время утренней раздачи кавы к Жоржу с баночкой в руке каждый раз незаметно подходит незнакомый мне русский, не с нашего блока, протягивает баночку, Жорж наливает ему каву, после чего тот исчезает. Потом Жорж познакомил нас, двух ленинградцев — меня и человека с баночкой, представив его мне как «Лерера», то есть «Учителя», поскольку он до армии уже преподавал. Это оказался Кузьмин Леонид Павлович из военнопленных блока 16. Ему тоже пришлось полежать на том «операционном» столе. Когда до смертельного укола оставалось одно мгновение, он нашел в себе силы произнести слабеющим языком:
— Я хочу жить…
— Хочешь жить? — искренне удивился эсэсовец. — Живи, сам будешь просить о смерти. — И Кузьмина столкнули со стола, а приготовленный шприц достался другому несчастному. И такое бывает — жизнь многогранна и удивительна! Кузьмину, как и мне, было суждено дожить до освобождения. Он и ныне здравствует, живет с семьей в Петербурге…
Все больные туберкулезом (это называлось ТБЦ) из Маутхаузена и его филиалов были сконцентрированы в Гузене, где стечением времени планомерно уничтожались на блоке 31 в зависимости от стадии чахотки.
Больше всего в Гузене были распространены болезни: фурункулез, чесотка, обморожения, переломы носа и конечностей, поносы, дизентерия, ТБЦ. В разное время 30–40 % узников лагеря становились инвалидами и нетрудоспособными. Их также помещали на блок 31, где им сокращали паек, и время от времени уничтожали. Так, скотские, антисанитарные условия содержания узников в лагере, варварские методы труда и абсолютно недоброкачественная пища делали свое черное дело, а блок 31 являлся лидером по обеспечению крематория трупами.
Блок 32 — резервный, иногда использовался в качестве карантинного…
Внешнее описание ревира будет неполным, если не упомянуть об одном интересном человеке. Он стоял привратником в главных воротах ревира между блоками 28 и 29. Имени его никто не знал — все звали его «пфертнером» (по-немецки — сторож). В любую погоду он неизменно торчал на своем посту. Был он немцем, «зеленым», плотным, крупным, немолодым мужчиной. Он не должен был пропускать через ворота никого, кто хотел бы сам пройти в ревир из лагеря или, наоборот, выйти в лагерь. Пфертнер, будучи абсолютно неразговорчивым человеком, ревностно нес службу. А его основной задачей было не прозевать приближающегося к ревиру доктора Веттера, надумавшего в очередной раз посетить лазарет.
Увидеть эсэсовца следовало издали — не дай бог прозевать шефа! Заметив Веттера, пфертнер быстро открывал настежь ворота, рывком скидывал с седой головы шапку, прижимал правую руку к бедру, вытягивался в струнку и истошным, протяжным голосом орал во всю глотку: «Ревир-капо-о-о-о!..» На этот вопль так же мгновенно выскакивал из блока 28 Эмиль Зоммер и так же со снятой и прижатой к бедру шапкой бежал навстречу хауптштурмфюреру СС. Таков заведенный ритуал. За полтора года моего пребывания в ревире я не знал ни одного случая нарушения правил, а если бы это случилось, то один из двух или оба подлежали немедленному разжалованию. Приняв правила игры, надо вести игру до конца. И пфертнер, и капо ревира неукоснительно соблюдали этот ритуал.
Излишне напоминать о том, что, вызывая капо, пфертнертем самым невольно, даже о том не догадываясь, сигнализировал и мне о приближении Веттера. Но если Зоммер бежал тому навстречу, то я — в обратном направлении. Это тоже было смертельной игрой. Нетрудно предположить, что было бы, опознай меня Веттер вторично: сколько хороших людей рисковали вместе со мной!
Еще один вопль в течение дня издавал пфертнер, но целых три раза и в одни и те же часы. Хотя шапка не снималась, но ворота открывались. Этот вопль радовал всех:
— Косттрегер, раус! — Это пфертнер вызывал нас, носильщиков котлов с супом или кавой. Горячую пищу для ревира трижды вдень привозили узники лагер-команды, толкая большую повозку со стоящими на ней котлами. Они были большими и тяжелыми. Мы по два человека на котел таскали их с великим трудом.
Кем на самом деле был пфертнер, так мне и осталось неизвестным. Блоковый с первого дня предупредил меня, чтобы я с пфертнером в беседы не вступал и не откровенничал с ним. Тем не менее со временем у нас с пфертнером сложились молчаливые, но вполне доброжелательные отношения. Я подходил к нему и, ни слова не говоря, смотрел на него снизу вверх — он был выше меня. Пфертнер все понимал и незаметно моргал одним глазом, как бы говоря:
— Вижу, что хочешь выйти. Иди, только ненадолго, да смотри в оба…
За все время пребывания на своем посту пфертнер не принес никому из нас вреда, но и не любить его было не за что…
Каким был блок 29 внутри? Штуба А находилась со стороны лагеря, а штуба В — со стороны внешней стены. Между штубами — два помещения для персонала, а также туалеты с умывальниками для каждой штубы. Койки были и одноярусные, и двухъярусные. Штуба вмещала до 80 больных. Имелись металлическая печь и шкаф с медикаментами. В каждом помещении для персонала находились две двухъярусные койки, столики несколько табуреток. Пол был высоко от земли, крыльцо имело около десяти ступеней.
Теперь о персонале, с которым мне предстояло проработать полтора года.
Блоковый — австрийский коммун ист Альберт Кайнц родом из города Инсбрук в Тироле. Профессиональный партийный функционер, руководивший партийной организацией, он был арестован нацистами сразу после оккупации Австрии в марте 1938 года. Человек кристальной честности и порядочности, прекрасный товарищ. Последнюю корку хлеба он мог отдать тому, кому она могла спасти жизнь. Человеческие качества блокового покорили меня, и я старался хоть чем-то походить на него, а особенно не досадить ему какой-либо оплошностью, не вызвать у него малейшего неудовольствия за плохо выполненную работу.
Моя работа на лучшей штубе ревира всегда у всех на виду — и у персонала, и у больных. Она не имеет ни начала, ни конца потому, что я — рейнигер, уборщик, и выходных, как и весь персонал ревира, не имею. Моими ежедневными обязанностями были следующие: мыть в течение дня по мере необходимости туалет с умывальником, протирать окна и рамы, дважды в день — утром и после обеда — мыть пол до блеска. Пол деревянный, дощатый, и я его мыл щеткой на палке так, чтобы он приобрел светло-желтый, почти белый, цвет. Это достигалось применением небольшого количества хлорной извести. Еще я должен был топить печь, когда холодно, и заготавливать дрова для нее; заправлять и перестилать постели тем больным, кто был не в состоянии это делать сам; подавать и выносить «утки» и «круги» тем больным, кто не вставал; приносить в блок котлы с пищей. Я кормил совсем немощных больных с ложки; вызывал медперсонал, если кому-либо становилось плохо, и т. п.
Если учесть высокую требовательность блокового к чистоте помещений, а также в части заботливого отношения к каждому больному, то нетрудно сделать вывод, что мой рабочий день был заполнен до предела.
Но думаю, Альберт Кайнц был доволен моей работой, как и весь медперсонал блока, — в противном случае мне не проработать до мая 1945 года. Надо сказать, что Альберт никогда никого из нас и не хвалил за добросовестную работу, справедливо считая, что на ревире иначе работать нельзя.
На элитную штубу Аблока 29 два подпольных комитета направляли своих людей не только для лечения, но и с целью укрыть на время от работы, дать прийти в себя после каких-либо потрясений. Большое значение при этом имели узы землячества, личная дружба и другие отношения. В самом скором времени и мы, русские, будем это широко практиковать: для этого нас и внедряли на ревир.
Если быть откровенным до конца, то я блоковому все же иногда досаждал, и он мне очень деликатно сказал об этом в приватной беседе:
— Я просил тебя не выходить в лагерь, а ты по вечерам все время исчезаешь, да еще носишь своим еду, лекарства, одежду. Ты не думаешь о том, что рискуешь не один, а можешь подвести всех нас. Мы с Зоммером с таким трудом начали помогать русским, а теперь и вас привлекли к этой работе, и пока все идет хорошо. Но Штрейт[61] обеспокоен, видя тебя все время в лагере, и просил меня поговорить с тобой. Вы, русские, серьезный, решительный и дисциплинированный народ, и мы всех вас очень ценим, вы — хорошие и надежные товарищи. Но мы не можем позволить, в данном случае тебе, проявлять так много личной инициативы. Жизнь приучила нас, немецких коммунистов, к строжайшей самодисциплине, и поступки каждого из нас всегда коллегиально санкционируются подпольным комитетом, и чтобы никакой самодеятельности. А ты… — И он махнул рукой.
Мне было нечего сказать. Он был прав.
— Зачем ты ходишь так часто в лагерь?
— Шилова мне видеть нельзя. С этим я согласен, но больше в персонале ревира русских нет, блок 31 далеко, туда тоже нельзя. Испанцев у нас двое, поляков — трое, а я один. Если не ходить в лагерь, то я и русский позабуду. Альберт, должен же я встречаться с друзьями, посидеть, поговорить, найти новых людей, которым необходима помощь. Я не могу без этого…
Не хотелось мне выкладывать Альберту личные мотивы: весь годя жадно всматривался в каждый новый транспорт с тайной надеждой увидеть среди новеньких Мишу Петрова и успеть оказать ему помощь именно в первые дни. Я знал по себе, как это важно. Мне еще в начале 1943 года кто-то из прибывших в Гузен из Маутхаузена сообщил, что Мишка уже там, знает о том, что я в Гузене, и рвется сюда. Так и не помню, кто передал — уж не Петя ли Шестаков? Но нам с Мишкой так и не суждено было увидеться…
— В нашем деле лучше соблюдать излишнюю осторожность, чем все провалить. Подожди, скоро 1944 год, лагерный режим должен смягчиться… — И Альберт умолк, задумавшись о чем-то своем.
Все наши подобные беседы протекали мирно. Каждый прав по-своему, но за Кайнцем стояла коллективная правда, и с этим я не мог не считаться. Я обещал ему быть осторожней и некоторое время в лагерь не выходил. Но успехи Красной армии на фронте через короткое время свели на нет результаты наших бесед. Многие из нас мало-помалу стали пренебрегать конспирацией, хотя это было преждевременно, но и сидеть в норах становилось невмоготу.
Что касается поляков и испанцев, работавших на ревире, то им действительно незачем было выходить в лагерь — все их друзья по несчастью давно пристроены в благополучных рабочих командах, таких, как Баулейтунг, «Шаторзилон», различные мастерские. Их друзьям уже не грозила смерть от дистрофии или непосильной работы. У русских же все далеко не так, да и с каждым новым транспортом их число в лагере росло, а положение оставалось безрадостным. На обстоятельные беседы в поисках «землячков» времени не было, да и надобность в таких беседах постепенно отпадала — люди не боялись выражать свои чувства, открыто радовались успехам на фронте, не скрывали надежду и уверенность в скором поражении Германии…
Продолжим о персонале блока 29. Очень сложной фигурой был врач — Адам Конечный, поляк из Познани. Крупный мужчина, высокий, плотного телосложения, полный, лет за 50. Но прежде чем охарактеризовать его, опять следует отвлечься, чтобы напомнить о так называемом «польском вопросе», который очень остро стоял в Гузене.
С первых дней существования Гузена самостоятельно сложилось ядро каждого из двух будущих подпольных антифашистских комитетов. Один составили немецкие и австрийские коммунисты, а второй — националистически настроенные польские офицеры, военнопленные скоротечной кампании 1939 года. Их организация, весьма законспирированная (в самом лагере лига себя старалась не проявлять, и о ее существовании знали немногие, в основном только те, кто работал рядом с членами лиги — в лагерной канцелярии, на вещевых складах, на кухне, в ревире), называлась «Акция войскова» и представляла собой польскую офицерскую лигу, одним из руководителей которой был Казимир Милашевский. В переводе на русский язык — это польские фашисты. Они не без основания считали скорее Москву виновницей событий сентября 1939 года, нежели Гитлера. «Москалей», так они нас называли, ненавидели не меньше, чем немцев, говоря:
— Не потерпим ни русского сапога, ни немецкого кнута на польской земле. — А так же:
— Подождите, русские, скоро мы с американцами будем воевать против вас.
В то время мы считали их своими кровными врагами, как и они нас. Это создавало дополнительные трудности для обеих сторон, но о дружбе не могло быть и речи. Тогда мы и не пытались понять поляков, находясь под влиянием юношеского максимализма. Сейчас я по-другому подхожу к этому вопросу. За что им было нас любить? Царская Россия многие годы властвовала в Польше. Затем новая Россия провозгласила борьбу за мировую революцию, которая зажиточным слоям польского общества, особенно кастовым офицерским династиям, совершенно не нужна, а в дальнейшем — и простому люду. Ленин с кровавым Тухачевским пытались завоевать Варшаву. Сталин вечно угрожал Польше, и в Катынском лесу по его приказу были расстреляны военнопленные польские офицеры. Всего не перечислить.
В Гузене поговаривали, что в 1941–1942 годах польская офицерская лига по своей инициативе участвовала в акциях по выявлению и уничтожению нашего командного состава, иными словами, они не просто косвенно помогали службе СС, но и осуществляли при этом свои националистические мечты и желания — пусть поменьше останется активных «москалей», особенно коммунистов. Так было, замалчивать ни к чему — настоящая интернациональная дружба двух братских народов от этого не пострадает.
Со второй половины 1943 года польская лига действовала более скрытно. Эсэсовцы понимали, что по большому счету польские офицеры являются им врагами, но терпели их за то, что те стояли на тех же непримиримых позициях по отношению к советским людям, что и немецкие фашисты.
От националистически настроенных поляков мы страдали на каждом шагу, а иногда опасались их больше, чем эсэсовцев. Почему? Да эсэсовцы в лагере и близко к нам не подойдут, боясь заразиться. Немцы-уголовники тоже не так опасны в том смысле, что русским языком не владеют, а поляки всегда рядом с нами — на работе, в штубе, в лагере, и язык наш очень многие знают, особенно когда им это выгодно. В результате нечаянно оброненное нашим неискушенным товарищем слово могло ввести поляка-«мусульманина» в искушение «заработать себе на жизнь» за счет неосторожного в высказываниях москаля. Такие случаи были, и все это в какой-то мере являлось следствием той пропагандистской кампании, которую проводили члены офицерской лиги среди соотечественников, не определившихся еще в своих политических и классовых убеждениях.
И на ревире шла повседневная, глухая, скрытая от глаз, жестокая борьба между москалями и «пилсудчиками», как мы их тогда по молодости окрестили. Что было — то было, но с конца 1943 года полякам становилось все сложнее действовать против русских, которых начал внедрять в персонал ревира другой, коммунистический подпольный комитет, главной целью которого было именно русских спасать от уничтожения. Так одновременно существовали в Гузене два подпольных комитета разной полярности — коммунистический и националистический. В этом была трагедия Гузена, что проявилось даже в день освобождения.
Альберт Кайнц рассказывал мне историю образования комитета немецкими и австрийскими коммунистами. В 1941–1942 годах в Гузене образовалось несколько групп взаимопомощи. В них объединились немцы и австрийцы с красным винкелем. Категорию «красных» немцев составляли отнюдь не только коммунисты. Очень многие из них были арестованы гестапо либо по подозрению в сочувствии или в помощи коммунистам, либо за неосторожные высказывания подобно случаю с чехом, повстречавшимся мне в приемной гестапо в Цнайме. Ну какой он коммунист? Всего «красных» немцев и австрийцев на 1 января 1942 года в Гузене было 80 человек, из них коммунистов — не более 10 человек.
Первичной задачей образовавшихся групп было сплотить своих людей, не дать им потерять волю к жизни, помочь друг другу выстоять в условиях концлагеря. Все те из них, с кем меня свела судьба, выжили только благодаря организованной ими взаимопомощи и товарищеской выручке. В начале 1943 года группы объединились в комитет, посчитав, что пришло время начать активные действия по спасению русских.
Помню, Альберт Кайнц и Эмиль Зоммер с восхищением отзывались о наших военнопленных — бойцах и командирах, с которыми им впервые пришлось столкнуться лицом к лицу, и они смогли по достоинству оценить их качества, так необходимые для подпольной работы, словно сама жизнь издавна готовила нас к этому. Особо немецкие товарищи отмечали профессионализм, идейную убежденность и непримиримость к фашизму, выдержку и дисциплину, которые были характерны для большинства русских, а также их бесстрашие, умение и желание рисковать, когда это необходимо, упорство в выполнении решений организации и чувство долга.
Мы с Шиловым не возражали — это было действительно так: наши командиры в любых условиях оставались на высоте. Впоследствии русские вошли в работу комитета, что позволило спасти немало жизней. Члены нашего коммунистического комитета отличались товарищеским, доброжелательным отношением к любому заключенному, своей порядочностью, и в этом тоже была своя сила.
С комитетом тесно были связаны небольшие группы чехов, французов и бельгийцев — они регулярно получали от комитета новости с фронта и передавали их соотечественникам.
Понятно, что с польской организацией взаимодействие так и не установилось — был худой мир вместо доброй ссоры. Даже те из поляков, кто был готов к участию в работе интернационального комитета, так и оставались вне его, опасаясь мести со стороны «Акции войсковой». Последняя была сильнее комитета своей фанатичной жестокостью по отношению даже к своим — черты, присущие националистам вообще.
Что касается испанцев, то о них тяжело вспоминать. Испанцы в лагере пережили тяжелейшую моральную травму — они на фронтах в Испании не несли таких потерь, как в Гузене. Так, на 1 января 1942 года испанцев в лагере насчитывалось 3846, а на 31 января 1944 года осталось 440! За этот же период всего в лагере погибло 13 230 человек, в том числе 3406 испанцев. Они умирали от холода, голода и каторжного труда. Выжили те, кто зацепились в престижных рабочих командах и командах «под крышей». Им теперь ничто не угрожало, поэтому особой необходимости в дальнейшем существовании групп взаимопомощи не было, и те, что еще оставались, постепенно распадались.
В результате понесенных потерь испанцы замкнулись в себе, стали крайне осмотрительны даже в общении между собой, соблюдали максимальную конспирацию, не подчеркивая никогда на людях свою спайку и сплоченность. Все это было глубоко запрятано, и выдавали только глаза, умные и добрые, особенно внимательные ко всяким лагерным неожиданностям, смотревшие из-под густых бровей, ни на секунду не теряя бдительности. Но можно смело утверждать: когда в лагере оказывались рядом испанец и русский, то за версту было видно, что это братья. Ни к кому не испытывали большей симпатии испанцы, чем к русским. Они не могли вычеркнуть из своей памяти наших добровольцев в Испании — в кавычках и без кавычек — и то, как вся советская страна переживала в те годы боль и трагедию республиканской Испании. Мы отвечали испанцам тем же.
Для общего взаимодействия и получения сводок с фронта представители испанского землячества находились при комитете, но всю работу вели крайне скрытно и осторожно, наученные горьким опытом. У испанцев была своя трудность — сказывался языковой барьер. Русские могли общаться со всеми славянскими народами, многие из нас за два года плена кое-что понимали по-немецки, а испанцам труднее находить с кем-либо общий язык. Еще с французами у них кое-что получалось, но тех было всего около 200 человек, и они активной роли в лагерном сопротивлении не играли, удержавшись в основном в престижных командах.
Гузен небольшой по площади лагерь и довольно ухоженный: его территория не была захламлена разными заборами, свалками и прочими укромными местами, создаваемыми незаконченным строительством. Таких мест в Гузене не было — все узники на виду друг у друга и на глазах сторожевых постов. Проводить в лагере собрания, летучки, сборы и тому подобное до конца 1944 года было невозможно и всегда связано с неоправданным риском — «зеленые» немцы сновали на каждом шагу и от них нигде не укрыться, тем более что лагерные правила не разрешали собираться свыше двух, как и шептаться между собой. Безусловно, комендатура должна была иметь в лагере агентурную сеть, но я с этим не сталкивался, и случаи провалов мне не известны — в любом случае я бы о них знал. И вот таким местом, где чуть вольготней было дышать, оказался ревир, в руководстве которого оказались два ведущих членов комитета, два стойких коммуниста — Зоммер и Кайнц, а «зеленых» не было, если не считать пфертнера и Карла Кефербека. Это и определило роль ревира как места, где можно собираться, обсуждать, делиться новостями, принимать решения. Все это делалось с оглядкой на польскую офицерскую игу, которая к концу 1943 года заметно снизила свою агрессивность по отношению как к немецким коммунистам, так и к советским военнопленным.
Второй, дублирующий центр сопротивления сложился вокруг Штрейта (я о нем упоминал выше) и объединял живших в лагерных блоках «красных» немцев и австрийцев, бельгийцев и французов. Связь с русскими Штрейт имел только на уровне личных контактов. К нам в ревир Штрейт захаживал часто, но лишь со второй половины 1944 года, а до этого он не рисковал ни собой, ни товарищами.
И еще удивительное явление, о котором не могу умолчать. Жизнь в лагере до 1943 года протекала спокойно и размеренно строго — все ходили «по ниточке», работали, умирали, как это было предписано службой СС. По окончании рабочего дня узники держались возле своих блоков, ходить по лагерю без команды на то — не разрешалось. Но когда во второй половине 1943 года Гузен заполонили русские, они разрушили устоявшийся порядок лагерной жизни. Русские оказались непоседами — они сновали по всему лагерю, искали пропитание, лишние тряпки для одежды, окурки. Им обязательно надо было отыскивать земляков, однополчан, старых друзей.
За русскими лагерной номенклатуре просто не уследить. Они, не сговариваясь между собой, игнорировали лагерные правила, образовывали «толкучки», где шел оживленный натуральный обмен. Но главным оказалось то, что в результате за русскими невозможно было установить постоянное наблюдение — они встречались, снова расходились, схватывались за грудки в случае несовпадения идейных позиций, образовывали группы буквально на ходу, ломая все лагерные традиции. Все это принесло колоссальный положительный эффект, и к русским перестали прислушиваться и присматриваться — русские есть русские! Это было на руку, приближался 1944 год.
Вернемся к Адаму Конечному. Безусловно, он ярый националист и играл далеко не последнюю роль в «Акции войсковой». У нас с ним в 1944 году было много конфликтов, и он не раз попытался уничтожить меня «легальным» способом. А ликвидировать меня нелегально он уже не мог: опасно, не то время, да и сам загремишь — все наблюдают друг за другом, от глаз не скроешься. На ревире жизнь и взаимоотношения работающих был и у всех на виду.
Альберт Кайнц не мог делать замечаний Адаму Конечному, чтобы тот лояльней относился ко мне. Блоковый хотел, но не мог, прекрасно понимая, сколь сильней организационно в Гузене польская офицерская лига — она значительней и весомей немногочисленного антифашистского комитета.
Борьба продолжалась с переменным успехом. Адам — мало разговорчивый человек, грустил о доме, о семье, ждал конца войны и мечтал после поражения Германии воевать на стороне американцев против Советского Союза. Об этом грезили все националистически настроенные поляки. Возвращаться после войны в народную Польшу, а тем паче — в социалистическую они не собирались и после 1945 года действительно рассеялись по всему свету от Канады до Австралии.
Присутствие на блоке 29 Адама Конечного невероятно затрудняло мои действия, направленные на организацию систематической помощи русским в ревире и в лагере. Адам мешал мне до конца лагеря. Но два его коллеги по блоку — младший медперсонал — относились ко мне намного либеральней, чем он.
Примеряясь к ним, я находил, что какое-то медицинское образование они имели. И конечно, они являлись земляками Адама по Познани. Начну с санитара штубы В. Это Мечислав Лисецкий — неразговорчивый, незлобивый человек, уравновешенный, вполне культурный, насколько это возможно в условиях концлагеря. Вероятней всего — недоучившийся студент, мобилизованный в 1939 году. По работе я с ним не сталкивался, разговаривали редко: мы работали на разных штубах и никакого отношения друг к другу не имели. Словесных или других стычек у меня с ним никогда не было.
Санитаром на штубе А — Юзек Сабуда, симпатичный парень, хорошо и ровно относившийся ко всем нам, а также к больным. Сам — аккуратный, спокойный. После войны он вернется на родину, а не отправится «в бега» по всему свету, как многие его сородичи. Он ведал лечебным процессом на штубе, в нужное время и безропотно помогал вылечивать русских на блоке, а потом и в лагере.
Еще в блоке 29 работали в рейнигерах, как и я, два испанца. На штубе В трудился Рио Пабло де Марото, из Мадрида, бывший капитан республиканской армии. В 1939 году, отступая во Францию, мужественные солдаты молодой республики оказались сначала интернированными в специальных лагерях французским правительством, а после оккупации Франции в 1940 году очутились в нацистских концлагерях Германии. Как уже было сказано, испанцы содержались только в Маутхаузене и Гузене, как наиболее жестоких концлагерях.
Рио был немолодым, эрудированным, решительным человеком, ходил быстро и немного сутулился, а глаза у него умные, проницательные, с хитринкой. С ним у меня установились самые теплые, дружеские отношения. Каждый найденный окурок выкуривался совместно. Рио очень ответственно относился к своей работе. Его ни в чем нельзя упрекнуть, он исключительно относился ко всем больным, стараясь помочь каждому. Мне он выдал много полезных советов, как держать себя с каждым из работавших на блоке поляков, он же дал и исчерпывающую характеристику каждому из них. Он понимал, что я не случайно попал на блок 29, а тоже «командирован» комитетом, как когда-то и он сам.
Второй испанец — Франциско Фернандес из Барселоны, солдат-республиканец. Он моложе Рио, немного попроще и погрубее, но тоже очень добрый и верный, как большинство испанцев. «Недобрые» испанцы, наверное, только в легионах пресловутой «Голубой дивизии», воевавшей на стороне Германии, но мне с ними на дорогах плена, к счастью, встречаться не приходилось.
До моего появления Франциско был рейнигером на штубе А. Поскольку я вошел в состав персонала сверх штата, то невольно занял его место. Тогда Франциско перевели работать рейнигером помещений для персонала. Кроме того, он ходил с нами за котлами с пищей, развозил по штубам А и В столик на колесиках с мисками для больных, раздавал пищу, собирал миски после еды и мыл их. Все это составляло круг его обязанностей. Еду по мискам разливал только сам Альберт, стараясь при том не обделить никого из больных.
С Франциско, как и с Рио, я дружил до последнего дня и лучших товарищей, нежели испанские республиканцы, не желал бы. Каждодневно мы так и держались: трое поляков обособленно и мы — четверо. Общего между нашими группами никогда не было. У нас, четверых, одни интересы, а у них — другие. Но открытой конфронтации не было — такую роскошь никто позволить себе не мог, это не умно и опасно для общего дела.
Спали мы следующим образом. В том помещении, вход в которое со стороны моей штубы А, располагались: на правых нарах — внизу Альберт, над ним Сабуда; на левых нарах — внизу Конечный, над ним Лисецкий. Во втором помещении, вход в которое со стороны штубы В, располагались рейнигеры — на правых нарах внизу Рио, над ним я; на левых нарах внизу Франциско, а место над ним оставалось свободным.
У Рио над кроватью висела на стене фотография жены и дочурки. Кажется, я чаще, чем Рио, любовался фотографией: такими милыми, очаровательными выглядели лица этих двух испанок, оставшихся во Франции, в лагерях, а путь на родину, в Испанию, для них был заказан до тех пор, пока у власти генерал Франко. Конечно, я не один раз показывал Рио хранившуюся у меня фотографию Ниночки, которая должна стать моей женой, и чувства, переполнявшие нас при этом, объединяли и сближали — мы хорошо понимали друг друга.
Таким образом, персонал блока 29 оказался на редкость дружным и сплоченным. Даже Адам Конечный практически не мог мне серьезно навредить, поскольку видел и чувствовал, что большинство персонала его не только не поддерживает, но и осуждает. Юзек и Метек очень тонко вели свою линию — ни вашим, ни нашим. Они не обостряли отношений со своим непосредственным начальником, Адамом, но и не желали делать нас, четверых, своими врагами. В условиях концлагеря словом «враг» не бросались — это опасно!
С коллективом мне повезло, а уж доктору Веттеру я во второй раз на глаза не попадался.
Во второй половине 1943 года, пока не попал в ревир, я постепенно превращался в «мусульманина» не только в физическом, но и в духовном плане. Но, придя на блок 29, я стал снова превращаться в человека. Альберт почти ежедневно приносил из лагеря свежие данные, услышанные по радио, а также и газеты. На блоке 29 я пригодился персоналу еще для одного полезного дела — мои географические познания о собственной стране очень помогали всем в осмыслении сводок с фронта, особенно в части «выравнивания» линии фронта. Я схематично изображал на клочках бумаги положение тех или иных городов и рек, упоминавшихся в сводках, другими словами, стал неизменным консультантом по всем вопросам, связанным с Россией. Мой старый опыт и здесь пригодился. Как ни смешно, но Адам Конечный на первых порах весьма активно и с явным удовольствием участвовал в наших «оперативках». Никуда не денешься — его судьба, как и наша, всецело зависела от успехов Красной армии, а вторым фронтом по-прежнему и не пахло!
Скоро мы сумели обзавестись и небольшой картой. Теперь я вновь мог снабжать своих друзей в лагере свежими и близкими к правде новостями, а не слухами. Сводки с фронта вселяли гордость за армию и надежды на избавление. Немцы потерпели поражение на Курской дуге; были освобождены в августе Харьков, в сентябре — Смоленск, в ноябре — Киев и Гомель.
В Италии свергли Муссолини. Англичане высадились на юге Италии и продвигаются на север страны. Маршал Бадольо, заменивший Муссолини, вынужден подписать перемирие с союзниками. Тогда немцы сумели выкрасть Муссолини, оккупировали всю северную Италию и начали повсеместно разоружать итальянские части и отправлять своих бывших союзников по агрессии по концлагерям. Наш Гузен не был исключением, итальянцев привозили и к нам. Этот веселый и шумный южный народ оказался настолько неприспособленным для существования в скотских условиях концлагеря, что лишь малая часть итальянцев дожила до освобождения. Они массами гибли от дистрофии, холода, плохой пищи, фурункулеза. Многие из оставшихся в живых в зиму 1944/45 года были зверски уничтожены в газовых камерах в марте-апреле 1945 года, перед самым освобождением. К тому времени они стали полными инвалидами и являлись страшным свидетельством преступлений нацизма, поэтому эсэсовское командование не могло допустить, чтобы до веденных до такого состояния узников увидел цивилизованный мир.
Рассказывая о положении различных национальностей в лагере, следует уточнить и «еврейский вопрос». В течение 1943 года при мне в Гузен приходили транспорты с лицами еврейской национальности из Венгрии. Их опознавали по одежде, на которую нашивались две красно-желтые шестиконечные сионистские звезды. Но это только в том случае, если они не подлежали немедленному уничтожению. Евреи также не выдерживали лагерных условий. Ночью многие из них бросались на колючую проволоку, находившуюся под напряжением, а утром лагеркоманда с трудом отдирала от нее их почерневшие и скрюченные тела. Картина страшная и зловещая. Вообще положение заключенных еврейской национальности — граждан Польши, Венгрии, Австрии, Германии и других стран — в Маутхаузене и его филиалах характеризует, к примеру, такой факт: «15 августа 1943 года житель Вены заключенный Иозеф Херцлер, еврей, лагерный № 13 500, переведен из концлагеря Маутхаузен в концлагерь Аушвиц. Он один из трех заключенных еврейской национальности, которые пережили период с 1939 по январь 1944 года и дождались освобождения в 1945 году» (Еврейские заключенные в концлагере Маутхаузен. Некоторые данные и цифры /Сост. Ганс Маршалек. Вена, 1970). Этот документ красноречиво свидетельствует о плачевном положении несчастных людей, которые, будучи доставлены в лагерь, погибали, как правило, очень быстро.
В 1941–1942 годах евреи, как и советские военнопленные, сполна испытали тяжелейшие условия Гузена. До зимы 1943/44 года число евреев в лагере было невелико, так как они погибали в первые недели и даже дни. Их специально включали в состав штрафных команд и ставили на такие работы, как очистка выгребных ям, транспортировка фекалий и тому подобное. За время с 1940 года по зиму 1943/44 года в Гузене не осталось ни одного еврея. Также не было ни одного способа уничтожения заключенных, который не использовался бы по отношению к евреям: их травили газом, душили, топили, задавливали, отравляли, забивали камнями, загоняли на проволоку под напряжением, расстреливали «за попытку к бегству», убивали инъекцией в сердце и многое другое…
До зимы 1942/43 года Гузен служил исключительно олицетворением нацистского террора, местом массового варварского уничтожения заключенных по приговору: «Уничтожение через работу. Возвращение не желательно». Но за зиму 1941 года и весь 1942 год потери на Восточном фронте, вызвавшие дополнительную мобилизацию в войска, резко сократили число немцев, занятых в промышленности. Массовых пленений русских не стало, да и в городах оккупированной Европы стало некого хватать на улицах. (Но хватать ни за что продолжали и привозили в концлагеря в качестве дешевой рабочей силы, а также с целью истребления интеллигенции славянских народов.) Так возникла необходимость использовать узников концлагерей для нужд оборонных отраслей, и наметилась тенденция к постепенному превращению концентрационных лагерей в «рабочие». По лагерям спустили директиву об изменении структуры лагерей с 20 апреля 1942 года, а для Маутхаузена и Гузена — с зимы 1942/43 года.
Но слишком громоздкий эсэсовский аппарат был задействован в конвейере смерти, и его нельзя было остановить. Пока не наметился коренной перелом на Восточном фронте, директива оставалась на бумаге — психологию господ жизни и смерти в одночасье не изменить, и экзекуция в июле 1943 года над русскими — тому подтверждение. Только после разгрома на Курской дуге нацистское руководство стало впервые задумываться о возможности военного поражения Германии. Вот тогда уже серьезно встал на повестку дня вопрос о постепенном изменении структуры Гузена, но робкие шаги в этом направлении будут сделаны только в 1944 году. И все равно до самых последних дней лагеря будут производиться массовые акции по уничтожению инвалидов, больных и обессилевших узников газом, а также вечно будет висеть над лагерем угроза единовременного уничтожения всех узников. Скрыть следы преступлений эсэсовцы пытались до последнего часа.
1944 год. На ревире
Начался 1944 год, а я был все еще жив.
Интересно проанализировать национальный состав заключенных Гузена на 31 января 1944 года: поляки — 4268; русские — 1104; немцы и австрийцы — 685; испанцы — 440; югославы — 383; французы — 211; чехи — 118; цыгане разных стран — 69; бельгийцы — 56; греки — 7; итальянцы — 6; голландцы — 1; люксембуржцы — 1; хорваты — 1; прочие — 7. Всего 7357 человек. Как видно, наибольшие по численности группы по-прежнему — поляки и русские. При этом следует помнить, что июльская экзекуция 1943 года над русскими унесла около 1500 жизней.
Несмотря на второе место по численности, только единицы из нас смогли разными путями получить престижные должности — в мастерских, на вещевых складах, в ревире. Соотношение по национальному составу в престижных командах никогда не было в пользу русских. На этом фоне национальный состав персонала блока 29 ревира выглядел неплохо: австрийцев — 1, поляков — 3, испанцев — 2, русских — 1, но подобные случаи крайне редки. Только в двух командах Баулейтунга коммунисты Жорж и Герберт продолжали спасать русских от каменоломни…
За январь я втянулся в новую работу, выполнял ее добросовестно, свободного времени почти не имел. Дни потекли однообразно.
Наибольший интерес представлял для меня шкаф с лекарствами, что стоял в штубе и находился в ведении Сабуды. Несколько дней я присматривался и к Юзеку, и к шкафу, но Юзек всегда предусмотрительно не оставлял шкаф открытым. Мне же был необходим доступ к лекарствам. Пришлось начать дипломатические переговоры, которые вначале оказались безуспешными. Помог случай. Нам стало известно, что 1 января 1944 года по инициативе Польской рабочей партии, председателем которой был Болеслав Берут, образовалась «Крайова рада народова» в качестве высшего представительного органа демократических сил Польши. Она приступила к созданию своих вооруженных сил — «Армии людовой» в противовес «Армии крайовой», действовавшей на территории оккупированной Польши только по указанию эмигрантского правительства из Лондона. Так, между демократическими и реакционными силами все более обострялась борьба за будущее Польши.
Поляки в лагере восприняли это сообщение неоднозначно: офицерская лига неистовствовала, но большинство поляков отнеслись сдержанно, а «мусульмане», как всегда, — индифферентно. Юзек и Метек эту весть восприняли спокойно, казалось, они «себе на уме» — Адаму в открытую не перечили, но и не было видно, чтобы слишком поддерживали его.
Наконец Юзек, поборов страх перед Адамом, «раскошелился»: выдал мне по моей просьбе некоторые лекарства и простейшие перевязочные средства. Я их тут же распихал по карманам и в первый вечер переправил на лагерь. Маленькая деталь: при выходе из ворот ревира не должны карманы отдуваться, а шаг — казаться поспешным. В противном случае это может привлечь внимание неусыпного стража ворот, пфертнера, и тогда… Мы так и не знали, кто он.
Время от времени Юзек выдавал мне из шкафа то, что я просил — колебался, но выдавал.
Время шло. Красная армия вышла на реку Прут, были освобождены Севастополь и Одесса. На радостях Эмиль Зоммер проявил неожиданную инициативу, распорядившись в воскресенье провести на блоке 27 медицинское обслуживание заключенных, которых об этом заранее известили. Это было смелым и внеплановым мероприятием. К нему привлекли весь медперсонал ревира и меня, как «студента-медика». Я не растерялся и на ходу усвоил элементарные приемы врачевания. С армейской службы я вынес определенные знания, как оказывать первую медицинскую помощь и в том числе как делать перевязки.
Люди из лагеря шли непрерывно. Почти у каждого заключенного были очаги фурункулеза разной сложности, глубокие гнойники и язвы, кровоточащие ссадины. От этого «букета» я и сам не так давно избавился.
В качестве препаратов применялись «зеленка», ихтиоловая мазь, йод, порошковый дерматол и другие лекарства. Перевязывали бумажными бинтами. Раны обмывали специальным раствором, имевшим дезинфицирующие свойства. Самые тяжелые раны и язвы, как всегда, у французов и итальянцев — они смотрели на нас как дети, с мольбой.
Мое рабочее место было рядом с Юзеком. Он помогал советами и успевал пристально наблюдать за мной. Он видел, как я стараюсь не уронить марку блока 29, самого престижного на ревире. Юзек остался мной доволен: «А ты не только пол хорошо драишь, но и перевязывать можешь. Пся крев, холера ясна!» После этого его отношение ко мне резко изменилось.
Так, случайно я приобрел еще одного друга, по натуре более сложного, чем испанцы, но необходимого и доброго.
Впоследствии, помогая набивать мои карманы лекарствами, Юзек показывал глазами на лежащих в штубе больных и с тоской в голосе умолял меня забирать не все, а оставить что-нибудь и для них. Вопрос с лекарствами с повестки дня был снят.
К тому времени я мог беспрепятственно выходить в лагерь: запреты отменены, обычные строгости в части поведения смягчились.
Но, как и раньше, практически только у меня одного то и дело возникала необходимость выходить в лагерь. Это могло настораживать: что за дела у меня? Не пора ли мной заняться? Но заняться было некому. Доктор Веттер бывал теперь все реже, как будто понимал, что его время кончается. Пфертнер по-прежнему все видел и знал, но молчал. Мои наблюдения за обстановкой в блоке и ревире в целом гасили возникавшие временами тревоги.
После разрешения проблемы с лекарствами назрела новая — часть больных, которые лежал и с температурой, а также желудочные больные не съедали в обед свою миску супа. Не пропадать же еде! Я установил индивидуальные контакты с больными, объяснил ситуацию, и очень скоро они сами подзывали меня и говорили:
— Дима, возьми — я сегодня не буду…
Я благодарил, накрывал миски специально заготовленными картонками и прятал в ногах под тюфяками до темноты. Когда лагерь возвращался с работы, я быстренько сообщал своим, сколько мисок приготовил.
С темнотой проводилась наиболее ответственная часть операции: надо было по снегу на животе подползти с миской в руках к проволоке, ограждавшей ревир со стороны наружной стены; просунуть миску через маленький подкоп в снегу под проволоку, а в лагере такой же пластун переливал суп в свою миску, и мы расползались. Сколько мисок — столько и передач. В лагере миски алюминиевые, а в ревире белые, керамические — обмениваться нельзя.
Как я не маскировал свои действия, Адам меня сумел «вычислить», в то время как Альберта, Юзека и Франциско я не стеснялся. Кончилось тем, что Адам важно прошагал в конец штубы, рванул пару тюфяков, обнажил стоявшие там миски и разорался. Несколько мисок он сбросил на пол, демонстрируя, кто здесь хозяин. Удовлетворившись произведенным эффектом, он также важно удалился, предупредив, что в следующий раз это дело так не оставит. Это происходило где-то в феврале. На некоторое время я прекратил вечерние передачи, заменив их переливанием супа в жестяные консервные банки, которые выносил в лагерь в темное время суток. Так было и безопасней, поскольку копошиться возле проволоки приходилось практически под дулом пулемета. Полагаю, часовые считали, что номенклатура блока продает суп на сигареты, а ей разрешалось все.
Наши продолжали наступать по всему фронту, и Адам немного присмирел, задумав новые козни, о чем никто и не догадывался.
По старой привычке я заскакивал к Люсьену, узнавал о транспортах и передавал ему свои новости.
К Альберту часто захаживал Рихард Понграц из Нюрнберга. Он «зеленый», но ничего предосудительного в нем я не находил. Мы с ним тоже подолгу дружески беседовали. Каждый узник являлся источником информации, хотя бы по какому-то отдельному блоку, и я использовал любую возможность ее получить. К сожалению, через две недели после освобождения Рихард умер: у многих в организме шли необратимые процессы, и радость свободы помочь не могла.
А к полякам ходил в гости профессор Франц Адаманис. Когда ему надоедало беседовать со своими сверхполитизированными земляками из Познани, он шел ко мне. Адаманис хорошо говорил по-русски, до войны нередко посещал Москву. У каждого из нас всегда было чем поделиться с товарищем, мысли и желания которого совпадают с твоими. Интересным собеседником и человеком показался мне этот профессор. Он признался, что к полякам заглядывает только для видимости, а на самом деле приходит поговорить со мной.
Любопытный факт — в упомянутой выше брошюре «Концлагерь Гузен» на странице 13 приведена фотокопия письма Адаманиса жене Янине: «Гузен, сентябрь 1942 года. Моя дорогая. У меня все в порядке. Я здоров». Большего сообщать не разрешалось. Кстати, право переписываться с родными и получать посылки из дома имели немцы, поляки, французы и чехи.
Но я только несколько раз видел в бытность на блоке 20, как получали посылки поляки, сетуя, что все уже разворовано. Было хорошо известно, что все стоящее остается в лагерной канцелярии.
Весной через Люсьена я нашел Михаила Васильевича Киселева, военинженера 3-го ранга, ленинградца, жившего до войны в Дзержинском районе. Я свел его с Петей Шестаковым, регулярно встречался с ним, помогал ему. Киселев, как и вся группа Пети, был какое-то время в числе «пластунов».
Комитет сумел внедрить на блок 30 сразу двух русских — врача Михаила Кужелева и рейнигера Володю, его звали «Малером», то есть художником. На очереди стоял Николай Лисовский, ленинградец, но для него пока не было места.
Опять напомнил о своем существовании Адам, отдав распоряжение мне и Коле Белкову с блока 31 пройти рентгеновское обследование на предмет выявления у нас ТБЦ. Пришлось сделать снимки. Они показали наличие у меня двух каверн в легких, а у Коли положение было и того хуже. Адам немедленно поставил вопрос о ликвидации нас обоих, чтобы избежать заражения чахоткой других. Но время было упущено, шел 1944 год, немцы отступали, Адам опоздал — Эмиль Зоммер и Альберт Кайнц предупредили его, чтобы не дурил: все хорошо в свое время. Адам был вынужден согласиться, а мы с Колей и на этот раз остались жить.
У меня после войны каверны затянулись, но Коле Белкову не повезло. Году в 1947 я получил известие из Великих Лук от его сестры, что Коля скончался от туберкулеза — более чем трехлетняя работа в туберкулезном блоке 31 не осталась для него без последствий.
А рентгеновскому снимку я нашел достойное применение: разрезал его на части и наклеил на них дорогие мне фотографии Ниночки — те самые, что терял в Румынии, а нашел в Австрии. Наклеенные на плотную фотобумагу рентгеновского снимка, они так и покоятся в семейном фотоальбоме как напоминание о коварных замыслах Адама…
Вскоре наш лагерь стал именоваться Гузен-1, поскольку 9 марта 1944 года поблизости от старого Гузена в местечке Санкт-Георген был открыт дочерний лагерь Гузен-2. К моменту освобождения Красной армией в нем будет более 10 000 узников.
Также весной между «Штейнбрух-Кастенхофен» и Санкт-Георген начали строительство штолен: туннели рыли длиной 7 километров, шириной 8 метров, высотой 15 метров, ширина входа составляла 3 метра. При их сооружении погибло много заключенных. В штольнях должны были разместиться и найти убежище от воздушных налетов предприятия по производству деталей вооружения фирм «Штейер», «Мессершмидт АГ» и других. Несмотря на то что при строительстве штолен задействовали огромное количество узников, техническое оснащение будущих производств оказалось бедным — германская экономика уже задыхалась от нехватки всего: ресурсов, денег, квалифицированных кадров. В результате первую промышленную продукцию штольни выдали только в конце 1944 года, и то в одном туннеле № 1.
В остальных до конца войны получить в законченном виде промышленную продукцию так и не удалось.
В связи с возникновением лагеря Гузен-2 Николая Шилова повысили в должности: Эмиль Зоммер направил его туда для организации ревира и назначил капо ревира. Мы не радовались этому, ибо слово «капо» в любом концлагере обагрено кровью узников и вызывало отвращение.
Для Коли Шилова это слово никак не подходило, и у всех вызвало протест.
Но изменить название должности Эмиль права не имел, а комитету на этом посту необходим был свой человек. Поэтому все смирились, вспомнив с особой теплотой о двух «красных» капо, Жорже и Герберте, и порадовавшись, что к ним прибавится третий.
Наконец, Альберт принес долгожданную весть: 6 июня западные союзники высадились в Нормандии — пресловутый второй фронт открыт! Помню, как сейчас, знакомую газету «Народный обозреватель», на первой странице которой крупным шрифтом стояли слова: «Zweite Westfront hat begonnen!»[62]
На первый взгляд выглядело странным, что немцы как бы сами рекламировали эту акцию союзников. Но газета не немецкая, а австрийская, и, кроме того, в Германии уже ширились сепаратистские настроения. Верхушка вермахта и промышленники все меньше ставили на Гитлера и его сподвижников по национал-социалистической партии и все больше надеялись на возможность сепаратного мира с западными союзниками, но с продолжением боев на Восточном фронте. Мы прекрасно это знали. Этот заголовок в газете так и дышал радостью, подавая читателям тайную пока надежду: «Союзники высадились! Ура! Скоро мы с ними побратаемся! Хватит убивать друг друга в угоду Сталину!» А что касается союзников, то нашему брату никогда не требовалось специально разъяснять политику стран «западной демократии», мы с детства были «сами с усами». Горячо стало союзничкам — в Берлин могут опоздать! Выжидали аж с 1941 года, выгадывая на крови русских солдат и офицеров. Теперь, под занавес, придется и самим повоевать, благо потом смогут говорить, что победно закончили войну. Большая политика всегда была грязным делом, никак ее не отмоешь — хоть свою, хоть чужую.
Настроения генералитета Германии, не совпадающие больше с планами фюрера, в конечном счете привели к покушению на Гитлера. Это случилось 20 июля, но вождь не пострадал и жестоко расправился с заговорщиками. Он всегда недолюбливал напыщенную прусскую военщину, свой собственный генералитет, списывая на них все неудачи на фронте в каждом удобном случае. Следствие длилось недолго, было уничтожено много военных. Все обвиняемые вышвырнуты из рядов вермахта и предстали не перед судом военного трибунала, как полагалось, а перед «народным трибуналом» как гражданские лица. Председателем такого «Суда чести» назначен фельдмаршал фон Рунштедт, а заседателями — фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Гудериан и другие. В результате повешены граф фон Штауффенберг, подложивший взрывное устройство, генерал-майор фон Тресков, фон Зейдлиц, фон Вартенбург, фон Мольтке, фон Кляйст — достаточно известные фамилии. Моему старому «знакомому», фельдмаршалу Роммелю, в африканском корпусе которого мне когда-то предложили служить, Гитлер предложил застрелиться или предстать перед судом за измену. В первом случае гарантировалась безопасность семьи, государственные похороны и все воинские почести. Именно этот конец Роммель и предпочел[63], Гитлера не устраивал эффект ареста самого популярного из всех военачальников страны.
Нацисты расправились с заговорщиками беспощадно. Я в те дни имел возможность читать ежедневные газеты с изложением хода судебного процесса, и они мне кое-что напомнили. Как и в юности, я запоем читал наши центральные газеты, которые широко освещали гремевшие в те годы судебные процессы над Радеком, Пятаковым, Серебряковым, многими другими известными деятелями партии, возмущаясь их предательством. Я жадно вчитывался во все вопросы к подсудимым и в их ответы. Излишне напоминать, что я верил каждой строчке.
Знакомясь с материалами судебных процессов после покушения на Гитлера, мы с Альбертом обратили внимание на те места в речах обвинителей, где ставили в вину арестованным офицерам и генералам, что они якобы планировали открыть все нацистские лагеря в Германии — концлагеря, лагеря военнопленных и рабочие лагеря — и использовать эту массу обозленных и доведенных до отчаяния людей для свержения гитлеровского режима с ненавистными всем службами СС, СА, СД и гестапо. Читать об этом было приятно, но мы сознавали, что это ложь и утопия и не могло осуществиться: весьма сомнительным казался даже кратковременный союз советских людей и германского вермахта. Мы этому не поверили, а поляки схватились за поданную надежду: они верили и хотели верить всему, что отвечало их интересам.
В Гузене день 20 июля прошел спокойно. Никаких акций ни со стороны СС, ни с нашей не было. Только пополудни эсэсовцы прокатились взад-вперед по лагерю на мотоцикле с коляской и ручным пулеметом для устрашения, так, на всякий случай. В тот момент они еще сами не знали, чем все кончится в Берлине. Против узников они никаких санкций не предпринимали и укатили восвояси.
Лагерь бурлил, обсуждая события, чувствуя приближение конца войны.
А тут полякам был нанесен новый удар: 21 июля образовался «Польский комитет национального освобождения», который принял манифест и объявил эмигрантское правительство в Лондоне незаконным. Это вызвало яростную злобу как в правящих польских кругах Лондона, так и в националистической верхушке офицерской лиги в Гузене. Поляки в массе всецело поддерживали планы эмигрантского правительства: захватить Варшаву в свои руки до прихода Красной армии и не позволить установить в Польше ненавистный им народно-демократический строй, читай — сталинскую диктатуру. Об этом говорилось в открытую, и никого из нас не удивляло.
Поляки в Лондоне, далекие от своей родины, спровоцировали Варшавское восстание, начатое 1 августа Армией крайовой. Оно было неподготовленным и осуществлялось не только без взаимодействия с советским командованием, но последнее и в известность не поставили — не те цели у организаторов, чтобы освобождать свою многострадальную столицу вместе с русскими.
Стихийное восстание в Варшаве предстало всему миру как очередная трагедия польского народа. Простые люди, варшавяне, далекие от политической «кухни», активно поддержали восстание. Даже Армия людова без санкции командования Красной армии на свой страхи риск вынуждена была принять участие в нем совместно с отрядами лондонской Армии крайовой — в конце концов, немцы общий враг, а освободить Варшаву хотели и те и другие.
Советская авиация сбросила повстанцам много вооружения, продовольствия и медикаментов. 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты предприняли форсирование Вислы, но успеха развить не смогли, потеряв в этой операции 289 000 солдат и офицеров (Великая Отечественная война Советского Союза. С.383). Красная армия после тяжелейших, длительных, летних наступательных боев в Белоруссии не могла с ходу форсировать Вислу и без необходимой подготовки продолжать наступление.
Впоследствии польская общественность долгие годы будет обвинять русских в том, что они предали восставших варшавян. Мы же в Гузене словесно схватывались с польскими офицерами из «Акции войсковой» и популярно, по-солдатски объясняли им, что война — штука серьезная, она уносит много жизней, и с какой стати, спрашивали мы, советские солдаты и офицеры должны расплачиваться своими жизнями за козни лондонских горе-правителей Польши? Польский народ не виноват? Может быть, но тем не менее не имеет морального права Красная армия, теперь уж перед своим народом, поддерживать восстание, фактически направленное против нее и русского народа, а поляки пусть скажут «спасибо» Лондону и своим офицерским лигам, классовые интересы которых всегда далеки от дум и чаяний польского народа. Да и дурили поляков многие годы, как и нас, грешных. Так понимали этот вопрос мы, советские военнопленные, узники концлагеря Гузен, в дни Варшавского восстания. И на этой позиции остаемся.
А немцы сконцентрировали значительные силы и ко 2 октября 1944 года сумели подавить восстание. И опять покатились на запад эшелоны с новыми арестантами — участниками Варшавского восстания. Несколько эшелонов пришло и к нам в Гузен.
Следующее пополнение прибыло уже после освобождения Парижа, Бухареста, Софии, Белграда, когда наши части пересекли границу Пруссии в районе Тильзита. В связи с приближением фронта немцы начали срочную эвакуацию освенцимских лагерей, и опять пошли сплошным потоком эшелоны с узниками в глубь Германии. Часть из них прибыла в Гузен на пополнение лагеря Гузен-2 и на строительство штолен.
В декабре 1944 года эсэсовцам пришлось открыть еще один лагерь — Гузен-3. Его достроить так и не успели, и к моменту освобождения в нем находилось не более 300 заключенных. Располагался Гузен-3 севернее Санкт-Георгена, в Лунгице.
Эшелоны с узниками, приходившие в Маутхаузен и Гузен, привозили полуживых людей, зачастую — трупы. В дороге узники не имели ни воды, ни пищи, и везли их стоя в переполненных товарных вагонах. Варварство продолжалось, и его никто не мог остановить.
Вскоре в лагере появились ростки чего-то нового, необычного. Под осень 1944 года в Гузене произошло знаменательное событие, и о нем нельзя умолчать.
На фоне явного военного поражения Германии, бесконечных «выравниваний» линии фронта эсэсовское руководство разрешило в одно из воскресений устроить для узников концерт. Местом проведения выбрали недостроенное кирпичное строение на аппель-плаце — Нойбау, где стоя могло разместиться немало зрителей.
Официально репертуар концерта включал в себя вполне безобидные песенки, стишки и мелодекламации. Начали концерт представители польской, чешской и французской нации, а когда бдительность эсэсовских наблюдателей, присутствовавших на концерте, притупилась — инициативу перехватили русские, и концерт приобрел иное звучание и направленность. Немцы все равно ничего не понимали, а когда разобрались, то было уже поздно — концерт сделал свое дело.
Мы впервые услышали слова знаменитой «Землянки»:
Бьется в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Ты сейчас далеко-далеко, Между нами снега и снега, До тебя мне дойти нелегко, А до смерти четыре шага…Ее привезли в Гузен новенькие, которые и песни новые знали, и погоны успели поносить. Эта песня взбудоражила узников, пробудила светлые чувства, теплые воспоминания о дорогих родных и близких, вселила надежду, снова позвала к жизни. Как мало нам тогда было нужно!
Сильное впечатление произвели на всех бесхитростная песенка на мотив «Синего платочка», где были заменены слова. Часть из них мы знали давно:
Двадцать второго июня Ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, Что началася война…А вот концовку мы услышали впервые:
Крутится летчик, Бьет пулеметчик — Армия наша идет!Последние слова вызвали на глазах изможденных узников слезы, люди сжали кулаки и готовы были броситься на своих мучителей. Опасен такой концерт. Исполнители от слабости с трудом стояли на ногах, перенапряжение их велико, но чувства переполняли огрубевшие души. Зрители, естественно, не выдержали и стали все громче подпевать, и это звучало, как заклятие. Тогда раздались возгласы:
— Raus! Los! Wegdamit![64] — И зрителей быстро разогнали, концерт окончен, но запомнился всем надолго, и нетолько русским. Второго концерта не случилось — ограничились первым и последним…
Однажды в ревир поступил с высокой температурой новенький русский и был определен к нам на штубу А. Надо сказать, что блок 29 был единственным блоком ревира, где всем больным регулярно измеряли температуру и заносили ее в специальную табличку, прикрепленную к спинке кровати в ногах. В других блоках такого и в помине не было. Я положил больного на ближнюю койку поближе к свежему воздуху. Звали его Андрюшиным Константином Григорьевичем. Ленинградец, 1918 года рождения. Он окончил пехотное училище на Садовой напротив Гостиного двора, к началу войны был уже старшим лейтенантом. В плен попал в 1941 году под Ленинградом, будучи ранен в ноги при обороне Павловского дворца. Мы сразу почувствовали взаимное расположение.
К ночи температура поднялась до сорока градусов. Боясь связываться с Адамом и не доверяя в таких делах ему ни на грош, я на свой страх и риск принялся лечить Костю «народными средствами», обкладывая его холодной мокрой простыней всю ночь напролет и потчуя жаропонижающими таблетками. И свершилось чудо: к утру температура упала, а через день-два мы, как ни в чем не бывало, продолжили знакомство. У нас с Костей нашлось много общего в воспоминаниях о довоенной жизни и военной службе, и пока он лежал на штубе А, я все свое свободное время проводил у его кровати. Конечно, мы поделились и сокровенным: его в Ленинграде ждала Валя, а меня — Нина, только у меня были фотографии, а у Кости нет.
Так случилось, что после выздоровления мы сумели, хотя и с большим трудом, втиснуть Костю сверхштатным рейнигером на блок 30, где он стал третьим русским, а всего на ревире нас — восемь человек!
Расстались мы с Костей в первых числах июня 1945 года. Дело было в сборном лагере бывших узников Маутхаузена и Гузена, а одновременно и полевом военкомате 3-го Украинского фронта под городом Винер-Нойштадт в Австрии. Костя ушел с группой офицеров, а я остался с сержантами. В день расставанья, выскочив из строя, он подбежал ко мне, неуклюже стиснул в объятиях и сунул мне в руки клочок бумаги со своим ленинградским адресом. Я его долго хранил в левом кармане гимнастерки вместе с…махоркой, пока он не истлел от пота и дождя — дорогой мне адрес, как и другие, пропал.
А после военной службы, уже в 1947 году, в Ленинграде, мы с Ниночкой как-то вечером собрались в кинотеатр «Арс» на площади Льва Толстого. Фойе там крошечное, тесное, душное, и мы бродили до начала сеанса по Кировскому проспекту. Падал пушистый снег, оставалась неделя до Нового года.
Вдруг Нина, моя внимательная и наблюдательная подруга, дернула меня за локоть и спросила:
— Что этот военный так посмотрел на тебя? — Перед этим нас обогнала, по всей видимости, тоже супружеская пара. Высокий военный, прихрамывая, скорым шагом вел под руку спутницу — это нам было некуда спешить. У меня сразу ёкнуло сердце — не Костя ли это? Он именно так хромал после ранения. Я бросил Нину, догнал и остановил эту пару. Я не ошибся: это был он, и мы, сами удивляясь неожиданной встрече, представили друг другу своих любимых жен:
— Это… Валя.
— Это… Нина. — И смеху, и радости, и слез было предостаточно. Оказалось, что Костя жил совсем рядом, на Пушкарской улице, и через неделю мы с Ниной встречали у них Новый 1948 год, напились вдрызг и заночевали до утра. Рано утром Нина вела меня домой по Пушкарской улице — мы жили на Ждановке, — а я лягал ногами заборы и громко распевал песни. Такого со мной еще не случалось.
После войны Косте вернули звание, восстановили в партии, и он продолжал служить в штабе Ленинградского военного округа. После выхода в отставку — работал заместителем директора Ижорского машиностроительного завода на Понтонной…
А пока шел 1944 год. Дисциплина в лагере и на ревире продолжала падать. Не только мы, персонал, могли теперь беспрепятственно выходить в лагерь, но и к нам, а также и к больным стали приходить «в гости» друзья и знакомые, а пфертнер только разводил руками: он понимал, что уже не нужен на воротах, поскольку доктор Веттер почти перестал посещать ревир. Затишье перед бурей?
Ко мне «в рабочее время» заходили Киселев, Шестаков, Лисовский, майор Голубев, Пономаренко и другие. С Михаилом Васильевичем Киселевым мы даже провели настоящий шахматный матч из двадцати партий в течение двух недель.
Глядя на нас, русских, смелее и раскованней стали держаться Рио и Франциско, Юзек и Метек.
— Ну и неугомонные эти русские! — говорили они, улыбаясь, а Альберт Кайнц, давно снявший все свои запреты, считал, что все происходит в рамках «лагерного приличия».
Лежал у меня на штубе сержант Сережа Фетисов. Через год мы с ним будем стоять в карауле вокруг освобожденного лагеря. По очереди лежали на отдыхе Вова Мельников и Вася Плотников из команды военнопленных блока 16. Причем когда лежал один, то другой навещал его, и наоборот: они подолгу сидел и друг у друга на койке, как будто это не концлагерь, а горбольница в Ленинграде.
Я стал теперь только один раз в день мыть пол, а не два, как раньше. У меня появилось больше свободного времени. И одет я был вполне прилично — спасибо майору Буркову с вещевого склада: коричневая теплая куртка, полушерстяные темно-зеленые брюки, крепкие ботинки какой-то армии и темно-синий французский берет.
В начале 1944 года всем узникам Гузена заменили личные номера. До этого момента в период с 25 мая 1940 года до 23 января 1944 года прибывающие в Гузен заключенные имели по два учетных номера — по внутренней нумерации Гузена от 1 до 15 000 (мой номер 11 281), и кроме того, каждый имел номер, присвоенный в Маутхаузене (у меня 25 249). Чтобы упростить эту систему, комендатура Маутхаузена с 23 января 1944 года ввела единые номера, устранив внутреннюю нумерацию Гузена. 7312 узникам Гузена, имевшим маутхаузенские номера, присвоили новые номера с 43 001 до 50 312. Теперь всех, прибывающих из Маутхаузена, можно опознать по номерам. Моим новым и последним номером стал 50 002…
Как-то Миша-урмахер попросил меня взять у него на хранение деревянную шкатулочку с сигаретами, заработанными им за ремонт часов. На своем блоке 31 он не нашел надежного места и поручил «козлу сохранить капусту», а сигарет там около 200 штук — по тем временам это целое состояние. Я долго их не трогал, все воздерживался, а к концу 1944 года подумал: «Скоро войне конец, не нужны ему будут сигареты…» — и начал по одной в день вытаскивать. Каждую сигарету выкуривали вчетвером, как и раньше, — Альберт, Рио, Франциско и я. Ко дню освобождения сигареты оказались почти прикончены, а Мише в те радостные дни, как я и ожидал, было уже не до сигарет.
Во второй половине года участились бомбардировки союзниками близлежащих промышленных объектов. Бомбили днем в чудесную солнечную погоду. Воздушные армады союзников летели над Гузеном на недосягаемой для зениток высоте, наполняя воздух радостным гулом — приближался конец фашистской Германии.
Все же иногда самолеты сбивали, и эсэсовцы Гузена, тренируясь в стрельбе, расстреливали в воздухе американских и английских летчиков, спускавшихся на парашютах. Немцы продолжали демонстрировать свою полнейшую безнаказанность. Некоторым летчикам удавалось достичь земли, и они становились сразу и военнопленными и узниками концлагеря. Перед отправкой в Маутхаузен они успели сообщить нам, что их командование прекрасно осведомлено о расположении концлагерей маутхаузеновской охранной зоны и ни одна бомба в лагерь не упадет. А бомбил и очень близко, земля гудела, мы пребывали в диком восторге, но лагерь ни разу не пострадал. Бомбардировки продолжались до конца войны почти ежедневно, и мы к ним привыкли.
Среди поляков ревира у меня объявился дружок — Климек из блока 28. Вечерами, когда все дела сделаны, я часто просиживал возле него, глядя, как он аккуратно и умело гладит выстиранные им же верхние рубашки Эмиля Зоммера и всех врачей ревира. Такова его работа — стирать и гладить белье медперсонала. Климек — худющий и очень высокий парень, приветливый и добросердечный. Мы с ним часами болтали зимними вечерами на польско-русско-немецком лагерном диалекте. Климек научил меня правильно гладить и складывать верхние мужские рубашки.
В последнюю зиму 1944/45 года свободными вечерами я совсем неожиданно для себя увлекся чтением. На блоке 29 Альберт держал небольшую библиотечку для персонала. Там хранились исключительно криминальные истории, изданные малым форматом наподобие «Библиотечки огонька», в цветных обложках — книжечки тонкие и все, как одна, в духе Шерлока Холмса. Я зачитывался ими. В каждой новелле похожие истории: обнаружен труп, начинается расследование и благополучно заканчивается, но другой литературы не было.
Большое впечатление производили на меня иллюстрированные немецкие и английские цветные журналы, неизвестно откуда приносимые Альбертом. Перед глазами и сейчас прекрасные фото немецких девушек и текст над ними: «Deutsche Madel gru en die deut schen Soldaten!»[65] Читая это, я, конечно, думал не о немецких девушках и видел совсем другие глаза. В другом, уже английском журнале мое внимание привлек текст под аналогичной групповой фотографией английских девушек: «It is a long, long Way to London!»[66] От подобных текстов щемило сердце, и, естественно, сознание заменяло Лондон на Ленинград. Просматривая журналы, я лишний разубеждался в том, как осточертела всем эта затянувшаяся война — и англичанам, и немцам, и нам. Все народы с нетерпением ожидали ее конца…
А я оставался неисправимым, иногда ударяясь в лирику для души — давали себя знать увлечения юношеских лет. Находясь уже на блоке 29, в начале 1944 года, в порыве тоски по дому и по любимой подруге написал пару строк, как воспоминание о тех днях, когда Ниночка в последний раз провожала меня из Ленинграда в Одессу 5 февраля 1941 года на Витебском вокзале:
Как виденье чарующе милое, Ее образ стоит предо мной На платформе тоскливой и длинной С безразличной и шумной толпой. Бури мчатся годами жестокими, Сердце полно бесплодной любви — Стали нам безвозвратно далекими Золотые, чудесныедни. Даже звезды во мгле полуночи, Словно тусклые лампы горят, Если вспомнишь, как серые очи Слезой на ресницах блестят. А когда паровоз прицепили, Ты мне руку дала, не смотря — Под пуховым беретом поплыли Лучистые искры огня. Молодые года и беспечность Нам не подали мысли тогда, Что состав этот канет в вечность И меня унесет навсегда.В этих строчках просматривается безысходность и ясное сознание того, что выйти живым из лагеря не суждено. Зато в конце 1944 года в других строчках уже появляется надежда на возможное возвращение:
Смотрю на потертое фото, И мысли уносятся вдаль: Мне не хватает чего-то, Грудь задавила печаль. Твой отпечаток на сердце, Его не смоют дожди — Только губы безмолвно шепчут: «Дорогая, мужайся и жди!» На долгие годы разлуки Оставил подругу свою И в спазмах душевной муки Одну я мечту таю: Увидеть родные ворота, Под ними тебя повстречать, Вручить пожелтевшее фото И выпить за девушку-мать!Как это неудивительно, но встреча именно такой и была 25 мая 1946 года под этими самыми воротами на Ждановке: и фото вручено, и выпито было, как положено, а позднее «девушка-мать» подарила мне сына.
1945 год. Жизнь или смерть?
Просмотрел, что написал выше, и подумал: «Вот это концлагерь! И детективная литература, и журналы с цветными картинками, и шахматные матчи — живи не хочу!» Если бы это было так! Смерть продолжала ходить по пятам за каждым из нас — не хватало мелочи: не того слова, не того действия либо очередного судьбоносного случая, о которых я достаточно рассказал. Концлагерь еще существует, и горе тому, кто расслабится, забудет об этом…
Январь 1945 года, последнего года войны, принес освобождение Варшавы и Кракова, войска Красной армии вступили на территорию Германии — развязка приближалась.
Эскадрильи американских бомбардировщиков все время в небе. Сирены воздушной тревоги в Гузене выли непрерывно, нарушая сложившийся ритм рабочих команд. Все чувствовали, что война идет к концу, но радостное настроение омрачалось сознанием того, что нас всех должны уничтожить в ближайшее время. Эсэсовцы и их приспешники говорили заключенным: «Не радуйтесь — ни один из вас в живых не останется. Мы выполним секретный приказ фюрера!» Вот так-то! Все говорило о том, что уничтожать нас будут до последнего часа!
У поляков настроение менялось с каждым днем. 27 января Красной армией освобожден Освенцим, а перед этим в Гузен пришли последние эшелоны оттуда с полуживыми и мертвыми узниками. Поляки переживали за Польшу и метались в бессильной злобе — эмигрантское правительство выглядело все более беспомощным.
В начале февраля лагерь узнал о побеге большой группы советских офицеров из блока 20 Маутхаузена.
Взят Будапешт. Мы очень переживали, зная о том, какие ожесточенные бои шли в районе озера Балатон и в самом городе.
Целыми днями мы только и обсуждаем новости с фронта — ими по-прежнему нас обеспечивал Альберт Кайнц. Адам Конечный перестал интересоваться делами на штубе А — он все время где-то пропадал, и мы с Юзеком его полностью заменяли.
В течение марта в Гузен продолжали приходить эшелоны с узниками из других концлагерей, к которым подступал фронт. До нас доходили сведения, что прибывшие эшелоны подолгу не разгружают, чтобы в вагонах не осталось живых — это еще один способ массового уничтожения заключенных. Нам в Гузене и тут «повезло»: нас некуда вывозить — мы будем последними, так как по нашим расчетам союзные войска и советские части сомкнутся как раз в районе нашей зоны лагерей. Мы тогда не знали положение будущей демаркационной линии на австрийской земле. Его определила Ялтинская конференция трех держав, и оно держалось в секрете.
Наконец лагерное начальство разобралось с прибывшими эшелонами, их разгрузили, и в лагерь, прямо к порогу крематория, стали прибывать автомашины, доверху заполненные трупами. На разгрузку машин приказали выйти всему персоналу ревира, за исключением врачей и блоковых.
Я работал в паре с Рио. Надо было видеть его лицо и его глаза: работая, он выговаривал в адрес службы СС проклятия и ругательства на всех мыслимых и немыслимых языках народов мира! Я и в этом не отставал от него: то, с чем мы столкнулись, было воистину чудовищно. Берешь труп за руку — рука отваливается, берешь за ногу — нога отваливается. Трупы слишком долго лежали в вагонах. Это было неописуемо. Когда мы закончили ужасную работу, то решили хоть один раз заглянуть внутрь крематория, чтобы иметь представление, как это все выглядит. Толком разглядеть ничего не смогли, так как наше внимание привлек ряд трупов, аккуратно сложенных наготове возле печей. Это были тела молодых женщин, а точнее — бывших женщин, а сейчас — это скелеты, обтянутые кожей. Вероятно, их привезли из Освенцима или Равенсбрюка. Женские трупы в крематории нас совсем доконали, и мы выскочили на улицу: нам, мужчинам, погибать положено «по штату», а их-то за что?
Я вспомнил, с какой горечью увидел в Березовке в августе 1941 года попавших в плен врачей и медсестер, военнослужащих Красной армии. Было очень больно видеть их в плену, продолжавших перевязывать наши раны. А тут? Это были в основном француженки, гречанки — на русских они не походили…
Лагерь — жил. Работали подземные предприятия «Штейера», работали каменоломни и Баулейтунг. Капо и блоковые били реже, лишь когда срывались в злобе. Эсэсовцы держались поодаль, почти не вмешиваясь в дела рабочих команд.
Как-то, будучи в лагере, впервые столкнулся с русскими эсэсовцами, а точнее — с украинскими. Дико было видеть вчерашних военнослужащих Красной армии, таких же молодых парней, как и мы, в эсэсовских мундирах и при оружии. Похоже, что их совсем недавно привлекли к охранной службе. Раньше в Гузене мы их не видели. С одним из них — смуглым, загорелым брюнетом — мне удалось переговорить. Он все время оглядывался по сторонам, как затравленный зверек, — разговаривать с нами им категорически запрещено. Из короткой беседы с ним стало ясно: они растеряны и не знают, что им делать? Их ожидало возмездие советского народа, который они предали. Эсэсовское командование не замедлило разрешить их проблемы: через короткое время их обманным путем под предлогом дезинфекции разоружили, раздели догола, отправили в автофургоне в Маутхаузен и там расстреляли. Немцы не без основания боялись, что в какой-то последний момент эти заблудшие мальчишки, новоявленные «эсэсовцы», могли в порыве отчаяния и в слабой надежде смягчить приговор советского суда, со славянской лихостью отправить настоящих эсэсовцев к праотцам. Такое не исключалось, и это можно было понять.
А в Гузене еще одно нововведение: принято решение о формировании трех батальонов фольксштурма, народного ополчения. Кому же выпала честь встать в его ряды? Таки ми оказались «зеленые», «черные», «розовые» и прочие асоциальные элементы, в первую очередь из числа лагерной номенклатуры. Они и составили первое формирование численностью около 200 человек. Их обмундировали в ставшую ненужной униформу африканского корпуса Роммеля — гимнастерку и бриджи песочного цвета — под цвет песков Сахары. Готовили их для Восточного фронта в состав эсэсовских частей, противостоявших наступающей Красной армии. Перед отправкой на фронт их две недели муштровали на аппель-плацу, будто главным элементом в их боевой подготовке являлась строевая подготовка. Я понимал, что на самом деле их приучали к беспрекословному выполнению любых команд в строю, что всегда характеризует в числе прочих элементов боеспособность воинского подразделения. Это достигается лучшим образом именно в процессе строевой подготовки, когда все действуют, как один человек. Я это хорошо знал — сам прошел. А в начале апреля их отправили на фронт, и у меня в ушах осталась звенеть их строевая песня, с которой они целый день маршировали на аппель-плацу. Мне врезалась в память только одна строчка из нее: «О, Ros-Marie! Du hast mir lange nicht geschrieben!»[67] А запомнил, наверное, потому, что у меня была своя «Роз-Мари», и она мне тоже очень давно не писала.
После отправки на фронт первого батальона фольксштурма в Гузене приступили к формированию второго. Немцы торопились: 9 апреля советские войска вступили на территорию Австрии, а 13 апреля взята красавица Вена…
Пфертнер стал совсем другим человеком. Он даже чуть ли не кланялся мне, словно представителю Красной армии, когда я важно дефилировал мимо него в лагерь и обратно. Но это не смешно: каждый по-своему предчувствовал приближение развязки.
И еще одно событие. 6 апреля прямо в блоке, на глазах всего персонала скоропостижно скончался врач Адам Конечный. Он просто упал и больше не встал. Возможно, это был апоплексический удар? Подробности происшествия до меня не дошли, дай не слишком интересовали. Адама сожгли в крематории буквально через какой-нибудь час. Поляки — Юзек и Метек — случай этот с нами не обсуждали, а испанцы особо не выражали сочувствия своим коллегам. Видно, что они рады тому, что еще одним негодяем стало меньше. Тогда я считал так же, как и они, а сейчас мое отношение понемногу меняется: полезно сперва понять, а потом осуждать — даже того, кто стремился тебя уничтожить.
После смерти Адама Юзек и Метек совсем присмирели и даже стали заискивать передо мной и испанцами, хотя мы к ним всегда относились ровно, без предубеждения и весьма доброжелательно. Они в целом неплохие ребята и нам отвечали тем же.
В апреле же скончался Франклин Рузвельт, и его заменил Гарри Трумэн. Мы по этому поводу сожалели, а поляки только радовались.
В эти дни комендант Маутхаузена штандартенфюрер СС Франц Цирайс получил секретный приказ рейхсфюрера СС Гиммлера с требованием использовать момент объявления воздушной тревоги и загнать заключенных Маутхаузена в штольни Гузена, после чего входы завалить камнями. Аналогичный приказ получил и комендант Гузена хауптштурмфюрер СС Фриц Зайдлер, но узники в штольни не пошли, предупрежденные комитетом, а применять оружие эсэсовцы пока не решились. Для Гузена наступали трудные дни. Попытки использовать штольни делались еще не один раз, но по-прежнему безрезультатно.
В один погожий апрельский день ко мне на блок 29 вбежал взъерошенный Костя Андрюшин:
— Пошли скорей!..
— Куда?
— К нам на 30-й…
— Что случилось?
— Увидишь. Газуют! — И мы с Костей по переходу перебежали на блок 30 и прильнули к окнам, выходившим на блок 31. Увиденная картина была страшной: эсэсовцы набили штубу В инвалидами и больными узниками, неспособными передвигаться. Все они без одежды, а по внешнему виду — в основном французы и итальянцы, которые больше всех страдали от фурункулеза и других болезней. Этих несчастных отбирал и по всем блокам специально для уничтожения. Когда мы это увидели, эсэсовцы кончали загонять людей в блок, и нары уже были забиты до отказа: на каждой лежанке трехэтажных нар лежало по два узника. После этого два эсэсовца в противогазах зашли внутрь, держа в руках по цилиндрической коробке газа «циклон Б» в гранулах. Воздух, соединяясь с веществом гранул, образовывал ядовитый газ. Открыв коробки, эсэсовцы поспешно поставили их на пол, вышли из помещения, заколотили дверь снаружи и удалились. Через минуту-другую на штубе В началась паника, люди стали задыхаться, но двигаться не могли, будучи почти беспомощными. Только отдельные бедняги смогли добраться до окон и разбить стекло водном из них. Сразу же с ближайшей сторожевой вышки раздалась пулеметная очередь, сразившая тех, кто пытался вылезти из окна, после чего обстрел велся по всему блоку 31…
Через много лет после одной из ветеранских встреч в Музее революции на улице Куйбышева, 4, мы втроем — Андрюшин, Кузьмин и я — шли по направлению к станции метро «Горьковская», и вдруг Костя вспомнил:
— Дима! А помнишь, как ты меня грохнул на пол?
— Когда это?
— Когда газовали и раздалась очередь в нашу сторону по блоку 30?
— Да? Знаешь — подзабыл… — Я никак не мог вспомнить, а он продолжал:
— Ты так свалил меня на пол, что я до сих пор помню.
— Ну, значит, так надо было, — нашелся я, что ответить.
Как мы припомнили, эсэсовец на вышке, поняв, что из блока 30 узники наблюдают за происходящим, — а больные тоже повставали с коек и присоединились к нам с Костей — дал очередь по блоку 30. К счастью, никто из нас на блоке 30 тогда не пострадал…
Через несколько дней после случившегося на блоке 31 Костя снова прибежал ко мне, но с другой, совсем необычной просьбой. Как ему стало известно, наш общий друг — австрийский коммунист, «красный» капо Баулейтунг-1 Жорж — из-за нехватки людей в Третьем рейхе попал в состав второго батальона фольксштурма, и на днях их должны были отправить на фронт — маршировать уже нет времени. Жорж разыскал Костю и просил дать ему какой-нибудь «документ», подтверждающий его личность на случай перехода на советскую сторону. После семилетней отсидки в лагере воевать за Гитлера Жорж явно не собирался, говоря: «Пусть сам воюет за себя!» Мы с Костей нашли клочок бумаги, карандаш, и я нацарапал «документ», содержание которого помню и сегодня, поскольку оно отдавало чем-то необычным. В записке стояло: «Дорогой товарищ — боец Красной армии! Окажи содействие австрийскому коммунисту Жоржу. Военнопленные из концлагеря Гузен».
Костя сразу побежал искать Жоржа, чтобы отдать записку. Через много лет, будучи в Ленинграде, Жорж рассказал нам, что записка ему не пригодилась: в первую же ночь во время марш-броска в сторону фронта «доблестный воин за фюрера» сумел укрыться на сеновале одного из домов, сбросил ненавистную желтую униформу, ему помогли переодеться, и он оказался на свободе раньше всех нас…
В один из дней в Маутхаузен увезли в душегубке[68] и последнюю команду крематория. По пути — загазовали, как и их предшественников. Свидетели злодеяний планомерно уничтожались. Крематорий закончил свою страшную работу.
Теперь мы только и жили сводками с фронта, причем уже в открытую, вместе с больными, на которых успехи наступающих войск оказывали более сильное воздействие, чем лекарства, — люди оживали на глазах.
Незадолго до освобождения поляки сочинили песню о Гузене. Она мне сразу понравилась, звучала очень торжественно и вскоре получила название «Марш Гузена». Я сумел запомнить только одну строчку: «Жедгай, Гузен, царство каменных брил!» По-русски это: «Прощай, Гузен, царство каменных громад!»
В те тревожные дни у меня тоже родилось четверостишие в продолжение «Дорожной лирики» 1941 года, но само продолжение я так и не осилил, наверное, уже было не до того. В памяти сохранилось только начало:
И вот — сорок пятый год. Фронты Германию сузили. Вновь мои помыслы вспенены грёзами детской мечты: Я слышу — твой голос зовет за тысячу верст от Гузена, В городе имени Ленина, милая девочка — ты!В лагере формировали третий батальон фольксштурма. Берлин был окружен советскими войсками. 25 апреля на Эльбе произошла историческая встреча с американцами, о чем мы узнали уже на следующий день.
С этого дня комитет принял решение организовать по блокам ночное дежурство. Эсэсовцы, предчувствуя свой конец, готовились ворваться в лагерь с пулеметами. Других средств уничтожения лагеря они уже не имели — все поглотил фронт.
В помещениях, где располагалась эсэсовская охрана, ночи напролет шла поголовная пьянка. Дикие вопли, крики и песни раздавались оттуда до самого утра. Комитету стало известно, что связи с Гиммлером они давно не имеют и пытаются сами решить свою судьбу. Большая часть эсэсовского руководства была настроена весьма решительно. Но не все из них думали одинаково. После освобождения рассказывали, что заместитель коменданта Гузена хауптштурмфюрер СС Ян Бек в разгул очередной пьяной оргии встал в воротах брамы и заявил, что остальные пройдут в лагерь только через его труп. Было так или не было — сейчас сказать трудно, но то немногое, что мы знали о Беке, — он при Гитлере сам сидел — позволяло этому верить.
В результате, комитет принял довольно пассивное и не лучшее решение — в случае угрозы массового расстрела для нас не было другой альтернативы, как бросаться всем миром на пулеметы. Кому-то при этом придется погибнуть, другие же останутся в живых. В противном случае погибнут все.
Организованное восстание в Гузене осуществить было нельзя. Комитет это хорошо понимал: польская офицерская лига никогда не согласовывала свои действия с немногочисленным интернациональным комитетом, а чаще поступала наоборот, именно в жестких узконациональных интересах. Все это грозило в последний момент междоусобицей. Польская лига попросту боялась восстания узников и никогда бы его не допустила. Это подтвердили дальнейшие события. Кроме того, поляки работали по хозобеспечению эсэсовских казарм и в других службах жизнедеятельности лагеря и хорошо знали, где хранится оружие. Они зорко следили затем, чтобы никто в лагере, кроме поляков, вдень и час «икс» не смог заполучить оружие. В этом была трагедия Гузена. В Маутхаузене полякам-националистам противостояло более сплоченное интернациональное братство, да и сторонников новой народной Польши было там больше.
У нас все было по-другому, и потому каждую ночь до утра мы стояли у открытых настежь окон — каждый на своем блоке, — не шевелясь, чутко прислушиваясь ко всяким звукам со стороны брамы, ожидая всего. Мы ловили каждый пьяный выкрик, случайные команды, все хлопанья, тресканья, звон от разбитых бутылок, одиночные выстрелы. В любой момент мы готовы броситься на пулеметы — выбора у нас нет! Весь лагерь не спал. Все ожидали любой, но — развязки.
Эсэсовцы время не теряли: ночью они пили, а днем заметали следы своей преступной деятельности. Лихорадочно сжигали документы, «Книги мертвых» («Тотенбюхер»), корреспонденцию, рапорты, листы картотеки, приказы командования, инструкции и разные брошюры.
Наконец 2 мая, в день окончательного падения Берлина, решилась наша судьба: руководство Маутхаузена передало охрану лагерей другим структурам, а эсэсовцы должны были выступить на фронт против Красной армии. На реке Энс еще пыталась держать оборону эсэсовская дивизия «Мертвая голова», а точнее то, что от нее осталось. В ночь со 2 на 3 мая эсэсовцы покинули лагерь.
Итак, 2 мая новым комендантом Маутхаузена, а заодно и Гузена стал офицер Керн из венской охранной полиции, а к охране лагерей приступили военизированные полицейские подразделения пожарников Вены.
Ими оказались мобилизованные пожилые люди, одетые в голубые мундиры, и нам сразу стало ясно, что эти «вояки» в нас стрелять не собираются.
В связи с изменившейся обстановкой новое решение принял и комитет: мы вошли в контакт с каждым из этих миролюбивых старцев и заключили с ними джентльменское соглашение — мы обязуемся до прихода союзных или советских войск сидеть в лагере тихо, как мышки, чтобы им, нашим охранникам, служилось спокойно. Взамен этого они обещали выполнить нашу просьбу, чтобы ни одна «мышка» не исчезла из лагеря, на что они сразу согласились.
В лагере оставалось еще много пособников эсэсовцев, и они не должны были бежать из лагеря — их ждал суд. Кстати, одетый в желтую униформу третий батальон фолькештурма впопыхах отправить на фронт не успели, и он застрял в лагере. «Добровольцы» сами на фронт не рвались, но и в лагере чувствовали себя неуютно.
Лагерь уже давно не работал, оживленно гудел, как улей, а мы проводили разъяснительную работу: «Разбегаться нельзя. Надо ждать освободителей». Мы болтались по лагерю, обменивались новостями. У всех тогда были на устах названия городов — Регенсбург, Пассау, Линц, лежавших по берегам Дуная на пути продвигавшихся на восток американских войск. Мы подолгу разговаривали состоявшими на вышках новыми охранниками, называя каждого «фатер» — отец, — а они кидали нам сверху сигареты. При этом их карабины сиротливо стояли в сторонке. Нам их карабины пока тоже не нужны. И мы, и они без конца повторяли магические слова: «Гитлер капут!» Только одно тревожило нас: дивизия СС «Мертвая голова», отступавшая с востока, могла в последний момент натворить дел в Маутхаузене и Гузене.
В лагере продолжали работать только те команды, которые обеспечивали жизнедеятельность самого лагеря — кухня, ревир, служба энергетики и другие, руководство которыми практически перешло в руки комитета.
Наступил последний день Маутхаузена и Гузена — 5 мая 1945 года! Он выдался солнечным, ярким. С утра все почувствовали, что именно сегодня должно что-то случиться. Артиллерийская канонада грохотала совсем недалеко, но только на востоке. На западе американские войска продвигались без боя. Чьи войска освободят лагерь? Многим это небезразлично: одни из нас ждали американцев, другие — русских.
К полудню все, кто мог, залезли на крыши блоков и лежали там, надеясь первыми разглядеть своих освободителей. Мы с Костей находились на крыше блока 29. Настроение было и радостное и тревожное: как еще все обернется? К тому же мы отвыкли быть свободными, и какая еще будет эта свобода? Каждый погрузился в какие-то свои мысли. Разговоров не было слышно. Все лежали молча. Ждали не только мы. Ждали поляки, ждали оставшиеся в лагере «зеленые», капо, блоковые, ждали «бойцы» фолькештурма, ждали и охранники — ждали все.
<…>
Освобождение
Кто же практически мог выжить в условиях концлагеря?
Общее мнение очевидцев и участников описанных выше событий таково:
1. Могли выжить отдельные узники из числа немцев и австрийцев, которым посчастливилось пережить один-два месяца лагерного существования и за это время добиться каких-либо привилегированных должностей среди лагерного персонала или попасть в рабочую команду под крышей, что давало шансы на выживание.
2. Мог выжить тот, кто сам непосредственно участвовал в уничтожении заключенных, будучи причастен к лагерной администрации в рамках самоуправления.
3. Могли выжить те узники, профессиональная пригодность которых оказывалась нужной: владевшие различными языками, знавшие машинопись, чертежники, врачи, санитары, художники, часовые мастера, столяры, слесари, механики, строительные рабочие и другие. Они привлекались к выполнению разных работ по обслуживанию эсэсовских и хозяйственных служб лагеря.
4. Из числа узников не немецкой национальности в период 1940–1942 годов только единицы имели шансы пережить это время: либо они являлись очень хороши ми специалистами, либо были особенно красивы и юны. Тогда они получали работу под крышей и там укрывались в течение рабочего дня от постоянного наблюдения со стороны эсэсовцев и капо.
В основном в те годы это могли быть только поляки и испанцы.
5. В порядке национальной солидарности уцелевшие поляки и испанцы в каждом удобном случае содействовали улучшению положения своих соотечественников, и тем самым расширялся круг узников, которым впоследствии удастся пережить лагерь.
6. Имели шансы отдельные русские узники, которым начиная с 1943 года стали активно помогать австрийские и немецкие коммунисты, вовлекая в повседневную деятельность по линии антифашистского сопротивления в лагере. Если кто из нас и выжил, то только благодаря этим прекрасным товарищам, которые рисковали жизнью, помогая нам. А те из нас, кого они ввели в интернациональное лагерное братство, в свою очередь, способствовали, как могли, увеличению кандидатов на выживание из числа земляков, однополчан, командиров, коммунистов, друзей со схожими биографиями и других.
7. Наконец, сюда следует отнести тех узников, которые прибыли в Гузен незадолго до освобождения. Они остались в живых, потому что лагерь был освобожден. Эта категория составила наиболее значительный процент среди освобожденных. Это — участники Варшавского восстания, югославские партизаны, эвакуированные из Освенцима, которым повезло доехать до Гузена живыми, и многие другие.
Из личных наблюдений многих бывших узников, которым посчастливилось выйти на свободу, напрашиваются и такие выводы:
1. Наиболее выносливыми к моральным и физическим трудностям существования в условиях концлагеря оказались русские, поляки и испанцы. У них сильно развита национальная спайка. Они всегда старались ободрить и поддержать друг друга. Они знали, где и кто их враг, и никогда не шли на компромиссе врагом. Я говорю о большинстве, чья жизненная позиция была твердой, неколебимой. К тому же русские и испанцы представляли вместе единое целое по своим политическим убеждениям. Трудности физического плана — климат — испанцы компенсировали стойкими моральными качествами, приобретенными в ходе жестокой схватки с фашизмом в 1936–1939 годах.
Полякам все дело портила офицерская лига, делившая их на привилегированное сословие и простой люд — в условиях концлагеря это было не лучшим решением. Многим полякам помогли посылки из дома, несмотря на разворовывание их лагерным начальством.
2. Венгры, чехи и словаки оказались несколько слабее.
3. Греки и итальянцы жили в лагере недолго ввиду сурового, по их понятиям, климата. Гузен находится на широте Днепропетровска — для нас, русских, это юг.
4. Французы и бельгийцы тяжело переносили лагерные условия и погибали от фурункулеза и общей дистрофии.
5. О немцах судить сложнее. «Зеленые» все же были арийцами, и их специально никто и никогда не уничтожал. «Красным» немцам было труднее, нацисты их уничтожали, но это их земля, их язык, рядом могли оказаться земляки, родственники — надежда на выживание появилась фактически у всех, кто дожил до 1943 года, а до того им жилось не многим лучше, чем и остальным.
Многие из нас, выживших, считают, что имело значение и политическое сознание заключенного: сознательный и прогрессивно настроенный узник переносил трудности с меньшими потерями и боролся за свою жизнь до конца. Примером служило большинство наших командиров и политработников, коммунистов и комсомольцев, как бы это утверждение и не резало сегодня слух — из песни слов не выбросить!
Одинокий, растерявшийся человек в тяжелейших условиях нацистского концлагеря выжить не мог. Лучше других лагерные условия выдерживали те, кто умел жить в коллективе, подчиняться ему и участвовать в общей борьбе. Коллектив создавал систему антифашистского подполья в лагере, организовывал помощь ослабевшим, распространял сводки с фронта, поднимал волю к жизни и к сопротивлению нацистам. Это было знакомое нам чувство локтя, свойственное советским бойцам и командирам в первую очередь…
Вернемся к 5 мая 1945 года. К 13.30 большинство заключенных собралось на аппель-плацу. К этому времени те, кто находились на крышах, уже заметили приближающийся к лагерю американский броневик. Освобождение лагеря произошло необыкновенно просто, совершенно прозаично и чисто по-американски: броневик въехал на аппель-плац, из него выпрыгнул то ли солдат, то ли другой нижний чин, прокричал: «Вы свободны!» сделал соответствующий жест правой рукой и…уехал. Правда, одно доброе дело солдаты сделали, приказав голубым мундирам нашей символической охраны спуститься вниз, побросать свои карабины в канаву и убираться по домам, поскольку война окончена и «Гитлер капут!», что те охотно и выполнили. Через пару минут никого из них уже не было — такая резвость у стариканов появилась, что только любо-дорого!
Когда солдат на аппель-плацу объявил, что все свободны, то первой реакцией со стороны собравшихся на плацу узников было тысячеголосое «Урра-а-а!» Одновременно с раздавшимся польским национальным гимном «Еще польска не сгинела» взвились заранее заготовленные бело-красные польские флаги. Собравшиеся на плацу — а это были в основном поляки — после национального гимна запели «Марш Гузена», а остальные узники — «Марсельезу». С последними куплетами французской революционной песни закончилась торжественная часть, и на этом все радости наступившей свободы временно закончились.
Пока сгрудившиеся на аппель-плацу узники распевали гимны, члены «Акции войсковой» установили на браме пулемет, развернув его в сторону лагеря: знала кошка, чье сало съела! Тогда мы не сразу поняли, чем продиктованы такие действия, но быстро разобрались в обстановке: поляки тем самым защищали себя, поскольку один враг — эсэсовцы — перестал существовать, но остался второй, не менее опасный для них — русские, а американцев и след простыл. Так нам казалось. Через считанные минуты все узники поняли, насколько предусмотрительными оказались поляки в Гузене-1.
А что в это же время делали мы, русские? До сих пор мне не совсем ясно, правильными ли были наши действия, на первый взгляд отдававшие пассивностью? Но нельзя же схватываться за грудки с польскими фашистами на глазах всего лагеря вдень освобождения. Кроме того, они оказались все вооружены, да и разобраться надо было сначала.
Мы не нашли ничего лучшего, как организовать настоящий митингу блока 3. Встрой встали человек 250–300 из состава наших бывших подпольных групп. Среди стоявших рядом я увидел многих своих «земляков», с которыми давно уже не общался. Майор Иван Антонович Голубев обратился к нам с торжественной речью. Он поздравил всех с освобождением, что дожили до этого светлого дня, сказал, что фашизм живуч и будет не раз на нашем пути. Мы все радостно орали в ответ на приветствие Голубева, когда кто-то из наших сообщил последние новости: поляки направили на лагерь пулемет, закрыли выход из лагеря, выставив вокруг Гузена свои вооруженные посты. Как потом выяснилось, они оперативно успели подобрать карабины, брошенные охранниками в канаву, но имели они и другое оружие.
Наша эйфория мигом окончилась — встал извечный вопрос: «Что делать?» Построившись в походную колонну во главе с майором Голубевым, мы решительно двинулись на аппель-плац и там остановились на приличном расстоянии от брамы.
Голубев, взяв с собой двух-трех человек, пошел к полякам выяснять ситуацию: надо входить в контакт — другого ничего не оставалось. Ивана Антоновича не было долго. Наконец парламентеры вернулись. Мы тесно обступили их, радостно отметив для себя, что они не возбуждены и держатся спокойно. «Все в порядке», — подумалось нам, а Голубев, не торопясь, стал рассказывать:
— Поляки приняли нас вполне дружелюбно и обстановку объяснили так. Пока в лагере продолжается буза, браму лучше держать закрытой, по крайней мере сегодня. Пулемет поставили «для балды», чтобы люди на радостях не дурил и — мало ли кому что вздумается, а развернуть его недолго. Мы посоветовались с французами, испанцами и приняли совместное решение — завтра каждый, кто захочет, уйдет в организованной колонне из лагеря. Об этом уже заявили французы, бельгийцы, испанцы. Вам, русским, тоже предлагаем идти с нами на Линц: американцы сказали, что вас всех будут передавать на репатриацию. Советы через демаркационную линию на свою сторону никого не пропускают, поскольку первыми бросились власовцы, выдавая себя за бывших узников. Так что советское командование принимает русских только организованным порядком. Остатки разбитой эсэсовской дивизии «Мертвая голова» бросили фронт и подались на север, в Чехословакию, где пытается оказать сопротивление значительная группировка вермахта. Но отдельные разрозненные отряды эсэсовцев могут встретиться тем, кто пойдет на восток. Люди не хотят оставаться в лагере ни дня — насиделись! С завтрашнего дня американцы обещали на автомашинах начать развозку по госпиталям своей зоны всех больных и инвалидов Маутхаузена и Гузена — лагеря полностью ликвидируются.
Мы стояли молча, Голубева не прерывали. Все звучало ново, необычно. В голове все перемешалось. Голубев продолжал:
— Насчет оружия поляки сказали так: «Вы не хотите нам верить? Это ваше дело. Для охраны лагеря мы на ночь уже поставили вокруг Гузена посты — человек 100 с карабинами, а лишнего оружия не осталось. Чтобы удовлетворить ваше самолюбие, наскребем десять карабинов, а с патронами совсем плохо. Вы понимаете, что это чисто символическая охрана, которую в случае чего эсэсовцы с ходу сомнут. Если хотите с нами — пожалуйста». Мы с этим согласились. Решение такое: в совместный караул к полякам пойдут 30 наших с десятью карабинами на 10 постов. Подсменные во время отдыха оружия иметь не будут. Оружие и патроны только утех, кто на посту.
У поляков — также. Стоять по 4 часа. Начальник караула — я, майор Голубев. Принимаете?
— Да! — дружно подхватили мы. Все казалось вполне логичным: то ли мы сами на себя нагнали страху, увидев пулемет поляков, то ли поляки, поняв, что переборщили, старались смягчить обстановку, сохраняя за ней полный контроль, — трудно сказать.
Голубев отобрал 30 человек, получил и раздал оружие и патроны, после чего мы вышли за браму, заняли караульное помещение и установили посты. Мы с Сережей Фетисовым пошли в первую смену. Наши посты — рядом. Нам надо было стоять с шести до десяти вечера, а затем с четырех до восьми утра, если придется.
О чем тогда думали? Наверное, о том, что уже не в лагере и у нас в руках оружие, а что будет завтра — поживем-увидим. Не верилось, что свободны. Кто-то из наших видел, что в момент, когда брама была открыта, а на аппель-плацу стоял броневик, Коля Белков и Миша Ибрагимов рванули к американцам: они надеялись хоть пару дней повоевать у союзников, но надежды их не оправдались, так как военные действия практически утихли.
А что еще в это время происходило в лагере? После того как на аппель-плацу прогремели национальные гимны и митинги, группы молодых русских и польских узников, прибывших с последними транспортами из других концлагерей, поддержанные многими «старожилами» Гузена, внезапно начали целенаправленную акцию мести. Для многих из нас, не участвовавших в этой акции, она явилась и неожиданной, и отвратительной, и страшной. Все, что накопилось у заключенных за время пребывания в лагере, все это выплеснулось наружу, и люди потеряли всякий контроль над собой.
Волна ужасного суда Линча, самосуда, прокатилась по лагерю, обрушившись главным образом на немецкий и австрийский уголовный лагерный персонал — против всех, кто прислуживал СС, против капо и блоковых. Их выволакивали оттуда, где они прятались, и буквально разрывали на части. При этом пострадала и часть узников, говорящая на немецком языке, а также «бойцы» третьего батальона фольксштурма, застрявшие в лагере: они лихорадочно сбрасывал и с себя желтую униформу и пытались спрятаться даже в выгребных ямах, в нечистотах и других аналогичных местах, но их везде находили и самым безжалостным образом убивали. Группы бывших узников, еле стоявших на собственных ногах, озверело вершили самосуд. Дело доходило до чудовищных сцен, когда каждый старался дотянуться хотя бы до одной из кишок жертвы и выдернуть ее из чрева, после чего и сам падал от изнеможения.
Не дай бог видеть то, что происходило в Гузене: не зря польские офицеры установили на браме пулемет. К вечеру стало известно, что в Гузене-2, где не было такого пулемета, русские порезали заодно с немцами и часть поляков, «провинившихся» перед ними в других концлагерях. До ночи порезанных в Гузене-2 поляков везли и несли в Гузен-1 на ревир.
Более практичный народ в то же время занялся совсем другим: ломали блоки, разводили костры, тащили картошку из подземных кагатов и варили ее.
С наступлением темноты я сменился с поста, немного отдохнул в караульном помещении и решил сходить к своим на ревир за медикаментами и перевязочными средствами — на всякий случай.
Голубев сразу поддержал:
— Сходи, хоть будет чем перевязать, если что…
Поляки беспрепятственно пропустили меня через браму в лагерь, и я благополучно пробрался в ревир через сплошной муравейник из обалдевших от внезапной свободы людей.
На блоке 29 никто не спал. Встретили радостно, сразу накормили и помогли набить карманы йодом, бинтами, ватой. Сколько я так перетаскал в лагерь за полтора года — если бы только знал доктор Веттер! Я поделился новостями, а они поведали о том, что делалось на ревире. Персонал ревира натерпелся всякого. «Зеленые» пробовали прятаться на ревире, но их немедленно обнаружили. Ворота в ревир закрывать было нельзя — бушевавшая толпа узников разнесла бы их. Но все обошлось, и к вечеру страсти в лагере стихли.
Альберт, Рио, Франциско, Юзек и Метек долго меня не отпускали, тискали, обнимали: они прекрасно понимали, что я уже больше не вернусь — птица обрела крылья. А я тогда и сам не знал, что не вернусь больше на ревир. Друзья наперебой говорили:
— Не волнуйся, делай, что там надо, а мы здесь тебя заменим.
— Мы с Франциско утром командированы на кухню — организовать питание для больных. — Восторженно сообщил Рио, радуясь случившемуся, — он ведь шесть лет в лагере! — Пойдут по два человека с блока, так Зоммер распорядился.
— А мы с Метеком проследим за больными и оставим только тех, кто не в состоянии идти сам и хочет остаться в ревире до эвакуации в американский госпиталь. Все остальные по желанию утром сами покидают ревир, — сказал Юзек, тоже радостный и возбужденный.
— Димитрий, помни, что на блоке, где ты работал, не было ни одного смертельного случая с больными. В этом заслуга всех, кто работал на блоке, и твоя — тоже. Не забывай нас! Зоммер распорядился сутра готовить больных к эвакуации. Он связался с Маутхаузеном — американцы обещали автомашины. Прощай, Димитрий, теперь все в порядке! — так говорил Альберт Кайнц и трепал меня за плечо.
Мне тяжело было покидать друзей. Все-таки полтора года проработали бок о бок и давно стали не чужими друг другу. Они проводили меня до ворот ревира, но через лагерь провожать не рискнули — недавние сцены дикого самосуда еще стояли у них перед глазами.
Возвращаясь через лагерь, я надумал зайти на третий блок, разбудил Петю Шестакова и предложил ему идти со мной. Он не раздумывал ни минуты, и вскоре мы с ним очутились у брамы. Но не тут-то было! Поляки меня хорошо запомнили и твердо сказали:
— Ты выходил один — один и вернешься. Мы с вашим майором таки договаривались. Второй пусть идет назад, утром увидитесь. Если не устраивает, можешь и сам остаться.
Никакие объяснения, что Петя — санинструктор, который нам необходим в карауле, на поляков не действовали. Это немецким солдатам и офицерам за годы плена мы научились голову морочить, а здесь свои, славяне, — этих не проймешь! Так мы расстались с Петей Шестаковым, которого я знал целых три года, а теперь я его больше не увижу. Он вернулся в блок, а я в караулку. Под утро мне снова вставать на пост: свой отдых я использовал. В четыре утра заступил на пост.
Помню, ночью к нам с Фетисовым подкатила автомашина из Маутхаузена с вооруженными испанцами, которые представляли собой такую же охрану Маутхаузена, как мы — Гузена. Они распевали песни, радостно нас обнимали, громко приветствовали, сообщили уже известные нам новости и покатили дальше — они просто на радостях катались.
Как только рассвело, распахнулись ворота брамы, и принялась вытекать из лагеря бесконечная колонна бывших узников. Радостно защемило сердце: вот и конец концлагеря! Колонна держала путь на запад, к Линцу. До города около 35 километров. Над колонной реяли испанские, польские, французские национальные флаги, звучали песни. В колонне полно русских, но красной материи загодя никто достать не удосужился — советский флаг над колонной так и не взвился. (И потом: с красным флагом из плена, да еще в сторону союзных войск? Нет, у нас все не так, как у людей!) Бывшие узники шагали в обнимку, громко распевали песенки, узнавали друзей, знакомых, беспрерывно хлопали друг друга по плечу. Все караульные посты — и наши, и польские — дружно влились в колонну со своими, уже явно ненужными карабинами. Так мы 6 мая 1945 года начали марш на Линц. Отрезок времени варварского господства нацистской системы террора в Австрии подошел к концу.
6–7 мая 1945 года регулярные части американских войск вернулись в Маутхаузен и Гузен и начали развозку больных по госпиталям. Так перестали существовать два самых жестоких концлагеря. 20 487 освобожденных безымянных номеров превратились в свободных людей с именами и фамилиями, с днями своих рождений и с ожидавшей их родиной.
Но у русских и тут все сложнее: как-то примет нас Родина?
Глава пятая На службе в РККА 1945–1946
Линц
Шли не один час. Колонна обливалась потом. Солнце жгло немилосердно. Люди уже устали, и песен больше не пели. Разговоры понемногу стихли. Все шли молча. Практически мы второй день кряду без еды и сна: не до того было.
Иногда тишину нарушал кто-нибудь из «проснувшихся» на ходу русских:
— Братцы, а мы ведь на запад топаем — солнце вон где!
И ему охотно объясняли, почему идем на запад. И снова тишина.
Пару часов назад мы слились с такой же колонной из Маутхаузена, но в ней русских меньше — большинство осталось в лагере ждать представителей советского военного командования. А здесь шагали те, кому в лагере оставаться невмоготу.
Во второй половине дня повстречались американские автомашины, следовавшие в сторону Маутхаузена. Союзники выразили удовлетворение тем, что бывшие узники самостоятельно и вполне дисциплинированно двигаются к Линцу. Правда, они предупредили, что перед городом оружие следует сдать: таков порядок. Узнав об этом, те счастливцы — поляки и русские, — кто шел с оружием, мгновенно приняли решение: «Не американцы нам его давали, а сами брали! Сдавать не будем!» — И после этих слов мы свернули с дороги, углубились в рощу, где росли крепкие деревья, и мигом раздробили о вековые стволы свои не успевшие «послужить» итальянские карабины и раскидали по траве патроны.
— Пусть будет так, раз кончилась война! — И мой карабин треснул от первого удара о дерево. Мы оставались мальчишками, несмотря ни на что, — сами вооружились и сами разоружились.
От маутхаузенцев узнали, что американские и советские войска уже 3 мая соединились в районе реки Энс.
Ребята уставали все больше, но продолжали шутить:
— Посмотрим Европу, отъедимся и — домой!
Вечерело. Мы приближались к Линцу. Около 30 километров позади. Красивый и цветущий, весь в зелени, городок Линц расположен на правом берегу Дуная в 40 километрах к югу от чешской границы и в 70 километрах к востоку от границы с Германией. Жителей в городе более 200 000, а в начале века едва достигало 50 000 человек. В городе довольно многоплановое производство: черная металлургия, машиностроение, химия.
В истории Линца есть несколько примечательных моментов.
В 110 километрах на запад от Линца на границе с Богемией (Германия)
20 апреля 1889 года родился Адольф Шикльгрубер (Гитлер). Он появился на свет в пригороде городка Браунау-ам-Инн. С пяти лет будущий фюрер жил в Линце, и только в 1907 года семья перебралась в Вену. С Линцем у Гитлера связано немало сентиментальных настроений и планов: мечтал увидеть в этом городе колоссальную галерею картин; в 1945 году велел построить мост через Дунай по своим планам и рисункам, которые берег с тех пор, когда в подростковом возрасте увлекался рисованием; и только в Линце, на берегу голубого Дуная, в башне с колоколами, оформленной в составе гигантского комплекса, он видел свою гробницу. Вот такой не простой город Линц.
Вошли в город и удивились: никто на нас не обращал внимания, а ведь шли «полосатики», вчерашние хефтлинги! Оказалось, что давно никто ничему не удивляется. Ко всему привыкла Европа, тем более что винкели у нас были красные, а не зеленые, и о нас, по-видимому, что-то знали.
Ни одного недружелюбного лица, но зато полное безразличие.
Мы скоро поняли, чем это вызвано. Жители города в те дни боялись не столько нас, сколько — союзников: как поведут себя заокеанские освободители? Ведь многие жители поневоле сотрудничали с нацистами.
А в нашей колонне шли со своими флагами французы, испанцы, поляки — кто их будет бояться? Красных флагов к тому же не видать.
Как только вошли в город, от непривычной обстановки захватило дух: город буквально забит американской военной техникой. Каждая улица запружена бронетранспортерами, броневиками, танкетками, виллисами, студебеккерами и другой колесной техникой. На всех перекрестках торчали джипы военной полиции. На их бортах белели полуметровые буквы «МР» — «милитэр полис»[69]. Мы обратили внимание, что во всех случаях водителями были негры.
Особое зрелище представляли собой окна домов: с них свешивались белые простыни — город кричал во весь голос о своей капитуляции. Трудно было отыскать глазами хотя бы одно окно без трепыхавшейся на ветру простыни, словно горожане спешили подчеркнуть: «Мы сдаемся! Мы приветствуем союзников! Мы с Гитлером не имели ничего общего!»
Вообще-то жителей в этот вечер на улицах было не сыскать: все сидели по домам, а большая часть мужского населения заранее сбежала на запад, не зная, в чью зону оккупации попадет Линц, — все драпали от русских.
Американцев наша колонна тоже не заинтересовала: они после трудного дня занимались своими делами и отдыхали. Мы никому оказались не нужны, но и у нас были свои дела, и хорошо, что нами пока никто не интересовался.
Колонна рассыпалась по всему городу и пригороду, разбилась на группы, землячества, которые сперва стали искать убежище на ночь, а затем еду и… выпивку. Что было — то было!
В моей группе четырнадцать человек, все из Гузена. Из них запомнил только Петю Кравцова с Урала и Пашу Преснякова с Вологодчины. Мы облюбовали чудесный фольварк — вилла, загородный дом — на самом берегу Дуная, брошенный хозяевами. Надо сказать, что это было жилищем не слишком богатых людей — по тем понятиям, — но оно не шло ни в какое сравнение с нашими халупами, коих так много в российской глубинке. Богатейший сад, огород, всевозможные постройки и пристройки, неограниченные нормативными сотками, как у нас, а столько, сколько надо нормальной австрийской семье, причем как она сама считает, а не кто-то за нее. Дом двухэтажный. Семья отсутствовала. В хозяйстве остался только молодой ретивый конь. За ним и домом присматривали двое молодых «восточных» рабочих: симпатичный чех Юзек и не менее симпатичная девушка, родом из Николаевской области, Галя. Они вдвоем жили на первом этаже и собирались днями подаваться к дому, так как фронт стабилизировался.
Мы могли расположиться спать в «барских» апартаментах на пуховых перинах, но предпочли сеновал на втором этаже. Там соорудили длинный стол из досок, две скамейки по сторонам и свалились на солому до утра: выдохлись вчистую.
Следующий день, 7 мая — наш первый день в Линце — мы целиком посвятили участию в погромах. Что это означало? В те дни из уст в уста по городу передавалась байка: в течение трех дней со дня вступления в город американских войск солдаты имеют право брать все, что пожелают, а также делать, что захотят. Мы долго не думали: так это или не так? Американцам вроде ничего и не надо — они имели все. Во всяком случае, я не видел, чтобы они участвовали в погромах. А вот жители города, к которым сразу присоединились и мы, добросовестно потрудились на этой ниве: мы с ними дружно растаскивали содержимое продовольственных и промтоварных магазинов, складов, баз, вагонов и других подобных объектов. Все тащили всё, что можно было унести. Жители запасались впрок. Мы проявили себя намного скромнее: уволокли бочонок сомнительного спирта, пару ящиков тушенки, много разной всячины и на этом успокоились. Нам в дорогу ничего не надо — только здесь закусить и выпить.
Французы, испанцы и поляки в первую очередь бросились переодеваться в приличную одежду. А мы, не сговариваясь, все, как один, решили остаться в своем лагерном обличье до перехода к своим: мы просто обязаны были сохранить свое «лицо», не затеряться в толпе «перемещенных лиц». Так называли несчастных людей, которых нацисты когда-то выволокли из своих жилищ, бросили в лагеря, а теперь эти люди мыкались по всей Европе, направляясь к родным очагам. Кроме того, мы должны были остаться со своими лагерными номерами, которые значились в эсэсовских картотеках. Мы не французы, и нам все это было важно.
Проблему транспорта наша группа разрешила просто: ретивый конь был немедленно запряжен в шикарный хозяйский кабриолет на подобие тех, наших, петроградских, на которых когда-то восседали бородатые кучера, опоясанные толстыми красными кушаками. В этом экипаже мы двенадцать дней разъезжали по всему городу, причем на сбруе укрепили небольшой красный флажок, символизирующий «представителей союзной державы» и их «дипломатическую неприкосновенность», как на любой посольской автомашине, благо американцам было не до нас, и они этому ребячеству не препятствовали.
Так мы развлекались на первых порах, но и не только так: дни 8, 9 и 10 мая в нашей памяти плохо сохранились, и вот почему. Поскольку стол соорудили, что поставить на стол — припасли, оставалось по русскому обычаю пригласить гостей, что мы и сделали. Затащили на сеновал первых попавшихся на улице американских солдат и сержантов — около десяти человек, расселись вокруг стола и в течение трех дней дружно пили, ели и пели, пока не кончились спирт и тушенка. Среди американцев нашлось и несколько поляков по происхождению, служивших в американской армии и еще не забывших родной язык. Они нам все переводили. Правда, негров в нашей компании не было.
Мы впервые с удивлением увидели, как пьют американцы: лизнут спирта и затем полчаса медленно и плавно раскачиваются из стороны в сторону, тихо напевая одну из любимых песенок. А мы? Мы сразу опрокидывали в рот по половине кружки неразведенного спирта и, только успев рукавом вытереть губы (тогда это называлось закусить «текстильторгом») и крякнуть, валились тут же под стол или на солому, либо доползали до сада и падали в траву. Для меня это первая пьянка в жизни: до сих пор — а мне шел 24-й год от роду — я водки или спирта и даже вина во рту не держал, не испытывая потребности в алкоголе. Но это можно понять: армия, плен и концлагерь — отнюдь не лучшие места для подобных возлияний, а в школе, конечно, не пили.
Первый из нас, кто приходил в себя через пару часов, тормошил и будил остальных. Проснувшись, мы прыгали в голубой Дунай, а после купанья собирались за столом, и все повторялось. Мы подружились с американцами, вместе пели, обнимались и клялись в вечной любви. Они все — простые, добросердечные парни.
На утро 11 мая мы наконец отрезвели в полном смысле слова, и не только потому, что бочонок пуст. На свежую голову мы ощутили тревогу: ушли на запад, не в сторону своих; мило пьянствуем — кстати, бочонок оказался первым и последним, — а как же с дорогой к дому? Кто же будет за нас беспокоиться, чтобы мы не застряли в этом красивом городе? Нет, пора бить тревогу: мы уже пятый день в Линце!
А по городу тем временем кто-то по-прежнему усиленно распространял слухи о том, что ни в коем случае не рекомендуется идти к своим малыми группами, а особенно, в одиночку — надо ждать репатриации. «Ладно, подождем», — думали мы, а беспокойство росло — слишком все тихо в городе. Французы и испанцы своим ходом ушли дальше на запад, поляки тоже растворились, остались только мы, русские, и нас несколько тысяч по разным углам. Что же дальше?
В этот день мы обошли ближние «поселения» русских, переговорили со всеми, обменялись тревогой и приняли совместное решение: завтра — 12 мая — прорваться на прием к чинам военной администрации с целью уточнить их планы в отношении нас, а равно и нашу дальнейшую судьбу. Старшим для переговоров выбрали меня, посчитав, что я хоть на немецком могу изъясняться, а остальные только по-русски, да еще с матерным акцентом. Ну а с десяток слов по-английски я тоже знал: «Хау-ду-ю-ду, я из пушки в небо уйду!»
На другой день запрягли ретивого и впятером торжественно поехали к военному коменданту Линца. Комендатура размещалась в центре города, в старинном доме с вычурной архитектурой типа средневекового замка. К нашему удивлению, нас приняли без проволочек. А дальше все как в кино: громадный зал-кабинет с большими зарешеченными окнами, массивные люстры на потолке и различные канделябры всевозможных форм по углам, плотные, тяжелые занавеси и другие атрибуты великолепного интерьера. Все должно подавлять посетителя и подчеркивать величие тех, кто будет решать твою судьбу. За громадным дубовым резным столом восседал пожилой, тучный комендант города, похожий на глыбу мяса, с бульдожьим лицом и отвисшими щеками. У его ног лежал большой пятнистый дог, а неподалеку стояли адъютанте переводчиком.
На переговоры разрешили войти только одному лицу, и я пошел один, согласно договоренности с ребятами. Разговор получился вполне вежливый, но недолгий: комендант заверил меня, что они сами заинтересованы избавиться от бывших узников концлагерей, и русские офицеры по репатриации своих граждан в советскую оккупационную зону ожидаются к 20 мая. Американская военная администрация не намерена препятствовать нашему возвращению на родину, но если кто из русских желает остаться на западе, то американцы готовы рассмотреть такие заявления, но ничего не могут обещать заранее.
Оставалось ждать с неделю. Ничего — потерпим. Об этом разговоре ребята передали «по телефону» всем нашим, кто жил неподалеку от нас, а те обещали известить по цепочке, как привыкли это делать в лагере, всех остальных. Теперь пошел счет дням: мы стали ощущать себя пассажирами, ожидающими поезд.
Два последующих дня опять занялись продовольственным вопросом, но доставать еду стало труднее: город разграблен дочиста. Так мы добрались до хозяйских запасов сухарей, круп и овощей. Пришлось изворачиваться и понемногу экономить — не просить же у американцев кусок хлеба, тем более что они нас в Линц не приглашали.
15 мая нас осенила очередная идея: почему бы вместо кабриолета не обзавестись настоящей автомашиной? Свой шофер среди нас был. Дело в том, что, как только американцы обосновались в Линце, они стали планомерно и решительно выкидывать на городскую свалку всю немецкую колесную технику — грузовые и легковые автомашины, мотоциклы, тракторы, в том числе и армейскую технику. Это делалось с целью последующего наводнения европейского рынка американской техникой, разумеется, не даром. Собираясь на кладбище машин, мы этого не знали.
Запрягли. Прокатились. Приехали. У свалки не видно ни начала, ни конца. У нас глаза разбежались, тем более что добрая половина «парка» находилась в рабочем состоянии.
Только успели окончательно остановить свой выбор на одной из легковушек, как возле нас отчаянно завизжал тормозами американский армейский джип, из которого выскочили офицер и переводчик — немец из военнопленных, по выправке тоже в недалеком прошлом офицер.
С рядовыми солдатами и сержантами армии США мы успели подружиться, с генералом имели вежливую беседу, а со средним офицером контакта не получилось. Довольно в грубой форме — через переводчика — он дал понять, что трогать здесь ничего нельзя, все принадлежит Штатам и чтобы мы убирались отсюда. Было видно, как немец с нескрываемым удовольствием усиливает жесткость сказанного офицером, в котором нетрудно признать сотрудника американских спецслужб. После короткой взаимной перепалки — пришлось послать офицера с переводчиком немного дальше, чем полагалось по международному этикету, — мы уселись в свой экипаж и покинули свалку: на этот раз номер не прошел.
17 мая американские солдаты показывали на городской сцене оперетку «Сорванец», где сыграли как мужские, так и женские роли. Так, случайно проезжая мимо, мы попали в число зрителей этого веселого мюзикла. Многого мы не понимали, но выручали сидевшие рядом американские солдаты. Они переводили, как могли, а остальное мы улавливали по смыслу.
И артисты, и зрители получили искреннее наслаждение.
На следующий день, 18 мая, произошли целых два события.
Одно из них: Галя и Юзек объявили нам о своей помолвке. Они собирались пожениться и уехать жить на его родину — в Чехословакию. Такого мы никак не ожидал и, и это явилось для нас ударом: мы, молодые дурни, не подозревали тогда, что любовь не всегда склонна признавать государственные границы. Родная партия и комсомол всегда утверждали обратное, и мы это усвоили со школьных лет. А сейчас мы впервые увидели советского человека, отказавшегося возвращаться домой, на родину, — таких мы еще не встречали. Галя в свое оправдание пояснила, что у нее в Николаевской области никого не осталось. А мы, великий советский народ, разве не с ней? Мы-то на что? Кончилось тем, что мы дружно объявили Гале бойкот и «всенародное» презрение, перестали с ней здороваться и разговаривать. Они с Юзеком по вечерам, уединившись, сидели обычно на крылечке, как два голубка, и конечно, каждый из нас втайне завидовал их счастью.
Второе событие совсем из другой области. Ожидался отъезд Гали с Юзеком, мы готовились в дорогу, и тогда верного коня за наше здоровье скушает кто-то другой. Это ясно как божий день: на него давно посматривали соседи. Мы решили съесть его сами, поскольку четыре года не видели мяса. Постановили и съели! Питались им целых четыре дня, все последние дни в Линце, и никаких угрызений совести не испытывали: для нас война еще не кончилась, и что ожидает впереди — никто не знал.
Наконец 20 мая стало известно, что в Линц действительно прибыли наши офицеры по репатриации, и все, кто хотел на родину, должны были на следующий день собраться на большом поле за городом. По всей видимости, ранее там находился лагерь военнопленных. Мы не стали искушать свою судьбу и поторопились, забрав с собой остатки жареного коня, занять «плацкартные» места на указанном поле, где уже собралось несколько тысяч человек.
За много лет мы впервые увидели советских офицеров в погонах, при орденах и медалях и остались несказанно удовлетворены тем, что они выглядели выигрышнее, нежели американские офицеры в полевом обмундировании. Наши — в парадной форме, обмундирование новенькое, сами подтянуты, никакой развязности в движениях, как у американцев, да и сами — красавцы, мы не видели таких четыре долгих года!
Три дня мы провели на этом поле: сидели, ели, спали и никуда не отлучались ни на минуту, боясь отстать от готовившегося транспорта. Среди нас нашлись чудаки, захотевшие сделать красный флаг с белой надписью «Гузен» и водрузить его на головной автомашине. Но большинство дружно освистало эту затею, указав на несовместимость красного цвета государственного флага нашей страны с названием нацистского лагеря смерти для уничтожения советских людей. Больше никто не заикался об этом.
Два дня наши офицеры оформляли в американской военной администрации документы на нашу репатриацию. Наконец 24 мая мы радостно встретили колонну американских студебеккеров, подошедшую за нами. Водителями были, как всегда, негры. Мы заняли места на машинах. Никто нас не считал, не переписывал, пока это не требовалось: все еще впереди. Наступил волнующий момент: колонна тронулась на восток, и мы покидали гостеприимную в целом американскую оккупационную зону, да еще под защитой двух советских офицеров. Для нашего спокойствия этого вполне достаточно — нас привезут по назначению туда, куда надо.
Что можно сказать про тот отрезок времени, что мы провели в Линце — с 6 по 24 мая 1945 года? Порассуждаем:
1. Сколько нас, русских, бывших узников концлагерей, могло тогда сосредоточиться в Линце? Из 8000 русских узников Гузена на 4 мая 1945 года примерно 2000 человек — инвалиды и больные; около 3000 человек остались ожидать репатриацию непосредственно в лагере; примерно 2000 человек пошли на запад, рассчитывая быстрее репатриироваться из Линца. Если удвоить «западную» группу за счет возможного аналогичного количества русских из Маутхаузена и других его филиалов, присоединившихся к нам по пути в Линц, то в городе могло оказаться до 4000 человек — это около двух стрелковых полков мирного, довоенного времени. Эти цифры похожи на реальные, учитывая, что наша автоколонна состояла из более чем 80 большегрузных автомашин.
Одновременное нами, бывшими узниками концлагерей, из Линца репатриировали «восточных» рабочих и бывших военнопленных, работавших до последних дней на различных промышленных предприятиях города. Но их вывозили отдельно. Надо отдать должное принимавшим нас офицерам: их отношение к бывшим узникам было особенно теплым и приветливым, дружеским и братским.
2. Находясь в Линце, мы с первого дня не переставали удивляться: нас пришло в город такое количество, а никто не обращает на нас ни малейшего внимания. Скажу только о своей группе из 14 человек: мы заняли брошенный хозяевами фольварк, но ведь это чья-то собственность; мы колесили по городу в кабриолете сколько хотели и куда хотел и, и никто не останавливал нас; мы вообще в те дни толпами слонялись по городу и, наконец, съели чужого коня! Никому не было дела до нас: ни жителям, ни освободителям.
Единственное, чем мы могли гордиться, — это наше в целом культурное поведение: пьяными нас никто не видел, да и пили только первые три дня на сеновале; друг с другом никогда не ссорились, перепалок и выяснения отношений между нами не было, а отношения — самые теплые, товарищеские. Если посмотреть на нас со стороны, то на недавних хефтлингов-смертников мы никак не походили, а казались нормальными людьми. Только наша лагерная одежда с пресловутыми винкелями, а также дистрофия у многих из нас — говорили о чем-то.
Так в чем же дело? Начнем с жителей. Думается, они в те дни больше беспокоились о собственной судьбе: война кончилась, Германия повержена, но австрийцы были в свое время мобилизованы в германскую армию и сражались против союзников. Как теперь будут относиться к их семьям освободители? Ждать репрессий или их не будет?
После участия в разгроме магазинов жители на улицах города старались не появляться, да и поживиться уже было нечем. Они выжидали — что будет дальше? Местная городская администрация не функционировала, и инициативу пока никто из австрийцев проявлять не спешил, и тем более они «не возникали» — по нашей терминологии — в отношении русских, наводнивших город, а поводов к этому либо конфликтных ситуаций, как сказано выше, мы не создавали.
Что касается американцев, то им вообще все было «до лампочки» — опять пользуюсь отечественной терминологией — они сами мечтали о возвращении на родину, как и мы. Во всяком случае — многие из них. Это только мы — добрый, всепрощающий советский народ, — не успев занять с боем столицу Австрии Вену, сразу включились в созидательную работу по восстановлению городского хозяйства и привлекли к этому горожан, чтобы заработали пекарни, водопровод и все, без чего не может жить большой город. Но американцам все это не нужно. Пекарни и прочее — проблемы самих горожан. Американское командование, прекрасно зная, что оккупация Австрии носит временный характер и все союзные войска скоро ее покинут, не утруждали себя налаживанием городского быта в Линце: пусть Австрия сама об этом беспокоится. Американцы предпочли начать заниматься мелким бизнесом, устанавливать деловые связи с промышленными кругами, а нижние чины ударились в безудержную спекуляцию всем и вся.
Таким образом, в этот короткий промежуток времени просто ни одна из названных сторон — жители города и американцы — еще не определилась и не выработала четкой линии поведения. Поэтому мы никого не интересовали, а что касается Австрии, то потом будет и план Маршалла, и многое другое — но это будет финансово-экономическая помощь, а не содействие в практических повседневных делах. Действия советской военной администрации, например, в Вене всегда носили признаки человеческого тепла, доброты и сочувствия австрийскому народу, вынесшему все тяготы германской оккупации. В этом и было коренное различие в работе двух полярных военных комендатур.
3. Об отношении к нам, русским, бывшим узникам концлагерей, военнослужащих армии США ничего предосудительного сказать не могу.
Лучше всех относились к нам солдаты и сержанты; более сдержанно — средние офицеры; вежливо-холодно — старшие офицеры и генералы, а сотрудники спецслужб одинаковы во всех странах. Очень приятно вспомнить и то, что наш концлагерный контингент совершенно не интересовал американские спецслужбы, и они нас просто игнорировали, понимая, что тратить на нас время ни к чему, да мы еще к тому и ушлый народ — по одному не ходили, всё группами, в коллективе. Даже было обидно: мы не прочь были «срезаться» с ними, но это было чревато — можно не попасть вовремя на репатриацию.
Через много лет мне попалась на глаза маленькая книжечка из серии «В библиотеку школьника» — повесть Б. Молчанова «Пропавший без вести» (М.: Изд-во ДОСААФ, 1958). Там описывался случай, когда наш истребитель незадолго до конца войны был сбит в небе Германии. Летчик опустился на парашюте в полосе наступающей американской армии. Его сразу подобрали сотрудники спецслужб, изолировали от внешнего мира, скрыли от представителей советского командования, предъявив им только разбитый самолет. После отказа летчика от сотрудничества с американской военной разведкой его сделали «без вести пропавшим» и отправили в концлагерь на севере. По пути ему удалось совершить побеги вернуться к своим. Все это длилось два долгих и мучительных года.
Не знаю, почему эта повесть рекомендована школьникам. Если имеется в виду возбудить ненависть к американскому империализму, то это маловероятно — книга написана серьезно, тяжело читается из-за переживаний за летчика, она больше подходит в «Библиотеку молодого воина». Дело в другом. Могло ли так быть? Да, могло, но только с одиночным человеком, представляющим интерес для военной разведки. При этом официальной установки о необходимости в каждом подобном случае поступать именно так, как описано в повести, могло и не быть. Действия могли предприниматься по личной инициативе высокопоставленных лиц военной разведки США. Нам же такое не грозило: летчик был один, а нас — тысячи озлобленных вчерашних каторжников, да еще и не представлявших интереса для разведки.
Много шума из ничего в случае возникновения конфликтной ситуации с американским командованием последнему было ни к чему. А вот тихо, без шума и риска, сделать гадость союзникам, то есть советской стороне, это они могли при любом удобном случае — для того и существует военная разведка.
Кроме того, после недавней смерти Франклина Рузвельта в апреле 1945 года заменивший его на посту президента Гарри Трумэн способствовал началу долгой холодной войны. Так появилась на свет и «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности», которая стала квалифицировать нормальное отношение к русским как преступление против США. И Сталин, и Трумэн — оба потрудились в этом направлении, но простые советские люди всегда с теплотой будут вспоминать сердечные встречи с американскими солдатами в далеком 1945 году.
4. Наконец, последнее. В 1994 году по российскому телевидению в передаче «Соотечественники. Русские африканцы» диктор приводил ряд цитат из книги кинорежиссера Станислава Говорухина. В них красочно описывалось, как наши чекисты с помощью английских спецслужб вылавливали в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в других странах наших бывших военнопленных, которые якобы по разным причинам не желали возвращаться на родину. Перед чекистами поставили задачу: любыми путями, используя насилие, обман и прочее, не дать этим людям остаться за рубежом. Я не берусь возражать такому известному деятелю, как С. Говорухин, но опять встает вопрос: могло ли так быть? Да, могло. Если речь шла о выдаче военных преступников — власовцев, полицаев, старост и других — тогда и говорить не о чем. А в отношении военнопленных, ничем не запятнавших себя за годы плена, тоже не все так просто.
Скажем, человек проработал все годы плена на производстве или на сельхозработах, находясь, как сейчас принято называть, в местах принудительного содержания. Это считать преступлением или нет?
Пусть рассудит история, а я благодарю свою судьбу за то, что по воле Провидения проработал всего 5 дней на табачной фабрике в Хейнбурге-ам-Донау и пару месяцев в крестьянской семье в Целлерндорфе. Слава богу, что случилось именно так. Если бы сложилось иначе, я не уверен, насколько твердым могло оказаться желание вернуться на родину, даже приняв во внимание сильную привязанность и любовь мою к Нине. Трудно говорить о том, как могло быть, — этого никто никогда не узнает, и я в том числе. Но вряд ли я смог бы простить себе позор длительной работы на врага, а скорее предпочел остаться «пропавшим без вести», каким и пребывал с 1941 года. А таких было немало, которые, не без оснований, побоялись вернуться на родину не из-за совершенных ими военных преступлений, а лишь от ощущения собственной вины за плен, за пассивное поведение в плену и вынужденное согласие работать на промышленных объектах фашистской Германии.
Прошли годы, и стало известно, что большинство бывших военнопленных именно с такой судьбой, и тем не менее не побоявшихся вернуться на родину, получили срок в системе ГУЛАГа до десяти и более лет, не намного меньше, чем получали власовцы.
Но я продолжаю считать, что все же велика была роль Господина Случая, и от него зависело многое: я не подвержен суеверию, но какая-то высшая сила направляла судьбу каждого из нас. Многое в те годы зависело от суммы случайных факторов: среди каких людей ты окажешься в конкретный момент и в том или ином месте; каковы будут твои отношения с окружающими тебя людьми — и своими, и врагами; каковы будут твои действия и поступки при этом и т. д. ит. п. Абсолютно все могло иметь значение, но мы это поняли только на склоне лет, а тогда именно «плыли» по воле случая, но единственно непоколебимыми оставались наши убеждения в незыблемости социалистического строя и верность раз выбранным идеалам. Это укрепляло нравственные силы в самые тяжелые минуты и не позволяло нам запятнать себя больше, нежели мог сделать сам факт пребывания во вражеском плену.
Возвращаясь к маю 1945 года в Линце, утверждаю, что тому, кто хотел вернуться на родину, — американцы не препятствовали, а тех, кто не хотел, — наши не принуждали, но только в то время и в том месте. В другое время и в другом месте все могло быть иначе. Мне не довелось сталкиваться с военнопленными, пожелавшими остаться на западе — я их просто не встречал и не видел, а возвращались нас тысячи, но, правда, это бывшие узники концлагерей, вчерашние смертники. Если бы кто-то в те дни попытался воспрепятствовать нашему возвращению домой, то мы готовы были на все — вплоть до того, чтобы разорвать на куски, как это было в Гузене.
У американцев хватило ума не удерживать нас в «западном раю». Из того контингента бывших смертников, какой представляли мы, вербовать агентуру для последующей заброски в Россию было занятием бессмысленным.
В упомянутой выше телепередаче «Соотечественники» также говорилось о том, что, согласно конвенции о военнопленных, принятой в Женеве в 1936 году, нельзя насильно принуждать их возвращаться на родину, если они этого не желают. Но якобы имело место секретное соглашение между спецслужбами Англии и СССР об обязательной выдаче всех военнопленных до последнего человека. Про такое мне, естественно, не известно.
Не сталкивались мы и с обратными действиями: в мае 1945 года в Линце нас, бывших военнопленных, бывших узников концлагерей, никто не «отлавливал» и не принуждал к возвращению на родину, а также и не удерживал остаться на Западе. Все происходило на добровольной основе, все стремились домой, и чекистов с «сачками» для отлова нас за рубежом мы, к счастью не видели…
Винер-Нойштадт
Колонна студебеккеров с ветерком впервые мчала нас на восток, а не на запад, но до Ленинграда — ни много ни мало — 4000 километров! Но на американских машинах наш путь был недолгим: через 30 километров колонна миновала раскинувшийся в лощине городок Энс, пересекла демаркационную линию и остановилась. Мы сошли на землю и по-дружески попрощались с водителями — машины отправились обратно.
Я впервые был у своих — за столько лет! Нам не верилось, что теперь все по-настоящему свободны и находимся не на вражеской территории, не на территории союзных войск, а в советской оккупационной зоне. Это уже не плен, и мы — не военнопленные, хотя наш статус еще не определился. Кем мы станем?
Прибывших высадили в чудесном уголке природы: вокруг — луга и рощи в зелени, все цветет и благоухает. В этом живописном местечке мы провели пару дней в ожидании колонны советских автомашин. Наши явно не справлялись с вывозкой. Неподалеку расположились репатриированные гражданские лица. Многие женщины — с детьми. Всех привезли сюда до нас и продолжали везти и везти со всех уголков Австрии, как и нашего брата.
Досужие языки поведали нам, что один капитан, участвовавший в репатриации людей, неожиданно повстречал свою жену, но не одну, а с приобретенным в Германии ребеночком. Такое в неволе случалось, но причины бывали разные. Капитан сгоряча схватился за оружие, но ему не дали выстрелить. Еще одна драма на войне, и еще одна разрушенная семья. Сколько будет таких?
Пришла колонна таких же американских студебеккеров, полученных Советским Союзом по ленд-лизу, только на этот раз водители — свои, российские парни. Вновь погрузились и понеслись дальше с тем же попутным ветерком. Теперь предстояло проехать около 260 километров до города Винер-Нойштадт, в окрестностях которого находились сборные пункты для репатриированных. Позади остались Санкт-Валентин, Амштеттен, Санкт-Пельтен, Санкт-Георген: это все не просто географические названия населенных пунктов, а в этих местах находились многочисленные филиалы Маутхаузена. Мы оставляли навсегда эти страшные места.
Вот и пункт назначения — Винер-Нойштадт. В городе жили более 60 000 человек, но в нашей памяти он не сохранился: небольшие австрийские городки так похожи один на другой — они все в зелени, ухоженные, тихие, по-европейски чистенькие.
Нас разместили на территории одного из бывших лагерей, где для ночлега стояли постройки барачного типа. Все ожидали, что нас будут принимать и регистрировать водном из проверочно-фильтрационных пунктов НКВД, о которых был и достаточно наслышаны, но никаких признаков особого режима в лагере мы не обнаружили, а ошибаться в таких делах мы не должны, так как слишком болезненно относились к любой подобной мелочи. Нам уже приходилось видеть, как следовали на запад за власовцами эшелоны с подразделениями НКВД. Это отнюдь не радостная картина, порожденная войной. И все же лагерь, в котором мы находились, никакие походил на лагерь НКВД. Правда, судить нам трудно — не приходилось бывать в них, да еще с «политической закваской», поскольку в любом случае мы не уголовники.
По лагерю все перемещались свободно, общались между собой, находили старых друзей и знакомых, вместе с ними радовались благополучному возвращению к своим. Наверное, на воротах стоял часовой, но никому из нас и в голову не могло прийти желание выйти из лагеря, даже по пустяку. Не для того мы возвращались к своим, да и судьба наша еще не определилась. Но память четко сохранила другое. У ворот все время торчали группы наших ребят в ожидании поступления в лагерь новеньких, какими только вчера мы были сами. Каждый надеялся в аналогичном нашему транспорте из Маутхаузена, Гузена и других филиалов встретить тех, кого потерял давно или разлучился совсем недавно — мужская дружба имеет свои каноны. Например, Мишу Петрова я надеялся встретить до самого последнего дня, и никак не хотел примириться с мыслью, что больше никогда с ним не увижусь. Поэтому при приближении к лагерю очередной колонны новеньких все моментально устремлялись к воротам и жадно всматривались в лица входящих. То тут, то там слышались радостные возгласы:
— Вася, ты?
— Петро, Петро! — И люди бросались в объятия друг друга.
Многих и мне довелось повстречать. Например, Костю Андрюшина.
Кроме радостных случилась и такая «встреча»: стоявшие у ворот услышали гневный окрик:
— Вот он, смотрите… — Это кто-то опознал бывшего военнопленного, который чем-то сумел запятнать себя, и люди прощать предательство не намеревались. Его схватили за грудки, но вмешались сопровождающие, и нам было объявлено: вершить самосуд строго запрещается, а во всех подобных случаях следует извещать соответствующие органы. Конечно, все согласились с этим: под самосуд можно всякое провернуть — мы недавно столкнулись с этим в Гузене. Как правило, запятнавшие себя чем-либо нашей компанией «пренебрегали». Лишь один такой случай я и припоминаю. Надо не забывать о том, что там, где мы находились, содержались только бывшие узники концлагерей — мы сами за этим следили. Других категорий репатриированных среди нас не было. Это обстоятельство значительно облегчало нашу предстоящую регистрацию и возможную проверку кого-либо из нас. Но о какой проверке могла идти речь? Кто и как мог бы проверить те сведения, которые мы будем сообщать о себе? Это было невозможно. Оставалось признать, что взаимная «самопроверка» — самый действенный элемент контроля в данных обстоятельствах. Может быть, поэтому мы не сумели обнаружить в лагере ни чекистов в форме с голубыми околышами на фуражках, как о них пишут в книгах, ни чекистов в гражданской одежде. Мы даже не видели ни одного офицера, чтобы хотя бы определить род войск, в ведение которых мы поступили.
Регистрацию прошли только на второй или на третий день, причем все происходило настолько просто и буднично, что вызвало у нас неподдельное изумление. Опять, как в Гузене, мы по очереди подходили к столам, за которыми сидели молодые вихрастые мальчики в солдатской форме и записывали наши ответы. При этом вежливо предлагалось присесть. Вопросов совсем немного: как зовут, время и место рождения, образование, национальность, партийность, довоенный адрес, где и когда призывался в РККА, воинская часть, воинское звание и должность, где и когда попал в плен, где находился в плену, кто есть из родных? Вот и все. Дополнительные и уточняющие вопросы не задавались. Их будут, по-видимому, задавать другие люди и в другом месте, если найдут нужным.
Те, кто нас регистрировал, были крайне удивлены следующей особенностью наших биографий: у столов звучали названия городов, о которых успел и забыть. У всех еще сегодня на устах Будапешт, Вена, Берлин и Прага, а тут — Кишинев, Тирасполь, Первомайск, Одесса, Севастополь, Николаев… Сидевшим за столами не приходилось видеть живых участников войны 1941 года, так мало их осталось в действующей армии. Это потом назовут впечатляющие цифры, что из непосредственных участников войны 1920–1923 годов рождения осталось 1–2 человека из каждых 100, да и то с учетом переживших плен. А тут проходили регистрацию чудом уцелевшие солдаты, сержанты, лейтенанты далеких во времени боев 1941 года. Было о чем задуматься! А о том, сколько нас уцелело в плену, тогда еще никто не знал.
В этом лагере мы скучали около двух недель. Нас прилично кормили, мы стали поправляться, нам делали переливание крови для уничтожения следов фурункулеза — мы все были «пятнистыми», и от этого нам предстояло избавляться долгие годы — лечили и другие недуги. В общем, приводили в порядок, чтобы мы стали похожими на нормальных людей.
Других регистраций нам не предлагалось, первой оказалось достаточно. А главным, как мы сами считали тогда, было то, что мы все из концлагерей, все в полосатой одежде с винкелями — никто заранее не переоделся в гражданское, мы ведь еще не демобилизованы — и почти все военнопленные 1941 года. Все это о многом говорило тем, кто нас переписывал, и это действительно было так.
Время опять потянулось, как на вокзале. Практически никто из нас не имел представления о том, что с нами будет. Самое отвратительное состояние.
Время от времени уходили группы бывших офицеров среднего звена. Они уходили строем, а мы пока оставались. Однажды из такого строя выскочил человек и бросился ко мне прощаться. Это был старший лейтенант Костя Андрюшин. Мы обнялись, и он сунул мне записку со своим ленинградским адресом. Об этом я уже писал.
17 июня нас торжественно призвали на военную службу и во второй раз доверили оружие, которое мы не сумели сберечь в грозном 1941 году. Сбросив лагерную одежду, мы переоделись в советское военное обмундирование, а на пилотках снова засверкали пятиконечные красные звездочки — символы принадлежности к родине и к армии. Многие из нас пытались отвернуться в сторону и хоть на миг уединиться, чтобы никто не увидел нашей слабости, но скрыться было некуда: «кругом тебя были свои», как поется в песне, и у всех на глазах стояли слезы.
По всему выходило так, что хозяином сборного пункта был полевой военкомат 200-го армейского запасного стрелкового полка 3-го Украинского фронта. С этого дня я стал бойцом 2-й роты 10-го батальона. Наша судьба определилась — снова впереди военная служба.
В этот день нас привели к военной присяге, вручили красноармейские книжки — вот она лежит передо мной — и мы перешли солдатским строем уже не бывших, а настоящих военнослужащих Красной армии, в военный городок, находившийся поблизости, и надолго обосновались в нем привычной солдатской семьей.
С того же дня нам предложили писать домой, поскольку мы обрели наконец адрес в виде полевой почты 200 азсп 3 УФ. До призыва в этот полк в период с 27 мая по 16 июня мы формально адреса не имели. Все ребята сразу схватились писать домой, а я тут занял особую позицию, решив, что не буду этого делать до тех пор, пока не окажусь по ту сторону государственной границы, то есть на своей земле, а это еще Австрия. Да и ответа мне сюда не дождаться: адрес этот временный, и мы рано или поздно покинем цветущий австрийский городок. Я всегда любил не только сам писать письма, но также и получать на них ответы. Четыре года не имел возможности сообщить о себе, а писать не стал. Долго ждал этого дня, подожду еще — все равно мертвецом считают. Как я ошибался!
Было и другое, что удерживало меня от написания первого письма. Во-первых: кому писать? Я знал про блокаду Ленинграда. Пережила ли ее мама? А если находилась в эвакуации, то где она сейчас? С мамой все ясно: писать ей рано, надо разобраться.
Во-вторых: переписка с Ниной оборвалась 22 июня 1941 года, и с этого дня в течение четырех лет она обо мне ничего не знала, кроме того, что я пропал без вести в самом начале войны. Также ей было известно, что я служил в Одессе, тяжелейшая оборона которой началась уже 5 августа 1941 года, и о моей военной судьбе оставалось предполагать только худшее. Ждала ли она меня по-прежнему, без всякой надежды, или, отчаявшись ждать и покорившись неумолимому року, вынуждена как-то изменить свою жизнь: годы идут, а ясности в личной жизни — никакой. Сколько еще можно ждать? А если у нее уже семья — это так естественно и понятно, — то зачем ей мои письма, и не потеряет ли она в результате свое, вновь выстраданное, счастье? И на худой конец — пережила ли она блокаду? На все эти вопросы хотелось сперва получить ответы и только потом написать дорогим мне людям, в том числе двоюродным братьям и сестрам, дядям и тетям, школьным друзьям, наконец.
У меня много потенциальных «респондентов», и всем следовало написать.
И все же напишу только тогда, когда буду на своей земле и смогу рассчитывать на получение ответа. Просто сообщать всем подряд: «Ура! Я жив!» — после такой тяжелой для всех войны, мне не хотелось. В каждой семье могли быть потери, а я буду выпячивать свою радость, что нашелся. Вот такой непростой вопрос…
В первые дни новой армейской службы мне предложили организовать выпуск «Боевого листка». Так всегда называлась рукописная газетка небольшого формата (смотря какую бумагу сумеешь достать), которую обычно выпускали в каждой уважающей себя роте. Все художественное оформление, содержание и рисунки определяла фантазия редактора. Что касается меня, то, насколько помню, за довоенную службу часто приходилось выпускать стенгазеты. Много я их выпустил. И опыт определенный имел. Мои друзья в соседних ротах никак не могли вначале собрать нужное количество заметок, пока я их не научил.
Обычно день-два я присматривался к бойцам на предмет того, кто на что способен, кто о чем думает, чем недоволен, что предлагает и т. п. Потом подходил, говоря:
— Слушай, мне листок надо выпустить, а ты вчера рассказывал о том, как… (следовал конкретный материал). Напиши об этом, всем будет интересно.
Или:
— Сергей, ты предлагал вчера организовать футбольную команду. Напиши об этом, рота поддержит, командование одобрит и — порядок!
И все в таком духе. Тем самым я упрощал задачу перед «литсотрудниками», предлагая им написать об уже наболевшем, и все соглашались. Материала у меня хватало, и он был актуален. Были дружеские шаржи, уголок юмора и все, что положено. Все видели, что «Боевой листок» 2-й роты привычной халтурой не отдает, и читали его с интересом. Другие чудаки-редакторы весь «Боевой листок» писали сами, и тоже — получалось.
А в целом — шли обычные армейские будни: занятия в поле, в строю, тактические занятия и другие. Все это хорошо знакомо, ранее пройдено, и втягиваться в размеренную по минутам жизнь нам не требовалось.
Но скоро занятия приняли особый характер, и вот почему. Наши младшие командиры, проводившие занятия, ждали демобилизацию, которая вот-вот должна произойти. Старшие года разъехались по домам в мае-июне 1945 года, когда была первая демобилизация, а 1910–1918 годы рождения с великим нетерпением ожидали вторую очередь демобилизации. Я знаю, что особенно досталось тем, кто, не успев после срочной службы и войны с «белофиннами» вернуться домой, через короткое время был снова мобилизован на германский фронт (в основном с 1916 по 1918 год рождения). Это происходило на моих глазах, и я им всегда сочувствовал, понимая, что мог оказаться на их месте.
Демобилизация второй очереди планировалась на осень 1945 года, и душевные силы тех, кто ее ожидал, давно были на исходе. «Война кончилась. Чего нас держат?» — говорили они с горечью. Вот почему ротные занятия приобрели странный вид. Наши командиры, выбрав укромное местечко в какой-нибудь благоухающей роще, надежно скрытой от глаз старших командиров, отдавали «боевой приказ»:
— Слушай команду: всем лежать и слушать, как трава растет! — Что можно к этому добавить, если мы сами не первый год в армии, а, скажем, с 1939 года?
Вот так продолжались учебные занятия в 200 азсп. Другой причиной, толкнувшей наших командиров на полнейшее игнорирование учебных планов, оказалось и то обстоятельство, что они с первых дней занятий увидели в нас таких же, как они сами, старослужащих, хоть и недолго воевавших, но все же бывших фронтовиков, которых не надо учить стрелять, окапываться, стремительно перебегать под огнем противника, ползать по-пластунски и метать гранаты. Все это мы умели делать, тем более что довоенные полковые школы, бывшие за нашими плечами, славились подготовкой курсантов и в послевоенные годы — настолько жесткой была эта подготовка.
И наконец, еще одна причина способствовала срыву занятий в батальонах: в конце июля командир роты старший лейтенант Неустроев радостно сообщил о том, что предстоит погрузка в эшелоны и следование на Дальний Восток для участия в войне с Японией. Как не покажется на первый взгляд странным, мы обрадовались:
— Хоть немного повоюем, а то всю войну в плену просидели! — Вот таки ми мы были тогда. Правда, не дай бог кому-либо так «просидеть» в плену, как это довелось нам!
В начале августа полк прекратил занятия. Все батальоны ожидали команды на погрузку. А высшее командование не спешило, справедливо полагая, что только нас там и не хватает: пока нас довезут на восток, боевые действия закончатся. А после тех событий, когда спала пелена секретности, стало известно, что на Дальний Восток в первую очередь отправляли наиболее боеспособные гвардейские соединения, отличившиеся в последних боях за Берлин и Прагу, причем их отправляли не в августе, а в мае-июне. Мы же годились только для пополнения частей в случае потерь личного состава, но война была скоротечной, и надобность в таких, как мы, естественно, отпала. Об этом нам стало известно в том же месяце. Служба продолжалась, но в конце августа наметились перемены: нам поменяли часть и сообщили о том, что нас ожидает в ближайшие дни.
Теперь я — солдат батареи артиллерийского дивизиона 76 мм орудий 188-го запасного артиллерийского полка. Ранее полк тоже являлся армейским, как и 200-й азсп, то есть входил в состав конкретной армии, а теперь, после войны, армий как таковых не стало, и полки перевели в разряд запасных.
Планы командования от нас не скрывали: предстоит передислокация двух запасных полков в направлении Государственной границы СССР — на восток. Выступать будем через день-два. Началась бойкая подготовка к походу — проверка и подгонка обмундирования и снаряжения, получение сухого пайка и прочее. Все до боли знакомо, а ноги так и просились в путь, в сторону дома.
25 августа батальоны 200-го стрелкового и 188-го артиллерийского запасных полков выступили из городка Винер-Нойштадт в далекий поход, конечный пункт которого нам пока был не известен…
Прощай, Австрия! Ты должна была стать для многих из нас местом вечного упокоения, но лучшие сыны твои, и в первую очередь коммунисты, приняли горячее участие в нашей судьбе, а попросту — спасли всем нам жизнь. Я низко кланяюсь вам и всегда, пока жив, буду с любовью вспоминать вашу чудесную страну, ее народ, нравственные устои которого не смогли сломить Гитлер и его приспешники. Австрийцы всегда оставались сами собой и оставили о себе добрую память в сердцах каждого из моих товарищей по несчастью.
Фокшаны
Батальоны растянулись на несколько километров. В походе участвовало более 10 000 человек — это примерно стрелковая дивизия мирного довоенного времени.
Шли бодро, с песнями, но без оружия — полная аналогия с походом Ташлык-Александрия в июле 1940 года. На этот раз издалека видно, что идут не новички, как тогда, а старослужащие. Казалось, что мы всю жизнь ждали момента, когда снова сможем встать в солдатский строй, а о большем и не мечтаем. Ходить в строю никто не разучился — до войны все служили либо в пехоте, либо в артиллерии и не раз участвовали в дальних походах.
Шли твердым солдатским шагом, только «в ногу» и держали равнение, как положено по Уставу. Мы просто по-другому не умели ходить в строю, тем более что шли вчерашние смертники, только-только снова ставшие солдатами. Ноги с первого дня похода втянулись в привычную работу: натертых мест и мозолей ни у кого нет, санчасть никому не требуется. Командиры рот не удержались оттого, чтобы с долей восхищения не заметить:
— Идут как на параде! Сразу видно довоенную школу! — И далее в таком роде. Они тоже не терялись, стараясь, чтобы каждый дивизион показал лучшую подготовку.
Регулярные стрелковые части довоенной поры помимо огневой усиленно занимались строевой подготовкой — муштровали нас тогда, что надо! А в годы войны те, кто приходил в армию в качестве призывников, да и старшие возраста, мобилизованные на войну, естественно, не успевали захватить все прелести усиленной строевой подготовки — обстановка на фронте требовала быстрых пополнений людских резервов.
Удивительным показалось и то, что обычно для взвода или роты должно пройти время, скажем, месяц, чтобы подразделение научилось ходить встрою. Пока у каждого бойца определится постоянное место, пока он к нему привыкнет. Ведь каждое место требует конкретных действий в зависимости оттого, где боец находится: он «направляющий» или «замыкающий», «правофланговый» или «левофланговый» и т. п. Каждый боец за начальный период должен «притереться» к тому, кто идет перед ним и, скажем, «волочит» ногу, и к тому, кто шагает следом и непрерывно наступает на пятки, торопясь неизвестно куда. Многим вообще не сразу давалась солдатская наука ходить в ногу. Во всяком деле — свои премудрости. А тут с первого дня идут подразделения, впервые сформированные, но кажется, что они сколочены давно. Помню, кто-то задумчиво произнес на ходу:
— Хоть ногами послужим родине, ребята… — Все промолчали, ибо думали о том же.
К чести тех моих товарищей, которым посчастливилось снова встать в солдатский строй, могу напомнить, что многим из них удалось не только «послужить ногами», но и принять участие в штурмах Кенигсберга и Берлина, в освобождении Праги. Те отзывы, которые доходили до нас в разное время, были однозначны: вчерашние смертники также хорошо воевали, как и ходили в строю, словно торопились в последних боях с фашизмом успеть выплеснуть всю свою ненависть к врагу, накопившуюся за годы плена и концлагерей.
Единственную усталость за первый день похода ощущали лишь наши глотки, трудившиеся с утра до вечера. Обычно, в шутку или всерьез, в армии, во всяком случае, до войны, принято было считать строем тот, который шел с песней. К тому же песня, хочешь или не хочешь, невольно заставляет идти в ногу. А без песни — это уже не строй, а неизвестно что. Помня об этом, а также по старой привычке, да еще от радости, что движемся навстречу солнцу, мы перепели за первый день всё, что знали из довоенного репертуара и чему научились в Винер-Нойштадте.
Из старых песен любили «Катюшу», «Три танкиста», «Авиационный марш», «Ой ты, Галю, Галю молодая», «Пехотную строевую» и другие. Последнюю особенно часто пели перед войной. Там были такие слова:
Идем вперед лавиною могучей, И ты всегда идешь со мной В строю пехотном спутник неразлучный — Мой друг, мой верный штык стальной. Возьмем винтовку на изготовку, И когда в атаку пойдем — Не дрогнет рука. Ударом штыка Расправимся мы с врагом. Мы все земли советской патриоты, И пусть прикажет нам нарком: Пойдут колонны сталинской пехоты, Пойдут на смертный бой с врагом.Из новых песен в ходу были «Марш артиллеристов» с такими словами:
Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет отчизна нас. Врагу мы скажем: нашей Родины не тронь, А то откроем сокрушительный огонь! За слезы жен и матерей Из сотен тысяч батарей За нашу Родину — огонь, огонь! А в «России» нас особенно трогали слова: Над полями перекатными, Над лесами необъятными, Под разрывами гранатными Песня, ласточкой лети! Эх, Россия, любимая земля, земля, Родные березки и поля, поля! Как дорога ты для солдата, Родная русская земля!Направленность песен отвечала духу того времени и будоражила молодые неугомонные сердца, но песня «Россия» вполне созвучна и нашему времени, постепенно вытесняющему слово «советский» и заменяющему его словом «русский» или «российский». Было много и других песен, но в памяти сохранились именно эти.
Интересно отметить и такую деталь: в каждом взводе или в роте всегда имелся штатный запевала. Его хватало на все времена. А сейчас? Песни не смолкали в течение дня, и в этих условиях мы вынуждены были выделять из своих рядов не менее десяти запевал на взвод. Ни один запевала в одиночку подобной певческой нагрузки выдержать не мог. В конечном счете, пришлось запевать всем по очереди, не исключая и меня, у которого голосовые связки отвечали солдатским стандартам — голоса всегда хватало с избытком — но, как говаривали домашние, медведь когда-то «наступил на ухо»…
В первый день, пройдя около 40 километров, заночевали вблизи венгерской границы. Перешли ее на следующий день так же просто, как переходят с одной стороны улицы на другую. Никакой пограничной стражи не видели. Вроде и деревья те же, и трава, и цветы — но это другая страна. Отличие чувствовалось и в деталях сельского быта, и в характере строений, и особенно в одежде. Венгры любили одеваться ярко и пестро с преобладанием синих, желтых и красных тонов.
Шли по земле народа, на языке которого никто из нас не знал ни гу-гу, ни единого слова. Но выход нашелся: вся Европа понимала немецкий язык, — этому в войну научилась! — и с его помощью мы успешно беседовали с венграми.
Прошли зеленый городишко Шопрон на северо-западе Венгрии, повернули на юго-восток. По обе стороны широкой проселочной дороги тянулись бесконечные поля, пасся скот. Местность равнинная. Деревушки почти сливаются одна с другой. Прошли городок с любопытным названием Папа. Видимо, он потому и запомнился. После Папы пошли возвышенности, появилось множество садов.
Вот город Веспрем. Идем на Секешфехервар, обходя с севера озеро Балатон. Мы знали, что в этом районе шли длительные кровопролитные бои, и песни на время сами собой умолкли.
Повернули на северо-восток: впереди — Будапешт. Весной 1942 года я уже проезжал в вагонах за колючей проволокой через этот один из красивейших городов Европы. Еще тогда запомнились ажурный мост через Дунай, гора Геллерт. Наш путь пролегал через город. Шли по одной из центральных улиц Будапешта. Пели, не смолкая. Как на грех подошла моя очередь запевать «Авиационный марш». Надолго остались в памяти эти минуты.
На панелях полно фронтовиков — гуляющих солдат и офицеров Советской армии. Увидев и услышав необычную солдатскую колонну с песнями, но без оружия, — в то время так не ходили — они останавливались, и скоро на панелях образовалась плотная стена военных, с удивлением рассматривавшая нас. Но это не все.
Вдоль улицы много госпиталей, а также общественных зданий, приспособленных советским командованием под временные госпитали. Окна в них распахнуты настежь, и те больные и раненые, кто мог передвигаться, сбились у окон и тоже смотрели и слушали нас.
«Что за странная колонна? Кто они и откуда? Почему без оружия?» Такие вопросы возникали у многих. Но все стояли молча и разглядывали наши горланящие, запыленные батальоны, печатавшие строевой шаг — фронтовики так не ходили встрою. Возможно, они уже знали о нас.
А мы шли с виду здоровые, не калеки, пели с подъемом, и, безусловно, переоценивали себя — это точно! Только позднее мы почувствовали некоторую неловкость своего положения.
За весь поход Винер-Нойштадт-Сибиу самые тяжелые мысли оставил именно переход через центр Будапешта: мне не забыть глаз солдат и офицеров, вроде как с укором смотревших на нас. Конечно, они не могли знать всего того, что каждому из нас пришлось испытать в плену и концлагере, но в любом случае это не шло ни в какое сравнение с тем, что испытала наступающая Советская армия.
То, что поход протекал без оружия, объяснялось просто: в конце похода нас раскидают по разным боевым частям и соединениям. Там и получим оружие в соответствии с нормами снаряжения, действующими в той или иной дивизии или бригаде.
После Будапешта повернули на юго-восток, в который раз перейдя Дунай. Теперь нас окружали сплошные виноградники. Урожай еще не снимали, и мы угостились таким виноградом, которого больше нигде не встречали.
Впереди — Цеглед. После него резко повернули на юг в направлении югославской границы. Прошли Кечкемет, Сегед. Пройдя последний, повернули на восток и двинулись вдоль границы.
И вот, пройдя в общей сложности по венгерской земле около 700 километров, мы покинули ее на стыке трех границ — югославской, венгерской и румынской. Я снова был в Румынии, которую оставил в марте 1942 года. Теперь наш путь лежал строго на восток. Прошли города Арад, Тимишоара, Дева. Виноградники кончились, кругом простирались поля подсолнечника, риса, конопли. Дошли до Карпат. Необычайно чистый воздух. Склоны гор поросли лесом. Бегут вниз родники и речушки с кристально-чистой ледяной водой. Мы с огромным удовольствием пили эту воду мылись, купались, стирали пропотевшие и запыленные гимнастерки, портянки.
Об этом мечтали давно, поскольку шли все время в густонаселенной местности, а тут можно было «отвести душу» без посторонних глаз.
Промежуточным пунктом назначения оказался железнодорожный узел и город Сибиу. Здесь в течение двух-трех дней будем ожидать эшелоны. По Румынии 500 километров прошли строем, а теперь нас повезут — в Южных Карпатах прямых дорог нет, они все петляют, много перевалов и туннелей. Передвигаться в пешем строю не рационально, мучительно и долго.
Уже середина сентября. За тридцать дней, двигаясь не спеша по 40 километров в сутки, мы прошли около 1200 километров. Но главное — мы продвигались к своей государственной границе.
Наконец составы поданы. Снова в путь. Опять ехали с песнями в открытых теплушках, сидели в дверях и болтали ногами над убегающими рельсами, как не раз бывало до войны. А как давно все это было! Ни на минуту не забывали о том, что приближаемся к своей потерянной родине.
Нам предстояло проехать около 500 километров по гористой местности, где отметки высот более 1000 метров над уровнем моря. Если бы мы шли пешком, то сколько солдатской каши потребовалось бы для такого перехода. Сточки зрения «географических открытий» это интересно, а сточки зрения командования и здравого смысла — ни к чему.
Нам надоело ехать в теплушках — погода такая чудесная — и мы перебрались на крыши вагонов, чтобы иметь лучший обзор, напрямую наслаждаться природой и обдуваться хоть небольшим ветерком. Только веселой гурьбой облепили крыши по всему составу, радуясь преимуществу новых «плацкартных» мест, как поезд на полном ходу скрылся в туннеле, а когда вынырнул, то нас как ветром сдуло с крыш: второй туннель нам ни к чему, и мы поторопились вернуться в вагоны, в прежний комфорт. В туннеле мы едва не задохнулись от горячего, коптящего, черного паровозного дыма, что стлался поверх вагонов, обволакивая нас: мы уткнулись носами в гимнастерки, распластались, что было мочи — запас высоты от крыши вагона до свода туннеля критический! — и только ждали, когда все это кончится. Понятно, что от копоти мы сразу стали «неграми».
Так проехали города Брашов, набивший оскомину еще до войны — Плоешти, Бузеу и, наконец, остановились в Фокшанах.
Как вскоре выяснилось, городок Фокшаны расположен в восточной части Румынии на широте нашего Измаила и всего в 75 километрах от пограничной реки Прут, так знакомой нам по 1941 году. И надо было случиться так, что всего в 50 километрах севернее Фокшан по реке Прут находились боевые позиции 150-й стрелковой дивизии, в рядах которой я встретил войну. Здесь мы стояли в июне-июле 1941 года. Я вновь попал в знакомые края, только… с другой стороны Прута, но мы уже могли упиваться запахами родных молдавских полей и виноградников, близким воздухом родины.
Эшелон доставил пополнение в 317-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую на окраине городка. Теперь я буду служить в 274-м гаубичном артиллерийском полку, где меня определили во взвод топографической, инструментальной разведки штабной батареи управления огнем. Это для меня совершенно новая военно-учетная специальность, но не боги горшки обжигают.
Полк стоял в роще, где был разбит палаточный городок. Жизнь на новом месте протекала спокойно, и на душе музыка играла: граница совсем рядом, а армейская служба меня никогда не тяготила.
Коротко об офицерах. Командир батареи — капитан Валич, призванный в начале войны из резерва. Ему под пятьдесят, он давно навоевался и жил одной мечтой о возвращении в родные пенаты. Апатичен.
Командиром взвода старший лейтенант Бочкарев — тоже не кадровый офицер, бывший преподаватель топографического техникума. Он тоже с нетерпением ожидал конца военной службы. Спокойный, уравновешенный человек на грани безразличия ко всему происходящему — «моторесурс» давно выработался!
Только командир другого взвода, старший лейтенант Резников — кадровый офицер из военного училища. Ему служить и служить. Он молод, порывист, но серьезен. Резников знал, что очень скоро станет хозяином батареи. Он ждал этого часа, пока оставаясь в стороне.
Все три офицера обладали такими качествами, что служить под их началом было легко. Солдат и сержантов они понимали, правда, отношения смахивали на панибратство, но мы не в обиде. Я упоминал, что всегда предпочитал строгих командиров, которые ни себе, ни другим не прощают небрежности и ошибок. Одним из таких был Данилов, любовь моя!
На батарее только один старший сержант Нерсесян, уроженец солнечной Армении. Он верховодил батареей, занимая должность старшины. Но как верховодил? Он часами просиживал на пригорочке возле палатки и в своих думах видел себя в кругу семьи. Ему к сорока, и он уже не служака. Будучи призван на войну из запаса, он с нетерпением, как и все остальные, ожидал вторую очередь демобилизации, под которую подпадал. В октябре мы тепло проводили его домой, а его место занял я, но об этом впереди.
Демобилизацию второй очереди полк застал в Фокшанах.
Она заканчивалась 1918 годом рождения. Родившиеся с 1919 по 1921 год оставались служить. В основном это были призванные на срочную службу в 1939 году. Мы хорошо проводили всех отъезжавших на родину, зная, что следующими будем мы. А пока служба продолжалась. Наши офицеры так и обходились без сержантского состава. Учебные занятия протекали вяло, почти как в Винер-Нойштадте. Депрессия после длительной войны и военной службы постепенно охватывала всех бывших фронтовиков.
Своей новой военной специальностью я овладел быстро. Немного помогло и то, что Нина, будучи студенткой географического факультета Ленгосуниверситета, готовясь к профессии картографа, много рассказывала мне еще в школьное время о картах, о системах координат, в том числе и о системе Гаусса-Крюгера, которая применялась в 274-м гаубичном полку. Я до службы в этом полку поверхностно был знаком и со специальными оптическими приборами, такими, как теодолит, буссоль, нивелир, стереотруба, — все напоминало о Нине. Да и отец ее, Алексей Васильевич Траур, завкафедрой картографии в университете и преподававший в военных академиях, был специалистом высокого класса по геодезии, методам корректировки артиллерийского огня. Им написано более десятка книги учебников, он — доктор наук и генерал-майор инженерно-артиллерийской службы. Выходило, что все дороги вели меня в артиллерию!
Видя мои явные успехи по службе, старший лейтенант Бочкарев решил походатайствовать перед командованием о восстановлении мне сержантского звания, и с этой целью полк сделал запросы в соответствующие инстанции.
Находясь в Фокшанах, неподалеку от границы СССР, я наконец решился нарушить «обет молчания» — теперь могу написать домой, поскольку куда ни уйдет бригада, ее полевая почта останется со мной. Самым трудным оказалось первое решение: кому писать? Мне, старому солдату, захотелось сперва заполучить «разведданные» о своих близких, и я написал первое письмо бывшему комсоргу параллельного класса Мариночке Бредковой: ранее я учился с ней водном классе, а жили на одной лестнице. Я просил Марину поделиться новостями о себе, о наших общих школьных друзьях и о моей маме. Второе письмо я послал двоюродной сестричке Оленьке с необычной, да к тому же и не очень умной просьбой: сходить в подворотню дома, где жила Нина, и посмотреть в таблице жильцов — числится ли в числе проживающих семья А. В. Граур, будто в годы войны кто-то мог следить за правильностью этих данных. Есть же чудаки на свете! Оле я наврал, что в этом доме проживал до войны мой товарищ, но Олю не проведешь: она поняла, что товарищ в юбке.
Отправив два письма, я на другой день не выдержал и написал еще одно — Нине на ее довоенный адрес, но и тут начудил, назвав ее в письме сестрой — сестры ведь могут быть и троюродные и более дальние — на случай, если письмо попадет в руки воображаемого грозного супруга. Такой версии я не исключал, поскольку сам изволил пропадать без вести более четырех лет. Теперь оставалось ждать ответов.
Полковая жизнь текла своим чередом. Я по-прежнему выпускал «Боевой листок», а тут еще все «заболели» футболом, и я, любивший эту игру в детские годы, начал сколачивать футбольную команду полка, после чего приступили к тренировкам.
В конце октября, когда заметно похолодало, и в палатках спать стало не так комфортно, как месяц назад, поступил приказ о передислокации 317-й артиллерийской бригады в город Котовск. Прослужив не более месяца в Фокшанах, мы оседлали студебеккеры, из которых состоял весь автопарк бригады, и с гаубицами, пушками и песнями двинулись далее на восток.
Теперь сомнений нет: с «заграницей» покончено навсегда! Об этом мечтали не только мы, но главным образом — старожилы бригады, фронтовики. Всех тянуло на родину — хватите нас Европы, насмотрелись!
Все, сидевшие на машинах, покрылись густым слоем пыли. Бригада шла на полной скорости, словно водители боялись, чтобы командование не завернуло машины назад. Мы жадно всматривались вдаль, и каждый хотел первым увидеть реку Прут и государственную границу. Особые чувства одолевали таких, как я, кто либо начинал войну именно здесь в 1941 году, либо наступал на запад в 1944 году…
И вот последние 270 километров по румынской земле. Проехали города Бакэу и Бырлад. Машины прошли в 20 километрах западнее местечка Фэлчиу, в наступлении на которое 8 июля 1941 года 150-я стрелковая дивизия понесла первые тяжелые потери личного состава. Они оказались невосполнимыми в тогдашних условиях Южного фронта.
И вот это произошло: мы миновали реку Прут — Государственную границу СССР. Впереди 180 километров уже по своей земле.
Позади остался Кишинев, скоро — Днестр. Во второй половине дня проскочили Дубоссары и, наконец, Котовск — все тот же, и мне в нем снова служить. Три последних дня июля 1941 года наша дивизия тщетно пыталась удержать горевший Котовск, но силы были слишком неравными…
Котовск
1
Военный городок — на окраине города. Казармы старые, довоенные, запущенные донельзя за годы войны и оккупации. Это как раз те казармы, где в августе 1940 года формировался новый механизированный корпус, в котором мне надлежало служить, если бы меня в те дни не направили поступать в Одесское пехотное училище имени К. Е. Ворошилова. Возможно, в этих казармах служил перед войной мой старый друг по 640-му стрелковому полку Гена Травников и отсюда он уходил на фронт в июне 1941 года. Стало горько от мысли, что судьба недоукомплектованных мехкорпусов того времени была печальной и Гена мог погибнуть в первых же боях.
Итак, в 1941 году я пропал без вести на территории Одесского военного округа, а в 1945 — воскрес, как сказочная птица Феникс, в том же округе. Самому не верилось, что это так.
Мы быстро освоились на новом месте, а ко всяким «мелочам» быта нам не привыкать: нет воды для мытья, нет воды для питья, нет света, нет тепла, нет радио, нет газет, нет ничего. Все так знакомо — мы дома, а дома всегда чего-то не хватало. Кстати, питьевую воду вскоре начали привозить автомашиной на полк один раз в день, а умываться, точнее — не умываться от бани до бани придется до конца службы. Света в казармах при мне тоже так и не будет.
В казарме двухэтажные нары. Потолки излишне высокие — зимой будем замерзать. Штукатурка на стенах выбита, а от масляной краски остались только следы. Ясно, что последний ремонт делали еще до войны, а следующий коснется этих замызганных стен только после нашего увольнения и то не сразу, но мы не притязательны.
Территория военного городка довольно обширная. В стороне, за зданием столовой, разместились артиллерийский и автомобильный парки. Погода пока благоприятствовала, и мы по вечерам смотрели кино под открытым небом. Картины демонстрировались старые, но нам все равно: «Сердца четырех», «В шесть часов вечера после войны», «Весенний вальс», «Серенада солнечной долины» и другие.
Распорядок дня необычный: занятия в поле до 16.00, затем — обед, чистка оружия и оптических приборов, а также подготовка к занятиям следующего дня. Ужин в 20.00, и после него можно написать письмо, почитать, пока светло — света не будет до лета.
Совсем неожиданно получил ответ на свое письмо от Марины Бредковой. Она сообщила о судьбе многих ребят из наших четырех десятых классов, а также о том, что моя мама жива, здорова, живет в своей квартире, пережила блокаду и никуда из города не выезжала.
Второй ответ пришел от сестры Оли. Она поделилась многими новостями — радостными и печальными. Ее письмо, написанное с особой теплотой, растрогало меня. Я узнал, что никто из наших родных Ленинград не покидал, и все остались на период блокады в городе. Моя мама перед самой войной оформила пенсию и инвалидность второй группы. В августе 1941 года ей предложили в обязательном порядке эвакуироваться из Ленинграда, но, боясь, что она затеряется на просторах огромной страны и не сможет получить от меня весточку, если таковая придет, она наотрез отказалась от эвакуации, поступила на работу в институт Пастера ночным вахтером, где и работала до сих пор. Оля сообщила, что зимой 1942 года умерли от голода ее мама — моя тетя Шура, отец моего двоюродного брата Леши — дядя Коля и моя бабушка Катя — мамина мама. С ней умерли две ее дочери — мои тети Лариса и Лида. Двоюродные братья остались живы, но Леша, призванный в Красную армию в 1940 году, в июне 1944 года на 1-м Белорусском фронте под Рогачевом получил тяжелое ранение. Домой вернулся в августе 1944 года из Красноярска, где лежал в госпитале. Правая нога у него была ампутирована чуть ниже колена, и он ходил на протезе и костылях. По возвращении в Ленинград Леша сразу поступил в Ленинградский электротехнический институт им. Ульянова-Ленина, о котором мечтал еще в школе. Лешин старший брат Юра всю войну прослужил в пожарной части возле Калинкина моста на Фонтанке. Дядя Гоша и дядя Леня почти всю войну провели в армии. Первый — в Ленинграде, а второй — на разных фронтах. Об Анне Ивановне три года не было известий, и только недавно она объявилась. Служит в Москве майором медицинской службы, является членом КПСС и кавалером ордена Красной Звезды. Так получилось, что мы с Анной Ивановной в 1939 году в одно время ушли служить в армию и почти в одно время будем возвращаться.
Сама Оля, будучи перед войной студенткой первого курса Ленинградского электротехнического института им. Бонч-Бруевича, в конце июня 1941 года была направлена институтом на станцию Рогавка под Новгородом на торфоразработки, а затем мобилизована в «Комсомольский противопожарный полк» города Ленинграда. В нем она прослужила с августа 1941 по октябрь 1943 года. После расформирования полка в конце 1943 года она стала начальником боепитания штаба МП ВО (местной противовоздушной обороны) объекта «Смольный», а после войны — техническим секретарем Управления делами Ленинградских обкома и горкома КПСС.
У нее кончался кандидатский стаж, и она скоро должна была стать членом партии. Учебу в институте Оля продолжала.
В письме от 30 сентября 1945 года она писала о моем «воскрешении»: «Не буду говорить о том, сколько радости и счастья внесли твои несколько строк в нашу жизнь. Ты и сам понимаешь, что твое письмо нам всем принесло самую большую радость, которую толь ко мы могли ждать…. Последнее время, когда выяснилось, что все живы и здоровы, все наши мысли и думы были направлены к тебе. Твоя мама все время твердила, что нет никакой надежды на твое возвращение, хотя, конечно, в глубине души таила надежду. А я не могла думать, что тебя нет. Мне это казалось слишком чудовищно, просто невозможно. Дима, ведь я осталась совсем одна и ни за что не хотела примириться с тем, что нет тебя, такого близкого мне человека, брата. Поэтому я все время тебя ждала и особенно последнее время ждала от тебя вестей. Ты знаешь, я прошлое воскресенье перебирала твои письма, и что-то подсказывало: „Он жив, жив!“».
2
Мы не успели обжить казармы, как в начале ноября вся батарея управления оказалась на «картошке». Командование бригады заключило договорные отношения с районной администрацией, на основе которых батарейцы прямо на корню заготовят картофель для полка на всю зиму в качестве основного продукта питания. Батарее отвели часть полей одного из колхозов в 60 километрах от Котовска. Мужчин в селе не было, многие хаты вообще пустовали.
На картошке мы провели весь ноябрь месяц, поработали славно, и рассказать об этом придется.
Колхоз выделил в наше распоряжение большую пустующую хату. Нас было не более 80 человек, и если бы потребовалось дополнительное помещение, колхоз без труда мог его предоставить, но нам хватило и этого.
Перед отъездом на картошку комбат Валич сообщил мне, что он недавно подал рапорт с ходатайством о восстановлении мне утерянного сержантского звания и о назначении меня на должность командира отделения. Мои анкетные данные ему хорошо известны. Командование ответ не задержало: восстановить звание невозможно, так как отсутствуют данные о том, что это звание было мне когда-то присвоено — все документы погибли вместе с полком и дивизией. А что касается назначения меня на штатную должность командира отделения топоразведки, то приказ по полку уже в печати.
Не ожидая подписания приказа по полку, Валич и Бочкарев назначили меня командиром отделения, а равно и старшим по картофельной команде. Надо сказать о том, что командиром отделения я числился чисто формально, чтобы на законных основаниях получать причитающееся мне новое содержание, а практически негласно меня поставили старшиной батареи управления вместо уволенного в запас старшего сержанта Нерсесяна. Я уже говорил о том, что в батарее не было ни одного сержанта, кроме меня, но и то — под вопросом, поскольку документы отсутствовали. Рядовой оказался на должности старшины, но это никого не удивило, поскольку фронтовики за войну много знали случаев, когда не только младших командиров приходилось рядовым замещать, а и выбывших в бою офицеров.
Мне было поручено организовать порядок размещения, режим труда и отдыха, охрану продуктов, доставленных нам из Котовска, — хлеба, мяса, жира, сахара и прочего, — приготовление горячей пищи и все остальное. Пожелав мне успеха на новом поприще, офицеры отбыли в Котовск, посчитав свою миссию законченной. Кем бы я теперь не считался, но по любому вопросу спрос будет только с меня — других младших командиров в батарее не было.
С первых дней пребывания на картошке стихийно установился довольно оригинальный порядок работы и отдыха батарейцев. Сутра и до 18.00 все добросовестно копали картошку, собирая ее в специально доставленные из Котовска холщовые мешки. Их складировали в течение дня под навесом возле хаты, где я обосновал базу.
За обедом из наваристого мясного супа с картофелем все дружно вытаскивали одно мясо, а суп заевшаяся братва игнорировала.
Я приказал готовить только по числу заказанных накануне порций — нечего зря продукты переводить, страна еще не разбогатела, и неизвестно, когда это произойдет.
После такого обеда почти каждый брал по мешку картошки, взваливал на плечо и тащился с этим в облюбованную заранее хату, где его ждала хлебосольная и любвеобильная хозяйка с бутылью самогона, и оставался там на всю ночь. На другой день с раннего утра все опять работали в поле. По большому счету выкопанная нами картошка принадлежала этим женщинам. Криминала во всем этом я не усматривал.
Изредка, раз в десять дней, навещавшие нас офицеры, приезжавшие с колонной машин за очередной партией выкопанной картошки, тоже одобрили все мои действия и подтвердили мою полную самостоятельность в этих «бытовых» вопросах. Иногда Валич и Бочкарев оставались с нами на пару дней и участвовали в нашей поголовной пьянке. Они это называли «встряхнуться». Оба со дня на день ждали приказа об увольнении, и мне трудно осуждать за это их, оставшихся живыми на той страшной войне.
Старший лейтенант Резников в колхоз не приехал ни разу. Почему? Думаю, комбат понимал, что присутствие Резникова приведет к неизбежным конфликтам его с нами, а также с местными жителями, которые полностью были на нашей стороне и в случае необходимости не дали бы нас в обиду. Валичу все это ни к чему — он хотел спокойно дослужить, а потому Резникова к колхозным делам не привлекал и не допускал, а сам Резников к этому и не стремился. Такая позиция устраивала обе стороны.
Старшим по кухне у меня работал Сергей. Фамилию не вспомнить. Он тоже повадился ходить по вечерам в гости, но у него все оказалось серьезнее, и он пообещал своей знакомой вернуться к ней после демобилизации, что и выполнил через месяц. А я опять выглядел «белой вороной» — пьянки в Линце мне хватит надолго, а Нину никто не заменит. Пристрастия к спиртному я никогда не проявлял и выпивал лишь в исключительных случаях…
Обеспечив полк картофелем, батарея управления в конце октября вернулась в Котовск. Вновь потекли размеренные армейские будни.
Пока трудился в колхозе, приказом по полку меня назначили на должность командира отделения топоразведки. У меня существенно возросло денежное довольствие, получил новое обмундирование и практически стал хозяином на батарее, поскольку офицеры продолжали уклоняться от службы и в батарее бывали все реже и реже. Личный состав батареи все это тоже устраивало. По-видимому, я был на месте и «палку не перегибал», до конца службы конфликтов ни с кем не имел.
В Котовске меня ждала и первая весточка от Нины. Первая за столько лет! Это была открытка от 15 октября, которую я получил только 29 ноября. Теперь оба знали, что живы мы и жива наша дружба. Что могло быть дороже? Аза два дня до отправки открытки, 13 октября, Нина отправила первое письмецо, но я его получу только 15 декабря — так работала почта!
В открытке от 15 октября Нина писала: «Очень хочется увидеть тебя, но если это сейчас невозможно, то буду еще ждать и ждать. Терпения у меня хватит, в этом ты должен был быть всегда уверен».
В письме от 13 октября повторяются те же слова: «Дорогой Дима! Если бы ты только знал, как обрадовала меня твоя весточка. Я тебя всегда ждала, жду и буду ждать, если в твоей личной жизни не произошло каких-либо изменений, как, например, ты, может, уже обзавелся семьей…Я верила, что ты жив, а кроме тебя мне никого не надо, и думать ни о ком не хочу… Я тебе все высказала, что у меня на сердце и в душе. Как хочется тебя увидеть поскорее. Димок, скорее бы с тобой встретиться…»
Военные годы Нина с семьей провела в Свердловске, а затем в Москве.
Моя верная и любящая подруга оставалась сама собой, и даже немного «переборщила» в письме от 9 января 1946 года: «Относительно тебя могу написать, что ты для меня останешься, каким был и раньше, — будь ты контужен или ранен, с ногами, без ног и т. д.» В общем — хватало и радости, и слез. В этом же письме было еще четверостишие:
Всегда о тебе я помнила, Но горьких слез не лила. Что ты вернешься, я верила И только тебя ждала.Так завязалась переписка с Ниной, мамой, Олей, родными и друзьями. Первые письма приходили относительно быстро — за пару недель, — но поближе к зиме срок увеличился до полутора месяцев. На письмах на память красовался штамп: «Проверено военной цензурой». Было видно, что цензура не справляется с потоком писем от истосковавшихся друг по другу за годы войны людей.
3
В первых числах декабря для полка наступили тревожные дни, и теперь скучать долго не придется. Не успели возвратиться с картошки, как в одну из ночей прозвучал сигнал боевой тревоги. Приказ краток: «В полном боевом по машинам!»
Пока батарея погружалась в машины, мне удалось затолкать туда и несколько ящиков автоматных патронов. Это мои дела — не офицерские, а вот в кого стрелять — скажут. Оказалось, что в последнее время в селах вокруг Котовска стали хозяйничать бандеровцы. Среди них разные люди, но все за «самостийную Украину без москалей». Как это знакомо по польской офицерской лиге в Гузене и по полковой школе западников в 674-м стрелковом полку!
Боевиков, мотавшихся по лесам близ Котовска, якобы объединял Степан Бандера, о котором уже все наслышаны. Его люди убивали жителей сел, не щадили и женщин, так как мужчин почти не осталось, поджигали хаты и исчезали в ночи. Лесов в округе мало, одни небольшие рощицы, вроде и укрыться негде, но обнаружить злодеев мы никак не могли. Обычно нас бросали за 40–60 километров от Котовска в сторону Балты или Ананьева.
На этот раз полк опоздал: хаты горели, на дороге лежали распростертые тела двух женщин, а головорезов и след простыл. Прочесав село и ближние рощи, мы рассыпались цепью в заданном районе и с неделю находились в охранении. Эта заведомо пассивная тактика успеха операции принести не могла.
Со своей стороны считаю, что командование бригады, получив соответствующий приказ Одесского военного округа, выполняло его формально, без инициативы, полагая, что поимкой бандитов должны заниматься подразделения НКВД или, по крайней мере, стрелковые части. Дело артиллеристов дать губительный огонь по целям, а не участвовать в рукопашных схватках в темноте с лицами в гражданской одежде, когда в горячке легко прихватить «на мушку» и невиновных. Я, вчерашний пехотинец, видел всю несостоятельность действий полка, но капитан невозмутимо парировал: «Действуем по приказу. Большего от нас не требуется!» Никакая маскировка при этом нами не соблюдалась. Находясь в охранении и днем и ночью, мы жгли костры, чтобы согреться. Мы просто охраняли несколько сел от бандитов, а требовалось не отпугивать их, а уничтожить банду.
Для любителей романтики впечатлений было предостаточно. Ночь. Искры костров летят в черное морозное небо. Валит пушистый снег, а ребята в касках с автоматами в обнимку вповалку разлеглись вокруг костров, подняв воротники шинелей, и кто-нибудь голосом, выворачивающим душу наизнанку, заунывно выводит: «Эх, как бы дожить бы, до свадьбы-женитьбы, да обнять любимую свою…» К этой песне все относились трепетно, далеко неравнодушно, и каждый переживал по-своему, а я — тем более ввиду наладившейся переписки с Ниной.
Простояв неделю в охранении вместе с походными кухнями и не поймав ни одного бандита, полк вернулся в Котовск. И я написал Нине о том, что шесть дней провел в командировке и писать не мог.
В течение декабря 1945 года мы неоднократно выезжали по тревоге с той же целью, но всегда безрезультатно: рев моторов в морозном воздухе разносился далеко, опережая нас и оповещая всю округу о том, что опять едут бравые солдаты, но дурные донельзя. В январе выезды прекратились: то ли банды переместились в другой район, то ли наконец к этим операциям привлекли части НКВД.
Интересно подметить, как многое меняется со временем. Помню, в довоенное время, не дай бог, чтобы у кого-либо из солдат остался в кармане неиспользованный на стрельбище патрон! Даже отстрелянные гильзы сдавались по строгому счету. Зимой замерзшими пальцами выскребывали из под снега гильзы. Казалось, командование опасается своих солдат: вдруг они начнут стрелять не туда, куда следует. Это так характерно для довоенного времени. Тогда патроны под рукой имели только пограничники и внутренние войска, но и то велся строгий учет их. Армейские части, даже стоявшие вблизи границы, патронов и снарядов под руками не имели — они всегда находились за семью замками. В самом начале войны мой друг, лейтенант из полковой школы, бежал с бойцами в атаку, размахивая над головой пистолетом, в котором не было патронов, и таких случаев не счесть. Бывало, во время несения караульной службы в гарнизонном наряде старшина роты дрожащей рукой по пять раз пересчитывал жалкие пять патронов, выдавая их караульному только при заступлении на пост. Так было до войны! И как все изменилось.
Теперь патроны валялись навалом в карманах вместе с махоркой, никто их скрупулезно не пересчитывал, гильзы на стрельбище не подбирались и никуда не сдавались. В батарее управления патронами ведал я, получая их в полку столько, сколько находил нужным. Ящиком меньше, ящиком больше, лишь бы батарея всегда имела запас! Расписывался оптом за все. Наши автоматы ППШ валялись прямо на койках — стеллажей пока у нас не было — и, как правило, с полными дисками, а в каждом диске худо-бедно 71 патрон! И мой автомате полным диском валялся на койке.
Когда мы демобилизуемся, со временем все вернется на круги своя: в мирное время патроны валяться где попало не должны. Но сейчас времена опять изменились: теперь, в годы чеченского конфликта, не патроны без счета, а орудия, бронемашины, вертолеты и другая военная техника «валяется под ногами». Все это трудно понять старым солдатам…
И еще одно знамение того времени: старший лейтенант Бочкарев, ожидая увольнения, все чаще сказывался больным. Обычно вечером в казарме звонил телефон. Он — возле моей койки и моего рабочего стола.
Я снимал трубку:
— Батарея управления!
— Сержант, я приболел. Проведи день-два за меня занятия с батареей. Тема № 19. Только обязательно приготовь конспект, а то штаб полка планирует проверку качества занятий. Потренируй ребят получше: на днях будут стрельбы с выездом на пару дней — не подкачай!
Это стало повторяться все чаще и чаще. Свободных вечеров для задушевных бесед с Ниной с карандашом в руке становилось все меньше. Кроме того, я должен был регулярно проводить политинформацию, три раза в день водить батарею строем в столовую — это с полкилометра — да еще с песней, а по пути всегда попадался кто-либо из старших офицеров бригады, и каждый раз надо было рапортовать по Уставу.
— Бат-тарея, смир-р-но! Равнение — направо! — В это время батарея начинала печатать шаг, а я продолжал: — Товарищ майор! Батарея управления следует в столовую. Командир отделения…
— Вольно. Продолжайте движение.
— Бат-тарея, вольно!
Все это в конечном счете являлось работой и требовало постоянного нервного напряжения. Практически я весь день занимался с батареей: капитан Валич показывается все реже, а старший лейтенант Резников где-то пропадал, справедливо считая, что его время еще не пришло.
Иногда приходилось проверять, не в брюках ли легла спать батарея. Никак не искоренить фронтовую привычку многих батарейцев спать в одежде. Ходило поверье: разденешься — быть беде, а так — лежишь одетый, автомате полным диском при тебе под одеялом, если что — вскочил и готов! Однако в случае проверки дежурным офицером полка в первую очередь влетело бы мне, а уж потом — капитану Валичу.
Самым тяжелым для меня днем оставалось воскресенье: в этот день не было почты, и я не мог надеяться к вечеру получить очередную весточку из Ленинграда. Они всегда придавали силы для несения все возрастающих обязанностей. Теперь комбат Валич придумал для меня новое занятие. Дело в том, что в зиму 1945/46 года было неспокойно не только в окрестностях Котовска, но и в самом городе. По ночам раздавалась автоматная стрельба, патрули носились по городу за неопределенными лицами с оружием, крики, гам, чьи-то стоны — чего только не было. После войны много оружия оставалось на руках, и оно хотело стрелять. Мой комбат решил, что нечего мне вечера за письмами просиживать:
— Скоро сам дома будешь, — говорил он, улыбаясь, и теперь я должен был ежедневно по вечерам провожать его до городской квартиры: комбат вовсе не желал быть подстреленным накануне отъезда домой. А жил он на другом конце города и часто задерживался допоздна. Когда наступал вечер, он заходил ко мне в батарею и молча ждал, пока я накину на себя шинель и проверю оружие.
— За тобой… — Не скрывали смешки ребята.
Я оставлял кого-нибудь за себя, и мы, как влюбленная парочка, выходили в темноту спящего города. Люди ложились спать рано, а освещение городских улиц, естественно, отсутствовало.
Смех смехом, но мне вовсе было не смешно: я обязан довести комбата до его квартиры живым и невредимым. Это значит: смотри в оба, не плошай, солдат, ты четыре года провел в плену и опростоволоситься, дать маху не имеешь права!
Комбат нарушал Устав. Поскольку старшим в батарее всегда оставался я, то комбат должен был требовать одного-двух бойцов для сопровождения, но ни в коем случае не забирать из батареи меня. К сожалению, нарушений в то время хватало на каждом шагу. Комбат имел при себе личное оружие — пистолет, но против любого автомата мог считаться безоружным. Поэтому он постоянно брал у меня в батарее автомат и для себя. Так мы с ним молча шли по пустынным улицам, стараясь обходить освещенные луной участки дороги, слушали ночь и внимательно смотрели по сторонам. Это в мирное время и на своей земле!
Когда приходили, он прощался:
— Спасибо, сержант. До завтра. — И капитан исчезал в дверях, отдав мне ставший ненужным ему автомат.
— Счастливо, товарищ капитан, — отвечал я и направлялся в полк, неся теперь два автомата. Я так и не знал, где он задерживался, но в мыслях своих он давно был дома, в семье.
4
Капитан Валич уехал домой в конце января, оставив о себе добрую память. В конце февраля уехал и старший лейтенант Бочкарев. Его тоже тепло проводили. Мои ночные прогулки по городу окончились.
Из офицеров в батарее остался один Резников, которого сразу назначили командиром батареи управления, но для меня ничего не изменилось. Резников считал, что не дело комбату лично проводить занятия со взводами. Для этого предусмотрены командиры взводов, помкомвзводы и, наконец, сержантский состав. Не вина Резникова, что ни тех ни других в батарее не было. На беду оставался я в гордом одиночестве, и мне было некуда деться — только продолжать тянуть лямку и ждать демобилизации.
По правде сказать, я с удовольствием занимался с батареей вопросами привязки целей и корректировки артиллерийского огня. Мы все достаточно хорошо освоили это дело: почти у каждого за плечами десять классов. Замечаний от командования во время стрельб батарея не имела.
А полк регулярно выезжал на них за 40–60 километров от Котовска. Там мы проводили по несколько дней.
Первой всегда была наша работа: дать координаты целей, пока гаубичные батареи полка занимают огневые позиции. Это у нас получалось быстро и неплохо. Командование полка после стрельб отмечало и нашу хорошую работу. Так, с января по апрель лично я получил четыре благодарности от командования за высокое качество артиллерийской топоразведки: точно привязанные нами цели метко накрывались гаубицами полка.
Единственной сложностью на стрельбах для нас оставались обычные моменты солдатской учебы: обмерзание пальцев при работе с измерителем на алидаде и с оптическими приборами, где требовалась особая точность, а пальцы не действовали; в это же время ноги находились чуть не по колено в ледяной жиже, которая заполняла траншеи, оставшиеся еще с войны. Закон солдатской учебы гласит: все должно быть как на войне! Хочешь или не хочешь, а весь день сиди в траншее, вводе. Ног давно не чувствуешь, а работать надо — привыкай! Сидеть мы, конечно, сидели, но привыкать не требовалось — все старослужащие, уже «напопривыкались».
Зато какие чудесные минуты выдавались вечером в конце стрельб по окончании очередного трудного дня! В ожидании машин или полевых кухонь мы расходились греться по хатам — недалеко от огневых позиций находилось село. И как назло в первой же хате нарывались на свадьбу. Чтобы не мешать людям, направлялись в следующую хату, а там — тоже свадьба! Что за наваждение! Кругом музыка, танцы, веселье. Помню, невеста была 1928 года рождения, а жених — 1923.
В конце концов мы так расстроились от всего увиденного, что когда за нами пришли машины, то никому не хотелось возвращаться в полк. На нас повеяло другой жизнью, и каждый вспомнил дом и близких. Но такая слабость длилась недолго — служба продолжалась.
В декабре меня вызвали в особый отдел. Ничего особенного — просто в плановом порядке надо было побеседовать со мной, уточнить ряд известных уже деталей. Беседа протекала доброжелательно, да и по службе замечаний я не имел. К слову сказать, эта беседа была первой за все время, как я оказался у своих. До этого момента ни одного раза не было у меня встреч с сотрудникам и особого отдела — ни в Винер-Нойштадте, ни в Фокшанах, ни в Котовске.
В январе пришлось поваляться в госпитале, куда меня поместили для переливания крови: никак не исчезали следы лагерного фурункулеза. Вскоре я оттуда сбежал к своим.
Зимой частыми стали выходы в город на патрулирование. Ночи проходили весьма неспокойно. Случались и перестрелки, и задержания, бывали и пострадавшие с обеих сторон. Многие инциденты возникали как следствие обильной выпивки и наличия у местной молодежи оружия. К весне таких случаев становилось меньше, дай местные власти принимали меры по сбору незаконно хранящегося оружия. Днем патрулирование протекало спокойно, и многие даже рвались в наряд на патрулирование, но мне однообразие начинало надоедать: мы весь день слонялись по городу из одного кинотеатра в другой, часть времени просиживали на концерте в городском Доме культуры, а остаток вечера — на танцевальной площадке. Инцидентов с каждым днем случалось все меньше.
Воду в военный городок по-прежнему возили автомашинами, и ее потребление было ограничено. Электрического света в казармах так и не видели, пользовались коптилками. По ночам обычно замерзали. На потолке, стенах и окнах постоянно висели сосульки льда, а иногда и целые айсберги. Поверх одеял укрывались шинелями.
Время от времени устраивали шахматные турниры. В феврале смотрел в ДК ту же самую американскую оперетку «Сорванец», которую видел в Линце. На этот раз переводчиков не требовалось, и впечатление было другим.
Один из наших был отпущен на два дня домой. Он жил в 40 километрах от Котовска. Пришлось уступить ему шинель и сапоги, ничего не поделаешь — живем еще бедно. Собственно говоря, до войны я не раз аналогичным образом выручал однополчан.
Возвратился из отпуска парнишка с нашей батареи. Его совсем недавно откуда-то перевели к нам. Оказалось, живет в доме 4 по Бармалеевой улице, то есть напротив моего дома 5. Парень 1926 года рождения, учился в той же школе на Плуталовой улице, что и я. Он помнил «уличные бои — дом 4 на дом 5». От него я узнал, что моих дружков-сверстников никого не осталось — всех разметала война. Из них пока никто не возвратился.
Нас, «старичков», конечно, никто в отпуск не отпускал, мы ждали увольнения и больше держались обособленно.
5
В воздухе уже пахло весной. Занятия проходили далеко от Котовска. После окончания зашли в хату погреться. Молодежь сразу занялась хозяйкой — всегда найдутся любители побалагурить, — а я сидел в стороне, без конца курил и ждал, ждал…
В моем письме к Нине от 5 марта есть такие слова: «Дорогая Ниночка!. У нас опять начинаются „бешеные дни“ — готовимся к стрельбам. Придется поработать, но погода ничего, настроение отличное, аппетит хороший, только что-то сердце пошаливает. Врачи говорят: домой просится…»
Весна продолжала вступать в свои права. Теперь я очень много времени проводил с батарейцами возле полотна железной дороги, встречая и провожая поезда, идущие на родной север. Мои ребята свое дело знали неплохо и ни разу на стрельбах меня не подводили. Поэтому я стал иногда позволять себе и ребятам «слушать, как растет трава» — совсем так, как это делали наши командиры в Винер-Нойштадте. Как только в воздухе пахнёт паровозной гарью, так у меня сердце рвется на куски, и какие только воспоминания, связанные с переездами, не встают в памяти…
Когда батарея уходила в караул, я часто оставался дежурить на телефонном коммутаторе. А сегодня мои ушли в дальний караул, и я мог, запасшись семечками и махоркой, уйти на весь день в лесок к ручью. Там можно не только поплескаться, полежать на солнышке, но и постирать одежду. Но все мысли только о Нине. Переписка продолжалась. Всякие мысли и чувства терзали меня, и я осознавал всю сложность своего положения. Как я не отодвигал эту тему, но вынужден ее осветить, несмотря на то что повествование ведется от первого лица. Все равно от самого себя никуда не спрячешься.
В довоенные годы мы в своем большинстве росли настолько целомудренными, по-детски наивными, что ли, молодыми людьми — хотя, наверное, были и другие — что по современным меркам непостижимо. Ну, как, к примеру, могут парень и девушка, будучи давно хорошими друзьями и твердо решившие пройти жизнь вместе и никогда не разлучаться, ежедневно встречаясь в течение двух лет и гуляя до вечера — не захотеть обнять друг друга, нежно прижаться, поцеловаться, наконец?
Мы с Ниной всегда ходили рядышком, держась за руки, словно чувствовали, что неумолимый рок хочет разорвать наше счастье и надолго разъединить нас. Когда кто-нибудь встречал нас на Большом проспекте, часто произносил не то с удивлением, не то с восхищением: «А Дима все с Ниной!» Слыша такое, мы мечтали услышать те же слова и через сто лет. А кто нас не знал, зачастую принимал за брата и сестру. Такие отношения сохранялись между нами и когда я уходил в армию в 1939 году, и в 1940–1941 годах во время моих коротких побывок в Ленинграде. Чем это объяснить?
Кто-то готов разрешить вопрос элементарно: «Дураки!» Но не будем спешить. Робость и пассивность мужской стороны? Наверное, это имело место, а девушке вообще не пристало кидаться парню на шею. Классическое: «Я Вас люблю!» — до сих пор не произнесено ни одним из нас, хотя мы твердо знали, что друг без друга существовать не сможем. До войны, еще в школе, один день не видеться — это было не по силам. Ну, хорошо. Когда я уезжал в армию, мне не было и восемнадцати лет, можно сделать скидку на возраст. А сейчас, весной 1946 года? Мы упорно продолжали слово «любовь» называть словом «дружба». В ряде мартовских писем у нас робко стали появляться приписки типа: «любимый», «обнимаю» и т. п. Например, в своем письме от 8 марта 1946 года Нина впервые «расхрабрилась», написав: «Димка, я тебе в письмах из Свердловска кончала весточки (их было две) такими словами: „Крепко целую, хотя и на бумаге, так как в действительности этого не было“. Мне бы и сейчас хотелось окончить письмо такими словами, но боюсь». Те два письма были написаны Ниной осенью 1941 года, и, конечно, они до меня не дошли. (Кстати, у нас было принято такое обращение друг к другу: «Дима» и «Нина» говорили о холодной вежливости, а «Димка» и «Нинка» выражали самые лучшие чувства.) В своем письме от 21 марта 1946 года я отвечал Нине: «Да, Нина, семь лет проверили нашу дружбу. В письмах мы уже не можем жить друг без друга. Скоро пора будет привыкать друг к другу в общении, а то отвыкли мы, наверное. Ведь письма письмами, а столько лет не быть вместе, не видеться — это должно наложить свой отпечаток. Как я несказанно рад, что не напрасно верил в тебя на протяжении стольких лет. Теперь я вознагражден твоими теплыми письмами, твоим приветом, крепкой дружбой и любовью. Нинка, как все это странно звучит. Люди признаются в любви через семь недель своего знакомства, через семь дней, наконец, через семь часов, но через семь лет — этого я еще не встречал нигде. А у нас ведь так получается. Я не мыслю себя без тебя, словно ты и я — одно неразрывное целое. Мне так тяжело без тебя, особенно сейчас, с наступлением весны, когда даже кошки от любви дохнут, а тут не можешь и руки пожать самому дорогому и любимому человеку — далеко!..»
А в письме от 16 марта я признавался: «Моя дорогая, единственная девочка!.. Когда я выразился тебе в одном из писем, что у меня нелепо „сложилась жизнь“, то я не хотел этим сказать — „прошла нелепо“, а она приготовила мне на пути такие ямы, выбравшись из которых я потерял свое место в жизни — надо теперь начинать сначала. На это я и намекал, но на судьбу никогда не обижался — наоборот, меня „счастливчиком“ звали ребята, с которыми встречался через несколько лет и которые давно и не раз хоронили меня. Нинка, ты ведь ничего, ничего абсолютно не знаешь! Но ведь так всегда бывает с человеком — на достигнутом трудно остановиться, хочется еще чего-то. Только время, время жалко. Но и это самообман. Стоит лишь вспомнить о тех, которые навсегда падали вокруг тебя на пути пройденном, — вот тогда-то и встает во весь рост то, что как раз и подарила судьба — это второе рождение, жизнь… Разве можно быть в обиде и унывать? Если бы я был склонен предаваться унынию и терять веру в нашу встречу — я никогда бы не смог больше вернуться к тебе, а остался бы в тех самых „ямах“. Мне так хотелось вернуться и… полюбопытствовать — действительно ли „все зависит от меня“, как ты любила раньше повторять, так как 4 года — это не 4 месяца… Крепко жму твои руки, милые, верные, честные…»
6
Наконец пришло время открыть завесу еще над одним щекотливым вопросом, о котором нельзя умолчать. Дело в том, что я слишком любил Нину и не мог позволить себе каким-либо образом испортить ей жизнь. Она — преуспевающая, любимая дочка заслуженного ученого и военного, доктора наук, генерал-майора — кончает в этом году университет и собирается в аспирантуру по кафедре картографии, да еще в самой сверхсекретной области этой науки — составление морских карт побережья США! Перед ней открыты все дороги.
А я? Что я мог предложить ей в 1946 году? У меня за плечами четыре года плена, которые до конца жизни останутся черным пятном в моей биографии и сделают меня человеком «второго сорта». И это в лучшем случае, если не сочтут нужным «изолировать от общества». Если же меня посадят, я нисколько не сомневался в том, что Нина снова станет меня ждать, но заслужила ли она такое наказание? Подобной жертвы с ее стороны я принять не мог, особенно если учесть, что в своих письмах к ней я ни о плене, ни о концлагере не обмолвился ни единым словом. Как поется в песне: «Догадайся, мол, сама».
Вот вернусь в Ленинград, все до мелочей расскажу, и пусть тогда решает — устраивает ли ее такой спутник жизни и будущий отец ее детей? А пока приходилось ждать, не позволяя себе излишней сентиментальности в письмах.
Но это — теория, а на самом деле наша взаимная любовь так и прорывалась наружу в каждом письме, и с ней было не справиться. У Нины тоже не получалось с этим, хотя о моем плене она, конечно, догадывалась. Таких, как я, много было вокруг. Из ее письма от 17 марта: «Дорогой, любимый Димочка!.. Я тебе очень благодарна за твои весточки, какое хорошее чувство испытываешь, когда знаешь, что о тебе думает любимый тебе человек… Кроме тебя мне больше не о ком думать, а о родных — как папа, мама и братишка, поскольку они рядом со мной, можно думать меньше. Пиши мне, дорогой и любимый, чаще, твои весточки придают мне энергию и бодрость, и я некоторое время спокойна, знаю, что ты обо мне думаешь тоже… Любящая тебя Нина. До скорой встречи, любимый…»
И еще из письма Нины от 6 апреля: «…у меня сохранились твои старые письма, как я была рада, когда нашла их в своем столе — они как-то уцелели. Вот когда я поплакала, перечитывая их и вспоминая тебя, поэтому тебе должно быть понятно мое состояние, когда я получила от тебя первую после стольких лет молчания весточку. Для меня тогда самое радостное было одно, что ты жив, ну а потом полезли всякие мысли в голову — я уж и не думала, что ты меня все еще ждешь, хотя и таила надежду… Хотелось бы тебя обнять, но никогда не пробовала, думаю, что не выйдет…»
Все же я, понимая призрачность возможного счастья, пытался снизить накал чувств любимой подруги, пока она все обо мне не узнает.
В письме от 12 марта я писал: «Не забегай вперед, моя дорогая, пока я еще далеко от тебя, не прыгай так высоко в своих чувствах, будь сдержаннее, такой, какой ты была до войны, когда испытывала меня. Ведь я тебе мог бы в каждом письме ударяться в сногсшибательные вещи, но к чему? Будет и для них время. Есть одно стихотворение, начинающееся словами: „Не спеши, невеста, замуж за бойца…“ и т. д. Это правда, хотя и горькая…» Тем не менее Нина четко определила программу на будущее — меньше двух сыновей не хочет, чтобы увековечить обоих дедов. Я же хотел еще и дочку.
За период с октября 1945 по апрель 1946 года мы с Ниной успели обменяться достаточным количеством писем: 65 моих писем плюс те, что не сохранились, и 45 писем от Нины плюс утерянные с годами.
Часто приходилось слышать: «Любовь бывает только в романах». Спорить ни с кем не желаю, но мне искренне жаль тех, кого в этом обделила жизнь. Любовь — чувство взаимное, но в первую очередь каждый должен любить сам, а не только желать, чтобы любили его. И все же любовь должна начинаться с простой человеческой дружбы…
7
Наконец вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 года о демобилизации 3-й очереди — это те, чьи года рождения 1919–1921; нас осталось совсем немного с 1939 года, когда мы начали службу.
Полковая школа к 1 Мая должна была выпустить новоиспеченных младших командиров, а начальник штаба полка майор Курков меня все пугал: «Не торопись домой. Может, тебя придется задержать на пару месяцев, как специалиста». В ответ я про себя посылал его куда-то далеко, но тревога оставалась — этого еще мне и не хватало! Документы на отъезжающих уже заготовлены. Отправка ожидается в течение мая.
А пока весь апрель без конца ездили на стрельбы. Кожа на наших лицах от солнца, ветра и пыли задубела и сошла по несколько раз.
В последних числах апреля состоялся вечер для демобилизующихся. Весьма оригинально прошли в Котовске пасхальные дни. Из моего письма Нине от 23 апреля: «Как у вас в Ленинграде встречали Пасху? Упаси бог, если так, как в Котовске. Мне не пришлось идти в караул, как я тебе писал в последнем письме — попал в комендатуру, в патрули. Вот весело было!
День прошел спокойно, чинно разгуливали парочки, погода была замечательная, чирикали соловьи, а ночью зачирикали автоматы. На одной улице кого-нибудь режут, на другой — раздевают, на третьей дом тащат на куски! Ну и ночка была. Одного у нас убили, двоих мы застрелили, кому-то из наших всю физиономию разбили и т. д. и т. п. А в одно из окрестных сел пришлось коменданту послать две машины — целый вооруженный отряд на оцепление. Вот как у нас встречали Пасху! А на другой день опять была хорошая погода, звонили колокола, и мирно разгуливала публика по городу — как ни в чем не бывало…» Тут ни убавить и ни прибавить.
Проходили последние учебные дни. Настроение отъезжающих передалось всем остальным, активность на занятиях упала — ясно, что нас надо скорее отправлять.
Провожали нас хорошо: музыки и красивых слов хватало, а вот новое летнее обмундирование выдать нам наотрез отказались.
На память получил служебную характеристику: «Красноармеец… рождения 1921 года, уроженец г. Ленинграда, образование 10 классов, беспартийный. В рядах РККА служил с декабря 1939 года по август 1941 года. С 10 августа 1941 года находился в плену по 5 мая 1945 года.
В батарее управления с сентября 1945 года. За период мирной учебы он показал себя дисциплинированным, примерным бойцом и по ходатайству командира батареи перед командованием части был переведен в декабре 1945 года на должность командира отделения в топовычислительном взводе.
Находясь в батарее управления, взысканий не имел, а за хорошее отношение к боевой и политической подготовке имел четыре благодарности от командования.
За период службы в батарее управления показал себя политически выдержанным, морально устойчивым и делу партии Ленина-Сталина предан.
Командир батареи управления воинской части полевая почта 44 071 старший лейтенант Резников».
Раз «делу партии Ленина-Сталина предан» — с такой характеристикой в Ленинград возвращаться не стыдно, но интересно совсем другое. Когда я обратился к комбату за характеристикой, то он бросил: «Напиши.
Я подпишу». Мне пришлось самому себе писать характеристику, но это очень трудно: так и хочется умалить свои достоинства, проявить ненужную скромность. В результате получилась сухая, протокольная бумага, где содержались только бесспорные факты. К тому же писал наспех и карандашом. При подписании произошел разговор:
— Ты же ничего не написал о себе.
— Написал, что есть.
— Ты же тянул один всю батарею, был и за старшину.
— Просто служил…
— Ну, как знаешь…
Ожидали подачи эшелонов. Документы на руках. Вместе с ними я получил значительную сумму денежного вознаграждения почти за год службы (я столько и не ожидал!), а также талоны, по которым в Ленинграде получу продукты на месяц — воблу, сахар, пшено, сухари, махорку и что-то еще. Все это окажется очень кстати.
К отъезду готовились втроем: старший сержант из огневых взводов ленинградец Вася Цибин, тоже огневик сержант москвич Маслов и я, командир отделения топоразведки, бывший сержант, ленинградец. Воинское требование на билет от Москвы до Ленинграда у нас с Цыбиным было на двоих, а от Котовска до Москвы — единое на троих.
Вот и наступил долгожданный день — 22 мая 1946 года. Мы уезжали во второй половине дня, и часа два пришлось проболтаться на станции в ожидании отправки. И тут со мной произошел казус. Из полка приходили ребята прощаться с нами — то один хлопнет по плечу, то — другой: «Димка, уезжаешь?» В каждом таком случае с целью закрепления армейского братства мы брали в станционном буфете по граненому стакану водки, но без закуски, которой в буфете не было. Отсутствовал даже хлеб — на все давно введены карточки, а мы и не знаем об этом. Совсем оторвались от гражданской жизни. Потом подходили другие, также сбежавшие с занятий, и процесс прощания растянулся до вечера. В результате я «накачался» до предела, опрокинув за каких-то пару часов восемь стаканов водки. Несмотря на то что я давно отъелся на армейских харчах после многолетней голодовки, такого количества водки для меня оказалось многовато: я свалился и ничего больше не помнил. Так и не пришлось в последний раз помахать Котовску на прощание. В поезд меня просто «погрузили» на руках — позор, да и только!
Без сознания, не ощущая всю торжественность момента, бесчувственным тюфяком оставлял я военную службу. Когда уезжал из Ленинграда в 1939 году, мне еще не было и 18 лет, а сейчас — 24 с половиной. Такой или похожей прошла молодость большинства молодых людей моего поколения. И к великому сожалению, вернулись домой далеко не все.
Ленинград
В себя пришел только под Киевом. Позади уже Жмеринка, Винница, Фастов. Вагон пассажирского поезда. Я лежал в проходе на полувагона. Через меня переступали люди и чертыхались. Оказалось, что лежал не один: таких «перебравших» полно, и мы дружно валялись вповалку. Но тех из полка, с кем так трогательно прощались на перроне Котовска, мы больше в жизни никогда не встретим — слишком большая наша страна.
Многие товарные вагоны страны в годы войны были переоборудованы в обычные теплушки с двумя рядами двухъярусных дощатых нар для лежания. Сидячие и лежачие места в нашем поезде были забиты до отказа, и о том, чтобы присесть, нечего и думать.
Цыбин, Маслов и я сумели отыскать друг друга с трудом только перед самым Киевом, где нас ожидала пересадка в товарный состав, следовавший на Москву. Процедура пересадки на поезд Киев-Москва выглядела так, как это бывает на наших российских дорогах: форменный штурм Измаила! Теплушки мигом были оккупированы пассажирами. Мы все ехал и в Москву.
Лежачие места на нарах, естественно, занимались пассажирами без различия пола и возраста — это излишне. Все втиснулись так плотно, что повернуться с боку на бок в одиночку невозможно, так же как это имело место на карантинном блоке 20 Маутхаузена. Между мной и Цыбиным бойко протиснулась молодая женщина с громадным чемоданом лука, который она собиралась реализовать в столице. Чемодан был поставлен в головах на попа и мне здорово мешал, но примоститься на полу было менее комфортно. Пришлось терпеть до Москвы.
Состав тащился медленно, подолгу стоял на разъездах, но все этому несказанно рады по простой причине: «параши» в теплушках отсутствовали — им попросту не было места, и пассажиры спешили удовлетворить свои потребности на каждой остановке. Если об этом не упомянуть, то тогда картина послевоенного 1946 года в Центральной России будет неполной.
А картина — впечатляющая: на станциях все разрушено войной, новые уборные еще не отстроены, и люди присаживались где попало, не глядя на соседа или соседку. И так — на каждой станции. Я был не лучше других и, только оказавшись в поезде, с горечью подумал: «О, великая Россия! Что с тобой сделала эта жестокая война? Как упростились быт и нравственность твоего народа, на пользу ли все это?..»
Проехали Бахмач, Конотоп, Брянск, Подольск, и на следующий день нас встречала Москва. Это было 24 мая.
Дневные часы наша троица провела на городском пляжике на берегу Москвы-реки, наслаждаясь свободой, солнцем и отрешенностью от дел земных. Сержант Маслов предложил нам с Цыбиным погостить у него в столице пару деньков. Старший сержант Цыбин сразу согласился и стал усиленно уговаривать меня присоединиться, поскольку у нас с ним было общее требование на билет для проезда от Москвы до Ленинграда. Я заартачился, понимая, что опять предстоит беспробудная пьянка, а мне этого вовсе не хотелось. Кроме того, в Питере меня ждала с нетерпением Нина, и вправе ли я по своей воле отсрочить долгожданную встречу хотя бы на один день?
Я отказался наотрез, но успокоил Цыбина:
— Вася, мне билет не нужен, оставь себе. Я доеду и так.
Я был понят и оправдан друзьями — ребята со мной согласились. Уезжал я в тот же вечере Павелецкого вокзала. Цыбин с Масловым пришли проводить меня на поезд. Заодно мы с Цыбиным предъявили свой общий билет проводнику. Увидев, что мы не «зайцы», а демобилизованные «в законе», немолодой проводник благосклонно разрешил мне стоять, сидеть и лежать на площадке тамбура вагона до самого Ленинграда. Больших удобств мне не требовалось. Ночь прошла спокойно. Поезд шел долгой прибыл в Ленинград на следующий день около трех часов пополудни.
Мне еще не верилось, что я возвратился насовсем. На трамвае № 12 проехал от Московского вокзала до угла Введенской улицы и Большого проспекта. До Бармалеевой улицы шел по «школьному» маршруту, по четной стороне Большого: она в тени, а нечетную в эти часы всегда заливает солнце. В руках у меня шинель, а за спиной болтался солдатский вещевой мешок — вот и все мое богатство.
Мама оказалась дома. Встреча получилась трогательной и с обязательными по этому поводу слезам и. Всплакнув, мама коротко поведала о блокаде и принялась угощать меня блокадными «деликатесами».
На первый раз, да еще с дороги, они мне даже понравились, но на другой день я их есть не мог. Одно блюдо — месиво из сухой жареной горчицы на сковородке, а второе — соевый кефир.
Посидев немного для приличия с мамой, я тактично объяснил, что меня ждет Нина. Мама ответила, что ей пора собираться на ночное дежурство в институт Пастера, где она служила с августа 1941 года. Волнуясь, позвонил Нине по телефону. Она, к счастью, была дома, и мы условились встретиться на Малом проспекте, после чего поспешили навстречу друг другу.
И вот она неторопливо идет ко мне, подходит, останавливается. Ничто не выдает ее волнения, как будто она хочет убедиться, что это действительно я «с того света», и поверить, что желанная встреча наконец состоялась.
Мы встретились очень просто, словно расстались вчера.
— Здравствуй, Нина… — У меня в горле комок.
— Здравствуй, Димок… — Нина с трудом сдерживает волнение и слегка касается меня плечом. Она специально надела старенькое довоенное цветастое платьице, в котором гуляла со мной весь 1939 год. Мы скромно пожали друг другу руки. Мы не обнимались и не целовались. Я не мог себе это позволить, пока Нина не узнает обо мне всё. Она тоже заняла выжидательную позицию, предоставив до поры до времени инициативу мне. Мы все понимали и обо всем договорились в письмах.
По Малому проспекту мы гуляли более трех часов. Народу на улицах не было, и я, не спеша и обстоятельно, рассказал ей все о себе — где был и что делал. Трудно мне было говорить об этом: по большому счету хвастаться нечем, но совесть моя чиста как по отношению к Родине, таки к любимой подруге. Когда я закончил свое повествование, дражайшая подруга и бесценная любовь моя не упала навзничь в беспамятстве, услышав о моей «Одиссее», как я ожидал, а спокойно, без тени малейшего огорчения, недовольства или разочарования, произнесла:
— Чего в жизни не бывает! Не переживай, мой Димок, — все образуется. Мы с тобой теперь вместе, а это — главное… — Как у нее все просто! Словно я не о жизни своей горемычной рассказывал, а о новой кинокартине.
Дело шло к вечеру, и мы побрели ко мне. Мама давно ушла на дежурство. До войны наша квартира состояла из трех комнат — гостиной, спальной и детской. Две первые за войну потеряны — маму «уплотнили», и она теперь жила в детской комнате, бывшей моей, площадью около 15 квадратных метров.
Придя домой, я почему-то захотел умыться с дороги, не додумавшись до этого ранее, а может, времени не нашел? Принес тазик с водой, снял запыленную гимнастерку и, оставшись в нижней рубахе подозрительно-серого цвета, с наслаждением вымыл лицо, шею и руки. Спешить больше некуда — я дома.
Когда я привел себя в порядок, случилось то, что и должно было случиться: мы не смогли далее выдерживать «дипломатические фокусы» друг друга и бросились в объятия с первым в жизни поцелуем.
Мы окончательно поняли: ничто не сможет нас разлучить — только смерть. До самой темноты мы просидели рядышком, продолжая прерванный разговор. Я вскипятил воды, и мы «размочили» мой сухой паек, хотя нам обоим было не до еды. Нахлынувшие чувства переполняли нас. Нам так хорошо вместе после стольких лет разлуки и полной неизвестности друг о друге. Посмотрев на часы, я вымолвил:
— Ниночка! Тебе пора домой — папа с мамой будут волноваться.
Я старался оставаться джентльменом, но она парировала без колебания:
— Я домой не пойду. — А понимать это надо было совсем по-другому, например: «Я твоя жена. Куда ты меня гонишь?»
— А что подумают родители? — Не сдавался я.
— Мама знает, что я останусь у тебя.
Вот это да: мама знает раньше меня — все уже оговорено в высших инстанциях! Этого я никак не ожидал, зная родителей Нины. Что я мог ответить на это? Могли я возражать? В этом вся была моя Нинуля, любящая и решительная. Утром я проводил ведомой. Так мы начали совместную жизнь, дорога к которой оказалась бесконечно далекой и не единожды могла оборваться навсегда.
От Гузена до Ленинграда около 4000 км, но дело не только в расстоянии. Несомненно, это любовь моей Ниночки каждый раз невидимой рукой Господней возвращала меня к жизни. Если бы не Нина, трудно сказать, как могла сложиться моя непутевая жизнь. Все, что я когда-то сделал или чего-то добился в жизни, — пусть не так и много — было сделано только ради нее. Если бы не она, то не знаю, кем бы я стал, где бы находился, что бы делал? Она всю жизнь была для меня путеводной звездой и единственной радостью. Это — факт.
Кончался май 1946 года, и мирная жизнь для нас с Ниночкой вступала в свои права.
Послесловие
Победное окончание войны и разгром гитлеризма принесли радость далеко не всем советским гражданам, побывавшим на «той» стороне. Большинство военнопленных, из числа находившихся в шталагах и рабочих командах, получило сроки — по десять лет в системе ГУЛАГа за измену родине[70]. Это оказалось для всех страшным прозрением, причем бывшие офицеры пострадали в наибольшей степени.
Гражданские лица, угнанные оккупантами в Германию, в том числе и дети, после войны всю жизнь жили с клеймом человека «второго сорта», ущемлялись в правах при прописке, устройстве на работу или учебу и молчали, боясь говорить о себе.
Только нас, бывших узников фашистских концлагерей — лагерей уничтожения, пощадил Вождь. Послевоенные репрессии за редким исключением нас не коснулись — эта горькая чаша нас миновала[71].
Вернувшись в Ленинград в конце мая, я уже 11 июня был восстановлен в числе студентов Ленинградского института инженеров водного транспорта, откуда призывался в ряды РККА. В 1952 году с отличием закончил институт и по распределению был оставлен в Ленинграде, проработав 26 лет на государственном предприятии «Волго-Балтийский водный путь имени В. И. Ленина». Причем последние 15 лет перед выходом на пенсию — начальником конструкторского бюро и главным конструктором одновременно. В гражданских правах никогда не ущемлялся, только самую малость, к чему давно привык и не обращал внимания. Со временем мне было присвоено офицерское звание старший лейтенант-инженер Военно-морского флота, меня приняли в партию, я прошел засекречивание и ряд лет проработал заместителем секретаря партийного бюро названного выше Управления. Все это дает основание отнести меня к числу «благополучных» сограждан, кого не коснулись прямые репрессии.
А были неприятные моменты? Да, были.
В процессе репатриации из американской зоны оккупации Австрии, а также за период послевоенной службы в армии ни одного обидного слова в свой адрес не слышал, но в бытность студентом второго курса, впервые ощутил шаткость своего положения. Как-то вечером, возвращаясь из института домой, приметил у подъезда ожидавшую меня легковушку, как выяснилось, принадлежавшую Большому дому. Водитель вежливо предложил мне зайти домой, поесть и с паспортом спуститься вниз, после чего он отвезет меня на Литейный, 4, для беседы.
Беседа протекала всю ночь. Ни о каком рукоприкладстве не было и речи. Полагаю, что это допускалось только в отношении тех, участь которых заранее предрешена. Меня, видимо, лишать свободы не намеревались, а потому беседа велась в достаточно корректной форме. Единственно, запало в память, сколь упорно вынуждали меня сознаться в тех грехах по отношению к Родине, которых я ни в плену, а тем более в концлагерях не совершал.
Утром меня отпустили в институт на занятия. Паспорт оставили у себя и сказали, что вечером ждут для продолжения разговора. Машину за мной вышлют.
Так продолжалось около недели, и я был прилично измотан.
В итоге нервы не выдержали, и я сорвался. Вежливую форму беседы оборвал и резко нагрубил майору НКВД, применив нецензурные выражения: «Хватит пугать! Гитлер четыре года пугал. Мы и так пуганые. Считаете нужным — кончайте к… матери!» Видно, этого только и не хватало. Майору брань показалась убедительной, и больше меня не дергали.
Находясь в концлагере, мало кто из нас верил в то, что переживем этот ужас и вернемся живыми домой. Мы адресами не обменивались, а фамилии у многих были вымышленные. Все делалось для того, чтобы никто и никогда не узнал о нашем позоре — что мы погибли в плену. Вот почему за 50 послевоенных лет нам не удалось разыскать друзей по несчастью. Так, лично я после войны совершенно случайно повстречал на улице только двоих ленинградцев из Гузена — Кузьмина Л. П. и Андрюшина К. Г., о которых упоминалось выше, и связей с ними я не порывал.
Но интересен другой факт. В 1960 году мне предложили вступить в КПСС. Я никогда не чурался общественно-политической работы, меня к ней всегда тянуло, я регулярно посещал партийную учебу вместе с коммунистами и проводил на флоте, помимо основной работы, постоянные беседы по текущей политике. Но вступать в КПСС я не торопился, отчетливо представляя себе, как на парткомиссии нашего Дзержинского райкома КПСС представитель Большого дома спросит меня: «Как вы докажете, что все было так, как вы рассказали?» А мне, действительно, доказать было бы нечем.
И тут случилась оказия: визит Н. С. Хрущева в Австрию и посещение им Маутхаузена. Австрия аплодировала Хрущеву, а я в этот самый момент послал письменный запрос в городской магистрат города Инсбруке просьбой сообщить адрес моего друга Альберта Кайнца, бывшего блокового блока 29 ревира Гузена. Запрос был датирован 16 июня 1960 года, а 5 июля пришел ответ с адресом Кайнца. Надо добавить, что запрос я посылал через Центральный почтамт без указания своего адреса — «до востребования», причем с определенной долей неуверенности: переписка с заграницей тогда не приветствовалась.
С тех пор на тридцать лет установилась теплая, дружеская переписка с руководителями антифашистского подполья в Гузене: Альбертом Кайнцем, Георгом Слуга и Вальтером Винном, о которых много говорилось в повести. Переписка длилась до 1992 года, когда умер последний из троих.
Дома хранится толстый альбом с их открытками, фотографиями, документами послевоенных судебных процессов над бывшими эсэсовцами и другими материалами. Двое из троих приезжали в Ленинград. Так, Георг Слуга с супругой Гертрудой приезжал в октябре 1987 года и посетил Л. П. Кузьмина и меня. Сейчас они напоминают о себе только с фотографий, но навсегда останутся в нашей благодарной памяти.
Только установив контакте ними, я мог наконец подать заявление о вступлении в КПСС, и оно состоялось в 1965–1966 годах. На возможный вопрос представителя Большого дома о доказуемости моих действий в условиях Маутхаузена, я теперь мог ответить просто: «Я не буду ничего говорить. Запросите обо мне ЦК Компартии Австрии». Но и это не потребовалось, поскольку вся моя переписка с первого дня была под контролем Большого дома. Вряд ли я ошибаюсь.
И последнее: мы, познавшие и испытавшие на себе весь кошмар нацистских тюрем и концлагерей, отчетливо сознаем непреложную истину, насколько тяжелее было нашим репрессированным согражданам находиться и погибать в лагерях ГУЛАГа на родной земле!
Мы находились у врага не по путевке профкома. Мы знали, что имеем дело с врагом, и на жизнь не рассчитывали. В моральном плане тяжело было только осознание того, что живыми попали в руки врага, а судьба наша мало зависела от нас самих. Но сидеть безвинно у своих, и чтобы тебя охраняли солдаты с красными звездочками на фуражках, которые вчера носили мы сами, — страшнее этого трудно и придумать, — по крайней мере, так казалось нам, бывшим узникам фашизма.
Вот почему многие из нас, бывших узников фашистских концлагерей и борцов Сопротивления фашизму, склоняют свои поседевшие головы перед теми, кто прошел лагеря ГУЛАГа. Дай им Бог, оставшимся в живых, здоровья и счастья на оставшиеся дни. И не приведи Господь повториться всему тому, что было, а фашистские способы массовых уничтожений людей, с которыми довелось столкнуться нам, меркнут перед своими, родными, отечественными способами такого же массового уничтожения безвинных собственных граждан.
Простит ли Господь те преступления, что свершились там, в Германии, и у нас — дома?..
Вот такая у меня получилась повесть о Российской Армии, о Великой Войне, о фашистских концлагерях, а также о Всеосветляющей Любви к Родине, к Женщине и к Богу.
Новая Россия, которую строим, должна хорошо знать свою Историю и не повторять бесконечных ошибок и преступлений.
Помните об этом, Люди!
Использованные материалы
Книги
Азаров И. И. Осажденная Одесса. М., 1962.
Алещенко Н. М. Они защищали Одессу. М., 1970.
Бондарец В. И. Военнопленные. М., 1960.
Великая Отечественная война Советского Союза: Краткая история. М., 1965.
Великая Отечественная война, 1941–1945: Энциклопедия. М., 1985.
Война Германии против Советского Союза, 1941–1945: Документальная экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Советский Союз. Берлин, 1992.
Воробьев К. Д. Это мы, господи!..// Наш современник. 1986. № 10.
Голубков С. А. В фашистском лагере смерти. Смоленск, 1963.
Даули Н. Между жизнью и смертью/ Пер. Статарского. Казань, 1960.
Деревянко К. И. На трудных дорогах войны. Л., 1985.
Долматовский Е. 50 твоих песен. М., 1967.
История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945: В 6 т. М., 1960–1965.
Карпов В. В. Полководец//Новый мир. 1982. № 5–6.
Краус О., Кулка Э. Фабрика смерти / Пер. с чешского. М., 1960.
Крылов Н. И. Не померкнет никогда. М., 1969.
Кузнецов Н. Г. Накануне. М., 1966.
Лаффит Ж. Живые борются / Пер. с фр. М., 1948.
Молчанов B. C. Пропавший без вести. М., 1958.
Неверли И. Парень из Сальских степей // Роман-газета. 1958. № 1. Незримый фронт: Воспоминания бывших узников концлагеря «Заксенхаузен». М., 1961.
Неустроев С. А. Путь к рейхстагу. М., 1961.
Остен Вс. Встань над болью своей. М., 1989.
Пирогов А. И. Это забыть нельзя. Одесса, 1962.
Сандалов Л. М. Пережитое. М., 1966.
Сахаров В. И. В застенках Маутхаузена. М., 1962.
Свидетели обвинения / Сост. Е. А. Вечтомова и В. В. Иванов. Л., 1990.
Свиридов А. А. Батальоны вступают в бой. М., 1967.
Севунц Г. Пленники. Ереван, 1960.
Скрытая правда войны: Россия в лицах, документах и дневниках: Неизвестные документы. М., 1992.
Советская военная энциклопедия: В 8 т. М., 1970–1980.
Суворов В. Ледокол. М., 1993. Кн. 1: Кто начал Вторую мировую войну?
Суворов В. Ледокол. М., 1994. Кн. 2: Когда началась вторая мировая война?
Тюленев И. В. Через три войны. М., 1960.
Фест И. К. Гитлер: Биография / Пер. с нем. Пермь, 1993.
Хомич И. Ф. Мы вернулись. М., 1959.
Шатилов В. М. Знамя над рейхстагом. М., 1966.
Яковлев А. С. Цель жизни: Записки авиаконструктора. М., 1968.
Schwarz G. Die Nationalsozialistischen Lager. Frankfurt/Main; New York: Campus Verlag, 1990.
Konzentrationslager Mauthausen/UnterkunftGusen. Kurzedokumentarische Geschichteeines Neben lagers des KZ Mauthausen. Verfasstund zusam-mengestelltvon Hans Marsalek. Wien, 1968.
Газеты
Вечерний Ленинград. 1987.21 февраля.
Известия. 1960 (июль); 1993.16. января.
Комсомольская правда. 1960 (июль).
Красная звезда. 1958.3 июня.
Ленинградская правда. 1941.11 января.
Литературная Россия. 1969.14 марта.
Невское время. 1991.29 июня.
Смена. 1989.31 марта.
Одесские газеты за март 1941 года.
Документы
Справка Международной службы розыска Т/Д — 1 454 634 от 21 июля 1993 года (Арользен, ФРГ).
Дмитрий Левинский: библиография[72]
Мысли вслух // Вестник ветерана. 1998. 29 марта. № 15. С. 11.
Мы многого тогда не понимали…. Размышления о прошлом перед Днем Победы // Вестник Волго-Балта. 1998. Апрель. № 1. С. 4. Уроки гнева и любви // Невское время [далее: НВ]. 1998.7 мая. Специальное приложение «Для тех, кому за…». № 32. [С. 2].
Мы из сорок первого… // НВ. 1998.21 мая. Специальное приложение «Для тех, кому за…». № 34. [С. 2].
Мы все молчали, не поднимая головы // НВ. 1998.20 июня. С. 4.
Бросали ли флот на произвол?//НВ. 1998. 30 июня. С. 3.
Мы так и не встретились, Рио! // НВ. 1998. 18 июля. С. 3.
Узнаю Ваш почерк, панове! // НВ. 1998. 1 август. С. 3.
Бои за историю: Еще о «Ледоколе» // НВ. 1998. 3 сентября. Специальное приложение «Для тех, кому за…». № 40. [С. 2].
Ломят танки широкие просеки // НВ. 1998. 17 сентября. Специальное приложение «Для тех, кому за…». № 42. [С. 2].
Плен слов, зовущих в завтра // НВ. 1998. 10 октября. С. 3.
О бабушках и дедушках// НВ. 1998. 24 октября. С. 3.
Эта книга о вас, моряки! // НВ. 1998. 5 ноября. Специальное приложение «Для тех, кому за…». № 49. [С. 2].
Освобожденные… поневоле// НВ. 1998. 26 ноября. Специальное приложение «Для тех, кому за…». № 52. [С. 2].
Германия! Ты многому могла бы нас научить… // НВ. 1998. 28 ноября. С. 3.
Литература о Левинском
Астафьев Н. «В сорок первом вернетесь…»// Водник Северо-Запада. 1995.7 мая. № 18. С. 4.
Полян П. Записки сержанта и поэта // Русская мысль (Париж). 1997. 4–10 сентября. С. 13.
Памяти Дмитрия Левинского
Дмитрий Константинович Левинский скоропостижно скончался в марте 1999 года. Это был удивительной судьбы и склада мышления человек. Его видение всего пережитого отличалось умением выделять главное из множества, не теряя всей полноты происходящего, и неоспоримой правдивостью, подкрепляемой фактами и документальными доказательствами. Практически зеркальным отражением всей его жизни являются воспоминания «Мы из сорок первого…», — когда-то необычный «самиздат», набранный и отпечатанный в нескольких экземплярах на персональном компьютере, а теперь — настоящая книга…
Будучи сержантом регулярной Советской армии, Дмитрий Левинский с самого начала Отечественной войны до середины августа 1941 года участвовал в жарких боях с немецкими фашистами на южном направлении фронта. Своими глазами он увидел все «прелести» войны и в своей книге документально осветил ход и причины поражений Советской армии на ее первом бесславном этапе.
Среди миллионов советских солдат и офицеров, попавших в плен, оказался и Дмитрий Левинский. А дальше, как и многих других, за отказ от вербовки в немецкую армию, за антифашистскую пропаганду его отправили на уничтожение в зловещий концлагерь Маутхаузен (и в рядом расположенный его филиал — Гузен-1). Первые советские военнопленные, 2150 человек, были доставлены нацистами в Гузен-1 в конце 1941 года. Из них в 1942 году осталось в живых 382, в 1943 году — 106, а на свободу в мае 1945 года вышло только 18. В концлагере Гузен-1 за годы войны подверглись жестокому насилию около 75 000 узников из разных стран Европы, в том числе 16 500 советских граждан. В этом лагере нацисты уничтожили 45 000 узников.
Когда в мае 1945 года Маутхаузен освободили, в живых оставалось не более 2000 россиян. Среди них — и Дмитрий Левинский. С самого начала своего содержания в Гузен-1 его привлек к подпольной работе капо «ревира» (лагерного госпиталя) Эмиль Зоммер, возглавлявший подпольный Интернациональный Гузен-Комитет. Он-то и «подарил» Дмитрию Левинскому жизнь.
Дмитрий Левинский в своей книге очень точно заметил: «У каждого из нас, переживших концлагерь, был свой Зоммер. Только благодаря интернациональной дружбе и взаимной поддержке можно было выжить. Иначе бы мы не вышли на свободу. На каких-то этапах лагерной жизни каждый из нас становился для кого-то Зоммером, а тот, другой, сыграл такую же роль в судьбе очередного соотечественника, нуждающегося в помощи». Это исторически подтвержденный закон выживания в концлагере.
До последней минуты своей жизни Дмитрий Левинский самозабвенно отдавал все свое свободное время делу сохранения памяти о мужественной борьбе бывших узников фашистских концлагерей. Он написал всего одну книгу но как ярко и правдиво она написана!
Я и сам содержался в Гузен-1 два с половиной года. В лагере я с ним не был знаком. Но когда я сейчас перечитываю его книгу то мысленно переношусь в концлагерь и снова вижу все, как наяву.
Федор Солодовник, председатель правления Общества бывших российских узников МаутхаузенаФотоматериалы
Отец жены — Граур Алексей Васильевич, бригадный инженер, 1940
Брат матери — Комендантов Николай Васильевич, поручик артиллерии, 1915
Мать — Левинская (в дев. Комендантова) Александра Васильевна, 1939
Отец — Левинский Константин Григорьевич, коллежский секретарь, 1915
Нина Граур, 1945
Нина Граур, 1939
Дмитрий Левинский, перед отъездом в армию, сентябрь 1939
Дмитрий Левинский, Одесса, 1940
Дмитрий Левинский, Чернигов, декабрь 1939
Дмитрий Левинский, Шталаг 17-А,Кайзенштейнбрух, Австрия, май 1942
Дмитрий Левинский с сыном Костей и дочкой Таней, 1954
Примечания
1
О них детально повествуют издаваемые в Петербурге горестные сборники свидетельств несчастных людей о годах репрессий с 1918 по 1980-е годы под названием «Уроки гнева и любви» (составитель и редактор — Татьяна Тигонен). В 1990–1995 годах вышло семь сборников. — Примеч. автора.
(обратно)2
Возможно, имеется в виду М. М. Пурышев, преподававший также и в Ленинградском кораблестроительном институте.
(обратно)3
Согласно этому закону, срок службы в армии продлен до 3 лет, во флоте, до 5 лет. В авиации и пограничных войсках — до 4 лет. Закон 1939 года отменил действовавшие до этого ограничения на призыв в армию по классовому признаку (одна ко в военные училища по-прежнему принимали только детей рабочих и крестьян). От призыва освобождались учащиеся институтов и техникумов, проходившие военную подготовку в учебных заведениях. Выпускникам техникумов присваивалось звание лейтенант, а выпускникам институтов — капитан; все они зачислялись в запас. Фактически этот Закон означал проведение скрытой мобилизации. В армию были призваны запасники младших возрастов и почти все командиры запаса.
(обратно)4
Д. М. Левинский родился 31 декабря 1921 года.
(обратно)5
В 1874 году вместо рекрутской обязанности, просуществовавшей почти два века, была введена всеобщая воинская обязанность. Призыву в армию подлежали все молодые мужчины, которым к 1 января исполнилось 20 лет. Призыв начинался в ноябре каждого года. От солдатской службы освобождались священники, медики и давалась отсрочка до 28 лет лицам, проходящим обучение в учебных за ведениях. Количество подлежащих призыву в те годы намного превышало потребности армии, и поэтому все, кто не подпадал под освобождение от службы, тянули жребий. Шли служить те, кому выпал жребий (примерно один из пяти). Остальные зачислялись в ополчение и подлежали призыву в военное время или при необходимости.
(обратно)6
Согласно официальным данным, всего за годы войны в подразделениях армии и флота, других военизированных ведомств, а также в трудовых батальонах в промышленности перебывало 34,5 млн. чел. В то же время безвозвратные потери военнослужащих списочного состава в годы Второй мировой войны составили 8,7 млн. чел., а с учетом призванных, но не успевших принять военную присягу — 9,2 млн. чел. (Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил: Статистическое исследование/ Под общей ред. Г. Ф. Кривошеева. М., 2001. С. 247–248). Таким образом, с войны не вернулся практически каждый 4-й мобилизованный в армию гражданин.
(обратно)7
Для обеспечения почтовой связью действующей армии Наркоматсвязи СССР создал систему военно-полевой почты во главе с Центральным управлением полевой связи. Народный комиссар связи СССР И. Т. Пересыпкин был назначен заместителем Наркома обороны и начальником Главного Управления связи Красной Армии по совместительству.
В декабре 1941 года в армии началось создание Управления военно-полевых почт. Органы военной связи при армиях развернули военно-полевые почтовые базы, а при штабах входящих соединений — полевые почтовые станции.
(обратно)8
Щерба Лев Владимирович (1880–1944) — академик, известный языковед, основатель Фонетической лаборатории при Санкт-Петербургском университете.
(обратно)9
28 сентября — с Эстонией, 5 октября — с Латвией и 10 октября — с Литвой.
(обратно)10
Имеется в виду «инцидент» (артиллерийский обстрел советских войск) у дер. Майнила.
(обратно)11
Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867–1951) — барон, финский государственный и военный деятель, маршал (1933). В декабре 1918 — июле 1919 регент Финляндии, с 1939 — главнокомандующий финской армией, председатель Совета государственной обороны (с 1931). Руководил действиями финской армии во время советско-финляндской войны 1939–1940, а также в 1941–1944 в качестве союзника фашистской Германии.
В сентябре 1944 был вынужден заключить с СССР мирное соглашение на условиях советского правительства. В 1944–1946 — президент Финляндии.
(обратно)12
Потери РККА за 105 дней составили 333 084 чел., в том числе убито или умерло — 65 384, пропало без вести (из них 14 043 предположительно погибли, а остальные — взяты в плен). См.: Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил: Статистическое исследование / Под общей ред. Г. Ф. Кривошеева. М, 2001. С. 195.
(обратно)13
7 мая 1940 года.
(обратно)14
Знаю, что в конце 1940 года Травников служил в мотомехкорпусе, дислоцировавшемся в городе Котовске Одесской области. Эти неукомплектованные техникой корпуса погибли «смертью храбрых» в первые дни войны. Вряд ли мог уцелеть Травников в тех жестоких приграничных боях. После войны я через адресное бюро разыскал его дом на Васильевском острове, где он жил до призыва, но дом оказался деревянным, сгорел в блокаду, а следы его родителей затерялись. В 1995 году в архиве ЛИИЖТа мне подарили его фото 1939 года, которое хочу при случае опубликовать. — Примеч. автора.
(обратно)15
Введен 1 декабря 1940 года.
(обратно)16
Начало стихотворения А. Блока из цикла «Родина».
(обратно)17
Стиенский (Стийенский) Радуле, он же Петров-Стийенский Стефан Иванович, он же Маркович Радуле (1903–1966) — югославский коммунист и черногорский поэт, участник черногорского восстания 1921 года, автор сборника «Очаг свободы» и др. Стийенский (от горного селения Стийена Пиперская) — его псевдоним. С 1927 года, после побега из подгорицкой тюрьмы проживал в СССР, где вступил в ВКП(б). Во время войны работал во Всеславянском комитете, занимался радиовещанием на сербско-хорватском языке. Среди переводчиков Р. Стиенкского на русский язык — В. Луговской, А. Тарковский и, в особенности, А. А. Штейнберг, в чьем переводе и дается цитата. См.: Нерлер П. Следственное дело № 4788 (1937–1939)//Штейнберг А. К верховьям. М., 1997.С.326–349.
(обратно)18
Из стихотворения А. Ахматовой 1915 года из книги «Белая стая».
(обратно)19
По всей видимости — аберрация памяти мемуариста: это мог быть только танк КВ («Клим Ворошилов»). Опытные образцы тяжелого танка «Иосиф Сталин», изготовленного на основе КВ, были выпущены только в 1943 году — после появления у немцев осенью-зимой 1942–1943 годов новых тяжелых танков «Тигр» (см.: Тяжелый танк ИС-2. История создания // Бронеколлекция. 1998. № 3).
(обратно)20
Александр Васильевич Траур — доктор географических наук, профессор и генерал-майор инженерно-артиллерийской службы. А. В. Траур родился 13 марта 1893 года в с. Карталы в Молдавии, по национальности молдаванин. В 1931–1946 году он возглавлял кафедру картографии Санкт-Петербургского университета. В начале февраля 1939 года, получив по телефону уведомление о своем увольнении из Красной Армии, обращался с письмом к Наркому обороны СССР маршалу К. Е. Ворошилову с просьбой о восстановлении в ее рядах.
(обратно)21
Имеется в виду непризнанная Приднестровская республика с преимущественно русским населением, в 1990 г. фактически отделившаяся от Республики Молдовы.
(обратно)22
Состоялось 22 июня 1940 года.
(обратно)23
Перевод А. Штейнберга.
(обратно)24
Опоздание приравнивалось к прогулу и могло повлечь за собой от 2 до 4 месяцев лишения свободы.
(обратно)25
Из популярной песни военных лет «Белоруссия»(цитата по памяти; правильно: «Ваше счастье молодое / Мы стальными штыками защитим оградим»).
(обратно)26
Об участии капитана В. Г. Нетребы в советско-финской войне см.: Клавдиев С. Захват первых железобетонных точек (на сайте: htpp://militera.lib.ru/h/suomi/23.html).
(обратно)27
См.: Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. М.; Л., 1965. С. 625). Приводимое Д. Левинским стихотворение на самом деле называлось «Возвращение» и имело эпиграф из К. Симонова: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди…» Елена Ширман (1908–1942)училась в Литинституте в семинаре И. Сельвинского, во время войны работала в ростовской агитгазете «Прямой наводкой» и погибла во время захвата редакции гитлеровцами в станице Ремонтной. См. о ней также: Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8. Стб. 730. Ее творчеству посвящена также статья Д. Давыдова «Я то, что я есть, и я говорю, что мне хочется»: «О „Последних стихах“ Елены Ширман» (Новое литературное обозрение. 2002. № 55).
(обратно)28
27 сентября 1940 года.
(обратно)29
См. ниже в этой главе.
(обратно)30
В книге И. Дугаса и Ф. Черона «Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным» (Париж, 1994. С. 162–164) также говорится о расстрелах раненых и тяжелобольных красноармейцев под Севастополем. Выразительная деталь: когда врач П. Бамм обратился к коменданту лагеря для военнопленных под Севастополем о помощи, тот с улыбой спросил: «Вам нужен пулемет?»
(обратно)31
Гагаузы — христианизированные турки, переселившиеся на юг Бесарабии и самоидентифицирующие себя с болгарами.
(обратно)32
См.: Скрытая правда войны. М., 1992. — Примеч. автора.
(обратно)33
От 20 июня 1940 года. Настоящие документы для удостоверения личности красноармейцев и младших командиров были введены только 7 октября 1941 года приказом наркома обороны № 330, однако его исполнение затянулось до второй половины 1942 года (при этом вопрос фотографий так и не был решен вплоть до конца войны).
(обратно)34
Официальное название — «Медальон со сведениями о военнослужащих», которые надлежало хранить в специальном кармане, пришитом справа на внешней стороне пояса брюк. В медальоне было два экземпляра так называемого «вкладыша» со сведениями о владельце; при ранении или гибели дубликат вкладыша вынимался и хранился в штабе полка. Интересно, что учет потерь в военное время регулировался приказом № 128 Народного комиссара обороны СССР маршала С. Тимошенко, изданным 15 марта 1945 года, то есть до войны. Приказ вводил общее «Положение о персональном учете потерь и погребении личного состава Красной Армии в военное время» (см.: Тыл Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Документы и материалы / Русский Архив. Великая Отечественная. М., 1998. Т. 25 (4). С. 48–52, со ссылкой на: РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 97. Л. 263–272). Согласно этому приказу, при погребении с убитого следовало снимать только лишь шинель, но позднее перечень снимаемого и приводимого в порядок заметно расширился. В него входили телогрейка, меховой жилет, полушубок, валенки, шлем, ремень, гранатные и патронные сумки, вещмешки, котелки, плащ-палатки и полотенца (Приказ по тылу Ленинградского фронта о погребении трупов умерших № 0213 от 13 декабря 1941 года //Там же. С. 193).
(обратно)35
Пастревич Александр Иванович — командир 95-й дивизии с 17 января по 15 июля 1941 года.
(обратно)36
Неточность: генерал-лейтенант Чибисов был не командующим, а заместителем командующего.
(обратно)37
«Кто там? Стоять! Руки вверх!» (нем.)
(обратно)38
«Встать! Руки вверх!» (нем.)
(обратно)39
Ношение на рукавных знаков различия, «выдававших» в первую очередь политсостав частей, было отменено Приказом наркома обороны СССР И. В. Сталина № 253 от 1 августа 1941 года. Вместо них устанавливались петлицы защитного цвета с защитными знаками различия для всех родов войск(см.:Тыл Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Документы и материалы / Русский Архив. Великая Отечественная. М., 1998. Т. 25 (4). С. 48–52, со ссылкой на: РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д.97. Л. 384).
(обратно)40
«Человек болен. Я должен отвести его в лазарет!» (нем.)
(обратно)41
«Давай, входи!» (нем.)
(обратно)42
«Я — русский солдат. Я не могу стать немецким солдатом!» (нем.)
(обратно)43
«Левченко, в шинели на выход!» (нем.)
(обратно)44
«Да, да!» (нем.)
(обратно)45
«Давай! Давай! Быстрей!» (нем.)
(обратно)46
Блоками назывались бараки в концлагерях.
(обратно)47
«Вон!» (нем.)
(обратно)48
Половина блока. Между штубами А и В находились служебные помещения. — Примеч. автора.
(обратно)49
Главная площадь лагеря, служившая для поверок, казней и экзекуций. — Примеч. автора.
(обратно)50
Их называли Rotspanier («Красные испанцы»). — Примеч. автора.
(обратно)51
Резиновый шланг длиной около 0,5 метра с металлическим сердечником. Использовался в качестве дубинки для битья узников. — Примеч. автора.
(обратно)52
«Давай! Давай! Быстро!» Живо! (нем.)
(обратно)53
Суточная норма хлеба указана по архивным материалам. На самом деле она не превышала 200 г. — Примеч. автора.
(обратно)54
Узники, имеющие «покровителей», дополнительное питание, работающие в престижной команде и имеющие шансы остаться в живых. — Примеч. автора.
(обратно)55
«Снять шапки!» (нем.)
(обратно)56
«Надеть шапки!» (нем.)
(обратно)57
Лагерная канцелярия.
(обратно)58
Подземное хранилище картошки.
(обратно)59
Наш с Шиловым случай не единичен. Аналогичный факт имел место в жизни В. И. Сахарова, упомянутого выше. В июле 1941 года на Южном фронте, будучи командиром отделения, он попал в плен. Одним с ним транспортом мы прибыли в марте 1943 года из венской тюрьмы в Маутхаузен. В первый же день в процессе «санобработки» он также случайно познакомился с австрийским коммунистом Йозефом Коолем, решившим его дальнейшую лагерную судьбу. Также, как и я — с Эмилем Зоммером. Чудес не бывает! — Примеч. автора.
(обратно)60
Вашраум одновременно служил умывальником и уборной. — Примеч. автора.
(обратно)61
Немецкий коммунист, член комитета, а после войны — Генеральный прокурор ГДР. — Примеч. автора.
(обратно)62
«Второй, западный фронт — начался!» (нем.)
(обратно)63
По другим источникам, фельдмаршал Роммель принял яд. — Примеч. автора.
(обратно)64
«Разойдись! Прекратить!» (нем.)
(обратно)65
«Немецкие девушки приветствуют немецких солдат!» (нем.)
(обратно)66
«Далека, далека ты, дорога до Лондона!» (англ.)
(обратно)67
«О, Роз-Мари! Ты мне так давно не писала!» (нем.)
(обратно)68
Герметичный автофургон с выпуском выхлопных газов туда, где люди. — Примеч. автора.
(обратно)69
«Военная полиция» (англ.)
(обратно)70
Бывшие военнопленные реабилитированы только Указом Президента РФ в январе 1995 года. — Примеч. автора.
(обратно)71
К сожалению, тут автор ошибается: никакой статистики нет, но репрессии в некаллоборантской репатриантской среде не были редкостью. См.: Полян П. М. Жертвы двух диктатур. Жизнь, труд, унижение и смерть военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. М., 2002.
(обратно)72
Составлена Павлом Поляном.
(обратно)


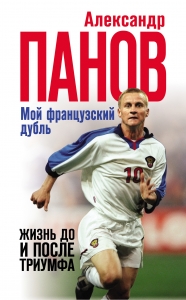


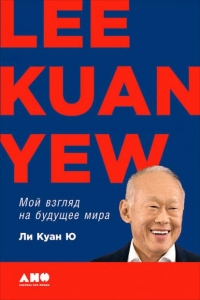




Комментарии к книге «Мы из сорок первого… Воспоминания», Дмитрий Константинович Левинский
Всего 0 комментариев