Суворовец Соболев, встать в строй!
Эта повесть, написанная с улыбкой и слезами должна была выйти в престижном «Детгизе» в 1992 году. Я подписал ее к выпуску, к ней были нарисованы иллюстрации. Я получил за нее гонорар, но рухнул Советский Союз, рухнули издательская система и великая и прекрасная русская детская литература, и книга не дошла до читателя. Через двадцать лет я ее снова перечитал, немножко отредактировал и представляю на суд читателя. В повести отражено начало далеких шестидесятых, начало жизни одиннадцатилетних мальчишек в дальневосточном СВУ, начало их военной карьера. Мне бы хотелось, чтобы мой читатель где-то немного улыбнулся, где-то немного взгрустнул. Но не остался равнодушным к героям повести, характеры которых списаны с реальных персонажей. Итак, разбиваю шампанское о хрупкий борт кораблика моей книжки и отправляю ее в плавание к моему, надеюсь, благодарному читателю.
Феликс Васильевич Маляренко
На левом фланге
— Рота, бегом!
По этой нелюбимой команде Санька прижал руки к груди, и так крепко, что вдоль спины побежали мурашки.
— Марш! – и рота, топоча в ногу, равномерно, как хорошо отлаженный двигатель, принялась отстукивать по дороге.
— Раз – раз – раз, два – три, — посчитывал сержант Чугунов, и рота под «раз» притоптывала левой, под «два» — правой, под «три» — снова левой. Но равномерный стук продолжался недолго: Санька продирался на обочину дороги и, пока продирался, сбивал ритм движения роты.
— Соболев, что там у Вас произошло? – нервно и часто дыша, спрашивал сержант Чугунов.
— Шнурок развязался, — оправдывался Санька.
— Вечно Ваши шнурки, — сердито отмечал Чугунов и тут же восстанавливал ритм движения роты. Раз – под левую, два – под правую, три – снова под левую ногу.
Санька завязывал шнурок и, набирая темп, старался догнать роту, которая к тому времени уходила за корпус. Он ковылял, бежал, задыхался, но успел, когда она остановилась перед казармой.
— Разойдись, заправить постели, почиститься до построения – двадцать пять минут, — скомандовал сержант, а сам направился навстречу Саньке.
— Соболев, что у Вас за шнурки? Не шнурки, а черви неуправляемые. Когда хотят, тогда и развязываются! Особенно им нравится делать это во время пробежки.
— Но я догонял! Бежал, торопился…
Сержант посмотрел и махнул рукой:
— Чтоб Ваши шнурки больше не развязывались! А то вечером будете до блеска драить туалет. Хоть морской узел пробуйте, но это последнее предупреждение.
После совета о морском узле Санька направился в роту и стал быстро заправлять постель. Потом схватил полотенце и помчался в умывальник. Там очередь за каждым из семи кранов с холодной водой тянулась до утреннего осмотра. Санька повесил на плечо полотенце и стал жать.
— Приготовиться к построению! – команда сержанта, обогнув коридор и площадку дневального, вошла в умывальник, и места у кранов тотчас же освободились. Санька быстро намылил лицо, шею, уши, выдавил из тюбика пасту и, закрыв глаза, принялся нещадно драить зубы. Потом окатил себя водой, быстро ополоснул рот и на ходу, вытирая голый торс, побежал вдоль вытянувшегося во весь коридор ротного строя.
— Опять Соболев! – прогремел голос сержанта. – Ну, теперь вся рота будет вынуждена Вас ждать.
— Пусть, пусть оденется, — мягко сказал старшина Горунов.
Санька, путаясь, влез в майку, потом, торопясь, натянул гимнастерку и уже на ходу, застегивая пуговицы, вклинился в строй на свое место на левом фланге рядом с другом Витькой Шадриным.
— У, жаба, — успел поймать он на лету брошенное ему Серегой Яковлевым, хихиканье Рустамчика Болеева и сочувствующий шёпот Витьки: — Надо было сразу брать полотенце, вместе бы помылись, постель потом бы заправил.
— Становись, равняйсь, смирно! – скомандовал сержант, когда удостоверился, что Санька занял своё место в строю, замер и прижал кулаки к лампасам. – Равнение на середину! – Сержант, четко выделяя слова, отчеканил доклад.
Рота, после команды старшины «Первая шеренга, шаг вперед, шагом марш! Кругом! Вольно!», волной двинулась вперед и повернулась лицом ко второй.
Старшина приказал сержантам проверить взводы, а сам прямиком направился к Саньке, который, даже после команды «Вольно!», вытянувшись в столбняк, с волнением смотрел на приближающегося к нему старшину.
— Опять Вы, Соболев, плохо бляху почистили, ботинки бархоткой не гладанули, воротничок пришили криво. Ну-ка, расстегните две верхние пуговицы гимнастерки! Так и есть – грязный. — Старшина был самым добрым человеком в роте и училище, и вторым на всем белом свете. Первым была мама. Он говорил тихо, и как бы жалел, но никогда не наказывал. Он был такой аккуратный, что рядом с ним с ним любой вычищенный и выглаженный суворовец чувствовал себя неуютно, и хотел что-то на себе исправить, удалить лишнюю пылинку, и где-то еще раз пройтись утюжком. К его груди прилипли три планочки боевых орденов и медалей. – После занятий зайдете ко мне в каптерку, и будем вместе пришивать воротничок.
Потом старшина еще раз посмотрел на него сверху, и во взгляде, упершемся в стриженую голову, было столько недоумения, и Саньке вдруг показалось, что ему ещё надо макушку намазать асидолом и натереть до медного блеска.
— Да?! – одновременно вопросительно и восклицательно произнес старшина, и в этом «Да?!» опять было столько всего недосказанного, сказано мягко и высказано не совсем понятно, что Санька решил: сегодня после занятий обязательно…Но не успел он додумать, как с правого фланга взвода доползло Серегино «жаба», рядом прокатился смешок Рустамчика и протянулся слабый шепоток Витьки Шадрина: «Надо было сразу в умывальник зайти, и ты бы все успел».
— Нет, — задумчиво произнес старшина. – Вам бы на бухгалтера учиться, командира из вас, наверно, не получится. А если и получится, так не очень…
По дороге на завтрак Санька шел в строю и думал, что после занятий он обязательно перешьет, отчистится, отгладится, и тогда-то старшина выведет его перед строем и скажет всем: «Вот посмотрите, есть ли у нас в седьмой роте суворовец аккуратнее, чем Соболев? Кто ещё так до алмазного блеска чистит бляху и пуговицы? Сравните мои сапоги с его ботинками. В ботинках Соболева можно увидеть свое отражение». И Санька обязательно посмотрит вниз и увидит в чёрном кожаном зеркале такого аккуратного суворовца, что залюбуется им. «Неужели это он?..»
— Суворовец Соболев, подтянитесь, — услышал он голос сержанта, заторопился, догнал Рустамчика и наступил ему на пятку.
— Ну ты, не видишь, что ли? – обернулся тот.
Получилось так, — попробовал оправдаться Санька, но тут же услышал за спиной:
— Суворовец Соболев! Разговорчики в строю!
— Э-э-эх! – вздохнул Санька…
В столовую рота входила спокойно в колонну по одному, постепенно ускоряя шаг, и уже в самом здании побежала занимать свои места. Столы ещё не успели накрыть, но запах плова волнами разносился по огромному залу.
— Ну вот, — возмущался худой и верткий, весь острый, как игла, Витька, — опять тарелки алюминиевые прозевали, теперь жди, пока тяжелые фарфоровые разнесут.
Дневальные несли по четыре порции на каждом подносе.
— Если бы алюминиевые, — продолжал ворчать Витька, — тогда бы по восемь приносили. – Он достал из-под стола запрятанную ещё с прошлого обеда баночку горчицы, намазал хлеб, посыпал его солью и снова спрятал баночку по стол.
Залпом выпил компот и чай.
— Плов оставим на второе и третье, — объяснил он и тут же посоветовал Саньке: — Пей компот, а то не успеешь.
— Как же? Компот – это десерт.
— Десерт, так десерт, — доел абрикосы Витька и косточки засунул в карман.
Наконец очередной поднос с пловом доплыл до них. Маленький огненно-рыжий Толя Декабрев тут же набил себе рот, у Витьки вилка мелькала, как затвор автомата. Санька ел медленно.
— Рота, заканчивай завтрак! – как всегда неожиданно прозвучал голос сержанта.
Витька вытер хлебом тарелку, Толя приступил к компоту, вот тут Санька начал набивать рот, запивать компотом, заливать чаем.
— Рота, встать! Выходи строиться! – прозвучала команда, и суворовцы, достав из колец салфетки, стали вытирать руки, двигать стульями и направляться к выходу, а Санька доедал, давился, потом допил компот и побежал, желая успеть…
— Соболев, опять опаздываете? – закричал Чугунов. – Почему Вам хочется одному сидеть ещё минутку в тепле, пока другие мерзнут? Становитесь на место и не надо больше хитрить!
Санька поплёлся в строй. «Вот всегда так. Чуть что – сразу хитришь, ведь и опаздывал не потому, что хотел, просто порции принесли позже всех!»
— Жаба! – донесся шепоток с середины строя и тоненький смешок щекастого Рустамчика.
— Говорил тебе, надо было сначала компот, — сочувственно прошептал Витька. – Тогда бы успел.
Вот всегда так, как Чугунов заступает дежурным по роте, у Саньки сплошные неприятности.
Сегодня вторник – кружковый день. Витька звал записаться в шахматный, но Санька записался в кружок любителей русского языка.
— Знаешь, — растолковывал Витька, — вырастем, гроссмейстерами станем, будем на международных соревнованиях от клуба ЦСКА выступать. И командирам, и офицерам, и генералам шахматы как никому нужны. В бою с их помощью всё на десять шагов вперед можно увидеть.
— Да, — соглашался Санька, — но если по диктантам двойки и тройки получать, то на каникулы не пустят.
— А у меня троек нет, я правила на самоподготовке выучу…
Но Санька на кружок не пошёл, надо выполнять приказание старшины. В спальне он оторвал от куска материи лоскуток, сложил его пополам и старательно пришил к воротничку. Посмотрел, получилось не очень ровно. Потом загнал пуговицы в трафаретку, капнул на них асидол и долго водил щёткой по медному ряду, пока он не заблестел…
Старшина, сощурившись, осмотрел Саньку и, наконец, выдавил из себя:
— Старался, и то дело. Э-эх, Соболев, Соболев, когда у тебя всё будет получаться вовремя, когда ты научишься успевать со всеми? Сегодня у вас будет пионерский сбор, может вожатый на тебя подействует? Когда ты, наконец, покинешь свой левый фланг?
— Наверно, когда вырасту, вздохнул Санька.
Вожатый
Первых два часа самоподготовки сержант Чугунов сидел за столом перед партами второго взвода и, охраняя тишину, читал книгу об Иване Грозном. Тишина в классе, как за дубовой дверью, надежно покоилась за широкой спиной сержанта. И если вдруг шелестом пересохшего осеннего листа до его чуткого уха дотягивался тоненький шепоток, Чугунов медленно поднимал смоляные брови, направляя взгляд светло-голубых глаз в сторону шелеста и, чтобы тот не расползался, промораживал его в центре возникновения.
Суворовцы набора тысяча девятьсот шестьдесят второго года самой младшей роты училища, по-гражданскому просто пятого класса, готовились к завтрашним занятиям по арифметике, русскому, английскому, истории и уставам. Санька Соболев, закончив с примерами и упражнением, пробовал читать первые статьи «Дисциплинарного устава», но смысл прочитанного рассеивался и не успевал осесть в голове.
«Дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров и военноначальников». Слова в уставе были тяжелыми, непонятными и, главное, такими, какими никто и никогда раньше при Саньке, всего два месяца назад, не говорил. Даже отец и дед, которые воевали на фронте.
«Дисциплина есть…» снова начал он, читал дальше и забывал первые слова, не понимал тут же прочитанных и откровенно зевал на последующих. Его карие глаза сонно смыкались, и на смуглое лицо, казалось, находила тень.
Его сосед по парте и первый Санькин друг Витька Шадрин, светлый худой подвижный, как вьюн, прочитав устав, отложил его в сторону и прошептал:
— И не за такое пятерки получали, — и, повертевшись, осторожно достал контурную карту и розовым карандашом закрасил в Африке ещё одну страну, ставшую свободной от колониального рабства, о которой прочитал сегодня в «Пионерской правде».
Его карта была уже сплошь розовой, и на ней оставалось мало белых пятен, а под героической Кубой, заштрихованной в яркий малиновый цвет, в скобках расшифровывалось: «Коммунизм у берегов Америки».
С Санькой они познакомились ещё в карантине, где Витька уже прожил один день. Он выбрал Саньку из толпы, подошел к нему и сказал:
— Ниже меня! Значит, самый маленький.
— Сам маленький, — не задержался с ответом Санька.
— Знаю, что выше тебя, и буду тебя защищать.
— Спасибо, сам как-нибудь, — попробовал уйти от прилипчивого защитника Санька.
Но мальчонка протянул тонкую и гибкую, как змея, руку:
— Я Витька Шадрин из Владика. Все равно давай дружить, ты мне нравишься.
Но самым маленьким во взводе, да и в роте, оказался огненно-рыжий Толя Декабрев. Сейчас он сидел на первой парте и рисовал на контурной карте кружочки. Рисовать кружочки было его любимым занятием.
Санька устало оглядел класс. Длинноносый Саша Фомин, закрыв глаза и в такт покачивая головой с большим носом, шевелил губами и усердно перемалывал выдержки из устава. Рустамчик с толстыми хомячьими щеками хитро, до острых бритв, сузив карие глазки, списывал решение задачи у соседа по парте ушастого и вечно сонного Толи Счастливого.
Серёжа Яковлев, веснушчатый, как рябое яблоко, и прозванный ребятами Кулаком, усердно выводил в своей тетрадке столбики с одним, двумя и тремя нулями. Ещё в третьем классе он собрал большую жестяную коробку пять тысяч четыреста копеечных медяков, и неожиданно в новогоднюю ночь тысяча девятьсот шестьдесят первого года Дед Мороз вместе с денежной реформой удесятерил его вклад. К утру в старой жестянке было состояние в пятьдесят четыре новых рубля.
Отныне Сереже Яковлев, где мог, менял деньги на копейки и ждал новой, а за ней ещё более новой реформы. И не было для него лучшего занятия, чем считать, как его сумма сначала увеличивается в десять, а потом в сто, а потом, может, и в тысячу раз. И когда он проходил мимо буфета и чувствовал запах горячих жареных пирожков, и у него вдруг появлялось страшное желание купить хотя бы один, Серёжа тут же останавливал себя мыслью, что через десять или двадцать лет на эти же деньги он сможет приобрести и съесть их в десять, а то и в сто раз больше.
В общем, все были заняты, и только один из взвода, как всегда, стоял в наряде. Один раз в двадцать восемь дней. Сегодня в наряде был как всегда спокойный, самый высокий и самый сильный во взводе Лешка Дмитриев.
В этом году приняли в седьмую роту вместо положенных ста сто девятнадцать человек. Командир роты майор Сорокин объяснил: кто-то может не выдержать, кто-то по состоянию здоровья уйдёт, чьи-то родители уедут на «запад», и он вынужден будет перейти в другое училище. Но Чугунов, сержант срочной службы и заместитель командира второго взвода, самый строгий сержант в роте, а может, и в училище, говорил, что эти двенадцать лишние, и во взводе должно быть ровно двадцать пять. А эти трое, как самые недисциплинированные, самые неуспевающие, должны быть заявлены в отчисление. Вот и сейчас сержант строго следил за порядком во взводе и изредка металлическим голосом напоминал:
— К занятиям нужно готовиться основательно.
А как же по-другому, и Санька снова уткнулся в устав. «Дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими…»
Но изредка Толя Декабрев или кто-нибудь другой штыком поднимал руку и, строго прижимая локоть к парте, терпеливо смотрел на сержанта, пока тот оторвет голову от любимой книги.
— Слушаю, — сержант медленно переводил суровый взгляд от «Ивана Грозного» в сторону суворовца.
— Товарищ сержант, задача не получается, — уже весь вытягивался в штык Толя.
— Садитесь! – кивал головой сержант, раскрывал черную дерматиновую обложку лежащей перед ним общей тетради, разрезая шелестом страниц охраняемую тишину. Не торопясь, он подходил к спрашивающему и долго сверял каракули в тетради суворовца с написанным решением Тамары Александровны, учителя математики. Затем толстым пальцем спокойно прижимал тетрадь к парте и, по-командирски разделяя слова, чеканил:
— Вот здесь проверьте!
Тут же со всех сторон тянулись стриженые головы.
Вокруг сержанта моментально образовывалась куча суворовцев.
— Разговорчики! По местам! Кто разрешил? – строгими командами раздирал кучу сержант и, бряцая подковами, быстро проходил к столу. Потом холодным взглядом прижимал стриженые головы к партам и лишь после этого садился за «Ивана Грозного». Перед звонком Чугунов объявил:
— На третьем часе самоподготовки капитан Баташов проведет с вами пионерский сбор, — расправил плечи и выдохнул, будто сбросил со спины тяжелый вещмешок.
Капитан Баташов пришёл не один, а с высоким, выше его на полголовы суворовцем из четвёртой роты. Тонкий живой аккуратный капитан был похож на полководца Суворова, но стриженного под полубокс. По сравнению с капитаном суворовец выглядел чуть нелепо. Рукава его гимнастерки не дотягивались до запястьев, а наглаженные брюки поднимались над ботинками, обнажая синие носки. Суворовец от волнения моргал, смешно сдвигал светлые брови и тянул рукава гимнастёрки.
— Суворовец Владимир Зайцев, — представил его капитан, сделав движение руки в сторону старшеклассника и, тепло улыбнувшись одними глазами, добавил: — Будет вожатым вашего пионерского отряда.
После этого вожатый порозовел, причем розовая краска пробежала от подбородка по вытянутому лицу, обходя островки веснушек на носу и щеках, поднялась, окрасила высокий лоб и спряталась в коротких волосах, оттопыренных ежиком.
— Он мне поможет провести у вас сбор, — поправил спустившийся на лоб чуб капитан.
— А можно вопрос? – высоко вздёрнул руку Витька Шадрин и, не дождавшись разрешения, спросил: — А почему сбор без пионерских галстуков?
Краска на лице вожатого потемнела.
— Действительно, — вновь поправил чуб капитан. – Сейчас всё исправим.
Он взял с собой двух суворовцев и вышел, а вожатый, продолжая стоять посередине, беспомощно оглядывал класс.
— А ты, то есть Вы, — встал, изогнувшись над партой, Витька, — долго будете у нас?
— Пока долго. До конца часа, то есть месяца, вообще года, — нерешительно развёл руками вожатый, и новая краска пробежала по его лицу. – На сборах, линейках и просто постараюсь помочь, если получится.
— Здорово! – мячиком подпрыгнул со своего места самый маленький Толя Декабрёв. – А то задачи по арифметике трудные задают. Вот география – другое дело.
— И по русскому, — закричал с задней парты Серёга Яковлев.
— Обязательно помогу, — уже спокойно ответил вожатый, погасив последнюю волну краски.
— А ты, Вы, спортом занимаетесь? – спокойно приподнялся Рустамчик, за круглые щёки прозванный Хомяком.
Вожатый повёл плечами.
— Не за-ни-ма-е-тесь? – разочарованно потянул Болеев и со вздохом плюхнулся на парту. Этот разочарованный вздох, подхваченный двадцатью пятью голосами, растянулся по рядам.
— Занимаюсь, занимаюсь, — попробовал оправдаться вожатый. – Но только парашютным.
— Парашютным? – на этот раз уже с восхищением произнесло двадцать пять голосов. Всё-таки с парашютом из-под облаков слететь – не кроссы бегать, не сальто на матах крутить и даже не в перчатках на ринге друг друга мутузить.
— А страшно с парашютом в самолёте? – уже осторожно приподнялся со своего места Витька Шадрин и с такой готовностью посмотрел на вожатого, будто он не суворовец из четвёртой роты, а живой памятник, чемпион мира или Герой Советского Союза.
Володя опять как-то неуверенно развёл руками, и розовая волна опять прокатилась по лицу, огибая веснушки.
— Я пока ещё не пробовал. Мы только изучали парашют, учились складывать. Правда, через месяц мы должны поехать к десантникам и попробовать прыгать с вышки.
— Не прыгал, — опять разочарованно опустился за парту Витька, и снова вздох потянулся по рядам. Вздох этот был какой-то противный, печальный и даже тоскливый. Он докатился до стены и поднялся над классом неприятной тяжёлой тишиной.
И только открываемая капитаном Баташовым дверь разрядила эту противную тишину. Баташов пропустил вперёд суворовцев, которые были нагружены белыми гимнастёрками с яркими алыми без белого канта погончиками и шёлковыми галстуками. Взвод зашумел, задвигался. Через несколько минут в классе стало светлее от рубашек с короткими рукавами и пламенеющих на груди галстуков.
— Ну что, Володя, проводи сбор, — капитан Баташов сел на стул, а вожатый, натягивая то один, то другой рукав своей гимнастёрки, начал.
— Нам нужно набрать членов совета отряда. Я вас ещё плохо знаю. Вы друг с другом знакомы. Кого выберем председателем? – В классе стало тихо. – Так кто у нас будет председателем совета отряда?
Вопрос повис в воздухе, и Саньке Соболеву показалось: воздух в классе вдруг сжался и стал густым, как кисель. Все молчали, молчал и Санька. В мгновение он поймал себя на мысли: «Хочу ли я быть председателем? Да или нет? Наверно, нет! Наверно, нет! Ведь надо что-то делать, управлять ребятами, давать задания».
Санька почувствовал, как тяжело дышать кисельным воздухом, как ворот гимнастёрки сжимает горло. «А может, да! Как хорошо быть на виду, в работе, ты всем необходим, тебя все спрашивают. А вдруг выберут не тебя? А назовут другого?» Санька вдруг захотел, чтобы кто-то выкрикнул фамилию Соболев. Он почувствовал, что хочет быть нужным. Необходимым.
— А может, изберём Серёжу Яковлева? – спросил капитан Баташов и поправил волосы, опустившиеся на лоб. – Может ещё кого-нибудь? Предлагайте, не стесняйтесь, давайте проголосуем? Можете себя, если желаете, если считаете, что справитесь.
Толя Декабрёв осторожно приподнял руку, но, не дотянув её, также осторожно опустил.
— Суворовец Декабрёв, — привстал капитан.
— Да я хотел… — начал было Толя. – Наверно… Не знаю… Думаю… — перебирал он слова. – Тоже Яковлева, — наконец он закончил и сел.
Санька почувствовал, как горячая волна пробежала по телу, как она подобралась к лицу, ушам. Зажгла их. Ему тотчас же показалось, что все смотрят на него. «Стойте, не проходите, посмотрите на Саньку Соболева, он завидует Серёге Яковлеву, что выбрали его».
Санька опустил голову. Но это действительно так. Было обидно, что не выбрали, что не назвали, хотя минут назад он не хотел этого.
За Яковлева он поднял руку вместе со всеми. Потом стали выбирать звеньевых. На этот раз он хотел, чтобы кто-то назвал его, чтобы хоть кто-то вспомнил о нём, чтобы уже вошедший в роль вожатого Зайцев написал его фамилию на доске, но звучали фамилии других.
Выбрали звеньевых, зелёный патруль, редколлегию, но никто не вспомнил о нём. Весь взвод был куда-то избран и за что-то отвечал, а Санька всё сидел и ждал.
— Ну вот и всё, — сказал раскрасневшийся вожатый. Он уже не волновался и был спокоен, будто всю жизнь руководил пионерами суворовцами.
Капитан встал из-за стола.
— Теперь у нас все при должностях, осталось закрыть собрание. В субботу будет линейка у памятника Виталию Бонивуру.
И только тут Санька понял, что его никуда больше не выберут. Теперь покраснели не только уши, но и глаза. Он уже чувствовал, что они становятся влажными.
Где-то очень далеко рассыпался по коридору звонок, и пионерский сбор как оборвался. Капитан приказал переодеться. Санька надел черную гимнастёрку, и в классе сразу стало темнее.
И хоть капитан Баташов отпустил взвод, предварительно объявив, что через пять минут будет построение на ужин, и роту в столовую поведет сержант Чугунов, Санька сидел, опустив голову, на своей второй парте у окна, смотрел на крышку, и ему всё казалось, что презрительные и смешливые взгляды взвода обращены к нему.
А класс уже опустел. Выходящий последним Саша Копытов баскетбольным движением, будто забрасывал мяч в корзину, подпрыгнул, изогнулся и выключил свет. Стало темно, и только дежурная синяя лампа из коридора чуть освещала затоптанный паркет между партами и огромной линолеумной доской. Потом исчезла и эта полоса, и тогда Саньке вдруг показалось, что его уши светятся в темноте раскаленными углями. Он зажал их руками и закрыл глаза. Ему казалось, что сидит он один в пустом классе, в пустой казарме, пустом училище, один в целом мире.
— Ты что сидишь? – услышал он тихий через прижатые руки чей-то голос.
Сначала он подумал, что этот голос возник у него внутри, как будто сам себе задал этот вопрос. Но возникший в нём голос продолжал спрашивать:
— Ты что сидишь, рота уже строится на ужин?
Санька опустил руки и открыл глаза. Не мог же возникший в нём голос ещё раз спросить и напомнить об ужине.
— А тебе какое дело? – Санька не стал даже поднимать голову и вдумываться, кто задал этот вопрос, и лишь когда ответил, вдруг понял, что голос принадлежит вожатому, их новому вожатому, этому Зайцеву, из-за которого Саньке сейчас плохо, так одиноко, так обидно, что не хочется даже идти на ужин.
— Извини, но я, кажется, знаю, почему ты здесь один. Это я виноват, что тебя никуда не выбрали.
— Ну и что с того, что не выбрали, — отвернулся Санька к окну. – Ну и что? Я, может, по-другому случаю обижаюсь, я, может быть, обижаюсь просто так, — и подумал: «Сам виноват, сам всё отлично понимает, а ещё лезет в душу». – Думаешь, если выбрали, это хорошо? Нужна мне лишняя работа. Я, может, в кружок математики буду ходить и задачи лучше всех решать, — попробовал рассердиться Санька.
Но злость застревала внутри, и пока она выходила, превращалась в обиду, а наружу прорывались предательские слёзы.
— Да постой, не надо, — Санька почувствовал на плече руку вожатого, попробовал вывернуться, и рука исчезла с плеча. – Ты ещё раз меня извини. Мне тоже бывает в таких случаях не по себе и кажется, что я никому не нужен. — Володя сказал это так тихо и просто, что Санька вдруг поверил ему и поднял голову, пытаясь заглянуть в глаза вожатого. Но было темно, и он ничего не увидел, а только почувствовал, что какое-то тепло исходит от вожатого. Это тепло отзывалось в Санькиной груди, где-то в глубине, в самом сердце, остывшем от того, что весь его жар был истрачен на постыдное разогревание ушей. И от этого всё стало ясно и стыдно. Просто он хотел быть лучше других, завидовал, и эта зависть разбудила в нём обиду. Эта проклятая зависть нагрела уши и остудила сердце.
— И со мной тоже так было, — продолжал Володя. – И было совсем недавно. Или, кажется, что недавно. Понимаешь, тот же сбор, и тоже в седьмой роте, и тоже у окна, и тоже на второй парте, и тоже все поднимали руки за других. А я хотел быть другом леса, и звеньевым, и красным следопытом. А про меня тоже забыли. И мне тоже было обидно, и уши, пылали. Думаешь, не видно?
— Неужели в темноте видно? — Санька приподнял ладони.
— Да нет, — шорохом отозвался смех Володи. – В темноте не видно, но если на твои уши нацелить сейчас прибор ночного видения, они были бы хорошей мишенью. Да не переживай, и тебе тоже найдется дело. Я поэтому и пришёл к вам, чтобы никто не оставался один. Ведь известно, как плохо, когда вокруг тебя все заняты, а ты отделён, в стороне, один, и никто этого не замечает. Одному всегда тяжело.
— Тяжело, — вдруг согласился Санька, — но мы все вместе.
— Бываем вместе и одиноки.
— Как одиноки?
— Человек – мир. Другой человек – это мир, — сказал Володя. – А два мира не могут войти один в другой. Понимаешь, как два воздушных шара. Оба прозрачные, оба насквозь видны, а попробуй, соедини их вместе. В лучшем случае, один из них обязательно лопнет, а то лопнут сразу два. Значит, человек одинок в своей оболочке. – Володя говорил странно и загадочно, совсем непонятно для Саньки, но Санька чувствовал, что Володя говорит о чём-то значительном и, может, не только для него… Эти удивительные слова о мире, о шарах, которые лопнут, если их впрессовывать друг в друга. Мысли его путались, как трава после ливня.
— А вы… Да мы все со своими острыми гранями и без того раним друг друга. А случись завтра что-нибудь серьёзное – в бой, атаку, под пули, — тогда каждый должен прикрывать друг друга. А мы, иногда, как больные, раним и не замечаем.
— Но если больны, то болезнь надо лечить. – Санька чувствовал, как твердеет его голос. – Боль – это излечимая болезнь. Зачем сталкивать два мира? Наверно, существуют какие-то таблетки, лекарства или даже лечебные лучи, которые пронижут тебя насквозь и избавят от этой тяжёлой болезни.
— Вот нас и лечат. Притирают наши миры друг к другу, отрезают всё режущее, объединяют, водят строем и где-то заставляют быть автоматами. Там, где пули, где мины, где могут быть ядерные вспышки, оставляющие от людей тени на земле, надо успеть остаться живым, прикрыть товарища, солдата, командира. Вот в этой шлифовке главное – чтобы ты не стёр в себе человека… Я тебя задерживаю, — вдруг спохватился Володя. – Беги, опоздаешь, тебя будут ругать.
— А ты?
— Не беспокойся, меня отпустили к вам.
Санька вышел в коридор и, когда услышал, как с улицы долетела команда «Рота, шагом марш!», побежал, скатился по лестнице, помчался к своему взводу, на своё место.
Пробегая мимо сержанта, на ходу козырнул ему и не услышал, а скорее почувствовал брошенные вслед слова Чугунова:
— Хитрый! Ох, хитрый! – слова, как камни, летели вслед, били в спину. – Ох, хитрый! – кричал сержант. – Рота вышла строиться. Дождь идёт, товарищи мокнут, а он за дверью ждёт. – Каменные слова, казалось, пробивали тело насквозь. – Ждёшь последнего момента, чтобы выскочить и встать в строй. Один наряд вне очереди! Будете среднюю площадку драить!
— Ты что? – спросил Витька. – Где был?
— С вожатым, — оглянулся на сержанта Санька, всё ещё придавленный тяжёлыми словами.
— Ну и что он тебе пообещал? В поход идём? Вожатые в школе в походы водили, а здесь они зачем?
— Не знаю.
— А о чём вы говорили?
— О человеческих мирах. – Санька снова оглянулся на сержанта.
— А, про космос? Про космос – это интересно, понимающе придвинулся Витька Шадрин.
— Наверно, про космос, — сказал Санька. – Космос человеческих миров.
Средняя площадка
На вечерней проверке, прежде чем распустить суворовцев, сержант Чугунов объявил:
— Тем, кому объявлены наряды, выйти на площадку дневального.
Санька снял ремень, положил его на стул так, чтобы бляха свешивалась в проход, и расстегнув ворот гимнастёрки, вышел из спальни. Там уже собралось человек семь. Из второго взвода стоял Рустамчик, притулившись спиной к двери раздевалки.
— Ну что, Санёк, не везёт, среднюю площадку драить? – улыбнулся он, и от улыбки его хомячьи щёки поднялись вверх, и глаза превратились в тонюсенькие полоски.
— Да, — опустил голову Санька.
— Не повезло, — застряла улыбочка в щёлочках, — я так лучше два туалета вымою со всеми очками и писсуарами, чем одну среднюю площадку.
Сержант скомандовал отбой, переключил спальню на синее дежурное освещение, вышел на площадку. Рустамчик тут же поджал щеки и бочком отодвинулся к стене за спиной Чугунова. Сержант оглядел притихших нарушителей воинской дисциплины, встретился глазами с Санькой.
— Суворовец Соболев, идите отдыхайте.
— Но почему? – не понял Санька.
— Ваш вожатый, как его, Зайцев, просил за вас. Говорил, сам виноват, что вас задержал. Просил не наказывать. Отменяю наряд.
— Ну вот, выкрутился, — услышал Санька шепоток Рустамчика. – Точно, хитрый. – Санька даже не взглянул в острые щелочки, которые сейчас из-за сержанта резали его.
— Но почему? Я виноват! – пробовал протестовать Санька. – Я опоздал в строй.
— Хитрый, выслуживается, — шепоток едким дымком тянулся из-за спины Чугунова, и Санька почувствовал, как от этого у него начинают пылать щёки.
— Я приказал Вам отдыхать? Отдыхайте! – и перевёл взгляд на затаившихся нарушителей. – Ладно. На сегодня все наряды отменяю. Ложитесь спать.
Нарушители, смущенно опустив головы, чтобы не выдать радости, осторожно, по стеночке, юркнули в дверь. И уже за дверью раздался громкий топот.
— Соболев, что вы стоите?
— Я виноват, я опоздал на построение. Я должен вымыть среднюю площадку.
— Отдыхайте, — повторил сержант.
— Я опоздал, — спокойно, не боясь, посмотрел он в глаза сержанту.
— Я отменяю своё приказание, — сказал, разделяя слова, Чугунов, и Санька увидел, как задвигались его желваки, как покраснело его лицо. – Вы не виноваты, мне всё объяснил суворовец Зайцев.
— Я наказан! Я должен! Я пойду мыть, — закричал Санька, предчувствуя, как по щекам потечёт предательская влага, ещё мгновенье, и он не выдержит.
Сержант удивлённо посмотрел на подчинённого, и в его глазах появился металлический блеск.
— Ну, коль так, объявляю вам наряд на работу за невыполнение приказания. Идите и мойте среднюю площадку. – Чугунов говорил, не разжимая губ. – И чтоб хорошо вымыли, чтоб блестела, и ни одной черточки. Я проверю. – Сержант резко повернулся кругом и ушёл в спальню.
Санька взял в туалете ведро, бросил туда наполовину стертую почерневшую щетку для мытья полов, тряпку из бывшего вафельного полотенца и четвертушку грязно-жёлтого туалетного мыла, налил ведро холодной воды. Поднялся на среднюю площадку, намылил щётку мылом и стал тереть ею исчерченный полосками желтый кафель.
В среднюю площадку въелись следы от ботинок. Маленькая, три на полтора метра, она была самой грязной из имевшихся в роте. На других площадках суворовцы либо начинали свой бег, либо затормаживали, а по средней, находившейся между двух лестниц, неслись и, не успевая тормозить, катились на резиновых и кожаных подошвах, оставляя на кафеле чёрные полосы.
Санька тёр намыленной щеткой площадку, но полоски не исчезали, не бледнели. Они так и оставались чёрными. Тогда он окунул тряпку в воду, прополоскал её несколько раз, отжал и, распластав по кафелю, начал снимать мыло. Потом снова намылил щётку. Он уже не обижался на сержанта. Вспомнились слова Володи Зайцева. «Человек – мир, он одинок, два мира насильно соединить нельзя». Какие странные слова! Он никак не мог понять их и забыть тоже не мог. Поэтому они вновь возвращались к нему. «Эту болезнь, наверно, можно вылечить дружбой». Но у него есть друг Витька. Значит, он не одинок. Но почему иногда бывает так грустно, особенно когда вспоминаешь о доме? И тогда кажется, что ты на планете один, и она пустынна. Он ещё раз собрал мыло с площадки отжатой тряпкой. Полоски стали белее.
— Что ж, неплохо, — услышал он над собой голос сержанта Чугунова, спускавшегося по лестнице. – Можете идти отдыхать.
— Я ещё не оттёр.
— Как хотите.
Санька почувствовал, что эти слова сержант сказал тихо, спокойно, без металла.
— Отмойте и можете отдыхать. Я проверять не буду.
Санька сменил воду и ещё раз намылил площадку. Потом он ещё раз поменял воду. И когда площадка приобрела свой первозданный вид, он поспешил спать.
Руки набухли от холодной воды, пальцы покраснели. Он уже не помнил, как добрался до постели, и утром, после команды «Подъём», никак не мог вспомнить, как раздевался, складывал обмундирование, как разбирал конверт сложенной постели, как влезал под одеяло и укрывался им.
Уроки танцев
— Танцы, опять танцы, — кипел Витька. – И кто придумал эти проклятые танцы?
Уроки танцев проходили в фойе клуба. По расписанию второй взвод седьмой роты танцевал на шестом уроке. Блестящие окна казармы седьмой роты через спортивную площадку смотрели в подслеповатые, закрытые шторами окна клуба. Это расстояние можно было преодолеть напрямик, но бдительно стоящий на страже сержант Чугунов строго следил за тем, чтобы второй взвод, уходящий на уроки в другие корпуса, напрямик не следовал, как недисциплинированные лучи света в пространстве, а двигался по тем кратчайшим ломаным, которые определило командование училища.
В фойе клуба в окружении тонких круглых колонн, отражаясь в малиновом паркете, их ждал учитель Евгений Эдуардович.
Чёрные туфли Евгения Эдуардовича блестели, брюки были тщательно отглажены, белая японская рубашка сияла целлулоидной белизной, пиджак сидел как на манекене в витрине Уссурийского универмага. Щеки его покрывал румянец цвета созревшей земляники, в тёмных глазах играли фонарики, и даже набриолиненные волосы чуточку поблёскивали.
— А, ребята, проходите, проходите, пожалуйста, — пригласил он тонким, почти женским голосом.
Витька тут же юркнул за колонну и исчез.
Когда взвод рассредоточился по краям фойе, Евгений Эдуардович который раз поведал о важности своего предмета.
— В танцах стираются различия между умственным и физическим трудом, — и тут же потёр руки, как бы показывая, как именно стираются. – Человечество выжило, потому что умело танцевать, — руки выплыли на уровень подбородка. – Каждый должен хорошо танцевать, — ладони плавно закачались в воздухе. – И обязательно прекрасно вальсировать, — пальцы нежно дотронулись до талии воображаемой партнёрши…
— Разве это офицер, который ходит строевым шагом, командует ротой, батальоном и даже полком и не умеет вальсировать? Вот, к примеру, мой папа дошёл до Берлина, а в Польше один поляк сказал ему, что наши офицеры плохо вальсируют и почти не знают, что такое полька и мазурка. Думаете, приятно было моему папе это слышать?
— Зато воевать умеем, — буркнул Витька.
— Да, конечно, — спохватился Евгений Эдуардович, — точно также ответил ему мой папа.
Евгений Эдуардович был лучшим учителем танцев в городе Уссурийске. Он участвовал в зональных, республиканских и союзных конкурсах, выступая блестяще, и каждый раз привозил оттуда призы и новые бальные танцы. На очередном занятии он показывал их, летая над паркетом.
Евгений Эдуардович любил рассказывать, что его приглашают в другие города, сулят различные блага, предлагают должности и квартиры, но каждый раз, слегка дотронувшись до волос и кокетливо поправив галстук, плавно отводил руку в сторону, как бы отвергая все предложения.
Евгений Эдуардович был патриотом родного Уссурийска и Приморья, и поэтому никогда и ни за что на свете не бросил бы их. После этих слов Евгений Эдуардович замолкал, давая Саньке и всем остальным представить, как рыдает Уссурийск, брошенный Евгением Эдуардовичем, и особенно громко рыдают его ученицы кружков бальных и народных танцев, которые он в большом количестве вёл в институтах, техникумах и предприятиях города.
Уже два месяца он преподавал танцы во втором взводе седьмой роты. После первого урока он выделил Витьку Шадрина и пригласил его в понедельник на танцевальный кружок. Витька, как воспитанный суворовец, поблагодарил учителя, но в понедельник пойти не смог, потому что помогал майору Осетрову, преподавателю танковой подготовки старших классов, промывать детали от танкового двигателя. В роту он пришёл к обеду, излучая солнечную улыбку и запах бензина. Там его уже поджидал Евгений Эдуардович, который, приблизившись к юному танкисту, машинально достал вчетверо сложенный платочек и прикрыл им нос. В таком виде, с заплатой на лице, увещевал он Витьку, при этом покачивая головой, как одуванчик в придорожном кювете. В среду на следующее занятие Витька плёлся за капитаном Баташовым, как телёнок на привязи. Капитан передал талант из рук в руки Евгению Эдуардовичу с напутствием:
— Привожу в последний раз. В следующий, если приведу, то лишь в наряд, и не просто, а с субботы на воскресенье.
И Витька с тяжестью в сердце стал сам посещать занятия. Один раз он всё же попробовал улизнуть в автопарк, но майор Осетров, сославшись на капитана Баташова, с раздражением доказал Витьке, что его предназначение пока дрыгать ногами, а не управлять танком. «Вот в старших классах другой разряд, там и военное училище под боком, там и разговор другой состоится, и в бой за тебя вступиться можно».
После танцев Витька булькал, как в чане смола, что он больше никогда не будет возиться с этой воображалой Танечкой, которую ему определили в партнёрши, и что больше не будет терпеть, чтобы эти дуры восьмиклассницы гладили его лысину против щетины, и что ногами он выписывает кренделя в последний раз. Но перед каждым занятием капитан Баташов напоминал ему о кружке, и Витька понуро плёлся на проклятые занятия. Он больше всего завидовал тем, кто набивал до шарообразного состояния сумки и шёл на секцию бокса, борьбы, гимнастики и на другие настоящие мужские тренировки.
А после занятий Витька снова сердито ворчал:
—Дуры, дуры проклятые! Руки у них чешутся, вот и хочется им их о мою лысину потереть.
И так каждый раз, как в заколдованном круге.
На этот раз нежный голос Евгения Эдуардовича произнёс:
— А где мой любимый ученик, неужели заболел? – будто крючком вытащил булькающего Витьку из-за тонкой колонны.
— Тоже мне, любимые танцы.
Евгений Эдуардович протянул руки к Витькиной макушке, тот попробовал увернуться, но мягкая ладонь учителя танцев всё-таки успела достать его и погладить. И, как будто зарядившись электричеством от Витькиной жёсткой поросли, Евгений Эдуардович хлопнул в ладоши:
— Так, пожалуйста, взвод, стройся в две шеренги, — затем нежно, по-матерински добавил: — Сегодня будем разучивать вальс. Тапочки все взяли?
— Да, все, — разноголосо ответил взвод.
— Тогда быстренько переоденьтесь!
Взвод с тихим неудовольствием стал переодеваться в жёсткие кожаные на скользкой подошве тапочки. После этого устоять на жирном, лоснящемся от мастики полу было непросто. Ноги разъезжались по ёлочкам паркетных клёпок.
— Движения вальса совершаются в три такта, — плавно, словно крыльями разводил руками Евгений Эдуардович, при этом успевая легкими прикосновениями погладить пиджак, поправить узел галстука, потрогать волнистые приглаженные волосы. Затем он плавно, почти не касаясь паркета, пролетел по квадрату фойе, помогая себе счётом: раз, два, три.
— На прошлом занятии мы уже разучивали шаг вальса. Ну-ка, Витенька, покажи, как ты это усвоил. Ты помнишь? – он попробовал погладить Витьку, но тот повернулся, буркнув:
— Ещё бы!
Евгений Эдуардович кивнул:
— И начали. Раз, два, и…
Витьку то ли заколдовали, то ли расколдовали, и будто всю жизнь это и делал, он, показалось, вдруг взлетел и, не хуже Евгения Эдуардовича закружился над волнами паркетного озера.
— А теперь все начали, — хлопнул в ладоши Евгений Эдуардович, и суворовская братия, не давая разъезжаться ногам, под счёт «раз», «два», «три» зашаркала по фойе вальсовым шагом, начиная движение с правой ноги. И самым главным для многих в этот момент было удержаться на полу и не завалиться, не растянуться посредине зала или где-нибудь у колонны.
— Раз, два, три, — повторял Евгений Эдуардович, — взвод скользил по паркетному катку, изображая движения вальса.
— Хорошо, очень хорошо, прекрасно, великолепно получается, — подбадривал Евгений Эдуардович взвод, у которого главные усилия затрачивались на удержание равновесия.
— Всё, стой, вернуться в исходную позицию, — захлопал в ладоши Евгений Эдуардович, — а сейчас попробуем начать движение с левой ноги. Настоящий офицер должен уметь танцевать вальс как в одну, так и в другую сторону.
Начинать движение с левой ноги хорошо в строю, но закручивать вальс в обратную сторону было так же неудобно, как писать справа налево правой рукой. На счёт «три» Санькины ноги разъехались, он, пытаясь удержаться, схватил Толю Декабрёва за гимнастёрку, тот Рустамчика, тот тоже успел за кого-то ухватиться, и на счёт «раз», взвод повалился, как костяшки от домино, и барахтался на волнах паркета. Только Витька сумел удержаться в этой свалке и прижаться к колонне.
— Плохо! Вдруг вам придётся бывать в Польше, что вам тогда скажут? – Евгений Эдуардович приподнял взвод и вернул его в исходное положение. Затем хлопками вновь приказал двигаться ногам. Взвод неуклюже, как цирковой медведь, заскользил по паркету, и только Витька грациозно, бабочкой, порхал по залу, будто все свои одиннадцать лет только и вытанцовывал.
— Мальчики, продолжаем, продолжаем! – подбадривал Евгений Эдуардович. – Научитесь танцевать, я приведу настоящих партнёрш – девочек из тринадцатой школы.
— Ещё чего не хватало, — бурчал за всех Серёга Яковлев, — одеколон на них растрачивать.
— Пусть эти Танечки и Леночки сами с собой танцуют, — скривился Витька и провёл рукой по макушке.
—О-хо-хо-хо-хо, — тоненько засмеялся Евгений Эдуардович, — вы просто не понимаете, как это прекрасно с девочками танцевать… — И разбил взвод по парам.
Саньке достался Витька, тот был за партнёршу.
— Начали, начали, — сухо затрещали хлопки учителя, и Витька тут же принялся возмущаться:
— Что тебе мои ноги – ступеньки? Ты что на них как на половиках топчешься?
— Не нравится, иди к своей Танечке!
— Ладно, наступай, — вдруг погрустнел Витька. – Это лучше, чем по лысине против щетины и при этом ещё сюсюкать…
А после уроков он вдруг признался Саньке:
— Там не все девчонки дуры. Есть одна нормальная. Она по лысине не гладит и красивая. Знаешь, какие у неё волосы, как из золота с серебром. Вот закончу кадетку, стану курсантом и женюсь на ней. Тогда Женя Эдуардович, наверно, будет старым и беззубым, и она на него не будет как на картошку с колбасой смотреть. Только из-за неё и хожу, — и вдруг Витька так больно сжал Саньке руку, что тот сначала услышал хруст своих пальцев, а уж потом скривился от боли. – Только молчи, понял? Чтобы никому не проболтался. А то все смеяться будут. Вот в девятом классе или даже в восьмом можно будет, тогда мы не такими глупыми будем.
Хорошая песня
Фамилия учителя пения была Волынский. Это слово объединяло в себе ветер, море и волны. Входил он в класс так стремительно, что дежурный не успевал скомандовать: «Взвод, встать! Смирно!», торопился докладывать и промахивался. Учитель пения пролетал мимо и не садился, не падал, а бросался на стул. И стул кряхтел под напором его могучего тела.
Но если бы кому-то вдруг удалось его заход отснять на киноплёнку, а потом очень медленно прокрутить всё на экране, то сначала все бы увидели, как в кабинет пения просовывается длинный, как английский ключ, нос, потом с залысиной голова, потом спускающиеся волнами до плеч волосы и последним из двери показалось бы огромное тело в мятом и вытертом до блеска чёрном костюме, расстёгнутой рубашке, верхняя пуговица от которой болталась на нитке.
Начиная урок, Волынский вскидывал руки и взмахивал ими, как пеликан крыльями перед полётом.
—Музыка – это прекрасно, — начинал он. – Нет ничего прекраснее музыки, — продолжал он. – Музыка – это гармония мира, — не заканчивал он, и говорить непонятно о музыке учитель мог часами. И если бы за сорок пять минут урока Волынский успевал вдолбить всё сказанное в головы суворовцев и столько же наиграть на аккордеоне, то бедные головы потрескались бы, как перезревшие яблоки.
На аккордеоне он играл, закрыв глаза, не глядя на класс, который в это время свободно обсуждал события дня минувшего и дня предстоящего. Даже лучший ротный запевала Валера Галкин и тот занимался серьёзнейшим, но далёким от урока пения делом. Он усердно доставал из чернильницы-непроливашки мух, которых напихал туда на предыдущем уроке естествоиспытатель из первого взвода Гриша Голубков. Однажды Волынский так глубоко увлёкся, поставив на проигрыватель пластинку с первым концертом Чайковского, что просидел с закрытыми глазами весь урок. Он наслаждался гармонией великого произведения, пока диск не отыграл. В это время взвод, не зная, чем заняться, беспокойно ёрзал на стульях. Кто рисовал на промокашках, кто играл в крестики-нолики; Серёга считал, сколько на свои сбережения сможет купить пирожков после новой реформы, и только Валера Галкин продолжал вытаскивать мух, всецело отдавшись содержимому чернильницы, не менее чем Волынский необъятному миру музыки. Когда отзвенел звонок, Волынский, несмотря на громаду собственного тела, взлетел со стула, посмотрел через окно куда-то вдаль и взмахнул руками:
—Вот это шедевр. Это гармония мира! Это прекрасно… Это вам не какие-то тюни-муни!
Взвод уже сложил тетради в сумки сержантов и поднял головы. Валера Галкин задержал на весу ручку с мухой на пёрышке, не успев тридцать пятый раз окляксить промокашку.
— Это вам не какая-нибудь дрянь, — свернул нос в уничижительной гримасе Волынский и визгливо, подёргивая огромным телом, пропел:
— Полюбила, полюбила,
И не надо мне другого.
О, если бы знал Волынский, как неосторожно он поступил!
Если бы он знал, что взвод, возвращавшийся в роту, мурлыкал, насвистывал, пел и просто мычал не отрывки из первого концерта Чайковского, а мелодию проклятой учителем песни. О, если бы он знал, то своими огромными руками разорвал бы аккордеон на две половины.
Песня вирусом гриппа заразила взвод. Он продолжал её мурлыкать с утра до вечера. По законам медицины болезнь через пять дней должная была отступить, но уссуриец Саша Фомин в ближайшее воскресенье пошёл в увольнение, нашёл дома запыленную пластинку, выучил все куплеты и, радостный, принёс песню в казарму. Слова оказались удивительно простыми, и до отбоя взвод, как промокашка, впитал их в себя:
— Танцевать он не умеет,
Обнимает, как медведь,
Петь не может, ну и что же,
Я, зато умею петь.
А затем, переходя на высокие, близкие к поросячьему визгу ноты, голосил припев:
— Полюбила, полюбила,
И не надо мне другого.
От визга дребезжали стёкла, визг проникал во все щели казармы и до боли трепал слуховые перепонки офицеров и сержантов срочной службы. Но остановить распространение заразы в казарме уже никто не мог.
Волынский, узнав, что песня заразила взвод, аккордеон не разорвал, но на следующем уроке, поднимая крылатые руки к потолку, с обидой вопрошал:
— Разве может суворовец петь такую гадкую песню? Разве может?
— Может, — тихо ответил с задней парты Витька Шадрин, — мы же поём.
Слова Шадрина, как кувалдой, оглушили учителя. Волынский покраснел, схватился за голову и сдавил её. Казалось, ещё мгновение, и красный помидорный сок, которым налилось его лицо, вдруг брызнет во все стороны. Но этого не произошло. В следующее мгновение он оторвал руки от головы, и опять всем показалось, что в руках у Волынского клочья волос, но и это только показалось. Наконец, как пеликан крыльями, начал махать руками, и все подумали, что он сейчас взлетит. Но Волынский не взлетел. И тут из его огромного тела вырвалось что-то тонкое, приближенное к милицейскому свистку:
— Я вам запрещаю петь эту дрянь!
Сказано это было так сильно, что с потолка кабинета пения посыпалась штукатурка. В кабинете стало тихо, и Валере Галкину вновь пришлось застыть с мухой на кончике пера.
С этим свистом из огромного тела учителя вышел весь накопившийся пар. Он вдруг вернулся к своему столу и бросился на стул, который тут же ответил стоном:
— Музыка – это прекрасно, — возвёл он руки к небу. – Давайте продолжать урок.
Валера Галкин неспешно донёс мушиную бомбу до промокашки, и она разорвалась фиолетовой кляксой. До конца урока осталось достаточно времени для решения задачи, заданной «юным натуралистом» Гришой Голубковым.
Волынский поставил затёртый диск с «Лунной сонатой» Бетховена на проигрыватель и закрыл глаза, наслаждаясь великой музыкой, перемежавшейся хрипотцой. Серёжа Яковлев пожал плечами и приступил к пересчёту, а Саньке захотелось пропеть слова прокажённой песни. Он оглянулся на Витьку и заметил, как тот дурашливо улыбается, но сжимает губы, из него тоже колом давило бесовское желание, на которое наложил заклятье учитель.
Зато после уроков в казарме, когда они вдвоём убирала класс, Витька дал волю лёгким. Песня, как зверь из клетки, рвалась на свободу;
Полюбила, полюбила
И не надо мне другого.
Санька от него не отставал и особенно усердствовал на куплете, как клюшкой, взмахивая веником и прогоняя мусор под партами. И только внезапное появление в дверях Володи Зайцева остановило это вырвавшееся из груди буйство. Вожатый был с гитарой. Он хозяином прошёл в класс и занял стол преподавателя. Витька, обрубив куплет, прижал веник к груди.
— Что это вы такое замечательное пели? – еле заметная улыбка пробежала по Володиному лицу.
— Новую песню! – рубанул веником воздух Витька. – Хорошую песню, весёлую и интересную.
— Ну, если песня поётся, то она уже не плохая, — вожатый взял в руки гитару и большим пальцем задел струны, от этого они вздрогнули. – Дометайте, а я попробую подобрать её вам на гитаре.
Через несколько минут в наспех убранном классе Володя аккомпанировал обступившей его компании из восьми суворовцев. По лицу его лёгкой, почти невидимой тенью пробегала то ли улыбка, то ли усмешка, и не совсем понятно было, к чему она относится, то ли к весёлой песне, то ли к весёлому исполнению. Когда отгрохотал последний припев, окна перестали дребезжать и плафоны качаться, он оглядел счастливый хор.
— Ну что, на бис?
— Как это? – почесал свою длинную голову Серёжа Яковлев. – Это что, ещё громче?
— Нет, это ещё раз по просьбе зрителей, — пояснил вожатый и ударил по струнам.
К этому времени, привлечённый дружным исполнением, в классе собрался весь взвод, который вновь с радостным усердием отгорланил песню под гитарный аккомпанемент.
— Ещё раз на бис? – вновь ударил по струнам вожатый.
На этот раз хор отгрохотал песню, но не так слаженно, и даже плафоны не качнулись. Когда Володя начал четвёртый раз, Витька, робея, прошептал:
— А может, не надо?
Но вожатый то ли не расслышал, то ли песня заразила его, вновь забренчал на гитаре, опять непонятно улыбаясь. На этот раз и подпевали не все, и пели вяло и скучно, будто куплеты и припевы давили из них, как из тюбика пасту.
— Ну что, ещё раз на бис? – прижал струны ладонью Володя.
— Ну, нет, хватит! – скривился Витька, будто ему не песню предложили спеть, а выдраить туалет.
— Ну её к чёртям, только калории тратить, — как от назойливой мухи отмахнулся от неё Серёга Яковлев.
— Тогда, может, нашу, Дальневосточную? – сильные пальцы ударили по струнам,
— Какую нашу? – не понял Серёга.
Но вожатый, как показалось Саньке, хитро улыбнулся и неожиданно, убрав улыбку с лица, тихо запел:
— По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперёд,
Чтобы с боем взять Приморье,
Белой армии оплот…
«А Приморье-то – наше, — удивился Санька. – Бывает же, песню с младенчества знаешь, поёшь и не вдумываешься в слова».
Володя пел тихо, без напряжения, и Санька чувствовал, что песня проникала вглубь, может, в ту часть сознания, которую именуют душой, оседала там, выталкивая слова, которые сам Санька горланил пять минут назад.
— А вот ещё послушайте, о шинелях, о простых солдатских шинелях, — и опять тихо запел.
— Мы идём под солнцем раскалённым
И не разворачиваем скатки,
Это потому, что мы надели
Серые шинели без подкладки.
Это потому, что мы надели
Черные кадетские шинели.
Ребята молчали, и от этой тягучей песни Санька загрустил, ему стало жаль маму, отца, деда. Жаль, что они уже не молодые, и даже страшно, а вдруг кто-нибудь из них умрёт. Нет, не дай Бог такому случиться. Лучше мне первому, а они пусть живут и живут, как можно дольше.
— Ну что, не надоел? – закончил песню Володя. – Давайте я вам ещё спою песню Первой мировой войны.
— Первой мировой? Так они воевали за царя, — удивился Серёга Яковлев.
— Они за Родину воевали, — сказал Володя. – За Россию… Мне её дед пел. А он был Георгиевским кавалером… И в Красной Армии воевал. Ну что, петь?
— Пой! – разрешил Серёга.
Вот полк по улицам шагает,
Оркестр так весело играет.
Все провожают их толпой
На смертный бой,
На смертный бой.
И хоть в песне слова были о смертном бое, но она не была грустной.
— Вот на вокзале
Грузиться стали.
Несутся речи:
«До скорой встречи
С врагом неправым,
С врагом лукавым».
А на перроне гремит:
«Ура, ура, ура, ура!»
Второй куплет Володя пропел с улыбкой. А как ещё петь пусть чуточку грустную, но старинную песню.
— Вот поезд тронул,
Вагон весь дрогнул.
Прощайте, братцы,
Дай Бог добраться.
Вы не спешите,
А нам пишите.
А на перроне гремит:
«Ура, ура, ура, ура!»
В этом куплете Володя перешёл с ноток весёлых на грустные. Песня сама управляла им, да и не только им.
— Вот полк уж стал не больше точки.
И только белые платочки
Всё провожают их вослед.
Солдат уж нет,
Солдат уж нет!
— А что, давайте выучим и будем петь в строю, — соскочил с парты Рустамчик. – А то какую-то заразную проказу орали, — сказал он это голосом Волынского и даже руки по-пеликаньи развёл, и всем показалось, что на его смуглом лице нос удлинился, утончился и заволновался. – Кто только принёс её во взвод?! – и, сощурив глаза, как локатор стал сканировать по толпе, выискивая виноватого во всём Сашу Фомина.
Саша сжался и спрятал короткую шею в ворот гимнастёрки. Казалось, из плеч торчит его светлая голова с большим носом, готовая ответить за всё, что совершил и ещё не совершал.
— Всё, убиты, — хлопнул по гитаре Володя, и она глухо возмутилась.
— Кто убит? – не понял Рустамчик.
— Вы все. Пока искали виновных, — он опять ударил по гитаре и она возмущённо отозвалась. – Пока друг друга обвиняли, враг в атаке перестрелял вас, а в обороне ворвался в ваше расположение и закидал гранатами. Уж коль, мужики, надели шинели, то надо друг за друга держаться и быть готовыми в любую минуту встретиться с врагом. И не выяснять, кто лучше, а кто хуже. Либо все правы, либо все виноваты. А то если друг ошибся, виноват он, а если сам, то друг виноват. На кого будите в бою рассчитывать?
— Если друг совершит подлость или гадость? – вдруг спросил Санька и тут же испугался своих слов, потому что понял, что сказал не то. Хотя ещё не понимал, что не то?
— А если подлость? То какой же он друг? Он, может, хуже врага?
«Именно так», — подумал Санька. Именно так понимал он, да не мог выразить своими словами.
— Хороший солдат даже в поражении винит не командира, а себя, — добавил Володя. – Только не помню, кто это сказал.
После этих слов в классе стало тихо.
— А может, песню выучим? Хорошая песня. Будем всем взводом петь.
— Давайте, — согласился вожатый. – А я вам помогу…
Перед построением на обед Володя задержал Витьку.
— А я видел, как ты танцуешь. У тебя здорово получается.
Витька опустил голову. Поддерживать разговор, когда топчутся по твоей мозоли, не очень-то хотелось, и Володя, не дождавшись ответа, попрощался с ребятами.
— Ты что? – дернул его за рукав Санька.
— Что? Что? Будто не знаешь. У меня же лысина как сапог натёрта.
— А что Володя?
— Что, что? Будто не ясно. Что и все. Прилетит и на Лидку глаза таращит. Он, наверно, из-за этого в художественную самодеятельность записался. А так заставил бы его кто-нибудь на гитаре перед училищем играть! Никогда не поверю. Скромный больно.
— А что она?
— Что, что? Как над всеми, так и над ним смеётся. Она говорит, — Витька перешёл на шёпот, — что подождёт, пока я вырасту, и только за меня замуж выйдет. А наверно, всё равно врёт. Все они такие. – Витька обречённо опустил голову и, помолчав, продолжил: — А Володя, знаешь, как придёт на репетицию, сядет, приткнётся где-нибудь в конце зала и вперится в неё глазами. Другие вокруг неё, как спутники вокруг Земли, накручивают, анекдотами смешат, на гитарах бренчат, песни поют. А он сидит, как каменный, и только на неё и зырится. А если о нём не вспомнят, так два часа проторчит, пока репетиция не кончится. Ладно, хватит, — отмахнулся от неприятной темы Витька, но тут же вернулся к ней. – Только мне кажется, что она в Евгения Эдуардовича влюблена. Как такого любить можно? Он, наверно, не то, что автомата, мелкашки в руках не держал, только и умеет, что ногами красиво дрыгать.
— Ты что? – остановил его Санька. – Он же преподаватель. Разве можно так?
— Ладно, — отмахнулся Витька. – Пусть живёт. Но если бы не он, никто бы мне лысину не полировал. Вот только бы Лидку не встретил, — уже совсем тихо добавил он…
На вечерней прогулке сержант Чугунов, подобревший от тёплого, может, последнего хорошего осеннего вечера, объявшего Уссурийск, вместо уставного «Запевай!», как-то по-домашнему сказал:
— Галкин, давай нашу! Про десантников.
И тогда над вторым взводом седьмой роты птицей вместо:
«Тверже шаг, ребята,
По земле советской мы идём.
В десанте служим мы крылатом,
И тут нельзя не быть орлом!»
Вспорхнули слова куплета старинной русской песни.
— Вот полк по улицам шагает,
Оркестр так весело играет.
И песню поднял на крыло второй взвод:
Все провожают их толпой
На смертный бой,
На смертный бой.
Сержант Чугунов хотел что-то сказать. Он даже взмахнул рукой, чтобы отменить неположенные куплеты, но тёплый последний вечер над Уссурийском и сплочённый хор голосов второго взвода, который нарочито громыхая подкованными ботинками об асфальт, дружно возрождал некогда потерянные слова, с которыми уходили на фронт русские солдаты, заставили Чугунова опустить руку. Он прибавил шаг и, прислушиваясь, пошёл вровень со вторым взводом. Да и не только сержант, а вся седьмая рота вслушивалась, ритмично колотя по асфальту и не сбиваясь с ноги:
— Вот поезд тронул,
Вагон весь дрогнул,
Прощайте, братцы,
Дай Бог добраться.
Вы не спешите,
А нам пишите,
А на перроне гремит:
«Ура, ура, ура, ура!» -
закончил взвод.
— Рота, правое плечо, вперёд, шагом марш! – скомандовал сержант. – Прямо! – и когда рота окончательно развернулась и уже направилась к казарме, в тишине, нарушаемой ритмичной поступью, прогремело:
— Рота, смирно! За песню второму отряду взвода объявлена благодарность!
— Служим Советскому Союзу! – взлетело над училищем и растаяло в октябрьском, может, последнем тёплом осеннем вечере.
Солнечная девушка
В воскресенье подъём не в семь, а на час позже, в восемь. По привычке просыпаешься в семь, но команды «Подъём!» нет, и ты лежишь и блаженствуешь целый час с закрытыми глазами. Да и сама команда звучит в воскресенье по-особому, тихо и спокойно. И даже сержант Чугунов не торопит сладко потягивающихся и неторопливо одевающихся мальчишек. До построения на завтрак ещё полчаса, и утреннего осмотра не будет.
На этот раз на подъём пришёл старшина.
— До завтрака всем получить пионерскую форму и сложить на стульях.
Санька вспомнил, что вчера после бани к ним заходил Володя Зайцев. Сегодня будет пионерская линейка у памятника Виталию Бонивуру. На линейку придёт партизан, участник гражданской войны. Володя называл его фамилию, но Санька не запомнил. С фронтовиками и участниками гражданской войны встречались не в первый раз. Да и у Саньки дед в гражданской и Отечественной воевал, а отец фронтовиком был. И ещё Володя говорил, что должны прийти на линейку пионеры из соседней школы, и что потом будет концерт и день открытых дверей. Он сказал, что Витька будет отплясывать будёновца, и надо будет его поддержать. А когда он ушёл, Витька то ли с обидой, то ли с досадой прошептал:
— А сам петь не будет. На репетиции ни одной песни не исполнил. Только на Неё и смотрел.
В белой пионерской рубашке с короткими рукавами Саньке было неудобно. Ему казалось, что руки его утончились и уныло выглядывают из широких рукавов. От этого кожа стянулась в гусиные бугорки. Рядом Витька, толкаясь и всем мешая, растирал кожу. И лишь окрик: «Суворовец Шадрин!» заставил его вытянуться и приподнять голову.
Когда седьмая рота двинулась к клубу, там у памятника Виталию Бонивуру заняли свои места шестая и пятая. Напротив, в белых передниках и белых бантиках краснели и улыбались девчонки. Гражданских мальчишек почти не было видно. Они стояли в задних рядах и не выглядывали. И вообще, школьники как-то неестественно замерли в строю. В шеренгах суворовцев движения было больше.
В рядах школьников выделялись старшеклассницы с комсомольскими значками.
«Наверно, пионервожатые», — подумал Санька. И вдруг его взгляд , как стрелка компаса к магниту, повернулся к удивительно голубоглазой и светловолосой , какой-то солнечной девочке.
Она улыбнулась, и этой улыбке на лице было подчинено всё, кроме глаз. А они, казалось, кого-то искали.
Санька поймал себя на том, что не может оторвать взгляда от неё. Такое с ним происходило впервые.
— Это Лидка, — шепнул Витька. И Санька, сначала благодарный за то, что тот помог ему выйти из этого непонятного состояния, вдруг почувствовал неловкость: зачем он так глупо уставился на незнакомую ему девушку.
Он оглянулся, не заметил ли ещё кто-нибудь. Но все были заняты своими делами: смотрели на школьников, как на пришельцев из другого мира, забыв, что недавно были такими же, перешёптывались и просто толкались.
— Красивая? Да? – ещё ближе приблизился к нему Витька.
И то ли от Витькиного участия, то ли от действия непонятной силы притяжения, которая не подчинялась ему, у него с выдохом выплеснулось:
— Да! – снова он оглянулся. Не услышал ли кто?
— То-то, — шепнул Витька. – Я тоже красивей не видел. Даже Любовь Орлова не такая…
— Какая? – сначала не сообразил Санька, а потом согласился: — Да, верно.
— Вот на неё Володя и смотрит целыми репетициями. Вон, посмотри туда, — вдруг перевёл взгляд Витька. – Глянь, та малюсенькая, с косой… На тебя зырится.
— С чего это на меня? – покраснел Санька.
— Потому как если бы на меня, я бы ей давно язык показал. А рядом с ней Танечка, с которой танцую. Вот эта на меня уставилась, — сказал Витька и высунул длинный, как банан, язык.
Но Танечка не обиделась, а погрозила Витьке пальчиком.
— Вот видишь, — шептал Витька, — она пялилась на меня, но я на ней не женюсь. Я женюсь на Лидке, она мне больше нравиться.
Санькин взгляд снова примагнитила девушка, которую Витька запросто называл Лидкой. А девушка продолжала улыбаться и искать кого-то глазами.
— Рыжая, а всё равно красивая, — дал окончательную оценку Витька и качнул головой в сторону вожатого.
Володя, стоявший с капитаном Баташовым, смотрел в ту же сторону.
— Видишь, ну что я тебе говорил? – нашёптывал Витька.
Володя смотрел на девушку необычно. У Саньки бы глаза устали так смотреть. Казалось, его взгляд наполнен незримой энергией, адресованной девушке. И сила его концентрировалась на то, чтобы заворожить, охватить, притянуть, хотя бы на мгновенье оборотить её улыбку к нему. А девушка встряхивала золотыми прядями и даже не догадывалась о заряде чувств, направляемом в её сторону. Этот заряд пролетал мимо или просто отражался блеском её золотых волос и ответом её удивительной улыбки.
Санька опять поймал себя на том, что вновь уставился на девушку. Но не это беспокоило. В голову приходили странные мысли. «Всё как в зеркале», — думал он. Энергия Володиного взгляда отражается теплом её улыбки. Всё происходит как в зеркале. Тепло возвратится теплом, а холод – холодом. Но если это зеркало правильное. А если кривое? В кривом – наоборот. Тепло обернётся холодом…
Санька вновь вспомнил слова Володи о космосе человеческих миров. Если мир людей – это космос, то кто же она, эта красивая девушка? Кто она, если дарит тепло от падающего на неё света? Кто? Света, света, света – думал он, и слова вращались у него в голове. – Света – планета. Наверно, юная голубая планета, как наша Земля. Такой, наверно, увидел её Гагарин, когда первый раз поднялся выше всех, или этим летом Титов, чтобы увидеть и рассказать всем, какая она красивая, наша планета. Вот что получилось, — удивился Санька. – Для меня девушка – планета, для Витьки – просто Лидка, на которой он вздумал жениться, а для Володи кто она? И кто для неё Володя?
Команда «Равняйсь! Смирно! Равнение направо!» заставила Саньку сначала вытянуться, а потом повернуть голову в сторону полковника Зотова в квадратных роговых очках и замполита училища полковника Пескарёва. С ним шли сухонький и убелённый, как облако, старичок и пожилая приятная женщина. На старике болтались широченный брюки и пиджак, рукава которого сплывали с плеч.
Санька медленно, как в тумане, переводил взгляд от девушки к гостю, и снова возвращался к ней. Притяжение голубой планеты действовало на него, и он уже не сопротивлялся ему.
Слова полковника Зотова, которые всё время поправлял очки, обрамлявшие его квадратное лицо, Санькой не воспринимались. Он не заметил того момента, когда полковник пригласил выступить старика, как тот спокойно, без волнения вышел вперёд. Старик скрипучим голосом стал рассказывать о том, как он с Красной Армией шёл из Сибири, участвовал в штурме Волочаевской сопки. Говорил старик монотонно и много, и казалось, что внутри у него работает автомат, который выдаёт определённые порции слов в определённое время. В строю зашептались, и Санька вновь перевёл взгляд на Лиду. Она улыбалась. Володя смотрел на неё своим удивительным взглядом.
Затем был концерт. Витька лихо отплясывал маленького будёновца, по роли всегда не успевал, рассмешил зал и собрал больше всех аплодисментов.
Евгений Эдуардович в новеньком костюмчике и рубашке с жабо улыбался и издалека чуть ли не пальчиком хлопал Витьку по плечу.
Лида танцевала медсестру. Санька, сидевший сбоку во втором ряду, видел, как она поздравила Витьку, обняла и поцеловала в щёку. Он смутился, но не вырвался. И Санька подумал:
«А как бы я вёл себя на его месте?..»
После концерта роты развели по казармам. Желающие стали собираться в увольнение. Витька засобирался в автопарк, где его ждал майор Осетров и танк Т-34. По территории училища толпами ходили пионеры. Им показывали спальни и учебные классы, плац с зеркалами, спортзал, кабинеты и, конечно же, автопарк с танками и бронетранспортёрами. Сегодня был день открытых дверей.
Зачем им автопарк показывать? – возмущался Витька. – Посмотрели бы соревнования по боксу, кино, а автопарк зачем?
Наконец он махнул рукой:
— Пошли, Санёк. Пусть смотрят. Заодно и нас покажут, как экспонатов. Пусть любуются.
Витька натянул фуражку и решительно вышел из казармы, даже не оглядываясь. Он был уверен – Санька идёт следом.
У спортивной площадки он замедлил шаг, остановился и заговорщицки кивнул Саньке. По вязовой аллее вдоль спортивной площадки, держась за руки, мирно прогуливались две девочки. Витька приложил палец к губам и на цыпочках пошёл к ним. Санька узнал девочек. Это была Витькина партнёрша Танечка и девчонка с льняной косой, которая, с Витькиных слов, вроде бы смотрела на него. Витька тихо сопровождал их по аллее. Девчонки, держась за руки, напевали индийскую песню в их собственном переложении.
— Итек — Дана, Итек – Дана, Дана у фонтана… — из содержания песни следовало, что Итек и Дана – это парень и девушка. Где находится Итек, определить было трудно, но Дана, безусловно, ждала его у фонтана.
Наконец Витька приблизился к девчонкам и во всю мощь своих лёгких заорал:
— О, Раджи Капур, посмотри на этих ду-у-у-у-ур!
Рёв мгновенно сдул девчонок по обе стороны аллеи, а Витька схватился за живот и зашёлся в смехе.
— Ну и дурак ты, Витенька, — сказала ещё бледная Танечка, придя в себя. Витька продолжал трястись. – Лысый дурак, — злилась девчонка, но и это не подействовало. Тогда Танечка зло крикнула:
— Ты и твой дружок – дураки набитые. – Её подружка презрительно измерила Саньку взглядом с ног до головы, резко повернулась и вместе с Танечкой пошла прочь.
— А я причём? – растерянно спросил Санька.
— А ни при чём, — вдруг перестал смеяться Витька. – Тоже дурак. Пошли.
— Наверно, дурак, — согласился Санька. – Рядом с тобой на цыпочках шёл, чтобы под ухом гаркнуть. А может, ещё глупее. Надо было бы тебя по уху огреть. Ведь догадался, что ты собираешься сделать.
Воробей из второй роты
В лице у Кольки Воробьёва из второй роты было что-то куриное: маленький острый нос, кругленькие голубые глазки и куцый ёжик над узким лобиком. И похож был Колька не на белую инкубаторскую птицу, а на рябую, дворовую. Усиливали это впечатление колонии красных угрей, собравшихся на щеках и разбегающихся по всему лицу. Угри Воробья беспокоили и, чтобы отвлечь внимание, он, где мог, снимал гимнастёрку и обнажал кованые мышцы. Воробей напрягался, и под его кожей натягивались стальные тросы. И всё ж, несмотря на его атлетическую мощь и способность не уставая крутиться на перекладине, а также умение ребром ладони рубить толстые чурки, в роте Воробья не произвели ни в какую более солидную птицу и вечно задавали ядовитые вопросы:
— Ну, Воробей, сколько подъёмов переворотом сегодня сделал? Сколько раз вышел силой? Как ножки к перекладине подносил?
И Воробей, купленный участием в его любимом деле, скалился от удовольствия и называл трёхзначную цифру.
Его тут же хвалили.
— Ну, молодчага, ну паря, ну даёшь! Но знаешь, читал в «Науке и жизнь» или ещё где, не помню, от овсянки мышцы, как камеры от мотоцикла надуваются. Накачаешься, как Юрий Власов штангу дёрнешь. В газете о тебе напишут, по телику покажут.
На следующий день Воробей гонял на кухню за добавкой и, выпрашивая полную тарелку клейкой кирзы, торопился вогнать её в утробу.
— Клюй, Воробушек, клюй кашку. Будешь самой сильной птицей в училище, — обычно кто-нибудь из второй роты подбадривал Кольку, и эти слова Воробей съедал вместе с кашей, не разбирая в них, как и в каше, никаких вкусовых оттенков. Главное, полезность и калории, чтобы ещё сильнее натянуть канаты под лоснящейся кожей.
Нашёл Воробья и привёл в седьмую роту самый маленький худой и рыжий Толя Декабрёв. Толя был из деревни в низовьях Амура, где-то за Комсомольском. Он безнадёжно ходил по училищу и искал земляков. Но земляки из села Богородское Хабаровского края не попадались. Толе было бы намного легче, если бы его мама работала где-нибудь на фабрике в самом Хабаровске, вот тут уж земляков в каждой роте не меньше десятка, а из села Богородское Толя был первым и пока единственным суворовцем.
Толе больше всех доставалось от старших, но особенно от пятой, а то и от шестой роты, когда оторвавшиеся на год, а то и два слабаки пробовали свою мощь в постановке пиявок. Вот тут Толя был как никогда кстати: маленький – удобно, руку ставить, и голова плоская – не соскальзывает. Остаётся только оттянуть средний палец, чтобы он спружинил по несчастной голове.
— А ну, ще-енок, валяй сюда. Давай пиявку поставлю, — приказывал какой-нибудь Карпыч, который перед Толей и грудь цыплячью закруглял, и палец тоньше карандаша оттягивал.
Санька познакомился с Карпычем через несколько дней после своего поступления. Тот был самым маленьким и самым приметным в шестой роте. Верхнюю треть его лица занимал покатый, но крепкий, как забрало, лоб. Под ним разместился розовый и вечно облупленный, как ранняя картошка, нос, но с двумя небольшими наростами. А уж по бокам его в глубине поселились большие серые и, наверно, самые грустные во всём училище глаза, оттого что им приходится находиться с такими неприятными соседями. Он вечно плёлся в хвосте строя, и командир его роты то и дело выкрикивал:
— Карпов, не отставать! Карпов, возьмите ногу! Карпов, горе ты моё, да не подпрыгивай же ты козлом…
Мимо Саньки он проходил на носках, и когда из Витьки выкатилось:
— Как не старайся, а Санька выше, — Карпыч предложил:
— Давай пиявками меняться, ты мне три, а я тебе одну.
Санька, не зная, что это такое, доверчиво подставил голову, и, когда тонкий палец шестиклассника спружинил по его макушке, чуть не потерял сознание. Из глаз посыпались не то, что искры, звёзды, и день превратился в ночь.
Когда Санька отошёл, Карпыч подставил свою голову и предупредил:
— У нас в семье все твердолобые. Отец на спор глиняные горшки головой разбивал.
Санька возвращать свой долг отказался.
У Толи с Карпычем были свои отношения. Толя по какой-то ерунде проиграл ему пятнадцать пиявок, и Карпыч, как человек порядочный, сам предложил возвращать их по одной в неделю, чтобы те не повлияли на Толин учебный процесс…
Толя если и покидал казарму, так уходил на поиски земляков. Однажды он набрёл в спортзале на Кольку Воробьёва и долго прождал, пока тот оторвётся от перекладины. От монотонности Толя начал зевать и прислонился к стене. Когда, наконец, Воробей оттолкнулся от снаряда и, как гвоздь, вошёл в мат, первым делом через плечо посмотрел на махонького в этом году поступившего суворовца и единственного зрителя, который до конца выдержал его номер. Мол, каково? И принял за похвалу вопрос малыша:
— Ты откуда в кадетку поступил?
Толя в душе надеялся, что этот качок скажет, что из села Богородское Хабаровского края, хотя всех своих сельчан Толя Декабрёв знал. Знал тех, кто жил, куда уезжал, откуда возвращался и когда и откуда появится.
— Я из-под Красноярска, из Бобрихи, — или что-то в этом роде ответил Воробей.
— А я из Богородского, — обреченно поник Толя.
— Так я в Богородском родился.
И этого оказалось достаточно, чтобы Толя нашёл земляка.
Хотя Богородск, как тут же выяснилось, был городом где-то на западе, а село Богородское – на востоке, этого хватило, чтобы подружиться и стать земляками, тем более, Бобриха, или как он там её называл, и Богородское были сёлами и начинались с одной буквы.
В казарме седьмой роты Воробьёв начал выделывать чудеса. Он, под восторженно-завистливые вздохи собравшейся вокруг него толпы, отжимался от пола, поднимал по два стула сразу за передние ножки и держал их на вытянутых руках, подносил и отнимал от груди. Затем он сел на пол, поднял острым углом ноги, приподнялся на руках и прошёл в таком положении, одобренный возгласами:
— Ну, Воробьёв, ну, Колян! Ну даёшь!
Потом он прогулялся на руках, раз пятьдесят отжался на дужках кроватей и под конец, раздевшись до пояса, артистично играл мышцами, напрягая, расслабляя, перекатывая бицепсы и трицепсы, и самое желанное – разрешал трогать их гранитную твердь.
— Ну как? – спрашивал он, когда кто-нибудь из седьмой роты безнадёжно пытался продавить пальцем этот напряжённый металл.
— Да! Вот это да! – только и мог ответить трогающий.
Колька цвёл. День в седьмой роте дал ему столько радости, сколько он не получал за прошедшие пять с половиной лет в училище. От счастья он приподнял за ремни стоявших рядом с ним двух пятиклассников и стал выжимать их, как гири. Те визжали и смеялись. Этот визг действовал на Кольку, как дождь на луг в засуху.
Но больше всех радовался Толя Декабрёв, потому что он, наконец-то, обрёл защитника, и отныне Карпыч, наверно, не посмеет отрабатывать на нём пиявки и тренировать на его плоской голове свои карандашные пальцы.
Но Кольке однодневного счастья оказалось мало, и он решил продолжить на следующий день. Он также разделся до пояса и принялся отжиматься, ходить на руках, держать угол. Опять благодарные зрители из седьмой роты выражали восторг. Колька самодовольно улыбался и к радости своего нового друга опять показал танец мышц, натренированных в спортзале. И снова все трогаил сталь его тренированного тела, и под конец программы он всё также отжимал первых попавшихся счастливчиков седьмой роты. На третий день Колька пришёл снова. На этот раз зрителей собралось не так много. Он лихо выполнил отработанную программу, и Витька Шадрин, когда Колька захотел поднять его в воздух и потрясти, к удивлению Воробья, счастья не выразил, отряхнулся от него и возмущённо произнёс:
— Надоело. Шёл бы ты, Колян, и крутился на перекладине. Уже неинтересно.
Колька, всегда флегматичный и спокойный, как камень у дороги, вдруг всполошился, зло, по-собачьи, оскалился и чуть не зарычал:
— Ах ты, сченок! Да я тебя…
Он схватил Витьку за шиворот и начал вытряхивать его из гимнастёрки, а из самого Витьки душу. От встряхиваний Витька, как рыба на берегу, начал беспомощно хватать воздух ртом.
— Отпусти его, — бросился Санька на Воробья. Но Воробей стальной рукой слегка отмахнулся, и Санька покатился в проход между кроватями. Упал, ударившись о тумбочку, но боли не почувствовал.
— Дурак! Ты дурак! Задушишь его! – заорал он и тут же испугался своего голоса.
И когда до сознания Воробья достучалось содержание Санькиных слов, он выпустил из рук Витьку и погрозил кулаком.
— Зашибу, сченки!
Вечером седьмая рота узнала, что Воробей избил в своей роте доброго и смешливого Валю Киреева. Валя спросил, что обычно спрашивали все, сколько раз Воробей сделал выходов на перекладине. Но этого было достаточно, чтобы Воробей с остервенением набросился на него. Кольке за это ничего не было. Командиры об этом не узнали, а десятиклассники в оценке этого поступка разделились на два лагеря.
Одни говорили:
— Надо Воробью морду намылить. Своего, и так избил! Ну просто бы сначала сказал, ну стукнул бы по шее. Все поняли, что Валька не прав, но избивать?
Другие были на стороне Воробья:
— Нечего было злить сильного человека.
Через несколько дней по жалобе Толи Декабрёва Карпыч из шестой роты отхватил такую пиявку, что голова его чуть не треснула, а сам он ходил ополоумевший и оглушённый. Одно упоминание о Толе Декабрёве вводило его в жестокую лихорадку.
При встрече с самым маленьким суворовцем он трясся, как лист осиновый, и его карандашные пальцы опухали.
Кольку Воробья перестали задевать и трогать. И только советы, как повысить мощь своего тела, даже едкие, он съедал без разбора. Но для седьмой роты появление Кольки в казарме было равносильно нашествию цунами на Курильскую гряду.
— Воробей идёт! – кричал кто-нибудь, и седьмая рота разлеталась. И когда мощной рукой Колька открывал дверь, он находил лишь Толю Декабрёва да дневального, который от страха впечатывался в стену у тумбочки с надеждой, что Колька не заметит. Но Воробей службу знал и дневального не трогал. Всех остальных, кого бы не находил, а искал он тщательно, заглядывая под тумбочки и кровати, собирал вокруг себя, устраивал концерт, а потом подвешивал представителей седьмой роты за ремни куда угодно. Кому как повезёт: в сушилку на крючок, на дверную ручку или ещё куда. На дверной ручке висеть было неудобнее всего, потому как с шишки, венчающей ручку, слезть самому было невозможно.
И лишь Толя всё ещё радушно встречал земляка, но до тех пор, пока однажды Воробей в роте никого не нашёл, и на дверную ручку подвесил его. Самый маленький суворовец висел на ручке и не знал, как ему принимать поступок земляка: радоваться или обижаться.
— Кто тебя? – открыв дверь в спальню, Володя Зайцев обнаружив пионера своего отряда в таком неудобном для ответа положении. Ремень поджимал живот и мешал говорить посиневшему суворовцу.
Володя приподнял его и поставил на ковровую дорожку.
— Так кто тебя?
Толя стоял, потупившись, как не выучивший урок первоклассник перед учителем. Не мог же он похвастаться, что его в такое неудобное положение поверг земляк. Кем тогда ему гордиться? На кого ссылаться для защиты?
— Значит, никто тебя не вешал?
— Никто. Просто сам подпрыгнул, нечаянно зацепился и висю, вишу, то есть, — как можно убедительнее старался ответить Толя.
— Ладно, — посмотрел ему в глаза Володя. – Это хорошо… Своих не предашь, когда враги будут калёным железом пытать. Сам найду.
О том, что разговор Володи с Колькой состоялся, рассказал Серёга Медведев из четвёртого взвода:
— Этот к нему: «Ты чего к нашим-то? Думаешь, накачался? Думаешь, если морда — во, так можно! Думаешь, если что, так мы… Да мы тебя раз! Да мы тебя в рог! Да мы тебя на куски!»
Серёга Медведев сопровождал рассказ вертолётным размахом рук.
— «А потом как замахнётся, а этот ничего, стоит. А этот как замахнётся опять. А этот опять стоит. Народ в спортзале – кучей. А этот опять замахнётся, а этот опять стоит. А этот ударить боится. А этот: «Трус, дурак». А этот снова как замахнётся, а этот стоит и хоть бы глазом моргнул. А этот раз ему в глаз. А тут Ваня-боксёр из его же роты. Этому в глаз. И всё! У этого глаз и у этого глаз! У обоих по пол стрекозы. Оба на полу. Но этот глаз трёт. А этот хоть бы что. Сплюнул и снова: «Трус, дурак…»
— Кто трус и дурак? – осторожно спросил Толя Декабрёв.
— Кто, кто? Земеля твой, — расщерился до ушей и обнажил прореху в зубах Серёга.
Толя Декабрёв не то что поджал, а до крови прикусил нижнюю губу. Переполненный горечью, он мог от одного слова, от одного жеста взорваться. И эта горечь могла бы выплеснуться наружу пересоленным фонтаном слёз.
Он поплёлся в свою спальню, пододвинул стул к окну, положил локти на широкий подоконник, обнял ладонями горемычную голову и установился в окно.
«Какие все счастливые, никто на них не тренирует свои карандашные пальцы, а мне и земеля, и совсем не земеля попался здоровый, крепкий, но дурак».
И от такой тяжёлой думы из глаз Толи Декабрёва выкатилась такая горькая, такая солёная, горячая и такая скупая мужская слеза, что, сорвись она со щеки, быть в подоконнике дыре.
Санька уже хотел подойти, что-то сказать, хоть что-то сделать, ну хоть чем-то помочь, но Витька, увидев, его неудержимое желание, схватил за руку и сжал своей тоненькой деревянной ладонью.
— Не надо, а то от жалости он как пластилин на солнце раскиснет. Пусть переживает, сам земляка нашёл, пусть сам и страдает. Дал бы хоть раз сам Карпычу, тот бы не лез.
И Толя, будто услышав этот шёпот, шмыгнул и как-то сам неожиданно для себя проглотил собственную горечь вместе со слезой, которая подползла ко рту, облепленному веснушками.
Вечером Карпыч, уже наслышанный про синяк Воробья, поджидал Толю на выходе из столовой. Чтобы казаться значительней, он расправил гимнастёрку на плечах и шёл чуть не на носках, всё время разминая средний тонкий с квадратным концом палец, будто его загодя вытащили из коробки карандашей и сломали по размеру Карпыча. Выдвинув вперёд нижнюю губу, он стоял под широкой вешалкой у выхода из столовой и, как щука под корягой, высматривал Декабрёва.
Шестая и седьмая роты с ужина выходили одновременно. Оставшиеся до построения минуты кто перебрасывался словами, кто дожёвывал смазанный горчицей и посыпанный солью хлеб, кто запасливо набивал горбушками карманы. Наконец Карпыч заметил Толю и, приковав его взглядом, поманил к себе пальцем, который должен был вот-вот отгреметь на огненно-рыжем темечке.
Толя снял шапку, безвольно склонился и поплёлся к Карпычу. Но тут между ними столбиком вытянулся Витька, который держал за руку Саньку.
— Ну что, Карпыч, может, хватит? – Витька улыбался, а Санька наоборот – опустил голову и готов был в любой момент броситься на шестиклассника. Карпыч не ожидал такого поворота. Толя был растерян не меньше Карпыча. Но шестиклассник ещё дальше выдвинул губу.
— А что? По шарабану захотели?
— Захотели, по-твоему. Сань, бери его.
И Санька отработанным приёмом скрутил Карпычу руку, вторую вывернул за спину Витька. Приём получился. Недаром Витька целый день после обеда и на всех переменах самоподготовки тренировал Саньку. Карпыч вырывался.
— Пустите, пустите, щенки! Я вас по одному переловлю.
Но захват был крепок. Карпыч лишним движением делал себе больно. И, потрепавшись, утих.
— То-то боевое самбо, — усмехнулся Витька. – Ну-ка, Толян, дай ему костяшками пальцев и посильнее. Проверим теперь его твердолобость.
Толя разводил руками.
— Да ставь, ставь, а то опоздаем в строй.
У Толи тряслись руки.
— Ну, хоть щелбан. Или просто шарахни его по кумполу.
Но Толя вдруг повернулся и выбежал из столовой.
— Отпускай его, — разжал руки Витька.
Карпыч, отбежав вперёд, повернулся и погрозил кулаком.
— Ну я вас по одному, с-с-сченки, переловлю! Будете знать, как двое на одного. Если бы не построение, вы бы у меня… — махнул он кулаком и выскочил из столовой.
Витька пошёл вслед за ним. Санька почувствовал, как его трясёт. Они успели встать в строй, до команды Чугунова «Становись!».
Было темно, фонари ещё не успели вспыхнуть. Гулкие удары об асфальт заглушали вечерние шорохи. И тут Санька услышал, что Толя Декабрёв идёт рядом и плачет.
— Ты что? – спросил Санька. – Ведь мы его скрутили, он больше тебя не тронет.
— Лучше бы тронул… Лучше бы поставил пиявку. Но зачем заставлять бить другого по голове, зачем? Кто вас просил? Ему бы больно было…
От этих всхлипываний Санька поёжился. Он не мог понять, чем же обидели Толю? Странно, но сейчас Саньке не было жалко, ни его слёз, ни его всхлипываний. Но почему?
Неожиданно он вспомнил слова Володи Зайцева. Если сталкивать людей, может произойти катастрофа. Может произойти взрыв. Вот маленькая катастрофа и произошла. Они хотели помочь, не разобравшись, что творится на душе у Толи. Нужно ли ему это столкновение? Хочет ли он его? Взяли и столкнули, а Толя идёт и плачет…
— Я никогда никого не бил и не буду, — тихо всхлипывал он. – Не буду! Никогда!
И почему мы взялись скручивать этого Карпыча? Тренировались весь вечер. Даже не подумали, что этого не стоило делать. У каждого свой мир, своя орбита. Может, верно, Толе лучше стерпеть, когда Карпыч пиявку ставит?
Видно, Толя признаёт только те столкновения, которые встречает на своей орбите. Нет столкновений – хорошо, есть – переживёт. Какая-то безжизненная планета, которую сокрушают тысячетонные метеориты, делают в её теле огромные ямы, бездонные кратеры, а она движется по своей орбите, вокруг какого-то центра, от столкновения к столкновению, и некому, да и никому и не нужно предотвращать эти столкновения. Да и самой планете. А может то, что происходит на орбите, это уколы. Вот другое дело столкнуться с иной планетой. И правда, может, через миллионы и даже через миллиарды лет на этой планете возникает жизнь, и происходит столкновение, которого она не выдержит, и тогда планета взорвётся, разлетится на куски. О какой жизни тогда можно говорить? А для Толи эти миллиарды лет сжаты в года, а может, и месяцы?
После прогулки, когда до вечерней поверки осталось полчаса, Витька схватил Саньку за руку и оттащил вслед за собой, приговаривая:
— Пошли, я знаю, где он сейчас. Я знаю, где он сейчас наводит сырость. Я его сейчас оттуда вытащу и поговорим. Знаю я таких, встречались. Маменькины сыночки, им бы всех гладить. Им бы цветочки на подоконнике поливать, да листики фикуса в школьном зелёном уголке тряпочкой вытирать, а потом на линейке рапортовать: «Нами на субботнике полито двенадцать цветочков в горшочках и протёрт двадцать один листок фикуса. А потом ещё гордо класс оглядеть, чтобы все хлопали в ладоши и радовались, что они листики фикуса от пыли освободили…
И чтобы учительница ещё подошла и погладила по головке: «Молодец, Толечка. Надо всем, как Толечка, листики протирать. Молодец, умничка, никто не хотел, а он девочкам помог, листики протёр. Вот Шадрин у нас – позор. Стащил на субботнике гусеницу от трактора, и бедный трактор не смог целину вспахать».
А потом тракторист за нами гонялся и учительнице жаловался, и мамка ругала за то, что по уши вымазался. А тракторист этот в чайной с дружками водку пил. И траки от гусеницы не рядом с трактором, а за углом лежали. – Слова из Витьки вылетали, как выхлопные газы их тракторного дизеля, и он с мощностью трактора тащил Саньку за собой в раздевалку, где на каждый из четырёх вешалок, закрывая друг друга бортами и сверкая рядами идущих друг за другом пуговиц, будто на параде, выстроились шинели.
— Сейчас мы его вытащим, — сказал Витька, просунул руку через шинели второго взвода, пошарил и выволок на свет Толю Декабрёва с печальными красными глазами. Толя даже не сопротивлялся, он выполз, как продолжение Витькиной руки, и шинели за ним сомкнулись.
— Ну что разнюнился? – Витька тряс его за шиворот, и Толя, как тряпичная кукла, болтался под его рукой и молчал. – Значит, получается, что тебя надо защищать, а ты, маменькин сыночек, сам за себя постоять не можешь, слёзки будешь глотать, чтобы тебя все жалели? Бить он не может! Значит, кто-то другой должен за тебя бить твоего Карпыча? Кто, Воробей или мы с Санькой? Так, что ли? Отвечай!
Саньке было не по себе. Он не очень-то жалел Толю, но и не нравилось ему, что Витька так безжалостно тряс его за шиворот. И опять он не мог объяснить, почему.
— Отпусти его, ну его… Не надо трогать. Пусть сам решает для себя.
— А что решать? – ещё сильнее вцепился в ворот Толиной гимнастёрки Витька. – Это я в роту этого земляка, эту дубину, этого Воробья притащил? Это я что ли Володе Зайцеву синяк поставил? Скажи, кисельная барышня. Скажи, размазня! Почему другие должны из-за тебя с синяками ходить, а ты будешь пиявочки терпеть? И тебе этого будет достаточно. – Толя ещё сильнее заплакал, не стесняясь своих слёз. Он сглатывал их одну за другой. – А в училище зачем ты пришёл? – продолжал трясти его Витька. – Зачем? Скажи? Ты что, не знаешь, кем мы станем? В бой за тебя Воробей в рукопашную пойдёт или Володя Зайцев? А ты будешь слёзки глотать в окопчике, пока их не поубивают.
Саньке не нравилось всё это. Плачущий Толя, орущий Витька, но слова его были правильны, и Санька не мог вступиться за Толю.
— А я, может, артиллеристом или ракетчиком буду, — вырвался Толя из крепкой Витькиной руки, но тот кошачьим движением догнал его и схватил за ворот.
— Да видел я тебя, видел, как ты на самоподготовке накрывал площадками атомных взрывов карту. Ракетчик! А бить-то ты будешь не по карте, а по земле, а там тоже люди. Враги, но люди. Их ты будешь накрывать взрывами, и видеть не будешь. А другие должны будут пойти по этой земле. Тоже мне, военный, артиллерист, кисель, — Витька отшвырнул брезгливым движением от себя Толю. Тот уткнулся в шинели и продолжал всхлипывать.
Санька стоял, не шевелясь. Какие страшные слова сказал Витька? Какие непонятные и страшные. Раньше он никогда ничего такого не говорил. И таким злым, красным, с перекошенным ртом тоже не был никогда. Видно, слова, сказанные им, тоже дошли до него самого. Да, в училище они пришли, чтобы учиться Родину защищать, воевать с врагом, настоящим, живым, который будет нападать, убивать, защищаться и бороться за свою жизнь. С настоящим врагом, а не книжным и не киношным. Как всё страшно и непонятно.
— Рота, выходи строиться на вечернюю поверку! – послышался голос дежурного по роте. Сейчас для Саньки он зазвучал по-домашнему приятно. Хорошо, что он нарушил тишину, эту проклятую тишину здесь, в раздевалке, среди плотных рядов чёрных безмолвных шинелей.
— Пошли, — в голосе Витьки чувствовалась усталость. – Только шинели нужно поправить, а то Чугунов увидит.
Витька подошёл к шинелям второго взвода, Санька принялся ему помогать. Толя оставался на месте.
— Пойдём на поверку, — вяло повторил Витька и, обняв Толю, подтолкнул его к выходу.
На следующий день к Толе прилепилась кличка Ракетчик. А о том, как она возникла, никто дознаваться не стал. Витька с Санькой молчали. Возникла, так возникла. Назвали же Володю Миронова Копной за его длинную голову. И продолжали называть. Копна куда проще, чем Вова или Володя. Копна, значит именно этот Вова, а не иной из пятнадцати ротных Вов. Так и Ракетчик – Толя Декабрёв. Ясно, кто. Да и Ракетчик куда почётнее, всё-таки наш покой охраняет. И на всех картинках нарисован: солдат с автоматом, а позади него ракета.
Сорванный прыжок
Ещё на зарядке, одетая по форме номер три – без ремней и фуражек, рота рассредоточилась на плацу и вслед за капитаном Баташовым размахивала руками.
Витька сделал Саньке знак, показал куда-то далеко вправо, где стояла четвёртая рота. Присмотревшись, через редкий строй суворовцев Санька увидел Володю. На глаза его наползало синючее пятно. Когда рота сомкнулась и приготовилась к пробежке, Витька шепнул:
— Надо его навестить, а то он с фонарём неделю не явиться. Ну, Воробей, своих – и в глаз. Вот у нас на улице даже местные короли друг друга по скулам не мажут. Иначе месть. Всей толпой будут бить.
С утра Витька переживал, чтобы их не увели чистить аллеи. Прогнозы его сбылись, и по пути к аллее он ворчал и успокаивал себя:
— Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест.
Работу распределили по отделениям: каждому по аллее.
— Мы начнём, — объяснил Витька, — сбегаем к Володе, а потом сломим за троих.
— Хитрые, — пробовал протестовать Рустамчик. – Мы за них пахать, а им бы сачкануть.
— Иди ты… — тут же взбрыкнулся Витька. – Он из-за нас синькой окрасился, а ты считаться…
В классе Володя сидел у окна, и синяк серпом темнел из-под зеркальных очков. Когда он увидел ребят, то машинально отвернулся к окну, а потом встал и, прикрывая скулу рукой, подозвал к себе.
Витька тут же затарахтел, что сегодня ничего не произошло, только Володя Миронов отхватил пару по арифметике, и когда стоял у доски, то долго и смешно чесал голову, как будто хотел вычесать из своей копны троечный ответ. Ему подсказывали, а он никак не мог сообразить. Наконец, Тамара Александровна не выдержала и сказала, что его голова только на рукомойник годится. И посадила. Так и сказала, что голову на рукомойник переделаю.
Витька пробовал смешно рассказывать, для наглядности помогал руками, но Володя лишь участливо улыбался. Наконец Витька понял, что его рассказ не рассмешил, и осторожно спросил:
— А как ты?
Володя, не зная, что ответить, повёл руками, но Витькин взгляд упал на раскрытую тетрадь, где было нарисовано множество парашютов: конусные, квадратные, похожие на веер и стёганые облака. Рядом с парашютами закорючками сплетались формулы, в стрелках боролись силы ветра и крепость строп.
— Это вы что, такие задачки решаете? – заинтересовался Витька, а Санька обошёл вожатого и заглянул ему через плечо.
— Да нет, — чувствуя неловкость, пробовал закрыть тетрадь Володя.
— А, это вы парашюты на секции проходили? – отгадывал Витька и тянул тетрадку к себе. – Не забирай. Покажи, покажи, — и, выхватив её, принялся листать.
Тетрадь изобиловала моделями, вокруг которых птицами кружились формулы. Парашюты конусами своих строп смотрели в разные стороны, но в конце обязательно раздваивались, спускаясь к плечам человечков. Они удерживали десантников в воздухе, если падали вниз, тормозили, если направлялись в сторону, и выполняли совсем непонятную роль, когда тянули парашютистов вверх.
Витька, перелистав несколько страниц и не найдя в тетрадке ничего особенного, отложил её.
— Парашют, – это чтоб об землю не грохнуться, а так больше зачем? Больше и не нужен.
Санька внимательно посмотрел на Володю.
Вожатый в ответ чуть улыбнулся. И в этой улыбке была какая-то усмешка над Витькиным представлением о парашюте.
— Значит, не нужен и только грохнуться? А если взлететь, или спланировать, или перелететь на дальнее расстояние? А если иметь за спиной турбину, которая бы наполняла парашют воздухом? Наверно, безопаснее летательного аппарата не придумаешь. А бесшумно через линию фронта, в тыл к врагу, и весь твой летательный аппарат за спиной. Он тебя держит, и ты на нём можешь парить, как орел в небе.
— Так зачем, ведь самолёты есть? – спросил Санька.
— Да, но парашют как сложенные крылья. Расправил и полетел. А у меня идея. Если стропы расположить не так, как сейчас, с краёв, а закрепить по всей поверхности, а сам купол скроить не полукругом, а плоским, то им и можно управлять. А вот расчёты готовы, — Володя показал формулы. – Мне бы только попробовать, почувствовать себя в воздухе. Я модельки выкроил и измерил дальность их полётов. Моя конфигурация позволила бы в два раза дольше держаться в воздухе и полететь дальше. Вот жаль, не удалось сегодня поехать с ребятами на аэродром. А сегодня в секции первый прыжок. Меня, — дотронулся до синяка, — в нашей санчасти не допустили.
— А хотите, я вам новую модель покажу? – приподнялся со своего места вожатый, подошёл к шкафу и достал оттуда тряпочки с нашитыми бечёвками и свинцовыми грузилками. – Первая обычная модель. — Смотрите, — и он, высунувшись в окно, отпустил парашютик. Его подхватил ветер, понёс и приземлил метрах в двадцати от казармы. – А теперь мой, — выпустил он второй парашют. Модель показалось Саньке похожей на большую белую птицу. Она, как крыло, была широкой, плоской и узкой. Поперёк неё проходили нитки, деля ткань на дольки. Санька даже увидел, как она замахала крыльями и, как живая, полетела. Ветер подхватил её и бросил на тополя. Там она зацепилась за ветку, и крыло её сломалось и безжизненно повисло.
— Видите, — сказал Володя, — может пролететь сколько угодно. Если подобно ей сделать парашют, то им можно управлять в полете, падать камнем, а можно кружиться, как в вальсе. А представляете, как нужен такой управляемый аппарат в бою, когда внизу враги. Можно перелететь, можно поворачивать, а можно вести огонь с воздуха. Вот так, — вдруг резко закончил Володя, — принесите, пожалуйста, модель, а то мне показываться… И вам надо торопиться.
По дороге к аллее Витька сказал:
— Вот, Воробей, вот люди. Им бы только своя утроба, своя кожа и рожа. А у Володи мы, у него парашют, он знает, для чего всё это, он знает, что будет дальше. Он понимает, для чего в суворовское училище поступил. А ты понимаешь?
— Не знаю, — сказал Санька. – Ещё не знаю. Но мы здесь, наверно, не для того, чтобы форму носить. Мы же не манекены.
— Ну, Воробей, — сказал зло Витька. – Ну, Воробей, из-за своих бицепсов испортил такой день, ведь Володя о нём мечтал. Ну, Воробей, ты ещё получишь, — и Витька погрозил кулаком в сторону второй роты.
Увольнение
С подготовкой к параду в училище началась другая жизнь.
С утра зарядки не было. Полчаса приводили себя в порядок и сразу выходили строиться. Потом на плацу под марши музвзвода несчетное количество раз проходили мимо трибун, отрабатывая равнение в шеренгах и колоннах, поворот головы и отмах руки.
Занятия сдвинулись, свободного времени оставалось мало, и Санька видел Витьку либо в строю, либо на самоподготовке, либо вечером перед отбоем. И то, он вдруг весь отдался танцам.
После уроков сразу убегал в клуб, если на перемене у него появлялась свободная минута, и там подпрыгивал, делая какие-то сложные движения руками и ногами. Причём занимался не один, а брал с собой Вовку Столярова из третьего взвода, тот тоже ходил на танцы к Евгению Эдуардовичу.
Санька стоял в стороне, а Вовка подсказывал:
— Молодец! Хорошо у тебя получается! Только носки тяни. Если бы тебя в нашу танцевальную студию, где я с пяти лет занимался, то ты бы был у нас солистом.
Евгений Эдуардович вместе с Волынским готовили концертную программу, с которой суворовцы должны были выступать перед пограничниками. Репетиции шли каждый день, поглощая Витьку всего, и ему некогда было поговорить с Санькой. Он даже перестал вспоминать о Лиде, лишь только изредка строил планы, как отомстить Воробью.
— Володя на репетиции не приходит. — Это он всё, Воробей, — начинал Витька и тут же торопился скорее уйти с Вовкой Столяровым.
Иногда Санька хотел что-то сказать, но слова его пролетали мимо. Витька был занят, и когда Санька однажды просто попробовал что-то подсказать, Вовка посмотрел на него свысока:
— Не понимаешь ничего в танцах, так помолчи!
Санька посмотрел на Витьку, но тот весь был в движении. Санька пошёл по коридору, сделал несколько шагов, оглянулся, потом оглянулся ещё раз… Его уход никто не заметил, будто его рядом и не было. Он спустился вниз, посмотрел на тумбочку дневального; на окрашенной поверхности было пусто. Уже больше недели письма из дома не приходили. Санька зашёл в спальню, опёрся на широкий белый подоконник и стал смотреть в окно.
«Если люди – миры, — подумал он, — и их объединяет один холодный космос, то, как же они бывают далеки друг от друга. Как им бывает одиноко, как будто между ними миллионы холодных километров».
До него донёсся голос Толи Декабрёва:
— Да пусть только нападут, пусть только попробуют! У нас, знаешь, какие ракеты? Мы куда угодно достанем! И боеголовки на них мегатонные, посильнее ихних! Так что на Кубу они напасть не посмеют! Никуда они не денутся. Куба будет нашей, социалистической!..
Санька вспомнил, что в последнем письме мама сообщала о том, что скоро на заводе сдадут дом и им, возможно, дадут новую квартиру с газом и водой.
Ещё весной она как-то робко просила отца:
— Да ты наодел бы свои ордена и пошёл бы в дирекцию. Ты же в морской пехоте воевал! Больше чем у тебя наград ни у кого на заводе нет…
Отец, который никогда не вспоминал о войне, никогда не ходил на военные фильмы. И на этот раз ордена вешать не стал, а положил их в карман. Потом, со слов его друга-фронтовика Ивана Глотова, Санька представил всю картину, которая произошла в кабинете директора. Когда вопрос решился не в пользу отца, он вдруг вышел из себя, глаз его налился кровью, желваки заходили, и он горстями начал выкладывать награды, сильно ударяя ими о стол. Потом резко повернулся и так хлопнул дверью, что она чуть не сорвалась с петель.
До училища Санька много болел, и отец постоянно говорил:
— Доходягой растёшь. Ничего из тебя не получится.
Его невысокая полная мама, наоборот, где могла, хвасталась им. Она работала кондуктором, и Санька часто катался, сидя на заднем сиденье. Тут уж она рассказывала всем, какой у неё Санечка умный, как хорошо делает уроки и главное – быстро. И все учителя про него говорят, способный, но ленится.
Отец всегда по этому поводу замечал:
— Если ленится, то какой же способный?
А когда сосед по двору Шурка Слободан похвастался, что поступает в суворовское училище, Санька быстро обо всём его расспросил, сам пошёл в военкомат и взял документы на прохождение медкомиссии.
Мама тут же сказала, что не отпустит; такой слабенький ни одного врача не пройдёт. На что отец возразил:
— Коль решил сам, пусть поступает. Видно, это судьба…
А сейчас писем не было. Может, что случилось?
И вдруг ему сильно захотелось домой, в их маленькую однокомнатную квартиру с кухней, половину которой занимала печка. В их маленький дворик, к маме и папе. Ему вдруг стало тесно в училище, ограниченном заборами, воротами да каменным тиром. Ему вдруг захотелось в город Уссурийск, где продавали долгоиграющие кисельного цвета конфеты «Барбарис» и сливочное мороженое, про котороё Серёга Яковлев сказал бы, что оно стоит рубль тридцать старыми деньгами и всего лишь сто грамм.
В пятницу Санька опять подошёл в бытовку, долго смотрел на Витькину тренировку, а потом предложил:
— Пойдём в увольнение, посмотрим город.
— Да что там делать? – пожал плечами Витька. – Танцами надо заниматься. Давай лучше махнём в автопарк, там старшина Петренко дежурит, он разрешит по танкам полазать.
— Зачем? – сказал Вовка, — поехали лучше ко мне. Мамка знаешь, какой вкусный пирог печёт. Там шесть слоёв: мясо, яйца, рис, лук, изюм и ещё что-то. – Санька проглотил слюну и уже хотел согласиться, как Вовка добавил. – Я о тебе ей иногда рассказывал. Она руководит у нас в военном городке танцевальным коллективом, ей интересно будет на тебя посмотреть. Раньше в балете танцевала. В субботу за мной и тобой приедет отец.
Санька посмотрел на Витьку, ему вдруг захотелось, чтобы тот отказался.
— Хорошо, поехали, — ответил он Столярову.
Витька старательно чистил бляху и пуговицы, натирал бархоткой ботинки и даже достал из тумбочки кусок новой белой материи, оторвал себе на подворотничок, старательно и сосредоточенно пришивал, не замечая рядом сидевшего Саньку. Только перед самым построением он попросил:
— Если я вдруг задержусь, захвати из столовой хлеб, масло и сахар. И ещё, если из дома будет письмо, положи его в тумбочку.
После построения за Вовкой приехал отец, и Санька видел из окна, как плотный мужчина в куртке лётчика слегка похлопывал Вовку по плечу, а потом пожал руку Витьке и, взяв их обоих за плечи, повёл к стоявшему у казармы «газику». Санька смотрел, как лётчик открыл заднюю дверь машины, пропустил вперёд Вовку, потом Витьку и, захлопнул её, сел на переднее сидение. Машина зажгла фары и скрылась за деревьями.
Санька ещё чуток посмотрел в окно, потом оглянулся, увидел ребят, сидевших в классе, и вдруг почувствовал, как пусто стало без Витьки в казарме. В строю он шёл рядом с Санькой Копытовым и никак не мог подстроиться под шаг впереди идущего Рустамчика. Всё время сбивался и наступал ему на пятки. И в столовой за столом было неуютно. Витькину порцию он отдал. И в кино никто не сидел рядом, а когда выключили свет и зал взорвался оттого, что на экране начался журнал «Советский спорт», Санька не радовался и не кричал вместе со всеми «Ура, спорт!»
На следующее утро, хотя было воскресенье и никаких проверок не предвиделось, он начистил ботинки, надраил бляху и записался в увольнение.
После завтрака увольняемых построили на втором этаже, и дежурный офицер капитан Баташов долго осматривал внешний вид суворовцев, потом долго инструктировал о том, что нужно отдавать честь всем военнослужащим, что сегодня они пойдут в увольнение не сами, а с сержантом Чугуновым.
Увольняемых из второго взвода было шесть человек. Весёлый и круглый Борька Топорков из Хабаровска, который уже был в городе третий раз, казалось, не шёл, а уверенно катился впереди, как бы показывая дорогу. Четверо суворовцев ступали рядом с сержантом, о чём-то переговаривались и хихикали. Санька плёлся чуть позади. Выйдя из училища, Борьке надоело идти в авангарде, и он передвинулся к Саньке.
— Ну как увольнение? – И тут же ответил сам: — То-то, конечно, хорошо. Это тебе не с Витькой по танкам лазить и в мазуте пачкаться. Это тебе самый зелёный город в РСФСР.
Уже была середина октября, и самый зелёный город, тронутый осенью, превратился в разноцветный. Вокруг стояли жёлтые, коричневые, красные деревья, а лежащие на юге сопки, как шёлковое лоскутное одеяло, пестрели разноцветными яркими красками. Толе показалось мало, что он назвал Уссурийск самым зелёным городом России, и он добавил:
— Здесь зелени на каждого человека больше, чем в любом другом городе. И это тебе не в солярке мазаться, а по городу идти.
Когда подходили к телеграфному с подпоркой столбу, перешагнувшему тротуар, Борька предупредил:
— Это чёртовы ворота. Сюда не заходи, а то что-нибудь в городе произойдёт: или с гражданскими подерёшься, или кадеточка на свидание не придёт.
— Какая кадеточка? – удивился Санька.
— Сразу видно, в увольнение ни разу не ходил. Это тебе не в танке с Витькой сидеть.
«Что сейчас Витька делает? – подумал Санька. – Наверно, с Вовкой репетирует», — и вздохнул.
— Давайте сфотографируемся, — подбежал Борька к сержанту. – Здесь мы ещё не фотографировались, — добавил он, когда все подошли к кинотеатру «Заря».
Сержант достал фотоаппарат «Смена». Суворовцы встали в линейку, сержант хотел щёлкнуть, но со стороны кинотеатра к ним неожиданно подошли два усатых близнеца в кепках и клетчатых рубашках и попросили, чтобы их вместе с суворовцами сняли на фоне кинотеатра. Сержант расставил близнецов по бокам. Сказав «внимание!», щёлкнул.
— Вот видишь, — сказал Борька. – Где бы ты ещё сфотографировался? Это тебе кинотеатр, а не танк какой-нибудь. И не Витька, а друзья сержанта.
— Да, — сказал Санька и подумал: «Порепетировали, а теперь, что делают?»
Потом все пошли в универмаг, и друзья сержанта пошли вместе с ними. В отделе тканей каждый купил себе по полметра бязи на подворотнички.
— Вот, — объяснил Борька. – Центральный универмаг, а ты говоришь танк, а здесь ткань на подворотнички продаётся.
— Конечно, — согласился Санька и подумал: «Чем они сейчас занимаются? Наверно, Вовкина мама угощает их сейчас вкусными пирогами».
Друзья сержанта о чём-то пошептались и тоже купили по полметра батиста.
— Вот, — сказал Борька. – Они хоть и гражданские, а наш сержант с кем угодно дружить не будет, — и тут же подбежал к Чугунову. – Товарищ сержант, пойдёмте мороженое поедим.
В кафе, в одноэтажном деревянном здании, мороженого не было. Борька заказал кофе с пирожками. Друзья сержанта тоже купили себе по стакану кофе с молоком и по пирожку. Пирожки были с ливером хрустящие и очень вкусными, а кофе сладким.
— А теперь пойдёмте на «Зелёнку», — опять проявил инициативу Борька.
«Зелёнкой» оказался парк «Зелёный остров». Они ходили по аллеям, фотографировались вместе с друзьями сержанта, которые за всё время их пути с сержантом ни разу не обмолвились. А Толя всё время напоминал, как хорошо в увольнении.
Наконец сержант сказал:
— Пора возвращаться, а то на обед не успеем.
Возле училища сфотографировались в последний раз, и друзья сержанта, пожав всем руки, пошли обратно. А Борька опять прокомментировал:
— Видишь, как здорово в увольнении, где бы ты столько увидел, где бы тебе друзья сержанта руки пожали? Теперь сержант сделает фотографии, и ты отправишь их домой.
Сержант посмотрел на фотоаппарат и сказал, что плёнка кончилась. А потом спросил:
— Кто-нибудь этих гражданских знает?
Все пожали плечами.
— А что же они за нами шлялись? Только кадры все перепортили своими одинаковыми усатыми рожами и клетчатыми рубашками. Вот охламоны!
— Вот видишь, — сказал Борька, — где бы ты таких одинаковых охламонов увидел, только в увольнении…
В казарме на тумбочке дневального лежало два письма Саньке, а под ними – одно для Витьки. Видно, одно письмо где-то задержалось. Он хотел Витькино письмо положить на тумбочку, но потом сложил его пополам и сунул в карман, чтобы сразу отдать.
Витька приехал до ужина, и Санька сразу вручил ему весточку из дома. Витька в ответ протянул пакет:
— Это тебе. Здесь пирог и пряники.
— Ну как у Вовки?
— Да так, нормально. Но, знаешь, я без тебя скучал.
— А я в увольнении был.
— Ну и как?
— Да с двумя одинаковыми усатыми охламонами познакомился. А так ничего особенного.
— Я же говорил, — сказал Витька, — что там в городе делать нечего. С танками возиться куда лучше.
— Да, — согласился Санька, — в танке с тобой намного лучше, это не в увольнение ходить!
Наглядное пособие
Иной месяц проходит пусто, и ты даже не замечаешь, как проскользнуло время, хотя дни наполнены с утра до вечера: то строевые занятия, то спортивные соревнования, то контрольные, готовясь к ним, решаешь десятки задач; то диктант, от волнения в котором наделаешь кучу ошибок и потом гадаешь — что тебе выставят в журнал двойку или тройку с минусом? А оглянешься, задумаешься, что же произошло за это время? Позади всё чисто, гладко, без шероховатостей, на которых могла бы задержаться твоя память. Почему?
Вскоре выпал снег. Суворовцы перешли на зимнюю форму одежды. В бане старшина Горунов выдал вместо синих трусов и голубых маек белые, гладкие и от новизны прозрачные кальсоны и рубашки. Ботинки заменили яловыми сапогами, а вместо носков выдали портянки, которые при намотке топорщились и не хотели лезть в голенище.
— Так-то оно теплее, — улыбался старшина.
Кроме всего прочего по зимней форме полагалось надевать шинели, у которых пуговицы с трудом проталкивались в петли, и, конечно же, шапки-ушанки с пересекающимися красными лентами под ушами. Они-то и ставили крест на всём легком летнем и предлагали взамен всё тяжёлое зимнее.
Но самым громоздким были яловые сапоги. Они колодками висели на ногах, неумело скрученные портянки в них сбивались, и в первый же день у Саньки на правой ноге появилась мозоль. Старшина вечером этого же дня перед сном пристально осматривал ноги суворовцев. И если находил сапоговые ранения, то строго выговаривал:
— Так и не научились портянки закручивать…
Потом на глаз отрезал кусок пластыря.
— Завтра после завтрака будем тренироваться. Какой он воин-то, коль портянки закручивать не выучился. Считай, отстал, пропал… Затеряешься в бою.
В последние две недели наводили марафет в казарме и на территории – ждали приезда командующего округом. Полы казармы вымыли, замазали малиновой краской, покрыли жирной мастикой и уже затем натёрли чёрными суконками от старых суворовских шинелей.
Месяц Витька продолжал ходить в клуб. Танцы захватили его, и из своей последней поездки на конкурс он привёз макет пограничного столба с надписью: «Лучшему исполнителю».
Волосы его чуть подросли, и Витьку перестали гладить против шерсти. Но однажды он прибежал красный и взволнованный.
— Санька, Санька, где ты? Ну, куда ты делся!?
— Что с тобой? – Санька вышел из спальни на встревоженный крик.
— Она, Санька, в него… как кошка… Я видел… Я теперь понимаю, почему она на танцевальный… Она из-за него…
— Кто, что, зачем?.. Что, взбесился?..
— Да она в Евгения Эдуардовича втрескалась!
— Танечка? – спросил Санька, хотя догадывался, о ком речь.
— Какая? Ты что, дурак?.. Лидка! Она на него так смотрела…
— Ну и что, подумаешь, смотрела.
— Целое занятие! Что мне теперь делать?
— Пойти и сказать, чтоб перестала, а то ты не женишься на ней после училища.
Витька обиделся.
— Я с тобой серьёзно, а ты… да ладно, — махнул он рукой. – Евгений Эдикович к этому времени постареет, облысеет, а может, у него зубы выпадут или нога отнимется, тогда она поймёт, кто ей нужен, — успокоился Витька, но тут же продолжил: — Ты слышал, Воробей больше не качается. Ему кто-то объяснил, что мышцы нужно не накачивать, а растягивать. Вот он теперь с утра до вечера и тянется. Корягой не хочет быть. Говорят, что теперь уже в продольный шпагат садится. Наверно, скоро его надо ждать: придёт своё умение показывать.
— А ты откуда знаешь?
Толя Декабрёв снова у него в роте торчит.
Витькины слова оказались пророческими…
Командующий округом должен был посетить училище в воскресенье. Полы в казарме блестели от утреннего катания на суконках, сияли вымытыми партами прибранные классы, учебники в шкафах выстроились стопочками.
В спальне полоски одеял и дужки кроватей ровнялись по ниточке, матрасы были защиплены в кирпичики. Всё было готово к встрече командующего, но раньше его убранную и надраенную казарму посетил не менее значительный гость.
После завтрака рота собралась на втором этаже смотреть телевизор, когда появился Воробей и спросил, где находится Толя Декабрёв и, несмотря на протесты дневального, прошёл в спальню раньше генерал-полковника.
Дневальный срочно вызвал Ракетчика, но Толя был в библиотеке. Витька, узнав, что Колька в казарме, тут же скатился вниз по лестнице, прихватив с собой Саньку. То ли заметив стремительное исчезновение Витьки, то ли услышав, что седьмую роту наконец-то вновь посетил Воробей, то ли из простого любопытства, в спальне второго взвода вокруг Кольки собралось человек восемь.
Увидев собравшихся, Воробей от нетерпения повёл плечами, свысока оглядел всех, а уж потом спросил:
— Ну что, сченки, показать вам что-нибудь такое, чтоб в спине зачесалось? Хотите увидеть, каких пределов можно достич, совершенствуя своё тело?
— Покажи, покажи, конечно, покажи! – противно подхалимничая, стал упрашивать Витька, получая в спину колкий суровый шепоток:
— У, шестёрка! Лизун… Подлиза…
— И вчера перед Володей крутился…
Но Витька будто и не слышал пущенных в его адрес стрел.
— Чё, нравится? – оскалился Воробей.
— Ещё бы, конечно, нравится, — угодливо улыбался Витька, не замечая тихого недовольства и гудения толпы.
И тогда Воробей погладил его по голове:
— Люблю подхалимов.
Саньке стало не по себе. Ему не нравилось, что Воробей своей шершавой от долгого вращения на перекладине рукой гладил его друга, ему хотелось уйти, но что-то сдерживало. Может, он испугался за Витьку? А может, испугался Воробья? И от этого стало ещё противнее. А Колька тут же разделся и уже хотел взять Витьку за ремень, но тот опередил.
— А стулья за передние ножки поднимешь?
— Запросто, — Воробей присел на корточки, взялся за ножки, выпрямил спину и встал со стульями на вытянутых руках.
— Ну даёшь, ну молодчага, — похвалил Витька, оглянулся и подмигнул всем. В Витькиных глазах было столько ехидства, что только один Воробей не мог заметить этого.
Воробей тут же усердно принялся отжимать стулья от груди, демонстрируя, как надуваются мышцы, напрягается торс, округляются бицепсы, вздуваются тросы под кожей на спине.
— Здорово, мощь, даёшь, — тихо стали подпевать Витьке стоявшие рядом. И даже тошнота, которая одолевала Саньку, незаметно прошла.
Витька своими острыми ехидными глазами-лезвиями как бы подрезал её.
Воробей ещё долго показывал фокусы со стульями, но, наконец, это ему надоело и он, расслабляясь, встряхнул руками.
— Ну, Воробей, ты, наверно, закоряжел со своей накачкой? – задал вопрос Витька, подражая старшеклассникам.
— Это я стал корягой? Да я сейчас хошь в шпагат растянусь!
— В шпагате? Не ври!
— Да только так! Сейчас только брюки скину и чуток разомнусь.
Воробей неторопливо стянул сапоги, снял брюки, аккуратно развесил их на стуле и остался в одних кальсонах.
— Если б я знал, что надо шпагат делать, я б костюм захватил. Ну ладно, для вас, сченки! – Он повернулся спиной к зрителям, опёрся на дужку кровати и принялся размахивать ногами, потом, вытягивая одну ногу, приседать на другой, наконец, сложив руки на груди, перекатил мышцы, набрал полную грудь воздуха и тут же раскрылся в шпагате на малиновом паркете.
— У даёшь, у молодяга… — потянулся одобрительный гул.
— Могу и ноги за голову, — похвастался Воробей и тут же, оказавшись в таком лягушачьем положении, самодовольно оскалился тупой улыбкой.
Санька прыснул, но Витька серьёзно похвалил:
— Молодяга. Вообще без костей. Ну просто резиновый.
— Гуттаперчевый мальчик, — вспомнил Серёга Яковлев название книги.
— А в тумбочку, наверно, не залезешь? – вдруг озабоченно спросил Витька.
— Нет, в тумбочку ему, наверно, не залезть, — качнул головой Санька.
— В тумбочку? Да я сейчас… да в тумбочку — раз плюнуть, — говорил Воробей и, торопясь, выбрасывал на пол полотенца, сапожные и одежные щётки, кожаные тапочки, асидол, трафаретки и щёточки для чистки пуговиц. – В тумбочку, да я не только в тумбочку, да я... – попробовал сунуться Колька, но у него ничего не вышло. Тогда он вытащил и швырнул второпях верхний ящик с мыльницей, зубной пастой и зубными щётками на кровать.
— Ну глянь, глянь! Говорил – не залезть! Все пять пиявок тебе на кочан!
Но даже обещанных пять пиявок, одной из которых хватило охладить пыл Карпычу, ещё больше раззадорили Витьку.
— Ты сначала лезь, а потом будешь долги отдавать.
Воробей попробовал втиснуться в пространство тумбочки, но не тут-то было. Тумбочка сопротивлялась своими фанерными боками, не пуская в своё чрево богатое тело Воробья.
— Слабо, слабо, — комментировал Витька.
— Слабо? Да я те пять пиявок отломлю, только не жалиться потом. На спор, счас, смотри… — Он задумался, сбросил кальсоны, смело, как в баню, шагнул к тумбочке, тряхнул плечами, поднырнул и втиснулся в фанерное пространство. Усевшись, он повернул голову и победно оскалился в улыбке.
И хотя толпа довольно-таки откровенно хвалила Кольку, Витька заволновался. Это было видно по краске, выплеснувшейся на его щёки и уши.
— Ну, молодяга, ну даёшь! Ну, резина, ну, гуттаперча…
Воробью нравилось такое положение и он, видно, не собирался вылезать. Он улыбался, радуясь своей новой квартире.
Когда Воробей освободился от тумбочки, Витька его похвалил:
— Тебе бы в цирке выступать, ноги поджимать и в ящик запираться, а фокусник бы пустоту шпагами изрезал на радость слабонервным. Вот бы деньги зашибал, не хуже, чем на севере.
Воробей радовался похвале, но Витька тут же поддел его:
— А вот между окон тебе точно не втиснуться! Слабо!
— Между окон? Да ещё на пять пиявок и на десять пирожков с ливером в буфете, давай, спорим? – протянул мощную руку Воробей.
— Чего спорить, чего спорить-то! Я тебе и так ещё две бутылки кефира куплю. Всё равно не залезешь.
— Ну смотри! – Колька решительно шагнул к окну, дёрнул шпингалеты и распахнул кряхтящую рваной бумагой раму. Придвинувшись спиной к задней раме, глубоко втянул живот, раскинул руки и, почти не шевеля глазами, приказал: — Закрывай!
Витька задвинул раму, защёлкнул шпингалет и отошёл.
Голый Воробей застыл в межоконном пространстве. И тут Витька, уже не сдерживая себя, захохотал, схватившись за живот, трясясь и булькая. Вслед за ним захохотала вся толпа. Голый Воробей, зажатый между рам, с повёрнутой головой и раскинутыми руками походил на ощипанную курицу…
В спальню неожиданно долетела команда:
— Смирно! Дежурный, на выход!
Из коридора донёсся голос командира роты:
— Товарищ генер-р-рал! Седьмая р-р-р-рота занимается по распорядку. Командир-р-р р-р-р-роты майор-р-р Сор-р-рокин.
«Р.», произносимое командиром роты, когда он волновался, дребезжало милицейским свистком.
Ребята сжались. Витька замахал руками, показывая на тумбочку.
— Давайте убирайте скорее.
Суворовцы лихорадочно бросились засовывать всё в тумбочку, выравнивать кровати, забыв впопыхах о Воробье, который беззвучно кричал что-то за оконными стёклами и мощными дубовыми рамами дореволюционных казарменных построек.
Едва успели захлопнуть тумбочку, как в спальне второго взвода оказалось столько генералов и полковников, что Санька моментально выпрямился, прижав руки к лампасам, и сосредоточил всё внимание на невысоком генерале с тремя вышитыми звёздами на погонах. Генерал шёл впереди.
— Это что за наглядное пособие? – строго спросил он, качнув головой в сторону окна, где уже беспомощно, в полуобморочном состоянии висел Воробей.
И тут Санька увидел округлившиеся от изумления глаза начальника училища и неестественно порозовевшее лицо командира роты.
— Что это за живой Иисус Христос? Кто его распял? – и, окинув взглядом сбившуюся в толпу малышню и могучее, но посиневшее от страха тело Воробья, вдруг спросил: — А почему голый?
— Воздушную ванну принимает, — раздался чей-то догадливый голос из свиты командующего.
— Убрать его, — вдруг прогремел свинцовый бас начальника училища. – Я с ним разберусь, товарищ генерал-полковник.
— Хорошо, — согласился командующий округом.
Майор Сорокин подскочил к окну, дёрнул щеколду, распахнул окно и едва успел поймать Воробья в полуобморочном, посиневшем состоянии. Кольку уложили на кровать, подбежавшие подполковники и полковники кинулись растирать его. От такой чести он, наконец-то, открыл глаза…
В канцелярии
За сколько дней можно узнать училище, в которое поступил, город, в который приехал, край, в котором живёшь? За сколько, если ты уже полгода находишься в казарме, а в ней всего-то два этажа: нижний – спальня и верхний – классы, бытовка, преподавательская, каптёрка старшины.
А в канцелярии командира роты Санька стоял впервые. Стоял во второй шеренге вместе с нарушителями воинской дисциплины, замуровавшими суворовца Воробьёва в межоконном пространстве, как говорил сейчас командир роты.
Для Саньки эта самая канцелярия была как несуществующая. Он её ни разу не убирал, не заходил, не заглядывал, не был. В канцелярию командира роты можно было попасть, чрезвычайно нарушив дисциплину.
Последний раз Санька видел, как в канцелярию заводили Борьку Топоркова. Борька, насмотревшись, как старшие суворовцы превращают выданные старшиной клёши в модные дудочки, тоже решил ушить брюки. Помогал ему в этой сложной операции и заодно научил ушивательному шву «назад иголку» его земляк из Хабаровска Витька Емельянов из третьей роты. После трудоёмкой работы Борька тяжело, с мылом, влез в брюки, которые, как трико танцовщиц, плотно облегали его тонкие ноги. Красные лампасы закрывали их, подчёркивая ярко выраженную колченогость. Когда Борька в обновке явился в казарму и на зависть седьмой роте манекенщиком прошёлся по ковру коридора, он встретился с её командиром…
— Брюки ушиваешь, а двойку исправить времени нет, — отметил майор Сорокин.
Так Борька стал первооткрывателем загадочной комнаты под названием канцелярия. В роту он пришёл счастливый и улыбающийся, а вышел оттуда с размазанными от слёз подтёками и самым несчастным. Вдогонку ему, как из милицейского свистка, перекатывалось разгневанное, дребезжащее «р» майора Сорокина:
— Бр-р-рюки пер-р-решить! Один нар-р-ряд вне очер-р-реди!
Борька стоял в наряде и благодарил своего земляка, который оказался хорошим человеком и не научил его отрезать образовавшуюся при ушивании складку за ненадобностью. Поэтому не полетело в Хабаровск письмо к родителям незадачливого модника. Ночью утюгом Борька вернул дудочки в первоначальный клёш…
Сейчас Санька боялся поднять голову и встретиться глазами с командиром роты, верхняя губа которого с выемкой, похожая на заячью, вибрировала и трепетала от возмущения.
— Товар-р-рищи сувор-р-ровцы! Непор-р-рядок! Безобр-р-разие! Кто это сделал? Сами маленькие, а Вор-р-робьёва между р-р-рамами… Кто пер-р-рвый придумал? Он же чуть р-р-разр-р-рыв сер-р-рдца от страха не получил!
Санька пересилил себя и поднял голову. Майор Сорокин стоял, опершись рукой на обтянутый дерматином стол, а другой рубил воздух. Лицо его, обычно розовое, сейчас было красным, а крепкое тело сотрясалось от гнева.
Дальше за размахивающейся рукой Санька увидел полку с журналами «Коммунист вооружённых сил». Сбоку от стола, прижимаясь к стене, стояло несколько стульев. За Санькиной спиной громоздился фанерный шкаф, и висели наглядные пособия.
Майор Сорокин, увидев Санькины глаза, пристально уставился в них. Санька опустил голову.
— Опозор-р-рить училище перед окр-р-ругом! Стар-р-ршего товар-р-рища между окон… Кто затолкал Воробьёва? Не пр-р-ризнаетесь, всех накажу. Всем нар-р-ряд на воскресенье. Что молчите? Может, Яковлев, это Ваших р-р-рук дело?
Серёгу как ошпарили. Он покраснел гуще командира роты.
— А что я? Чуть что – я.
— Тогда, может, Вы, Счастливов? Отвечайте, товарищ сувор-р-ровец!
Толя Счастливов приподнял свою широкую с растопыренными ушами голову и исподлобья, как бычок, уставился на командира. Он так долго и пристально смотрел, что майор Сорокин не выдержал и сам ответил за Счастливова.
— Так, значит, не Вы, а кто же тогда? Никто не засовывал, а Воробьёв между окон сушился. А может, товарищ Хар-р-ритонов? За что Вы Воробьёва замур-р-ровали?
Всегда спокойный и даже немного сонный Коля Харитонов поднял на командира роты серые глаза и, едва не зевая, ответил:
— За оконную раму.
— Да я сам знаю, что за оконную раму, Хар-р-ритонов! Я Вам нар-р-ряд объявляю, — сердился майор, размахивая своим толстым коротким пальцем.
Толя смотрел на этот батончик так же безразлично, как смотрел бы на телеграфный столб. Ну чем может взволновать телеграфный столб? Стоит себе и стоит, гудит себе и гудит, и то, если близко подойти и ухо приставить.
— Так, понятно, — командир роты посмотрел на Витьку, — Шадр-р-рин, а ведь больше никому такое в голову не придёт! Точно, Вы! Я помню, Вы пер-р-рвый подскочили, когда дежурный по роте позвал Декабр-р-рёва. – Сорокин, казалось, прижал Витьку к стене.
Витька, неожиданно припёртый словами майора, дёрнулся и, казалось, волна пробежала по его худому гибкому телу. У Саньки сжалось сердце. Вот сейчас, вот сейчас вытащат Витьку из строя и оставят одного в канцелярии…
— Я б его замуровал. Я б его не меж рам замуровал…
— Значит, никто не виноват? Никто? Значит, Вор-р-робей, простите, Вор-р-робьёв сам между окон залез?
— Сам, — подтвердил Витька. – Мы бы его не подняли и не раздели.
— А кто его закрыл? Кто его защёлкнул? Кто его в таком похабном виде командующему округом выставил? – кричал Сорокин, уже не глядя на Витьку, и от этого у Саньки потеплело внутри. Значит, Витька сумел вывернуться из опасного положения. Да и у Витьки уже был такой расслабленный вид, будто он отходил после тяжёлой работы.
Но вдруг Санька почувствовал, что Сорокин смотрит на него, смотрит пристально, пронизывающе насквозь. Санька сжался и, казалось, свернулся, ссохся под этим взглядом. Машинально он подумал, как страшно было тогда Борьке, когда он был один на один с ротным.
— Сувор-р-ровец Соболев, так за что вы заперли Воробья в межоконном пространстве? Зачем вам это нужно было? – и хоть Санька уже ждал, всё равно вопрос прозвучал неожиданно. Сорокин бесцветными глазами уставился на него. – Зачем вам это понадобилось? Чем он лично вас обидел? Или, может, в чём-то не прав?
Санька поднял глаза. Ротный продолжал буравить его взглядом.
— Почему Вы молчите? Скажите, мы разберёмся. Говорите. Почему? – Санька чувствовал, что слова становятся весомыми и, как молотком, бьют, бьют его.
— Не меня обидел, — неожиданно вырвалось из Саньки, вырвалось без его желания. Слова вылетели, и их уже нельзя было остановить. – Зачем он поставил синяк Володе Зайцеву? Вожатый защищал нас, а он ему синяк… — Санька ещё не понимал почему, но чувствовал, что сказал не то. Сейчас об этом нельзя было говорить.
— Трепло, — услышал он еле уловимый шепоток. Кажется, это сказал Серёжа Яковлев.
— Болтун, — полетело со стороны Коли Харитонова.
— Дурак, — это уже было отпущено Витькой.
Правильно говорят, слово – не воробей… Да, Санька выпустил, и Сорокин его поймал и держал крепко.
— Вот теперь мне всё ясно. Значит, вот кто вас надоумил! Вожатый! Ваш вожатый! Как же я сразу не догадался? Но почему вы? Пусть бы он и запирал. Хор-р-рош комсомолец. Есть чему пионер-р-ров учить, как старших товарищей замуровывать.
Санька опустил голову, сжался, готовый исчезнуть.
— Я обращусь в комсомольскую организацию училища, пусть они заменят вожатого, — продолжал майор Сорокин.
Санька смотрел в пол, ничего не видел и боялся поднять глаза. Кто знал, что всё так обернётся? Теперь, оказывается, виноват Володя. И Саньке, которому десять минут назад было страшно за себя, за то, что его накажут нарядом на воскресенье, становилось ещё страшнее оттого, что пострадает вожатый. И всё из-за глупо выпущенного слова. Какую силу имеет оно – слово! Оно пробьёт любую оболочку, столкнёт с кем угодно. Теперь он был готов до конца года каждый день стоять в наряде. Санька вновь поднял глаза на командира роты.
— Может, Вы ещё хотите что-нибудь добавить, товар-р-рищ сувор-р-ровец Соболев? Вот скажите, как Зайцев учил Вас всех запирать Воробьёва?
Санька опять опустил голову.
— Расскажите, расскажите, как сувор-р-ровец Зайцев научил вас запирать товар-р-рищей. Или вы боитесь?
— Он нас не обучал, и мы не боимся, — вдруг какая-то тёплая волна поднялась от живота, где прятался страх, и смыла его, освободила Саньку, и от этого ему сразу стало легко. – Это не Зайцев, это я запрятал Воробьёва между окон.
— Как это вы, такой маленький, такого большого и между окон? Очень интер-р-ресно!
— Я не сажал! Он сам! – настаивал Санька. – Я только шпингалет защёлкнул.
— Очень интер-р-ресно. Продолжайте, пр-р-родолжайте.
— Он сказал, что он не коряга, а растянутый. И залез меж окон. Окно он сам раскрыл, а я только защёлкнул. Я виноват.
— Врёт он всё, — спокойно, но громко произнёс Витька. – Это не он. Это я. Сначала я сказал Воробью, что он в тумбочку не залезет. А он залез. Тогда я сказал, что он между окон не поместится, но он поместился.
— Врут они всё, — на этот раз подал голос Серёга Яковлевв. – Это не они, это я. Им бы не догадаться.
— Да они врут! Да куда им, куда Зайцеву! Это я! Я! Я! – на этот раз горланили все восемь нарушителей воинской дисциплины. И из канцелярии, из которой минуту милицейским рассерженным свистком звенело «р-р-р-р-р» командира роты, сейчас доносился разноголосый спор восьмёрки второго взвода, каждый из которой доказывал своё право на заключение Кольки Воробьёва между дубовыми рамами.
— Вожатый здесь ни при чём, — громче всех горланил Витька. – Это я, меня наказывайте, заставляйте площадку мыть, ставьте в наряд, выгоняйте из училища.
И вдруг над этим многоголосьем пронзительно зазвенел милицейский свисток.
— Прекр-р-ратить! Всем объявляю нар-р-ряд вне очереди. Кругом, шагом марш! В сушилку за дер-р-ревянными лопатами и чистить снег. Хорошо чистить, чтобы ни одной снежинки!.. Я с вами ещё разберусь!
На плацу
Санька выскочил из кабинета и побежал вниз.
«Скорее! Скорее надеть свою шапку! Скорее натянуть перчатки! Скорее взять лопату, чтобы не слышать, хотя бы сейчас, презрительного недовольства Серёги Яковлева и Рустамчика Болеева. Правда, выходя из канцелярии, он уже поймал обрывок фразы, брошенной вдогонку:
— Язык у него…
И не дослышал, не захотел, убежал.
Асфальт покрыл тоненький, на высоту ботинка, снежный пух. В другое время такой убирать огромное удовольствие. Приставил лопату к животу, взялся за ручку двумя руками и гони через весь плац до самого края. Потом, чуть отступив от очищенной полоски – в обратную сторону, пока твой участок не станет полосатым. А уж затем можно и полоски убрать.
Но разве сейчас до удовольствия?
Хотелось всё перевернуть, и была бы возможность, он поддел бы плац рычагом и разом наклонил бы его, чтобы снег скатился сам. Хотелось скорее забыть, что было в кабинете, потому что из канцелярии ушёл, а мыслями всё ещё там. И это пронзительное «р-р-р-р-р» майора Сорокина до сих пор звенит в ушах, и этот едкий шепоток, как дым от мокрых поленьев, до сих пор ест глаза, делает их влажными и заставляет вытирать тёплой перчаткой солёную влагу. Какая же она слезоточивая, эта страшная канцелярия командира роты. Недаром майор Сорокин говорил, что суворовец отличается от гражданского мальчишки тем, что как только начинаешь ему выговаривать, так у суворовца сразу слёзы и сопли.
Санька слышал это, когда командир роты разговаривал со старшиной. Старшина сначала молчал, а потом сказал резко и неожиданно:
— Так мамки-то рядом нету. Некому в подол плакаться. Там, дома, он все свои слёзы в мамкин подол сольёт. А подол тряпичный, всё примет. А здесь куда ему плакаться-то – в подушку, а что в подушку не успел-то, то и выжать не сложно-то, ежели разжалобить. А выжимать среди своих-то нельзя, там быстро застыдят. А в преподавательской, канцелярии или у меня, в каптёрке, здесь можно. Никто не увидит, да и не поругает. Слёзы не простые, а выдавленные командиром. Тогда и свои не засмеют, и пожалеют, и посочувствуют. Я, если приходят ко мне, и вижу, что хотят поплакаться, не гоню. Пусть слёзу выгонит, пусть утрётся – ветоши в каптёрке на тысячу носов хватит, пока все слёзы до одной не оставит, не пущу. И ему легче, и у меня на душе камня нет.
— Так-то оно так, — спокойно говорил командир роты. – Но они шинели надели, ведь у них распорядок, и каждая минута расписана. И за каждую минуту мы отвечаем. И мы отвечаем за то, чтобы они учились, и спортом занимались, и в нарядах стояли, и на парадах ходили, и не простуживались, и в бане мылись, ещё и казарму и территорию убирали. А что на пятиклассника из нашей седьмой роты, что на одиннадцатиклассника из первой – нагрузка одна и та же. И готовим мы их не на гражданку, где оттрубил свою смену и домой, к жене, к телевизору, а к офицерской круглосуточной службе. Я здесь круглосуточно бываю, и вы. Так какие могут быть слёзы? Некогда их утирать.
Санька стоял тогда у тумбочки в наряде и слушал этот разговор. Тогда и командир роты и старшина называли друг друга не по-военному: товарищ майор, товарищ старшина, а Константин Тимофеевич и Валентин Серафимович.
Доносившиеся из спальни слова разжалобили его. Он вспомнил маму, от которой долго не было письма, а полученное накануне ещё сильнее обеспокоило его.
Мама сообщала, что заболел дедушка. Написала немного, но на душе стало тяжело. Дедушку было жалко. Огромный, широкий, лысый, он всю жизнь с молотком в руках плющил, гнул раскалённое железо и вдруг оказался на пенсии. В свои пятьдесят он сидел на завалинке и не знал, куда деть прокалённые руки, почти ничего не знавшие, кроме молота. Вначале войны дед попал в окружение и, выйдя из него, был ранен в первом же бою. После ранения дед продолжал воевать по своему жизненному призванию, набивая подковы лёгким кавалерийским лошадям. А теперь, на пенсии, ему разрешили только работать два месяца в году. Тогда в первый же день он принаряжался в белую рубашку, бабка собирала ему обед в сумку, и он шёл в родную артель, где опять махал молотом и, отработав положенный срок, печально покидал родную кузницу.
Иногда вдоволь натосковавшись, он вновь приходил в свой цех, но новый молодой начальник приказал его не пускать, предварительно объяснив следующее:
— Вы честно отработали, и теперь имеете полное право на отдых. Я не могу допустить, чтобы наш советский пенсионер трудился за этих молодых бездельников…
У деда была самая большая заработанная пенсия во дворе, окружённом четырьмя двухэтажными бараками, и Санька гордился этим.
Особенно Санька любил париться с дедом в бане. Налупив себя веником, дед выходил в раздевалку, обматывался простынёй и подсаживался к своим друзьям. Банным днём для него была пятница. Приходил он с утра, когда баниться собирались его друзья – пенсионеры. Среди них дед один был не покалеченный. У других вместо рук и ног висели култышки, да и у деда живот был обезображен грыжей. Санька учился во вторую смену и, захватив с собой портфель, чтобы не опоздать к занятиям, с удовольствием составлял деду компанию.
Старики тёрли друг другу спины, лупили в тумане парной вениками, потом в предбаннике пили пиво, шутили, но никогда не вспоминали войну. И обычно кто-нибудь обязательно подначивал Саньку:
— Ну что, спина у деда в кузне продубела? Небось, липой мочаль не мочаль, руки сотрёшь, а сажу не выдерещь.
— Да вы чо, он чистый! Самый чистый, чище вас, — защищал он деда.
— Молодец, за деда горой, — улыбался кривой и безрукий дядя Петя. – Хоть он у тебя что лещ копчёный. Его уж ничем не ототрёшь. Без духа калёного железа он уже не может. Его, как мух на мёд, в родную кузню тянет. – Дядя Петя хоть и улыбался своим одним глазом, но говорил это с грустинкой. А Саньку при случае старался как-то погладить или украдкой сунуть ему конфету. Семья дяди Пети погибла в Сталинграде, и, отлечившись в госпитале, после победы над Японией, он остался на Дальнем Востоке. Подальше от мест, над которыми не осталось даже родимых могильных холмиков…
Сейчас Санька толкать лопату не стал. У него возникло желание всю обиду, всю злость смешать со снегом, и он, став на средину плаца, принялся со всей силы грести снег в сторону стадиона. Во всю отмашь работая лопатой, он скатывал небольшую снежную насыпь. Пройдя до конца территорию своей роты, он повернул обратно, продолжая со злостью проталкивать снежный валик дальше. С каждым движением он чувствовал, как обида и пришедшая ей на смену злость уходят в снежную насыпь, и появляется болящее желание работать, чтобы до прихода ребят успеть столкнуть снег с плаца. Когда половина была сделана, он услышал за спиной:
— Не надо его искать! Я же говорил, он здесь.
В голосе звучала радость. Кричал Витька. Он подбежал и стал впереди.
— Давай лесенкой. Я сначала, а ты за мной. Быстрее будет. А то этот кулак Яковлев опять на тебя бочку катит. Говорит – забился куда-нибудь и плачет. А я им доказывал, что ты уже здесь.
Скоро показались остальные. Их воинственно вёл Серёга. По его лицу, сплошь покрытому пятнами веснушек, было заметно недовольство.
— Ну вот, мы его обыскались, а эта жаба здесь. Сколько времени потеряли. А время – деньги. Давно бы всё убрали и сидели бы у телека. А я бы на секцию бокса не опоздал.
Санька молчал, продолжая двигать вперёд снежный брусвер..
«Только бы не завестись. Только бы не слышать всё это, что выливает на него сейчас Серёга».
Молчали и остальные.
— Кто тебя просил говорить о Володе Зайцеве? Теперь Сорокин сбегает в политотдел или накапает командиру четвёртой роты. И всё, нам теперь заменят вожатого. А вместо него пришлют какого-нибудь, кто только на сборы будет являться раз в месяц или ставить пиявки не хуже Воробья.
— Вот именно. Мы все молчали, а ему только стучать, — вслед за Серёгой подал голос Рустамчик, который ни звука не произнёс ни в спальне, ни в канцелярии.
Санька не терпел Рустамчика. Рустамчик всегда молчал и, приглядываясь ко всему, постреливал своими чёрными глазками. Но стоили кому-нибудь в чём-нибудь провиниться и остаться в одиночестве, вот тут-то он подавал свой голосок. Говорил он метко, будто в тире лупил по десяткам. Слово его всегда было последним, поэтому било хлёстко и больно. Ещё больше Санька не любил его за хитрости на уроках. Стоили кому-то задуматься у доски, как Рустамчик оживал, тянул руку и во весь голос, чтобы слышал преподаватель, громко и чётко подсказывал. Отвечающий, если и пользовался подсказкой, терял балл, а Рустамчика, как знающего урок, вызывали к доске, и он отвечал на пятёрку.
Вот и сейчас Рустамчик почувствовал, что подоспело его время, и после сказанного блестящими преданными глазками уставился на Серёгу.
— Вот именно, стукач, — качнул головой Кулак.
Рустамчик разлился в преданной улыбке, будто ловко опять украл пятерку.
Санька молча продолжал толкать валик, всем видом показывая, что слова не задели его.
«Только бы ничего не отвечать, только бы не сорваться. Не налететь с кулаками. Ну кто они такие? Серёга – какая-нибудь звезда, испускающая ядовитые лучи. А Рустамчик? Наверно, какая-нибудь блуждающая планета, которая прилипает к другим планетам и захватывает их тепло и энергию. А для этого пользуется защитой других злых космических тел, чтобы суметь перехватить как можно больше энергии у других. А есть ли такие тела в космосе? Наверно, есть, космос бесконечен.
— Молчание – знак согласия, — подхихикнул Рустамчик.
Ребята уже приступили к работе. С одной стороны, где снега было больше, работало четверо, а с другой, где Санька и Витька – три человека. Рустамчик стоял и прикидывал, к какой стороне ему присоединиться.
— Значит, молчание – знак согласия? – не дождавшись ответа, продолжал хихикать Рустамчик.
— Ну ты, подвывало, — Витька бросил лопату и, сжав кулаки, пошёл на Рустамчика. – Защёлкни свой грязный клюв, ты что Саньке «стукача» приклеил? Где он тебя заложил? Кого он застучал?
— А сегодня Володю Зайцева, — приторно улыбался Рустамчик. – И что я? Это Серёга начал.
— Да он с Володей сильнее дружит, чем ты. Серёга на секцию бокса опаздывает, и ему всё равно, на кого валить своё опоздание. А ты чё на Саньку? А ну извинись перед ним!
— Ещё чего! –зло сверкнули чёрненькие глазки Рустамчика.
Тогда Витька, который был ростом с Рустамчика и никогда не показывал свою силу, вдруг легко схватил его за шиворот, пригнул голову к земле и потащил к Саньке.
— Жри снег и клянись, что больше не будешь…
Рустамчик вдруг взорвался, забрыкался, замахал руками:
— Пусти!
Но Витька стянул ему на шее гимнастёрку и продолжал тащить к Саньке.
— Пусти! – орал Рустамчик. – Пусти, гад!
Витька навалился на него всем телом, завалил в сугроб и, окуная головой в снег, зло выкрикивал:
— Ешь снег и клянись! Клянись, что не будешь! Ешь и клянись!
— Хватит! Хватит! – подбежал Санька. – Ну его к чертям, — и попробовал оттащить Витьку.
Подбежали остальные и тоже начали разнимать. Витька неистовствовал. Он продолжал толкать Рустамчика в сугроб. Тем более Рустамчик тоже не мог успокоиться. Он орал, как резаный:
— Пусти, гад, пусти!
И тут сильные руки подняли обоих, поставили на ноги и развели в разные стороны. Произошло всё неожиданно, и Рустамчик, ещё не соображая, что случилось, продолжал лопатить воздух руками.
— Успокойся, зашибёшь!
Санька поднял голову. Витька и Рустамчик висели в руках у Володи Зайцева.
— Что за пожар на снегу?
— А чего он в сугроб толкает, заставляет его жрать и ещё перед этим извиняться, — показал Рустамчик в сторону Саньки.
— Не надо «стукача» клеить, — спокойно сказал Витька. – Хотел, чтобы он извинился перед Санькой, а он распсиховался. Какой он нервный. Как подвывать, так спокойненько, а как извиняться – так психовать.
Володя, державший Рустамчика, выпустил его, как показалось Саньке, небрежно и даже брезгливо. Потом задумался, и тихо сказал:
— У всех народов во все времена было два самых страшных слова – трус и предатель. Хотя предатель – тот же трус. И если ты обвиняешь своего товарища без повода в предательстве, то это та же трусость и то же предательство. Он тебя предавал?
— Меня нет! А тебя – да! – зло стрельнул глазами Рустамчик.
— Но если меня, то я сам разберусь. Мне такие защитники не нужны.
— Он не предавал, — сказал Витька. Он, наоборот, хотел тебя защитить перед командиром роты за то, что мы Воробья между окон зажали. Он хотел сказать, что Воробей не такой уж хороший, что он тебе синяк поставил. А Сорокин сказал, что ты нас науськиваешь, и постарается сделать так, чтобы ты вожатым у нас не был. Вот и всё…
После Витькиных слов было видно, как Володя погрустнел:
— Значит, сказал, что я не буду у вас вожатым? Ладно, сам разберусь, — и, повернувшись к Рустамчику, добавил: — Шадрин, наверно, прав. Тебе бы надо извиниться, — потом взял валявшуюся лопату Рустамчика и встал в самом конце лесенки, чтобы сталкивать скопившийся снежный валик с асфальта.
Рустамчик остался один на чистом от снега пространстве, между двумя снежными полосами и, сжавшись, как от холода, посматривал то в одну, то в другую сторону.
Давай поможем!
Последние две недели Волынский непонятно изменился. Осталось всё: и волны длинных волос, и мятый костюм, и пуговица на нитке, и всплеск рук как отражение вулкана чувств, и восторженные слова «Музыка – это прекрасно!» Но теперь он не крутил пластинки, а без перерыва, от звонка до звонка, заставлял взвод разучивать песни. Их было три: «Марш суворовцев» на слова и музыку самого Волынского, которая начиналась замечательными стихами: «Взвейтесь, соколы, орлами, то суворовцы идут…», и ещё две: «Шли домой с войны советские солдаты» и «Летите, голуби, летите» или, как её называл учитель, «Песня мира». Песни учила вся рота. Пели с наслаждением, поэтому уроки пролетали быстро. Даже Валера Галкин не отвлекался, потеряв надежду найти что-нибудь в чернильнице. Можно было его несчастье отнести на счёт зимы, из-за неё ротный биолог Гриша Голубков, если бы его тоже не захватала музыка, и среди зимы нашёл бы чем заполнить чернильницу: мокрицами, тараканами, на худой конец, маленькой мышкой. Но ему так глубоко запала в душу песня про голубей, что он только и знал, как отправлять их в стремительный полёт. Мурлыканье его доносилось из сушилки, где он отлавливал очередную мышь в самозахлопывающуюся мышеловку собственной конструкции.
Когда суворовцы окончательно пропитались словами и музыкой, Волынский торжественно объявил, что отныне репетиция переноситься на сцену клуба, и в концерте художественной самодеятельности училища, кроме Витьки Шадрина и запевалы Валеры Галкина, будет участвовать вся седьмая рота. Она выстраивалась на сценической лесенке, и с самой вершины смотрела в зал карандашная шеренга – ротный хвост. Слева от Саньки поблёскивал кошачьими глазами Гриша Голубков, справа тёрся о Санькин рукав Витька Шадрин, дальше – крепкий и круглый Вовка Розов, ещё дальше – печальный и рыжий Толя Декабрёв и остальные.
Музвзвод сидел в широкой оркестровой яме, и Санька с высоты положения видел, как в её глубине взмахивает руками майор Шабурко, как сверкает золотой зуб барабанщика Пети, когда он со всего маха вбивает всю удаль в бедную ослиную кожу, должную сносить муки ада после утери своего хозяина.
Витьке после первых репетиций петь наскучило, и он уныло и беззвучно открывал рот, а в перерывах между песнями теребил Гришу Голубкова:
— Ну что это за песня без декораций? Поём про голубей, а у нас не то что птиц – картинки про них нет. В зелёных Гришкиных глазах сразу появлялись блёстки и, казалось, его зрачки превратились в кошачьи палочки. – Гриш, на фестивалях после этой песни тысячи голубей выпускают, а у нас – скукотища.
— А где сейчас голубей отыскать? Вместо голубей, хочешь, мышей пустим?
— Гриш, ну ты даёшь! От мышей ползала разбежится! Мы-то с твоими шуточками знакомы, а что сказать о слабонервных женщинах, преподавателях или девчонках, которые в ансамбле танцуют. Они с твоим зоопарком не знакомы. От них только визг останется. А голуби, знаешь, как красиво? Это тебе не мухи в чернильнице.
— Ладно, — не выдержало Гришкино сердце. – Надо где-нибудь раздобыть сеточку или клеточку какую-нибудь на силки. Я подумаю.
Санька видел, что на протяжении всей репетиции и даже во время разговоров Витька вглядывался в зал, пытаясь увидеть кого-то в темноте. После одной из репетиций он грустно шенул:
— Почему она не пришла? Почему? Без неё на танцы не хочется?
— Кто, Танечка?
— Сам ты Танечка, — взвился Витька. – Будто не знаешь кто. Лида! – он снова опустился до шёпота. – Понимаешь, не только мне без неё скучно. Раньше из первой, второй, третьей роты приходили, даже если в концерте не участвовали. Приходили просто так, поболтать. А сейчас заглянут в клуб, постоят, посмотрят и уходят. Почему она исчезла? Даже Володя Зайцев в самом конце приходит. И танец без неё не танец. Раньше уборщицы клубные засматривались, когда она на сцене кружилась, и на репетициях нам хлопали. А теперь только ругают, что дверьми хлопаем и ноги не вытираем. Никто ничего не знает. Девчонки не говорят, видно завидуют. Кто-то сказал, что она то ли болеет, то ли в театральное училище готовится.
Сань, ты не знаешь, почему другой девчонке, ну хотя бы этой Танечке, в глаза смотришь, и хоть бы что. У других тоже глаза голубые, карие, зелёные, а смотреть не интересно. А тут, как на солнце, впрямую смотреть нельзя, а со стороны не оторвёшься? А когда она подойдёт и скажет: «Здравствуй, Витенька», а после танца ещё и обнимет: «Сегодня ты был лучше всех» — прямо летаешь. Бьёшь со всей силы каблуком о сцену, чтобы тебя ещё раз обняли и сказали: «Молодец, Витенька, хорошо танцуешь». После этого с репетиции уходить не хочется, и на следующую, распустив паруса летишь. А сейчас как солнечное затмение наступило. Нет её, и танцевать не хочется с этой капризной Танечкой. То её не так возьмёшь, то не так руку подашь, то не так ей улыбнёшься. Ох, кикимора запечная… Откуда она взялась на мою голову? Так и поставил бы пиявку, но ведь она девочка. – На слове «девочка» Витька присел и, сделав глубокий реверанс, взмахнул шапкой так, будто у него в руках была огромная мушкетёрская шляпа с перьями.
— Если б ты, Санька, знал, как мне без неё… А ещё она говорила, что женится, то есть выйдет замуж за меня. Но, наверно, шутила…
— Шутила? – Саньке почему-то были неприятны эти слова. Даже в глубокой для себя тайне он не сознавался, что тоже хотел бы увидеть Лиду где-нибудь случайно, в зале, но так открыто, как Витька, он говорить не мог.
— Да, шутила, потому что говорила и смеялась. Когда такое говорят, то уж точно не смеются. Либо за сердце берутся, либо глаза закатывают. Сам в кино видел. И такое состояние, что после сказанного либо надо в обморок упасть, либо убить тут же на месте её или того, кто мешает.
— Убить? – думал о своём Санька.
— Нет, не обязательно до смерти, но зарезать, точно. Ножом или саблей какой-нибудь. Но ты бы видел, как он мучается.
— Кто? – Санька почувствовал, что Витька повернул разговор на другое, хотя догадывался, кто.
— Ну и бестолковый же ты! – взорвался Витька. – Ты что, совсем ослеп? Ты что, не видишь, как Володя переживает? Ты бы видел его глаза? Почему так? Почему она его не замечает? Почему все вокруг неё, как бабочки у фонаря, а он в стороне и подойти боится. Почему она не хочет видеть, а ведь он такой добрый. А может, за его доброту ему и попадает?
— Но я не хотел… — покраснел Санька.
— Да я тоже не хотел, — сознался Витька. – А его на комсомольском собрании разбирали за тот случай с Воробьём. Сорокин всё-таки сходил в политотдел и доложил.
— А ты откуда знаешь?
— Кадеты из Володиной роты говорили. Я слышал. Только ничего ему не сделали. Доказали, что он не виноват, а ещё наш капитан Баташов ходил на собрание и сказал, что мы из преданности ему…
— Вот, значит, разобрались, — улыбнулся Санька.
— Но он переживал и говорил: «Пусть наказывают, только всё равно, если даже вожатым не будет, то суворовцам из седьмой роты будет другом и будет помогать». Он сказал, что им одиноко в училище, пока они без мам привыкнут.
— Так и сказал?
— Да, сказал, что ни за что не бросит. А ещё говорил, что Воробьёва мы правильно наказали. Сам виноват. И между окон сам залез.
— Может, ему как-нибудь с Лидой помочь? – Санька понимал, что вопрос этот глупый. Если кто-то кому-то не нравился, то тут ничего поделать нельзя.
— Слушай, какая хорошая идея! – вдруг подпрыгнул и хлопнул в ладони Витька. – Действительно, надо что-нибудь придумать. Ведь она просто не видела, не встречала, не разговаривала с Володей. А стоит её только с ним познакомиться, она сразу поймет, что это хороший человек. Она сразу в него влюбится, и тогда всё будет нормально. Я уверен, что надо только что-нибудь сделать, разработать план, суметь организовать свидание, тогда всё будет в порядке. Санька, молодец! Как ты всё хорошо придумал! Всё, сегодня же начинаем. А когда у них всё наладится, он на ней женится, тогда только мы им откроем, что это мы им наладили такую счастливую, такую прекрасную жизнь. И они нас будут благодарить и на чай с тортом приглашать. Да, Санька, здорово. Вот увидишь, всё будет отлично! – И только на миг Витька задумался. – Эх, жаль, что Лидка выйдет замуж не за меня, но Володя прекрасный человек, и ей с ним будет хорошо.
План действий
Всю самоподготовку Витька на удивление сержанта Чугунова сидел тихо и, обложившись учебниками, что-то старательно записывал в клеточки тетради. Когда Санька заглянул через плечо, тот старательно, как девочка-отличница, закрыл тетрадку рукой, но потом отодвинулся. Санька увидел выведенный крупными красными буквами «План любви» и поморщился.
— А по-другому твой план назвать нельзя?
— Можно, — легко согласился Витька. – И мне это название уже не нравится. Лучше – «План знакомства», но долго переписывать. И так полчаса с заголовком провозился. Но пока не мешай, после вечерней поверки я окончательно всё продумаю и покажу.
— Ладно, — отодвинулся Санька, — и хотя любопытство распирало его, за последние часы самоподготовки и за всё время ужина в столовой он не проронил ни слова. И только перед вечерней прогулкой, на которую уже разрешалось надевать шинели, он обратился к Витьке:
— А зачем ты берёшь полотенце?
— Это шарф, — важно приложил жёсткий, в квадратиках, как тетрадный лист, кусок материи к шее. – Мягко, тепло и красиво. И сукно воротника не трёт. – Аккуратно обмотав вафельным полотенцем шею, он надел шинель и попросил Саньку посмотреть, не видно ли «кашне» из-под воротника. Санька поправил кусочек вафельного шарфа, и на этом их разговор закончился.
Поверку проводил майор Сорокин. Сержанты были в вечерней школе на занятиях, и рота, в предчувствии бесконтрольного со стороны командования вечера, удивительно спокойно вела себя в строю. Никто никого из второй шеренги не толкал, не щелкал по ушам впереди стоящих. Все берегли силы.
В конце поверки командир роты приказал всем вымыть ноги, ещё раз объявил, чтобы никто не брал шинели укрываться, и после отбоя, побыв ещё минут десять в роте, оделся, поправил перед зеркалом шапку и вышел, попрощавшись с дневальным.
Только за ним захлопнулась дверь, как из первого взвода раздался звенящий от радости крик: «Ушё-ё-ё-ёл!», который тотчас же подбросил роту с кроватей.
Минут пять рота готовилась к основному, запланированному в коридоре действу: кто тащил шинель из раздевалки и старательно втискивал её между простынёй и одеялом, кто тщательно скручивал полотенце «в морковку». Для этого требовался напарник, который держался за середину верхнего края, пока второй закручивал полотенце с верхних краёв во внутрь. Получалась хорошая белая петля. Кто держал за край подушку, чтобы по единому сигналу броситься в коридор и в рыцарском подушечном турнире нанести сокрушительный удар противнику из другого взвода.
Санька, заправив шинель под одеяло, стал ждать Витьку, а тот с трепетом сжимал угол подушки. Потом, сгруппировавшись, яростно махнул в сторону противника.
Второй взвод, приняв этот жест за сигнал, с подушками и «морковками» с гиганьем и криками «ура!» выскочил на середину коридора и тут же столкнулся с первым и третьим взводами, тоже до зубов вооружёнными холодным постельным оружием.
В конце казармы наступал четвёртый взвод. И грянула коридорно-казарменная битва.
Спальню оглашали радостные крики, истошные вопли, зов на помощь и победный клич. Бой из коридора перекатился во взводные помещения, и уже не разбираясь, в темноте, свои лупили своих.
— На! На! – кричал Серёга Яковлев. – Получи! Знай наших! Знай второй взвод! – рубил подушкой, восседая на противнике.
— Ты что, Кулак? – истошно вопил под ним Борька Топорков. – Я же свой.
И Серёга добил бы свою жертву, если бы подушечный удар не смёл его с поверженного Борьки. Это Вовка Миронов мощным замахом сокрушил его.
— Ты что, Копна? – пробовал усовестить его Серёга, но получил удар подушкой от Борьки.
— Давай пробираться, — позвал Витька и, закрыв голову руками, двинулся через коридор по направлению к свету с площадки дневального. Санька спрятал голову в плечи и стал медленно протискиваться через плотную стенку боя, тут же потеряв из виду друг друга, получая спереди, с боков, сзади тяжёлые удары. Когда он оказался на площадке, Витька уже отряхивался от перьев и выплёвывал пух.
— Эх, жалко в такой момент уходить! Я бы сейчас первому взводу… Эх, вернуться бы? Может, вернёмся? – но тут же махнул рукой. – Нет, пошли!
В классе включил свет, достал тетрадку, сел за парту, пригласил Саньку.
— Садись, — и раскрыл тетрадку, в которой всё так же красовался заголовок «План любви».
— Вить, мне не нравится это, — тихо сказал Санька.
— Да что ты к названию привязался? Подумаешь, не нравится. Не название же главное. Главное – план. И красиво написано, зачем же переделывать? Мы ему и любовь организуем. Что же не нравится тебе?
— Не нравится мне кому-то и что-то организовывать, — вдруг неподдельно возмутился Санька. – Не нравится. Ну неужели ты думаешь, Володе нужно, чтобы ты ему организовал, чтобы ты его знакомил с Лидой? Если бы он сам захотел, то обошёлся бы без тебя. Он же смелый, с Воробьём, не побоялся и парашютист, а ты…
— А, много ты понимаешь! Там, может, и смелый, а подойти к ней боится. К ней многие подойти боятся. И я боялся бы. А если бы она знала про Володю, то влюбилась бы. Вот мы и должны их познакомить.
— Ну давай «План знакомства» хотя бы назовём, а то какой же это план?..
— Ну назови, я же не против! Только переписывать жаль. Видишь, какие большие буквы, и красиво, — возбуждение, рождённое подушечным боем, ещё не погасло в Витьке, и он продолжал яростно сопротивляться уничтожению своего «шедевра».
— А дальше, — придвинулся ближе Санька, — что дальше?
Витька распрямил свою худую спину, повернулся и принялся торжественно излагать свой план.
— Первое, надо написать Лидке письмо от Володи. Но не подписывать: пусть ей будет интересно. Потом написать ещё одно письмо. Указать только номер роты, и всё. Письма так два-три. Сначала она, может, не заинтересуется и наше письмо выбросит. Но потом ей всё же станет интересно. Тогда мы назначим ей свидание с Володей. И уж после этого она обязательно в него влюбится, и всё будет решено.
— Это всё? – Саньку удивил на редкость элементарный план друга. – Значит, ты всё время потратил на заголовок? В твоём плане письмо, ещё письмо и ещё… А потом встреча? Зачем надо было меня сюда тащить? Думаешь, твой план сработает?
—Это сейчас три пункта, — разбрызгивая негодование, подскочил Витька. – В моём плане было вначале пригласить её в кино, потом в театр, потом угостить газированной водой и пирожками, затем мороженым, но я решил пока это оставить, сейчас нельзя загадывать, как всё повернётся.
— Вить, ну а если она ответит, что тогда?
— Давай напишем ей наш адрес и подпишемся: «Суворовец В.».
— Почему «В», а не «З»?
— Про Зайцева она быстро догадается. А без тайны у нас ничего не получится.
— А как письмо писать?
— Ну, это проще простого. Столько книг о любви, больше чем о войне, и во всех письма, от которых сразу влюбляются. Найдём, перепишем. Получится.
Витька говорил так уверенно, что Санька понемногу начинал ему доверять.
«Может, так и нужно делать. Нужно писать, нужно влюблять, нужно организовать встречу».
— Всё-таки Лидка будет наша. И пусть не моя, не твоя, а Володина. И мы её никому не отдадим, если она даже не пожелает в училище приходить, если ей вздумается поступать в театральное, оперное или цирковое училище.
Внизу гремела битва. Шум, гам, крики пробивались на второй этаж. Но та победа, которую планировал Витька, стоила победы взвода на первом этаже.
Витька сложил тетрадку и внимательно посмотрел на Саньку.
— Что, согласен? Да?
Санька пожал плечами.
— Значит, согласен. Мы сделаем всё как надо. Они будут благодарны. Ну всё. – Витька засунул тетрадку в сумку сержанта и прихлопнул сверху. – Теперь давай вниз, и со свежими силами поможем нашему взводу добить первый и третий.
Но шум неожиданно погас, и в класс долетел металлический звон голоса сержанта Чугунова. Слов, в которые вкладывал возмущение сержант, разобрать было трудно, но Витька, будто обезьяна, подпрыгнул, прижал палец к губам и тут же выключил свет.
— Тихо спускаемся, прыгаем в туалет, а там переждём, — уже шёпотом сказал он.
Как по горной тропе, прижимаясь к стене, они миновали лестницу, проскользнули через площадку дневального, исчезли в туалете, но мгновенно были обнаружены.
— А, вот вы где, голубчики! Что вы здесь делаете?
Витька смущённо опустил голову и исподлобья взглянул на сержанта.
— Ладно, — понизил голос Чугунов, — если через десять минут не будете в постели, я найду, чем вам заняться.
Витька и вслед за ним Санька пробежали по коридору и, сбросив с себя одежду, юркнули в прохладные простыни, под тёплые шинели и одеяла, заткнутые под матрац в виде спального мешка.
В воздухе летал ещё не успевший опуститься пух, а рота уже ровно дышала, посапывала, не шевелясь на панцирных сетках.
В казарме властвовал сон, как будто десять минут назад здесь не было подушечно-полотенечного побоища. В глубине казармы кто-то сквозь сон звал маму.
Санька обнял подушку, подтянул ноги, закрыл глаза и провалился в пустой бесцветный глубокий сон до грубой и тяжёлой, как удар молота, команды: «Подъём!»
Спасибо, Александр Сергеевич!
Утренний подъём обычно проходил как в ускоренном кино.
Но на прогулку суворовцы выходили, толпясь на площадке дневального, и не торопились окунаться в холодный морозный воздух, который лохмотьями пара врывался в открытые двери. И тогда подоспевшая команда дежурного по роте «Выходи строиться» моментом смывала толпу на мороз.
На этот раз на площадке дневального не задерживались и под шинели полотенечные кашне не накручивали.
А в это время дежурные в спальнях выметали из-под кроватей пух, перетёртый после вчерашней подушечной рубки в белую пыль. Собрав прикроватные коврики, дежурные по спальне вытряхивали их, ругая кур за прилипчивое перо, а наволочки за то, что не смогли его удержать.
На утренний осмотр никто не опоздал. Знали, молчавшие до поры сержант Чугунов и прибывший на подъём старшина могли нанести сокрушительный удар подушечному войску нарядами на службу и на работу. Старшина придирчиво осматривал пуговицы и бляхи, подворотнички и сапоги, но не найдя ничего неподобающего внешнему виду суворовца, назначил по одному человеку с каждого взвода выбивать дорожки. Из второго взвода эта участь постигла Витьку, прятавшего голову во второй шеренге.
— Да я… — попробовал возмутиться он, но старшина строго посмотрел на него.
— Без тебя бы это мероприятие не началось.
Витька до самой столовой бурчал о несправедливости, о более важных делах, и только когда прогремела команда «Стой!», удивился:
— Ну и нюх у него. Как только обо всём догадывается?
— Да это ненадолго, я тебе помогу, — успокаивал его Санька.
— Да? Ненадолго? – возмущался Витька. – Уж если старшина возьмётся проверять, то дорожка должна быть как новая. А то будем вытряхивать её до самоподготовки, будем вылизывать языком. А ведь надо в библиотеку сходить, посмотреть как эти самые, ну… любовные письма пишутся.
После уроков четвёрка назначенных и пятый Санька скрутили огромную коридорную дорожку в толстый рулет и, взвалив на плечи, выволокли на улицу, ворча, что от пуха теперь не очистить суконную гимнастёрку, что на чёрном фоне пух будет выделяться не хуже мела на классной доске.
Дорожку расстелили, запорошили свежим снегом, потом, размахивая пушистым веником, размели снег в разные стороны. Повторив эту процедуру несколько раз, взялись за концы коврового полотна и, подняв её, резко опустили. Раздался хлопок, и две огромные волны, змеясь, побежали по ковру, встретились на середине и подняли её на высоту возмущённой пятёрки, вынужденной отдуваться за всю роту. Вероятно, неудовольствие передалось дорожке, и она резко взбрыкнула с себя снежный пух и пуховый снег. Через пятнадцать минут из казармы показался старшина в блестящих, чуть смятых сапогах, в шапке кирпичиком, с тремя рядами колодок и маленьким парашютом на гимнастёрке.
— Всё, вычистили, — кинулся ему навстречу Витька.
Старшина неторопливо прошёл вдоль дорожки и приказал последний раз засыпать снегом, вымести и расстелить в коридоре.
Витька первым схватил фанерную лопату и побежал за угол казармы, где лежал чистый снег. Через пять минут свежая с мороза дорожка легла на блестящий малиновый паркет, и Витька, надев через плечо сумку сержанта, бежал вместе с Санькой в библиотеку, здание которой примыкало торцом к казарме седьмой роты.
У первого подъезда Санька с трудом оттянул тяжёлую дубовую дверь, которую держала толстая, с любительскую колбасу, пружина.
Витька нырнул в прореху двери, Санька, шмыгнув вслед за ним, успел влететь в проём, пока дверь не захлопнулась, выстрелив крупнокалиберной гаубицей.
Преодолев два пролёта, на втором этаже уже Витька толкнул дверь. Она пропустила их в коридорчик, откуда направо можно было пройти в читальный зал, налево – в библиотеку. В огромном читальном зале сидело двое суворовцев. Старший, обложившись книгами, склонился над тетрадками и что-то усердно писал. Младший перелистывал подшивку «Крокодила» и тоненько хихикал.
В комнате, где выдавали книги, сидела полная женщина с широким красным носом и тёплыми добрыми глазами. В седых волосах невысокой стеночкой поднимался коричневый гребешок, а на плечах, будто разнеженный зверёк, повис толстый пуховый платок.
— Добрый день, мальчики, — заметно обрадовалась женщина. – Вы, наверно, в библиотеку первый раз пришли, — внимательно рассмотрев Витьку, сказала она. – А Вы здесь уже были, перевела взгляд на Саньку. – Сейчас я вам оформлю абонемент, — она вновь обратилась к Витьке, — а Вашему другу мы подберём что-нибудь фантастическое. Он у Вас фантастику любит? «Человек-амфибия», наверно, почитать интересно будет.
— Я кинофильм видел, — ответил Санька.
— Ну, тогда, может, «Человека-невидимку» Герберта Уэллса? – положила на стол тонкую книжку библиотекарша.
Санька стал послушно переворачивать страницы, с волнением ожидая, как библиотекарша среагирует на ту фантастику, которую попросит Витька.
— Ну а Вам, коль Вы к нам в первый раз, конечно же, хочется почитать книжку о суворовцах. У нас есть такая чудесная книжка, называется «Алые погоны». – Она взяла с полки пятого класса потрёпанную книжку с улыбающимися суворовцами в белых гимнастёрках на обложке и протянула Витьке.
— Нет, — мотнул он головой, не решаясь сказать, зачем они сюда пришли.
Санька заволновался, но библиотекарша, ничего не замечая, продолжала перечислять:
— Может, военные мемуары, или вот книжка тоже хорошая – «Сын полка», — снова потянулась она к стеллажу для пятиклассников.
— Нет, не надо, — тихо сказал Витька. – Нам что-нибудь про любовь…
Санька почувствовал, как бьётся его сердце, а что творилось с Витькой, можно было только догадаться. Он стал малиновым, как редиска.
— Так что вы хотели бы почитать? – будто не расслышала библиотекарша. – Из какой вы роты? – она ещё раз оглянулась на полку, где на картоне чёрными жирными буквами было выведено «Пятый класс».
— Про любовь, — опять тихо, но твёрдо повторил Витька. – Нас про любовь интересует. – Голос его, наконец, приобрёл уверенность, редисочная краска осталась только на щеках. – Мы из седьмой роты. Майор Сорокин наш командир.
— Майор Сорокин? – в голосе библиотекарши зазвучали нотки страха. Она втянула голову в плечи, и Саньке показалось, что маленькая коричневая крепость в её волосах утонула в причёске.
— Но мы седьмой роте никогда про любовь ничего не давали. Может, вам «Айвенго», или «Трёх мушкетёров», или «Капитана Сорвиголова»? Их все просят?
— А это про любовь? – уверенно спросил Витька. – В этих книгах имеются письма любимым девушкам? Нам надо учиться писать.
Голова библиотекарши ещё глубже утонула в плечах, и пушистое животное, казалось, сомкнулось на шее библиотекарши. Она снова глянула на полку для пятиклассников.
— Письма любимым девушкам? А вам позволяют такие письма писать? Вы уже про любовь проходили? Вы знаете, что это такое?
— Конечно, — отвечал Витька. – Нас учат по новой программе. На ботанике изучали про пестики и рыльца.
— По бо-та-ни-ке? – по слогам повторила библиотекарша и ещё раз посмотрела на стеллаж. – Хорошо, — медленно перевела она взгляд на полку для восьмого класса, неуверенно потянула к ней руку и достала небольшую потрёпанную книгу. – Вот, — протянула Витьке, — «Евгений Онегин». Там письмо Татьяны к Онегину. – Полистав книжку, положила между страниц закладку. – Пока это почитайте. То, что вам нужно.
— Но это стихи!?
— Да, но пока лучше ничего предложить не могу. Заходите в другой раз, Я что-нибудь подберу. Что поделаешь, — тихо сказала она, доставая карточку и заполняя её. – Что поделаешь, коль время пришло. Значит, надо читать про любовь. Может, потом военные мемуары захочется…
С лёгкой руки
Санька лежал на деревянном настиле и пытался вывести мушку на середину прицела, выровнять их, а потом эту чёрную расчёску из трёх прыгающих зубьев подвести под обрез тёмного круга. Он затаивал дыханье, пытаясь нажать кружок мелкашки, возлежащей на мешке с песком, но тут же всё сбивал. Витька уже выпустил три пули в кружок яблочка и нетерпеливо ёрзал рядом.
— Тяни, медленно тяни, плавно.
Но у Саньки ничего не выходило. Две пули уже, наверно, отправил в молоко или вообще за пределы мишени и теперь пытался спасти положение. А тут ещё всякие мысли лезли в голову и мешали сосредоточиться.
Ему было непонятно, как это Витька так легко, за полчаса, сочинил письмо Лиде и отправил его. После того, как письмо легло на тумбочку дневального, чтобы ротный почтальон отнёс его в библиотеку, а оттуда на почту, в Саньке что-то перевернулось. Как это просто: написал, положил, отправил. И жизнь, как дорога, развернулась и пошла уже не прямо, как раньше, а в сторону, вниз под уклон или вверх на сопку. Как у Витьки всё просто! Вот и сейчас выпустил три пули – и всё, свободен.
— Ну, стреляй же, — услышал Санька его шепоток. И тут же услышал сверху над собой голос капитана Баташова:
— Шадрин, не мешайте.
Санька подвёл эту неуверенную качающуюся расчёску под чёрное яблочко, затаил дыхание, потянул и… Выстрел прозвучал неожиданно, и от внезапности Санька машинально зажмурил глаза.
— Суворовец Соболев стрельбу закончил, — доложил он.
Санька стянул затвор. Капитан осмотрел патронник и скомандовал:
— Встать! К мишеням шагом марш!
Санька с мелкашкой через плечо направился к своей третьей слева, в тайне надеясь сосчитать там три пробоины, чтобы собрать восемнадцать баллов на троечку. Две он увидел сразу. Они рваными ранками застряли в молоке. Третьей нигде не было.
— Сань, смотри, у меня пятёрочка, выбил две девятки и одну восьмёрку. Глянь, какая кучность. Трёхкопеечной монеткой прикрыть можно.
Санька уставился на свои четыре очка – две двойки: одна вверху, другая внизу мишени, и грустно произнёс:
— И у меня тоже кучность. Две двойки.
Капитан Баташов подошёл к Саньке, внимательно посмотрел на щит и неожиданно похвалил.
— Одного врага уничтожил, двух ранил. Все три пули в мишени.
Санька не понял сказанного, пока капитан не крутнул мелом дырочку в чёрном диске.
— Девятка последняя. Молодец, не торопился. Лучше хоть в одного врага попасть, чем пули быстро от страха в воздух выпустить. Так что не спеши, быстро не всегда хорошо. Завтра мы возьмём духовые ружья и потренируемся после уроков.
Взвод возвращался в роту. Санька держал за ремень винтовку, отягощавшую плечо, но думал не о похвале капитана, а вспоминал вчерашний день и вечер.
Витька прочитал письмо Татьяны Онегину, сказал, что пойдёт, и стал переделывать. Его беспокоило только одно, как обратиться к Лиде. Он несколько раз черкал, писал, называл её то уважаемой, то многоуважаемой и, наконец, вывел:
«Здравствуй, дорогая Лида!» Потом была переделка пушкинских стихов, затем «суворовец В.» и адрес суворовского училища. Вот и всё.
Витька переписал от руки печатными буквами и так же квадратно подписал адрес на конверте. Адрес узнал у преподавателя танцев, попросил у него тетрадочку, будто для того, чтобы поздравить Танечку с днём рождения.
Евгений Эдуардович погрозил ему пальчиком:
— Ох и озорник ты, — а потом протянул тетрадку, в которой были сведения обо всех танцорах, и похвалил: — Танцы галантность воспитывают.
— А если не ответит? – сомневался Санька.
— Ответит! Ещё как ответит. Ей же интересно, кто такой суворовец В.. А не ответит, так ещё раз напишем…
Капитан Баташов остановил взвод у казармы и громко объявил:
— Сейчас английский, первая группа – в классе, вторая – в кабинете. После шестого урока никому не расходиться. Чистку оружия проведёт сержант Чугунов.
За любовь надо страдать
Перед уроком английского языка первая группа направилась через училище в лингафонный кабинет, вторая осталась в казарме. К урокам Ольги Михайловны готовились старательнее, чем к другим, и боялись её больше всех.
На перемене в классе стоял монотонный комариный зуд, где в зубрёжке перемалывались плохо запоминающиеся иностранные слова. И только двое не открывали специальных для суворовских училищ учебников английского языка, где вместо обычных школьников на страницах жили одинаковые симпатичные и аккуратные суворовцы, чем-то похожие на оловянных солдатиков.
На Витькино лицо будто наложили длиннющую улыбку. Он сиял, цвёл и в мечтах находился далеко от казармы. Вчера в нём проснулся поэт, который переделывал самого Пушкина. Теперь он видел своё имя в лучах литературной славы, а себя, может, даже на поэтический манер завитого, на обложках и разворотах книг, брошюр и журналов. Он представлял, как его биографию изучают в младших и старших классах, институтах и, конечно же, в суворовских училищах. А день рождения нового поэта он зафиксировал перочинным ножичком на внутренней стороне доски парты. В его мечте парта уже переместилась в дом или класс-музей, в котором произошло рождение поэтического гения.
Именно это рождение во втором взводе седьмой роты больше всего расстраивало Саньку. Как он всё-таки легко переделал стихи, и вообще можно, ли так делать?
Неизвестно, сколько Пушкин писал письмо Татьяны Онегину, но Витьке хватило полчаса, чтобы превратить его в послание Володи Лиде. Он с яростью набрасывался на стихи, резал, скручивал и выжимал из них содержимое, как воду после стирки льняной гимнастёрки, оставляя что-то серое и мятое.
Ломать он начал с первой строки и «Вы» тут же заменил на «ты».
— Володя не сержант, а она не суворовец, чтобы к ней на «Вы» обращаться. На репетициях ей «Вы» никто не говорил, — пояснил он. – Смотри, как здорово получилось:
Тебе пишу, чего же боле,
Что я тебе могу сказать?
Потом все женские окончания сменил на мужские.
Было: Сначала я молчать хотела,
стало: Сначала я молчать хотел бы;
было: Когда б надежду я имела,
стало: Когда надежду я имел бы;
было: Я никогда не знала Вас,
Не знала горького мученья;
стало: Я никогда не знал бы вас,
Но знаю горькое мученье.
Далее Татьяна хотела видеть Онегина в своей деревне. Вот здесь Витька задумался. Он долго перебирал и вместо деревни сначала поставил училище, но оно со строкой не вязалось, потом клуб, но он тоже не подходил. Стадион и спортзал вроде бы стихи не портили, но трудно было вообразить, чем бы Лида и Володя там занимались. Наконец его выбор пал на казарму, и в письмо легло:
— Хоть редко, хоть в неделю раз,
В казарме нашей видеть Вас.
Здесь он даже согласился для рифмы назвать Лиду на «Вы».
— Ничего, Лидка наша, она всё понимает и не обидится.
— Где видеть? – не выдержал Санька. – Утром на подъёме или вечером на отбое.
— А что здесь такого? – нисколько не смутился Витька. – Преподаватели в казарму на занятия к нам ходят, и завтра Ольга Михайловна на английский придёт. Правда, нас не спросит, мы на прошлом занятии четвёрки получили…
Дальше там, где Татьяна говорила:
— А мы… ничем мы не блестим…
Витька с Пушкиным поспорил:
— А мы все бляхами блестим,
Их асидолом чистим дружно.
Видно, он рассчитывал на то, что именно зеркало начищенной латуни, как блесна рыбу, привлечёт её…
Про то, что Володя обещал быть верным супругом и добродетельным отцом, Витька по настоянию Саньки вставлять в письмо не стал, сказав, что и так всё понятно.
Далее шло описание:
— Ты чуть вошла, я вмиг узнал,
Весь обомлел и запылал.
Потом он решился отправить письмо:
— Но так и быть, письмо своё
Тебе по почте отправляю.
Перед тобой я слёз не лью.
В твоей защите не нуждаюсь.
И наконец завершил словами Александра Сергеевича, который ещё в прошлом веке предугадал Санькино состояние по поводу данного послания:
— Кончаю! Страшно перечесть…
Стыдом и страхом замираю…
Но мне порукой твоя честь,
И смело ей себя вверяю.
— Вить, а может, не надо? – спросил Санька, когда тот торжественно продекламировал письмо.
— Что «не надо»? Уже всё решено, — возмутился Витька. – Или ты против? Или хочешь предать Володю? Ты же видишь, как он страдает. А может, сам в неё втрескался?
Санька молчал. Это «может, сам в неё…» ещё больше заставило сомневаться.
— А написано хорошо? – тараторил Витька.
— Не знаю, — и Санька действительно не знал. Ему было многое не понятно, и не мог всё так быстро, как Витька, решать.
Витьке всё легко даётся. Задачку решить? Пожалуйста! Тамара Александровна не успевает на доске написать, а у него уже в тетради готовый ответ.
Воробья между окон засунул, всё, не ходит Воробей, не ставит пиявки. По мишеням отстрелял? Пожалуйста! Три пули из мелкашки, как из автомата выпустил. Трёх врагов – наповал. А у меня только двое легкораненых и один уничтожен. А целился дольше всех.
Наверно, всё-таки Витька прав. Умнее он и быстрее всех делает. И не для себя же старается!
Когда дежурный на английском языке доложил, что группа к занятию готова, Ольга Михайловна повернулась к классу и щёлкнула каблуками. Затем поздоровавшись по-английски и, дождавшись «Гут монинг, комрад тыча», приказала: «Сит даун» — садитесь.
Во время войны Ольга Михайловна служила переводчиком в штабе дивизии. В суворовское училище была направлена после ранения и до пятьдесят первого года, когда одним приказом всех военнослужащих женщин сделали гражданскими, носила военную форму. С сожалением расставшись с нею, она всё так же правильно поворачивалась кругом и отдавала команды. Пятёрки Ольга Михайловна почти никому не ставила, даже отличникам.
— Повторим урок, — строго осмотрела она класс и остановила взгляд на Саньке. – Суворовец Соболев, Вы готовы?
— Ес, — ответил Санька и опустил голову. Он никак не ожидал, что его спросят. И ещё вчерашнее письмо. Он не читал текст. И ещё эти английские слова. Когда он произносил их, в горле начиналась непроизвольная дрожь.
— Рид зэ текст!
Он начал читать, с трудом ворочая языком, протаскивая его между зубов, поднимая к нёбу, заплетая в узел. Наконец, дошёл до того, что язык свело судорогой, и он стал заикаться.
— Не готовы, — заключила Ольга Михайловна. – Я же сразу увидела, что вы не готовы. Оценку ставить не буду! Один наряд вне очереди.
— Не имеете право, — подскочил из-за парты Витька.
— И вам один наряд вне очереди, — вытянулась по стойке смирно Ольга Михайловна. – Имею, потому что вы не имеете право не учить. Вы сегодня к уроку тоже не готовы.
— Да я готов, — дёрнулся Витька.
— Рид.
Витька начал и тут же запнулся.
— Вот видите, поэтому наряд. Надо на самоподготовке уроки учить, и не письма писать.
После английского в класс вошёл командир роты. Дежурный испуганно приказал:
— Встать! Смирно!
Но отдавая команду «Вольно», командир, розовея, пристально посмотрел на Саньку:
— За неподготовку к уроку английского языка Соболеву и Шадрину объявляю по одному нар-р-ряду вне очер-р-реди с субботы на воскр-р-ресенье.
— Значит, может, — грустно сказал Санька, — придётся нам с тобой отстоять.
—За любовь надо страдать, — тихо ответил Витька, — даже за чужую.
Любить не обязан
Санькины пальцы лоснились от оружейного масла. Металлическое жало шомпола и его деревянная ручка блестели от Санькиных замасленных рук. А он никак не мог нормально намотать ветошь на металлический прут. Тряпочка то спадала, то топорщилась култышкой на конце стальной палки и никак не лезла в отверстие ствола мелкашки. От обиды, от того, что у всех всё прекрасно получалось, и они заканчивали чистить винтовки, и от того, что он никак не мог справиться с проклятой тряпкой на конце шомпола, в уголках покрасневших глаз скопилась противная влага, и защипало в носу, а руки, как на морозе, задеревенели и стали непослушными:
— Соболев, вы хоть маме дома помогали? – услышал он голос Чугунова. – Ну как Вы накручиваете ветошь на шомпол?
— Помогал, — сквозь слёзы прошептал Санька. – Полы мыл…, — и, помолчав, добавил, — посуду… вытирал.
— Какие-то бабские дела. Посуду, полы, за хлебом в магазин. А дрова кололи? Огород пололи?
— У нас нет огорода.
— Потому и ветошь не можете на шомпол накрутить, сил нет. Вот так белоручками и становятся.
Сержант сдёрнул промасленный комок с конца шомпола, оторвал тонюсенькую тряпочку от куска старой простыни и туго обернул конец металлического прута. – Теперь понятно?
— Понятно, — тихо прошептал Санька.
— Чистите! А то посуду мыл, полы протирал… Тьфу. Дома их балуют, а здесь перевоспитывай.
Санька сжался от этих слов, да ещё услышал где-то рядом знакомое подхихикивание Рустамчика и «У, жаба» Серёги Яковлева.
— Продолжайте, — подал шомпол сержант.
Санька стал с усилием двигать шомпол по каналу ствола. Первоначально стержень ходил с трудом, но потом послышался лязг металла о металл. Он вытащил прут: ветошь осталась внутри. Он снова стал накручивать тряпку, опять получилось плохо. Комок не лез в канал. Он перекрутил, опять неудача. Все давно закончили, а у него не получалось.
— О-о-ох, — с раздражением выдохнул сержант. – Не могу спокойно смотреть на это. Свободны, ставьте ружья в шкаф. Соболев, остаться.
Когда оружейная освободилась, сержант сказал:
— Пусть Вам будет стыдно, что Вы отнимаете у меня время, которое я должен был потратить на подготовку к занятиям в вечерней школе. Я всё сделаю за Вас. Давайте винтовку и шомпол.
Санька прижал мелкашку к груди.
— Давайте, я Вам покажу, как надо делать!
— Не дам.
— Я Вам приказываю.
— Не дам, сделаю сам.
— Мне некогда ждать! И без того дел хватает.
— Не дам, — сильнее прижал ружьё Санька.
— Не давай, — услышал он Витькин голос. Тот остался стоять у шкафа.
— Вы почему здесь? Я же сказал, всем быть свободными. Это невыполнение приказа.
— Я ему помогу чистить, и освободим Вас. Сделаем всё быстро.
— Наказание с вами, — процедил сквозь зубы сержант.
— Хорошо. Даю вам десять минут, но если не успеете, то… — Сержант встал у окна и сложил руки на груди. – Давайте! А я посмотрю.
— Санька, бери затвор, а я попробую с шомполом. Смазывай в масле тряпку и три. Три сильнее, нажимай, чтобы блестел. А потом чистой тряпочкой протрёшь.
У Витьки всё получилось. Он легко накрутил ветошь на прут, а тот легко вошёл в ствол. Через минуту Витька сменил паклю, потом ещё. Протерев насухо тряпочкой, он макнул кусочек ветоши в баночку с маслом, задвинул затвор, смазал металлические части винтовки и легко доложил:
— Товарищ сержант, Ваше приказание выполнено.
Чугунов посмотрел на часы:
— Десять минут четырнадцать секунд. Я вас наказывать не буду, хотя вы просрочили с чисткой.
— Можете и наказать, — буркнул Санька, но тут, же почувствовал, как Витька дёрнул его за руку.
— Могу, но не буду. Вы сегодня уже своё получили. Можете быть свободными.
Витька схватил Саньку за руку и потащил из оружейной комнаты.
— Ну что ты лезешь! Что ты ему докажешь? Влепит он тебе наряд на работу, и всё. Тем более что сам виноват, с мелкашкой возился дольше всех.
— И буду драить, ну и что!
— Ну тебя! – махнул рукой Витька. – Вместе с тобой буду драить я или кто-нибудь другой? Прав тот, у кого больше прав. У Чугунова прав больше. Тем более… — Витька замялся.
— Тем более, он меня терпеть не может.
— Ну нет, просто не очень любит.
— Это точно, не любит.
И почему он должен нас любить? Что он нам мама, или папа, или бабушка? Он служит здесь три года, всё выполняет по уставу. Наказывает за дело. А в уставе не написано, чтобы кто-то кого-то любил.
— Мама да, — вздохнул Санька. – И дома всегда хорошо, тепло, не надо шинель под одеяло украдкой засовывать. И какой она вкусный борщ варит.
— Дома на зарядку не выгоняют и наряды не дают. А есть берёшь сам что хочешь и сколько хочешь, — продолжил Витька.
— И строем не ходишь. И если даже холодно, всегда можно печь потопить, и так тепло становится, что хоть в трусах спи. А мама придёт ночью с работы, зачерпнёт кружку воды из ведра, а потом ещё одеяло подоткнёт. Хорошо.
— Хорошо, — согласился Витька. – У нас ещё до обеда час. Пойдём к Володе. А то сейчас начнём про пироги, про пельмени, варенье, и совсем грустно станет.
У казармы четвёртой роты Санька вдруг остановился:
— Вить! Как надоело всё-ё-ё! Больше не могу. Хоть у него тут всё по уставу, но всё равно больше не могу. Я когда поеду на каникулы, останусь дома.
— И будешь спокойно ходить в школу? Будешь все насмешки терпеть, что струсил и не выдержал? И от кого, терпеть, которые даже одним глазком ничего этого не видели?
— Не знаю, буду. Здесь же терплю.
— Но это хуже, чем терпеть от Чугунова, от Серёжи, от Рустамчика. Здесь хоть есть за что, — и тихо добавил, — я как же я без тебя?.. Я к тебе привык, и нашему взводу на олин наряд в месяц больше прибавится. Тебя же не будет.
От этих Витькиных слов тепло разлилось в груди и поплавком поплыло к горлу. Глаза стали влажными. И слёзы были не злыми, не от обиды, а тёплыми, хорошими слезами. Хорошо, что ты кому-то нужен. Нужен ему, Витьке, и он не может без тебя. Он не по уставу к тебе хорошо относится, он просто без тебя не может, потому что ты рядом с ним спишь, учишься, ешь, потому что ты, Санька, его друг…
— Вы к кому? – спросил дневальный.
— К Володе Зайцеву.
— Сейчас, подождите, у них инструктаж. Занятия в парашютной секции.
Дневальный с чуть выдвинутой тяжёлой челюстью уставился через их головы в одну точку и будто окаменел. Витька прислонился к стене, а Санька встал рядом. Но выглянувший из-за двери спальни суворовец с широким раскрасневшимся лицом тут же оглянулся и крикнул:
— Зайцев, к тебе твои дети.
За дверями раздался частый топот, и на площадку выбежал Володя.
— Вы что здесь стоите? – Оглянулся на дневального. – Ты почему их не пускаешь? Здесь же холодно.
— Вы там занимаетесь, — всё так же продолжал гипнотизировать точку дневальный.
— Ну так отправил бы наверх, вызвал бы меня, ну что-нибудь сделал?
Дневальный буркнул, что и так у него дел хватает. Володя обнял ребят и повёл на второй этаж в класс.
— Хорошо, что пришли. Я сейчас закончу с парашютными делами и вернусь. Что-то серьёзное случилось?
— Да не очень, — замялся Витька. – Просто англичанка нам наряды объявила.
— Ольга Михайловна, — Володя не удивился. – И нам наряды объявляет. Да ещё проследит, чтобы в поставили, и спросит, как отстояли. Строгая женщина. Капитан запаса, немцев допрашивала. Я видел её военные фотографии. Молодая светловолосая кудрявая красавица. С генералами фотографировалась.
Говорят, что на допросе один эсэсовец выхватил у нашего офицера пистолет. Так она его на приём и через себя. Ключицу сломала. У неё ордена и медаль за отвагу.
— Смелая, — почесал затылок Витька. – А мы не знали.
— Героическая женщина, — улыбнулся Володя. – Мы на неё и не обижаемся. С такой можно и в разведку.
— Да, героическая! А ты хотел, чтобы она была у вас офицером-воспитателем? – неожиданно спросил Санька.
— Но… но она женщина. – Этого вопроса Володя не ожидал. И Саньке показалось, что он даже попятился. – Как же она на отбой и подъём приходить будет? А в баню? И офицером-воспитателем?.. Нет… Не хотел бы… Детей у неё нет. И без нас она не может. Нет, офицером-воспитателем не хотел бы. Очень строгая. Хотя заслуженный учитель. – Потом посмотрел на Саньку. – Тебя, наверно, здорово обидели. Только из училища уходить не надо. Не хорошо это. Будешь жалеть.
— Предательство? – тихо спросил Санька.
— Ну… знаешь… нехорошо. Здесь тяжело. Но те, кто ушли даже в первый год, жалеют. Лучше чуть потерпеть, чем жалеть потом. Мне тоже сначала хотелось уйти. Но правильно сделал, что не ушёл… А у меня радость. В воскресенье прыгаем. Но к вам я постараюсь после этого зайти и помочь убраться, чтобы наряд сдать.
— Не надо, — сказал Витька.
— Посмотрим, — положил ему руку на плечо Володя. У меня ещё одна хорошая новость. Тренер сказал, что в моём парашюте что-то есть. Он говорил, что таким парашютом будет легко управлять в бою. И со следующей недели мы возьмём несколько списанных и будем кроить действующую модель.
— И кто на нём полетит? То есть, кто с ним будет прыгать?
— Я! А кто же ещё? Я же его рассчитал, я и должен. Иначе, как доказать, что он пригодный для боя? Ведь мостостроитель ждёт под мостом, когда по нему движется первый состав. Так неужели кто-то должен рисковать с моим изобретением?
— Володь, а, может, мы чем-нибудь поможем тебе? – спросил Витька. – Может, что-нибудь надо шить или какие-нибудь узлы завязывать?
— Конечно! Конечно, приходите на следующей неделе…
И уже по дороге в казарму Витька сказал:
— Ну что нам этот наряд? Ну что нам Чугунов? Если бы не училище, где бы мы встретили Володю Зайцева?
— И Володю, и тебя, — тихо сказал Санька.
Дедушка заболел
Развод на субботний наряд проходил торжественно под оркестр. Торжественность, наверно, была необходима, чтобы заступившие в наряд на выходной день не чувствовали себя до конца ущемлёнными.
В эту субботу дежурным по училищу заступал начальник финансовой службы худенький старенький и остренький капитан Фёдоров. Лицо капитана покрывала сетка морщинок, в которую были пойманы белёсые испуганные глаза. Говорил он тихим, далеко не командирским голосом. Выстроившиеся на развод суворовцы старших рот шепотом переговаривались, и Санька услышал, что наряд сегодня будет спокойным, ночью дежурный проверять не придёт, и селектор не будет взрываться на всю роту и звать дневального, устраивая в казарме преждевременный подъём.
Когда капитан Фёдоров появился на плацу, заступивший дежурный майор из пятой роты прогорланил:
— Равняйсь! Смирно! Равнение направо! – и выбрасывая тоненькие ножки из-под массивного тела, обтянутого новой шинелью, двинулся навстречу.
Оркестр звонко брызнул встречным маршем. Чувствуя неловкость от оркестрового звона, капитан Фёдоров пригнул голову и, отдавая честь, приложил руку к шапке, будто хотел скрыться от шума и от устремившихся на него глаз развода. Но оркестр играл, сверхсрочник Петя лупил барабан, широко улыбаясь и сверкая золотым зубом.
Капитан Фёдоров приказал первой шеренге сделать два, а второй шаг вперёд и осторожно осмотрел дневальных. Никаких замечаний не последовало, и строй вернулся в прежнее состояние. Капитан Фёдоров приказал разводу пройти мимо него.
Шёл снег. Капитан пригнул голову и приложил руку к шапке, отдавая честь разводу. Казалось, он закрывается от снега и от строя.
Первым в наряде предстояло дежурить у тумбочки Жене Белову. Женя был единственным, кто сегодня заступил по роте в свой очередной наряд, и страшно жалел об этом.
— Другим везёт, за них назначают. А тут приходится идти за себя.
— Так твои же ребята стоять будут, — удивился Санька Жениной печали. – И тебе не жалко того, кто будет мыть площадки, кто за тебя будет изнывать у тумбочки, не будет спать, пока ты будешь дрыхнуть?
— Так ониже заслужили, — в свою очередь удивился Женя, — их же наказали.
— А если бы тебя наказали? Как тогда? Как бы тебе с субботы на воскресенье?
Женя поскрёб пухлую розовую щёку:
— Нет, не хотелось! Пусть лучше другим наряды объявляют, а я постараюсь, чтобы меня не трогали. Если постараться, то можно. Лично я у тумбочки ни за кого стоять не собираюсь. Вот только мне не везёт, за других-то стоят…
Следующим место у тумбочки занимал Санька. Женя с видом самого несчастного человека пошёл на площадку дневального. Остальные дневальные отправились на заготовку. По дороге Витька распределил все работы. Санька молчал. Вова Меркин из четвёртого взвода со скошенной на затылке головой и широкими зубами торопился и задавал вопросы. Вова был лучший в роте бегун, он каждый день тренировался, накручивая по стадиону круги, и мечтал стать олимпийским чемпионом, как Владимир Куц.
— Так, Вовка с Санькой, — давал указания Витька, — давайте сразу за тарелками, а я сахар и масло на всю роту получу. Надо быстрее заготовить, а когда рота будет есть, начинать убирать. Тогда в кино успеем. Хватайте алюминиевые тарелки. Берите все. Сколько нужно на роту, кладите на стул, остальные ставьте на стол.
— А зачем остальные? – спрашивал Вова. – Возьмём сколько нужно.
Витька сердито развёл руками:
— Если возьмёшь сколько нужно, кто-нибудь из пятой или четвёртой роты заберёт. А так только лишние отнимут. Или ты хочешь тащить толстые фарфоровые? Их больше четырёх штук не поднимешь. А алюминиевые хоть десять штук неси.
— А-а… — понимающе кивнул Вова. – Ну а зачем под стол прятать?
— Ты что совсем отупел, не понимаешь? Эти заберут, а те не найдут.
— По-онятно, — протянул Вова Меркин, — но зачем тогда лишние на стол ставить? Пусть все лишние и нелишние под столом стоят.
— А ну тебя, — махнул рукой Витька. – Если тебе фарфоровые тащить охота, ничего не делай. Ну что-то у нас должны забрать всё равно. Что-то мы должны отдать. Мы не седьмая, а не первая рота. Понятно тебе или нет? Солдатская смекалка, как говорит капитан Баташов.
— А, солдатская смекалка! – понимающе согласился Вова и такими туманными глазами посмотрел на Витьку, что тот скривился. Но вопросов больше не последовало.
В столовую они пришли первыми, и, когда со стеллажей посудомоечной схватили лёгкие алюминиевые стопки, повар тётя Катя крикнула с кухни.
— Давай сюда. Наперво вам из жестяных отпущу, — и потянула в окошко огромные полные руки.
Пока Санька подавал тарелки, подбежал Витька и озабоченно спросил, где хлеборезка тётя Лена.
— На месте, в своей конуре. Где ж её быть-то, — удивилась тётя Катя.
— Берите вилки, ложки и раскладывайте, — приказал Витька и побежал через столовую в другой конец стучаться в окошко раздачи хлеба.
Постучавшись в окно, он принялся ломиться в дверь, а когда и это не помогло, стал долбать дверь подкованным каблуком сапога. Хлеборезка никаких признаков жизни не подавала.
Витька озабоченно побрёл к официанткам, которые разливали молоко по стаканам.
— Где эта хлеборезка тётя Лена? – возмущённо прокричал он на всю столовую.
Официантки, пожав плечами и заверив, что никуда не выходила, окончательно повергли Витьку в сомнения. И тогда он вновь вернулся к двери, и вновь принялся её таранить.
— Вить, хватит, — подошёл к нему Санька, — лучше пойдём картошку тушёную получать.
— Но как же без хлеба, масла и сахара?
— Так её там нет.
— Нет есть, уверен!
— Так что ей там делать? Почему не открывает? – удивился Санька.
— Что не понимаешь что ли, маленький? – постучал Витька кулаком по лбу. — Обнимается!
— Обнимается? С кем? – опешил Санька.
— Как с кем, с солдатиком Петей, который хлеб на подводе развозит.
— С Петей? – не успел до конца осмыслить Витькину догадку Санька, как дверь хлеборезки резко распахнулась, и оттуда выбежала маленькая и худенькая тётя Лена. Она яростно, как орлица, налетела на Витьку, схватила его за ухо и потащила в зал:
— Дежурный? Дежурный? Где дежурный? Заберите хулигана!
Санька, всё ещё ошарашенный, машинально заглянул в дверь хлеборезки, там было пусто. Он побежал за тётей Леной и вцепился в руку, на которой, послушно, как котёнок у кошки в зубах, висел Витька, кривясь от боли.
— Отпустите, отпустите его! Ему больно, — кричал Санька.
Тётя Лена разжала руку, посмотрела Саньке в глаза и, казалось, проскрипела:
— А мне не больно? Думаешь, мне не больно от его поганого языка? – Опустив плечи, она побрела к официанткам, которые, разлив молоко, отдыхали за столом именинников и дежуривших в ротах офицерав.
Санька слышал, как она, чуть не плача, жаловалась:
— Щенок! Ох, щенок! С Петей целоваться! Надо же, с Петей целоваться. Да мой Коля на фронте погиб, а этот Петя для меня сопляк. Всю душу измотал, полчаса бился. А у меня работа точная – масло взвешивать.
Витька, разносивший на подносе тарелки с картошкой, тоже возмущался:
— Во-первых, обниматься, а не целоваться. А во-вторых, кто виноват, открыла бы, и всё. Не везёт нам. Теперь пожалуется Чугунову. Давай быстрее ешь и иди зови Женю Белова. Пусть поторопится, а то всё жалуется…
Когда Санька открыл дверь казармы, Женя радостно посмотрел на часы.
— Как хорошо! Вовремя пришёл, я ещё в кино успею.
— Иди, в роте кто-нибудь есть?
— Все ушли, только старшина.
Женя быстренько влез в родную шинель и, хлопнув дверью казармы, побежал глотать ужин, чтобы наскоро убрав посуду со столов, успеть в клуб до журнала. В казарме стало тихо и жутко. Откуда-то раздавался металлический звон. Сначала тихо, а потом звон стал усиливаться. Казалось, кто-то катит дребезжащую металлическую тележку. Санька и раньше боялся оставаться в казарме один. Один на один с огромным двухэтажным домом, где за каждым нечаянным звуком, рождённым падающими каплями в умывальной комнате или шкрябаньем мыши чудится что-то страшное и непонятное. Ночью страшно не так. Рядом за стеной спят суворовцы, сто человек. А тут – один в целом мире, и старшина, если и есть, то как на другой планете.
Звон не умолкал. Санька выглянул на улицу. Никого. Посмотрел через окно в спальню. Пусто. А тележка всё звенела и звенела, и кто-то её медленно тащил и совсем рядом.
Стало жутко. Он ещё раз выглянул на улицу. Падал свет, тускло светили фонари, и не понять, откуда доносился равномерный дребезжащий металлическими частями звук.
Тогда он заглянул в сушилку. Здесь звук был сильнее. Включил свет, и звук тут же отодвинулся к змеиным волнам труб. Он подошёл, приложил ухо: металлом звенели трубы.
— Дневальный, где вы? Почему ушли от тумбочки?
Санька вылетел на площадку и увидел, как старшина Горунов отодвинул её от стены.
— Смотрите, у вас здесь грязь. Плохо принимаете наряд. Возьмите веник и подметите. Даже письмо чьё-то завалилось. – Он поднял с пола конверт. – Что за неряха в наряде стоял? Письмо при нём за тумбочку завалилось, а он и не заметил. Ну-ка? – старшина придвинул письмо к глазам, вглядываясь в штемпель, — ещё позавчера пришло. Два дня пролежало за тумбочкой. – Повернул конверт лицом. — Так это же Вам. Будто специально дожидалось. Видно не зря Вас в наряд поставили, суворовец Соболев.
— Как раз в четверг объявили, — с грустью добавил Санька.
— Ну что ж, до свиданья. Несите службу хорошо, — попрощался старшина, и как только за ним захлопнулась дверь, Санька разорвал конверт и узнал родной, но трудноразбираемый, как электрокардиограмма, мамин почерк.
«Здравствуй, дорогой сыночек! – обращалась к нему мама. – Как тебе там в училище?..» Дальше она рассказывала обо всех, задавала много вопросов, и в конце сообщила, что дедушке стало ещё хуже, и его положили в больницу.
Дедушка заболел. Саньке сразу стало жаль деда. Ему показалось, произошло что-то страшное. И письмо пришло в тот неприятный день, шло три дня и два дня пролежало за тумбочкой.
«Дедушка болеет». Как это плохо, когда болеет кто-то из твоих родных. Может, у него просто ангина, грипп, или ещё что… Но так просто в больницу не кладут. Значит, серьёзно. Тем более, у дедушки ещё с войны ранения. Хотя, может, и не так страшно. Но написала письмо мама, а не отец. Значит, не просто. Раньше письма только отец писал.
Санька хотел открыть книгу, которую ему дал почитать Витька, но не читалось. «Дедушка заболел!»
Санька вспомнил их последнюю баню перед отъездом.
— Санька, не езжай в суворовскую школу. Санька, я всё копил деньги на дом, отдам их тебе. Купим пианино, будешь ходить в музыкальную школу. Не уезжай. Уедешь, и мы с тобой больше не увидимся. Я уже на пенсии, и сколько лет мне ещё жить-то?
— Да пусть едет, — говорил кривой дядя Саша. – Человеком будет. Нам не чета. Не надо будет молотом как тебе всю жизнь в кузне махать или как мне костяшками на счётах щелкать. Офицером будет, а то и генералом.
— Офицером! Генералом! А ты помнишь нашего лейтенанта, когда он нас в бой поднимал, а мы под огнём прижались к земле и не то чтоб вперёд, головы боялись поднять. Так первая пуля – ему. Офицером. Человеком. Не ходи, Санька, в суворовскую школу…
Мамино письмо задрожало в Санькиных руках. Может, и правда не надо было поступать в суворовское училище, а надо было послушать деда…
Ещё минута
Когда ночью в наряде приближается твоя очередь становиться к тумбочке, и отстоявший своё время дневальный направляется тебя будить, шаги слышны издалека, и кажется, что ты вообще не спал. Проснёшься и лежишь, втайне надеясь, что пройдут мимо, что это не за тобой, что это не тебя сейчас тронут и скажут:
— Вставай!
Санька услышал торопливую поступь ещё из коридора, но глаза не открывал. Когда Женя подошёл к кровати, осторожно стал вылезать из конверта. Он сел, натянул брюки, бездумно задержал сапог в руке, а потом стал быстро одеваться дальше. Когда вышел на площадку, Женя Белов стоял у тумбочки и ждал его.
— Давай часы, — зевнул Санька.
— А ты не торопись. Надевай шинель, здесь холодно. – Женя робко протянул часы на кожаном ремешке.
Стрелки старенькой «Победы» показывали без десяти час. Значит Женя поднял его за пятнадцать минут до срока…
— Зачем ты так рано разбудил?
— Я же не знал, что так быстро оденешься. Думал, пока потянешься, пока натянешь сапоги, вот и будет ровно час, — и, посмотрев на Саньку, добавил: — Хочешь, книжку дам. Очень интересная. «Капитан Сорвиголова». Будешь читать, и время пройдёт незаметно.
— Вот у тебя незаметно пролетело.
— Но у меня книжка кончилась ещё двадцать минут назад. А что я должен за тебя стоять? – противно скривил пухлый рот Женя. – Что я должен стоять, пока ты оденешься? Так что ли?
— Ладно, иди спать. Не надо за меня стоять.
— Ну ты почитай книжку, — виновато продолжал упрашивать Женя. – Очень интересная, про войну. Про буров и англичан.
— Ладно, иди.
Санька достал сложенное вдвое письмо и снова прочитал до конца. «Дедушка заболел». Саньке показалось, что мама написала эти слова большими буквами. Может, хотела выделить, чтобы он обратил на них внимание. «Дедушка заболел!»
Ему вдруг стало стыдно, когда дед, желая сделать Саньке приятное, достал из сарая старые удочки его дядьки, служившего танкистом в армии. Дед тогда сидел на завалинке двухэтажного барака, в котором они жили, пригрелся на солнце и задремал. Санька одну удочку прислонил к стене, другую стал разматывать, и вдруг первая соскочила и ударила деда по голове. Дед спросонья схватился за лысину и подскочил. Стало смешно, и Санька долго и глупо хохотал. Ох, как сейчас ему было стыдно за тот смех.
«Дедушка заболел, дедушка заболел, дедушка заболел».
Два слова крутились в голове.
Опять вспомнился спор деда с кривым дядей Сашей.
— Ну что на гражданке хорошего? А в армии – форма бесплатная, комнаты им, офицерам, дают меблированные: и диван тебе здесь, и фанерный шкаф, и кровати металлические. А в войну у них ординарцы были, и семьи их продаттестат получали. Не то что наши. А в гражданской жизни что, выучится, в бухгалтеры пойдёт, как я, или в кузню, как ты. А там, может, и генералом станет.
— Да я ему пианино куплю, — горячился дед. – Выучится, на пианино играть будет.
— Пианино! Пианино! Заладил! – возмущался дядя Саша. – Будет цельный день на счётах считать, костяшками щёлкать, а вечером на пианино «Амурские волны» играть…
«Дедушка заболел». Надо письмо написать. Санька осторожно сходил в спальню и взял тетрадь в клеточку.
«Дорогой дедушка, здравствуй, — писал Санька, — у меня всё хорошо, того и тебе желаю»… Санька писал о том, как ему хорошо в училище, как хочется каждое утро бегать на зарядку и закалять своё тело холодной водой, как нравится стрелять и получать хорошие оценки. Писал, что нравится английский, о том, какие вокруг хорошие товарищи, офицеры, старшина и, особенно, сержант Чугунов. А в конце просил: «Дорогой дедушка, выздоравливай и больше не болей».
Санька посмотрел на часы: оставалось тридцать минут. И тут почувствовал, что озяб, что ноги окоченели. Надел шинель и стал ходить, поглядывая на часы. На шинель ушло две минуты. Оставалось двадцать восемь. Он стал читать, но читать не хотелось. Стал смотреть на стрелку часов, но те двигались медленно, отсчитывая секунды. Может, считать? Осталось двадцать пять. Он принялся отсчитывать секунды, когда получилось триста, оказалось, считал в два раза быстрее. Как долго идут последние минуты. Принялся ходить по площадке.
А может, пора будить? Всё-таки следующий Вова Меркин, а не Витька. Пятнадцать минут на одевание. И тут же отругал себя за мелкую, противную, липкую мыслишку, заползшую в голову.
Вдруг в глубине казармы кто-то испугался во сне и стал настойчиво звать маму. И тут оглушающая мысль пришла в голову к Саньке. Ведь он один не спит, он поставлен к тумбочке, чтобы охранять сон ребят, и если что случится, скомандовать тревогу, поднять роту, вывести её из казармы. Ведь время сейчас не спокойное. Сколько баз вокруг страны и здесь, рядом: на Дальнем Востоке, в Южной Корее, в Японии?.. На всех плакатах нарисована наша алая страна, а вокруг самолётики, ракеты, кораблики…
Ещё с самого первого дня, когда он приехал в училище, его удивил плакат с огромными ярко раскрашенными в ряд ракетами США, Англии, Франции и в конце маленький зелёный солдатик. Они тогда ещё в карантине считали, сколько человек нужно поставить друг на друга, чтобы достать высоту самого большого «Минитмена» или похожей на ампулу «Поларис». Ракеты по их подсчётам были выше двадцатиэтажного дома…
«А какая будет сейчас война? – вспомнил дедушкины слова из спора с дядей Сашей. – Сейчас не снарядами воевать будут, как мы раньше, а атомной бомбой. До фронта не доедешь, заживо сгоришь, испаришься. И ударная волна сначала сомнёт, а потом мясо начнёт выдирать кусками из живого тела. А радиация? Если и останешься, то только мучиться, чтобы тебе кровь переливали. А кто её переливать будет? Санька, не ходи в суворовскую школу».
Он посмотрел на часы. Было две минуты четвёртого. Пришло время поднимать Вову Меркина.
Когда Санька залез в свой конверт, долго не мог уснуть. Ноги никак не могли отогреться под простынёй, шинелью и одеялом. Но он закрыл глаза, и последнее, что промелькнуло перед ним, это большие буквы из маминого письма: «ДЕДУШКА ЗАБОЛЕЛ».
Воскресные сюрпризы
А всё-таки воскресный наряд легче обычного. В столовой на одну заготовку меньше: сразу дают первый и второй завтрак. Обед начинается раньше – в четырнадцать, а не в шестнадцать тридцать, как в будни. Да и суворовцы, как правило, уходят из казармы, а если и остаются, то двигаются степенно, с некоторой ленцой. Поэтому и полос на кафельных площадках от резиновых подошв меньше, и казарму мыть легче после обеда, когда рота смотрит кино в семнадцать часов перед сдачей наряда.
Днём убирают только туалеты, проходят в спальне веником, дорожку выбивать никто не требует. Старшина отдыхает. И даже сержант Чугунов не такой строгий. Запрётся в преподавательской и делает домашнее задание. Всё-таки в этом году вечернюю школу заканчивает. И день сегодня солнечный. И главное, Витька успокоил с утра:
— Да мой дед знаешь сколько болел? И в госпиталях, и в больницах, и ничего. Ему даже аппендицит вырезали.
«Может, и впрямь не так страшно? – успокоился Санька. – Тем более письмо деду написал, и ротный почтальон вместе с немногими другими отнёс его.
В субботу писать ленились, поэтому пачка воскресных писем была толщиной с палец, зато в понедельник она полнела, и её трудно было взять одной рукой. Просто, наскучавшись в воскресенье и освободившись от недельной скуки, после обеда все вспоминали дом и садились строчить, выводить письма родителям.
Когда подошла Витькина очередь, он встал к тумбочке, мгновенно сник, заскучал, и его одолела зевота. Но тут из увольнения вернулся сияющий Володя Миронов, который ездил в деревню к родителям. Увидев зевающего Витьку, радостно посочувствовал:
— Что, не везёт тебе? А я дома был. Хочешь пирог? Мамка пекла.
Витька от пирога не оказался, но и допустить превосходства над собой не мог.
— Ну почему не везёт? – картинно удивился он. – У меня зато ответственное поручение. Старшина никакого не велел в сушилку пускать, кроме Гришки Голубкова.
— Подумаешь, больно надо! Что я лопаты да веники не видел! – Не оставлял своих позиций Володя.
— Как хош, — с видом превосходства произнёс Витька. – Просто там крыса с двумя хвостами поймана. В Гришкином капкане сидит, его дожидается. Старшина настрого приказал, чтобы до Гришкиного прихода я никого не пускал, потому как крыса эта представляет большую научную полезную ценность.
— Почему? – заинтересованно хихикнул Вовка, ни на грамм не веря Витьке.
— Почему да почему! Вопросы бестолковые задаёшь. А вдруг кто-нибудь раньше Гришки Голубкова захочет с голоду её съесть?
Вову от такого объяснения чуть не стошнило.
— Да ну тебя, — отмахнулся он и ушёл в спальню.
Но в глазах у Витьки появился блеск. Он громко, на всю казарму, позвал Саньку и попросил, чтобы тот принёс ему бумагу, карандаш и кнопки. Через пять минут на двери сушилки висело объявление:
ВСЕМ, КРОМЕ ГОЛУБКОВА, ВХОД В СУШИЛКУ ЗАПРЕЩЁН!
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
С этого момента дневальный превратился в строгого часового, приставленного к дверям сушилки, за которыми скрывалась тайна.
— Почему нельзя? – интересовались проходившие мимо.
Часовой всецело вошёл в свою роль:
— Не знаю… Не положено знать… Старшина не велел никому говорить… Иначе меня снова в наряд с субботы на воскресенье засунут… Это старшина приказал повесить.
— Что это?..
— Не положено говорить… Но только тебе и больше никому. Там крыса то ли с двумя головами, то ли с двумя хвостами, то ли с восемью лапами. Редкий экземпляр.
— А почему Голубков?
— Будто не знаете, — возмущённо разводил руками Витька. Он один с нею умеет обращаться. Больше никто в роте не будет её есть.
И все понимали, что Витька шутит, говоря о Голубкове, а в остальное верили. Не может же быть всё шуткой. Потому что во всякой шутке только доля шутки, остальное – правда. И шутка не остужала любопытство.
— Вить, ну покажи, ну что тебе стоит.
— Не могу, старшина сказал, что в наряд поставит.
— А за конфету или пирожок?
— Что я взятки беру? Нет, сказал, и всё. И вообще, старшина сказал, пока наряд не сдадим, пока не уберём – никого. Тем более, нам сейчас площадку мыть.
— Да мы поможем.
— Это только разговоры.
— Давай, если мы вымоем, ты нам покажешь?
Витька даже не ожидал такого поворота. Но путь назад был отрезан, и он, как в трясине, застрял в опасной игре. Кто бы мог подумать, что столько человек могли поверить его розыгрышу. На площадке собралось человек пятнадцать желающих увидеть чудо, поселившееся в роте. Вера в чудесное была настолько сильна, что никто не вспомнил, что старшина сегодня в роту вообще не приходил.
Тут же были наполнены все вёдра, и народ, охваченный безумным энтузиазмом в ожидании приближающегося зрелища, усердно драил лестницу, среднюю площадку, площадку дневального и туалеты. С Витькиного лица не сходила нервная улыбка, и Санька спросил его:
— Что ты будешь делать, когда они закончат мыть?
Улыбка тут же погасла, и он побледнел.
— Выручай! Срочно разыщи Гришку! Он, кажется, на чердаке в корпусе рядом. Бегом, иначе убьют.
— Может сказать, пока не вымыли?
— Всё равно убьют.
— Вечно ты заваришь какую-нибудь кашу, увязнешь в ней по уши, как потом отмыться, — вдруг неожиданно для себя возмутился Санька, хлопнув дверью казармы, и побежал на поиски Голубкова.
Он зашёл в подъезд, где находилась библиотека, поднялся по лестнице на чердак, приподнял дверцу и крикнул.
Гришка не заставил себя ждать, и его грязная, в пыли и паутине физиономия появилась в проёме чердачного колодца. Чёрная гимнастёрка была в пуху, зелёные кошачьи глаза горели охотничьим азартом. Гришка возбуждённо опустил в проём руку, и Санька увидел в ней сизого с перепуганными выпученными глазами голубя.
— Голубя мира поймал, — радостно выпалил он. – Видишь какой!
— Гришка, спасай, — взмолился Санька. – Витьку сейчас убьют.
Гришка всё понял, усомнившись лишь в том, что убивать будут сейчас, на посту:
— А вот после наряда действительно убить могут. Идём, — и сунул сизопёрого за пазуху.
Когда вошли в казарму, работа подходила к концу. Витькино лицо поблёкло, но он пытался улыбнуться.
— Спокойно, — шепнул Гриша. – Спасу.
— Ты всё же не торопись, — всё ещё пытался не потерять самообладание Витька. – Если даже не получится, казарму домоют.
— Домыть-то домоют, но за раз назло тебе испачкают.
Вскоре всё необходимое для сдачи наряда блестело. Народ с красными от холодной воды руками собрался около сушилки.
— Го-голубков, у тебя всё? – Витькин голос дрожал по-козлиному.
— Иду, — глухо отозвался из сушилки Гришка, и скоро он, светящийся радостью, появился с маленькой клеткой в руках. В клетке сидела мышь… с двумя хвостами.
Больше всех удивился Витька, такого он и сам не ожидал. Мышь была заперта в тесной клеточке, и один хвост у неё поднимался над другим. Толпа даже не стала возмущаться, что это не обещанная крыса, а всего навсего мышь. Настолько всё было необычно.
— Всё, — тут же взял себя в руки Витька. На этом кино заканчивается. Слабонервных просим удалиться. Гришка, неси зоопарк на своё законное место.
Все разбрелись, поражённые невиданным. Кое-кто даже позавидовал.
— Тут в увольнение ходишь, бестолку по городу бродишь, в очередях за мороженым стоишь, а этим в наряде так повезло. Мышь двухвостую поймать.
Скоро из сушилки появился Гришка, и Витька, не удержавшись, спросил его:
— Никогда бы не подумал, что такое бывает.
— Я тоже, — озабоченно сдвинул густые брови Гришка. – Хотя, что здесь особого. Просто две мыши нужны. Одна дохлая и одна живая.
И тут Витьке из-за своей же выдумки сделалось плохо, и он побледнел ещё больше.
— Но зато я тебе голубя мира нашёл. Смотри, какой, — достал он из-под гимнастёрки сизаря.
— Но он не белый, — подавил неприятное чувство Витька, — хотя зимой и такой сойдёт. Всё-таки не ворона.
— А чё, можно и ворону отловить, — пообещал Гришка.
Но и после того, как Гришка посулил ворону, день продолжал дарить сюрпризы.
Пришёл Володя и принёс конфеты по случаю своего первого прыжка. Он рассказывал, как сначала немного испугался, а когда летел, то даже пел песню…
А в самом конце дня пришёл почтальон Толя Мерченко и принёс письмо. Он протянул его Витьке:
— Библиотекарша сказала, что суворовец «В» это ты. Ты же её предупреждал?
— Да, я, — то ли обрадовался, то ли испугался Витька, ещё раз за сегодняшний день.
Ответила!
Письмо состояло из четырёх предложений:
«Здравствуй дорогой товарищ «В», — очень вежливо обратилась Лида, но потом вдруг неожиданно, как врач, поставила диагноз; – «В», ты – дурак и не лечишься. — Затем она спрогнозировала развитие болезни: – Хотя, если дурак, то это надолго. – И лишь в конце написала о себе: – А меня сегодня обидели, и было так грустно.
— Написала! Написала! – кричал Витька, будто получил добавку жареной картошки. – Всё-таки, написала, а я думал, не ответит.
— Ну что ты радуешься? – не понимал Санька. – Она же назвала тебя дураком, а через тебя Володю. Ну что здесь хорошего?
— Ничего ты в этих вещах не понимаешь, — счастливо улыбался Витька. – Подумаешь, дурак, ну и что? Ты вспомни все фильмы, которые смотрел. – Сначала – дурак, и ещё глазами сверкнут, отвернутся и пойдут, будто больше никогда не захотят с тобой встречаться. А потом к концу так влюбятся, что не оторвёшься.
— Ну это в кино, а здесь — Лида. Она не такая, — продолжал протестовать Санька.
— А кино с жизни снимается, иначе смотреть было бы неинтересно.
— Но ей было грустно!
— А мы её развеселили. Если бы она не захотела, она бы не ответила. А она ответила. Значит, заинтересовалась, значит, будет ждать ещё письмо, значит, ей не безразлично, значит она ответит.
— Вить, ну не надо. Зачем ты их сталкиваешь. Ну мы же их не спросили: ни её, ни его, и нужно ли это им?
— А ты знаешь, что им нужно? А почему бы им не попробовать встретиться? Встретятся и, если не понравится, разойдутся. Она-то вообще в училище не ходит.
Витька опять говорил убедительно, и Санька опять начинал с ним соглашаться. Он не мог, не знал, как возразить, что ответить? Он только чувствовал, что не надо. Но Витька, но Витька шёл, как танк, и остановить его было крайне трудно.
— Всё, сажусь сегодня же отвечать! Надо сходить и поговорить с библиотекаршей, может, у нее найдется ещё какое-нибудь письмо. Лидка скоро влюбится, скоро сама напросится на свидание, и тогда мы её с Володей познакомим. Эх, жалко, что библиотека уже не работает. Ладно, к Лыче схожу, он со многими девушками переписывается. Он может научить.
Лыча был не только Витькиным знакомым, но и соседом по двору. С Лычей они ездили на каникулы во Владивосток, и за три часа маленького путешествия Петька Лычев успевал перезнакомиться со всеми девушками в вагоне.
— Он может, — радостно захлёбывался Витька. – Знаешь, как у него всё здорово получается. Знаешь, как его девушки любят. Он к ним подойдёт, скажет два волшебных слова и всё, они в него влюблены, и он у них только адреса и фотографии берёт. У него этих фотокарточек целый альбом. Девушки все красивые, как киноактрисы. Вот жаль, его сегодня нет. Наверно, в увольнении.
Но Лычу они увидели в кино. Петька сидел, развалясь, на предпоследнем месте второго ряда, где должна была сидеть седьмая рота. Шинель его была свёрнута и отогнута, как офицерская. Чёрные волосы коротко подстрижены и набриолинены, жидкие усики подстрижены. Лыча поглаживал то одну, то другую щёку, то вытягивал подбородок и гладил под ним кожу.
— Ребята, давай сюда, — махнул рукой Лыча, увидев Витьку.
— А я думал, ты в увольнении, — удивился Витька.
— Не в увольнении, а в самоволке. Два шара по инглишу отхватил. Вон ротный Санеев пасёт, каждый час проверяет, чтоб в самво не ушёл. А я ему сказал, не уйду, значит не уйду. Не верит. Да если мне нужно будет, я ночью свалю или на неделе. Да и надоели они мне все.
— Кто, офицеры? – в Витькином голосе слышалась робость.
— Офицеры надоесть не могут. Кадеточки. Вот в воскресенье отдохну, а завтра от кого-нибудь опять письмо придёт.
— Лыча, помоги письмо девушке написать, — тихо попросил Витька и тут же оглянулся: не слышит ли кто.
Петька слегка улыбнувшись, посмотрел на Витьку.
— В седьмой роте девушка? Молодец! Хвалю! Наверно, хочешь, чтоб она влюбилась.
— Ну-у-у, — потянул Витька.
— Всё понял! Вопросов больше нет. Она блондинка, брюнетка, шатенка?
— Нет, у неё золотые волосы и глаза, как небо.
— Рыжая! – определил Лыча. – Рыжая – это хорошо.
— А может, не надо, — прошептал Санька.
— Нет, рыжие тоже красивые бывают. Не боись, не дрефь!
— А у меня письмо, – хотел похвастаться Витька, но Санька толкнул его в бок.
— Ты что толкаешься? У меня письмо из дома.
— Ну и как там погода во Владике? – поинтересовался Лыча.
— Погода ничего. Мама посылку выслала.
— Владик – самый лучший город в мире, — вздохнул Петька. – В морское имени Макарова пойду. Но ты как посылку получишь, земляков не забывай, — и вдруг встрепенулся.- О, мужики, хотите случай расскажу.
Этим летом мы ездили на спартакиаду суворовских училищ в Москву. Я там, в финале по боксу кадету из Орджоникидзе проиграл. Так вот, в одной парикмахерской я такую девушку встретил. У-у-у-у. – Лыча прижал руки к груди и закрыл глаза. – Она меня стригла. Ресницы у неё, во, — Лыча рыбацким движением показал длину ресниц на уровне среднего пескаря. – А глазищи голубые, голубые, во, — изобразил пальцами Лыча, и Санька подумал, что не всякий бинокль имеет такие широкие стёкла. – Так она своими ресницами хлоп, хлоп и сразу втрескалась. – Откуда Вы? – Ну, я:
— Смотрите на погон. Видите «Д» — Дальний Восток!
Тут она руками как всплеснёт, а в руках у неё бритва:
— Ой, там же медведи! Тайга! – чуть не зарезала со страху.
— Да, медведи, — говорю я. – А они у нас по училищу шастают. Мы им клички даём и из столовой хлеб с сахаром таскаем, чтоб с голоду не подохли…
Смотрю, моя парикмахерша побледнела. Ну, я дальше:
— Да что медведи. К нам тигры запросто заходят. Бежишь на зарядке, а он встаёт посреди дороги и зевает во всю пасть. То ли не выспался, то ли не наелся. Ты к нему подойдешь и скажешь: «Брысь, проклятая кошка! Марш в лес!» Так он ещё не торопится уходить, будто не боится».
— Тигры, — сказала она, и гляжу, вот-вот в обморок брякнется. А у меня к этому времени только половина головы стрижена. Ну, думаю, хватит пугать.
— Да что тигры, у нас волки в живых уголках у суворовцев пятого класса живут.
— Волки?
— Да не волнуйтесь, — говорю я ей. – У нас каждый охотник белке с пятидесяти метров в глаз попадает. – А женщины, сами понимаете, чёрт не разберёт. Загадка. Тут ей белок стало жалко. И я её: «Да что белки, знаете какие у нас трудные условия. Комары величиной с воробья. Сядет, присосётся, так на щеке — флюс!» А она…
— Товар-р-рищ суворовец, — неожиданно раздался над головой строгий голос Сорокина. – Не нар-р-рушайте форму одежды. Застегнитесь и идите на своё место. Здесь седьмая рота располагается.
— Да я к земляку, — начал медленно застёгиваться Лыча.
— Он к нам, — пробовал уговорить командира Витька. – Он нам письма помогает писать.
— Знаем мы ваши письма, — скороговоркой произнёс Сорокин. — Сначала письма, а потом компоты ваши выпьет.
— Компот?.. Я?... У них?.. – обиделся Лыча.
— Зачем… Зачем… Зачем сюда ходите? Идите к своим товарищам.
Петька Лычев, как-то грустно опустив голову, уже было побрёл в конец зала, но потом оглянулся.
— Вить, завтра приходи, я сегодня вечером подумаю.
В зале погас свет, по экрану покатился ящик со взрывчаткой. Начался журнал «Фитиль». Зал взревел от радости. Но если бы на экране высветился журнал «Спорт», зал бы от радости взорвался.
В ландышевом саду…
В понедельник до построения после уроков Витька успел сбежать в городок, где находились казармы трёх старших рот. Вернулся он запыхавшийся, в перекрученной шинели и сдвинутой на затылок шапке, звёздочка которой смотрела на ухо. Витька успел втиснуться в строй до команды «Становись!» и выдохнул:
— Санька, вот оно, письмо!
Но вынуть листок в клетку, подписанный гладким, будто закрученным в пружинку, почерком удалось только в клубе.
— Смотри, смотри, как здорово, — тихо, чтобы никто не слышал, начал он зачитывать выдержки из письма. – «Из моей памяти до сих пор не выветрился запах ваших нежных золотых волос». – А вот ещё, — раскручивал Витька пружинки Лычиного почерка. – «Я закрываю глаза, и мне кажется, что я до сих пор в ландышевом саду Ваших весенних волос». Или вот. — «Небо затянуто свинцовыми тучами, а я отдыхаю душой под небом воспоминаний голубизны Ваших глаз». – Ох, здорово. Я бы так никогда не сочинил. Лучше даже чем у нашего поэта из шестой роты Саши Коченкова. Помнишь, он свои стихи читал? Нет, так написать он бы не смог. А вот ещё, смотри: — «Я томлюсь желанием встретить Вас, но знаю заранее, что желание моё несбыточно. И что бы в жизни ни случилось, я наперёд уверен, что Вы, Лида, та звезда, которая однажды на заре вспыхнула на моём небосклоне, чтобы уйти с первыми лучами яркого солнца, осветив моё сознание на всю жизнь. Извините, что не могу раскрыться, но жизнь моя обречена тайной надеждой на встречу.
Вечно Ваш, суворовец «В».
— Ты что ему сказал, для кого пишешь? – Санька не понимал, зачем это: «Я до сих пор в ландышевом саду Ваших весенних волос» Лиде? Ведь её обидели. Ей грустно!
— Что я предатель? – взвился Витька. – Я только попросил письмо написать. При тебе не просил.
— А может, не надо такого письма?
— Да ты что? Ты думаешь, она не ответит? Ответит. Лыча сказал, всем такие письма пишет, и все отвечают. Он сказал, что они в эти ландышевые сады, как в сети, попадают. Лыча говорил, что он всем, кто просит, такие письма пишет и помогает.
— Вить, давай не будем?
— Но ведь мы решили. Всё, кончено, и больше не надо об этом. Я переписываю и отправляю.
До концерта оставалось три дня, и Волынский заставлял повторять каждую песню по пять раз. Он плавно водил своими огромными руками то поднимая песню на широкие ладони, то резко бросая её вниз. А под песню «Летите, голуби, летите» вздымал под потолок клуба.
— Смотри, — Витька кивнул головой, и Санька увидел, как Толя Декабрёв смешно надувался, прижимал кулаки к груди, поднимал левое плечо и прятал за него свою огненно-рыжую голову. Делал он это с таким грозным видом и так сердито смотрел в сторону учителя пения, будто хотел испугать и сдвинуть Волынского со сцены.
— Что с ним?
— В секцию бокса записался.
— А что же он на учителя пения?
— Да нет, он стойку отрабатывает. Теперь, Карпыч, берегись. Встретит, от него только пиявки останутся.
— Да не сможет он ударить.
— Как сказать, — хитро улыбнулся Витька и подтолкнул Голубкова.
— Эх, голубей бы сейчас, — крутился, как на иголках, Гришка.
— Да, сейчас бы они вспорхнули, — поддерживал Витька, когда Волынский, устав отправлять в стремительный полёт спутников и голубей, опускал руки.
Санька стоял и думал, что решит Лида, когда получит письмо про ландышевый сад её волос. От этого не хотелось петь мелодичную прощальную песню о голубях. «Летите, голуби, летите…»
Вдруг он увидел Володю. Вожатый сидел в глубине зала, наклоняясь вперёд и положив руки на спинку переднего кресла.
— Вон, видишь, — будто прочитал его мысли Витька. – Видишь? Сидит и ждёт? А ты говоришь, писать не надо.
— Вижу, — ответил Санька. – Вижу, не может, но не надо про ландышевый сад.
— Ну нет, — уверенно сказал Витька. – Лыча знает, что делает. Уж опытнее его во всём училище никого нет.
Кто я такой?
Занятия по физподготовке проходили в огромном гимнастическом зале. День был яркий. Солнце через огромные зарешёченные шведскими стенками окна широко входило в спортзал, помогая висевшим под потолком батареям согревать его. Занятия проводил коренастый и плотный майор Иванов.
Санька стоял перед козлом и всё не решался прыгнуть.
— Ну что ты в чехарду никогда не играл? – Спрашивал преподаватель. – Саша, это же просто. Быстро бежишь, набегаешь на мостик, а он подбросит. Тебе лишь останется оттолкнуться руками, и ты на матах. А там уже не твоя забота, только перелетай, я поймаю. Козёл, правда, высокий, но это требование для всех. Так что давай, старайся и не бойся. Давай.
— Не бойся, — из строя долетел Витькин шёпот.
Санька закрыл глаза и сжал кулаки.
«Сейчас, сейчас я перепрыгну эту кочерыжку на толстых раскоряченных ножках. Сейчас, сейчас перелечу. Пусть разобьюсь, но перескачу».
— Саша, вперёд, и не трусь, — слова преподавателя подтолкнули, и он побежал, колотя кожаными тапочками дощатый крашеный пол спортзала, видя перед собой лишь натёртую до блеска руками суворовцев коричневую спину козла. Но перед самым мостиком испугался, затормозил и, проскальзывая на гладких кожаных подошвах, отпрыгнул в сторону.
— Ш-жаба, — тут же прошипело за спиной.
— Опять ты испугался, — спокойно улыбнулся Иванов. – Жалко, что ты не прыгал в чехарду в школе. Я, пожалуй, скажу Балашову, чтобы он позанимался с тобой вечером на самоподготовке, а когда будет время, приходи в спортзал и тренируйся сам. И ещё… Знаешь, на переменах, в строю, за завтраком, за обедом думай, что козёл не страшен, что ты перепрыгнешь через него. Ночью, перед тем как заснуть, представляй, как бежишь, отталкиваешься и перелетаешь! И тут хоть не бойся.
— Здесь он не забоится, — хихикнул Рустамчик, — во сне он летает.
— Может, и летает, — вступился Витька. — Можно подумать, ты во сне никогда не летал.
— А может он не летает, а падает, — продолжал хихикать Рустамчик.
— Падал, значит, тоже летал, — улыбнулся Иванов, — я в детстве во сне часто летал. Когда летишь, говорят, растёшь. Полёт поднимает и растягивает тебя. В полёте красота. Посмотрите на птиц. Ворона сидит на дереве серая, обыкновенная, а летит, и ею можно любоваться.
— Вороной? – переспросил Серёга Яковлев. – Тогда и жабой можно.
— Можно и жабой, если присмотреться, познать. Жаба – живое и беззащитное существо.
— Беззащитное? Тоже мне беззащитное, от неё бородавки на руках. Она же вся в бородавках, — усмехнулся Серёга.
— У самого бородавки. Вечно ты ко всем лезешь. Чуть стоит кому-нибудь сделать не так, как тебе нужно, ты своё «жаба». Сам на жабу похож, — наскочил Витька. – Сидишь в укромном месте и копеечки пересчитываешь.
— Ещё неизвестно, кто на кого… Ты так на глиста.
— А, жабу, значит, принимаешь, — поймал его Витька. – Поэтому и другим цепляешь её, у самого цыпки и бородавки на руках.
— Хватит, хватит, — покачал рукой майор, — что за волнения в моём войске? Всё, переходим к перекличке. Сегодня повторяем упражнение, которое на прошлом занятии разучивали.
Санька ещё не отошёл от прыжка. Ему было не по себе. Вот ведь опять приготовился, разбежался и в самый последний момент струсил. Ведь понимал, что бояться нельзя. Только тогда перелетишь. Но что-то внутри затормозило. Что? Знать бы что, тогда можно было это «что» преодолеть. И тогда бы никогда и ничего не боялся. Но вот не перелетел, не успокоил свой страх, который лежит ниже сердца, ниже грудной клетки, в животе. Когда надо, остужает ноги и руки, делая их непослушными. Если бы людям делали такие операции, удаляли у них страх?
Вот у Витьки этого страха совсем нет. Родился без него. Ничего не боится и всегда готов прийти на помощь. Витьке бы стать врачом. Он избавил бы людей от боли и, может, нашёл бы место, где находится страх и удалил его у людей, нуждающихся в этом.
И вдруг Саньке стало не по себе:
«Я предатель, я предатель! Витька на самоподготовке старался, печатными буквами выводил письмо, доверил мне отнести, а я этого не сделал. Предал его. Разорвал письмо на мелкие кусочки и бросил в огонь, в горящую кучу мусора. Пламя подняло разорванное письмо, поглотило его, и обрывки завихрились, черня и тлея над огневым городком. Зачем я это сделал? Ведь это предательство по отношению к другу. Ведь он не хочет ничего плохого. Ведь для него главное – познакомить Лиду и Володю. А что осталось от Витькиной работы? Обугленная, рассыпавшаяся, растаявшая в пыль труха. И всё потому, что мне не понравился весенний ландышевый сад из Лидиных волос, всего-то».
Сейчас ему было стыдно, что взамен Витькиного он написал Лиде совсем другое письмо. Написал про себя, как ему бывает обидно, когда обижают несправедливо, как грустно и одиноко в день рожденья, когда лежишь в санчасти и лечишься от гриппа. Но как становиться радостно оттого, что после занятий придут друзья, поздравят и скажут, чтобы ты выздоравливал, «а то без тебя скучно». И сразу хочется преодолеть недуг.
Потом Санька писал, представляя себя Володей Зайцевым. Рассказывал, как прыгал в это воскресенье с парашютом, как боялся, как летел, как потом пел песни… Письмо подписал как Витька: суворовец «В» и, не перечитывая, отправил.
Ведь уверен был. А сейчас пришёл стыд: зачем подвёл друга, который столько раз заслонял его, оберегал, защищал… «Надо ему обо всём рассказать. – Но тут же решил. – Нет, не буду. Дело сделано. Ничем не поправишь. Письмо ушло».
Майор Иванов вызвал к перекладине Витьку, тот завис, легко с маха поднялся над перекладиной и мягко соскочил.
Санька взглянул на ребят: никто не восхитился легко выполненным упражнением. Просто все его делали, кто лучше, кто хуже. Только у Саньки да ещё, может, у Толи Декабрёва оно не получалось. Удивляет, наверно, то, что не умеешь, а что можешь ты, но не может другой, раздражает. Все казались сейчас какими-то одинаковыми. У каждого голубая майка, заправленная в синие, до колен трусы. Под чёрными кожаными тапочками с негнущимися подошвами морщинились синие хлопчатобумажные носки.
«Сейчас мне выходить из строя», — подумал Санька, осторожно подобрался, приготовился, но преподаватель посмотрел на часы:
— Всё, вам пора. Так, Соболев, не забудь, о чём я сказал. Мысленно тренируйся и верь, всё получится.
За спиной опять потянулся липкий, противный шепоток:
— Вот жаба! Вечно ему поблажки. На перекладину не лез, через козлика — мысленно тренируйся.
— А тебе-то что? – отвечал ему резкий Витькин голос.
Шёпот огрызался, извивался, но смысл его слов разобрать было нельзя, потому что он потонул в общем говоре суворовцев, торопившихся в раздевалку.
Саньке казалось, что идущие за спиной шепчутся, осуждают, язвят, и он заставил себя оглянуться: никто даже не смотрел в его сторону.
Только что он представлял, что все взгляды обращены к нему, что его осуждают, готовят недоброе, но стоило оглянуться, и всё исчезло, рассеялось… Все торопились в раздевалку скорее натянуть на себя толстое тёплое ненавистное бельё, гимнастёрку, брюки, сапоги. И он тоже заспешил.
«Скорее одеться, чтобы не опоздать в строй и снова не услышать обидных окриков».
Суетливо натягивая на себя одежду, он путался, злился, пока не застегнул ремень и не принялся разглаживать складки растолстевшей за счёт зимнего белья формы.
К зимнему нижнему белью питали вражду все суворовцы. Форма от него становилась мешковатой, а её голубой пух намертво цеплялся к чёрному сукну и не вычищался жёсткой щёткой, не отглаживался тяжёлым утюгом через намыленную тряпку. Ненавистное бельё старались не надевать. Прятали под матрасами и в тумбочках.
В строй Санька не опоздал и даже успел отдышаться, осмотреться и ещё раз заправиться. На этот раз последним, не торопясь, шёл самый сильный во взводе Лёшка Дмитриев. Суворовцы стояли и ждали, а Серёга Яковлев, улыбаясь, громко шутил:
— Ну, Лёшик, молодец, не торопится, ничего не боится. А чё, подождём, время-то есть. Успеем.
Саньке стало смешно, он улыбнулся перемене интонации в Серёгином голосе. «Для меня и для Толи Декабрёва – жаба, для Лёшки – Лёшик-молодец».
«А может верно, жаба, — опять вспомнил вчерашнее Санька, — Витька идёт и не подозревает, что его письмо вчера сгорело. Но можно ли было отправлять такое письмо человеку, которого обидели? А может Серёга прав? Я жаба, размазня и ничего не могу решить твёрдо».
Строевой смотр
Два толстых утюга, как маневровые паровозики, медленно двигались то в одну, то в другую сторону по жёлтой в подпалинах тряпке. Пар с шипением вылетал из-под них и тут же исчезал, оставляя в воздухе запах палёной шерсти. Двое суворовцев, не доверяя тяжести чугунных утюгов, залезли на столы и вдавливали их в брюки двумя руками. От этого столы тяжело стонали, а скрепляющие их сухарики жалобно повизгивали. Рядом на стульях тосковали очередные, мечтавшие скорее, по-кавалерийски, оседлать пыхтящие паровозики. Ещё двое суворовцев стояли, повесив брюки на руки. Больше в бытовке никого не было, но длиннющий хвост незримой очереди жил своей независимой жизнью, и если бы он неожиданно подтянулся к бытовке, то захлестнул бы весь коридор. Завтра должен был состояться строевой смотр.
— Что такое строевой смотр? Как к нему готовиться? Что делать? – спрашивал Серёга Яковлев у своего земляка грушеголового Петьки Киселёва из третьей роты.
Петька приглаживал натёртый бриолином до паркетного блеска чуб и говорил, причмокивая языком.
— Что строевой смотр! Что к нему готовиться! Так, брючки гладануть раза два туда-сюда, и всё. Видели, как я?
Петька действительно с брюками расправлялся недолго, не залазил на стол, не обкатывал утюг. Он пришёл в бытовку, спокойно дождался, пока очередной наездник расседлает паровозик, без лишних движений подошёл к столу, разложил брюки и быстро, пока стоявший на очереди Коля Марченко раздумывал сказать или не сказать, что не Петькина очередь, навёл стрелки. Потом Петька аккуратно повесил брюки на руку и подал утюг Коле:
— Учись, молодой, пока я жив!
Петька сидел в окружении суворовцев второго взвода:
— Да что вы трясётесь? Всё будет как на утреннем осмотре, проверят, и всё. Потом сыграют «Зарю», и два разика пройдёте мимо трибуны.
Стоявший позади Петьки Серёга Яковлев улыбался: «Во, земеля, не волнуется, не боится, всё знает».
— Да вам чего трястись, до вас и не дойдут.
— А я и не буду, — провёл ладонью по брюкам Серёга. – Два дня назад утюжился.
— И я, — прихвастнул Толя Декабрёв, — я три дня назад стрелки наводил, и если бы не дождь, о них можно было порезаться.
— А чё, я бляху почищу, и всё, — сказал Борька Топорков.
— И пуговицы щёточкой чуть-чуть, — как по клавишам баяна прошёлся по пуговицам Рустамчик.
— Не боись, — успокаивал Петька, — хотите быть генералами, ничего не бойтесь. Генералы ничего не боятся!
То ли от этих слов, то ли от солнца, которое заглянуло в окно, в спальне стало светло, заблестели паркетный пол и Петькина паркетная голова.
Санька посмотрел на свои брюки, сравнил их с брюками Серёги и Толи Декабрёва и понял, что его стрелки куда тоньше, чем у них.
После обеда под одним из кавалеристов сломался железный конь, и в результате небольшой перепалки очередь за работающим утюгом раздвинулась, и по справедливости, в её промежутки влилась очередь сломанного утюга.
— Буду я ещё гладиться, — возмущался Серёга.
— И я тоже, — повторял вслед за ним длинный и белобрысый Сашка Дружков, — так и до утра не успеем.
«Если это обычный строевой смотр, — думал Санька, — то что волноваться?» — Очередь его к вечерней проверке к утюгу не продвинулась. И он, позёвывая в кулак, решил: — «Так и скажу: не успел. Что я один?»
Он лениво мазанул кремом ботинки и, забравшись под одеяло, свернулся калачиком и мгновенно уснул.
Команда «Подъём!», выстрелившая, как из орудия, катапультировала его на пол, и быстро одевшись, он стал ждать следующей команды «Выходи строиться на зарядку!», но она застряла где-то в глубине ствола. Вместо неё последовала другая: «До построения на строевой смотр осталось полчаса!»
Санька стал медленно заправлять постель и тут услышал рассказ Толи Декабрёва Сашке Дружкову:
— Я Серёгу просил, чтобы он меня поднял, а он брыкнулся в постель, и если бы храпом не разбудил, я бы стрелочки не навёл.
Санька посмотрел на Серёгу, стрелки на его брюках разрезали воздух как носы пароходов при ходьбе.
У Сашки Дружкова стрелки были не только на брюках, но и на рукавах гимнастёрки, протягиваясь по спине, соединяя одну лопатку с другой.
На строевом смотре рота, выстроенная в линию взводных колонн, по приказу её командира вытянулась, и проверяющий полковник Зотов стал прохаживаться вдоль шеренг, что-то говоря майору Сорокину. Командир роты ходил за ним с маленьким блокнотиком, и после каждого замечания розовый цвет его лица сгущался до красного, и он твердил единственную фразу.
— Так точно! Сделаем, товарищ полковник, устраним!
Проверяющий постепенно приближался, и Санька от страха превращался в ледышку, прижимал руки к лампасам и чувствовал, как по телу пробегает волнами предательская дрожь.
Полковник внимательно посмотрел на Саньку, поправил очки, и, наконец, снял их, не доверяя увеличительным стёклам в золотой оправе.
— Это что такое? – обратился он к Сорокину.
Командир роты тут же потерял своё «Так точно! Сделаем, товарищ полковник, устраним!» и, побагровев до винегретного цвета, пожал плечами и опустил руки с карандашом и блокнотом.
— Да?! – сказал Зотов и пошёл дальше. Потом вдруг повернулся, надел очки и ушёл из роты.
Сорокин подошёл вплотную и уставился на Саньку. Тот почувствовал, как жар от перекалённого командира роты переливается к нему, и он уже не знал, до какой степени раскалилось его лицо, но уши пылали и уже, наверно, сворачивались в трубочку.
Потом шеренги сомкнулись, и майор Сорокин приказал:
— Соболев, выйти из строя! – и на Санькином примере показал всем, как не надо пришивать подворотнички, как не надо чистить ботинки и как не надо гладить брюки.
Санька опустил голову и увидел смотревший на него тусклый коричневый камешек, вплюснутый в асфальт, большой и грустный, как коровий глаз. Он всё ждал, что командир роты объявит ему наряд вне очереди на воскресенье, и боялся этого, но майор Сорокин скомандовал:
— Товарищ суворовец, становитесь в строй, — закончил разбор. Санька поднял голову, увидел насмешливый взгляд веснушчатого лица Серёги Яковлева и подумал, что лучше бы ему объявили наряд…
И потом, когда оркестр играл «Зарю», когда барабаны и трубы слились в едином боевом музыкальном грохоте, звавшем в атаку на неприятеля, и когда от строгого военного марша по спине должны были пробегать мурашки, и каждый должен был чувствовать себя солдатом огромного несокрушимого войска, Санька чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. «Зачем он сюда поступил? Сможет ли он дальше всё это вынести? А ведь с каждым годом будет всё труднее и труднее. Вон старшие роты возвращаются с войсковой практики и говорят, что в войсках так не гоняют, как их здесь»…
В классе до первого урока оставалось минут десять. Санька задержался на лестнице, а когда вошёл в класс, то первым услышал голос Серёги:
— Вон явился, жаба! Что не мог брюки погладить?
Санька, не отвечая, сел на своё место. Ему не хотелось ругаться с Серёгой, и он вернулся к окну.
— Хоть бы пуговицы или ботинки бархоткой надраил. Жаба и есть жаба.
Санька смотрел в окно, ему было обидно. Ведь и ботинки он чистил, и пуговицы до сих пор блестят, и это всё прекрасно видит Серёга. Зачем же он…
Но Серёга расходился:
— Хоть бы подворотничок подшил, а то ходишь в подворотничке из тряпки, которой доску вытирают.
— Из тряпки половой, — подтвердил Рустамчик.
— Что из половой – из тряпки, которой машинное масло вытирают, — на этот раз продолжил Саша Дружков, молчавший до сих пор и вообще никогда в споры не вступавший.
И после Саши Дружкова класс завертелся перед Санькиными глазами. Подходили все. Кто-то показал, как он аккуратно пришил подворотничок, кто-то показал, но Санька не видел, как нужно до блеска натирать ботинки и полировать пуговицы, кто-то водил по стрелкам своих брюк… Всё мелькало перед глазами. Каждый что-то говорил, корил, обвинял. Всё это вращалось, как в водовороте, затягивало, тянуло вниз, и Санька уже не знал, как можно вырваться из него, не утонуть, не оглохнуть…
— Не мог ночью встать, — кричал Серёга. – Спать хотел, а честь роты и взвода ему не дорога.
— Ему на неё наплевать. Ему лень брюки выгладить, — где-то сзади раздавался голос Рустамчика.
Санька хотел встать, но не мог подняться. Воронка затягивала. Но вдруг в классе стало тихо. Звонок неожиданно долетел и, казалось, выключил это затягивающее кручение вокруг Саньки.
— Взвод, встать, смирно! – команда дежурного и последовавший за ней доклад преподавателю ещё не могли вернуть Саньку к уроку.
«А зачем гладить брюки, если уже наказан? Теперь можно и в неглаженных ходить. Ходить назло всем: Серёге, Рустамчику, Дружкову, майору Сорокину и даже Тамаре Сергеевне, которая спокойно открывает журнал и не знает и, наверно, не хочет знать, как ему сейчас плохо. На зло всем, никогда не буду гладить брюки. Да и вообще, зачем всё это: училище, погоны, лампасы, форма… И зачем эта форма, если из-за неё столько мук? А, может, уехать, вернуться домой, к маме? И почему сегодня так не везёт, и Витька в наряде? Но зачем тогда поступал? Был бы на моём месте другой мальчишка, который гладился бы, чистился и был бы счастлив»…
Кончился урок. Санька ждал, что всё повторится на другой перемене, но никто не подошёл, ничего не сказал, не задел. Все занимались своими делами и,казалось, забыли о нём. Потом начался второй, за ним третий, четвёртый, пятый, шестой, а Санька всё думал, и не мог понять, почему же всё так произошло?
«А другой на моём месте, ему, может быть, было бы так же трудно. Может, вокруг него был бы такой же водоворот? Может, место несчастливое, которое я занимаю? А если бы он или я погладили бы брюки? Что тогда? А может, погладиться? А зачем? Ведь всё позади? А назло всем!
После занятий он пошёл в бытовку, включил утюг, и когда тот нагрелся, стал вдавливать его в штанину через шипящую тряпку. Но не успел он закончить с первой стрелкой, как зашёл старшина Горунов со спиралью в руке.
— Гладитесь? – спросил он, но Санька промолчал. – Это правильно. Только вид у тебя такой, — перешёл на «ты» старшина, — что всем отомстить хочешь.
— Хочу, — тихо ответил Санька.
— Ну что ж, — старшина принялся разбирать утюг. – И это хорошо. Хоть так докажешь, что не хуже других.
Санька выдернул штепсель из розетки. Гладиться сразу расхотелось.
— А это напрасно, — не поднимая головы, продолжал старшина. – Я бы на твоём месте продолжал. А ты иногда будь злым. Докажи всем, что ты не размазня. Чтобы быть добрым, можно иногда и злым побыть. А то чуть что – скис, чуть что – расплакался. Так ты кем хочешь быть: офицером или… А если поражение или отступление, так что же сразу сдаваться?..
Старшина быстро завинтил утюг, проверил его и ушёл. Санька после его ухода ещё долго сидел на столе, а когда вышел, то встретил Серёгу.
— Что стрелочки навёл? А когда нужно, в жёваных ходишь, — ехидно спросил Серёга.
— Навожу и буду наводить. И сейчас получше, чем у тебя.
— Так уж лучше? – посмотрел Серёга на свои брюки.
— Лучше, — сказал Санька и пошёл дальше.
Серёга ещё раз посмотрел на свои брюки и промолчал. Сейчас ему нечего было сказать.
Летите, голуби, летите…
В этом году впервые за свою двенадцатилетнюю жизнь Санька почувствовал, что двадцать третье февраля по-настоящему мужской военный праздник. Во-первых, отдыхали, как в воскресенье, и команда «Подъём!» прозвучала на час позже – в восемь часов. Во-вторых, обед был праздничным, на второе – жареная картошка, на третье – компот с песочными пирожными, которые по спецзаказу привозили с Уссурийского хлебозавода. Вкуснее этих пирожных Санька никогда ничего не пробовал. В-третьих, между завтраком и обедом в спортзале проходили соревнования по боксу.
Санька сидел на полу у самых канатов и во всю мощь орал, подражая старшеклассникам:
— Бей его, бей гражданского!
И то ли от мощного поддерживающего рёва, то ли оттого, что суворовцы были более накачаны, коренасты, сильны и более тренированы, в конце боя судья поднимал их руки, в толстых перчатках.
Неистовые болельщики бросались обнимать неостывшего потного победителя, и боксёр, только что изо всех сил колотивший противника, буквально расслаблялся от благородных объятий.
Но самыми последними, в нарушение традиций всех соревнований, вышли боксёры – комары. Училище, на удивление всем и, в первую очередь, седьмой роте, представлял Толя Декабрёв. Его угол был красным. В синем сидел худой, то точно такой же огненно-рыжий и чем-то похожий на Толю мальчишка.
Появление на ринге двух рыжих развеселило болельщиков, и со всех сторон посыпались едкие шуточки:
— За двух рыжих комаров одного не рыжего тяжеловеса дают!
— Наш рыжий – рыжее!
— Рыжий, не подведи, дай этому рыжему!
— Бей рыжего! Бей гражданского…
Судья свёл боксёров, и руководитель соревнований через мегафон объявил, что в красном углу находится суворовец Толя Декабрёв, а в синем – ученик пятого класса двадцать восьмой школы Анатолий…, и он назвал фамилию, но её не было слышно из-за смеха болельщиков. На ринге столкнулись две одинаковые огненно-рыжие тёзки. Прозвучал гонг, и болельщики устремили свои взоры к двум рыжим и четырём огненно-рыжим шарам. Боксёры запрыгали, закачались, задёргались, как марионетки на резинках, нанося друг другу осторожные удары. Болельщики орали:
— Толя, давай! Толя, дави его! Давай, бей, не стесняйся!.. И Толя, правда, непонятно какой, шёл, двигался, наступал. Потом всё менялось, и уже другой, и опять не понять какой, Толя наступал, шёл вперёд, наносил удары.
Но отступать на открытой площадке ринга было не безопасно, и кому-то из боксёров вдруг пришла богатая идея – не уходить, а прятаться за тренера. И получалась какая-то беготня вокруг рефери. Он только и успевал поворачиваться то в одну, то в другую сторону, то и дело вытаскивая из-за спины то одного, то другого боксёра, и опять не понять какого: то ли из красного, то ли из синего угла. Болельщики так же не могли понять, за кого они болеют.
Наконец, отзвунел гонг, и боксёры разошлись по своим углам, предоставив судье решать, кто, кому и сколько нанёс ударов. Но больше всех был озадачен и устал рефери. Он машинально и недовольно, не смотря на все правила приличия, водил рукой за спиной, видно, пытаясь обнаружить там спрятавшегося от ударов рыжего боксёра.
Когда начался второй раунд, рефери отодвинулся близко к краю, но бесполезно. Боксёры и там продолжали накручивать вокруг него обороты, спасаясь от разящего противника. Наконец, рефери всё надоело, и он вытащил обоих боксёров перед собой и, резко взмахивая рукой, стал им что-то строго вещать. Потом сказал: — «Бокс!», — и сделал шаг в сторону. И вот тут рыжий гражданский Толя из двадцать восьмой школы прямым ударом заехал Декабрёву прямо в нос. Толя сел на ринг, капелька крови появилась у него над губой, и он заплакал. Судья остановил поединок, взял боксёров за руки и, немного подождав, поднял руку Толе гражданскому. Это был единственный проигрыш суворовцев на сегодняшний день.
Толя, плача, покинул ринг, ему дали выбраться из ряда болельщиков, и он, на ходу снимая перчатки, направился в раздевалку. Витька с Санькой подскочили к нему и стали успокаивать.
— Здорово ты этому рыжему, то есть гражданскому. Это судья, наверно, неправильно, подсчитал очки, — начал Витька. Хотя какие очки. Толя был в нокдауне.
— Не получилось из меня боксёра, — всхлипывал проигравший и размазывал слёзы по щекам.
— Да не переживай ты, подошёл к ним Володя. – Ты же был единственным из седьмой роты. Самое главное, что вышел, что переборол себя. И бокс провёл не так уж плохо. Всё будет хорошо.
Толя хотел улыбнуться, но улыбка получилась сквозь слёзы.
— Считай, что это последнее поражение. Главное – переступил через себя, а это уже победа.
«Эх, и мне бы переступить через себя», — подумал Санька…
После обеда наступил самый волнующий момент, когда все строем направились в клуб на торжественное собрание и концерт. И на этом праздник не кончился: после ужина старшеклассники торопились в клуб на танцы, а младшим ротам до самого отбоя разрешалось смотреть телевизор.
Как всегда, на торжественном собрании начальник училища долго говорил о Советской Армии и Военно-Морском флоте. Потом вручались ценные подарки, грамоты и объявлялись благодарности. Перед концертом сделали перерыв, и Витька тут же потащил Саньку в коридор.
— Пошли скорее, он ждёт!
Санька, уже привыкший к постоянно воспламеняющимся Витькиным идеям, почти безвольно, как преданный пёс, последовал за ним, не представляя, кто ждёт и зачем.
— Скорее, — торопил Витька, — он уже там.
Спрашивать было бесполезно.
В коридоре их ждал Гришка Голубков.
— Принёс? – спросил Витька.
— Восемь штук.
— Где?
— Под шинелью.
— Почему молчат?
— Там темно.
— Так давай скорей. Себе оставишь трёх, мне трёх, Саньке двух.
— Суй сразу под гимнастёрку, не гукнут, — проинструктировал Гришка и принялся вытаскивать сизохвостых, крепко сверху сжимая их за крылья. Он ловко распихал птиц по запазухам сначала Витьке, а затем Саньке и дал последнее указание, — прижимайте крепче, не шелохнутся.
Когда голуби прижались к Санькиному телу, он испугался: «Какие большие, как бы не заметили».
— А теперь на улицу и заходим на сцену в самый последний момент, чтобы никто не увидел, — приказал Витька.
В зале бродили и переговаривались, когда голубиная троица оказалась за кулисами. Занавес уже разделял зал и сцену. Майор Сорокин приказал роте занять широкие сценические ступени. Тут же из зала поднялся Волынский в чёрном костюме и белой рубашке. Его наглаженные брюки торжественно поднимались над лакированными ботинками, обнажая белоснежные носки. Рубашку украшала бабочка.
Дрогнул и распахнулся красный плюш занавеса. Зал затих. Ведущие суворовцы из первой роты, ещё не успели достигнуть середины сцены, как Волынский вытянулся, улыбнулся, протянул руки вперёд и застыл в таком положении.
— Хор суворовцев седьмой роты исполняет песню на музыку и слова Волынского «То суворовцы идут», — торжественно сообщил ведущий.
Оркестр в своей яме грянул первыми радостными аккордами, и автор взмахнул руками:
— Солнце скрылось
Над полями,
Только слышно там и тут:
Взвейтесь, соколы, орлами… -
То суворовцы идут…
После этой песни хор с чувством исполнил «Шли с войны домой советские солдаты».
— Ты готов? – Санька почувствовал толчок в бок, когда зазвучали советские песни. – Потихоньку пригибайся и вытаскивай голубей. Вот все обрадуются, когда услышат песню мира и увидят настоящих голубей. Вот увидишь, как нас будут хвалить, — суетился Витька.
Когда запели, у Саньки от волнения пропал голос. Он медленно опустился, достал первую птицу, и та, почувствовав свободу, трепыхнулась. Но Санька сильно прижал её к животу и принялся вытаскивать вторую.
Голубь дёрнулся и оцарапал Саньке руку. Санька разжал левую, и первый голубь, почувствовав слабину, вырвался, заметался между суворовцами, взлетел над сценой и начал испуганно шарахаться из угла в угол.
Отзвучал только первый куплет, но Гришка, приняв взлёт сизокрылого за сигнал, отпустил своих «вестников мира». Витька ругался яростным шёпотом, но своих птиц не отпускал. Гришкины голуби, как на простор, ворвались в зал и стали носиться под потолком вместе с обезумевшим Санькиным. В зале началось невообразимое. Свист смешался с хохотом. И только Волынский, как глухарь на сосне, ничего не слышал и, наслаждаясь, закрыв глаза, продолжал взмахивать руками.
— Раззявы, куда вы полезли? – шёпотом возмущался Витька. — Надо было в конце!
Один из ошалелых голубей пролетел над Волынским и, шарахнув его крылом, вывел из блаженного состояния. Волынский оглянулся, взмахнул невпопад руками и, заглушив песню, опустил их.
— Ай, летите, — махнул рукой Витька, и ещё четвёрка сизарей вырвалась на свободу и безумно помчалась в зал.
Там повскакивали с мест. В общем гаме сплелись шум, гогот, свист, визг, возмущение. Кто-то включил свет, кто-то принялся ловить птиц, кто-то догадался закрыть занавес. Плюшевые полотнища медленно пошли навстречу друг другу. На сцену вбежал майор Сорокин.
— Соболев, Шадрин, Голубков, ко мне. Всем остальным — в зал.
Когда тройка незадачливых дрессировщиков предстала перед командиром роты. Он строго осмотрел её и приказал.
— Шадрин, сейчас же на танец пер-р-реодеваться. С вами со всеми будет отдельный разговор. Мы ещё посмотр-р-рим, достойны ли вы учиться в училище. Это дело сер-р-рьёзное – сор-р-рвать концер-р-рт в сор-р-рок пятую годовщину нашей ар-р-рмии.
— Да мы хотели песню укр-р-расить, — оправдывался Гришка.
— Знаем мы ваше «хотели». Давно пор-р-ра ваши штучки за вор-р-ротами училища оставить. А теперь поедете заниматься голубками к себе домой. Мар-р-рш в зал!
Последнее предупреждение
На этот раз в узкой, как вагон, канцелярии командира роты, опустив стриженые головы, стояло трое «голубятников». Сорокин с ошпаренным от негодования лицом сидел за своим столом и нервно постукивал толстыми пальцами по коричневому дерматину.
У стены с левой стороны стола сидел офицер-воспитатель первого взвода капитан Бугров, с правой стороны – капитан Баташов. Он, опустив голову, смотрел в пол и был сейчас похож на Овода, которого предали. Сержант Чугунов стоял.
Сейчас Санька боялся поднять голову и встретиться глазами не с командиром роты, а с сержантом. Чугунов улыбался, и эта улыбка счастливого человека как ножом готова была пройтись по натянутым и напряжённым Санькиным нервам и взорвать его. Он чувствовал, что одной встречи с этой улыбкой достаточно, чтобы выкрикнуть, оскорбиться, выбежать из канцелярии и, не думая о последствиях, хлопнуть дверью, либо просто разразиться слезами. Только не смотреть, только не поднимать глаз, только не встречаться…
Капитан Бугров криво улыбался, обнажив свои широкие лошадиные зубы. Эта усмешка постоянно жила на его лице, и даже когда он поддевал суворовцев, никто и никогда на него не обижался.
— Ну как можно так р-р-рьяно уже седьмой роте нар-р-рушать дисциплину! А что будет дальше, уму непостижимо. За эти выходки седьмую р-р-роту уже знают все. Самая недисциплинир-р-рованная. Но тепер-р-рь мне ясно, кто в тихом болоте сидит и дисциплину нар-р-рушает. Это надо же, дважды испор-р-ртить такие мер-р-роприятия! Сорвать концер-р-рт! Такую песню о голубях, о мир-р-ре испортить и затолкать сувор-р-ровца Вор-р-робьёва между р-р-рамами!
При упоминании о Воробьёве Бугров по лошадиному гикнул, прикрывшись кулаком.
— Вам повезло, что начальника политотдела вызвали в округ, а то бы сейчас у него в кабинете стояли. Зачем вам понадобилось пор-р-ртить концер-р-рт голубями? Скажите, Голубков? А эти двое – люди пропащие, втор-р-рой р-р-раз попадаются.
Санька поднял глаза на Чугунова, и ему показалось, что его улыбка стала ещё шире.
— Мы хотели песню украсить, украсить хотели, — шмыгая носом, повторял Гришка. – Мы не виноваты, что голуби вылетели раньше времени. На стадионах же выпускают голубей. Сам видел фильм про фестиваль. Это же голуби мира.
— Но, Голубков, — командир роты, перестав стучать пальцами, положил ладони на стол. – Но голубей-то выпускают белых. Голуби мир-р-ра белые. А вы что? Сизых, почер-р-рневших от стр-р-раха. А они мало того, что как бешенные носились по залу, так ещё погон начальнику училища и платье Ольге Михайловне испортили. А кто будет за платье отвечать? Кто будет отвечать за испор-р-рченное платье?
— Да если она нам его даст, мы его в ножной ванне мылом постираем, — встрепенулся Витька. – И даже не хозяйственным, а своим, земляничным. Ей пол года после этого не надо будет духами пользоваться.
— А к Вам не обр-р-ращаются, — стукнул ладонью по столу Сорокин. – Это ж надо до такого додуматься: земляничным мылом крепдешин, китайский шёлк! Хватит того, что вы с Соболевым опозор-р-рили училище, так ещё земляничным мылом, в ножной ванне стирать шёлковые платья учителей!
— Го-го-го, — засмеялся Бугров, не стесняясь показывать свои лошадиные зубы. – В ножной ванне, го-го-го.
— Всё, на этом заканчиваю. Объявляю пока всем по месяцу неувольнения в город, а вам, Шадр-р-рин и Соболев, — последнее пр-р-редупреждение. Ещё р-р-раз, последний р-р-раз. Ещё один пр-р-роступок, и поедете к себе домой доучиваться. А вы, капитан, Баташов, напишите письма их родителям, пусть пор-р-радуются.
Капитан Баташов встал и тихо сказал:
— Есть, — лицо его было таким бледным, будто он приготовился к казни. Бугров перестал смеяться. Санька поднял голову и посмотрел на Чугунова. В этот раз он что-то преодолел в себе. Он нашёл силы разглядеть его улыбающееся, но не такое счастливое лицо, каким оно было в самом начале, когда их вызвали сюда. Сейчас Саньке не была страшна его улыбка. «А может, мне всё показалось, — подумал он. – Может, он не радовался, за то, что нас здесь заставили стоять?»
— Можете быть свободными, — сказал майор Сорокин.
Когда они вышли из кабинета, Витька тихо, почти шёпотом спросил:
— Слушай, ты видел его лицо? Видел, как он радовался? Почему он нас так ненавидит?
— Не знаю, — так же тихо ответил Санька. – Но, может, он улыбался, потому что знал, что нас не выгонят из училища. Может, он улыбался потому, что нам объявили всего лишь месяц неувольнения. И что нам в городе делать? – сказал он и подумал: «Разве что увидеть Лиду».
— Да ты что? О чём ты говоришь? – возмутился Витька. – Чтобы он, Чугунов, за кого-то радовался? Чтобы он, Чугунов, за кого-то переживал? Да ты знаешь, какой он гад?
— Зачем ты так? – сказал Санька. – Ты же сам говорил, что по уставу любить не обязан. Самое главное, чтобы устав исполнял.
Награда по заслугам
После разговора в канцелярии Санька знал, что завтра или сегодня после праздника их выставят перед строем. Они будут стоять, опустив головы, а командир роты станет говорить об их проступке, об их нарушении, об их недостойном поведении. И Санька спрячет глаза и побоится поднять их на стоголовый строй, а тот будет внимательно смотреть на него, слушать слова командира роты, осуждать их и соглашаться с ними.
Но не это было страшным. Он знал, что в строю обязательно кто-нибудь найдётся, кто посочувствует, потом подойдёт, скажет что-нибудь тёплое, вздохнёт и помолчит рядом. Это такие, как Витька, как Володя Зайцев.
Володя ещё на концерте увёл их к себе, всё расспросил и понял. Они тут же попали в окружение ребят его роты, и те, к удивлению испуганного Саньки, принялись дружески тормошить их, хлопать по плечам, гладить и хвалить:
— Это вы голубей?.. Ну даёте! Молодцы! Смело!
От этих слов страх в Саньке поутих, и сам он чуточку остудился.. Но Володя был настроен серьёзнее:
— Вас сейчас будут ругать. Вы, а особенно, ты, Витя, помолчите. Всё-таки виноваты. Надо было хоть меня предупредить или капитана Баташова. И так ему за Воробьёва влетело.
— Но мы хотели удивить, — запротестовал Витька.
— Вот и удивили, и теперь принимайте всё, как есть, и не удивляйтесь. С капитаном Баташовым я говорил. Он понял, но и вы поймите его. Ведь его тоже наказывают…
Да, перед строем не очень приятно, но всё равно не так страшно. Хуже потом, когда кто-нибудь из твоего же взвода, Серёга Яковлев или Рустамчик Болеев, скажут за спиной что-нибудь противное, липкое, неприятное.
Хотя и это не самое страшное. Больше всего Санька боялся, что Сорокин или Баташов напишут письмо домой. Мама будет переживать, отец ходить по комнате из угла в угол и нервничать. А дедушка… Он ведь болеет. В последнем письме мама опять писала, что дедушка не встаёт с постели и чувствует себя всё хуже и хуже. Только бы не письмо…
Санька пошёл в бытовку. Вчера перегорел последний утюг, и пока старшина найдёт спираль, можно там спрятаться, чтобы никто не видел и не слышал.
Он взобрался на стол, обтянутый стареньким байковым одеялом. От обиды хотелось плакать. Он вжался в угол, подтянул ноги и… услышал крик. В этом крике смешались ужас и страх. Кричал человек, за которым гнались, к которому срочно надо было бежать на помощь.
— Санька! Санька Соболев! Санька, где ты?
Санька выскочил из бытовки. Витька стоял посреди коридора, взволнованный до неузнаваемости. И хоть голову его за три дня до праздника аккуратно обнулила подстригальщица тётя Маша, можно было с уверенностью говорить, что он растрёпан.
— Что случилось?
— Санька, идём, она пришла, — Витька орал так громко, что из классов повылезали любопытные глаза, а из канцелярии выглянуло розовое лицо ротного:
— Шадр-р-рин, опять что-нибудь?
— Нет, товарищ майор, никак нет, — не ослабляя голоса, орал Витька, волоча за собой друга.
— Ну, смотрите у меня, последний раз, — помахал пальцем Сорокин.
— Постой, ну куда ты меня всё тянешь? – наконец возмутился Санька. – Куда мы?
— Она пришла, пойдём на танцы. Она там!
— А нас пустят?
— А ты что, танцевать собираешься? – успокоившись, хихикнул Витька.
— Да ну тебя… Опять что-нибудь случится, и тогда… Сам знаешь… А у меня дедушка болеет. Представляешь, Сорокин напишет? Что с ним будет? А он меня любит, расстроится…
— Не бойся, мы только посмотрим, и всё.
В дверях клуба они неожиданно столкнулись с Петькой Лычовым. Настроение у него было хорошее, он улыбался и, увидев друзей, ещё больше обрадовался.
— А, голубятники, танцевать захотелось? Одобряю, проходите. Сейчас вас с девочками познакомлю.
— Я не пойду, мне не надо, — запротестовал Санька.
— И мне не надо, у меня есть, — пытался отговориться Витька.
— Есть, ещё будет, — засмеялся Лыча. – Нам скоро выпускаться, на кого же мы своих кадеточек оставим? Вам по наследству и передадим.
— Я не пойду, — сопротивлялся Санька.
Но Петька уже тащил их за собой в зал, где медью гремел оркестр музвзвода, пахло модным «Шипром», пестрели разноцветные платья девушек на чёрном фоне суворовских гимнастёрок, где было тесно, как на демонстрации, и в этой тесноте в вальсе умудрялись кружиться пары. Санька, как мог, тормозил ногами, а Витька орал, чтобы его отпустили, но Лыча хохотал и буксировал их за собой в центр зала. И когда они оказались там, музыка вдруг погасла, пары разошлись и встали у стен. И тут Петька закричал:
— Знакомьтесь, сегодняшние герои, покорители неба. Они поднялись выше всех, под облака, и принесли нам оттуда голубей мира. – В зале зааплодировали. – Храбрым достаются самые красивые девушки! – орал Лыча. – Кто желает потанцевать с самыми храбрыми из седьмой роты?
Санька перестал вырываться. Ему сейчас было стыдно, стыднее, чем в канцелярии командира роты. Он не смотрел в зал на эту пёстрню хлопавшую, улыбающуюся мешанину. Хотелось провалиться, исчезнуть. Но Петька крепко держал его сильной и влажной рукой.
И тут Санька увидел Володю. Он шёл к ним.
— Отпусти их! Сейчас же отпусти!
— Героев ждёт награда, они достойны её.
— Сейчас же отпусти, — наступал Володя. – Сейчас же, иначе…
— Ты что, мальчик, пьявочку захотел? – вдруг изменился в лице Лыча и процедил сквозь зубы. – А ну проваливай.
Но Володя взял Петьку за руку, и Санька почувствовал, как слабеют Лычины пальцы. Санька вырвал свою руку.
— Ну, я тебе, щенок, покажу, — процедил сквозь зубы Петька. – Меня на танцах лажать!..
И вдруг Санька увидел, как через зал идёт девушка. Он её узнал сразу. Это была Лида.
— Я потанцую с героем, — улыбнулась она и взяла Саньку за руку.
Петька побледнел, потом неестественно улыбнулся и тихо спросил:
— С ним? А со мной? Потом со мной?..
Лида улыбнулась, повела Саньку, и тогда Петька на весь зал громко крикнул:
— Вальс! Белый танец, — и тут же процедил, — тебе, Заяц, повезло! Прощаю!
Первой Санькиной мыслью было вырваться, убежать. Но он, как загипнотизированный, следовал за ней. Лида остановилась и сказала:
— Ну что, герой, ведите меня. Покажите, чему вас научил Евгений Эдуардович на уроках танцев.
— Но… я плохо… Витя Шадрин вон… А я нет… — пролепетал Санька свинцовым языком и, подчиняясь воле красивой девушки, правой рукой уже дотронулся до её талии, а левой взял за тёплую ладонь. Сначала он больше всего боялся наступить на её кремовые туфельки, но вдруг встряхнул оцепенение и, подчиняясь ритму мелодии, стал двигаться легко и свободно. Ноги сами отсчитывали заученные движения. Всё вокруг кружилось и сливалось в единое разноцветное полотно. Санька не видел лиц, не знал, улыбаются ли, смеются ли над ним. Сейчас это было не столь важно. Он летел, видел Лиду, её огромные голубые глаза, тёплый румянец на щеках, золотые волосы, её удивительную улыбку. Где и когда он уже видел эту улыбку?
— Вы хорошо танцуете, — продолжала улыбаться она.
«Где же я это видел», — вспоминал он.
— Да. «Но кто так улыбается».
Вокруг мелькали смазанные лица. Чёрные гимнастёрки сменялись цветным ситцем и ярким шёлком. И он вспомнил.
Это было дома. Когда Санька что-то увлечённо делал, ел или просыпался утром, он видел, что так на него смотрит мама. Тихо и нежно, любуясь его движениями.
И вдруг всё смолкло. Последние аккорды взвились под потолок и рассеялись там. Движения в зале стали размеренными и простыми. Санька остался в самой середине один с Лидой.
— Спасибо Вам за танец, Проводите меня.
Он последовал за ней к окну и быстро заспешил на выход. Отовсюду раздавалось:
— Молодец! Хорошо!
Петька Лычов крепко сжал Санькину руку и громко восхитился:
— Ну, паря, молодец! Дай пожму краба! Моя школа!
И как только он освободил ладонь, Санька побежал на выход, схватил оставленную на окне шапку и напролом, через снег, помчался в казарму подальше от похвал, музыки, Лиды, её глаз, её улыбки.
«А вдруг она узнала, что это я написал? Но как? А вдруг почувствовала? Говорят, что люди могут читать мысли на расстоянии. А вдруг это письмо уже как-то связало меня с нею? Вдруг она прочитала письмо и почувствовала, что написал его я. Может поэтому, сама не понимая, подошла ко мне? Но почему тогда ничего не сказала? А может, она сама не знает, а лишь предчувствует?
Витька прибежал за ним через полчаса, распахнул бытовку и заорал:
— Санька, ты даёшь! Ну, молодец! Как здорово у вас получилось. Ко мне тоже одна подошла, но кривляка… А ты знаешь, пока я был там, Лида больше ни с кем не танцевала, кто бы не подходил. И всё смотрела, будто кого-то искала.
— А Володя?
— Он к ней не подошёл. Боится, наверно. И тоже не танцевал, только на неё и смотрел. Чего боится? Пригласил бы, и всё! Но мы ему поможем.
— А нужна ему наша помощь?
— А как же не нужна, — взорвался Витька. – Как не нужна? Ты же сам видел. Он не подходил, потому что стеснялся. Вот ты бы к ней подошёл, если бы она сама…
Они не услышали шагов, поэтому свет вспыхнул резко и неожиданно. Санька зажмурил глаза, а Витька закричал:
— Ну что за дурак! Выключи, предупреждать надо.
В ответ Санька услышал какой-то писклявый, без металла, голос Чугунова.
— Я покажу «дурак»! А очки в туалете драить не желаете? Опять что-то замышляете, голубки. Но я вас выследил. Будете теперь у меня на виду, и чтобы больше в бытовке не запирались. Как только сюда зайдёте – наряд! Но это только первый раз, а второй – два, третий – три. Я возьмусь за ваше воспитание! Вы у меня будете гладенькими. – Сержант зло махал пальцем. – Ох и добренькие у нас командиры. Эх, если бы я был начальником училища или командиром роты, вы бы у меня вместе с голубями вылетели за ворота. В армии главное – устав и дисциплина. А у вас её ни капли, — сержант остановился с поднятым вверх пальцем.
— Всё понятно?
— Не всё. А как гладить? – пожал плечами Витька. – За каждые брюки два, три и четыре наряда?
— Марш! Марш отсюда! – задёргался палец Чугунова. – Чтобы только с ротой, только на виду. Только на глазах.
Первая победа
Целых три дня суворовцы Шадрин и Соболев находились на глазах сержанта Чугунова, поэтому очки в туалете блестели снежной белизной. На четвёртый день Витька взорвался:
— Надоело! До конца училища или мы сотрёмся, или туалет.
— А что мы можем? Мы виноваты, — сказал Санька.
— А мне виноватым быть надоело, — провёл Витька рукой по горлу. – Каждый день виноват! За что виноват? Так всю жизнь можно быть виноватым за себя и за других! За то, что делал, и за то что не делал! Откуда знать, что хорошо, а что плохо? Мы же голубями хотели удивить!
— Удивили! Чуть концерт не сорвали. Думать надо было! И, помнишь, Володя говорил, что наши острые углы надо обточить, чтобы хотя бы друг друга не ранили.
— Но такой обтачкой меня скоро сотрут совсем. А у меня от холодной воды на руках цыпки. Нет, я его проучу. Чугунов меня ещё запомнит!
— А последнее предупреждение Сорокина?
— Сделаю так, что никто, даже ты не узнаешь…
И Витька ушёл в раздумья. Он затих, замолчал и безропотно подчинялся Чугунову. Вечером он молча брал ведро, мыло, тряпки и спокойно принимался за работу. И только Санька переживал, как бы эта тишина не разразилась мощной артиллерийской канонадой по противнику, а, случись ошибка, и по своим войскам. Отец говорил, если на фронте затишье – жди беды. А за Витькой не задержится.
Санька пытался растормошить его, узнать, что тот придумал, но бесполезно. И наконец, через неделю, Витька произнёс:
— Я его опозорю. Над ним всё училище будет смеяться и пальцами показывать.
— Ничего у тебя не получится.
— Ещё как получится, — заверил Витька.
— Но ведь он сержант!
— А если сержант, что нам до конца жизни из туалета не вылезать?..
На этом разговор закончился, и Витька как бы захлопнул дверь в тёмную лабораторию, где готовилось секретное оружие. И Санька опять переживал, как бы оно не сдетонировало, не взорвалось, и он не потерял друга. Единственное, о чём он догадался: испытания намечены на сегодняшнюю ночь.
И первая её половина прошла не спокойно. Санька просыпался, но Витька спокойно посапывал и даже улыбался во сне. И Санька успокоился. Ему снилась прозрачная роща и лучи солнца, которые пробивались через листву. Он видел, как меж берёз течёт ручей, слышал его журчание, и вдруг сильно захотел в туалет. Он проснулся и увидел, как Витька склонился над кроватью сержанта и переливает над ним воду из одной кружки в другую.
— Ты что делаешь, — шёпотом спросил Санька.
— Отвяжись, не мешай! – отрешённо ответил Витька. – Не видишь – Чугунова позорю.
— Зачем?
— Чтоб над ним всё училище гоготало.
— Как это?
— Сейчас он обмочится. А завтра все будут ржать!
— Хватит. Тебя заметят.
— Да я только часок переливаю, а надо, чтоб наверняка.
— Хватит, — настойчиво сказал Санька.
— Ты что кричишь? Сейчас дневальный придёт.
— Хватит, — продолжал настаивать Санька, встал и взял его за руки.
— Уберись, — шёпотом возмущался Витька. – Сейчас на Чугунова капну, и он проснётся.
— Прекращай! – Санька вцепился в него клещом.
— Ну ладно! Если бы не ты… А вдруг не получится. Специально тебе не говорил. Знал, что помешаешь… — И недовольный залез под одеяло…
Сразу же после команды «Подъём!» Санька быстро оделся и, прежде чем выпорхнуть за шинелью и собраться на прогулку, задержался у кровати сержанта и легко вздохнул. Выдержка Чугунова оказалась железной, его простыни были сухими. Но радость была преждевременной. Витькино секретное оружие всё-таки сработало. Сержант ходил по спальне, брезгливо брал двумя пальцами одеяла и обнажал мокрые простыни суворовцев второго взвода. Обладатели позорных простыней густо краснели. – Что это, эпидемия что ли? – возмущался Чугунов, но почему только половина второго взвода?
Но не только второй взвод поразил Витька секретным оружием. В третьем опозорился Женя Белов.
После этого второй взвод на прогулку не вышел, молча застирывался в умывальнике и потом развешивал простыни на дужках кроватей. В казарме до обеда стоял неприятный запах.
После занятий в роту пришёл начальник медицинской службы и долго задавал странные вопросы:
— Что ели? Кому приходила посылка? Кто и чем угощал? – после того, как ответы не удовлетворили его, пошёл в столовую, посмотрел, как сидят суворовцы, и был страшно разочарован, что проштрафившиеся сидели за столами со всеми. – Первый случай в моей медицинской практике, — безнадёжно разводил он руками. – И вообще – загадка медицины!
Чугунов ходил гордый, будто он раскрыл в роте заговор, а Витька скромно молчал и шептал в краснеющее Санькино ухо:
— Полчаса не хватило, а так бы этот павлин хвост не распускал. Ишь какой непобедимый!
Витькиного секретного оружия так никто и не разгадал, и он, довольный тем, что остался вне всякого подозрения, перед обедом ворвался в казарму и заорал:
— Санька, письмо! Второе письмо! Где ты? – и схватив его за рукав, потащив в бытовку.
В первую очередь он громко восхитился словом «Здравствуй, Володя!»:
— Наверно, догадалась!
От Витькиной прозорливости у Саньки что-то сжалось в груди, и он предложил:
— Давай каждый про себя, а то ещё услышат?
— Хорошо, — кивнул Витька, по-кошачьи на цыпочках подошёл к двери, выглянул в коридор, вернулся и уселся на стол. Потом, шевеля губами и ворочая головой, внимательно изучил всю страницу и передал листок.
И тут Санька почувствовал, как у него сначала сжалось, а потом неукротимо, во всю грудь, заколотилось сердце, и от этого воздух с трудом стал протискиваться в лёгкие. Лида, это имя он часто повторял про себя в эти дни, извинялась, что назвала его Володей и благодарила за письмо, которое к своему удивлению, ждала. Она писала, что в этот день, когда его получила, ей было грустно, и вдруг захотелось встретиться с автором письма.
«Я пришла на вечер и почувствовала, что Вы где-то рядом. Мне показалось, что Вы смотрите на меня. Я даже танцевала с Вами, но почему Вы не признались?» Письмо так и заканчивалось этим вопросом.
Витька радовался и шёпотом кричал:
— Лыча – молодец! Ой, молодец! Как он их хорошо знает. Второй раз ответила, на вечер пришла! Теперь она в сетях! Всё, бегу к нему, — он схватил письмо и сложил тетрадный листочек вчетверо.
— Постой! Отдай! Не надо Лыче показывать, — как показалось самому себе, жалобно попросил Санька. – Зачем ему знать о Лиде и Володе, ты же сам…
— Хорошо, на, — протянул письмо Витька. – Я ему так всё объясню. Он мне пять писем напишет…
Новость об эпидемии в седьмой роте мгновенно облетела училище, но к вечеру разговоры о ней поутихли. И когда Санька выходил после ужина из столовой, то в раздевалке увидел Карпыча. Тот усердно разминал свой тонкий карандашный палец.
— Никак Толю встречает, — сказал Витька. – Давай подождём, может, наша помощь понадобится.
Когда Толя вышел, Карпыч тотчас же окликнул его:
— Ну, ты, писун, иди сюда, пиявку поставлю!
Толя остановился.
— Ну иди, иди. В бокс проиграл, училище опозорил. Иди, долг отдам. Сколько я тебе ещё должен?
И то, что Карпыч напомнил Толе о боксе, было его непростительной ошибкой. Услышав знакомое слово, Толя вдруг сгруппировался, втянул огненную голову в плечи, сжал кулаки и сделал такую зверскую физиономию, что Карпыча от неожиданности сдуло на несколько метров назад. И как было не сдуть, когда от одного Толиного лица не одному Карпычу, а целой роте Карпычем впору было испугаться.
Опомнившись, Карпыч свёл глаза над своим картофельным носом и позвал:
— А ну иди сюда, с-с-сченок, пиявку поставлю.
— Сам иди, — из глухой защиты подавал голос Толя.
— А ну иди сам, — настаивал Карпыч.
— Нет, сам иди.
— Иди, а то будет хуже, с-с-сченок.
— Это мы ещё посмотрим, — на этот раз за Толю сказал боксёр в весе комара, сделал шаг навстречу, и Карпыч отступил.
И тут с улицы донеслось:
— Шестая рота, становись! Равняйсь! Смирно! – Карпыч вылетел из столовой, и уже после команды «Шагом марш!» – донеслись слова подполковника Петренко: — Карпов, горе моё! Опять опаздываешь? Ну сколько можно? Марш на левый фланг! Ну когда ты научишься?..
— Молодец, — похвалил Толю Витька. – Молодец, здорово ты его!
Толя смущённо улыбался. Это была его первая боксёрская победа.
Шабурковский Бетховен
Через два дня об эпидемии во втором взводе уже не вспоминали, а на третий объявили карантин, отменили увольнения, танцы, поход в театр, и половина училища вместе с сержантом Чугуновым заболела гриппом.
В субботу Витька, счастливый, что наконец-то удалился с глаз сержанта, сбегал к Лыче, и тот написал второе письмо. Он торопился показать его Саньке, но в коридоре встретил Женю Белова.
— Мне больше всех не везёт, — жаловался Женя. – Вот и сегодня иду в наряд, а туалет самому придётся мыть.
Витька нетерпеливо посочувствовал ему, побежал за Санькой, показал Лычино сочинение и поручил всё переписать печатными буквами…
На фильмы, которые показывали в воскресенье в семнадцать часов, обычно ходила малышня из седьмой и шестой роты. Остальные находили себе занятия поинтересней в увольнении, роте и ещё где. На этот раз все роты привели строем и посадили на свои ряды. Седьмая рота — впереди, первая – на камчатке. На сцене блестели трубы музвзвода, как на троне восседал огромный золотозубый барабанщик Петя. Младшие переговаривались шёпотом, поглядывая на командиров, а старшие возмущались, показывали знаки музыкантам и искренне удивлялись, зачем это оркестр перед кино взобрался на сцену. Изредка с камчатки доносилось:
— К чему марши-то перед кино?
— Что они там собираются делать?
— Ха, таперы, фильм озвучивать! – летело с одного конца зала.
— Сапожники! – орали с другой стороны камчатки.
— Они собираются танцы на сцене устраивать!
В зале уже начали топать сапогами, но на сцену поднялся заместитель начальника училища полковник Зотов, поправив квадратные очки, строго посмотрел в зал и потребовал, чтобы суворовцы научились управлять своими эмоциями. Подождал, когда эмоции будут укрощены, и объявил, что в рамках эстетического воспитания духовой оркестр нашего училища теперь каждое воскресенье будет играть классические произведения из репертуара Моцарта, Баха, Бетховена и Чайковского.
— Этой прекрасной идее поднять музыкальный уровень во время карантина мы обязаны дирижёру оркестра майору Шабурко. Майор вышел перед залом и слегка качнул головой.
— Эта зануда до самого ужина будет нас оглушать, наклонился и шепнул Витька, — и поэтому Санька не расслышал, что же собирается сейчас исполнять музвзвод – сонату или симфонию, и кого – Баха или Бетховена?
Когда Шабурко взмахнул руками, со сцены в зал потянулось что-то тяжёлое и грустное, по-кладбищенски тоскливое.
Санька оглядывал зал и думал, что после карантина оркестр должен будет перейти на что-нибудь весёлое. Старшие суворовцы поудобнее усаживались на сиденья, втягивали головы в расстегнутые шинели и пытались уснуть. Младшие внимательно осматривали оркестр и золотозубого Петю, который нечасто, но усердно вбивал колотушку в большой барабан духового оркестра и улыбался не в тон мелодии. И только один Волынский, сидевший на первом ряду, подпирал голову руками и с восхищением слушал музыку. В музыкальных переходах Волынский вздрагивал, и со стороны казалось, что он рыдает.
— Ты письмо отправил? – спросил Витька.
Санька кивнул. Ещё бы не отправить. Лыча опять сочинил про ландышевый сад волос, в котором он окончательно запутался и теперь умирает, как хочет увидеть Лиду. «Но карантин, как море, разделил нас». В конце письма Лыча, прощаясь, поцеловал Лиду, но даже Витька вычеркнул этот прощальный поцелуй.
Писал Санька ночью, попросив дневального его разбудить. Писал, какой тяжёлый у него был день двадцать третьего февраля, писал, что видел её, но не решился подойти. Писал о том, что вспоминает её, что перед письмом она приснилась ему. И это была правда. Она приснилась, и он с ней танцевал. Только не на вечере, не в зале, а на лесной поляне, которую однажды видел летом, среди белых диких пионов и алых саранок. И ему было не страшно и не стыдно. И он написал ей про луг. Потом попрощался и попросил ответить на письмо.
Когда оркестр доиграл, в зале стало тихо и хорошо. И Санька подумал, что Петя барабанным грохотом настучал всему училищу по голове. Довольный своей работой, он улыбался.
На сцену поднялся полковник Зотов, поздравил майора Шабурко и, захлопав, подал знак залу. Зал ответил редкими вялыми хлопками, и только Волынский от души с маху плющил огромные ладони и выкрикивал:
— Бра-во! Бра-во! Бра-во!
Санька оглянулся и увидел, как Петька Лычов показывал на Волынского и потом крутил пальцем у своего виска.
Взял
Вот вторник после уроков капитан Баташов подозвал Саньку к себе:
— Скоро конец четверти, а ты до сих пор не можешь через козла перепрыгнуть. Что говорит майор Иванов?
— Говорит, чтобы я мысленно перед сном тренировался и делал это каждый день.
— И получается? – капитан положил руку на Санькино плечо.
— Мысленно получается, — вздохнул Санька, — это же не на самом деле.
— Мысленно это, конечно, хорошо, — улыбнулся Баташов, — но сегодня я попросил вожатого, чтобы он сходил с тобой и с Декабрёвым в спортзал. А то мысленно… — ещё раз улыбнулся Баташов и качнул головой.
«Да если б он знал, — подумал Санька, когда остался один, — как часто я разбегался, отталкивался от мостика и перелетал через козла, упираясь ногами в маты, как засыпал и видел эту чёрную култышку на деревянных ногах». Он прыгал до тех пор, пока, оттолкнувшись, не улетал куда-то высоко, в сон, где мечтал встретить маму, отца, деда и в последнее время её, Лиду. Он мечтал увидеть её такой, какой она была на вечере двадцать третьего февраля, какой представлялась в письмах: красивой, голубоглазой, ждущей помощи. И он приходил к ней и был рядом, а утром забывал, как её выручал, от кого защищал. Но то, что помогал, помнил.
После второго часа самоподготовки они с Толей пошли в спортзал. Володя в выцветшем чистом трико, светло-коричневом льняном свитере и старых полукедах ждал их в раздевалке.
— Давайте скорее, в спортзале пока никого нет. Я козла чуть укоротил.
Козёл с широким кожаным матом позади действительно казался маленьким и даже мелким.
— Значит так, — в голосе Володи зазвучала твёрдая струнка. – Сейчас разминаемся, а потом прыгаем. Прыгаем и прыгаем, пока не выполним упражнение! А теперь за мной по залу.
Разминка длилась недолго, минут десять, но Володя всё время подбадривал:
— Бегом, бегом, не отставать.
Скоро майки стали влажными, пот капельками стекал по лицу, И Санька с Толей тяжело задышали.
— А теперь друг за другом. Я вас страхую. Главное, оттолкнуться, поверить, наскочить, перелететь. И так пока не получится.
Санька разогнался, подбежал к мостику, но испугался, затормозил и налетел грудью на козла, но сильными руками был пойман и отодвинут в сторону.
— Ничего, не останавливайся. Набегай снова, — подбодрил вожатый.
Санька пошёл снова, повторяя про себя; «Прыгну, сейчас перепрыгну».
Он вновь помчался к снаряду, достиг мостика, напрыгнул, выставил руки вперёд и сел на козла. Тут же почувствовал, как его приподняли и перетянули на мат.
— Не останавливайся, — услышал он, спружинил на ноги и побежал обратно, не замечая, как навстречу летит Толя.
Вернувшись в исходную точку, он вновь помчался на снаряд и опять оседлал его, и вновь сильные руки перетянули Саньку. И опять же спружинил на ноги. Опять бежал, опять повторял: «Перепрыгну, перепрыгну, перепрыгну»… С каждым прыжком козёл становился меньше и меньше. Санька еще садился на него, а после приземления чувствовал, что вот-вот перелетит, перескочит, перепрыгнет.
Этот момент наступил неожиданно. Санька оттолкнулся, на лету ударил ладонями о скользкую кожу, слегка задел о край снаряда и перелетел, упав на колени. Он не поверил, что перепрыгнул сам, оглянулся: Володя радостно улыбался:
— Молодчина, получилось!
Санька не успел почувствовать победу, как увидел, что на него летит Толя. Он увернулся, а тот, оказавшись на месте, подпрыгнул и хлопнул в ладоши.
— Ура! Я его взял!
— А ну давайте ещё разочек, — радостно приказал Володя.
Санька вышел вперёд, чуть задержался и сжал кулаки.
«Сейчас, козёл, сейчас»… — со всей силы отталкиваясь от гладкого пола, добежал до мостика, напрыгнул, спружинил, легко перелетел коричневую тушу и впечатался в мат.
— Молодцы, — оттолкнул Саньку в сторону Володя и помог приземлиться Толе.
Потом вожатый помог отработать прыжок, приземлился и, подняв козла, потребовал, чтобы вновь преодолели его.
Удивительно, но Санька даже не успел испугаться. Он видел Володю, знал, что тот поможет, и наверно поэтому у него всё получилось. И когда Володя вновь удлинил на одно деление ноги снаряда, Санька без труда преодолел его и приземлился на матах.
— Ну вот и всё, — сказал Володя. — Потом можно будет отрабатывать прямые ноги, оттянутые носочки, приземление, отход, а это уже три бала, — и, помолчав, добавил: — Другие сильны от рождения. Им всё легко досталось. А вам, чтобы быть на их уровне, нужно бороться. Бороться, а не тратить время на обиды. Каждую свободную минуту вам нужно тренировать руки, ноги, тело. Если каждый час выбирать минуту и отжиматься всего по десять раз, то за день это будет сто пятьдесят. Мышцы будут сильными и упругими. Если на строевой не получается поворот на месте, уйти в укромный уголок, чтобы не засмеяли, повтори пятьдесят, сто раз – получится. Задача не даётся, разбери двадцать штук, схватишь решение, будешь их щёлкать, как орешки…
По дороге в казарму Володя рассказывал о двигателе за спиной, который наполнит воздухом купол парашюта, сделает его упругим, и тот оторвёт человека от земли и поднимет к облакам. Санька слушал, и ему до боли хотелось отблагодарить Володю. У самой казармы он, собравшись, сказал:
— Володя, как хорошо, что ты нам помог, я бы никогда сам не перепрыгнул.
Вожатый пожал плечами:
— А кто бы за тебя это сделал? Это не я, это вы сами. Никто никого не сможет заставить или помочь, если он сам не захочет. Я только подстраховал, чтобы вы не ушиблись и не столкнулись. А перепрыгнули вы сами. Главное, чтобы вы не столкнулись. Иначе – катастрофа.
Толя безразлично зевнул, а Санька вспомнил, что люди-миры, а Земля-Вселенная. И самое главное, не допускать столкновения этих миров.
Когда он вошёл в казарму, затараторил звонок, со второго этажа послышалось хлопанье крышек парт. Закончилась самоподготовка. Санька побежал наверх к Витьке сообщить о победе. Но тот, взбудораженный, моментально столкнул его со счастливой вершины.
— Чугунов выздоровел.
— Так что нам опять туалет драить?
— Нет, у него после болезни освобождение на три дня. Так что ещё два дня туалет нас подождёт. Опять мы Женю не осчастливим.
Учебная тревога
Только прозвенел звонок с шестого урока, и Витька уже приготовился бежать в библиотеку, узнать, есть ли письмо от Лиды, как громко, на всю казарму дребезжащим голосом командира роты разнеслось:
— Тр-р-ревога! Тр-р-ревога! Выходи строиться с противогазами.
Суворовцы молниеносно повскакивали из-за парт и, оставив на них тетрадки и учебники, помчались вниз, в раздевалку, быстрее надеть шинели и шапки, схватить с полки противогазы, выбежать перед казармой и занять своё место в строю.
— Становись! Р-р-равняйсь! Смир-р-рно! – продолжил командовать на улице майор Сорокин и неожиданно крикнул. – Газы!
Суворовцы, тут же зажав шапки между колен и выхватив из сумки противогазы, стремительно окунулись в голубовато-серую резину, и, мгновенно расправив её на лице, стали одинаковыми: хоботастыми и лупоглазыми.
— Отставить! – скомандовал командир роты. – Медленно надеваете. А вы, Белов, зачем вдыхаете? Отравленным воздухом надуетесь, а организм свой отравите!
Женя, наверно, опять подумал, что ему больше всех не везёт.
— Одного вдоха достаточно, чтобы умереть, — продолжал командир роты. А вы нужны, чтобы воевать и людьми руководить. Живыми нужны! Будем тренироваться! Так, объявляю для тех, кто выполняет неправильно и для вас, Белов! По команде «Газы» задержать дыхание, надеть противогаз и выдохнуть! – понятно, Белов?
— Так точно, — грустно отозвался Женя.
Минут пятнадцать Сорокин заставлял надевать и снимать шлем-маски, а потом скомандовал «Газы», повернул роту направо и повёл известным маршрутом за ворота училища, мимо автопарка, санчасти, Солдатского озера за город.
Сегодня был четверг, шла обычная противогазовая подготовка, и до обеда нужно было совершить марш-бросок в восемь километров, четыре туда и четыре обратно. Да что восемь для седьмой роты, третья, вторая и первая сидели на занятиях в противогазах и шли, не налегке, а с оружием и полной солдатской выправкой: вещмешками, сапёрными лопатками, боеприпасами…
Сейчас Санька приказывал себе идти нога в ногу со вторым взводом. Он уже знал, как плохо задерживаться на левом фланге: чуть отстал – потом будешь бежать и догонять. А тут такая хорошая возможность дать нагрузку ногам. После тренировки с Володей он теперь каждый час отжимался, и у него уже получалось не сто пятьдесят, а сто восемьдесят и более раз в день. Всё тело болело, но это была приятная боль – боль тренированных мышц. Да и Чугунов, когда однажды увидел его маленькую зарядку между кроватями в спальне, подкрался и, как за что-то недозволенное, хотел наказать, но остановился и нехотя, почти по слогам выдавил:
— Ну мо-ло-дец! Может ког-да-ни-будь из Вас что-ни-будь и по-лу-чит-ся!
Они уже прошли километр, и пот, собираясь в капельки под шлем-маской и щекоча, стал прокладывать себе дорогу по лицу. Это для Саньки было самое неприятное. Это было даже хуже того, что в противогазе он сначала задыхался, хотел его выбросить, дать лицу окунуться в прохладу морозного ветра и вздохнуть воздух полной грудью. Капли со лба заливали глаза, и одна самая противная, с переносицы, до зуда, щекоча, пробивалась у носа. Саньку раздражало его бессилие против неё. Жёсткая резина противогаза не продавливалась, и капля издевалась и поползла вниз, к подбородку, и ничего нельзя было с ней сделать.
Все: офицеры, сержанты, суворовцы шли, и никто не помышлял сбросить с себя проклятую резину, вытереть лицо и легко вздохнуть.
«Только бы переждать эту проклятую каплю! Только переждать, а там будет легче, — думал он. – Это уже не в первый раз. И не отстать! Вперёд, вперёд рядом с Витькой, за Борькой Топорковым!»
Дальше Санька отмечал про себя:
«Вот, хорошо, миновали санчасть… Теперь озеро… Вышли в лес… Теперь поле… Скоро река. Там дадут минут десять передохнуть, и в обратный путь. Но потом будет легче, откроется второе дыхание». Он отвлёкся и почувствовал, что капля ушла, и теперь, главное, не отстать, быть наравне со всеми, быть в строю.
А рота всё шла и шла. «Вот рощица, за ней отдых. Ещё немного! Ещё…» — И тут прозвучала желанная команда:
— Стой! Противогазы снять!
Санька сдёрнул шлем-маску, сложил её, обернул резиной очки, достал платок и вытер пот с лица. Воздух был свеж и сладок, как награда за долгий и тяжёлый путь. Витька стоял рядом и, закрыв глаза, дышал ртом. Майор Сорокин вытирал крупные капли со лба, и только лицо сержанта Чугунова было сухим, будто он был сделан из дерева, металла и пластмассы, но не из плоти и крови.
Санька чувствовал, как отдыхает его тело, как восстанавливается дыхание, как приутихла боль в мышцах. Ещё немного, и рота снова наденет противогазы и пойдёт обратно в училище, чтобы там перед обедом окончательно сложить их на полки, умыться холодной водой и идти на обед.
— Строиться! — Приказал командир роты. – Командирам взводов доложить о наличии людей!
Капитан Баташов пересчитал всех и вслух произнёс:
— Двадцать шесть человек. Однако не хватает. Кого? Командирам отделений посчитать и доложить!
— Болеева нет, — сказал Серёга Яковлев.
— Как нет? – удивился Баташов. – Но ведь он в строю.
— Был, — сказал Витька, — когда надевали противогазы, был, а потом, когда уже надели, было не понятно — был или не был. Все стали одинаковыми.
Баташов о пропаже Рустамчика доложил командиру роты, и майор Сорокин обратился к строю.
— Кто-нибудь видел Болеева?
Строй молчал. Все шли, задыхались, и никто не заметил, как он исчез.
— Товарищи – это дело не шуточное, — пробовал объяснить командир роты. С ним мог случиться приступ, а сейчас зима. Он мог упасть и замёрзнуть! А вдруг у него сердце?..
Строй молчал. Никто не видел Рустамчика. Вернее, когда выходили, видели, а потом нет.
— Товарищи, сейчас возвращаемся, и всем внимательно смотреть, может, он упал, сполз с дороги, — и тут же скомандовал. – Газы! – и рота снова окунулась в шлем-маски.
Обратно майор Сорокин гнал строй. Сержанты оглядывались по сторонам, но сколько они не смотрели, Рустачика нигде не было.
Перед казармой командир роты приказал снять противогазы, послал Чугунова узнать у дневальных, не возвращался ли Болеев, но через минуту он вышел и развёл руками. Рустамчик в казарму не приходил.
— Десять минут осмотреть казарму, сложить противогазы и выходить строиться.
Десять минут рота заглядывала под кровати, смотрела в классах под партами, искала в бытовке, сушилке, раздевалке, туалете, умывальнике и даже в каптёрке старшины – Рустамчика нигде не было.
— Строиться! Будем возвращаться и искать, — приказал майор Сорокин.
Рота обеспокоенная, усталая и злая выщла за ворота училища и пошла в обратном направлении.
— Он ваш товарищ, — говорил майор Сорокин, — и мы не можем позволить, чтобы он пропал.
Рота дошла до Солдатского озера и уже готова была углубиться в лес, как вдруг Витька выскочил из строя и подбежал к командиру.
— Почему покинули строй?
— Я знаю, где он находится. Мы его сейчас приведём. Подождите!
— Где?
— В санчасти!
Майор Сорокин посмотрел на Витьку, потом перевёл взгляд на Баташова и сказал:
— Возьмите отделение суворовцев и сходите посмотрите, может, он действительно там.
— Там, там! – настаивал Витька.
— Ну, Шадрин!.. – махнул предупредительно пальцем Сорокин.
— Бегом марш, — скомандовал Баташов, и отделение направилось к одноэтажному зданию санчасти. Через несколько минут они были там, но полковник Бобрович удивился и сказал, что Болеев сегодня не приходил и ни на что не жаловался.
— Да он не жаловаться сюда приходил, — настаивал Витька.- Я сейчас, — и бросился в палату.
— Куда Вы, — пытался заслонить ему дорогу Бобрович, — там всё стерильно. Это не гигиенично. Здесь вы должны быть только в халатах.
Но Витька будто не слышал, прошмыгнул у него под рукой и юркнул в дверь.
— Я же говорил, вот он, вот он, — раздался из палаты его радостный крик, и суворовцы бросились к раскрытому дверному проёму, чтобы увидеть, как Витька, распластавшись на полу, тащил из-под кровати Рустамчика, который упирался и не хотел вылезать.
Когда Витька всё-таки одолел его и вытащил как лису из норы на свет, лицо Рустамчика ещё было чуть опухшим от сна, и он недовольно разглаживал свои полные щёки.
— Вот хомяк, как сурок спал, — с какой-то злой радостью высказывался Витька. – Мы потели, мы бегали в этой резине, мы искали его. А он, гад!..
— Да, — закусил губу капитан Баташов. – А если б это была не учебная тревога, а боевая?.. Нехорошо!.. Очень нехорошо!.. Как Вы теперь будете в глаза своим товарищам смотреть?..
Неумытая, потная и злая рота возвращалась в училище и шла сразу на обед. Рустамчик тащился в конце строя. С ним никто не обмолвился словом, и даже ротный ничего не сказал, не назвал его хитрым, не пристыдил, что так поступать нельзя, а просто поставил перед строем и сказал:
— Вот видите, какие бывают! Бывают и такие! И не самый слабенький!
С Рустамчиком и после обеда, и вечером, и на следующий день никто не разговаривал. Только вспоминали вдруг, что когда-то он за шкафом грыз орехи, конфеты под матрасом прятал. Хотели ему устроить «тёмную», но тут же забыли. А через два дня он плакал в канцелярии командира роты и просил отпустить домой. Сорокин долго не уговаривал его.
Скоро за Рустамчиком приехала мама, и старшина в каптёрке срезал с его гимнастёрки погоны и оторвал с брюк лампасы.
Прошло ещё два дня, и о Рустамчике никто больше не вспоминал, как будто его и не было. Саньке надо было ловить время и тренироваться, да и сержант Чугунов за то, что вновь поймал их в бытовке, объявил им с Витькой наряды на работу, и снова туалет блестел фарфоровой белизной.
Он хочет быть генералом
Санька сидел в классе один и решал задачи, которые он дополнительно попросил, когда Витька принёс ему письмо. Подписано оно было кривыми и тяжёлыми строчками, одна буква давила на другую, и от этого слова легли вповалку одно за другим. Санька не обратил бы на него никакого внимания, никогда не взял бы, но за маленьким типографским «Кому» чёрными чернилами было набросано: «Соболеву Саше». Причём «ш» походило на «т», и Витька, подав двумя пальчиками письмо, тоненько произнёс:
— Сата, тебе.
От письма сразу повеяло недобрым. Санька принялся расшифровывать каракули и, разобрав первую строку, понял, что писала тётя Катя, мамина сестра.
Она с первых строк извинялась, что вынуждена взяться за перо, что он уже взрослый и должен всё знать, во всём разбираться. Она извещала, что дед серьёзно болен, что у него белокровие, по-научному – лейкемия, или рак крови, и все ждут наихудшего. Дед тоскует, хочет его видеть, а она не разделяет мнение родителей, чтобы ты, Саша, ничего не знал. Заканчивалось письмо ультимативно: «Коль тебе хватило мужества уйти из дома, тем более хватит его, чтобы знать всю правду. Болезнь неизлечима, дедушки скоро не станет».
Слова из письма не сразу, а как-то постепенно заполняли сознание. Из глубины наступали слёзы, и чтобы хоть как-то сдержать себя, он прикусил нижнюю губу.
— Сань, что случилось? – почувствовал неладное Витька.- Что произошло?
— Дедушка… дедушка… — всхлипывание прорывалось наружу.
— Что, уже? – испугался Витька.
— Нет, нет, тётка пишет, что болезнь неизлечима, рак крови.
— Ра-ак! – Витька молча сел рядом. Это слово как бы придавило его, и он замер, боялся звуком или движением задеть Саньку.
В класс никто не входил, но Санька сдерживал себя, чтобы не сорваться вновь и не всхлипнуть. Но тишина, такая желанная в этот момент, неожиданно легко рарубилась стальным голосом сержанта Чугунова:
— Опять отдельно ото всех, опять что-то замышляете? О, да вы вместе горюете! – усмехнулся сержант. – Никак что-то не вышло. Надо знать, держат вас в ежовых рукавицах. Туалетотерапия пошла на пользу. Я в ваши годы остался без отца. Так мне не до шкодливости было. Это вас здесь балуют. Котлетки, винегретики, вторые завтраки с печеньем и яблоками. А вы бы на одной картошке, тогда бы не до выкрутасов.
Сержант был возбуждён, и чем больше он говорил, тем чаще в его словах проскакивало что-то визгливое, женское, и если бы из коридора не донеслось: «Сер-р-ржант Чугунов», — неизвестно, каким бы писком он закончил.
Чугунов тут же собрался, выпрямился и даже расправил свои густые смоляные брови.
— Я! Я здесь.
Тут же в двери показался командир роты с листком в руке.
— Смирно! – подал команду сержант.
— Вольно, вольно, — не глядя на суворовцев, сказал майор Сорокин. Чугунов, выйдете в коридор, надо поговорить. – Понимаете, с училищем пока ничего не получается, Вы пока не окончили среднюю школу, — раздался из-за двери спокойный голос командира роты.
— Но я летом…
— Вот к лету и начнём собирать документы. Характеристики заготовим заранее. Служите Вы хорошо, по уставу, замечаний нет. Подождём и всё успеем. Вы ещё к нам вернётесь, может, будете офицером-воспитателем?
— Ну уж нет, никогда! – отрезал Чугунов. – Я лучше со взрослыми людьми. Извините, не привык по головкам гладить и желанья угадывать наперёд. Дисциплина есть дисциплина, а устав есть устав. Надел погоны, изволь всё выполнять. А тут детский сад.
— Значит, только устав и приказ? – переспросил Сорокин.
— А что ещё?
— А ещё кое-что, — задумчиво ответил командир роты. – Перед вами не машины. Может, вам не надо становиться офицером, тем более поступать в общевойсковое. Может, в автомобильное? Хотя там тоже люди.
— Вы хотите сказать, что из меня получится плохой офицер? – И Санька представил, как Чугунов вытянулся, глаза его побелели, кожа за щеками заволновалась и стала бугриться. – Нет, вы меня плохо знаете. Из меня получится отличный офицер. Я ещё генералом буду…
— Что ж, ваша целеустремлённость похвальна, — остановил его Сорокин. – Но речь идёт не об офицере, а командире… Офицеров много, а командовать могут не все.
Когда разговор ушёл вглубь коридора, они остались одни, Витька тяжело вздохнул:
— Что ему я, ты, твой дедушка? Что ему с того, что пришло такое письмо? Он хочет быть генералом. – И грустно продолжил. – Тебе такое письмо из дома пришло, мне давно из дома не пишут, и Лидка молчит. Что делать будем?
— Не знаю, — всхлипнул Санька, — не знаю, что будем делать. Давай ждать.
Неожиданное приглашение
Шестым уроком была контрольная по арифметике. Санька решил её за минут двадцать. Он встал и положил исписанный сдвоенный листок на стол преподавателя. Тамара Александровна подняла свою завитую голову и посмотрела сквозь очки:
— Сядьте и проверьте.
— Я уже.
— Ну если ошибка, голову на рукомойник переделаю, — как всегда грозно пошутила она.
«Какая ошибка? Скорее в библиотеку, только бы никто не встретил, не вернул. Может, письмо из дома? Как там дед?»
Библиотекарша с трудом подняла тяжёлую от сплетённых в тугую корзину волос голову.
— А, Соболев, письма нет. Книжку менять будете? Хотите «Алые погоны», о суворовцах.
— Нет.
Санька чуть было не расстроился, но подумал: «Значит, пока всё хорошо». Ему стало легче. Но через минуту что-то вновь сжало сердце: «Может, не пишут оттого, что дедушке очень плохо?»
— Да, Соболев, — опустила тяжёлую голову библиотекарша, — письмо вашему Шадрину. И почерк, кажется, девичий, — посмотрела она пристально в глаза. – Или не девичий? – потянула после небольшой паузы.
— Не знаю.
— Тогда передайте ему, — и добавила. – Так кто же вашего Шадрина на свидание приглашает?
Санька молча взял письмо, поблагодарил и, чтобы не отвечать, быстро вышел на лестницу.
По лёгкому прозрачному ровному, почти как у Лычова, закрученному в пружинки почерку он узнал Лидино письмо. Казалось, оно пахло ландышами, весной, и у него даже возникло желание поднести конверт к лицу и вдохнуть аромат. Хотелось разорвать конверт, но он вспомнил Лычин ландышевый сад и обругал себя за проснувшуюся в нём бестолковость и глупость.
Контрольная ещё не кончилась, но у дверей класса стояли группами суворовцы и шелестящим шёпотом сверяли ответы. Витьки среди них не было.
«Наверно, задача не получилась, — подумал Санька и сразу увидел его в вестибюле у окна. Тот в глубокой задумчивости смотрел в пол. Санька тихо подошёл, но дощечка паркета скрипнула под ногой, и Витька оглянулся.
— Сань, тебе концерты музвзвода не надоели?
— Надоели, но ведь заставляют слушать.
— А знаешь, что я придумал?
От этого «придумал» у Саньки сердце будто попало в силки, и тогда он протянул письмо, чтобы хоть как-то погасить её, идею, которая вновь зарождалась в Витькиной голове.
— Возьми, от Лиды.
Витька обрадовался, посмотрел его на просвет и надорвал со стороны картинки. Улыбаясь, он развернул листок и сразу стал похож на умилённого сытого кота. Но вдруг его лицо вытянулось, он побледнел, как свечка, и протянул письмо:
— Что делать? Ведь мы будем на концерте этого проклятого музвзвода!
Санька пробежал глазами по лёгким пружинкам, в которых было два предложения о себе. Но последняя пружинка, казалось, разжалась и заставила вытянуться не только Витьку, но испугаться до лёгкой испарины его самого.
«Володя, я приду в это воскресенье в пять часов ко вторым воротам и буду ждать тебя в парке».
— Но этот музвзвод будет опять дуть «Моцарта», — обречённо отдал письмо Санька.
— Мы ещё посмотрим, кого они будут дуть, кого надувать, и кто ещё кого надует. Всё с письмом решено. Его передам Володе. Я его в конвертик положу и подпишу печатными буквами.
— А может, не надо? Может, он этого не хочет? Может, он хочет не так? – попробовал отговорить Санька, хотя понимал, что Витьку уже не переломишь.
— Ведь мы для него старались. Ему нужна встреча. Или ты на свидание сам пойдёшь? Интересно на тебя посмотреть, как ты будешь с Лидой встречаться? – вдруг рассмеялся он. – И пора уже всё заканчивать. Он же любит, он должен её встретить. У них всё будет отлично, стоит только начать. Тем более, письмо своё дело уже сделало. Осталось за малым.
— Но ведь в воскресенье концерт, — запротестовал Санька.
— С концертом уже моё дело. Решим. Главное – селёдка.
— Какая селёдка? – Санька понял, что канцелярии ему вновь не миновать. – Ты знаешь, Сорокин предупредил.
— Но Володя… Это его последний шанс, — поставил точку Витька.
— Да, последний, — согласился Санька и подумал: «Не только его».
Прозвенел звонок, в коридор стали выходить суворовцы.
Витька стоял, смотрел в окно и что-то решал, наконец, стремительно направился в класс второго взвода, сел за парту и через минуту подписывал чистый, без марки, конверт Володе Зайцеву. На месте адреса он вывел «Лида».
В четвёртую роту пришли после занятий. Витька велел Саньке спросить о Володе дневального, и стоило тому отвлечься, изловчился втиснуть письмо в общую стопку, а потом, как бы спохватившись, запричитал:
— Я ж совсем забыл, у нас через пять минут построение!
Схватил Саньку за руку, вытащил из роты и потянул по направлению к своей казарме.
— А ты что, селёдку в винегретах думаешь собирать? – неожиданно спросил запыхавшийся Санька.
Витька смешно, будто смахнул грязь, крутанул пальцем у виска.
— Совсем чокнулся. На Дальнем Востоке — и селёдку из винегретов! Мы её из пайков сверхсрочников добудем. Она у них в бочке ржавеет, и они, сколько хотят, столько берут.
Вечером под конец ужина, когда сержант Чугунов приказал роте выходить строиться, Витька заторопил Саньку, допивающего стакан молока.
— Пошли скорее, надо узнать, дошло ли письмо.
Продираясь через выходящих из столовой суворовцев, он приволок Саньку к четвёртой роте.
— Володя! Володя Зайцев, мы к тебе. Ты не мог бы послезавтра, в воскресенье, пойти с Санькой в спортзал? Скоро проверка, а Саньке нужно с козлом потренироваться, и на перекладине упражнение жуть какое сложное.
Вожатый остановился и задумался.
— Лучше в воскресенье после музвзвода, — умоляюще закончил Витька.
— А может, завтра? – предложил Володя. – В воскресенье, после обеда особенно, не могу.
— Видишь, как хорошо получается, — шептал потом Витька в строю, — значит, письмо получил. Вот только концерт… Может, отменят? – и тут же добавил, — будь, что будет. Селёдка выручит.
— А зачем селёдка? – всё ещё не понимал Витькиного замысла Санька.
— Ещё не время, — поднёс палец к губам Витька. – Скажу в воскресенье. Главное, Володе помочь. А ты согласен за него пострадать?
— За него согласен, — тихо ответил Санька.
Причём тут селёдка?
В воскресенье, когда сытая рота вернулась после завтрака в казарму и лениво разбрелась по своим делам, Витька поволок Саньку в столовую, где они быстро отыскали дежурного:
— Извините, можно селёдку взять? – вежливо обратился Витька.
— Что, не наелись? – спросил огромный старшина с висячими до подбородка усами. Белая курточка на нём не застёгивалась и даже в таком виде мешала движению.
— Нет, наелись, — попробовал уйти от ответа Витька.
— Закусывать? – подмигнул старшина и рассмеялся громовым смехом.
— Да, нет, на костре жарить. Селёдочный шашлык, — лицо старшины сдвинулась по диагонали, и один ус поднялся над другим. Он озадаченно посмотрел на Витьку.
— И вкусно получается?
— Ничего, если селёдка жирная и не очень солёная.
— А у нас солоноватая, — понимающе посочувствовал старшина. – Но вы берите вон там, в бочке. Можете в водичке отмочить. – А вообще-то её по-разному едят, я слышал, в Швеции даже с повидлом. – Витька послушно кивал головой, а старшина откровенно добавил: — Я когда в школе учился, всегда есть хотел. Мне мамка не успевала готовить. Бывало, наешься, выскочишь из-за стола, а через час снова есть охота. Понятно, растёте! Вот заверните, — подал толстую мятую, как жесть, бумагу.
— А можно не одну? – спросил Витька.
— Да хоть десять.
Витька разложил бумагу и к удивлению старшины отсчитал десять жирных толстых с серебристыми боками и широкими синими спинами селёдок.
— Подождите, — сказал старшина и принёс два тяжёлых кирпича чёрного мягкого хлеба. – Кушайте, сынки. Приятного аппетита. Кормите свой взвод, — пожелал он на прощанье.
— Спасибо, съедим, — пообещал Витька.
— На здоровье, — ответил старшина, свято веря в селёдочный шашлык. В этот шашлык мог поверить и Санька, потому как Витька до сих пор ни словом не обмолвился о предназначении этой гастрономии.
Селёдку они спрятали в тумбочки спальни.
В классе, куда поднялись сразу, горячо спорили:
— Опять оркестр, опять, как на параде, греметь будут. Голова от них трещит, будто трубы в уши вставили и дуют, — больше всех горячился Серёга Яковлев. – И по телику сегодня «Подвиг разведчика». Как не пойти?
— Не пойдёшь ты, — возмущался Борька Топорков, — Сорокин всех построит, проверит, да ещё книжки отберёт, чтоб не читали.
— Можно подумать, в этом грохоте книжки можно читать, — удивился Толя Харитонов.
«Что делать?» Вопрос топором повис над вторым взводом.
Музыкальное воспитание выматывало училище покрепче постоянных лыжных кроссов зимой. Ненависть к музыкальному взводу и его командиру, видевшему себя на сцене клуба директором Большого симфонического оркестра, подогревалась и разгоралась.
— Может, их трубы чем-нибудь забить? – робко предложил Толя Декабрёв.
— Им забьёшь, — едким голоском сразил несуразное переживание Серёга Яковлев. – Это они тебя скорее забьют. Петя-Золотой Зуб сыграет тебе колотушкой по калгану.
— Дымовушку бы под сцену, — предложение Толи Харитонова насторожило всех. Борька разжал свои щёлочки и, задумавшись, посмотрел на Толю.
— А что, дымовушка – это дело, — сказал Серёга Яковлев, — и бросить можно незаметно, и клуб потом полдня будут проветривать, и Шабурко обидится, играть не захочет. А сделать просто: фотоплёнку и в бумагу замотал и поджёг.
И тут Витька, который сидел за партой, читал книгу и вроде вообще не следил за спором, вдруг приподнял голову:
— Задымить-то задымим, а вечером фильм про югославских партизан. Дыма будет, хоть топор вешай. А того, кто дымовушку подбросил, из училища попрут.
— А что, пусть в свои дуделки дудят? – возмутился Борька.
— Можно всё сделать намного проще, никому не попадёт. – И Витька поведал свой план…
— Ерунда, — сказал Серёга Яковлев.
— Это не я придумал, а где-то читал. Но в книге лимоны, а где я их возьму. – Витька взобрался на стол преподавателя и показал, что он хочет сделать.
И после этого даже Серёга согласился:
— Да, пойдёт! Только нужно занять первый ряд.
Борька Ткачёв тут же отправился договариваться с другими взводами, а Витька с Санькой спустились за селёдкой.
На лестнице они столкнулись с Чугуновым:
— Никак посылка, — спросил он, — что рыбу из дома получили?
Витька остановился и прижал пакет к груди. В этой встрече они меньше всего нуждались сейчас.
— А ну покажите, что там у вас?
Витька помедлил и решительно протянул свёрток:
— Да какая рыба, это селёдка.
— Селёдка? Будете есть? Только аккуратно. Можете идти.
Но Витька к Санькиному страху и удивлению радушно предложил:
— Угощайтесь, пожалуйста.
— Спасибо, не надо, — строго отказался сержант и стал спускаться вниз.
— Ты что? – сквозь сердечный стук еле услышал свой голос Санька.
— Будет он нашу селёдку брать. Ты что, не знаешь его? Он не позволит угоститься. А потом как нас заставить драить туалеты!
— Но теперь он будет знать, кто её принёс.
— Но ты понимаешь, что мы не для себя стараемся?
— Понимаю, — сказал Санька.
Прости, Бетховен!
На концерт духового оркестра роту вёл майор Сорокин. После первой же команды «Выходи стр-р-роиться!» все высыпали на дорогу перед казармой, и командир роты, не веря такой организованности, обошёл все классы, заглянул в бытовку, туалеты, спальню. Выйдя к строю озабоченный и беспокойный, он подал команду «Становись, равняйсь, смирно, шагом марш!» не так решительно, как первую.
В клубе рота расселась по своим местам спокойно, без шума, ни разу не хлопнула сиденьями. Второй взвод занял весь первый ряд.
Когда проходили по залу, Санька видел, что четвёртая рота уже в клубе, Володя сидел с краю, ближе к выходу. Он всё время беспокойно оглядывался на дверь.
Уже занял место на сцене музвзвод, его начищенные трубы блестели, золотые зубом сверкал Петя, и маленький курносый майор Шабурко находился у края занавеса и ждал своего выхода.
Наконец, прибывшая последней первая рота расселась на камчатке, и наглаженный, причёсанный, слегка взволнованный майор вышел на середину сцены, поклонился, поздоровался с залом и объявил. Майор Сорокин ещё раз внимательно оглядел свою роту.
Какое произведение будет сейчас играть музвзвод, Санька услышал. Он вдруг почувствовал своё сердце. Оно отяжелело, закаменело и, как на пружинах, забилось в груди. Казалось, что этот предательский стук выдаёт его, что он слышен командиру роты, что тот уже обо всём догадался и сейчас выйдет вперёд и скажет: «Что это вы задумали?»
Санька ещё раз приподнялся и посмотрел на вожатого. Володя оглядывался на дверь.
В это время Шабурко впервые за всё время игры своего оркестра достал лакированную палочку и взмахнул ею. Майор Сорокин сел удобнее в кресло и приготовился слушать.
И тут Витька толкнул Саньку и шепнул на ухо:
— Начали.
Сорокин не заметил этого движения.
Санька осторожно достал из кармана шинели маленький газетный свёрток и принялся его разворачивать. Казалось, шелест газеты заглушил игру оркестра, и что все сразу обернулись на него. Санька положил развёрнутую бумагу на колени, достал большие куски селёдки и хлеба и стал есть. Он думал, что все смотрят на него, и от этого солёная рыба не лезла в рот, а корка царапала горло.
Ему казалось, что ест он один во всей роте, что это бесполезно и глупо, но он знал, что там, в конце зала, сидит Володя, и ему надо помочь. Он увидел и услышал, как сбивается оркестр. Всё шло, как предполагал Витька: у музыкантов во рту от вида жующих селёдку скапливалась слюна, и они уже не могли нормально играть. Трубы фальшивили и не попадали в ноты. В зале это заметили, и поднялся смех. Шабурко, не понимая, что происходит с оркестром, беспокойно оглядывался. Майор Сорокин о чём-то догадался, встал, увидел жующий первый ряд, и Санька услышал знакомый дребезжащий голос:
— Пр-р-рекр-р-ратить, я пр-р-риказываю!
Наконец, старый сверхсрочник поставил на сцену огромную трубу.
— Не буду, — сказал он.- Это издевательство.
Трубы отложили другие, и только Петя, сглатывая слюну, ухал колотушкой в свой барабанище.
Наконец Шабурко ещё раз оглянулся, увидел жующую роту и в сердцах бросил на сцену блестящую палочку.
— Я буду писать рапорт, — и ушёл за кулисы.
Концерт был окончен. Командиры поднимали роты и выводили строиться. Седьмая шла, опустив головы. Старшеклассники смеялись, шутили и, казалось, подбадривали их.
— Ну седьмая! Ну кадеты! – и никто не сказал презрительное «щенки».
Майор Сорокин вёл роту в расположение молча. У казармы он распустил её.
— Кажется, как с эпидемией, всё обошлось, — сказал Витька, но тут за ним прибежал Серёга Яковлев.
— Сорокин приказал нам срочно подняться в канцелярию.
— Боишься? – спросил Витька, когда они поднялись на второй этаж.
— Да! – кивнул головой Санька.
— И я… Я тоже.
В канцелярии командир роты сидел за дерматиновым столом, а сержант стоял, чуть наклонившись к нему. Казалось, он только что сообщил что-то очень важное.
— Суворовец Шадрин по вашему приказанию прибыл, — доложил Витька, а вслед за ним Санька.
Сорокин поднял голову, чуть задержал на них взгляд, а потом повернулся к сержанту.
— Вы правы! Хватит с ними возиться. Мне надоело писать объяснительные и получать выговоры. Будем ставить вопрос об отчислении.- Затем он встал и скомандовал. — Кругом! – и добавил. – Идите, хватит, надоело.
Санька вышел и почувствовал, что комок поднялся опять из груди к горлу. Солёная жгучая влага заполнила глаза, и он понял, что через секунду начнёт реветь, как девчонка.
— Вить, а дальше что? Как я теперь домой поеду? У меня дедушка болеет, и что скажет отец?
— Да подожди ты, — спокойно сказал Витька. – Ещё не выгнали. Я пойду, посмотрю, Лидка пришла?.
Санька поплёлся в бытовку.
Свет в бытовой комнате загорелся неожиданно, ослепил, и, казалось, разбудил Саньку:
— Неужели я уснул? – подумал он и спрыгнул со стола.
Лицо у Витьки было обеспокоенное и даже испуганное. Всегдашняя улыбка как испарилась с его лица:
— Что случилось? Уже выгнали?
— Что выгнали, — опустился на стул Витька и вдруг заплакал. Витька, который не плакал никогда, сидел и плакал, вздрагивая плечами и вытирая слёзы. – Что выгнали? Что выгнали? Пусть хоть сто раз выгонят. Она ушла. Они разговаривали всего минут пять, и она ушла. Я к нему подошёл, а он знаешь, что сказал? Он сказал, что не надо было этого делать. Она любит другого. Насильно мил не будешь. А потом сказал, чтобы я больше никогда ничего за других не решал. Не надо сталкивать.
Санька вдруг понял, почему всё так произошло. Он вспомнил слова Володи «не надо сталкивать». Человек – мир, и у каждого своя атмосфера, свое пространство. Не надо сталкивать, может произойти катастрофа.
— Вить, — сказал он. – Я тоже думал, не надо писать, и только сейчас понял, почему. Мы не соединили их, а столкнули. А имели ли мы на это право? Ты знаешь, раньше Володя жил, мечтал о ней. А теперь всё. Мы этими письмами убили его мечту. Мы сорвали концерт, а может, не надо было срывать. И не только нам, но и Сорокину, и Баташову попадет. Мы, наверно, виноваты.
— Ты же сам не хотел на эти концерты ходить, — взвился Витька.
— Не хотел. Может, правильно делают, что выгоняют нас из училища. Вот только дедушку и маму с папой жалко. Они надеялись. Да, из меня не получится настоящий офицер. Офицером, наверно, нужно родиться.
Понедельник – день тяжёлый
Понедельник – тяжёлый день. А может, он вовсе не тяжёлый, если в воскресенье работаешь. А если от него ничего хорошего не ждёшь? А если в этот день решается твоя судьба?
С утра задул холодный пронизывающий до позвоночника ветер. Он тащил низкие чёрные, как дым, облака, рвал их на лохмотья и гнал за город. Рота, согретая горячим завтраком, спешила в казарму сохранить тепло до начала занятий. Старшина даже не подсчитывал ногу, замечая, что середина строя сбивалась. Когда они подошли , из дверей вышел майор Сорокин и объявил:
— Соболев, зайдите ко мне!
«Решилось, — подумал Санька, — пора собирать вещи».
— А почему меня не вызвали? – удивился Витька. – Это я во всём виноват. Нет, я пойду с тобой и всё объясню, — решительно заявил он.
— Не надо, — попробовал отговорить его Санька, но Витька не думал отставать.
Когда следом за Санькой Витька вошёл в канцелярию, командир роты тут же повысил голос:
— Шадрин, я Вас не приглашал, потрудитесь выйти.
— Но это я больше виноват.
— Выйдите, кому я сказал. С Вами отдельно разберёмся.
Витька, что-то бормоча, вышел, и когда дверь за ним захлопнулась, командир роты встал и протянул Саньке синий листок.
— Ты уже большой, мужчина, крепись. Вот телеграмма.
Санька ещё не успел прочитать больших букв на белых дорожках, как понял: произошло что-то страшное, что-то безвозвратно потеряно.
«Умер дедушка. Приезжай. Похороны завтра. Число. Месяц».
— Мы решили Вас отпустить, — как-то со вздохом начал говорить командир роты. – Жалко, сейчас нет капитана Баташова.
— Но получить деньги и купить билеты Вам поможет сержант Чугунов. Он Вас посадит на поезд и всё объяснит. Собирайтесь. На занятия сегодня можно не идти…
Перед тем как войти в городской автобус и следовать на вокзал, Чугунов строго спросил:
— Правила поведения суворовцев помните?
— Не садиться? – вопросом на вопрос ответил Санька.
Но в автобусе пожилая и круглая, как клубок, кондукторша вдруг пожалела его:
— Садись, миленький, садись.
Санька поблагодарил и продолжал стоять, глядя в окно.
На вокзале сержант посадил Саньку на широкое фанерное выгнутое под гигантское человеческое тело сиденье. Сам подошёл к кассе, купил билет и, вернувшись, сказал:
— Шестой вагон. Плацкартный. Нижняя полка. Вот сдача, — протянул деньги. Поужинаете в поезде, купите постель, а то, что останется, отдадите матери. В поезде не расстегиваться, ремень не снимать, по вагону не бегать, — продолжал он холодно инструктировать. – На станции выходить только одетым по форме. Отдавать честь. В общем, действовать согласно правилам и обязанностям суворовца. Они у нас в билете записаны.
— Так точно, — сглотнул комок Санька.
— И ещё… — начал сержант и, замявшись, замолчал. – Знаете… Так… Значит… — подыскивал он слова. – Вот что я хочу сказать, Соболев, — и положил Саньке руку на плечо. – Оставайся дома. Не хотелось тебе этого говорить, но так будет лучше и для тебя, и для училища, и для командования. Вон уже больше полугода в училище, а шнурок на ботинке развязан, шапка на затылке, ремень сдвинут, и это постоянное шкодничество со своим другом, постоянное нарушение дисциплины. Учишься не очень. Оставайся. Будешь инженером, учителем, но офицера из тебя не получится. И так считаю не только я, — повторил ещё раз сержант. Тем более, после вчерашнего поступка вопрос об исключении решён и, скорей, не в твою пользу.
И тут Санька заметил, что Чугунов впервые обращается к нему на «ты».
— И для тебя лучше. Сам останешься. Не выгонят. А меня ещё будешь благодарить, хотя, может, и не стоило тебе этого говорить. А теперь я пойду. Сам, думаю, в поезд сядешь. Мне в городе надо ещё кое с кем встретиться. – Он повернулся кругом и, не попрощавшись, не пожав на прощанье руку, не оглядываясь, вышел с вокзала.
После слов сержанта Санька ещё больше стало жалко себя, и он зашмыгал носом. «Может, сержант прав. Что ему это училище, эти построения, наряды, зарядки, уборка снега и территории от листьев, мытьё туалетов после отбоя. Дома хорошо. Мама, папа, только дедушку жалко. Как теперь без него?
Не стесняясь своих заплаканных глаз, он посмотрел в сторону и увидел малыша, который держал в руке огромный кусок желтоватой сахарной ваты. Растягивая удовольствие, он откусывал маленькие кусочки и смешно облизывал губы, собирая с них последнюю сладость. Захотелось есть. Санька взял свой чемоданчик и побрёл в буфет. Там худая, как вяленая корюшка, тётка с маленькими острыми зубками продавала огромные куски сахарной ваты, захватив их в бумагу. Он купил лёгкий, но объёмный шматок и, повернувшись к стене, стал есть. Вата тут же таяла, оставляя во рту запах и вкус жжёного сахара.
— Ой, миленький, — почувствовал он на плече чью-то лёгкую руку, повернулся и увидел маленькую цыганку в широкой длинной грязной юбке и цветной жёлтой кофте. На руке у неё сидел чумазый ребёнок в кепке. – Миленький, — улыбалась цыганка, — мой сыночек тоже хочет кушать, дай ему кусочек. – Санька протянул вату, цыганка оторвала огромный кусок и сунула ребёнку, который с жадностью набросился на сладость. – Молодец, хороший мальчик, — похвалила цыганка. – Дай руку, я тебе погадаю. Вижу, неприятности у тебя. Дай ручку, по руке скажу, что тебя ждёт.
Санька протянул ладонь. Цыганка посмотрела ему в глаза, потом на руку и сказала:
— Горе у тебя. Но ждёт тебя казённый дом и напрасные хлопоты. Всё уладится. Большим человеком вырастишь. А теперь положи в ладонь бумажную деньгу. Скажу ещё.
Санька понимал, что не надо это делать, но, повинуясь непонятной силе, вытащил из кармана билет на поезд.
Цыганка взяла его, повертела и сказала:
— Бумажную деньгу, у тебя в кармане лежит, а это тебе надо.
Санька спрятал билет в карман и достал новенькие пять рублей. Цыганка зажала пятёрку в кулаке, потом дунула в руку, разжала пальцы. Денег в рук не было. – Большим человеком вырастешь, — сказала цыганка, повернулась и пошла.
— А деньги? – спросил Санька.
Но цыганка, не оглядываясь, быстро уходила. Санька побежал за ней, догнал:
— Отдайте деньги.
— Отстань, — замахнулась на него цыганка, и тут же её ребёнок противно захныкал. – Отстань! Отстань!
Тот час неизвестно откуда рядом с Санькой выросли, как грибы, трое цыганят в огромных кепках. Двое – Санькины ровесники и один поменьше. У старших в руках были зажжённые папиросы. Младший сразу полез в драку, стараясь ударить Саньку в живот, старшие стали тыкать папиросами в лицо. Санька, отмахиваясь от них, стал отходить. Прохожие, не замечая, проходили мимо, и только женщина, стоявшая с чемоданами, крикнула:
— Вы что делаете, мерзавцы? – и не отходя от чемоданов, позвала: — Эй, военные, вашего забижают.
Огромного роста сержант с танками в петлицах схватил за шиворот старших цыганят, а младший поднырнул и тут же исчез.
— Пусти, дядька! Дядька, пусти! – завопили цыганята.
Сержант выпустил их из рук, а подоспевший лейтенант, начальник патруля, спросил:
— Куда направляешься, кадет?
Санька протянул телеграмму.
— Значит, в беду попал, — сказал лейтенант. – Скоро твой поезд, мы тебя посадим.
Когда паровоз, дыхнув дымом, перемешанным с запахом жжёной серы, протащил к перрону десять вагонов, и проводник отворил железную дверь, сержант подбросил Саньку в тамбур, а лейтенант махнул ему рукой:
— Всего доброго, кадет.
Домой
В поезде его место заняла полная женщина с мелкими и седыми, как на каракулевой шапке, кудряшками. Она уже застелила постель и сидела на одеяле, подобрав ноги.
— Аня, посмотри, какой мужчина будет ехать с тобой, — обратилась она к молодой женщине со второй нижней полки.
Женщины были то ли сёстрами, то ли старшая была матерью, а младшая дочкой, но лицо старой, с морщинами, было как отражение молодой в подёрнутой рябью воде.
— И, конечно же, наш мужчина, наш защитник уступит нам место.
Санька снял шинель и присел с краешка на свою бывшую полку. Пришёл проводник, взял его билет и предупредил, чтобы он приготовил один рубль за постель. Санька достал и пересчитал оставшуюся мелочь – шестьдесят семь копеек.
Когда проводник вернулся с бельём, Санька попросил:
— А можно я на голой полке?
Проводник пожал плечами и сказал:
— Вам, вроде, деньги дают, я вашего брата возил. Или выгнали? До каникул ещё рано… — нехорошо улыбнулся он. – Ну тогда без постели езжай. Но чтобы матрас не расстилал!
— Экономный мальчик, — как-то непонятно заметила женщина с кудряшками, не то похвалила, не то пожалела, не то осудила.
Санька расстелил шинель на полке и лёг, положив шапку под голову. И тут ему снова стало жалко деда, жалко себя, жалко за то, что ему так не везёт. И почему не везёт? Откуда вдруг появилась эта цыганка? А разговор с Чугуновым. «Видно не твоё это дело – суворовское училище». Видно, прав Чугунов, командир роты и даже цыганка, забравшая деньги на обратный проезд в Уссурийск. Всё к одному: не надо возвращаться. Тем более, будет рассматриваться вопрос об его отчислении.
Он лежал, отвернувшись к стене, боясь своих слов, боясь оглянуться. В вагоне было тихо, как бывает тихо в бегущем по рельсам поезде. Шум колёс, да удары на стыках, да разговор женщин внизу на полках.
— Хорошо всё-таки у нас на Дальнем Востоке и в Сибири, не то что на западе. Ох и жадные там люди. В поезде ехала, — вспоминала старая, — в купе четверо пассажиров, каждый достал своё и ест. Чуть ли не закрывается от других. Никто никого к столу не пригласил. А я Серёженьку отвозила. Так его даже никто кусочком не угостил.
— Да, у нас народ попроще, — поддакивала молодая.
Рядом на полке кряхтел и под скрипучим кашлем вздрагивал всем телом старик в старом сером потёртом пиджаке.
«А может, и хорошо, что не надо возвращаться. Дома хорошо. И в вагоне хорошо и тепло. Сейчас рота, наверно, идёт на обед, и майор Сорокин настойчиво считает «р-р-раз, раз, р-р-раз, два, тр-р-ри» сбившемуся строю. Хорошо, сейчас не надо пугаться под команду «Суворовец Соболев, возьмите ногу!»
А что сегодня на обед? Наверно, борщ, а может жареную картошку дают… Пойти что-нибудь купить? Нет, лучше деньги на ужин оставлю.
Жалко дедушку. Санька всхлипнул, но тут же сдержался: «Хорошо, что никто не услышал».
Старик продолжал кашлять, и кашель, как электроток, проходил через его тело. Женщина всё рассказывала, как её плохо приняли на западе. Вагон безразлично отстукивал на стыках, безвольно катясь в общей сцепке за горланившим и пыхтящим от натуги паровозом…
Санька проснулся и почувствовал, что стало непривычно тихо. Поезд стоял. Санька слез с полки и выглянул в окно. На станции большими буквами выделялось знакомое слово «Спаск». Вспомнил, как ехал в училище и тоже проснулся на этой же станции. Но тогда ехал поступать, а теперь… Зачем нужны были эти волнения, медицинские комиссии, экзамены? Теперь обратно.
Старик, прокашлявшись, спустился вниз и сел за боковой столик. На его красном лице, как на кактусе, торчали иголки волос. Но вдруг электрический кашель вновь пробежал сквозь его тело. Женщина с кудряшками посмотрев на старика, чуть отодвинулась. Старик, кажется, этого не заметил, и кашляя, продолжал смотреть в окно. Поезд тронулся, и проводник, погрузив на поднос стаканы с жёлтыми подстаканниками, пошёл по вагону, предлагая чай.
Женщины засуетившись, принялись вынимать из затаившихся под столом сумок продукты. На столе появилась огромная жирная курица, яйца, колбаса, красный лоснящийся кетовый балык, баночка маринованных маслят, солёные огурчики. Потом женщина с каракулевыми волосами вытащила на стол пол-литровую баночку красной икры и делано возмутилась:
— Я же говорила ему, не клади. Не могу есть икру, простоявшую в холодильнике. Вот свежего посола — другое дело.
Санька поймал себя на том, что наблюдает за женщиной, отвернулся к окну и проглотил слюну.
— Надо посмотреть, что старуха положила, — полез на полку и достал старую дерматиновую сумку старик, не торопясь, выложил на стол завёрнутый в бумагу хлеб и кусок сала в тряпице, литровую банку молока и головку чеснока. – Живём, — сказал он. – Чай принесут, и можно червячка заморить. Хорошо хоть успела собрать, — продолжал старик. – А то я только с коровника вернулся и на тебе – телеграмма. Братуха мой умер. А я даже не побрился, — провёл он рукой по щеке, — на поезд опаздывал. Ох, братуха умер. Он у меня в Вяземском жил.
«В Вяземском – это раньше меня выходить», — подумал Санька. А старик продолжал:
— Телеграмма так скоро. Я даже медаль надеть не успел. Вишь, с планками еду, — показал он шесть замусоленных планок на пиджаке. В первой Санька узнал орден Красной Звезды. – Ну что, давай вечерять, — старик стал нарезать сало ломтиками, расщипил головку чеснока и предложил Саньке. – Сало у меня хорошее, я кабанчика откармливаю, а старуха по соленью мастерица. Меня до этого дела не допускает.
Сало было действительно вкусным, слабосолёным и мягким. Санька ел и не обращал внимания на молодую женщину, которая не соглашалась с пожилой, хвалила икру и отмечала её нежный посол.
Проводник принёс чай, старик насыпал в стакан какой-то травы, долго размешивал её, пытаясь утопить, предлагал Саньке и говорил, что поднимает жизненную силу и помогает от кашля.
— Вот если бы брат пил, — говорил, вздыхая, старик, — то от смерти бы не помер.
После чая старик действительно перестал кашлять, завернул вместе с хлебом в холстину сало и пододвинул Саньке.
— Возьми, внучек. Вижу, тебе понравилось. А я вот завтра раненько выхожу.
Потом он рассказывал, какой у него был заслуженный брат, но вот жаль, трав не пил. Старик оторвал кусок газеты, отсыпал в него травы и подал Саньке.
— Заваривай, а не хочешь, отдай деду. От здоровья здоровее будет. Твой дед не хворает?
— Он умер, еду хоронить.
— Ой, жалко-то как, — пожалел старик. – Значит, ты сирота.
— Нет, не сирота.
— Это по матери ты не сирота, а по деду внучатый сирота…
Старик ещё долго и монотонно рассказывал о себе, о том, как воевал, о том, как ещё в начале войны подбил два танка и получил за это орден «Красной звезды».
— Я артиллеристом был. Весь расчёт поубивало и лейтенанта нашего. Они убиты, и им -могила, а я живой и мне — орден. Ты ведь тоже будешь офицером? – спросил он. – Береги солдат, и они тебя прикроют…
«Офицером? – подумал Санька, — буду ли я им?»
Спать легли поздно, и Санька не слышал, как ночью старик вышел на своей станции. А когда проснулся, то жалел, что не простился с ним.
Ты понял, Санька?
Поезд на станцию прибывал рано утром. Санька стоял в шинели и смотрел, как мимо окон мелькают поднявшиеся над заснеженными болотами голые берёзы с обнаженными ветками. Потом увидел, как промчался переезд, потянулись дома, горящие фонари, медленно катящиеся по улицам автобусы. Наконец, поезд начал тормозить и неожиданно остановился. Город встретил Саньку заспанным, тёмное небо заволоченным, перрон пустым, и только у розового в свете фонарей вокзала стоял мужчина в тёмном пальто и шапке. Санька прошёл несколько шагов , это был отец. Хотелось бежать, радоваться, но какая радость сейчас?
Домой шли пешком по улице вдоль железной дороги. Отец молча нёс чемоданчик. Возле обшитого дранкой двухэтажного дома, в котором они жили, отец остановился и сказал, что дед сейчас лежит в комнате у бабушки, похороны начнутся в двенадцать часов.
— И ещё, — добавил он, — ты уже мужчина, большой, из дома сам ушёл, поэтому меньше слушай баб и решай, как знаешь, что подсказывает сердце, а оно не обманет.
Когда Санька поднялся на второй этаж, мама бросилась к нему навстречу, стала обнимать и целовать, оставляя горячее дыхание на его щеках. Бабка несколько раз чмокнула его и, достав платок, тут же заголосила:
— Как он хотел увидеть тебя. Всё ждал, давал мне деньги и просил привезти из Уссурийска. Как он тебя любил, как вспоминал!
— Сказал, чтобы мы забрали тебя из суворовской школы, — приняла Саньку тётя Катя и стала осыпать его сухими поцелуями. – Не увидел, не дожил.
— Война сгубила его, война. Всего пятьдесят четыре года. Иди посмотри. – Бабушка открыла дверь в свою квартиру. Там, между печкой и стенкой, занимая маленькую кухню, стоял гроб, обитый красной материей. Гроб опоясывала чёрная атласная лента. В углу висели иконы. Лоб деда был покрыт бумагой со старинным прифтом. В его руках горела свеча. Окна в комнате были завешены, и воздух стоял тяжёлый.
Дед лежал в гробу страшный, бледный, с тёмными пятнами на шее. Санька остановился, не узнавая его. Смерть сделала деда чужым и суровым. Казалось, он сердится на внука. За что? За то, что поступил без согласия в суворовское училище или за то, что сейчас его выгонят?..
— Подойди, подойди к нему поближе, — подталкивала бабушка. – Он так перед смертью тебя хотел видеть, так без тебя тосковал.
Санька шагнул, и вдруг под ногой скрипнула половица. Ему показалось, что гроб качнулся. Но дед так и оставался лежать с неподвижным сердитым лицом. Санька остановился. Он боялся шагнуть.
— Он тебя так любил, — шептала бабушка. – Что же ты встал?
Но дед, страшный, с бледной лысиной, не подпускал его. И Санька не мог, боялся и не хотел подходить. Он сделал следующий шаг и снова остановился.
— Ну подойди, подойди, — обвалакивал бабушкин шёпот.
И тогда он сделал усилие, подошёл и остановился, замер и всмотрелся. Дед уже не казался страшным, хотя всё так же сердился.
Когда Санька через маленький коридорчик перешёл к себе, мать уже накрыла на стол, и при взгляде на еду ему стало плохо.
— Пойдём, — отец вывел его на улицу. У огромного тополя он остановился. – В двенадцать часов придут машины и оркестр от завода, где он работал, — и тут же спросил. – Как там дела в училище?
Санька пожал плечами и сказал, что нормально.
— Хорошие у тебя командиры, — согласился отец. – Отпустили. Обычно, разрешают ехать на похороны только близких родственников. Легко тебе там?
— Легко.
— А по дому скучаешь?
— Иногда.
— Это хорошо, а то женщины сговорились тебя в училище не пускать. Ты, Санька, не слушай их. Кто я? Работяга. А ты, Санька, офицером будешь. А может, до генерала дослужишься. Большим человеком станешь. Мне война учиться не дала. Санька, учись и не слушай их. Кем бы ты потом не был, а жизни меньше бояться будешь, если будешь грамотным. Я перед войной в первом Киевском профессиональном училище учился, потом легче жилось. Уже в дыры не засовывали. Мастером своего дела был. И люди, и начальство уважало. Уже кое-что есть. А будь инженером?..
И тут на Саньку нахлынула такая обида, что он всё рассказал отцу. О том, что было, как к нему относятся, о том, что его выгоняют из училища. Рассказал, что ему не везёт, и даже про цыганку рассказал.
— Знаешь, Санька, — лицо отца стало строгим. – Но тебя ещё же не выгнали. И надо побороться за то, чтобы остаться. А учиться – это не только на уроках отвечать. Учиться жить – это совершать ошибки, чтобы потом их не повторять. Учиться думать и жить своей головой – это тоже учиться. Трудности преодолевать – тоже учёба. Тебя ещё не выгнали, так что будь мужчиной, не распускай сопли. Не жалуйся женщинам, никогда не жалуйся. Это самое последнее дело, запомни. Этим отличается мужчина от сопляка. Так что не распускайся и борись до конца.
Дед твой в окружение попал, мог струсить, куда-нибудь пристроиться. А он три месяца, с июля по октябрь, выбирался, голодал. Пуля его задела, а он шёл до конца. И только перед Москвой вышел из окружения. И тут же в бой, пока не ранили и не перевели во второй эшелон.
И у меня, Санька, ранение было в руку. Хотели отрезать, так не дался, боролся. А мне говорили, что умру, конец. Ведь я чувствовал, что смогу вылечиться, и смог, верил. А теперь с двумя руками. Кому я с одной рукой, в полсилы и семье и государству? А теперь фотография на доске почёта. Ты меня понял, Санька?
— Да, — сказал Санька, — понял, — и опустил голову.
Сейчас ему было всё понятно. Рядом стоял отец, сильный, большой, умный и мог всё объяснить. А потом, что будет потом? Ведь в училище он будет без него и снова будет вынужден решать, как поступать и разделять, что хорошо, а что плохо? А это так не просто.
Они ещё постояли на улице, потом отец обнял его за плечи и повёл в дом.
Оставайся
Кода похоронная процессия двинулась со двора, за гробом вытянулось человек сорок стариков. Оркестр громко, с надрывом, играл похоронный марш, а на открытом кузове стоял деревянный памятник со звездой и фотографией деда. Бабушка сидела рядом с гробом.
На кладбище выступал начальник с завода, потом дядя Саша. Он поцеловал деда, подошёл к Саньке и обнял его.
— Моложе меня, а я его пережил. Теперь я один, никого больше не осталось. Но ты молодец, его дело продолжаешь. Он у тебя был солдатом, всю войну прошёл.
Перед тем, как забить крышку, мама, бабушка и тётя простились с дедом. Потом подвели к нему Саньку. На этот раз, под открытым небом, дед не казался таким страшным. Его лицо покрывала усталость. Санька наклонился и коснулся губами его холодного лба.
Вечером, когда гости разошлись, все собрались в бабушкиной квартире. Разговор начала тётя Катя:
— Дедушка перед смертью завещал забрать Саньку из суворовской школы. Надо исполнить его завещание.
— Хватит, Саша, мы тебе купим новый костюм, будешь ходить в школу, в свой класс. Я уже с твоей учительницей говорила, — стала упрашивать его мама: — Знаешь, как я по тебе скучала?
— Дедушка тебе оставил деньги, — добавила бабушка.
Санька молчал.
— Да мы его просто не пустим, — вышла на середину комнаты тётя Катя. – Только мучить мальчишку. Ему-то всего двенадцать. Он за полгода изменился, стал совсем другой: неласковый, придавленный. Не мальчик. Детство его пропадает.
— Это и хорошо, — встал отец. – Что вы на него давите? Пусть учиться. Там же дисциплина, работа над собой, а здесь нас дома не бывает. Мы же все трудимся. Будет собакам хвосты крутить.
— А как же я без него? Сашенька, как же я без тебя? – всхлипнула мама.
Саньке стало её жалко. А может, верно, зачем это училище? Сержант Чугунов, построения, строевые, смешки за спиной и в глаза.
— Хватит, — сказал отец, — раскудахтались. Пусть сам решает. Ещё есть несколько дней. Это шанс в его жизни, и когда он выпадет ещё раз? А вы хотите забрать его под своё куриное крыло и высиживать до свадьбы. Я сначала был неуверен в нём. Думал, не выдержит, сломается, а он оказался крепче. Значит готов бороться. К жизни готов… — отец остановился, посмотрел на маму, и уже более спокойно сказал. – Ладно, пусть сходит в школу, пусть посмотрит и сам окончательно решит. Он теперь уже большой…
Ночью на своём диванчике Санька ворочался и никак не мог уснуть. Дома было жарко и даже душно. Он лежал и всё думал, как ему поступить? Остаться и забыть про наряды, построения, строевые, противогазы?.. Или бороться, как настаивал отец, как говорил Володя? А если остаться, то значит никогда больше не увидеть Витьку, вожатого, Лиду. Никогда не находиться рядом с ребятами, не чувствовать себя частичкой организма под названием взвод, рота, училище. И кто я такой? Наверно, какой-нибудь спутник, который запустили в космос, а у него не хватает сил удержаться на своей орбите. И если он не решится, не заведёт двигатели, то упадёт на землю…
Утром на перемене Санька поднялся на второй этаж школы и зашёл в свой класс, и тут же навстречу ему бросился светловолосый кудрявый Мишка, его бывший сосед по парте, который всегда заплетался в своих длинных губах:
— Санька! Санька приехал! Иди ко мне за парту!
Мальчишки обступили его и принялись расспрашивать:
— Как там в училище?
— На параде ходил?
— А почему лысый?
— А из автомата или пулемёта стрелял?
— А из танка бабахал?
Санька сначала нехотя, а потом всё увереннее и увереннее принялся отвечать. Он вдруг почувствовал, что здесь один от училища и должен достойно его представлять. Тем более, он увидел, как мальчики трогали его погоны, его форму, и ему показалось, что они тоже хотели бы такую.
Его уговаривали остаться на урок, но он отказался и вышел в коридор. Санька представил, как придёт в школу, будет сидеть за партой в этом классе, а потом с Мишкой будет идти домой и просто делать уроки, и жизнь ему показалась какой-то простой, лёгкой и скучной. Он уже хотел вернуться домой, как вдруг увидел своего бывшего учителя физкультуры Александра Михайловича. Тот радостно обнял его и повёл в спортзал:
— Пошли, расскажешь, что там у вас? Чем занимаетесь?
В спортзале Санька вдруг стал говорить о том, как у них проводятся соревнования, какие работают секции, сколько мастеров спорта, и когда рассказывал, чувствовал гордость за училище. Он вдруг вспомнил, как на параде в Уссурийске шёл в последней шеренге, и как им хлопали, когда они проходили мимо трибун. Потом с удовольствием рассказал о нарядах и тревогах, о том, как они в противогазах совершают марш-броски, танцуют на уроках и каждое утро делают физзарядку. Александр Михайлович похвалил его за то, что пошёл в училище:
— Молодец, хорошо там у вас, — и задержал на урок физкультуры в своём бывшем четвёртом и нынешнем пятом «б». А когда начались занятия, вдруг обратился к Саньке. – А ну-ка, покажи, чему там тебя научили в училище? Давай через козла!
И Санька вдруг почувствовал, что не должен подвести училище, что на него смотрят бывшие одноклассники, и он должен показать. Он в форме разбежался и легко перелетел через снаряд. Потом выполнил упражнение на перекладине, легко отжался на брусьях и поднялся по канату.
— Да, хорошо, — похвалил его Александр Михайлович. – По сравнению с тем, что было, ты вырос. Молодец, что пошёл в училище.
Санька посмотрел, как улыбаются ему ребята, увидел чёрненькую с косой Наташу Глухову, в которую был влюблён ещё в третьем классе, и вспомнил Лиду. Неужели я её больше никогда не увижу? Неужели после того, что сейчас было, я должен снова вернуться в школу, и чтобы бывшие одноклассники сказали, что я всего лишь хвастун? Неужели я никогда больше не увижу Витьку и Володю Зайцева?..
Суворовец Соболев, стать в строй!
Санька каким-то далёким уголком сознания понимал, краешком сердца чувствовал, что спит. Сон был страшен и не выпускал его. Санька силился и не мог проснуться. Он стоял спиной к пропасти. Под ним, загораживая дорогу, раскрыв руки, поднимался дед. Не тот дед, каким Санька его знал перед отъездом в училище, а страшный, бледный, гробовой. Он ничего не говорил, а молча надвигался на Саньку. Санька не мог продвинуться вперёд, не мог шагнуть назад. Он был в плену у деда. Дед не пускал. От него исходил холод, его огромные чёрные руки кузнеца стали обнимать Саньку. Санька уже задыхался в дедовых объятьях, которые становились всё крепче. И тут Санька увидел Витьку и Володю. Суворовцы протягивали ему руки, тянулись к нему, но не могли протиснуться из-за деда. Санька шагнул назад, пошатнулся и… закричал:
— Деда, я ведь любил тебя! – Крик пламенем вырвался из него. Лицо деда потеплело, он удержал Саньку над пропастью.
— Вставай, мальчик, — услышал он голос. – Как ты спишь, ты мог упасть со второй полки.
Он открыл глаза. В купе было темно, дверь в коридор была открыта.
— Через полчаса к Уссурийску подъезжаем. Ой, видно нелегко вам там служится, — сказала проводница. – А матери каково? Вчера на вокзале плакала. И ты плакал. Что тебя тянет с малых лет честь козырять?..
Санька сел на полку и посмотрел на часы. До остановки поезда оставалось сорок минут. В Уссурийск он должен был прибыть ровно в семь, когда в казармах выстреливает команда «Подъём!», и пока он будет добираться в переполненном автобусе, а потом идти пешком, кончится утренняя прогулка, и суворовцы будут приводить себя в порядок.
Он представил, как постучится в закрытые ворота, а сонный сторож приоткроет дверь из своей коморки и станет разглядывать его и удивляться, почему суворовец младшей роты оказался за территорией училища. Потом будет легко возиться с ключом и опирать калитку, а у Саньки в это время, наверно, от волнения сердце будет выскакивать из груди, которое начинало колотиться сейчас. Потом он пойдёт по пустому училищу, мимо спортзала, где Володя учил его прыгать через козла, и где он летом жил в карантине, мимо штаба, где он впервые узнал, что поступил, мимо белого улыбающегося Суворова, мимо столовой, откуда будет доноситься запах готового завтрака.
Он будет подходить к своей казарме и будет чувствовать, что вернулся домой, где должна решиться его судьба. И он уже решил, что будет бороться за то, чтобы остаться и продолжать учиться, чтобы дальше поступить в командное училище, а может и академию и стать офицером, и быть готовым в любую минуту к защите Родины.
Он представлял, что когда будет подходить к своей казарме, то рота после утреннего осмотра выйдет строиться на завтрак, и Витька, наверно, не выдержит, и бросится к нему навстречу и закричит:
— Ура! Санька приехал! – Схватит сетку, чемоданчик и обязательно спросит, — поесть что-нибудь привёз?
И конечно ребята обступят его и будет спрашивать. И Санька больше всего на свете хотел бы услышать в этот момент:
— Рота, становись! Равняйсь! Смирно! – и команду, обращённую лично к нему, — СУВОРОВЕЦ СОБОЛЕВ, СТАТЬ В СТРОЙ!

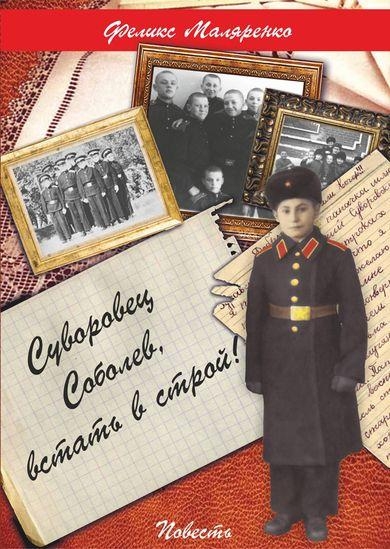
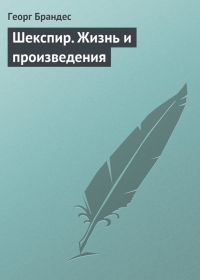

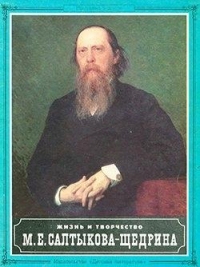


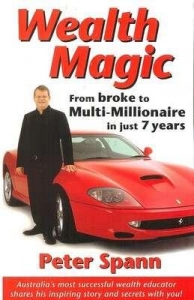
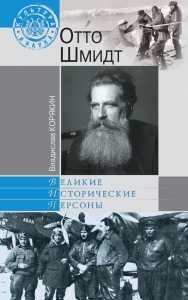
Комментарии к книге «Суворовец Соболев, встать в строй!», Феликс Васильевич Маляренко
Всего 0 комментариев