Флориан Иллиес 1913. Лето целого века
Январь
Это месяц, в котором Гитлер и Сталин встречаются, гуляя по парку дворца Шёнбрунн, Томасу Манну грозит аутинг, а Францу Кафке – сойти с ума от любви. К Зигмунду Фрейду на кушетку забирается кошка. Очень холодно, снег скрипит под ногами. Эльзе Ласкер-Шюлер не на что жить, она влюбляется в Готфрида Бенна, получает от Франца Марка открытку с лошадьми и обвиняет Габриэль Мюнтер в никчемности. Эрнст Людвиг Кирхнер рисует кокоток на Потсдамской площади. Выполнена первая мертвая петля. Но все тщетно. Освальд Шпенглер уже пишет «Закат Европы».
Эрнст Людвиг Кирхнер и Эрна Кирхнер (Шиллинг) в мастерской на Дурлахерштрассе, 14 (Музей Кирхнера, Давос) (фрагмент).
Первая секунда 1913 года. Выстрел оглушает темную полночь. Раздается щелчок, палец пружинит на металле курка – и второй глухой выстрел. Сбежавшиеся полисмены задерживают стрелявшего. Его зовут Луи Армстронг.
Украденным револьвером двенадцатилетний Луи хотел встретить в Новом Орлеане наступающий год. В итоге ночь он проводит в камере, а ранним утром первого января его отправляют в исправительное заведение, Colored Waifs' Home for Boys. Там он демонстрирует поведение настолько буйное, что директору заведения, Питеру Дэвису, не приходит в голову ничего лучшего, как подсунуть ему трубу (вообще-то он хотел надавать ему пощечин). И – о чудо – Луи Армстронг умолкает, чуть ли не с нежностью сжимает ладонями инструмент, и пальцы, еще ночью игравшие со спусковым крючком револьвера, вновь ощущают под собой холодный металл – но вместо выстрела, уже там, в кабинете, начинают извлекать из трубы первые теплые, буйные звуки.
«Только что грянула полуночная пушка, крики с моста и с улицы, бой часов и колоколов отовсюду»[1], – сообщает из Праги доктор Франц Кафка, служащий Агентства по страхованию рабочих от несчастных случаев при Королевстве Богемии. Вся его публика расположилась в далеком Берлине в квартире на Иммануэлькирхштрассе, 29 и состоит из одного-единственного человека, но этот человек для него – весь мир: Фелиция Бауэр, двадцать пять лет, волосы светлые, сама худощавая, довольно высокая, стенографистка в АО «Карл Линдстрём». В августе – дождь лил как из ведра – случилось их короткое знакомство: у Фелиции промокли ноги, у него – душа ушла в пятки. Но с тех пор каждую ночь, когда домашние спят, они пишут друг другу по страстному и странному письму. А днем – еще по одному вдогонку. Когда однажды от Фелиции пару дней не было писем, Кафка, пробудившись от беспокойного сна, в отчаянии сел за «Превращение». Он рассказывал ей про эту историю, а незадолго до Рождества ее закончил (теперь она лежала у него в секретере, согреваемая теплом обеих фотографий, присланных Фелицией). Но как скоро ее далекий, любимый Франц сам способен превратиться в страшную головоломку, она узнала только с этим новогодним письмом. Не побила бы она его зонтиком, вопрошает он из пустоты, если бы он просто остался в постели, случись им вдруг условиться о встрече во Франкфурте-на-Майне, чтобы после выставки сходить в театр, – примерно так ставит Кафка вопрос, трижды сослагая наклонение. И затем он безобидно заклинает их взаимную любовь, мечтая о том, чтобы его и Фелиции запястья были связаны неразрывно. И все для того, чтобы «вот так, нерасторжимой парой, взойти на эшафот». Прелестная мысль для письма невесте. Еще не целовались, а уже фантазии о совместном восхождении на эшафот. Кажется, будто Кафка и сам вдруг испугался того, что из него вырвалось: «Да что же это такое лезет мне в голову», – пишет он. Объяснение просто: «Это все число 13 в дате Нового года». Вот, оказывается, с чего начинается 1913 год в мировой литературе: с жестокого фантазма.
Объявление о розыске. Пропала: «Мона Лиза» Леонардо. В 1911-м ее похитили из Лувра – и до сих пор ни следа. Полиция Парижа допрашивает Пабло Пикассо, но у того алиби, его отпускают домой. В Лувре скорбящие французы возлагают букеты цветов к голой стене.
В первые дни января – точная дата неизвестна – на венский Северный вокзал поездом из Кракова прибывает запущенного вида тридцатичетырехлетний русский. Он хромает. В этом году его волосы еще не знали мыла, а пышные усы, буйным кустом разросшиеся под носом, безуспешно пытаются скрыть оспины. Только прибыв, в поношенных ботинках и с набитым чемоданом, он не медля садится в трамвай до Хитцинга. Греческо-грузинское «Ставрос Пападопулос», стоявшее в паспорте, вкупе с неухоженной наружностью и морозом на улице не вызвало подозрений у пограничников. В Кракове, будучи в другой эмиграции, он вчера вечером успел в очередной раз обыграть Ленина в шахматы, седьмой раз подряд. Это он умел явно лучше, чем ездить на велосипеде. Последнему Ленин отчаянно пытался его обучить. Революционеры должны быть быстрыми, – втолковывал он. Но этот человек, который на самом деле звался Иосифом Виссарионовичем Джугашвили, а теперь выдавал себя за Ставроса Пападопулоса, ездить на велосипеде не научился. Незадолго до Рождества он скверно с него упал на оледенелых мостовых Кракова. Нога была еще в ушибах, колено вывихнуто, и только второй день как он вообще мог ходить. Мой «чудесный грузин», как назвал его с улыбкой Ленин, когда тот, хромая, пришел к нему за поддельным паспортом для поездки в Вену. В добрый путь, товарищ.
Границу он пересек беспрепятственно, лихорадочно корпел в поезде над рукописями и книгами, которые в спешке укладывал в чемодан при пересадке.
Прибыв в Вену, он снял маску грузинского имени. С января 1913 года он говорил: меня зовут Сталин. Иосиф Сталин. Сойдя с трамвая, он заметил слева дворец Шёнбрунн и раскинувшийся за ним парк. Он идет на Шёнбруннер Шлоссштрассе, 30, как указывалось в записке, которую дал ему Ленин. И еще: «Дверной звонок – Трояновский». И вот он сбивает снег с обуви, высмаркивается в платок, нерешительно жмет кнопку звонка. При появлении служанки произносит кодовое слово.
В Вене на Берггассе, 19 кошка прокрадывается в кабинет Зигмунда Фрейда, где началось очередное вечернее собрание по средам. Это уже вторая нежданная гостья за последнее время – поздней осенью к кругу господ присоединилась Лу Андреас-Саломе: поначалу на нее косились с подозрением, теперь – глядели, млея от восторга. На подвязке своих чулок Лу Андреас-Саломе носила целую коллекцию скальпов гениев, добытых ею: с Ницше она была в одной исповедальне в соборе Святого Петра, с Рильке – в одной постели и в гостях у Толстого в России; считается, что в ее честь Франк Ведекинд назвал свою «Лулу», а Рихард Вагнер – свою «Саломею». Теперь ее трофеем стал Фрейд – по крайней мере, трофеем интеллектуальным: этой зимой она даже удостоилась чести гостевать у него на рабочем этаже и обсуждать с ним его новую книгу «Тотем и табу», над которой он как раз сидел, а также выслушивать жалобы на К.Г. Юнга и этих цюрихских предателей. Но главное, к тому моменту уже пятидесятидвухлетнюю Лу Андреас-Саломе, автора нескольких книг о Духе и Эротике, маэстро сам обучал психоанализу – в марте она подумывала открыть собственный кабинет в Гёттингене. Теперь она пришла на семинар «Общества среды»: рядом с ней – ученые коллеги, справа – уже тогда ставшая легендарной кушетка, и везде статуэтки, которые собирал одержимый античностью Фрейд, пытаясь скрасить свое пребывание в современности. В этот круг блестящих умов вместе с Лу через дверь проскользнула и кошка. Фрейд сперва замешкался, но увидев, с каким любопытством кошка разглядывает греческие вазы и римские статуэтки, наказал принести ей молока. Но Лу Андреас-Саломе сообщает: «При этом, несмотря на всю его любовь и восхищение, она не обращала на него ровно никакого внимания: холодные зеленые глаза с косыми зрачками смотрели на него как на предмет, и если Фрейду вдруг становилось мало ее эгоистично-нарциссического урчания, то ему приходилось жертвовать собственным комфортом и, опустив ногу с кушетки, искусным движением кончика туфли добиваться внимания кошки». Впредь у кошки всегда был доступ на эти собрания, а когда она захворала, ей даже было дозволено, завернутой в компресс, лежать на кушетке Фрейда. Как оказалось, и она поддается терапии.
Кстати о хворающих. Куда делся Рильке?
Страх, что 1913 год окажется годом несчастливым, преследует современников. Габриэле Д'Аннунцио дарит другу свое «Мученичество Святого Себастьяна», предусмотрительно датируя посвящение годом «1912+ 1». Арнольд Шёнберг тоже затаил дыхание перед несчастливым числом. Неспроста он изобрел двенадцатитоновую музыку – основу музыки современной, рожденную из ужаса ее создателя перед тем, что его ждет. Рождение рационального из духа суеверия. В произведениях Шёнберга цифру 13 и не встретишь: ни такта такого нет, ни страницы. С ужасом обнаружив, что название его оперы о Моисее и Аароне состояло бы из 13 букв, он вычеркнул вторую «а» из имени Аарон, так что с тех пор она называется «Moses und Aron». А тут – целый год под знаком чертовой дюжины. Шёнберг родился 13 сентября и панически боялся умереть в пятницу 13-го. Но все тщетно. Арнольд Шёнберг умер в пятницу, 13-го (правда, лишь в 1913 + 38, то есть в 1951 году). Но и год 1913-й готовит ему сюрприз. На публике ему дадут оплеуху. Но все по порядку.
Для начала на сцене: Томас Манн. Ранним утром 3 января Манн садится в Мюнхене в поезд. Сперва он читает газеты, письма, смотрит в окно на заснеженные холмы Тюрингского леса, то и дело начинает клевать носом в душном купе, тревожась мыслями о Кате, в очередной раз уехавшей на лечение в горы. Летом он навещал ее в Давосе, и в приемной врача у него неожиданно родилась идея большого рассказа, но сейчас она кажется ему такой бессмысленной, такой далекой от мира, эта история с санаторием. Что ж, через пару недель для начала пусть выйдет «Смерть в Венеции».
Томас Манн сидит в поезде, переживает за свой гардероб: какая досада – всякий раз одежда мнется в поездке; по прибытии в гостиницу незамедлительно отдать пальто на глажку. Решив размять ноги, он встает, отодвигает дверь купе и расхаживает по вагону. Да так важно, что всем кажется, будто это ходит проводник. За окном пролетают Дорбургские замки, Бад-Кёзен, Заальские виноградники, – занесенные снегом, они, словно полоски зебры, тянутся вверх по склонам. Вид и правда красивый, но Томас Манн чувствует: чем ближе Берлин, тем сильнее страх.
С поезда его прямиком доставляют в гостиницу «Унтерден-Линден»; регистрируясь, он оглядывается, не узнал ли его кто из гостей, проталкивающихся к лифтам. Затем поднимается в свой постоянный номер – обстоятельно приодеться и лишний раз пройтись расческой по усам.
В Груневальде, в самой западной части города, в своей вилле на Хёманнштрассе, 6, в тот же самый час Альфред Керр повязывает бабочку и воинственно подкручивает кончики усов.
В восемь вечера начнется их дуэль. В пятнадцать минут восьмого оба рассаживаются по дрожкам. Они едут к Немецкому театру, прибывают одновременно. Игнорируют друг друга. На улице холодно, оба спешат внутрь. Когда-то в Банзине на берегу Балтийского моря – но это только между нами – он, Альфред Керр, крупнейший критик Германии и тщеславнейший пижон, просил руки Кати Принсгейм, богатой еврейки с глазами кошки. Но она отвергла его, бурного и гордого уроженца Вроцлава, и кинулась на грудь Томасу Манну – сухому, как полено, ганзеату. Уму непостижимо. Но, может быть, сегодня вечером – удачный шанс с ним расквитаться.
Томас Манн садится в первом ряду, старательно излучает торжественный покой. Этим вечером – берлинская премьера его «Фьоренци», которую он писал в пору, когда привыкал любить Катю. Но он предчувствует фиаско – пьеса давно была его больным местом. Во избежание драмы не следовало драму и лепить, – думает он. «Кое-что я пытался спасти, но, кажется, меня не слышат», – написал он Максимилиану Гардену перед тем, как выйти в Мюнхене из дома на Мауэркирхенштрассе, 13.
Он ненавидел беспомощно наблюдать неумолимое приближение собственной катастрофы. Такое не пристало никакому Томасу Манну. Как бы то ни было, то, что он в декабре увидел на репетиции, не сулило ничего доброго. Он мучительно следит за пьесой, в которой должен пробудиться к жизни флорентийский ренессанс – но не ладится никак: одних потуг сплошные вереницы на фоне Уффици.
Украдкой Манн бросает взгляд через плечо. Там, в третьем РЯДУ – Альфред Керр: карандаш так и летает по записной книжке. Тьма в зрительном зале непроглядная, и, тем не менее, ему чудится улыбка на лице Керра. Улыбка садиста, нашедшего в этой постановке прекраснейший материал для издевательств. А когда Керр ловит на себе тревожный взгляд Томаса Манна, его охватывает еще более блаженный трепет. Он смакует мысль, что в его руках теперь и Томас Манн, и бездарная «Фьоренца». Он уже знает, что сожмет ладони очень крепко, а разожмет – на землю рухнут бездыханные тела.
Занавес, любезные аплодисменты – любезные настолько, что режиссер в единственной своей удачной постановке приглашает Томаса Манна на сцену аж дважды. Он не скоро устанет упоминать об этом в бесконечных письмах. Дважды! Тот чинно кланяется – дважды! – но выходит как-то неуклюже. В третьем ряду сидит Альфред Керр и совсем не хлопает в ладоши. Этой же ночью, вернувшись на виллу в Груневальде, он просит заварить чаю и принимается писать. Торжественно садится за печатную машинку и набирает римскую «I». Керр нумерует каждый абзац, словно тома в собрании сочинений. Сперва затачивает саблю: «Автор – душа тонкая, и даже чересчур, корень ее произрастает из тихого обиталища усидчивости автора». И начинает кромсать: эта дама, Фьоренца, выступающая, вероятно, символом Флоренции, вышла донельзя вялой, сама пьеса, сочиненная не иначе как в библиотеках, получилась натянутой, сухой, слабой, безвкусной, излишней. Так вот он написал.
Пронумеровав десятый абзац и поставив точку, он удовлетворенно вынимает из машинки последний лист: уничтожение.
Утром следующего дня, когда Томас Манн садится в обратный поезд до Мюнхена, Керр направляет текст в редакцию газеты «Дер Таг». 5 января она выходит из печати. Когда Томас Манн ее читает, с ним случается удар. Пьеса его сочинена «не по-мужски», написал Керр, – это заденет Манна больше всего. Намекает ли здесь Керр на скрытую гомосексуальность Томаса Манна или просто сам Манн понял это как намек, – суть одно. Керр – как кроме него один лишь Краус – знал толк в том, какими словами больнее ранить. В любом случае, Томас Манн ранен глубоко, «до крови», как он пишет. Всю весну 1913 года он так и не оправится от этой критики, ни одно его письмо не оставит без внимания этот инцидент, ни одного дня не пройдет без ненависти к этому злостному субъекту. Гуго фон Гофмансталю Манн пишет: «Примерно я полагал, что там будет, но действительность превзошла все ожидания. Ядовитая пачкотня, из которой любому будет ясна кровожадность ее сочинителя!»
Он написал это лишь потому, что меня не заполучил, милый мой Томми, – утешает мужа вернувшаяся с лечения Катя, по-матерински гладя его по голове.
Закладываются основы двух национальных мифов: в Нью-Йорке выходит первый номер журнала «Вэнити Фэйр», а в Эссене мать Карла и Тео Альбрехтов открывает прототип первого супермаркета сети Aldi.
А у Эрнста Юнгера что? «Четверка с минусом». По крайней мере, такую оценку семнадцатилетний Юнгер получает в реформированной школе Хамельна за сочинение о «Германе и Доротее» Гёте. В нем он написал: «Эпос переносит нас во время Французской революции, чей жаром сияющий свет пробуждает от полусна повседневности даже мирных обитателей тихой Рейнской долины». Но учителю мало. Красными чернилами он отметил на полях: «Мысль на этот раз выражена чересчур серьезно». Что мы узнаём: Эрнст Юнгер уже был серьезным, когда никто еще не принимал его всерьез.
Каждый вечер Эрнст Людвиг Кирхнер садится в поезд свежеотстроенного метро и едет до Потсдамской площади. В Берлин вместе с Кирхнером переехали и другие художники «Моста» из Дрездена, этого забвенного летнего города барокко, где они его и основали: Эрих Хеккель, Отто Мюллер, Карл Шмидт-Ротлуф. Они были сплоченной общностью: делили краски и женщин, так что порой и неясно, где чья картина. Но Берлин, эта вечно пульсирующая недостижимость, называемая столицей, лепит из них индивидуумов и пилит мосты, их связующие. В Дрездене все они были в своей стихии, воспевая чистые цвета, природу, человеческую наготу. В Берлине им грозит гибель.
Эрнст Людвиг Кирхнер обретет свою стихию лишь в Берлине – перевалив за тридцатилетний рубеж. Его искусство городское, суровое, пропорции фигур удлиненные, а стиль рисунка резок и агрессивен, как сам город. Лак покрывает его полотна, будто копоть метрополии оседает на лбу. Уже в вагонах метро его глаза жадно впитывают людей, на коленях он делает первые быстрые наброски: два-три штриха карандашом – мужчина, шляпа, зонт. Потом он выходит, пробирается сквозь толпы людей, сжимая в руке альбомы и краски. Его тянет в «Ашингер», где можно просидеть весь день, заплатив за одну тарелку супа. Там и проводит вечера Кирхнер и все смотрит, рисует и смотрит. Темнеет быстро, шум на площади оглушителен – на ней самое оживленное движение в Европе: здесь пересекаются не только центральные транспортные артерии города, но также линии и традиции модерна. Если подняться из метро в мокрый снег дня, то увидишь конные повозки, перевозящие бочки, а рядом с ними – первые шикарные автомобили и пролетки, пытающиеся не въехать в лошадиные лепешки. Несколько трамваев одновременно пересекают большую площадь, их металлический скрежет на поворотах заполняет пространство во всю ширь. И посреди этого – люди, люди, люди, все бегут, словно у них истекает время, над ними рекламные щиты, анонсирующие цены на сосиски, кёльнскую воду и пиво. А под аркадами – элегантные кокотки, проститутки, единственные, кто на этой площади замер, словно пауки на краю своей сети. Траурные вуали укрывают их лица от внимания полицейских, но в глаза бросаются огромные шляпы – причудливые башни с перьями под уличными фонарями, которые с наступлением зимнего вечера загораются зеленым газовым светом.
Этот бледный зеленый свет, горящий на лицах кокоток на Потсдамской площади, и дробящийся шум большого города Кирхнер хочет превратить в искусство. В полотна. Но пока он не знает, как. И поэтому просто продолжает рисовать. «К своим рисункам я обращаюсь на ты, – говорит он, – а к картинам – на вы». Он убирает в папку своих закадычных друзей – целую пачку эскизов, которые за последние часы набросал за столом – и несется домой, в мастерскую. В Вильмерсдорфе, на Дурлахерштрассе, 14, второй этаж, Кирхнер обустроил свое логово: все занавешено восточными коврами, заставлено фигурками и масками из Африки и Океании, японскими зонтиками. Здесь и его собственные скульптуры, его мебель, его картины. На фотографиях тех лет Кирхнер либо обнажен, либо в черном костюме с галстуком, в белоснежной рубашке, застегнутой на верхнюю пуговицу, с сигаретой, небрежно зажатой в руке, а-ля Оскар Уайльд. Рядом всегда Эрна Шиллинг, его любовница, сменившая собой самозабвенную, в мягких контурах, дрезденскую Додо; современная свободомыслящая женщина с короткой стрижкой, физиогномически – поразительного сходства с Фелицией Кафки. Она украсила квартиру Кирхнера вышивками по собственным и по его эскизам.
Кирхнер познакомился с Эрной Шиллинг и ее сестрой Гердой годом ранее в одном из танцевальных заведений Берлина, где на сцене стояла также и Зиди, подруга Хеккеля. Грустными глазами он в тот же вечер заманивает танцовщиц к себе в мастерскую – он с первого взгляда понял: архитектоника их тел «научит мое чувство прекрасного изображать физически красивую женщину нашей эпохи». Сначала у Кирхнера роман с девятнадцатилетней Гердой, затем – с двадцативосьмилетней Эрной, а в промежутке он с ними обеими. Кокотка, муза, модель, сестра, святая, шлюха, любимая – ничто у Кирхнера нельзя воспринимать буквально. Из сотен рисунков нам известна каждая деталь обеих женщин: чувственно провоцирующая Герда, Эрна с маленькой высокой грудью и широким задом, собранная, меланхоличная и спокойная. Из этого времени сохранилось восхитительное полотно: слева три обнаженных, предлагающих себя женщины, справа художник в своей студии, во рту сигарета, взглядом знатока он оценивает женщин, таким он себе нравится: «Суд Париса», – пишет он черной краской на обратной стороне холста, 1913, Эрнст Людвиг Кирхнер.
Но когда Парис Кирхнер этой ночью возвращается с Потсдамской площади, свет уже не горит – Парис опоздал на свой суд, Эрна и Герда спят, утонув в огромных подушках в гостиной, которую это trio infernale сделает самой знаменитой берлинской комнатой в мире.
Эрнст Август Ганноверский в январе впервые целует прусскую принцессу Викторию Луизу.
Новогодний номер венского «Факела», уже тогда легендарного «журнала одного человека», Карла Крауса, кричит о помощи: «Эльза Ласкер-Шюлер ищет тысячу марок на воспитание сына». Под объявлением подписываются, среди прочих, Сельма Лагерлёф, Карл Краус, Арнольд Шёнберг. После развода с Гервартом Вальденом писательница не смогла больше оплачивать Оденвальдскую школу, куда отдала своего сына Пауля. Полгода Краус боролся с собой и с вопросом, стоит ли печатать это обращение, – между тем Пауль уже давно посещает интернат в Дрездене, – но под Рождество даже над ним, Краусом, этим инквизитором, строго разводящим эмоции и рациональность, возобладало милосердие. И самое последнее свободное место в «Факеле» он отдает под маленькое объявление. Перед ним Краус пишет: «Мне видится Галопин Апокалипсиса, бьющий копытом в преддверии мирового краха – Посланец Тления, раскаляющий чистилище бренности».
Жутко холодно в комнатушке на Гумбольдштрассе, 13 в берлинском Груневальде: Эльза Ласкер-Шюлер только закуталась в плед, как резкий дверной звонок вырывает ее из задумчивости. Ласкер-Шюлер – глаза дикие, черные, локоны темные, любви всегда мало, а жизни много – завязывает пояс на восточном халате и открывает почтальону, протягивающему ей почту: сияющий красным «Факел» из Вены от далекого строгого друга Карла Крауса. А сразу под ним – маленькое синее чудо, открытка от Франца Марка, художника «Синего всадника». Ласкер-Шюлер: в пестрых одеяниях, звенящих кольцах и браслетах, с необузданной сказочной фантазией; в то время она была олицетворением внутреннего Востока общества, так спешащего в модернизм, образом идеала, объектом вожделения таких разных мужчин, как Краус, Василий Кандинский, Оскар Кокошка, Рудольф Штайнер и Альфред Керр. Но на обожествлениях не проживешь. Дела у Эльзы Ласкер-Шюлер идут совсем нехорошо после развода с Гервартом Вальденом, крупным галеристом и издателем газеты «Штурм», который теперь с этой ужасной Нэль, своей новой женой, ходит по кафе, куда Эльза поэтому пойти не может. Но именно в одном таком арт-кафе она в декабре встретила Франца и Марию Марк, ставших ее лейб-гвардией, ангелами-хранителями.
Эльза Ласкер-Шюлер берет в руки «Факел», ничего не подозревая о трогательном объявлении Карла Крауса, и переворачивает открытку от Франца Марка. Она застывает в немом восторге. На крохотном пространстве ее дальний друг нарисовал «Башню синих лошадей», пышущих силой животных, вздымающихся к небу, утративших связь с этим временем и замерших в его центре. Она чувствует, что получила уникальный подарок: первых синих лошадей «Синего всадника». Может, эта особенная женщина, которая чувствует все, чувствует даже больше: что спустя несколько недель в далеком Зиндельсдорфе идея этой почтовой карточки перерастет в еще большую «Башню синих лошадей», в программное полотно, в картину века. Позднее она сгорит, и лишь эта крохотная карточка сохранит отпечатки пальцев Франца Марка и Эльзы Ласкер-Шюлер и будет всю оставшуюся вечность рассказывать о моменте, когда «Синий всадник» пустился вскачь.
Поэтесса тронута тем, что великий художник включил в картинку с лошадьми и ее знаки – полумесяц и золотые звезды: начинается диалог, обмен ассоциациями, словами, открытками. Она провозглашает его воображаемым «князем фон Кана», сама она – «Юсуф, царевич Фиванский». Уже 3 января Эльза пишет в ответ благодарность за синее чудо: «Какая красивая открытка – я всегда хотела, чтобы у моих сивых лошадей был такой цвет, один из самых моих любимых. Как мне вас благодарить!!»
Когда Марк следующей открыткой приглашает ее с ними в Зиндельсдорф, она, изнуренная разводом и Берлином, немедля соглашается и садится с четой Марков в поезд. Она слишком легко одета, Мария Марк кутает ее в дорожный плед. Вполне может быть, что она сидит в том же поезде, которым Томас Манн возвращается с никудышной премьеры своей «Фьоренцы» в родную семейную обитель. Прекрасная фантазия: полюс Северный и полюс Южный немецкой культуры 1913 года в одном поезде.
Когда изможденная поэтесса прибывает в Зиндельсдорф у подножия Альп, она поначалу живет у Франца Марка и его жены Марии, внушительной матроны, под крыло которой всякий раз шмыгал Марк, когда дули суровые ветра. «Художник Марк и его львица», как называла их Эльза.
В комнате для гостей у бездетной пары она выдерживает лишь пару дней и перебирается в местный отель, с щедрым видом на топи и горы. Но и там не обрести покоя: хозяйка настоятельно рекомендует ей лечение водами и дает соответствующие книги. Но все напрасно. Эльза Ласкер-Шюлер срывается очертя голову в Мюнхен и снимает там комнату в пансионе на Терезиенштрассе.
Чета Марков следует за ней и застает ее за завтраком: перед собой она расставила целую армию оловянных солдатиков, которых, судя по всему, купила для сына, и на скатерти в сине-белую клетку «вела ожесточенные сражения – вместо тех, что неустанно преподносила ей собственная жизнь». Она пребывала в боевом настроении, буйном, и была не вполне в себе последнее время. В конце января, в галерее Транхаузер на открытии большой выставки Франца Марка, она знакомится с Кандинским, а затем входит в клинч с художницей Габриэль Мюнтер. Та обронила что-то, что Ласкер-Шюлер восприняла как оскорбление в адрес Марка, на что прокричала на всю галерею: «Я художница, и от такой никчемности подобного не потерплю».
Мария Марк стояла меж двух сыплющих бранью женщин, не зная, что делать, и лишь причитала: «Дети мои, дети». Позднее она пожалуется, что очень уж много у Эльзы Ласкер-Шюлер «от позы литератора мировой скорби», но ведь все же «она действительно что-то пережила, в отличие от скорбящей на весь мир берлинской молодежи». Вот как выглядит мир 1913 года, если смотреть на него из Зиндельсдорфа.
20 января в среднеегипетской деревушке Тель эль-Амарна делят находки последних, финансируемых берлинцем Джеймсом Саймоном, раскопок Германского восточного общества: одна половина отходит Каирскому музею, а немецким музеям – другая половина, среди которой – «разрисованный гипсовый бюст некой принцессы королевского рода». Директор французского ведомства по предметам древности в Каире утверждает предложенное немецким археологом Людвигом Борхардтом распределение. Один лишь Борхардт, как только взволнованный египетский помощник сунул ему в руки этот бюст, смекнул, что держит в руках находку тысячелетия. Уже каких-то пару дней спустя гипсовая скульптура отправится в Берлин. Пока она еще не носит имени Нефертити. Пока она еще не стала знаменитейшим женским бюстом во всем мире.
Как лихо закручен этот год! Неудивительно, что русский летчик Петр Николаевич Нестеров выполнил в 1913-м первую в истории человечества мертвую петлю на своем бомбардировщике. И что австрийский фигурист Алоис Лутц в этом лютом январе на замерзшем озере так ловко крутанулся в воздухе, что этот прыжок и сегодня носит название «лутц». Для его выполнения нужен заход назад-наружу по пологой дуге и отскок с наружного ребра левой ноги. Чтобы добиться вращения, следует рывком прижать руки к туловищу. Для двойного лутца это логичным образом необходимо проделать дважды.
Целых четыре недели пробудет Сталин в Вене. Никогда больше он так надолго не уедет из России за границу, разве что только через тридцать лет – в Тегеран, где его собеседниками в переговорах станут Черчилль и Рузвельт (в 1913-м один был военно-морским министром Англии, другой боролся против вырубки американских лесов, будучи сенатором в Вашингтоне). Сталин редко покидает свое укрытие на Шёнбруннер Шлоссштрассе, 30 у Трояновских, он целиком поглощен написанием «Марксизма и национального вопроса» – поручения Ленина. Лишь иногда, днем, он разминает ноги в замковом парке Шёнбрунна, холодно и аккуратно раскинувшегося среди январского снега. Раз в день случается краткая суета, когда император Франц Иосиф покидает замок и едет на карете в Хофбург поуправлять страной. Невероятные шестьдесят пять лет, с 1848 года, Франц Иосиф стоит у власти. Со смертью своей любимой Сисси он до сих пор не справился, ее портрет во весь рост так и висит над его рабочим столом.
Престарелый монарх, сгорбившись, совершает несколько шагов до темно-зеленой кареты, за ним остается холодное облачко дыхания, ливрейный лакей закрывает дверь, и кони рысью уносятся по снегу. И снова – тишина.
Сталин идет по парку, размышляет; начинает темнеть. Ему навстречу идет другой гуляющий: двадцать три года, несбывшийся художник, проваливший вступительный экзамен в Академию искусств и теперь убивающий время в мужском общежитии на Мельдеманнштрассе. Он, как и Сталин, ждет своего большого шанса. Его зовут Адольф Гитлер. Возможно, они, о которых знакомые того времени рассказывали, что оба любили гулять около Шёнбрунна, однажды вежливо поприветствовали друг друга, приподняв шляпы, когда бродили по бесконечному парку.
Эпоха крайностей, этот страшный короткий двадцатый век, начинается январским днем 1913 года в Вене. Остальное – молчание. Сталин и Гитлер не встретились, даже когда в 1939-м заключили свой роковой «пакт». Никогда они не были в такой близи друг от друга, как в один из этих студеных январских вечеров в замковом парке Шёнбрунна.
Впервые синтезирован наркотик экстази, весь 1913 год будет подаваться заявка на патент. Но потом, на несколько десятилетий, о нем забудут.
А вот и весточка от Райнера Марии Рильке! Бегство от бессонницы и творческого кризиса привело Рильке в Ронду на юге Испании. Ехать в Испанию ему велела одна незнакомка на ночном сеансе, а так как Рильке всю жизнь зависел от указаний зрелых дам, то, видимо, приходилось обращаться к оккультным обитательницам межмирья, когда реальные меценатки и любовницы не знали, что посоветовать. И вот он пребывает в шикарном отеле «Королева Виктория», новомодном британском доме, но сейчас, вне сезона, почти пустом. Отсюда он прилежно шлет письма «дорогой милой маме». И другим далеким женщинам, с которыми он может повздыхать: Мари фон Турн-и-Таксис, Еве Кассирер, Сиди Надерни, Лу Андреас-Саломе. Об этих дамах мы еще услышим в этом году, не волнуйтесь.
В настоящее время Лу – женщина, лишившая его девственности и убедившая подправить имя с «Рене» на «Райнера» – котируется чрезвычайно высоко: «Лишь бы нам вновь увидеться, дорогая Лу („дорогая“ подчеркнуто трижды), вот самая большая моя надежда». На полях он нацарапает вдобавок «моя опора, мое все, как всегда». И – к почтовому поезду, которому до Гибралтара три часа езды. А оттуда – до Берггассе, 19, профессору Зигмунду Фрейду для Лу Андреас-Саломе. И Лу ответит «дорогому, милому мальчику», что поступает с ним теперь жестче, чем тогда. И: «Мне кажется, тебе необходимо страдать, и страдать ты будешь всегда». Это еще садо-мазо или уже любовь?
Так и тянутся дни в страданиях и письмах. Иногда Рильке продолжает работать над «Дуинскими элегиями», по крайней мере, строки с первой по тридацать первую шестой элегии ему удались, но закончить он ее никак не может – лучше выйти в белом костюме и светлой шляпе на прогулку или почитать Коран (чтобы сразу после этого сочинить экстатические стихи во славу ангелов и Вознесения Девы Марии). Здесь можно чувствовать себя вполне комфортно, вдали от мрачной зимы: поначалу Рильке даже наслаждается тем, что солнце здесь и в январе садится за горы лишь в половину шестого, что перед этим оно еще раз теплым светом озаряет так гордо раскинувшийся на скалистом плато город Ронда – «неповторимое зрелище», как пишет он своей госпоже, маме. Миндальные деревья уже в цвету, фиалки распустились, ирисы в саду отеля отливают светло-голубым. Рильке вынимает черную записную книжку, просит кофе на террасу, колени укрывает пледом, жмурится на солнце и записывает: «Ах, кто бы сумел расцвести, тому бы и сердца хватило / Опасность пустую презреть, утешиться полным величьем».[2]
Да, кто бы сумел расцвести. В Мюнхене Освальд Шпенглер, тридцатитрехлетний мизантроп, социопат и бывший учитель математики, работает над первой частью монументального труда «Закат Европы». Сам он подает хороший пример этому закату. «Я, – пишет он в набросках к автобиографии, – последний своего вида». Все движется к концу, в нем самом и на его теле видны страдания Европы. Отрицательная мания величия. Увядающие цветки. Шпенглера гложет страх. Страх войти в лавку. Страх перед родственниками, страх перед говорящими на диалекте. И конечно: «Страх перед раздетыми женщинами». Не страшно ему только размышлять. Когда в 1912-м затонул «Титаник», ему открылся глубинный символизм этого события. В возникающих параллельно записях он страдает, сетует, жалуется на тяжелое детство и еще более тяжкое настоящее. Каждый день он записывает в новой вариации одну-единственную мысль: великое время подходит к концу – неужто никто не видит? «Культура – последний вздох перед угасанием». В «Закате Европы» он сформулирует это так: «У каждой культуры свои новые возможности выражения, которые появляются, созревают, увядают и никогда не повторяются»[3]. Но такая культура идет ко дну медленней океанского судна, не волнуйтесь.
С начала года издательство Карла Симона в Дюссельдорфе налаживает сбыт новой серии оригинальных диапозитивов: семьдесят две цветные стеклянные пластины, семь картонных коробочек в деревянном ящике, приложение в виде брошюры на тридцать пять страниц. Тема – «Гибель Титаника». Страну накрывает волна показа слайдов. Сначала видны капитан, корабль, каюты. Затем – надвигающийся айсберг. Катастрофа, спасательные шлюпки. Тонущий пароход. Все верно: океанское судно идет ко дну быстрее Европы. Леонардо Ди Каприо еще не родился.
У Франца Кафки – одного, кстати, из тех, кто испытывает большой страх перед раздетыми женщинами – пока заботы совсем иного рода. Внезапно его осеняет. В ночь с 22 на 23 января он пишет уже, должно быть, двухсотое письмо Фелиции Бауэр, где спрашивает: «Ты вообще разбираешь мой почерк?»
Ты вообще разбираешь почерк этого мира? Так вопрошают Пабло Пикассо и Жорж Брак и придумывают все новые и новые шифры, которые должен разобрать зритель. Только они показали всему миру, что можно изображать саму смену перспективы, назвав это «кубизмом», как теперь, в 1913 году, уже делают шаг дальше. Позже это назовут синтетическим кубизмом, потому что теперь они клеят на картины древесные волокна и все что только можно – холст становится приключением. Брак совсем недавно въехал в новую мастерскую в Париже, на последнем этаже отеля «Рома» на улице Коленкор, там он схватил ни с того ни с сего гребень и прошелся им по картине «Композиция с трефовым тузом» – и линии оказались похожи на узор древесины. Пикассо усвоил это в тот же день. И как всегда, наловчился это делать гораздо лучше. Так революционеры искусства спешили все дальше и дальше, подгоняемые паническим страхом, что буржуазная публика поймет их полностью. Возможно, Пикассо успокоило бы, знай он, что 6 февраля Шницлер напишет в своем дневнике: «Пикассо: ранние картины необычайны; ярое противление его теперешнему кубизму».
Он едва выжил. Теперь Ловису Коринту придется дорого поплатиться за свое творческое наследие. 19 января в «Сецессионе» на Курфюрстендамм, 208 откроется сенсационная выставка: двести двадцать восемь полотен, название – «Творческое наследие». Сегодня, в первый день года, сквозь похмелье – которым он мучается лежа на канапе на Клопштокштрассе, 48 – предстоящее начинает наводить на него легкий ужас. И четырех нет, а уже темно, за окнами снег с дождем. Для начала багетная мастерская Вебера на Дерфлингерштрассе, 28 хочет причитающиеся ей деньги за обрамление «Творческого наследия», а именно 1632,5 марки. За фуршет, который Коринт дает в честь открытия, поставщик, преемник Адольфа Крафта, Курфюрстендамм, 116, требует 200 марок предоплаты. В поставку включены: «Язык, 1 блюдо; кобуржская ветчина под камберлендским соусом, 1 блюдо; косуля под камберлендским соусом, 1 блюдо; ростбиф под ремуладом, 1 блюдо». Ловису Коринту уже от одних слов дурно. Все творческое наследие под камберлендским соусом. У него еще вчерашний несвежий польский карп не переварился. Когда его Шарлотта уезжает, он лопает все без разбору – так он по ней тоскует, ясное дело. И вот он пишет новогоднее письмо жене Шарлотте, лазающей где-то по заснеженным горам: «Кто знает, каким сложится новый год; уж старый счастливым не был. Да и черт с ним». Воистину. Коринта, этого всегда пышущего здоровьем художника, которого из позднего барокко занесло в Берлин начала двадцатого века, весьма пообтрепал тяжелый инсульт. Жена ухаживала за ним, принося себя в жертву. Когда была задумана выставка «Творческое наследие», все испугались, что придется иметь дело уже с наследством. Но он выкарабкался. И даже добрался до мольберта. Теперь по всему городу висели афиши выставки: ежедневно с девяти до четырех, вход – одна марка. Коринт смотрел с афиш, изумляясь самому себе, в то время как Шарлотта отдыхала от него в Тироле. Она успеет вернуться к фуршету. Хорошо выглядите, мадам, – говорит ей Макс Либерманн 19 января на открытии в «Сецессионе», с куском косули под камберлендским соусом в правой руке. Наследие мое творческое хорошо выглядит, – думает Ловис Коринт, тяжелым шагом оглушая выставочные залы. Но теперь пора идти дальше. Только впредь, пожалуйста, без этого кубизма.
Заглянем ненадолго к Фрейду на Берггассе, 19. Эти январские дни он проводит в кабинете, завершая работу «Тотем и табу». И само собой: бессознательное изо всех сил пробивается в эту книгу об этнологических принципах нарушения табу и фетишизации. Но кажется, будто сам Фрейд этого еще не осознал. В тот самый момент, когда собственные ученики, в первую очередь К.Г. Юнг из Цюриха, 1875 года рождения, осыпают его резкими упреками, Фрейд, 1856 года рождения, развивает теорию «отцеубийства». Еще в декабре 1912 года Юнг написал Фрейду: «Разрешите обратить Ваше внимание на то, что Ваш метод обращаться с собственными учениками как с пациентами является ошибочным». Таким образом он, дескать, производит на свет «наглых баловней» и «раболепных сыновей». И далее по тексту: «Между тем, сами Вы остаетесь на самом верху в качестве отца. В сплошной покорности никто не смеет дернуть пророка за бороду».
Мало что еще так заденет Фрейда, как это отцеубийство. Должно быть, много новых седых волосков появилось в его бороде за эти месяцы; он формулирует первое ответное письмо, которое, однако, не отправит, и которое лишь после смерти автора обнаружат в его письменном столе. Тем не менее, 2 января 1913 года он собирает волю в кулак и пишет К.Г. Юнгу в Кюснахт: «Ваша гипотеза, будто я обращаюсь со своими учениками как с пациентами, с легкостью подвергается опровержению». И затем: «Впрочем, на Ваше письмо нельзя ответить. Оно создает ситуацию, которая и в устной форме была бы обременена сложностями, а в письменной – и вовсе оказывается неразрешимой. Между нами, аналитиками, условлено, что никому нет нужды стыдиться собственного невроза. Ежели кто при ненормальном поведении не перестает кричать, что он здоров, тот дает повод усомниться в его умении распознать болезнь. Итак, я предлагаю нам с Вами вообще прекратить наши частные отношения. Я при этом ничего не теряю, ибо меня с Вами, по счастью, давным-давно связует лишь тонкая нить испытанных разочарований». Какое письмо! Отец, которому бросил вызов сын, в ярости колет в ответ. Никогда еще Фрейд так не выходил из себя, как в эти январские дни, никогда еще она не видела его такими подавленным, как в этом 1913 году, – будет потом рассказывать Анна, его любимая дочь.
К.Г. Юнг отвечает письмом от 6 января: «Я последую Вашему желанию прекратить частные отношения. Впрочем, кому, как не Вам, лучше знать, что означает для Вас этот момент». Это он пишет чернилами. А затем впечатывает на машинке, словно водружает надгробный камень на одну из самых масштабных в двадцатом веке интеллектуальных связей между двух мужчин: «Остальное – молчание». Какая прекрасная ирония в том, что один из самых толкуемых, описываемых и обсуждаемых разрывов 1913 года начинается с обета молчания. С этого момента Юнг эмансипирует свою работу от методов Фрейда, а Фрейд – от методов Юнга. Но прежде он еще раз совершенно точно сформулирует отцеубийство у первобытных народов: они надевают маски убитых отцов – и затем молятся своей жертве. Практически уже диалектика Просвещения.
Но остановимся пока на диалекте Просвещения. Десятилетний Теодор Адорно, прозвище «Тедди», живет на Шёне Аусзихт, 12 во Франкфурте-на-Майне, просвещается и учит гессенский диалект. Самое близкое существо, кроме мамы – шимпанзе Бассо во Франкфуртском зоопарке. Франк Ведекинд, автор «Пробуждения весны» и «Лулу», дружит в это время с Мисси, шимпанзе из Зоологического сада Берлина.
Марсель Пруст у себя в кабинете на бульваре Хаусманн, 102 в Париже обустраивает собственную клеть. Ни солнечный свет, ни пыль, ни шум не должны отвлекать его от работы. Весьма специфический work-life balance. Окна кабинета он занавесил тройными шторами, стены обил прессованной пробкой. В этой звукоизоляции Пруст сидит при электрическом свете за написанием чрезмерно вежливых новогодних писем, как и каждый год, с настоятельной просьбой уберечь его в будущем от подарков. Его не уставали приглашать, но каждый, кто это делал, знал, насколько это утомительное предприятие, ибо он неоднократно присылает сообщения и записки, приедет ли он, наконец, или нет, и почему, вероятно, все же не приедет, и так далее. В науке нерешительности с этим господином посоперничал бы разве что Кафка.
В этой звукоизоляции духа Марсель Пруст корпит над романом о памяти и поиске утраченного времени. Первая часть должна называться «Любовь Свана», и тонкими чернилами он выводит последнее предложение: «Реальность, которую я знал, больше не существовала. Определенное воспоминание есть лишь сожаление об определенном мгновении; и дома, дороги, аллеи столь же мимолетны, увы, как и годы».[4]
Способно ли воспоминание лишь на то, чтобы быть сожалением? Гертруда Стайн, парижская салонная львица и подруга авангардистов, мерзнет в двух улицах от Пруста. Она ужасно ссорится со своим братом Лео; их совместное проживание, длившееся не один десяток лет, грозит распасться. Все мимолетно? Она мечтает о весне. Согревает себя мыслями. Она смотрит на Сезаннов, Матиссов и Пикассо у себя на стене. Но придет ли весна одними только мыслями о ней? Она сочиняет маленькое стихотворение, в котором есть строчка: «Роза есть роза есть роза». Как и Пруст, она хочет удержать что-то, желающее пройти. Вот как далеко уже зашел мир поэзии и воображения в январе 1913 года.
Макс Бекман завершает картину «Гибель Титаника».
Февраль
Дождались. В Нью-Йорке Арсенальная выставка провоцирует большой взрыв современного искусства, Марсель Дюшан показывает «Обнаженную, спускающуюся по лестнице». С нее же начинается и резкий подъем вверх. Да и в остальном: всюду обнаженные натуры, прежде всего в Вене – нагая Альма Малер (у Оскара Кокошки) и все остальные женщины Вены у Густава Климта и Эгона Шиле. Другие обнажают свою душу за сто крон в час у доктора Зигмунда Фрейда. А между тем Адольф Гитлер в комнате отдыха венского мужского общежития рисует трогательные акварели собора Святого Стефана. Генрих Манн пишет в Мюнхене «Верноподданного» и отмечает у брата свое сорокадвухлетие. Снег все так же глубок. На следующий день Томас Манн покупает участок земли для постройки дома. Рильке все так же страдает, Кафка все так же медлит, зато растет маленький магазин шляпок Коко Шанель. А австрийский престолонаследник, эрцгерцог Франц Фердинанд, несется на своем авто с золотыми спицами по Вене, играет в железную дорогу и переживает о терактах в Сербии. Сталин впервые встречает Троцкого – и в том же месяце в Барселоне появляется на свет человек, который однажды по заказу Сталина Троцкого убьет. Так все же 1913 год – несчастливый?
Франц Марк. Башня синих лошадей (akg-images).
Сколько можно ждать? Австрийский престолонаследник Франц Фердинанд с ума сходит от ожидания. Уже немыслимых шестьдесят пять лет сидит на троне восьмидесятитрехлетний император Франц Иосиф и не торопится уступать его родному племяннику, чья очередь подошла после смерти Сисси, любимой жены Франца Иосифа, и Рудольфа, любимого сына. Да, спицы на колесах его авто тоже золотые, как у колесницы императора, но вот титул – титул с 1848-го только у дяди: император Франц Иосиф. Или, если быть точным: «Его Императорское и Королевское Величество, Божьей милостью император австрийский, апостолический король венгерский, король богемский, долматский, хорватский, славонский, лодомерский и иллирический, король иерусалимский и прочая; эрцгерцог австрийский; великий героцог тосканский и краковский; герцог лотарингский, зальцбургский, штирский, каринтийский, карниольский и буковинский; великий князь трансильванский; маркграф моранский; герцог верхней и нижней Силезии, оденский, пармский, пьяченцский и гуастальский, Освенцима и Затора, тешинский, фриульский, рагузский и зарский; владетельный граф габсбургский и тирольский, кибургский, горицский и градишский; князь трентский и бриксенский; маркграф Верхних и Нижних Лужиц и Истрии; граф Гогенемс, Фельдкирх, Брегенц, Зоннеберг и прочая; государь Триеста, Котора и Вендской марки; великий воевода Сербии и прочая, и прочая, и прочая».
Школьники, которым приходится учить это наизусть, больше всего смеются над этим «и прочая, и прочая, и прочая»: будто на деле императору принадлежит весь мир, а перечислили лишь малую часть. Но престолонаследника Франца Фердинанда приводят в волнение как раз слова перед «и прочая, и прочая, и прочая»: «воевода Сербии». Там внизу, на Балканах, бушует война, от которой ему не по себе. В замке Шёнбрунн он просит аудиенции у «великого воеводы Сербии» – императора, бакенбарды которого не уступят в длине его титулу.
Франц Фердинанд не выходит, но выпрыгивает из своего автомобиля Graf & Stift и в генеральской форме летит по ступенькам к кабинету Франца Иосифа. Надо срочно что-то предпринять, утихомирить сербов! Уж больно своенравным сделалось королевство на юго-восточном фланге империи, мятежничает, раскачивает лодку. Но действовать надо предусмотрительно. Ни в коем случае нельзя допустить превентивной войны, как требует того начальник генерального штаба в меморандуме от 20 января, ибо это неминуемо вовлечет в военные действия Россию. Император невозмутимо выслушивает лихорадочную скороговорку племянника: «Я велю об этом подумать». И прохладное прощание. Возбужденный Франц Фердинанд опрометью бросается в свое гигантское авто. Шофер в ливрее заводит мотор и, подстегнутый престолонаследником, на бешеной скорости гонит вниз по Шёнбруннер Шлоссштрассе. Пусть Франц Фердинанд и вынужден всю жизнь ждать, но хотя бы не на дорогах.
Наверху, в квартире Трояновских, в один из редких перерывов у окна стоит Сталин, отодвигает шторку и, озадаченный, с любопытством смотрит на машину престолонаследника, стремительно уносящуюся из-под его взгляда. Ленин, который будучи в Вене, всегда укрывался у Трояновских, тоже так делал. Где-то в городе, в этот февраль 1913-го, юный хорват также бросает оценивающий взгляд знатока на проносящийся мимо агрегат с золотыми спицами. Он хорошо осведомлен о качествах автомобиля престолонаследника, ведь он автомеханик и с недавних пор работает на «Мерседес» гонщиком-испытателем в Винер-Нойштадте. Его зовут Иосип Броз, лихач двадцати одного года и охотник до юбок. В настоящее время Лиза Шпунер, представительница крупной буржуазии, терпит его в качестве любовника и оплачивает ему уроки фехтования – с ее денежных презентов он выплачивает алименты на родившегося у него на родине сына Леопарда, мать которого он недавно бросил. Благодаря Лизе он испытывает автомобили по всей Австрии, чтобы купить ей новых платьев. Когда она беременеет, он бросает и ее. Так будет всегда. Однажды он вернется к себе на родину, которая будет зваться в ту пору Югославией, и подчинит ее себе. Тогда Иосип Броз будет звать себя: Тито.
Так и выходит, что в первые месяцы 1913 года Сталин, Гитлер и Тито, два величайших тирана двадцатого века и один из самых худших диктаторов, в один и тот же момент находились в Вене. Один в комнате для гостей изучал вопрос о национальностях, другой рисовал в мужском общежитии акварели, третий наворачивал бессмысленные круги по Рингштрассе, тестируя поведение автомобилей на поворотах. Казалось бы, три статиста без собственных реплик в большом спектакле «Вена 1913 года».
Февраль выдался ледяным, но солнце светило, что было и остается редкостью в зимней Вене. И тем ярче сияла в снегу роскошь новой Рингштрассе. Вена была полна сил, став городом мирового значения. Это ощущалось по всему миру, но только не в самой Вене – там, в радостном пылу самоуничтожения, никто и не заметил, как город возглавил движение, именуемое модерном. Самовопрошание и саморазрушение сделались главной составляющей нового мышления: разразилась «нервная эпоха», как назвал ее Кафка. И в Вене нервы – практически, метафорически, художественно, психологически – оголились так, как нигде больше.
Берлин, Париж, Мюнхен, Вена. Четыре главных города модерна 1913 года. Чикаго потягивал мышцы, и, конечно же, Нью-Йорк постепенно хорошел, но эстафетную палочку от Парижа принял лишь в 1948-м. Но уже и в 1913-м там достроили Вулворт, первое здание в мире, превзошедшее Эйфелеву башню[5], открыли Центральный вокзал, самый крупный в мире, а благодаря Арсенальной выставке над Америкой зажглась искра авангарда. Но Париж оставался в тот год отдельным классом: ни Вулворт, ни Арсенальная выставка, ни Центральный вокзал не взволновали французских газет – да и с чего бы? В конце концов, есть Роден, Матисс, Пикассо, Стравинский, Пруст, Шагал «и прочая, и прочая» – и все уже работают над своим следующим великим произведением. И город, на вершине своей манерности и декадентства, воплощенный в танцевальных экспериментах в тон «Русскому балету» и Сергею Дягилеву, магически притягивает всякого культурного европейца, – в первую очередь четырех сверхкультурных в белых костюмах: Гуго фон Гофмансталя, Юлиуса Мейер-Грефе, Райнера Марию Рильке и графа Гарри Кесслера. Один лишь Пруст в Париже 1913 года хотел уже предаваться воспоминаниям, все остальные же стремились вперед, но иначе, чем в Берлине: лучше всего с бокалом шампанского в руке.
В немецкоговорящем пространстве население Берлина достигло небывалых цифр, но с позиций культуры пик этого города еще впереди. Однако Берлин неистово рвется вперед – и весть о том, что «в ночной жизни Берлина есть особенный изыск», уже донеслась до Парижа и художников круга Марселя Дюшана. Мюнхен был, напротив, весь исполнен стиля и несколько утихомирился – что яснее всего видно по тому, как он начинает славить сам себя (на что в Берлине ни у кого нет времени): к примеру, склонная к авантюрам Франциска фон Ревентлов, сидя в Асконе, бросала в «Записках и приключениях господина Дамы из удивительного района» ретроспективный взгляд на время, когда богема обитала в Швабинге. И видно, безусловно, по тому, как богема целиком и полностью становится бюргерской: Томас Манн детей ради ищет домик в предместьях, в тиши и с большим садом. Он берет участок на Пошингерштрассе, 1 и застраивает его роскошной виллой. А его брат Генрих выбрал Мюнхен, ибо так легко в нем пишется про Берлин, катапультирующийся в будущее город, в котором он помещает действие «Верноподданного», своего великого романа, который он закончит в ближайшие месяцы. Уже мюнхенский «Сиплициссимус» с лихвой издевается над тем, как после восьми вечера полиция Мюнхена озабочена тем, чтобы не уснуть от скуки. Крупной газете рубежа веков даже не за что зацепиться в собственном городе – кажется, будто она приятно устала и растянулась в шезлонге с сигаретой в левой руке. В Вене «Факел», в Берлине «Штурм», «Деяние» и «Акция» – одних названий хватит догадаться, где бурлит современная жизнь.
И конечно, тихая, мягкая кончина Мюнхена как столицы югендстиля и fin de siecle прочитывается и по тому, что пансион, в котором в этом феврале пребывает Эльза Ласкер-Шюлер, называется «Пансионат Модерн» («La Maison Moderne», легендарная галерея дизайна немецкого пропагандиста искусства и писателя Юлиуса Мейер-Грефе в Париже, закрылась еще в 1904-м). Раз пансионаты гордо носят модерн в своих названиях, это значит, что сам он давно двинулся дальше, а именно – в кафе «Мания величия» в Берлине, в кафе «Централь» на Герренгассе, 14 в Вене. Названия могут быть такими говорящими.
Стало быть – в Вену, в центр модерна anno 1913. Главные роли исполняют: Зигмунд Фрейд, Артур Шницлер, Эгон Шиле, Густав Климт, Адольф Лоос, Карл Краус, Отто Вагнер, Гуго фон Гофмансталь, Людвиг Витгенштейн, Георг Тракль, Арнольд Шёнберг, Оскар Кокошка, если назвать пару-тройку имен. Здесь разгорались бои за бессознательное, за сновидения, за новую музыку, новое видение, новое зодчество, новую логику, новую мораль.
25 февраля рождается Герт Фрёбе.
«Страх перед раздетыми женщинами». В Европе 1913 года существует два места, которым чужд страх Освальда Шпенглера. Одно из них – холм Монте-Верита в Асконе на Лаго-Маджоре, где группка милых безумцев, приветствующих свободу мысли, свободу духа и культуру свободного тела, упражняется в чем-то между эвритмией, йогой и лечебной гимнастикой. Другое место – мастерские Густава Климта и Эгона Шиле в Вене. Их рисунки, линии которых с таким удовольствием пробегают по границе с порнографией и новой вещественностью, были главной температурной кривой «самого эротичного города в мире», какой воспринимала тогда Вену Лу Андреас-Саломе. Если на полотнах Климта женщин окутывал золотой орнамент, то на рисунках их тела обвивала неповторимая линия, легко бегущая по листу, словно вьющийся локон, спадающий на плечи. Эгон Шиле ушел дальше в своих телесных изысканиях: изможденные, измученные в нервном перенапряжении тела, которые он, вывернув, пытается запечатлеть не столько эротично, сколько сексуально. Где у Климта мягкая кожа, там у Шиле нервы и сухожилия, где у Климта тело струится, там у Шиле оно разверзается, скрещивается, переплетается. Где у Климта женщина манит, там у Шиле она шокирует (и, конечно, как художник Шиле превосходит Климта по значимости).
«Меня интересует не собственная личность, – говорит Климт, – но, скорее, другие люди, в первую очередь женщины».
Если изображения, превращающие каждого наблюдателя в вуайериста, обретали известность, то быстро попадали под цензуру, умножая вместе с тем славу их автора. Когда Шиле хотел выставить в Мюнхене свой рисунок «Дружба», он получил любопытный письменный отказ. Директор выставочного дома написал Шиле, что работу в силу ее грубой наглядности ни в коем случае нельзя показывать, ибо она попирает обычаи и нравы. Точка. Красная строка. Тем не менее, сам он-де крайне заинтересован в том, чтобы работу эту приобрести. Вот они, слабые звенья между публичной и частной моралью в 1913 году.
Чересчур уж светло в Берлине. Газовые фонари, световые рекламы, огни города того и гляди затмят сияние звезд на небосклоне. В 1913 году техника съезжается к Галльским воротам сносить Берлинскую обсерваторию. Между Линденштрассе и Фридрихштрассе в 1835 году Карл Фридрих Шинкель воздвиг новую прусскую обсерваторию, которую, как и все из этого прекраснейшего десятилетия немецкой истории, едва ли можно было превзойти как по практической значимости, так и по эстетической. Сногсшибательно простое строение, над которым возвышается купол, словно колокольня, – мирская церковь, но с прямым видом на небо. Здесь открыли несколько комет и пару астероидов. Но главное – планету Нептун. Однако в 1913 году это уже никого не интересовало. Понадобилось всего две недели – и вот снова поле, на котором некогда стояло одно из самых смелых сооружений Шинкеля. Обсерваторию перенесли в Бабельсберг, потому что там темнее и Нептун виден лучше. И так как в Пруссии умели хорошо считать, то участок между Линденштрассе и Фридрихштрассе продали, чтобы с прибыли потратить 1,1 миллиона золотых марок на строительство новой обсерватории и 450 000 золотых марок на приобретение новых инструментов. Сам участок – в дворцовом парке Бабельсберга – выделил королевский дом. Тем самым, ровно с учреждением киностудий годом ранее, в 1913 году все, что касалось в Берлине звезд крупных и мелких, очутилось в Бабельсберге.
6 февраля 1913 года начинается год быка по китайскому календарю. Быку, гласит старая китайская поговорка, свежая трава милее золоченой кормушки.
В Зиндельсдорфе Франц Марк работает над своим главным произведением, а Эльза Ласкер-Шюлер вернулась в Берлин. Наверху, на неотапливаемом чердаке их старого крестьянского дома в Зиндельсдорфе, в котором едва ли что было слышно, если внизу Мария Марк играла на пианино, он устроил себе мастерскую. Холодно так, что даже Ханни, любимая кошка, предпочитает оставаться у камина. Кандинский приезжает в гости из Берлина, он рассказывает: «Снаружи белым-бело, снег укрывает поля, горы, леса, мороз щиплет за нос. Наверху, на низком чердаке (постоянно ударяешься головой о балки), на мольберте располагалась „Башня синих лошадей“, подле стоял Франц Марк в шубе, большой меховой шапке, ноги в самодельных лаптях из соломы. А теперь, положа руку на сердце, скажите, как вам картина?» Какой вопрос.
13 февраля «Моны Лизы» Леонардо в Лувре все так же нет. Выходит новый каталог Лувра, в котором картина уже не представлена. В Берлине 13 февраля Рудольф Штайнер читает один из своих знаменитых докладов: «Духовное величие Леонардо на поворотном пункте нового времени». Штайнер говорит долго, чуть ли не два часа. Слушатели ловят каждое слово. Как и Освальд Шпенглер, он много говорит о закате и гибели. Но он считает его необходимым, чтобы освободилось место чему-то новому: «Потому что в умирающих силах мы предвидим и в конечном итоге наблюдаем силы, готовящиеся родиться, и чем ближе закат, тем больше в нас предчувствия и надежды на рассвет. И душа наша должна сознавать развитие человечества, как и всякое становление: где созданное превратится в руины, там непременно расцветет новая жизнь».
17 февраля в здании бывшего арсенала в Нью-Йорке открывается одна из самых главных выставок века. Какого века? Может, не будет ошибкой сказать, что только с первой Арсенальной выставкой подошло к концу искусство девятнадцатого столетия, и только тогда господство модерна приняло размах не просто европейский, но глобальный.
Три американца, с присущим им большим любопытством и знанием дела – художники Уолтер Пач, Артур Дэвис и Уолт Кун, – отправились в конце 1912 года в Европу познакомиться с наиболее интересными художниками и привезти их главные произведения в Нью-Йорк. Вместе с Клодом Моне, Одилоном Редоном и Альфредом Стиглицем в комиссии сидели крупные художники и фотографы – общественность Америки быстро смекнула, что в противовес дородной американской живописи декаданса собираются выставить кубистов, футуристов и импрессионистов Старой Европы. Это была борьба. И впервые она велась на американской земле, после того как отгремели бои в Европе. Всего можно было увидеть тысячу триста картин, лишь одна их треть приехала из Европы. Но именно на фоне этой трети американские казались допотопными – в первую очередь, на фоне восьми картин кисти Пикассо и двенадцати – Матисса. Бурные дискуссии вызвали скульптуры Бранкузи и полотна Франсиса Пикабиа и Марселя Дюшана. «Камера Уорк», легендарный журнал Стиглица, писал: «Выставка с новым искусством из Европы обрушилась на нас, точно бомба». Мощь детонации такой и оказалась: реакцией последовало возмущение, непонимание, смех – но людские массы текли на выставку, чтобы составить о ней собственное впечатление. Газеты чуть ли не каждодневно печатали карикатуры, а на втором показе в Чикаго дошло и до протестных демонстраций студентов Чикагского института искусств – говорят, они сожгли три копии полотен Матисса. Среди американской публики Матисс считался наибольшим простачком. А это, как повелось, надежнее всего доказывает качество.
Сенсацию произвели три брата: Раймон Дюшан-Вийон, Жак Вийон и Марсель Дюшан. Выставлялось семнадцать их работ – все до одной проданы. А «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» Марселя Дюшана стала маркой Арсенальной выставки, самым дискутируемым произведением искусства и самым шаржируемым. «Взрыв на деревоперерабатывающем заводе», как назвал ее один критик, – звучит издевкой, однако демонстрирует, сколь мощными были ударные волны, исходившие от этой работы. Женщина, ступающая сквозь пространство и время – гениальная комбинация из великих временных феноменов кубизма, футуризма и теории относительности. Зал с этой картиной штурмовался ежедневно, люди выстаивали очереди, ждали по сорок минут, лишь бы успеть бросить взгляд на скандальное полотно. Очевидно, для верных традициям американцев эта картина представлялась воплощением странной, иррациональной Европы. Ее купил какой-то антиквар из Сан-Франциско. Где-то на одном провинциальном вокзале в Нью-Мехико, во время какого-то бесконечного возвращения домой, он сошел с поезда и телеграфировал в Нью-Йорк: «Покупаю Дюшана голая женщина спускается лестницей прошу резервировать».
Дюшаны так и работали в своей мастерской в Нейи, ничего не зная о собственной славе – но тут вдруг вместе с почтой пришли чеки. Марсель Дюшан получил за продажу четырех полотен 972 доллара – для 1913 года сумма небольшая. Так, «Холм Бедных» Сезанна ушел с выставки в музей Метрополитен за 6700 долларов. И тем не менее Дюшан был очень рад.
Однако в тот момент, когда Америка и Париж открыли его как художника, сам Марсель Дюшан порвал с кубизмом и темой движения – или, как хорошо он сказал сам, «с движением, смешанным с масляной краской». В тот момент, когда он должен был стать великим художником эпохи, Дюшан объявил, что рисовать ему скучно. Он искал что-то другое, новое.
В Праге страдает Кафка. Оттого что Фелиция, объект его эпистолярных воздыханий, отмалчивается по поводу сборника рассказов «Созерцание», который он ей послал в декабре. Оттого что сестра Валли выходит замуж, оттого что в квартире всегда так шумно (потому что родители и сестры хлопают дверьми да еще и разговаривают), оттого что днем он занимается чужими страховками, а ночью – собственным творчеством. Ему угрожают командировки, перерывы, простудные заболевания. Но в первую очередь его мучает страх, что иссякла творческая энергия. И каким бы пугающим ни было представление о жизни холостяком, возможно, в этом заключается единственная возможность быть писателем. Ибо один-единственный вопрос приводит его в панический ужас: что станет с ним, случись ему жениться? Как быть ему с тем, что он называл «правом супруги»? И это состояло для него из двух кошмарных сценариев: телесных претензий жены, но прежде всего временных претензий. Он просит Фелицию не писать ему лишний раз о том, что она хочет сидеть с ним рядом, когда он работает над своими книгами – так как если она или кто-то будет сидеть у него за спиной, то разрушится тайна письма. И тогда он пишет Фелиции еще одно предложение: «Подвергнуть себя риску отцовства я бы никогда в жизни не отважился». Можно ли предостерегать от себя самого больше, чем это делает Кафка в письмах? Но Фелиция, разрываясь между работой и домом, написанием писем и семейными заботами, реагирует так, словно это ее призвание свыше – служить адресатом Кафке и мировой литературе. Эту миссию она возлагает на себя с невозмутимой серьезностью.
Всюду в 1913-м искусство стремится сбежать в абстракцию. Кандинский в Мюнхене, Робер Делоне и Франтишек Купка в Париже, Казимир Малевич в России и Пит Мондриан в Голландии – каждый стремится своим путем избавиться от причастности к реальному. А тут еще этот юный, воспитанный, сдержанный молодой человек в Париже – Марсель Дюшан, внезапно расхотевший рисовать.
В Мюнхене благотворительный аукцион в поддержку Эльзы Ласкер-Шюлер идет вкривь и вкось. С целью поддержать дополнительными средствами инициированную Карлом Краусом в «Факеле» акцию помощи, Франц Марк трогательным образом попросил венских друзей-художников предоставить свои полотна. И действительно, 17 февраля на торги поступили выполненные маслом картины от Эрнста Людвига Кирхнера, Эмиля Нольде, Эриха Хеккеля, Карла Шмидт-Ротлуфа, Оскара Кокошки, Пауля Клее, Августа Маке, Алексея фон Явленского, Василия Кандинского и Франца Марка. Только Людвиг Майднер из Берлина отказался (ему-де самому есть нечего). Аукцион организовали в Новом художественном салоне, но никто не проявил интереса. Так что художники торговались друг с другом, чтобы избежать абсолютного позора, вместе набралось 1600 марок. Общая ценность не ушедших 17 февраля 1913 года с молотка произведений искусства составила бы сегодня около 100 миллионов евро, да что там – чуть ли не 200 миллионов.
Зигмунд Фрейд продолжает развивать теорию отцеубийства. В то же время открытые недавно киностудии в Бабельсберге празднуют 28 февраля премьеру фильма «Грехи отцов» с Астой Нильсен. Позже – и тут название весьма кстати – Аста Нильсен чувствовала свою сопричастность «к китчу ранней эпохи кинематографа». На афише она в узкой юбке и открытой блузе. Аста Нильсен была стройной, что по тем временам не вписывалось в общую картину, – на радость карикатуристам, видевшим в ней лишь кожу да кости. Но большинство мужчин это не смущало. В 1913-м Аста Нильсен была самым настоящим секс-символом, большой контракт с ней включал восемь фильмов, снятых и показанных друг за другом в период с 1912 по 1914 год. Новый журнал «Бильд унд Фильм» пишет: «Толпы страждущих, словно голодная орава у дверей булочной, за билет готовы друг другу шею свернуть. При этом многие посмотрели фильм два-три раза подряд и не устают приходить в восторг». Также и Самуэль Фишер, знаменитейший издатель своего времени, со все большим удивлением наблюдает, как Аста Нильсен покоряет толпы людей. Он понимает, что за кинематографом будущее, и хочет уговорить своих самых известных авторов заняться написанием киносценариев.
На дворе 1913 год, но катастрофа Арнольда Шёнберга откладывается. Воскресным вечером, 23 февраля, в половину седьмого, в большом зале филармонии премьера его «Песен Гурре» – публика предвкушает новый скандал. Его последние выступления и композиции успели наделать в Вене шума: некогда романтик постепенно сделался «модернистом». В прошлом году дикий ужас вызвал его «Лунный Пьеро, опус 21». И вдруг такое: вместо современной радикальности сущий поздний романтизм. Пять вокалистов, три мужских хора на четыре голоса, огромный оркестр с разной формы флейтами, ударными и струнными. На одних только струнных на премьере было занято восемьдесят музыкантов – вот он, гигантизм рубежа веков, пробивающий себе дорогу. Нельзя играть ораторию без ста пятидесяти музыкантов в оркестре, объяснял Шёнберг. Словно сама природа разыгрывает помпезную драму: и летний ветер в ней, и буря, и гроза. Необозримые хоры воспевают красоту солнца, грандиозного явления природы – каким оно однажды явилось Шёнбергу, когда после ночной попойки он отправился на Аннингер – одну из прилегающих к Вене гор.
«В сотне глаз уже затаилось злорадство: сегодня ему снова покажут, может ли он позволить себе сочинять так, как хочется ему, а не так, как ему показали другие», – пишет Рихард Шпехт в берлинском журнале «Март». Но вместо скандала – триумф. «Ликование публики, разразившееся уже после первой части, перешло в агонию восторга после третьей… А когда хор завершил свое мощнейшее приветствие рассвета… восторгу не было предела; с влажными от слез лицами публика благодарила композитора, теплее и настойчивее, чем бывает в случае „успеха“: словно ему публично приносили извинения. Пара молодых людей, мне не знакомых, подошла ко мне с румянцем стыда на щеках и призналась: они взяли с собой ключи от дома, чтобы дополнить музыку Шенберга подобающим ей бряцаньем, но теперь он целиком их покорил и кумир навеки».
«Песни Гурре» с их гимническими, пышными мелодическими дугами оказались самым большим успехом, какого Шёнбергу суждено было добиться у публики. Но Шёнберг никогда и не испытывал такой потребности в своей публике, как сейчас – видимо, из-за панического ужаса перед катастрофой, которой грозит ему 1913 год. «Песни Гурре» – утопающее в роскоши, расточительное произведение позднего романтизма, мелодичное, хотя его создатель давно оставил границы тональности позади. Чарующая красота, на волосок от китча. Понадобилось десять лет, прежде чем Шёнберг написал правильную оркестровку, однако сама композиция родилась еще на рубеже веков – и таким образом тринадцать лет спустя идеально вписалась во вкус венской публики. Жизнь наградит того, кто опоздает. Ключи, которыми хотели забренчать Шёнберга, слушатели на этот раз не доставали из карманов. Но долго там они не останутся.
События развиваются одно за другим в Вене 1913 года.
Тем же вечером нарушается запрет на постановку пьесы Артура Шницлера «Профессор Бернхарди»: в виде «читки» в Объединении Народного вечернего университета у парка Кофлер, прямо на остановке восьмого трамвая, «ровно в семь часов вечера». Хотя дирекция венской кайзеровско-королевской полиции постановила: «Если и можно было бы некоторыми поправками и изменениями текста преодолеть сомнения в возможности постановки произведения с точки зрения защиты чувств верующих, то одним даже своим построением эпизодов, освещающих нашу общественную жизнь, пьеса, всячески искажая местное положение вещей, изображает государственные австрийские учреждения столь оскорбительным образом, что постановка сего произведения на отечественной сцене, во благо оберегаемых общественных интересов, недопустима».
После вечера «Песен Гурре», в понедельник без четверти шесть, в салоне Артура Шницлера собирается круг избранных. 21 февраля свое согласие дал Гуго фон Гофмансталь: «Так как большой и чистой радостью будет мне услышать Вашу новую работу в Вашем же исполнении, и так как мне вообще всегда печально от того, что так редко Вас вижу. От всего сердца, Ваш Гуго». Для самого Шницлера чтение обернулось мучением: он кашляет, потеет, у него жар. Он даже не смог пойти на «Песни Гурре» накануне вечером. Но пациент из врача всегда никудышный, так что вечером понедельника он отважно читает из «Фрау Беаты и ее сына», своей новой новеллы с эдиповой подоплекой, которой так порадовался Фрейд. Текст длинный, но Шницлер держится до конца. Женщина спит с другом своего несовершеннолетнего сына. Друг хвастает этим направо и налево, сын стыдится до полусмерти, мать стыдится до полусмерти, мать и сын гребут на озере, занимаются любовью, а потом стыд замучивает их действительно до смерти. Глубокую осведомленность в вопросах чувственности за Шницлером признавали все, даже его критики. А сегодня и подавно – с тех пор, как стали известны его дневники.
Пока жена Ольга, с которой он в 1913 году ведет деструктивную позиционную войну, продолжает есть и пить с гостями, он удаляется к себе в комнату и записывает: «Вечером с жестоким гриппом читал „Беату“ почти с шести до девяти. Рихард, Гуго, Артур Кауфман, Лео, Зальтен, Вассерман, Густав, Ольга». Зальтеном, кстати, был Феликс Зальтен, то самое прелестное венское дарование начала двадцатого века, который издал книгу «Бэмби» и, как предполагают, – под псевдонимом – «Воспоминания Жозефины Мутценбахер», вопиющую даже для продвинутой в делах эротики Вены порнографию на венском диалекте. Порно и Бэмби – именно эта двуликость Януса составляла особенную прелесть и особую подрывную силу Вены тех лет. Адольф Лоос для всех образов из психоанализа Зигмунда Фрейда, рассказов Артура Шницлера и картин Густава Климта нашел неповторимую формулу: «Орнамент и преступление».
Спустя день после чтения в доме Шницлера, во вторник, 25 февраля, Томас Манн покупает в Мюнхене участок на Пошингерштрассе, 1. В тот же день он официально поручает архитектору Людвигу построить достойную его виллу: спокойную, важную, несколько чопорную. Вместе с архитектором прямо возле участка он ждет трамвай номер тридцать до центра города. Трость с изогнутым набалдашником Томас Манн как всегда перекинул через левую руку. Обнаружив пылинку, он рукой смахивает ее с пальто. Затем он слышит, как с холма Богенхаузен спускается трамвай.
У Пикассо три сиамских кошки. У Марселя Дюшана только две. И по сей день счет между двумя великими революционерами такой же – 3:2.
Самым значительным произведением, которое Кафка напишет в 1913 году, будут его письма к Фелиции. Они полны серьезности, полны отчаяния, полны комизма. Вот и 1 февраля он спешит поведать: «Вот уже несколько дней желудок мой, как и весь организм, пошаливает, и я пытаюсь образумить его голоданием». Затем в замечательных словах он сообщает о чтении Франца Верфеля накануне. «Как же вздымается такое вот стихотворение, неся и зарождая свой финал уже в самом своем начале, в непрерывном внутреннем развитии, что низвергается на тебя потоком – а ты, скорчившись на кушетке, только глазами хлопаешь!» Он даже посвятил Фелиции экземпляр своего нового сборника стихотворений, «незнакомке», но – «горе мне»: «Я вышлю тебе книгу в самое ближайшее время – если бы еще не эти хлопоты с особой упаковкой и отсылкой». Так вот сидит Франц Кафка у себя в комнате в Праге, приходя в отчаяние от вопроса, как же запаковать книгу. Как хорошо, что в этот момент приносят «Процесс» на правку.
Но что подумает Фелиция, эта непринужденная, современная, танцующая танго молодая служащая и женщина в лучших годах, читая от своего Франца строки наподобие этих: «Любимая, скажи, чего ради ты любишь такого горемыку, несчастьями которого и заразиться недолго? Я влачу за собой мглистый шлейф несчастья. Только ты не бойся, любимая, и останься со мной! Совсем рядом, совсем близко!»
Потом он снова жалуется на боли в плече, на простуды и проблемы с пищеварением. Затем, 17 февраля, возможно, самые честные и, безусловно, самые прекрасные слова, какие он когда-либо писал возлюбленной чародейке из далекого Берлина: «Иногда я думаю: Фелиция, у тебя такая власть надо мной – так преврати же меня в человека, способного на все само собой разумеющееся». Разумеется, ей это не удастся.
16 февраля 1913 года на венском Северном вокзале Иосиф Сталин садится в поезд и отправляется обратно в Россию.
По трупу в день. В итоге это будут двести девяносто семь тел – извозчики, проститутки, безымянные утопленники, которых доктор медицинских наук Готфрид Бенн вскроет в период между 25 октября 1912 года и 9 ноября 1913 года. День за днем в этот холодный проклятый февраль он в белом халате спускается в подвал клиники Вестенд в районе Берлина Шарлоттенбург и достает скальпель. Вскрывает трупы, обнаруживает причину смерти, но не душу. Сущий ад для этого ранимого, двадцатишестилетнего сына священника из Ной-марка: безостановочно вскрывать, набивать, зашивать, вскрывать. Как рассказывают фотографии, в эти одинокие месяцы средь бела дня и пред лицом смерти у Бенна чуточку смыкаются веки. Он уже никогда не разомкнет их полностью. «Он смотрел из-под опущенных век», – напишет Бенн, едва поднявшись из подвала для вскрытий, пытаясь в образе «Рённе» отскрести от души страдание. Глядя из-под опущенных век, недоверчиво сверкая глазами, Бенн в своем мрачном трупном подвале словно предчувствует модель двадцатого века: Eyes wide shut[6]. Поэтому вечерами, после второй, третьей кружки пива он сочиняет на каком-нибудь клочке бумаги: «Венец творенья, боров, человек»[7]. И он знает, что на следующий день, на рассвете, в подвале его будет ждать очередное тело, которое сейчас еще, возможно, живо и бродит меж домов. Следующей весной он, измученный, попросит об увольнении, и профессор Келлер соврет в выпускном свидетельстве: «В течение своей деятельности господин Бенн проявил себя как блестящий специалист в области медицины». Его первенец «Морг» – изданные в марте 1912 года стихотворения из театра трупов – доказывал обратное: беспощадные, холодные и, тем не менее, проникнутые дерзким поздним романтизмом стихотворения о теле, раке и крови выдают большое экзистенциальное потрясение – их и сегодня на пустой желудок не почитаешь.
Но их ярость и мощь за ночь превратили автора, незаметного, всего лишь метр шестьдесят семь ростом патологоанатома с залысинами и наметившимся животиком, в одну из окутанных тайной фигур берлинского авангарда. Бунтарь в костюме-тройке. «Уже после первого сборника стихов я прослыл надломленным бонвиваном, – вспоминал Бенн, – инфернальным снобом и типичным литератором, просиживающим в кофейнях, в то время как я вместе со всеми отмаршевывал полковые учения на картофельных полях Укермарка, а в Дёберице, при штабе командира дивизии, бежал рысью по сосновым холмам». Мы не знаем, подошел ли этот военный врач Бенн к столику Эльзы Ласкер-Шюлер однажды вечером в «Западном кафе», на углу Курфюрстендамм и Йоахимсталерштрассе, или наоборот. Но лучше места, где могли обрести друг друга эти двое дрожащих от лирического потрясения аутсайдеров не придумать. Это арт-кафе пришло в благородный упадок, в нем подавали посредственную венскую кухню, как и по сей день во всех следящих за собой арт-кафе Берлина, воздух застывал от сигаретного дыма, с улицы пробивался оглушительный грохот, на газетах красовалась печать «Украдено в „Западном кафе“», а внутри сидела богема и пила в долг. За кофе или пиво можно было заплатить 25 пфеннигов – и сидеть до пяти утра.
Бенн и Ласкер-Шюлер бывали здесь постоянно. Сперва бросали друг на друга взгляды. Словно два хищника, осторожно крались друг к другу, каждый подкармливал свой голод стихотворениями другого, неделями проговаривая их поздней ночью по дороге домой. «Каждая из его строк – укус леопарда, прыжок дикого зверя», – пишет она в эти дни о Бенне. Поэтесса Эльза Ласкер-Шюлер – на семнадцать лет старше его, недавно разведенная со вторым мужем, вовлеченная в авантюры со всеми центральными персонажами берлинской богемы, увешанная украшениями, с колокольчиками на ногах, в восточных одеяниях – в одночасье влюбляется в строгого доктора медицины с сонливым взглядом и робкой, почти безучастной интонацией, с какой он в жизни, как и в стихах, рассказывал чудовищные вещи о смерти, трупах и женском теле, словно кофе заказывал. А Готфрид Бенн, еще чуть надменный и неуверенный, влюбляется в чувственную зрелую женщину с глазами, сверкающими, точно черные алмазы.
Оба персонажа, которым этой холодной берлинской зимой суждено встретиться и сблизиться, – неудачники: ей сорок четыре года, ему скоро двадцать шесть. Эльза Ласкер-Шюлер, некогда оберегаемая банкирская дочка из Эльберфельда, теперь оказалась нищенкой: неделями она сидит на одних орехах да фруктах, мучается лихорадкой, бродит по ночному городу с сыном, ночует под мостами и в пансионатах, клянчит каждую чашку кофе. В своих поношенных восточных одеждах она кажется клошаром из «Тысячи и одной ночи». Стихи она пишет на украденных с главпочтамта бланках для телеграмм. Бенн же, заблудший пасторский сын из деревни, отчаянно ищет свою профессию, он потерпел уже две неудачи: сперва как врач в психиатрическом отделении Шарите, затем как военный врач, которого отправили в принудительный отпуск. Отзывы свидетельствуют о его проблемах в общении с людьми. Ему рекомендуют общение с трупами. Вскоре после его вступления в должность умирает любимая мать. И Бенн, успевший набить руку в зашивании, пишет: «Ты на челе моем раскрытой раной, и рана не смыкается никак»[8]. Это биографический момент, в котором различаются Бенн и Ласкер-Шюлер, цепляющиеся друг за друга, словно два утопающих. «О твои руки» называется стихотворение Ласкер-Шюлер из октября 1912 года – и в нем впервые на ее сердце различается почерк доктора Готфрида Бенна. Она даже (какое счастье!) может писать ему на иврите: пасторский сын знает в теории Ветхий Завет. А теперь – практика.
Как думаете, получится?
На Берггассе, 19, ставшей уже тогда самым знаменитым адресом Вены, сидит доктор Зигмунд Фрейд. Психоанализ сделал его богатым: в день он проводит до одиннадцати сеансов, получая 100 крон за каждый – как его домработницы за целый месяц. Но за то, что после смерти Густава Малера он написал управляющему его наследством и пытался добиться возмещения трат за совместную прогулку с композитором, Альма Малер обижалась всю жизнь. В 1913 году он – легенда, его исследования о сновидениях и сексуальности – всеобщее достояние, а когда Шницлер или Кафка записывают образы своих снов, то не без вопроса, а что сказал бы доктор Фрейд. Он исследовал сексуальность, которую другие вытесняли, и которую, по сегодняшним данным, он и сам вытеснял в 1913 году. После того как жена подарила ему шестерых детей, он, видимо, предпочел воздержание: о романах ничего не известно, лишь невыясненное отношение к Минне Бернайс, его свояченице, жившей с ними под одной крышей, дает повод для спекуляций, но – кто знает, кто знает.
Фрейда забавляло, что венцы приняли его учение о вытесненном и бессознательном в тот момент, когда он получил должность профессора. «Уже посыпались отовсюду поздравления и цветы, словно роль сексуальности официально признана его высочеством, а значимость сновидений утверждена советом министров».
Уже современники воспринимали Фрейда и Шницлера как сиамских близнецов: здесь «Толкование сновидений», там «Новелла о снах»; здесь Эдипов комплекс, там «Фрау Беата и ее сын». Но, видимо, именно внутренняя схожесть заставляла их вежливо друг друга избегать. Однажды Фрейд набрался духу и написал Шницлеру о боязни встречи с ним, о «своего рода страхе двойничества». Так как, прочитав его рассказы и пьесы, у него сложилось впечатление, что «благодаря интуиции – а вообще-то вследствие тонкого самонаблюдения – Вам известно все, что мне удалось обнаружить в процессе тягостной работы над другими людьми». Но и это признание ничего не изменило. Как два магнита со слишком схожими полюсами, они не могли приблизиться друг к другу. Но оба относились к этому с юмором. Когда в 1913 году в кабинет Шницлера доставили истекающего кровью сына фабриканта, которого пони цапнул за пенис, доктор предписал: «Пациента немедленно в травматологию – а пони лучше всего к профессору Фрейду».
Крупная берлинская сигаретная фирма Problem повсюду в Берлине, на автобусах и дрожках рекламирует сигареты под названием Moslem. Поэтому, когда идешь по Потсдамской площади или по Курфюрстендамм, то большими буквами можно прочитать: «Moslem: Problem Zigaretten».[9]
Генрих Манн сейчас сожительствует в Мюнхене с Мими Кановой, с которой он – как удачно – познакомился в 1912 году на берлинской репетиции своей пьесы «Большая любовь». Она толстовата. Он зовет ее «пончик». Но она писала ему, что, добейся он дальнейшего ее ангажемента в театре, она будет «лелеять его, как дитя». Видимо, предложение его привлекло. Остальные воротят нос от этой заурядной женщины и их неподобающей связи (как и родной брат Томас, у которого каждый раз губы трубочкой, когда Генрих демонстрирует гетеросексуальную активность). Генрих, с бородкой и приспущенными веками похожий на испанского аристократа, сидит, довольный, со своей Мими в Мюнхене на Леопольдштрассе, 49 и пишет.
Когда Генриху исполняется сорок два, Томас приглашает брата с женой заглянуть на скромный ужин. Но в остальном он без устали работает над своей великой книгой «Верноподданный». Он очень дисциплинирован – страницу за страницей он исписывает мелким почерком в квадратных тетрадках и уже почти закончил беспощадный анализ немецкого общества времен кайзера Вильгельма П. Лишь в редких перерывах он рисует обнаженную натуру, в основном добротных женщин в смелых позах – они сильно напоминают бордельные рисунки Георга Гросса. Позже, когда Генрих Манн умрет, их обнаружат в нижних ящиках его письменного стола.
Генрих Манн ведет переговоры с несколькими журналами касательно публикации отрывка из «Верноподданного», и сейчас он договаривается с мюнхенским журналом «Цайт им Бильд». Печать должна начаться 1 ноября 1913 года. За гонорар в 10 000 рейхсмарок Генрих Манн дает согласие на возможное «изъятие из текста сцен излишне эротического характера». Ну ладно, – подумал, наверное, Генрих Манн, – ведь здесь важнее сцены социально-критического свойства… Эта идея осенила его пару лет назад в одном из берлинских кафе на Унтер-ден-Линден, где он увидел, как целая масса буржуазной публики жадно прильнула лицом к окну, когда мимо прогарцевал кайзер. «К старому циничному прусскому духу унтерофицерства здесь добавилась машинальная массовость мирового города, – писал Манн, – и в результате человеческое достоинство опустилось ниже всякого уровня». У Манна рождается образ бумажного фабриканта, который только и может, что печатать открытки с портретом кайзера. Манн изучает горы материала, ездит на бумажные мельницы и фоторепродукционные предприятия, все скрупулезно записывает, беседует с рабочими, действует как репортер. Рихард Вагнер, в первую очередь его странное наркотизирующее влияние на дух противоречия, оборачивается для него такой загадкой, что он впервые, исследования ради, идет на «Лоэнгрина». Стало быть, пока брат Томас занимается «Королевским высочеством» и аферистом Феликсом Крулем, Генрих Манн ищет верноподданическое в немецком – и с ужасом выясняет: оно везде. Одного юриста он просит досконально объяснить ему состав преступления в случае оскорбления величества. Ибо именно этим и должна стать его книга «Верноподданный»: оскорблением его величества – немецкого мелкобуржуазного духа.
Герман Гессе глубоко несчастен в Берне со своей женой Марией. Вместе с Теодором Хойсом (да, тем самым Теодором Хойсом) он занимается журналом «Март», но над ним самим и его сочинительством тяготеет ситуация в семье. Даже переезд с Боденского озера, где они пробовали пожить на волне увлечения вегетарианством, в тихий центр Швейцарии, на родину жены, не улучшил их отношений. У них трое детей – Мартину, младшенькому, как раз исполнилось два, но родительский союз заметно сдулся. Гессе прибегает к сердечнососудистому средству, которое могут назначить себе только писатели: к беллетризации. Рассорившись с женой в спальне, он идет в кабинет, вставляет свежий лист бумаги в любимую печатную машинку и записывает ссору в виде диалога. Так в 1913-м рождается роман «Росхальде», который он в том же году публикует в ежемесячном журнале «Вельхаген & Класингс». Главный персонаж Иоганн Верагут заново переживает мучения Гессе, его мечтания естественным образом оборачиваются разочарованием. Жену зовут Адель – она так же смирилась с жизнью и на нее обозлилась, как и Мария, жена Гессе. В книге Герман весьма открыто касается не только проблемы неудачности своего брака, но и принципиальной невозможности оставаться художником, будучи женатым членом общества. Двадцатитрехлетний студент юридического факультета Курт Тухольский, с января работающий в журнале «Шаубюне», который станет потом «Вельтбюне», пишет о «Росхальде» глубоко проницательные мысли: «Не стой на обложке имя Гессе, мы бы и не догадались, что написал ее он. Это не наш старый добрый любимый Гессе – это кто-то другой». Но прежде всего Тухольский с первого взгляда уловил тонкую грань между вымыслом и действительностью: «Гессе как этот Верагут: покинул родные края и уходит – но куда?» Хороший вопрос.
В 1913 году, конечно, далеко не все ладится. Все готовились к выставочному турне: зачин – во Франкфурте, задача – объединить искусство берлинских экспрессионистов и сецессионистов с искусством «Синего всадника». Но к своему удивлению, «синие всадники» в Верхней Баварии получают из Берлина свои картины обратно. 28 февраля Макс Франк из Зиндельсдорфа пишет сердитое письмо с эмблемой «Синего всадника» Георгу Тапперту, председателю Нового сецессиона в Берлине: «Распаковывая ящики с картинами, я, к моему величайшему огорчению, обнаружил среди прочих и „Оленей“, которые по моему настоянию непременно должны были отправиться в турне (сперва в апреле во Франкфурт). Вот и Кандинский мне сегодня пишет, что к его откровенному недоумению четыре его берлинских картины вернулись к нему в Мюнхен. Как это понимать? По логике выходит, что идея турне провалилась. Но как такое возможно, что Вы, нас не спросив, просто вешаете картины нам на шею?» Однако это еще не конец. Осенью все-таки состоится уникальная встреча обоих полюсов немецкого экспрессионизма на высшем уровне.
Райнеру Марии Рильке жарко уже в начале февраля. На юг он бежал, чтобы лицезреть солнце. Однако теперь, сидя в белом костюме в саду отеля «Королева Виктория», он тоскует по прохладному северу. Иначе Рильке – не Рильке. Он так тонко понимает женщин, так глубоко вживается в природу, в нем столько вчувствования во все, что на исходе лета он сострадает городам, «изнуренным от неотступности лета». И, вероятно, поэтому лишь кто-то вроде Рильке способен при самых первых теплых лучах солнца этого года ощущать будущий жар их разрушительной силы. В письмах к матери и далеким подругам сердца он сетует, как пагубно действует на него весна: «Солнце перегревало: в семь утра еще стоял февраль, а четыре часа спустя, около одиннадцати, казалось, что на дворе август». Она ведь должна понимать, пишет он Сидони Надерни, что совершенно «невыносимо», когда так палит солнце. 19 февраля он поспешно уезжает. В конце месяца он обживает новую парижскую квартиру на улице Шампань-Премьер. За полтора года объездив пол-Европы, пытаясь убежать от себя, он оказывается в предвесеннем гуле метрополии. Он боится пристать к берегам, осесть. Но он хочет еще раз попробовать, здесь, в Париже, в этом месте. Но он совсем забыл, как это бывает. Сидеть, работать, не переживать. Жить.
Весной 1913 года Шарль Фабри проводит успешные эксперименты по открытию озонового слоя, который еще ничем не поврежден.
Всего день на поезде – и ты уже в Галиции, земле австрийской короны. Поэтому Вена в эти годы становится излюбленным местом политической эмиграции для беглых революционеров из России. Так, на Дёблингерштрассе в бедноватой мелкобуржуазной атмосфере с женой Натальей и детьми работает писатель и журналист Лев Бронштейн, больше известный как Лев Троцкий. На Рождество Троцкие потратились на елку, чтобы сделать вид, будто они вместе со всеми и никогда не захотят уезжать. Работая журналистом на различные либеральные и социал-демократические издания, Троцкий зарабатывает мало, часто целыми днями он сидит в кафе «Централь» и играет в шахматы. В 1913 году «господин Бронштейн» слывет лучшим шахматистом венских кофеен, а это что-то да значит. В очередной раз нуждаясь в деньгах, он закладывает в ломбард что-то из своих книг, выбора у него нет.
В начале февраля Сталин продолжает работать над статьей «Марксизм и национальный вопрос», что станет его самым известным произведением, – мешанина народов в Австро-Венгрии служит ему наглядным примером. Сталин развивает в Вене идею централизованной империи, стоящей за мнимой национальной автономией, и в конечном итоге – программирует Советский Союз. Сталин, среди друзей просто «Coco», даже с детьми Трояновских ни о чем другом не говорит. Он не отказывается от попытки приударить за их няней – правда, попытки напрасной, – и он вновь с головой окунается в работу. Зато он находит время на применение зла капитализма на практике. Он затевает спор с матерью: дескать, если они оба позовут Галину, ее темпераментную дочку, то подбежит она к нему – в надежде, что он опять купил ей конфет. И здесь он вновь оказывается прав.
Двое мужчин навещают его в квартире Трояновских. Николай Бухарин помогает с переводами и, в отличие от Сталина, добивается успеха у няни, что тот не простит ему до конца жизни (и за что Бухарин однажды поплатится пулей в затылок). Как-то раз и Троцкий случайно заглядывает в гости: «В 1913 году в Вене, в старой габсбургской столице, я сидел в квартире Скобелева за самоваром, – пишет Троцкий. – Дверь внезапно раскрылась без предупредительного стука, и на пороге появилась незнакомая мне фигура – невысокого роста, худая, с смугло-серым отливом лица, на котором ясно видны были выбоины оспы… Во взгляде не было ничего похожего на дружелюбие». Это был Сталин. Он налил стакан чая из самовара и вышел молча, как и вошел. Сталин не узнал Троцкого – к счастью, потому что в своих статьях тот уже назвал его «шумливым чемпионом с фальшивыми мускулами».
В том же феврале 1913 года, когда впервые увиделись Сталин и Троцкий, в далекой Барселоне родился человек, который позже по приказу Сталина убьет Троцкого. Его зовут Хайме Рамон Меркадер дель Рио Эрнандес.
23 февраля в Санкт-Петербурге Иосифа Сталина арестовывают посреди улицы. Он пытается сбежать – в женской одежде и парике. Это никак не связано ни с карнавалом, ни со специфическими наклонностями. Нет, революционер находится в России нелегально, одежду он украл из костюмерной во время концерта, устроенного в поддержку газеты «Правда» и сорванного полицейской облавой. Полиция задерживает хромого беглеца и срывает с него яркое летнее платье и парик, под которыми оказывается Сталин. Его узнают и ссылают в сибирский Туруханск.
В и без того бурной Вене случился роман, от которого захватило дыхание даже у самих венцев. Альма Малер, самая красивая девушка Вены с легендарной талией и эффектной грудью, овдовев после смерти великого композитора и еще не успев снять траур, влюбилась в Оскара Кокошку, самого неблаговидного художника Вены, неугомонного провокатора, который всюду носился в поношенных брюках и расстегнутых рубашках. Его самое известное произведение называлось «Убийца, надежда женщин» – именно это он и имел в виду. Едва ли еще найдется в Вене 1913 года что-то столь беспощадно сексуальное, как переписка и роман между Кокошкой и Альмой Малер. Днем Альме нужно было посвящать себя светской жизни первой вдовы города, устраивать приемы и салоны у себя дома. Однако ночью вступали в силу права Кокошки. Он сможет работать, только если будет спать с ней каждую ночь, говорит он ей, и она делается одержимой его одержимостью. Когда он приходит в дом ее приемных родителей Моллей рисовать ее портрет, она уводит его в соседнюю комнату и душераздирающе поет арию смерти Изольды. И с оперной абсолютностью бросается в омут этой авантюры. Кокошка больше не может рисовать ничего, кроме Альмы. В основном обнаженной, с распущенными волосами, распахнутой блузой, он рисует дико и неистово, как и любит. От нетерпения он отбрасывает кисточку – с ней так долго возиться – и рисует пальцами, левая ладонь служит палитрой, ногтями он вцарапывает линии в толщу красок. Жизнь, любовь, искусство: все – большая борьба.
Если Кокошка не рисует Альму, то рисует Альму и себя, как, например, «Двойной портрет Оскара Кокошки и Альмы». Он называет картину «Помолвка», потому что хочет жениться на Альме и надеется, что так удержит ее навсегда. Но Альма – змея. Выйти за него, объясняет она ему, она сможет, лишь когда он создаст абсолютный шедевр. Кокошка надеется, что эта «Помолвка» и станет его абсолютным шедевром – в конце февраля он ее уже почти закончил, и Альма нервничает. Он умоляет ее: «Прошу, пиши мне много милых слов, чтобы со мной больше не случилось рецидива и я не простаивал напрасно перед холстом». Но Альма как раз сделала аборт и злится, что он нарисовал у нее беременный живот. Они странно держатся за руки на картине: во взгляде Кокошки читаются муки, в глазах Альмы – самообладание. С матерью она едет в Земмеринг и выбирает участок среди земель, которые Густав Малер когда-то приобрел для них двоих. Теперь она планирует любовное гнездышко для другого. И когда «Помолвка» готова, Кокошка посылает ее в Берлинский сецессион. Это, конечно, то, на что он надеялся: публичное объявление о помолвке. Когда Вальтер Гропиус, видный архитектор, который как раз строит здание для фабрики «Фагус» и тешит себя надеждой жениться на Альме, видит в Берлине картину, его – как кстати – хватает удар. (Но, между нами, именно он, а не Кокошка, в конечном итоге женится на Альме.)
Альберт Швейцер сидит в Страсбурге за своей третьей докторской работой. Он уже давно получил степень доктора за диссертацию «Философия религии Канта. От „Критики чистого разума“ до „Религии в пределах только разума“». Степень доктора теологии у него уже тоже есть: «Проблема Тайной вечери: анализ, основанный на научных исследованиях девятнадцатого века и на исторических отчетах». Он успел стать доцентом теологии в Страсбурге и даже викарием в церкви Святого Николая, когда решил получить степень доктора еще и в медицине. В 1912 году его допустили к врачебной практике. Но врач, викарий, доцент, доктор филологии и доктор теологии не сдает оборотов. Диссертацию «Психиатрическая оценка личности Иисуса» надо закончить. Тома научной литературы готовы его раздавить, от тройной нагрузки усталость наливается свинцом. Чтобы не уснуть за чтением, он придумал ставить под письменный стол ведро с холодной водой. Если строчки начинают расплываться, он снимает носки, окунает ноги в холодную воду и продолжает читать. Ведь он почти закончил. А перед глазами уже следующая цель: Африка.
Март
В марте Кафка на самом деле едет к Фелиции в Берлин, они пытаются вместе прогуляться, но не выходит. Роберт Музиль обращается к невропатологу, но ему можно оттуда уйти, а вот Камилла Клодель попадает в психиатрическую клинику на тридцать лет. В Вене 31 марта проходит большой «концерт с оплеухами»: Арнольд Шёнберг получает на глазах у всех пощечину за слишком резкие звуки. Альберт Швейцер и Эрнст Юнгер мечтают об Африке. Людвиг Витгенштейн в Кембридже подступается к каминг-ауту и своей новой логике, Вирджиния Вулф закончила первую книгу, а у Райнера Марии Рильке начался насморк. И у всех один большой вопрос: «Что нас ждет?»
Людвиг Майднер. Апокалиптический пейзаж (Еврейский музей Франкфурта-на-Майне, архив Людвига Майднера).
В районе Берлина Николасзее, перед городскими воротами, на краю заколдованного поля с косулями, на улице Кирхвег, 27 и 28 почти синхронно завершается строительство двух особенных вилл: «Дома Штерна» Германа Матезиуса для президента банка Юлиуса Штерна, а по соседству – вилла архитектора Вальтера Эпштейна для, возможно, самого значительного писателя-искусствоведа Юлиуса Мейер-Грефе, который благодаря наследству, успеху на книжном рынке и торговле произведениями искусства скопил определенное состояние. Пока возводился особняк, Мейер-Грефе ездил со стройплощадки в город, чтобы часами позировать Ловису Коринту – выйдет особый портрет, объединяющей двух важнейших немецких фигур художественной жизни эпохи fin de siecle.
Дом Мейер-Грефе в Николасзее дышал французским шиком, элегантностью и определенной дородностью, он был идеально подогнан под пятидесятилетнего хозяина и его жену (кстати, пару лет спустя архитектор Эпштейн post mortem стал тестем Мейер-Грефе, так как его дочь Аннемари стала третьей женой этого искусствоведа… но сейчас это способно лишь сбить нас с толку). Здесь, на Кирхвег, 28, «за городом на природе», как Мейер-Грефе определил свой дом в письмах художнику Эдварду Мунку, в 1913 году родилась центральная работа по истории искусства: «История развития современного искусства», которая начнет издаваться с 1914 года.
Над письменным столом Мейер-Грефе висел огромный Делакруа – «Лев, пожирающий лошадь», а в прихожей стоял бюст работы Лембрука – «Оборачивающаяся женщина». За эстетикой мебели и всего убранства следил Рудольф Александр Шредер, близкий друг Мейер-Грефе. Вилла представляла собой весьма франкофильский, хорошо выдержанный гезамткунстверк[10], сказочный замок. Но уже как раз не maison moderne.
И без того пора уже покончить в этом году с модерном: понятие это настолько гибкое, всякий раз по-новому трактуется современниками и потомками, каждое поколение норовит поместить его в новые временные рамки, – что не годится для того, чтобы должным образом передать ту неслыханную неодновременную одновременность, которая составляет 1913 год.
Дом Юлиуса Мейер-Грефе в Берлине как раз и был таким храмом сбивающей с толку одновременности: в столовой висели картины Эриха Клоссовски, рисующего историка искусств и друга Мейер-Грефе с Монмартра – славнейший поздний импрессионизм (но вот Бальтазар, четырехлетний сын Клоссовски, всегда завороженно наблюдавший за рисованием картин для Мейер-Грефе, стал потом под именем Бальтюс одним из великих бесславных французских художников – вот как оно бывает, отцы и дети). Мейер-Грефе уже тогда был легендарной фигурой, спорной из-за того, что без оглядки вступался за искусство заклятого врага – Франции. Уже в первом издании «Истории развития» он назвал Дега, Сезанна, Мане и Ренуара четырьмя столпами модерна. Так и получилось, что крылатое слово «мейергрефство» стало означать чрезмерную склонность ко всему французско-импрессионистскому и критическое отношение к немецкому искусству. И вот, спустя пятнадцать лет, как была закончена первая версия текста, возникла совершенно новая – потому что художники, как написал Мейер-Грефе, повзрослели (как в первую очередь и сам автор).
Но будьте осторожны. Возраст в делах вкуса часто оказывается щекотливой категорией. Не устаешь удивляться и поражаться, как часто самые пылкие пропагандисты авангарда зацикливаются на одной-единственной художественной революции. Стоит прийти новому поколению, на фоне которого прежний авангард покажется устаревшим, как пропадает вдруг и сила мысли, и неподкупность «взгляда». Когда же на смену приходит новое поколение, заставляющее последний авангард выглядеть устаревшим, то зачастую вместе с ним уже не приходит ни знание, ни рассудок, ни неподкупное «видение». Так и здесь. Этот Мейер-Грефе, в одиночку открывший немцам глаза на Делакруа, Коро, Сезанна, Мане, Дега и на кого еще только ни открывший, этот Мейер-Грефе сидит в 1913 году в своем загородном доме и невозмутимо записывает: «В будущем при имени Пикассо историк замрет и признает: здесь все закончилось». Конец. Нельзя и представить, что после кубизма, разрушившего все формы, можно двигаться дальше. Великий автор – возможно, самый пылкий стилист художественной критики века и блестящий повествователь «развития» искусства – глубоко убежден, что оно подошло к концу. Там, где для нас оно лишь берет начало.
Весьма кстати в «Новом обозрении» Мейер-Грефе печатает статью «Что нас ждет?», наделавшую немало шуму. Важный посредник между народами, чуть ли не на тридцать лет переливший искусство и художественное ремесло французов в эстетическое сознание Германской империи, разражается приступом ярости по отношению к современному искусству из Германии – и Франции. Немецких экспрессионистов, то есть перебравшихся в Берлин художников «Моста» и мюнхенскую группу «Синего всадника», он называет «обойщиками». Он в ужасе от «склонности многих современных художников ко всему конструктивному и декоративному». А это не что иное, как однозначные признаки упадка, пишет Юлиус Мейер-Грефе (в то время как в Мюнхене Освальду Шпенглеру в безобразиях искусства и культуры мерещится «закат Европы»). Молодые экспрессионисты не занимаются традицией, они необразованны, сетует Мейер-Грефе: «Они плоские в любом отношении – как художники и как люди».
Искусствовед в ужасе – и по праву! – от берлинских экспрессионистов и их пропагандистов, таких, как Карл Шефлер. В ужасе и от того, что этот мастер языка перед лицом кошмаров, которыми устлана современность, утрачивает способность здраво мыслить. Но – и это верный признак накала французско-немецких отношений в 1913 году – во Франции статья «Что нас ждет?» также не вызывает бурных оваций. Пусть дифирамбы французскому импрессионизму в очередной раз отчетливо доносятся до самой Сены, «Нувель ревю франсез» весьма сложным образом чует опасность. Журнал полагает, что и Мейер-Грефе постепенно превращается в националиста – именно потому, что так яро критикует немецких экспрессионистов. Ибо он «так строг к культуре империи, потому что избрал ее для того, чтобы завладеть нашим наследием и подчинить ее власти остальную Европу». Такие страхи витают в Париже anno 1913.
Федеральный совет Германской империи дает одобрение на то, чтобы в 1913 году Пруссия начеканила памятных монет на 12 миллионов марок. Они призваны напомнить о восстании Пруссии против французского господства в 1813 году, а также о двадцатипятилетнем юбилее правления немецкого кайзера Вильгельма II 15 июня.
«Война Австрии с Россией, – писал Ленин в 1913 году Максиму Горькому, – была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие».
Альберт Эйнштейн, великий теоретик относительности, оказывается практиком действительности. В 1913 году, когда Эйнштейн жил в Праге, он начал заметно отдаляться от жены Милевы. Он перестал рассказывать ей о своих исследованиях, открытиях, беспокойствах. А она начала молчать и перестала следить за собой. По крайней мере, им так же плохо, как Герману Гессе с женой в Берне и Артуру Шницлеру с женой в Вене, если назвать пару имен в утешение. В любом случае, по вечерам Эйнштейн в одиночестве ходит в кофейни или пивные выпить бокал пива – может быть, рядом как раз сидит Макс Брод, Франц Верфель или Кафка, но они не знакомы. А потом, в этом марте 1913 года, точно как Кафка, Альберт Эйнштейн пишет длинные письма в Берлин. Будучи однажды в гостях, он влюбился в кузину Эльзу – она как раз развелась. Ужасные вещи пишет он ей о своем браке: они больше не спят в одной комнате, и при любых обстоятельствах он избегает оставаться наедине с Милевой, потому что она «неприветливое создание, лишенное чувства юмора», и он терпит ее как служащую, которую, к сожалению, нельзя уволить. Потом он кладет письмо в конверт и спешит на почту – и вполне вероятно, что в одном почтовом мешке из Праги в Берлин странствовали эпистолярные стенания Эйнштейна и Кафки к далеким объектам их упований – Фелиции и Эльзе.
«Мир женщины», приложение «Садовой беседки», сообщает в пятом номере: «Для вечернего платья в этом сезоне характерны пышность и причудливые драпировки, которые и для искуснейшей портнихи будут крепким орешком». Для самых красивых платьев можно непосредственно заказать образцы кройки. Любопытна возможная ширина бедер: 116, 112, 108, 104, 100 и 96. Меньше – и подумать нельзя. Лишь в девятом номере редакция сжалилась и громко заявила: «Мода для худышек!» И, исполненная большого сочувствия, следует фраза: «Им, хрупким, тоненьким дочерям Евы, не всегда бывает легко одеться хорошо и по моде. Приходится идти на компромиссы, скрывать осечки природы ловкой аранжировкой складок». Осечка природы: в 1913 году худощавость все еще словно удар судьбы.
В Нью-Йорке в 1913 году основывают ФРС, Федеральный резерв. В числе главных держателей акций – банковские дома Ротшильда, Лазара, Варбурга, Лемана, «Рокфеллере Чейз Манхэттен Банк» и «Голдман Сакс». Введение ФРС привело к тому, что американское правительство не смогло печатать новые деньги. В результате в 1913 году вводится подоходный налог.
Вальтер Ратенау предугадывает экономические невзгоды, грозящие из Америки. И в 1913-м, в году обоюдного вооружения, создает модель мирного, экономически сплоченного европейского союза: «Остается последняя возможность: возникновение среднеевропейского таможенного союза. Обеспечить странам нашей европейской зоны экономическую свободу передвижения сложно, но отнюдь не невозможно».
В «Кембридж Ревью», выпуск 34, номер 853, от 6 марта 1913 года, на странице 351 появляется первая публикация студента Людвига Витгенштейна. Критическая рецензия на «Науку логики» П. Коффи, но на деле – первый манифест его собственной новой логики. Слова Коффи кажутся ему нелогичными. Сын венского промышленника – скоро ему будет двадцать четыре – не слушается и своего кембриджского учителя в Тринити-колледже, знаменитого Бертрана Рассела. На каникулах вместе со своим любовником, студентом математики Дэвидом Пинсентом, он едет в Норвегию, где они купили деревянный домик в Скельдене, и работает над основами теории, которая позже под названием «Логико-философский трактат» будет причисляться к важнейшим сочинениям века (оно, кстати, такое сложное, что даже Рассел, вычитывающий корректуру, вынужден просить выслать ему обратно собственные вопросы, чтобы понять ответы Витгенштейна). Только Пинсент, его друг, понимал Витгенштейна целиком. Когда Витгенштейн (на два года старше) повесил в колледже объявление о поиске испытуемого для своего психологического эксперимента о ритме языка и музыки, то Пинсент откликнулся на него. Очень скоро он стал испытуемым Витгенштейна – в вопросах и гомосексуальности, и логики. И логично, что свой «Трактат» Витгенштейн посвятит Пинсенту.
Пробуждение весны: 8 марта Франк Ведекинд, Адольф Лоос, Франц Верфель и Карл Краус, поднявшись со своих постелей, встречаются в венском кафе «Империал» на большую чашку кофе с молоком.
Словами не передать, как мучается Кафка с отцом, как угнетает его слышать через стену отцовский кашель или хлопанье дверью. Но свое «Письмо отцу» он пока еще не напишет. Зато Эгон Шиле, двадцатидвухлетний венский художник, сочинит в 1913 году свои «Письма к матери». Как, например, 31 марта: «Я буду плодом, который, сгнив, оставит после себя вечных живых существ – как же ты, наверное, рада, что произвела меня на свет». Мать смотрит на это несколько иначе. Она рассержена, что могила ее мужа, отца Шиле, на Тульнском кладбище приходит в запустение, и пишет сыну:
«Запущенная несчастная могила хранит останки твоего отца, который бы за тебя кровавым потом облился. Сколько денег ты транжиришь. На всех и на все у тебя есть время, только на несчастную мать нет! Да простит тебя Бог, а я – не могу».
Отец Шиле Адольф рано сошел с ума, и маленькому Эгону приходилось накрывать на стол для незнакомого человека. Незадолго до смерти отец сжег все деньги и акции, с тех пор семья жила очень бедно. До странности тесной была связь Эгона со своими сестрами Мелани и Герти, он без конца рисует их обнаженными, с гинекологической доскональностью проявляя интерес к их пробуждающимся телам. Подростком он отправляется в различные поездки вместе с Герти, без матери, – моменты их отношений кажутся иллюстрациями к роковой любви Георга Тракля к своей сестре, случившейся в то же время.
Герти потом сойдется с другом Эгона Антоном Пешкой, что вызовет у Эгона бешеный приступ ревности, но в один прекрасный день он благословит эту связь, когда познакомится с Валли, той самой женщиной, которую его рисунки сделали самым известным телом двадцатого века. Но до какой бы степени интимности он ни изображал свою наготу и наготу своих близких, словно работает он не кистью, но скальпелем – очевидно, что, в отличие от Густава Климта, он далеко не со всеми моделями ложился в постель: заглянуть в бездны телесности ему удавалось именно из пропасти безучастного созерцания. Едва ли кто тогда это понимал. Даже его галерист, всему открытый Ганс Гольц из Мюнхена, пишет ему в марте 1913-го, в очередной раз не продав после выставки ни одной картины: «Господин Шиле, как бы я сам ни радовался всегда Вашим рисункам и ни поддерживал Вас даже в сумасброднейших причудах, но, помилуйте, кому покупать эти картины? Надежд у меня очень мало». Это письмо было первым, что получил Шиле в новой квартире, с появлением которой все должно пойти на лад. Уже не девятый район, не Шлагергассе, 5, первый этаж, дверь 4, но наконец-то тринадцатый район, Хитцингер Хауптштрассе, 101, третий этаж.
Мать Эгона Шиле смотрела на все так же, как его галерист: «сумасбродные причуды» – она вполне могла бы так написать. Она упрекает сына не только в нравственной распущенности, но и в том, что он не чтит наследие отца, не заботится о его могиле и не думает о ней самой. Она снова пишет Эгону. На что следует второе «Письмо к матери», которое можно цитировать во всех пособиях по психоанализу: «Дорогая матушка Шиле, к чему каждый раз такие письма, которые и без того оказываются в печи. Если впредь возникнет у тебя нужда, так приходи ко мне, а я больше никогда не приду. Эгон».
В 1913 год, год отцеубийства, матери тоже натерпелись. Или, как пишет Георг Тракль в письме своему другу Эрхарду Бушбеку: «Напиши мне, дорогой мой, сильно ли из-за меня страдает моя матушка». (Тракль – тоже неплохо – как раз заложил отцовский браслет, чтобы вырученными деньгами оплатить свои походы в бордель.)
Густав Климт, напротив, в 1913-м (то есть в пятьдесят один год) все еще живет с матерью. После завтрака он уезжает на Фельдмюльгассе, 11 в тринадцатом районе (студия Шиле лишь четырьмя кварталами дальше). Там он рисует и там он временами ночует, мелом он написал на двери «Г.К.» и «Стучать громко». Всюду на полу лежат наброски, на мольбертах стоят несколько холстов. Утром, когда он приходит, перед дверью уже томятся в ожидании женщины – они мечтают для него раздеться. Пока он молча стоит перед холстом, вокруг бегает дюжина голых женщин и девушек: они потягиваются, лентяйничают, ждут, когда он позовет их, махнув рукой. Под широким халатом на нем ничего нет. Чтобы можно было быстро снять его, когда желание пересилит и поза модели окажется слишком соблазнительной для притаившегося в художнике мужчины. Но аккурат к ужину он снова дома у мамы или идет с Эмилией Флёге в театр. После смерти Климта четырнадцать его бывших моделей подадут ходатайства о признании отцовства.
Георг Тракль весной 1913 года – драма специфического свойства. Словно в трансе бродит он по миру. Он рожден лишь наполовину – признается он одному другу. Он пропивает все деньги, принимает веронал, прочие таблетки и наркотики, снова напивается, буянит, кричит, как ребенок, любит свою сестру, ненавидит за это себя и весь мир в придачу. Он пробует стать аптекарем. Не выходит. Пробует жить нормально. Тоже, естественно, безуспешно. А между тем: он сочиняет самые прекрасные, самые ужасные стихи. И письма, наподобие этого: «Настал бы скорей тот день, когда душа моя не захочет, да и не сможет более жить в этом убогом, прокаженном тоскою теле, когда она покинет это нелепое чучело из гнили и грязи, которое столь не в меру правдоподобно отображает, как в зеркале, наш безбожный, проклятый век». Это письмо Людвигу фон Фикеру, его меценату, второму отцу и даже другу, если это слово в случае Тракля вообще уместно. А также издателю, потому что «Дер Бреннер», его журнал, будет первым, где выйдут в свет его безысходные литании. В этом году он будет бесцельно мотаться меж трех городов: Зальцбургом (для него это «сгнивший город»), Инсбруком («город жесточайший и подлейший») и, наконец, Веной («город-помойка»). Австрия, бермудский треугольник отвращения. Сидеть в поезде он не может, потому что тогда прямо напротив него, vis-a-vis, окажется другой человек, а это невыносимо. Вот почему он всегда стоит в проходе: пугливый взгляд, затравленный. Случись кому-то на него посмотреть, он до того покрывается потом, что приходится менять рубашку.
Но в марте он нежданно-негаданно получает из Лейпцига почту, от издательства Курта Вольфа. В новой серии «Судный день» хотели бы напечатать томик его стихов. Так, может, все будет хорошо?
У Райнера Марии Рильке насморк.
9 марта страдающая тяжелой депрессией тридцатидвухлетняя Вирджиния Вулф посылает в издательство рукопись своего первого романа «По морю прочь». Она просидела над ним шесть лет. По случайному совпадению, того же 9 марта 1913 года ее будущая возлюбленная Вита Сэквилл-Уэст достигает совершеннолетия, а именно двадцати одного года. Но сейчас Вирджинию Вулф пока еще цепко держит другая, и очень старая паутина. Потому что издатель, которому она шлет рукопись, – ее сводный брат Джералд Дакворт. Он, как известно сегодня из тайных дневников, на пару с братом Джорджем приставал к ней в детстве или даже изнасиловал.
«По морю прочь», роман о незамужней и бездетной Рэчел Винрэс, уже содержит основные элементы будущих главных произведений Вирджинии Вулф. Так, там уже всплывает и некая «миссис Дэллоуэй», которая станет позже героиней отдельного романа, и у Рэчел есть «своя комната», как будет потом называться важное эссе Вулф. Герой романа «По морю прочь» подводит в 1913 году ужасающий итог: «Только подумайте: сейчас начало двадцатого века, но до самого недавнего времени ни одна женщина не могла заявить о себе во всеуслышание. Вся их жизнь текла на задворках – тысячи лет, – странная, безмолвная, нерассказанная жизнь. Конечно, мы всегда писали о женщинах – оскорбляли их, насмехались над ними или поклонялись им, но это никогда не исходило от них самих».[11]
Но «безмолвная, нерассказанная жизнь» продолжается. До 1929 года было продано только 479 экземпляров книги. «По морю прочь»: для Вирджинии Вулф эта поездка оказалась весьма тягостной.
Франц Марк хочет вместе с друзьями-художниками проиллюстрировать Библию. В марте 1913-го он пишет Василию Кандинскому, Паулю Клее, Эриху Хеккелю и Оскару Кокошке. Себе он – и неудивительно – выбрал сотворение мира и каждый день творит новых животных, синих лошадей, которым не нужны синие всадники.
Страшные вещи творятся в Праге. Хотите верьте, хотите нет, но 16 марта Кафка пишет Фелиции: «Спрашиваю без обиняков, Фелиция: на Пасху, то есть в воскресенье или в понедельник, нашелся бы у тебя свободный час для меня, а если бы нашелся – сочтешь ли ты за благо, если я приеду? Повторяю, это может быть любой час, у меня не будет других дел в Берлине, кроме как дожидаться этого часа». Фелиция сразу отвечает: да. А так как в 1913 году почта идет быстрее, чем в 2013-м, Кафка пишет уже 17 марта, как и ожидалось: «Я не знаю, смогу ли приехать». Потом 18 марта: «Сама по себе помеха моей поездке все еще существует и, боюсь, будет существовать и далее, однако в качестве помехи она свое значение потеряла, так что, если это вообще еще подлежит обсуждению, я мог бы приехать». Затем 19 марта: «Если поездке моей все же что-то помешает, я самое позднее в субботу тебе телеграфирую». 21 марта – цементирование неопределенности: «Фелиция! И это при том, что нет еще никакой уверенности, что я еду; лишь завтра утром все решится, собрание мукомолов все еще надо мной висит». Видимо, если верить этому дивному предлогу, на Пасху Кафке приходится ехать от своего агентства на собрание Объединенного товарищества чешских мукомолов. А потом новые заботы – и, как и у Музиля, признаки неврастении: «Только я должен как следует выспаться, прежде чем перед тобой предстать. Как же опять мало я на этой неделе спал, моя неврастения и мои седины – все это во многом от недосыпания. Только бы мне перед встречей с тобой как следует выспаться!» И потом 22 марта, в день, когда он должен ехать (и даже на самом деле поедет), он пишет Фелиции большими буквами на конверте: «Ничего еще не решилось. Франц». Всего несколько слов – а уже автобиография.
Верится с трудом, но следующее письмо от Франца Кафки Фелиции Бауэр написано действительно на бланке берлинского отеля «Асканийский двор», откуда он в пасхальное воскресенье панически пишет: «Что происходит, Фелиция? Ты ведь должна была получить в субботу мое срочное письмо, в котором я извещаю тебя о своем приезде. Не может же быть, что именно это письмо вдруг затерялось? И вот я в Берлине, мне после обеда в четыре или в пять уезжать, часы бегут, а о тебе ничего не слышно. Пожалуйста, пошли мне ответ с этим же мальчиком. Можешь и телефонировать мне, если сумеешь сделать это незаметно, я сижу в „Асканийском дворе“
и жду. Франц». В пасхальную ночь он прибыл на Анхальтский вокзал, видимо, ожидая увидеть ее встречающей на перроне, чтобы вместе отпраздновать их Воскресение. Но она не пришла. В беспокойстве он оббежал все платформы. Сел потом в зале ожидания, боясь ее пропустить. Прождав бесконечные минуты, все же встал и поехал в отель. Не мог уснуть. Едва занялся день, Кафка вскочил, выбрился. Но от Фелиции все еще нет вестей.
Пасхальное воскресенье в Берлине. Франц Кафка сидит в номере отеля, за окном пасмурно. Кафка мнет руки, пристально смотрит на дверь – не идет ли посыльный, пристально смотрит в окно – не идет ли ангел.
Спустя какое-то время она-таки дала о себе знать. У нее крепкие нервы. Они едут в Груневальд. Сидят рядышком на стволе дерева. Это все, что известно. Какой-то особенный пробел в этой двойной жизни: после того как месяцами в двух-четырех письмах ежедневно отражался каждый вздох, вдруг – ничего.
26 марта Кафка пишет ей из Праги: «Знаешь ли ты, что сейчас, по возвращении, ты для меня еще более непостижимое чудо, чем когда-либо прежде?» Это все, что нам известно о том воскресенье в Берлине. Пасхальное чудо как-никак.
Такая у Франца Кафки жизнь в марте 1913 года. Но есть же еще и «творчество». И вот Курт Вольф, стоящий этой весной в центре всей немецкоязычной литературы, пишет из Лейпцига: «Господин Франц Верфель так много говорил мне о Вашей новой новелле (как она называется? „Клоп?“), что мне хотелось бы с ней ознакомиться. Не пришлете ее мне?» Самый знаменитый немецкоязычный рассказ двадцатого века называется «Клоп»? Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что превратился в клопа? Конечно, нет. Поэтому Кафка отвечает Вольфу: «Не верьте Верфелю! Он ни слова не знает из этой истории. Конечно же, я с большим удовольствием пришлю Вам ее перед тем, как переписывать начисто». И потом: «У меня, правда, есть другая история, „Превращение“, которая еще не переписана». Так и появилось на свет «Превращение».
Роберт Музиль проживает с женой в Вене в третьем районе, Нижняя Вайсгерберштрассе, 61. Он человек с очень многими свойствами. Он ухожен, подтянут, во всех венских кофейнях его начищенные туфли сверкают ярче других, по часу в день он тягает гантели и делает приседания. Он до ужаса тщеславен. Но от него исходит невозмутимость самодисциплины. В личной маленькой книжке он отмечает каждую выкуренную сигарету; переспав с женой, он записывает в дневник букву «С» – «coitus». Порядок превыше всего.
Но в марте 1913 года порядку приходит конец. Совсем невыносимой сделалась ему унылая работа библиотекарем второго класса в Венском техническом университете. Он ощущает свою никчемность и слабость, но вместе с тем и призвание к чему-то более высокому, к роману столетия. Но он не совсем уверен, что сие означает: то ли он медленно, но верно сходит с ума, то ли пора увольняться.
30 марта он наконец-то попадает на прием к невропатологу Отто Пёцлю. Он ждет два часа. Первым делом он дарит доктору свою дебютную книгу «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса». Он подписывает книжку: «Господину доктору Пёцлю на память». В дни обострения недуга его утешает память о временах Данте. В дневник он пишет: «То, что для 1913-го – психоз, в каком-нибудь 1300 году было, наверное, чистой воды эгоцентризмом». Но что скажет доктор? Сегодня бы сказали «бёрн-аут»[12], а тогда говорили: «У пациента наблюдаются явления тяжелого невроза сердца: приступы сердцебиения с учащенным пульсом, пальпитации при засыпании, расстройства пищеварения, связанные с соответствующими психическими явлениями – депрессивными состояниями и повышенной физической и психической утомляемостью». В 1913-м это резюмировали понятием «неврастения». Насмешники пели: «Трудоголик иль бездельник – будешь точно неврастеник». Но в ведомственном мире кайзеровско-королевской монархии это служило ключевым словом для немедленного освобождения от работы. По требованию библиотеки некий доктор Бланка выписал «Заключение врачебной экспертизы»: «Г-нд. фил. н. инж. Роберт Музиль к.-к. – библиотекарь, Вена 3-й р. Ниж. Вайсбергерштрассе, 61 проявляет существенные признаки неврастении, в силу которых он нетрудоспособен».
Одновременно с предоставлением отпуска Франц Бляй написал в Лейпциг в издательство Курта Вольфа и поведал о большом «потрясающем» романе, над которым работает Музиль. Раз у того в запасе «безбиблиотечное лето», то можно рассчитывать на скорое завершение книги.
Кто я есть, а если я есть, то сколько меня? Отто Дикс рисует в 1913 году «Маленький автопортрет», «Автопортрет», полотно «Головы (автопортреты)», потом «Автопортрет с гладиолусами» и, конечно, «Автопортрет с сигаретой». Макс Бекман, крупный автопортретист, отмечает в 1913 году в дневнике: «Как это грустно и неприятно – вечно возиться с одним собой. Иногда рад бы избавиться от себя».
Как всегда и бывает с новой любовницей, жизнь и искусство совершенно переменились у Пикассо. История вышла особенно красивой: высокая одалиска, знойная красавица Фернанда Оливье, основным родом деятельности которой была непристойность, изменила Пикассо с молодым итальянским художником Убальдо Оппи и посвятила в это свою подругу Марселлу Амбер, неприступную любовницу художника Маркусси и одну из самых непопулярных женщин Монмартра. Марселла с большой охотой завербовалась отвлекать Пикассо во время тайных рандеву Фернанды, потому что сама была давно по уши в него влюблена. И перед тем как избрать ее новой дамой сердца, он дал ей новое имя: Ева. В первую очередь он не хотел, чтобы его подруга носила то же имя, что и женщина его друга и набирающего обороты конкурента – Брака. Таким образом, Ева стала символизировать для Пикассо уход от первой стадии кубизма – в сторону кубизма синтетического. Кажется, будто в Еве он увидел шанс обуржуазиться в тридцать лет, уйти в тень от богемы, мешавшей ему работать. Первым делом они вместе перебрались с Монмартра на Монпарнас, куда была направлена и новая двенадцатая линия парижского метро. В то время как Монмартр был местом сомнительных варьете, средой обитания художников без средств, опиумных курильщиков и проституток, Монпарнас стал средой успешных фигур творческой отрасли Парижа. Словами великого импресарио Аполлинера: «На Монпарнасе, напротив, обнаруживаешь истинных художников, одетых на американский манер. Некоторые из них не прочь уткнуться носом в кокаин, но это не страшно».
В 1912-м, в возрасте тридцати одного года, Пикассо вселился с Евой в квартиру и мастерскую в построенном не больше десяти лет назад жилом комплексе – на бульваре Распай, 242. В январе 1913-го, Пикассо даже представил свою новую подругу отцу в Барселоне. Дон Хосе, некогда властный глава семейства, видимо, не имел ничего против Евы и синтетического кубизма – это было связано, скорее, с тем, что он практически ослеп. Когда Пикассо и Ева только познакомились, они сбежали в Сере в Пиренеях. Теперь, 10 марта 1913-го, они сделали это снова. Пикассо хотел укрыться от большого города с его арт-тусовкой, чтобы наконец-то ничто не мешало работать. Они глубоко вздохнули, доехав до укромного местечка в горах и наслаждаясь по-весеннему разгоревшимся солнцем за чашкой кофе в уличном кафе. Они тут же арендуют дом Делькро и настраиваются остаться там до осени. Уже два дня спустя Пикассо посылает две бодрые открытки своим главным покровителям: агенту Канвейлеру, с которым он в декабре 1912 года заключил выигрышный эксклюзивный контракт, благодаря которому впервые по-настоящему заработал (и может купить Еве много прелестных кофточек). И Гертруде Стайн, салонной даме и крупному коллекционеру, которая за кулисами позаботилась о том, чтобы в феврале на Арсенальной выставке показали несколько работ Пикассо. На открытке Гертруде Стайн, которая как раз хочет выбросить своего брата Лео из их общей квартиры и живет теперь со своей подругой Алисой Токлас, изображены трое каталонских крестьян – напротив того, что с бородой, Пикассо подписывает своей рукой: «Портрет Матисса».
Но вскоре хорошее настроение покидает Пикассо, потому что состояние его отца ухудшается. Он спешит в Барселону, чтобы потом снова замуровать себя в мастерской в Сере. Он радуется, когда из Парижа приезжает его неряшливый друг Макс Жакоб. Тот пишет в Париж: «Я хочу изменить свою жизнь, я еду в Сере провести несколько месяцев у Пикассо». Но поскольку художник в основном сидит в мастерской, исступленно работая над новыми возможностями papiers colles, коллажей синтетического кубизма, то Макс Жакоб проводит время по большей части с Евой. Так как дождь льет, не переставая, они сидят дома, цедят какао и ждут, когда мастер завершит рабочий день. Вечером они вместе пьют вино, а ночью сырой воздух наполняется голосами лягушек, жаб и соловьев.
Но все мысли Пикассо занимает больной отец, научивший его рисовать, сверхотец, которого он любит и ненавидит. Когда Пикассо было шестнадцать, он сказал: «В искусстве надо убить своего отца». Вот и свершилось. Дон Хосе умирает, и Пикассо парализует боль. Но беда одна не ходит: этой весной тяжело заболевает Ева, у нее рак. А когда болезнь отнимает у него еще и самую большую его отраду, жизнь Пикассо катится под откос: Фрика, его любимая собака, судьбе которой он много лет уделял столько внимания, сколько своим женщинам (иногда даже немного больше), находится при смерти. С самых первых дней в Париже Фрика, эта курьезная помесь немецкой овчарки и бретонского спаниеля, всегда была рядом с Пикассо, пережила уже и множество женщин, и голубой, и розовый, и кубистский периоды. 14 мая Ева пишет Гертруде Стайн: «Фрику уже не спасти». Ветеринар бессилен помочь, и Пикассо просит в Сере местного егеря прекратить страдания Фрики. До конца жизни Пикассо не забудет имени стрелявшего – Эл Рокето – и как сильно он в эти дни плакал.
Отец мертв, собака мертва, любимая женщина умирает, за окном, не переставая, льет дождь. Весной 1913 года в Сере Пикассо переживает свой самый большой душевный кризис.
22 марта доктор медицины Готфрид Бенн получает спасительную весть: «Доктор Бенн, ординатор при 64-м пехотном полку генералфельдмаршала принца Фридриха Карла Прусского, по личному ходатайству об отставке переводится в офицеры медицинской службы в резерв 1-го разряда». В течение года он меняет патологоанатомический институт больницы Вестенд на городскую больницу Шарлоттенбурга.
29 марта в Мюнхене Карл Краус читает доклад в зале отеля «Четыре сезона». Среди гостей – Генрих Манн. Дружные аплодисменты.
4 марта дают ужин в немецком посольстве в Лондоне. На нем присутствует, разумеется, и граф Гарри Кесслер, тот самый немецкий сноб в белом костюме-тройке, в адресной книге которого числится с десяток тысяч имен. Друг Анри ван де Вельде, Эдварда Мунка и Майоля, основавший в Веймаре издательство «Кранах Прессе» и вынужденный оставить кресло директора музея из-за выставлявшейся там чересчур смелой акварели Родена. Тот самый граф Кесслер, который мотается между Берлином, Парижем, Веймаром, Брюсселем, Лондоном и Мюнхеном в роли мощного катализатора современного искусства и югендстиля. Благодаря ему мы поближе узнаем английскую королеву. Сегодня на приеме он представил немецкому послу, князю Карлу Максу фон Линовски (жена которого, любительница искусств и собирательница Пикассо, питала к нему симпатию), Бернарда Шоу. Теперь за ужином та берет реванш: Кесслера представляют английской королеве. «В серебряной парче и с короной из алмазов и больших бирюзовых камней она смотрелась относительно хорошо». В остальном – весьма утомительно: «Я не мог ее оставить, а она не могла найти выход из беседы. Каждые полминуты разговор с ней сходит на нет, и несчастную женщину приходится заводить, как остановившиеся часы, что всякий раз спасает лишь на очередные тридцать секунд». Опасаться войны, признается он своему дневнику, однако не стоит, как он слышал: «Положение в Европе за последние полтора года совершенно изменилось. Русские и французы вынуждены поддерживать мир, так как больше не могут рассчитывать на поддержку со стороны Англии». Ну что ж.
В марте 1913 года Томас Манн пишет письмо Якобу Вассерману: «Мнение, будто на войне встречаются забывший о долге и долгом одержимый, кажется мне сугубо поэтической выдумкой. И как монументально демонстрирует война очищение через моральный кризис, и как сурово преодолеваются в ней сентиментальные заблуждения через тяготы жизни!» Война, о которой здесь говорит Томас Манн, была в 1870—1871 годах.
Переключимся на Арнольда Шёнберга, этого большого харизматика, писавшего музыку вдоль границы между поздним романтизмом и додекафонией.
Он уехал в Берлин, так как в Вене чувствовал себя непонятым. В телефонной книге значилось: «Арнольд Шёнберг, композитор и преподаватель композиции, часы приема с часу до двух». У него была квартира на Вилле Лепке в Целендорфе, и одному другу в Вене он написал: «Вы даже не представляете, как я здесь знаменит».
Но в конце марта он поедет в Вену. И станет там столь же знаменит, сколь в Берлине. Но несколько иначе, чем он себе представлял. В большом зале филармонии вечером 31 марта ему предстоит дирижировать собственную камерную симфонию, Малера, а также сочинения своих учеников – Альбана Берга и Антона фон Веберна (кстати, оба гордо повесили дома портреты, которые нарисовал с них Шёнберг). Из-за музыки Альбана Берга и разразился скандал. «Песни для оркестра на тексты к памятным открыткам Петера Альтенберга оп. 4», как назвал тот свое произведение в лучших традициях поп-арта, были исполнены огромным оркестром со всей помпой. Публику это доводит до белого каления: она шипит, смеется, звенит ключами, которые еще в феврале были взяты на последнее выступление Шёнберга, но остались лежать в карманах. Тогда Антон фон Веберн вскакивает с кресла и кричит, чтобы весь сброд катился домой, на что весь сброд кричит в ответ, что по любителям такой музыки Штайнхоф плачет. Штайн-хоф – психбольница, в которой как раз находится Петер Альтенберг. Диагноз публики: сумасшедшая музыка на тексты сумасшедшего. (Из тех дней сохранилась, кстати говоря, фотография Альтенберга с его санитаром Спацеком из Штайнхофа, на ней Альтенберг спокойно и уравновешенно смотрит в объектив, создается очень твердое впечатление, что сумасшедший здесь Спацек, санитар. Альтенберг надписал фото «Психбольной и психработник» – до конца и не ясно, кто из них кто.) Шёнберг стучит дирижерской палочкой и кричит в публику, что всех дебоширов с силой выведут из зала, в ответ на что поднимается суматоха, дирижеру бросают вызовы на дуэль, а один из слушателей поднимается с заднего ряда. Пройдя через весь партер, Оскар Штраус, композитор оперетты «Грезы о вальсе», отвешивает оплеуху президенту Академического общества литературы и музыки – Арнольду Шёнбергу.
На следующий день «Нойе фрайе прессе» сообщает: «В очередной раз столкнулись фанатичные адепты Шёнберга и убежденные противники его зачастую крайне странных звуковых экспериментов. Но до такой сцены, каковая случилась на сегодняшнем концерте Академического общества, на нашей памяти еще не доходило ни в одном концертном зале Вены. Дабы разнять ссорящихся, пришлось гасить свет». Четыре человека задержаны полицией: студент философского факультета, практикующий врач, инженер и юрист. Вечер вошел в историю как «концерт с оплеухами».
Но современники, в первую очередь Артур Шницлер, посетивший концерт вместе с женой Ольгой, воспринимали все лаконично: «Оркестровый концерт Шёнберга. Чудовищные скандалы. Дурацкие песни Альбана Берга. Вмешательства. Смех. Речь президента. „Хотя бы Малера спокойно послушайте!“ Будто из-за него весь сыр-бор. Безобразие. – Один из партера: „Негодяй!“. Господин с подиума в партер, в немой тишине, влепляет ему. Повсеместный мордобой». Жизнь продолжается. Шницлер начинает с красной строки: «Отужинали в „Империале“ с Вики, Фрицем Цукеркандлем и его мамой». Арнольд Шёнберг в тот же день уезжает назад в Берлин, окончательно убедившись в том, что 1913 год несчастливый, а венцы – невероятные филистеры. Едва вернувшись в Берлин, он принимает репортера из «Цайт» и дает ему восхитительно мелочное, самоуверенное объяснение: «Билет на концерт дает право слушать концерт, а не мешать исполнению. Покупатель билета является приглашенным лицом, которое получает право слушать концерт – и больше ничего. Между приглашением в салон и на концерт большая разница. Отдельная лепта, внесенная за расходы на мероприятие, не может наделять правом вести себя неприлично». Господин Шёнберг завершает интервью следующими словами о своем будущем поведении: «Я принял решение лишь тогда участвовать в концертах такого рода, когда на входных билетах будет недвусмысленно отмечено, что не позволяется мешать исполнению. Ведь само собой разумеется, что устроитель концерта является не только моральным, но и материальным владельцем правового блага, претендующего на защиту во всяком государстве, делающем акцент на частной собственности». Это интервью – неоднозначный исторический документ. Адепты новой музыки требуют не мешать авангарду. Но даже для такого неслыханного года, как 1913-й, это слишком.
В конце девятнадцатого века Камилла Клодель взяла верх над великим Огюстом Роденом и создала скульптуры неповторимой красоты. Тогда она продиктовала Родену договор, запрещавший ему брать других моделей, кроме нее самой, и обязывающий его обеспечивать ее заказами и оплатить ей поездку в Италию – тогда ему разрешалось четыре раза в месяц навещать ее в мастерской. Он был в ее власти. Но потом она его бросила, в 1893-м.
С того момента ее жизнь покатилась под откос. В 1913 году, двадцать лет спустя, она все еще думает только о нем. Между тем она потолстела, оплыла; немытые растрепанные волосы, потерянный взгляд. Ничто больше не напоминает юную скульпторшу, которой увлекся сначала Роден, а потом Клод Дебюсси. Она квартирует на первом этаже на набережной Бурбон, 19, целенаправленными ударами молотка разрушает в безумии все работы, которые до этого создала. Ей кажется, будто ее преследует семья, Роден и весь остальной мир. Она убеждена, что Роден, которого она последний раз видела шестнадцать лет назад, без зазрения совести украл ее собственные произведения.
Так как она уверенно исходит из того, что все хотят ее отравить, она ест один картофель и пьет кипяченую воду. Ставни всегда закрыты, чтобы никто за ней не шпионил. Брат Поль Клодель навещает ее и записывает кратко в дневнике: «В Париже. Камилла сошла с ума, обои длинными полосами содраны со стен, единственный сломанный стул, ужасная грязь. Сама она жирная, грязная и без остановки говорит монотонным металлическим голосом».
5 марта доктор Мишо выдает медицинскую справку, позволяющую Полю Клоделю как брату поместить сестру в закрытую лечебницу. В понедельник, 10 марта, два крепких санитара взламывают запертую на несколько замков дверь мастерской Камиллы Клодель и выносят кричащую женщину. Ей сорок восемь лет. В тот же день ее отвозят в психиатрическую клинику в Виль-Эврар, где уполномоченный врач Труэль подтверждает диагноз: тяжелая паранойя. Каждый день она говорит о Родене. Каждый день она боится, что он-де хочет ее отравить и сговорился с медсестрами. Так будет все следующие тридцать лет. Диссертации на тему «Психиатрическая оценка личности Камиллы Клодель» пока еще нет.
Альберт Швейцер в марте 1913 года защищает диссертацию на степень доктора медицинских наук. Его работа «Психиатрическая оценка личности Иисуса» вызвала недоумение, но понравилась. На следующий день он продает все свое имущество. Затем берет жену Елену и отправляется 21 марта 1913 года в Африку. В тропических лесах Французской Экваториальной Африки, в селении Ламбарене на реке Огове, он учреждает госпиталь.
Эрнст Юнгер тоже мечтает об Африке. Под партой в реальной школе он зачитывается описаниями африканских путешествий: «Смертельный яд тоски все больше впивался в меня» – так он понимает, что должен отыскать тайны Африки, «затерянные сады», где-нибудь в верхнем течении Нила или Конго. Африка воплощает для него все дикое и изначальное. Он обязан туда попасть. Только вот как? Подождем.
Конец марта. Марсель Пруст надевает шубу поверх пижамы и посреди ночи выходит на улицу. Затем он целых два часа благоговейно рассматривает портал Святой Анны собора Парижской Богоматери. На следующее утро он пишет госпоже Штраус: на этом портале «вот уже восемь столетий как собрано человечество гораздо более привлекательное, чем то, с которым сталкиваемся мы». С тех пор это чувство неизменным образом называется «в поисках утраченного времени».
Карл Валентин снимает три своих первых немых фильма: «Веселые бродяги», «Новый письменный стол» и «Свадьба Карла Валентина». В 1913 году вместе с ним на сцене впервые появляется новая партнерша – Лизль Карлштадт.
Апрель
20 апреля Гитлер празднует свой двадцать четвертый день рождения в венском мужском общежитии на Мельдеманнштрассе. Томас Манн размышляет о «Волшебной горе», его жена опять на лечении. Лионель Файнингер обнаруживает крохотную деревенскую церквушку в Гельмероде и превращает ее в собор экспрессионизма. Франц Кафка записывается на добровольные работы в овощном поле и по вечерам выпалывает сорняки в качестве терапии своего «бёрн-аута». Бернгард Келлерман пишет бестселлер года «Туннель», научно-фантастический роман о подземном соединении между Америкой и Европой. На «Лулу» Франка Ведекинда налагают запрет. Оскар Кокошка покупает холст по размеру кровати своей возлюбленной Альмы Малер и принимается за портрет любовников. Если получится шедевр, тогда Альма за него выйдет. Но лишь тогда.
Марчелло Дубович. Опасность в костюме (из: «Симплициссимус», 5 мая 1913).
Сколько продержится «Мост»? С тех пор как художники Эрнст Людвиг Кирхнер, Карл Шмидт-Ротлуф, Эрих Хеккель, Отто Мюллер и Эмиль Нольде переехали из Дрездена в Берлин, все чаще стали происходить, как писал Кирхнер, «истории с барышнями и интриги», так что только клочья летели, а в 1912 году из группы уже вышел Макс Пехштейн. Каждый пытается своими силами встать на ноги – в творчестве и материальном благе, все ютятся в берлинских мансардах, стили развиваются врозь, художники тоже. В их мастерских копятся непроданные работы, но они бодро продолжают писать.
Как любовная пара в период кризиса, художники «Моста» также пытаются вспомнить о райской невинности и архаической силе своего общего начала. У них в планах издать хронику «Моста». В ней должны быть оригинальные гравюры и фотографии полотен, а Кирхнер, проворный и эгоцентричный глашатай, должен сочинить к ним текст. В апреле 1913 года Кирхнер лихорадочно работает над этим текстом, который готов превратиться в манифест, если бы только все его тревоги, наркотики, женщины, альбомы, весь этот треклятый Берлин, наконец-то дали ему хоть пару свободных минут.
«Уходит старое, не то уж время»[13]. Эта строка Шиллера из «Вильгельма Телля» большими буквами красуется в «Аптекарском календаре на 1913 год». Предстоит революция? Немецкие аптекари догадываются о грозящей катастрофе?
Нет. Всего лишь появились новые очаровательные этикетки для мазей и сиропов от кашля. Или, как значится дальше в объявлении: «Образцовый, непревзойденный дизайн новых этикеток, выпущенных нашей типографией, был создан авторитетнейшими художниками. Он превосходит все, что предлагалось раньше».
Реклама без ложной скромности. К сожалению, название фирмы не столь доходчиво и не превосходит все, что предлагалось раньше: «Типография и издательство для печати этикеток для хим. – фарм., аптек., парфюм. и смежных отраслей, Бармен».
Колонел Мервин ОТорман, руководитель британской компании «Ройял Аеркрафт», совершенствует в 1913 году две разработки, которые также превзойдут все, что предлагалось раньше. В рабочие дни легендарный авиаинженер конструирует боеспособные бомбардировщики для военных действий. А в воскресенье, когда светит солнце, он занимается своей камерой и автохромом, чтобы делать идеально резкие цветные снимки строгой красавицы-дочери Кристины. Его самолеты войдут во всемирную историю. Его фотографии с пляжа близ бухты Лулворт в Дорсете – в историю искусства. Невинная девушка в цвете, идет по пляжу, прислоняется к лодке. Ни одного самолета в небе. Только красные тона, синие, коричневые; волны мягко бьются о берег. Заколдованные фотографии – они возникли в 1913-м, но до них словно рукой подать.
В восемь часов просыпается Томас Манн. Не потому, что кто-то разбудил или прозвенел будильник. Нет, просто он всегда просыпается в восемь. Проснувшись однажды в половину восьмого, он полчаса лежит в постели, недоумевая, как могло такое с ним случиться. Больше такого быть не должно. Тело его слушалось. Мы все еще мало знаем о холодильной камере брака между Томасом Манном и Катей Принсгейм. Но примечательно, что после того как в 1912 году супруг дописал «Смерть в Венеции», Катя чуть ли не полтора года безвылазно пропадает в санаториях Швейцарии, чтобы подлечить легкие. Дыхание у Кати перехватило от скрытого признания мужа своей гомосексуальности. Естественно, кому как не ей было знать, что Густав фон Ашенбах был автопортретом ее супруга – и что во время совместного отпуска в Венеции в 1911 году, в гранд-отеле «Дес Байенс» он не мог оторвать взгляд от симпатичного юноши, Тадзио, который в романе описывается как «безупречно красивый», «бледный, изящно очерченный». Катя тогда удивилась, что муж откровенно пялится на мальчика, теперь же она прочитала новеллу о стареющем художнике, который без стыда отдавался своей любви к мальчикам, наблюдал за юношей «в его строгой предмужественной прелести», на пляже и за ужином. Но желания Томаса Манна прожил и обрел свою смерть Густав фон Ашенбах. Похоже, в этот год постоянных скитаний по санаториям «строгое супружеское счастье» Томаса и Кати было мучительно пущено на самотек. Но они остаются вместе и невозмутимо строят дом.
Ровно в половину девятого Катя и Томас Манн встречаются в рамках совместного брака за завтраком. Будь то на Мауэрхирхерштрассе, в загородном доме в Бад-Тёльце или позже на Пошингерштрассе. Ровно в девять великий писатель начинает работать. Четверо его детей до конца жизни помнили, как ровно в девять отец закрывал дверь – будь то в квартире на Мауэрхирхерштрассе в Мюнхене, в загородном доме в Бад-Тёльце или позже на Пошингерштрассе.
Это было очень однозначное, окончательное закрывание двери. Весь мир оставался за дверью.
Затем он брал тетрадь и приступал к делу. Как машина. «Лист насущный даждь нам днесь», – сказал он однажды другу Бертраму. «Мне нужна белая, совершенно гладкая бумага, жидкие чернила и новое, легко скользящее по бумаге перо. Чтобы не было неразберихи, я подкладываю пролинованный лист. Я могу работать везде – главное, чтобы крыша была над головой. Под открытым небом хорошо мечтать безо всякого обязательства или делать наброски – а сосредоточенная работа требует над головой потолка».
Ровно три часа спустя – часы бьют двенадцать – он откладывает перо. И тщательно бреется. Он уже опробовал: если побриться утром, то к вечеру на лице проклюнутся новые побеги щетины. С тех пор как он бреется после полудня, щеки во время ужина сохраняют гладкость. После бритья и нескольких брызг туалетной водой Томас Манн совершает прогулку. Затем – обед с детьми, после которого Томас Манн позволяет себе сигару в диванном уголке, что-то читает, что-то говорит. Иногда даже играет с детьми. Эрике семь, Клаусу шесть, Голо четыре, а Монике три. Но затем всех их быстро передоверяют няне, потому что Томасу Манну надо прилечь. Он спит всегда с четырех до пяти. Естественно, что и здесь ему ни к чему будильник. В пять он пьет чай, а затем посвящает себя задачам, которые называет дополнительными: ему можно позвонить или нанести визит («приходите около половины шестого», – пишет он Бертраму) – вот он, так сказать, я. В семь подают ужин. Похоже, мировая литература – лишь вопрос тщательного планирования. Этой весной он впервые рассказал детям о книге, которую думает написать, она будет называться «Волшебная гора». И будет веселой. На что Эрика дает отцу новое имя – «Волшебник». Оно останется на всю жизнь. Письма своим детям он с тех пор только так и подписывал, а иногда, по секрету, просто сокращенно «В». Так он, казалось, все держал под контролем своей волшебной палочкой, служившей ему и пером. От «А» как «Ашенбах», через «В» как «Волшебник», до собственного «Я».
Библиотекарь, спускающийся по лестнице: в апреле 1913-го, успешно окончив курсы библиотечного дела, Марсель Дюшан устраивается ассистентом библиотекаря в библиотеку Святой Женевьевы в Париже. Несмотря на большой успех на нью-йоркской Арсенальной выставке, он вообще-то бросил заниматься искусством. Он начинает молчать, но молчание Марселя Дюшана еще не переоценивают. Никто даже не понимает. Он все время играет в шахматы. Может, к концу подошло не только его искусство, но искусство вообще? Дюшан, очень образованный, очень чуткий сын нотариуса, к своему удивлению прочитавший о себе в книге Аполлинера «Художник кубизма» как о великом кубисте, думает, что зашел в тупик. В прошлом году он был в Мюнхене, подальше от Парижа: он молчал, читал и думал. И в Старой Пинакотеке он увидел Кранахов. Обнаженных Мадонн с их угловатостью он связал с женскими образами футуризма в своей картине «Обнаженная, спускающаяся по лестнице». Посредством вялого материала красок он воссоздал на картине движение. Но теперь он стоит в пробке со своим искусством и своими мыслями. Может, лучше просто играть в шахматы? Позже он станет членом французской национальной шахматной команды и примет участие в четырех олимпиадах.
Расходы на вооружение в 1913 году составляли в Австро-Венгрии 2 процента валового национального продукта, в Германской империи – 3,9 процента, а во Франции – 4,8.
В Берлине Георг Гросс рисует то, чего не постичь. Взрыв бедности и богатства. Шум. Движение. Стройку. Холод на улицах и зной в борделях. Верноподданных. Тучных мужчин в шляпе, толстых женщин с неуемной плотью. Тела дерутся, мерзнут, разевают рты. Бодрая тонкая черная линия улавливает все. Он рисует, словно набивает на кожу татуировку. «Нас неумолимо тянула периферия города, хватающего все вокруг, словно спрут щупальцами. Мы рисовали не успевшие еще высохнуть новостройки, странные городские пейзажи, где поезда дымили над туннелями, мусорные свалки соседствовали с загородными поселками, рядом с только намеченными дорогами уже стояли котлы с асфальтом». Гросс рисует и рисует. А когда заканчивается альбом, он идет в кабак, пьет светлое пиво, закусывая рольмопсом. А потом рюмку «кокса со свистом». Это картофельный шнапс с кусочком сахара, обмоченным в роме, – стоит почти ничего. Если Гросс совсем на мели, то идет, как и Кирхнер, и вся остальная богема, в «Ашингер». Потому что там есть огромная тарелка горохового супа за 30 пфеннигов – а к нему хлеб и булочки в неограниченном количестве. Когда корзинка с хлебом пустеет, официант приносит свежую, а Гросс прячет хлеб по карманам на черный день. Потом он отправляется на улицы, в кафе, в бордели, в кабаки и рисует венец творения – борова, человека.
Вену накрыла тень Зигмунда Фрейда. Неотвязные мысли о Сверх-Я из Берггассе, 19 вторгаются даже в сон. Как бы то ни было, 9 апреля Артур Шницлер пишет в дневнике: «Кошмарные сны; – с какой-то репетиции еду домой, хочу еще побриться у Эппли; неожиданно у себя в ванной: господин Асконас хочет (вероятно, перед удалением фурункула) выбрить мне ногу… (Школа Фрейда истолковала бы это сновидение как скрытое желание самоубийства.)»
Альфред Флехтхейм, известный галерист, начинает обдумывать самоубийство. На тот момент он пока еще мелкий торговец зерном с роковым влечением к искусству. Но у него был великий план: во время свадебного путешествия в Париж он вложил почти все приданое своей жены Бетти Гольдшмидт в современное искусство. Пикассо, Брак, Фриез. В дневнике он писал: «Безумие какое-то с этим искусством. Оно меня целиком захватило, это искусство». Поэтому он думал разбогатеть на спекуляциях с ценами на зерно и с медными рудниками в Испании, чтобы начать жизнь арт-дилера. Но в торговле зерном он ничего не смыслит. И виновата, кажется, родня. Уже его отец и дядя рискованными маневрами привели семейное предприятие, мельницу Флехтхеймов, на грань банкротства. Все раскопки в поисках меди в Испании сами теряются в песках, а все денежные средства истекают. У него есть пять Сезаннов, один Ван-Гог, два Гогена, десять Пикассо, картины Мунка и Сера – и 30 000 марок долга. Он навещает своего тестя Гольдшмидта: «Дорогой beau-pere», – начинает он свою речь и спрашивает, не принял бы он эту коллекцию в качестве «гарантии». Но Гольдшмидт, крупнейший владелец недвижимости Дортмунда, отвечает: «Нет». Поди докажи, что через сто лет Пикассо, Сезанн и Гоген еще будут чего-то стоить, посчитал Гольдшмидт. Онемевший Флехтхейм поднимается и уходит. Уходит проплакаться в жилетку Нильсу де Дарделю – выглядящему блестяще, но ужасно рисующему шведскому художнику. Флехтхейм влюбляется в него. На что Бетти грозит его бросить. Опасность лишиться чести из-за развода, осознание своей гомосексуальности и крупные долги приводят Флехтхейма к решению, что так как на дуэль вызвать некого, то единственный выход спасти свою честь – самоубийство: «Меня тянет на дно болота». Своей фрау Бетти он пишет письмо: «Надеюсь, ты встретишь достойного тебя мужчину». Но письмо это он не отправит, а вместо этого очень дорого застрахует свою жизнь – в пользу родителей и жены – и запланирует на 1914год «несчастный случай со смертельным исходом». Год 1913-й он хочет посвятить приготовлениям. В дневнике все его мысли вертятся вокруг грозящего банкротства. «Если разорюсь, то сбегу в Париж, прихвачу картин, сколько смогу, и проживу в Париже еще восемь месяцев». Но все складывается иначе: неожиданно музей Дюссельдорфа покупает у него Ван-Гога за 40 000 марок, друзья откупают его от абсурдных рудниковых дел, торговлю зерном в последний момент удается спасти от банкротства. И вот уже весной 1913 года при поддержке Пауля Кассирера Альфред Флехтхейм открывает в Дюссельдорфе галерею на Аллеештрассе, 7. Жена его прощает. Он себя тоже. Тонко продуманные планы самоубийства отправляются ad acta[14]. Он даже без проблем оплачивает взносы за страхование на случай смерти. Он стал одним из крупнейших галеристов модерна – даже несмотря на то, что в 1913-м рядом с Сезанном все еще выставлял безобразнейшие картины своего бывшего любовника Нильса де Дарделя. И позднее он основал, должно быть, самый свободный журнал, который знавала Германия, – «Поперечное сечение». Названный так потому, что позволял себе рассекать поперек само Время. И именно поэтому стал таким же вневременным, как искусство, которое любил Флехтхейм.
Ровно в половину восьмого вечером 24 апреля американский президент Вудро Вильсон нажимает кнопку на своем рабочем столе в Белом доме и телеграфирует таким образом сигнал в Нью-Йорк. Тем самым в только что законченном Вулворт-билдинге, самом высоком здании в мире, разом загораются 80 000 лампочек. Тысячи посетителей в темноте ждали в Нью-Йорке этот момент озарения. Самый высокий в мире маяк виден из дальних уголков страны и за сотню миль для кораблей. Америка сияет.
20 апреля Адольфу Гитлеру исполняется двадцать четыре года. Он сидит в мужском общежитии на венской Мельдеманнштрассе, 27, в рабочем квартале Бригиттенау, и в помещении для отдыха рисует акварели. В его комнате слишком тесно. У каждого из пятисот проживающих есть крохотная клеть: кровать, вешалка, зеркало (перед которым Гитлер каждое утро приводит в порядок усы). 50 геллеров за ночь. Тем, кто, как Гитлер, остается надолго, по воскресеньям выдают свежее постельное белье. В течение дня большинство жителей скитаются по городу – в поисках работы или развлечения – а вечером текут назад. Лишь немногие остаются днем в общежитии, и Адольф Гитлер – один из них. День за днем он торчит у окна в так называемой комнате для письма, где выкладывают свежие газеты, и рисует венские достопримечательности карандашом и акварелью. Тщедушный, сидит там в своем старом поношенном костюме. Тут каждый знает историю о позорном отказе Академии искусств. Тяжелая черная прядь волос все время падает ему на лицо – резким движением головы он отбрасывает ее назад. Утром он начинает рисунок карандашом, после обеда добавляются краски. Вечером он отдает рисунок другому жильцу, который будет продавать его в городе. От большинства рисунков его избавляет антикварша Кюлер с Хофцайле либо старьевщик Шлиффер с Шён-бруннерштрассе, 86. В основном он рисует церковь Святого Карла, иногда рынок Нашмаркт. Если какой-то мотив пользуется успехом, он рисует его дюжину раз – за экземпляр он получает от 3 до 5 крон. Но Гитлер откладывает деньги, не пропивает их. В отличие от соседей, он живет экономно, чуть ли не аскетично. Рядом с комнатой для письма находится филиал Нижнеавстрийского молокозавода, где Гитлер покупает хорошее молоко и ржаной хлеб из Йиглавы. Если хочется отдохнуть, он идет в парк замка Шёнбрунн или играет в шахматы. В основном он тихо сидит за своими красками. Но когда в помещении начинают спорить о политике, его пробирает. Однажды он бросает кисточку, глаза сверкают: он произносит пламенную речь о распущенности всего мира – и в особенности Вены. Нельзя допустить, кричит он, чтобы в Вене было больше чехов, чем в Праге, больше евреев, чем в Иерусалиме, и больше хорватов, чем в Загребе. Он откидывает со лба черную прядь. Потеет. И внезапно обрывает речь. Садится и продолжает рисовать акварели.
В апрельском номере журнала «Нэшнл Джеографик» человечество впервые лицезреет одно из своих чудес света. Мачу-Пикчу, потерянный город инков, был обнаружен совместной экспедицией Йельского университета и Национального географического общества. Руководитель экспедиции, Хайрам Бингем, сделал первые снимки развалин магического города, который вдруг возник посреди разросшейся зелени на самой высокой точке в Перу. «Нэшнл Джеографик» посвящает раскопкам номер целиком: журнал печатает двести пятьдесят фотографий, в восторге, волнении и недоумении, как написано в предисловии, от этого «чуда». Чтобы потом воскликнуть: «Какими необыкновенными людьми надо было быть, чтобы возвести на горе такой город, своими собственными руками, из одного только камня». В пятнадцатом веке, когда Флоренция переживала самую яркую пору цветения и Леонардо рисовал «Мону Лизу», в Андах на высоте 2360 метров возник Мачу-Пикчу. По сей день ливнесточная структура заложенного в виде террасы города работает превосходно.
В апрельском номере берлинского журнала «Акцион» звучит призыв к «отцеубийству», хотя автор, Отто Гросс, не мог знать, что в то же самое время в Вене Зигмунд Фрейд сидел над теорией того же самого. Гросс пишет статью, где дает советы «О преодолении культурного кризиса». Самый главный из них: «Современный революционер, который, опираясь на психологию бессознательного, уверен, что отношения полов ждет свободное, счастливое будущее, борется с насилием в его первобытнейшей форме, с отцом и патриархатом». (В конце года отец Гросса – кроме шуток – упрячет его в психушку.) Это как раз то время, когда в кино можно видеть Асту Нильсен в фильме «Грехи отцов». А Франц Кафка пишет в Лейпциг своему новому издателю Курту Вольфу, что первый сборник рассказов он придумал назвать «Сыновья». Второй сборник стихотворений Готфрида Бенна, который выйдет в этом году не у Курта Вольфа, ибо тот его стихи не любит, а в Вильмерсдорфе у мелкого издателя Майера, тоже носит название «Сыновья». Так что неудивительно, что 3 апреля на гамбургской судоверфи «Блом & Фосс» самое крупное пассажирское судно в мире (54 282 брутто-регистровых тонн и 276 метров в длину) при спуске на воду окрестили «Отечеством».
3 апреля Франц Кафка сообщает, что непоправимо болен – он пишет своему другу Максу Броду: «Представляю, например, что лежу плашмя на полу, разрезанный, как жаркое, и рукой медленно подталкиваю один из кусков какой-то собаке в углу – такими представлениями каждый день питается моя голова». И в дневнике: «Постоянно перед глазами стоит образ, как широкий мясницкий нож в спешке, с механической повторяемостью врезается в меня сбоку, отрезая ломтик за ломтиком, которые, сворачиваясь от столь быстрой работы ножа, разлетаются по сторонам». Так дальше нельзя. Друзья бьют тревогу, Кафка сам всерьез опасается слететь с катушек. Он почти не спит, страдает мигренями и расстройствами желудка. Сочинять он вообще не может – разве что только письма в Берлин к Фелиции. Но и с этим теперь сложнее, с тех пор как идеальный образ из писем обернулся женщиной из плоти и крови, рядом с которой он в Берлине дрожал от робости. Он дошел до предела. Вот и здесь: «бёрн-аут», или – «неврастения». Но в отличие от Музиля, Кафка не идет к врачу. Он прибегает к самолечению. И 3 апреля посещает огородничество «Дворски» в рабочем квартале Нусле и предлагает свою помощь в прополке. Редко когда он принимал столь разумное решение: потянуться к земле, когда земля уходит из-под ног.
Ему можно выбрать между цветами и овощами. Кафка, естественно, выбирает овощную грядку. Он начинает 7 апреля, ранним вечером, отработав в страховой компании. Моросит небольшой дождь. На Кафке резиновые сапоги.
Неизвестно, как часто он ездил на огород. Известно лишь, почему он в конце апреля отчаянно ищет простора. Дочь садовника посвящает его в свой секрет: «Мне, думающему работой излечиться от неврастении, приходится слушать, что брат этой девушки – звали его Ян, и, собственно, он был садовником и предполагаемым наследником старика Дворски, и даже владел уже цветочной плантацией – два месяца назад, в возрасте двадцати восьми лет, отравился от меланхолии». Даже там, где он думает отдышаться от внутренних мук, веет смертельной меланхолией. Озадаченный Кафка покидает огород на Нуслеровом склоне. Нигде не обрести покоя, нигде.
Лионеля Фейнингера 3 апреля тоже тянет за город. Родительские гены, природа и судьба наградили его более удачной ментальной конституцией. В Веймаре, где учится его жена Юлия, он садится на велосипед и едет вверх по склону через предвесенний тюрингенский пейзаж. «После обеда выбираюсь с зонтиком и альбомом в Гельмероду; полтора часа я там прорисовал – одну и ту же церковь, она чудесна». Большего о нем не известно. Его языком были его картины. Но это открытие от 3 апреля обладает ключевым значением для его творчества. Он создаст сотни рисунков этой непримечательной церквушки, а за десятилетия – несколько картин. Даже покинув уже и Германию, и Баухауз, он по памяти создавал все новые и новые образы Гельмероды. Уже после первых набросков колокольни он пишет жене Юлии: «Работая последние дни на свежем воздухе, я приходил буквально в экстаз. Это гораздо больше, чем просто наблюдение и констатация – это магнетическое слияние, освобождение ото всех оков». Скоро из примерно сорока этюдов рождается первая картина – «Гельмерода I», словно он уже тогда знал, что последуют и другие версии, две из них в том же 1913-м. Очень экспрессивная картина, дикое смешение линий какого-нибудь Франца Марка и футуристов. Или, как смотрел на это сам Фейнингер: «Уже десять дней на меня скалится рисованная углем на холсте картина, на которую я постоянно бросаю исполненные тоски взгляды – церковь Гельмероды». Эта церквушка станет поворотным моментом в художественном творчестве Лионеля Фейнингера. И может быть даже – самим собором экспрессионизма (что никому не помешало сто лет спустя сделать из нее «автодорожную церковь»),
30 апреля цензура запрещает пьесу Франка Ведекинда «Лулу». Томас Манн, как раз ставший членом мюнхенской комиссии по цензуре, пишет положительный отзыв. Но оказывается в меньшинстве. Пятнадцать из двадцати трех членов комиссии голосуют за запрет пьесы из соображений нравственности и морали. В качестве протеста Томас Манн выходит из цензурного комитета.
В начале апреля, когда Франц Кафка принимается полоть грядки, Стефан Георге звонит в дверь Эрнста Бертрама, друга Томаса Манна. К тому времени Георге уже стал мифической фигурой в Мюнхене и во всей остальной империи. Удивительный поэт, творец строк поразительной красоты, а вместе с тем – демоническая сердцевина кружка молодых людей. Он сразу создал имидж самого себя: напудренные волосы, кольцо с бриллиантом, голова всегда в профиль – таким он представал на авторизованных фотографиях. Анфас он казался себе слишком мужиковатым. С начала века Георге регулярно наведывался в Мюнхен и жил в гостиной Карла и Ханны Вольфскель. Сперва на Леопольдштрассе, 51, затем на Леопольдштрассе, 87 и наконец, как и в 1913-м, на Рёмерштрассе, 16, где Георге позволили обустроить две комнаты по собственному вкусу. Вольфскели ограждали Георге от нежелательных поклонников и ограничивали к нему доступ. Вольфскели знали, как эффектнее всего инсценировать выход своего таинственного квартиранта. Но в этот день, 3 апреля, Георге хотел встретиться со своим юным поклонником Эрнстом Бертрамом. Но Бертрам был в Риме. Вместо него дверь открыл Эрнст Глёкнер, 1885 года рождения. В смятении и потрясении он пишет своему другу Бертраму в Рим: «Теперь жалею лишь об одном: что познакомился с этим человеком. Этим вечером я утратил над собой контроль, я действовал, словно во сне, подчиняясь его воле, я стал игрушкой в его руках, любил его и вместе с тем ненавидел». Редко когда еще непосредственная, дьявольская сила обольщения поэта и самопровозглашенного пророка Стефана Георге описывалась так откровенно и честно, как в этом самообличении двадцативосьмилетнего Глёкнера. С этих пор Глёкнер, страстный поклонник Георге Бертрам и сорокапятилетний Георге живут в гомоэротическом треугольнике. В эти дни Георге работает над стихами своей «Звезды союза», попыткой вознести в святейший культ педерастию и приобщение молодых людей к «тайне». «Звезда союза» станет конституцией кружка Георге.
Футуризм гастролирует по русской провинции. Маяковский вместе с художниками-футуристами Давидом Бурлюком и Василием Каменским – в турне. Впечатление на провинцию производит в первую очередь стиль одежды футуристов. Бог с ним, с футуризмом, гласил девиз 1913 года, но хотя бы оденьтесь разумно. Когда в Симферополе Маяковский поднимается на сцену в кофте в желто-черную полоску, возмущенные зрители только и кричали: «Вон со сцены», «Вон со сцены». Так Маяковский в этот вечер оставляет свой розовый сюртук, который надевал до того в Харькове. Но декламировать свои стихи, дирижируя кнутом – этого он не позволит себя лишить и в Симферополе. Местные газеты в ужасе. Чего и добивались футуристы. Без реакции прессы у них бы возникло чувство, что они не поразили цель. Когда Казимир Малевич демонстративно прогуливался по Кузнецкому Мосту, излюбленному месту встреч в центре Москвы, он заранее взбудоражил все городские газеты, которые и сообщили с возмущением о его эпатажной прогулке. Провокация заключалась в том, что в петлице пиджака он носил деревянную ложку. На самом деле, футуристы хотели этим выступить против смехотворной, по их мнению, моды болезненных эстетов, которые в память об Оскаре Уайльде все еще носили в петлицах хризантемы, идя тем самым по заведомо ложному пути. В то время как истинный, считали кричаще-яркие футуристы, пролегал через безудержное прославление футурума.
Маленькая встреча в верхах на Айнмиллерштрассе. Пауль Клее навещает Габриэль Мюнтер и Василия Кандинского, которые на Айнмиллерштрассе, 36 совместными усилиями пытаются развивать искусство. На пике своей любви, в 1906-м, Мюнтер и Кандинский ездили по Италии и Франции, рисуя мерцающие картины моря, которые так похожи друг на друга, что по сей день не ясно, кто из них какую нарисовал. Теперь, семь лет спустя, их руки разведены, стили – тоже, постели – почти. Кандинский уносится в сторону пылающих красками абстракций, Габриэль Мюнтер остается при своей тяготеющей к земле живописи, с черными линиями, обрамляющими цвета, как свинец в витражах старых церквей. Так она рисует и Пауля Клее, когда тот навещает чету художников. Острый профиль, накрахмаленный воротник, прямые усы, на заднем фоне – сплошные Кандинские и Мюнтеры на стенах. Сам Клее на портрете в тапочках – так комфортно ему у них, совсем как дома. В этом апреле снег еще лежит на улицах Мюнхена – поэтому у Клее, должно быть, промокли ноги, пока он добирался до друзей. Как приятно обуться в мягкое тепло хозяйских тапочек. Возможно, именно этот маленький дружественный жест заставляет его сегодня уступить, когда Габриэль Мюнтер в который раз просит его наконец-то позировать ей для портрета. Все равно обуви еще целый час сохнуть, видимо, подумал он, и стоически отдался на волю судьбе. Таким он выглядит на этой картине, открывающей нам этот интимный момент из внутреннего мира «Синего всадника».
У Австро-Венгрии нет шансов в атакующей игре Франции: 14 апреля в финале теннисного кубка Мадрида француз Макс Декюжи обыгрывает австрийца графа Людвига Сальму в трех сетах со счетом 6:4, 6:3, 6:2.
Как быстрее всего попасть из Америки в Европу? В «Телефункен Цайтшрифт» номер 11 от апреля 1913-го сообщается о «первой успешной радиотелеграфии между Германией и Америкой». В журнале пишут: «Попытки увенчались успехом. Впервые со времени существования радиотелеграфа удалось отправить сообщение по линии Нью-Йорк – Берлин через океан. Преодоленная дистанция составляет примерно 6500 километров».
В апреле в издательстве «С. Фишер» выходит крупный бестселлер 1913 года: «Туннель» Бернгарда Келлермана из Фюрта. За четыре недели продано 10 000 экземпляров, за полгода – уже 100 000. (Для сравнения: «Смерти в Венеции» Томаса Манна, изданной в феврале 1913-го, за весь оставшийся 1913 год едва продалось 18 000 экземпляров, а 100 000 экземпляров напечатают лишь к тридцатым годам.)
«Туннель» повествует об истории строительства туннеля от Нью-Йорка до Европы: глубоко под Атлантическим океаном человеческие массы копают навстречу друг другу. Что за безумная книга: научная фантастика, замешанная на реализме, социальной критике и инженерной романтике, капиталистическая вера в прогресс, смешанная с усталой апокалиптикой. Под землей случаются катастрофы, забастовки, вспышки гнева и несчастья; над землей – биржевые планы, мечты о замужестве, разочарования. Потом, через двадцать четыре года, строители из Европы и Америки на глубине в тысячи метров под Атлантикой жмут друг другу руки. Дело сделано. Еще через два года между континентами едет первый подземный поезд. Ему нужно двадцать четыре часа, но никто не хочет на нем ехать. Потому что развитие совершило прорыв, «Туннель», бывший некогда технической утопией, теперь лишь трогательное прошлое – из Америки в Европу уже давно летает самолет, и в два раза быстрее.
Так Келлерману удается великое произведение: понимая любовь эпохи к прогрессу, ее веру в техническую осуществимость, и вместе с тем тонко иронизируя и осознавая реальные пределы возможного, он показывает пустую растрату времени. Огромный утопический проект, реализованный в жизни – и ставший уже частью истории, над которым смеются люди, которые не на глубине тысяч метров под, но на высоте тысяч метров над Атлантическим океаном заказывают у стюардессы томатный сок. Мудрое послание Келлермана: давайте оградим утопии от их испытания на практике.
Оскар Кокошка в любовной горячке умом, конечно, не блещет. Альму, свою воплощенную утопию женщины, он хочет насильно принудить к испытанию на практике, которое в его случае называется «замужество». Альма здесь разумнее. Она в это не верит. Но и не хочет, чтобы Кокошка расходовал всю энергию, растущую, кажется, из этой тяги.
И вот она говорит ему: я выйду за тебя, если ты создашь настоящий шедевр. С этого дня ее любовник не видел перед собой иной цели. Он покупает холст, вырезает его точно по размеру их общей постели, 180 на 220 сантиметров, чтобы сделать из него свой chef d' oeuvre.[15]
Он нагревает клей, смешивает краски, Альма ему позирует: лежа. Потому что на картине она должна быть такой, какой он ее больше всего любит. Нагой и в горизонтальном положении. «Альма Малер, или Положение женщины», около 1913 года. Себя он хочет нарисовать рядом, но еще не знает как. Он пишет ей: «Картина близится к завершению медленно, но с каждым разом все удачнее. Мы оба с выражением огромного спокойствия, обнявшись, на краю в полукруге, сверкающее разноцветными огнями море, водонапорная башня, горы, молния и луна». Картина должна стать «шедевром» Оскара Кокошки. И происходит нечто совершенно неожиданное: она действительно становится шедевром Кокошки. Но выйдет ли за него теперь Альма?
Вальтер Гропиус публикует в 1913 году статью «Развитие современной промышленной архитектуры» в ежегоднике германского Союза ремесленных предприятий. В ней содержится четырнадцать снимков амбаров и зернохранилищ Америки, которые Гропиус считает воплощением нового языка архитектуры: form follows function[16]. Построенные инженерами по чисто функциональным принципам, строгие кубические формы, никакого орнамента, никакой мишуры. Здесь архитектура снова «чиста», говорит Гропиус. Или точнее: «На родине промышленности, в Америке, возникли промышленные здания, неведанное величие которых превосходит наши лучшие немецкие постройки этого жанра. Архитектоника их облика несет в себе столько определенности, что смысл здания с убедительной силой раскрывается перед зрителем во всей своей ясности».
Май
Теплая весенняя ночь в Вене: Артур Шницлер так ссорится с женой, что 25 мая грезит о том, чтобы застрелиться. Но все тщетно. Однако той же ночью в Вене застреливается полковник Редль, потому что его уличают в шпионаже. Той же ночью в Вене Адольф Гитлер пакует вещи и садится в первый поезд до Мюнхена. Объединение художников «Мост» распадается. В Париже Стравинский празднует премьеру «Весны священной» – он впервые встречает свою будущую любовницу Коко Шанель. Брехта в школе одолевает тоска и сердцебиение. От этого он начинает писать стихи. Альма Малер впервые скрывается от Оскара Кокошки. Рильке ссорится с Роденом и не может писать.
Коко Шанель с юношей Шапелем (Коллекция Эдмонды Шарль-Ру).
Свершилось: Макс Вебер придумывает великое слово «расколдовывание мира». В одном эссе о ключевых понятиях социологии он пишет о том, что важно для капиталистической структуры общества: растущая технизация и онаучивание, рационализация того, что раньше считалось чудом. «Расколдовывание мира» означает, выражаясь словами самого Вебера, что человечество верит, будто все можно освоить путем расчета. Однако собственное тело Вебера воспротивилось расчетам диетических таблиц. Весной 1913 года в возрасте сорока девяти лет он один, без жены Марианны, ездил в Аскону лечиться от медикаментозной зависимости и алкоголизма. Таким образом он хочет, «расколдовавшись», вернуть себе наружную «красоту». Но шансов ноль. В Асконе он, правда, сидит на диете – «вегетарианском корме», как он пишет «милой ворчушке», своей жене. Но все напрасно: «Буфера упитанного бюргера не поддаются. Творец замыслил меня таким». Он остается толстым, потому что так было рассчитано заранее. То есть, и в нем уже однозначно больше замысла, чем творения. Так что, возможно, лишний вес лежит в основе одного из ключевых понятий двадцатого века.
Месяц начинается для Оскара Кокошки сурово. 1 мая он пишет Альме Малер: «Было не легко прожить сегодняшний день, ибо я не получил от тебя письма».
История любви между сыном священника Готфридом Бенном и еврейской поэтессой Эльзой Ласкер-Шюлер, у которой параллельно с его плясками смерти «Морга» вышли восторженные «Иудейские баллады», длится всю весну 1913 года. Так, 3 мая 1913-го Эльза пишет Францу Марку в Зиндельсдорф: «Я и правда опять влюбилась». А именно: в доктора Бенна.
За короткое время Марк, с которым она познакомилась лишь в декабре 1912-го, и который уже вскоре после этого пригласил ее в свою провинциальную идиллию в Зиндельсдорф, стал близким другом Ласкер-Шюлер. Она называла его не только своим «Синим всадником», но прежде всего «полубратом Рубеном». В ее восточном царстве фантазий такого близкого родства не удостаивался больше никто. Карл Краус был ее «Далай-ламой», своего мужа Георга Левина она окрестила «Гервартом Вальденом» (бросив ее, он хотя бы сохранил это имя), Оскар Кокошка – «Трубадур» при дворе, Кандинский – «Профессор», Тилла Дюрье – «Черная Пантера», а Бенн становится «Гизельхером»: Нибелунгом, язычником, варваром.
Хаотично воспламенявшаяся на волне экзальтированной эйфории, Ласкер-Шюлер покоряла поэтические сердца мужчин, по жилам которых растекался тестостерон, и возносила их до неведомых высот. А мужчин, запуганных излишней женственностью, Райнера Марию Рильке и Франца Кафку, например, ее бурлящее женское начало отпугивало и обращало в бегство. Женщины презирали эту неухоженную femme fatale за ее небрежность, безответственность, безудержность – и сидя вечерами в одиноких креслах, тайком ею восхищались, когда мужья уходили пропустить стаканчик, а они оставались листать журналы. Одна Роза Люксембург восхищалась ею открыто и в горячие летние месяцы 1913 года демонстративно гуляла с ней по улицам.
И вот одним майским вечером Эльза Ласкер-Шюлер послала Францу Марку извещение о влюбленности в Бенна: «В какой раз я бы ни влюбилась, всегда – новое чудо, в то время как у других все по-старому. Знаешь, у него вчера был день рождения. Я послала ему целую коробку подарков. Его зовут Гизельхер. Он из Нибелунгов». Однако Марк – то ли жена помешала, то ли сам он уже устал от выходок утомительной берлинской подруги – отправляет ответное письмо лишь пару месяцев спустя. На что Эльза пишет: «Ты радуешься моей „новой любви“ – ты говоришь это так легко и даже не подозреваешь, что тебе бы плакать со мной – ибо – она уже потухла в его сердце, как бенгальский огонь, горящее колесо – оно меня переехало». Возьми на заметку: не тяни с ответом, если хочешь поздравить Эльзу Ласкер-Шюлер с новой любовью, иначе она уже будет в прошлом.
Поначалу между Готфридом Бенном и Эльзой Ласкер-Шюлер все было так, словно столкнулись скорый поезд с восточным экспрессом и сплелись в изящный дымящийся конструкт из стали и крови. Но в итоге осенью – лишь холодный дымок над обломками. За девять месяцев в промежутке возникает несколько самых красивых немецких любовных стихотворений двадцатого века.
Об этой любви мы знаем все и не знаем ничего. Даты неоднозначны, спорны, берлинское начало сумрачно, как и осенний финал – возможно, на Хиддензе; однако об их чувствах известно все, потому что свою любовь они инсценируют как публичную love story, стихотворениями друг другу, друг для друга, друг о друге – их печатают в «Штурме», «Факеле» и «Акционе», ведущих журналах того времени. Бенн в них – «Адам среди обезьян», устремившийся за «смуглянкой», за своей «Руфью», архаической женщиной. Беспримерное влечение охватывает обоих: будут сражения, бои за территории, жаркие клятвы, раны, когти на лапах. В самом начале она напишет: «Благородный король Гизельхер / Пронзил меня прямо в сердце / Копьем».
Благодаря уникальному свойству подмечать сущее, ей удался один из самых беглых и ясных портретов Бенна: за считанные секунды проведенная тушью по листу линия, нос крючком, голова рептилии, веки, несущие на себе, казалось, груз столетий. А внизу грудь Нибелунга украшает восточная звезда. Рисунок появится в «Акционе» от 25 июня 1913 года – под ним текст Ласкер-Шюлер о «Докторе Бенне»: «Он спускается под своды больницы и вскрывает мертвых. Утроба, что не насытится тайной. Он говорит: „Мертв так мертв“. Евангельский язычник, христианин с главой идола, носом ястреба и сердцем леопарда». Рядышком было напечатано и стихотворение Бенна, восьмая часть его цикла «Аляска», который одним названием намекает, что речь идет о теории поведения холода. Простоты ради первое любовное стихотворение к боготворимой поэтессе называется «Угрозы»:
Моя любовь – любовь зверя Все решилось в первую ночь Впиваться зубами в объект тоски Гиена, тигр и коршун украшают мой герб.Ответ Эльзы Ласкер-Шюлер выходит в следующем номере «Штурма» под названием «Тигр Гизельхер»: «Я ношу тебя всюду с собой, / Зажав зубами». Вся художественная среда Берлина наблюдает, как два чудака публично чествуют себя. Господин доктор с туго повязанным галстуком и хорошими манерами, чьи пальцы всегда пахнут дезинфицирующим средством, которым он моет руки, только что копавшиеся в трупах. И дважды разведенная мать-одиночка в поношенных платьях, увешанная бижутерией, цепочками, серьгами. А так как она без конца убирала со лба непослушную прядь, все на ней звенело и бренчало. «Ни тогда, ни потом нельзя было пройти с ней по улице, чтобы весь мир не замирал и не смотрел ей вслед», – напишет позже Бенн. А если они не ходили вместе по улицам, то печатали друг для друга свои пылкие признания, притяжения и отторжения. Самым большим триумфом для Эльзы Ласкер-Шюлер стало, когда Бенн поселился в ее царстве. Он стал королем Гизельхером при дворе царевича Юсуфа – еще летом 1912 года он что-то напридумывал в военных документах о «блуждающей почке», не позволяющей ему садиться в седло. Такой почки не было ни в его времена, ни сегодня. Бенн никогда не страдал ничем подобным, тем не менее, эта выдумка помогла ему обратить внутреннее беспокойство в поэтический диагноз. Вырвавшись из военного мира, Бенн проводил ночи с возлюбленной, забирался на чердаки и в подвалы, учился любить, учился жить. И когда минуют зимние ночи в кафе, мансардах и подъездах, и весна, словно вирус, поражает Берлин, можно представить, как они сидят вдвоем на берегу Хафели, в камышах, под луной, она играет с его руками, он – с ее локонами, а потом они сочиняют: «О сладкие твои уста столько блаженств мне дали».
Но в итоге, когда битва сыграна, она напишет: «Я воин с сердцем, он – с разумом». Большой проект протестантско-еврейского примирения, под который они стилизовали свою любовь – тут Юсуф, царевич Фиванский, как она себя называла, тут Нибелунги – провалился. «Верность Нибелунгов» она считает бессмысленной верностью ложному. С самого начала она знала, на что шла с этим доктором с колючим взглядом и залысинами. Но разрыв с ним выбивает ее из колеи, как ни с одним мужчиной ни до, ни после. Она знала, что была пророчицей еврейского народа – и доктор Бенн со своей помадой в волосах и гамашами на ногах был нужен ей в противовес ее восточному миру, как олицетворение мира германского. Но юный Нибелунг устремляется вперед, оставив отчаявшуюся стареющую иудейку в прошлом. Она постоянно мучается лихорадкой, воспалениями под чревом, болями; осенью 1913 года от душевных мук, причиненных ей Готфридом Бенном, доктор Альфред Дёблин пропишет ей морфий.
А вот что Кафка пишет об Эльзе Ласкер-Шюлер своей далекой Фелиции: «Я ее стихов терпеть не могу, я ничего в них не ощущаю, кроме скуки от их пустоты и отвращения к их искусственной выспренности. Да и проза мне ее претит по тем же причинам, в ней слишком много безрассудных содроганий ума нервической городской дамочки. Да, живется ей плохо, от нее, сколько мне известно, ушел ее второй муж, у нас тут тоже были для нее сборы; пришлось и мне выложить для нее пять крон, я сделал это без малейшего душевного сочувствия; не знаю, право, почему, но мне она всегда представляется алкоголичкой, что ночами таскается по кафе и пивным».
«Мона Лиза» все еще числится пропавшей без вести. Дж. Морган, американский миллиардер, получает письмо от сумасшедшего, подписавшегося «Леонардо» и утверждающего, будто он знает, где картина. Секретарша Моргана выбрасывает странное письмо.
«Жизнь слишком коротка, Пруст слишком долог», – удивительно метко напишет в 1913-м Анатоль Франс к публикации первого тома «В поисках утраченного времени». Стало быть, Пруст показался ему «слишком долгим», даже когда еще не вышли остальные шесть томов. Никто, даже сам Пруст, не догадывался, куда заведут его скрупулезные поиски в безднах памяти. Книга как попытка закрепить прошлое в языке – вопреки несущемуся галопом времени.
В Вене Зигмунд Фрейд поглощен собственной книгой: «Я пишу сейчас о тотеме с ощущением, что это моя самая значимая, лучшая и, возможно, последняя хорошая вещь». Он задумал нечто невероятное. Последнее предложение гласит: «В начале было деяние». Тем самым он хочет, наконец, выступить против библейского «В начале было слово» и основать новую теорию цивилизации. Исходный момент в истории развития, как кажется Фрейду весной 1913 года, – отцеубийство Эдипа. В мае он пишет одному близкому знакомому: «Книга должна выйти еще до конгресса, в августовском номере „Имаго“, и поспособствовать тому, чтобы начисто отсечь всю религиозную архаику». После разрыва с К.Г. Юнгом и цюрихской группой психоаналитиков Фрейд с тревогой смотрит на календарь: в сентябре пройдет означенный конгресс Общества психоаналитиков, который вновь усадит за один стол враждующие группы. И Фрейд знает, что антихристианская теория в «Тотеме и табу», над которой он лихорадочно работает, скрепит печатью разрыв с Юнгом и юнгианцами.
Рудольф Александр Шредер весной 1913 года едет в Италию и останавливается у Рудольфа Борхардта в старом крестьянском доме в Апуанских Альпах, высоко над покрытой лесом долиной Серхио. Во время разговора со Шредером Борхардт шутки ради пишет на открытке для Гуго фон Гофмансталя экспромтом греческий дистих на дорийском диалекте. «Мне, – писал Рудольф Александр Шредер, – приятно было понять эти строки наполовину: мертвым, далеким диалектом он владел как родным языком». А Гофмансталь, можно добавить, понял содержание карточки так быстро, словно беседовал с венским извозчиком (с которым он, однако, никогда бы не заговорил).
В начале мая Рудольф Штайнер пишет матери: «Постоянно грозит начаться война». Но у него нет времени об этом беспокоиться. Он хочет наконец-то воздвигнуть центр антропософии, так называемый Иоганнес-Бау.
А после того как планы построить это здание в Мюнхене окончательно разбились о строительную комиссию, 18 мая он заявляет своим приверженцам в Штутгарте, что, стремясь к чему-то новому, непременно следует обходить Мюнхен стороной, ибо этому городу присуще некое умирание (если бы это услышал Освальд Шпенглер в своем мюнхенском кабинете, где он писал «Закат Европы», он бы вскрикнул от радости).
Штайнер объясняет: «Новые культуры никогда не могли прижиться в отмирающем». Он давно чувствовал, что идеальным местом для расцвета стал бы Дорнах близ Базеля. Но было еще слишком рано.
До сих пор центр антропософии находился в Берлине во флигеле на Мотцщтрассе, 17. Там Рудольф Штайнер жил со своей женой Анной, но настоял на том, чтобы к ним въехала преданная любимая Мария фон Сиверс, что, конечно, не могло хорошо кончиться. Во всем флигеле царила определенная атмосфера «стартапа»: минимум мебели, пара столов, книги, кровать. Всегда было слышно, как где-то секретарша стучит по печатной машинке фирмы «Ремингтон». Под большим давлением Рудольф Штайнер писал здесь доклад за докладом, отточенные за долгие часы тезисы о состоянии души и мира, о христианстве, о духе девятнадцатого века; а параллельно его «офис» занимался организацией поездок с докладами по всей Европе. Почти две трети года Штайнера и Марии не было дома – когда Штайнер бывал в Берлине, то паломники тянулись на Мотцштрассе, чтобы просить Мастера о помощи и просветлении. Он принимает весь день: обстановка до странности обыденна, посетители ожидают на мягких стульях, затем проходят в маленькую комнату, где Штайнер сидит среди еще не распакованных с последней поездки чемоданов. Но всех он располагает к себе эмпатией и готовностью выслушать. Они ведь просто хотят быть понятыми в своей мировой скорби, притворившейся неврастенией. Известно, что Герман Гессе был одним из тех жаждущих искупления, кто получил аудиенцию у Штайнера, равно как и Франц Кафка. А благодаря Роберту Гернхардту известно даже почти наверняка, как могли проходить эти краткие встречи: «Кафка Штайнеру сказал: / „Ты меня не понимал“. / Штайнер же ему в ответ: / „Знаю, Франц, я твой секрет“».[17]
Наконец пришла весна. Штудиенрат Фридрих Браун с женой Франциской гордо катят детскую коляску по Придворному саду Мюнхена – в декабре у них родилась малышка Ева. Еве Браун шесть месяцев, когда двадцатичетырехлетний Адольф Гитлер в воскресенье, 25 мая, прибывает в Мюнхен.
В то воскресное утро, когда Гитлер покидает Вену, город застыл в шоке: один из самых высокопоставленных сотрудников военной и секретной службы Австро-Венгерской монархии, полковник Альфред Редль, был этой ночью уличен в шпионаже и в 01:45 застрелился в своем гостиничном номере. Пистолет ему любезно оставили в номере, комната номер 1 в гостинице «Кломзер», где он всегда останавливался, в обмен на подпись документа, в котором он признавал свою вину. И Редль, лишенный чести, дает императорским сотрудникам секретной службы спокойно покинуть комнату и лишь затем спускает курок. Когда император Франц Иосиф, в четыре утра поднимаясь с постели, узнает о масштабах военного шпионажа Редля и о событиях минувшей ночи, он глубоко вздыхает: «И это – новое время? И это – творения, которые оно порождает? В прежние времена такое и представить себе нельзя было». Сообщение в газетах пытается соблюсти приличия: «Начальник генерального штаба Пражского армейского корпуса, полковник Альфред Редль покончил с собой в приступе помутнения сознания. Высокоодаренный офицер, которого ожидала большая карьера, в последнее время страдал бессонницей». Так ужасающую новость о том, что один из влиятельнейших главнокомандующих Австро-Венгрии передал врагу военные планы, пытались выдать за самоубийство от бессонницы. Но Вена просчиталась с Эгоном Эрвином Кишем, молодым репортером газеты «Богемия». В это воскресенье на выездном матче своей футбольной команды «Штурм» Киш напрасно прождал самую серьезную грозу ворот – слесаря Ганса Вагнера. Когда тот на следующий день мнется в объяснениях перед капитаном, Киш узнает, что воскресным утром военные вызвали Вагнера, чтобы взломать дверь частных апартаментов в штабе армейского корпуса. И странные вещи он там увидел: женские платья из тюля, парфюмированную драпировку, розовые шелковые покрывала. Киш ловко метнул в одну берлинскую газету статью об истинной подоплеке смерти полковника Редля, которую раскопал благодаря товарищу по футболу. И тогда «Военному обозревателю» министерства военных дел не остается ничего иного, как уже в четверг, 29 мая, обнародовать всю правду: «В ночь с субботы, 24-го, на воскресенье, 25-е сего месяца, бывший полковник Редль покончил жизнь самоубийством, когда ему собирались предъявить обвинения в следующих тяжких и не вызывающих сомнения правонарушениях: 1) гомосексуальные связи, которые привели его к финансовым трудностям; 2) передача секретных служебных материалов агентам иноземной державы». Полковник Редль, по иронии судьбы награжденный Орденом Железной Короны третьей степени за заслуги в контрразведке, большая надежда армии, который лично рапортовал императору и состоял в тесной связи с начальником генерального штаба Германской империи, генералом фон Мольтке, этот самый полковник Редль оказался опереточным персонажем. Маленький, ухоженный рыжеволосый мужчина растратил все свое состояние на любовников, дарил им автомобили и квартиры, а себе каждый день покупал свежий парфюм и краску для волос. Оставшись без денег, он уже целых десять лет продавал России все стратегические планы Австро-Венгрии, ее военные шифры и сценарии экспансии.
Беспрецедентная катастрофа. Имя «Редль» стало синонимом пустотелой системы, устаревшей декадентской монархии, каиновой печатью. Его братьям Оскару и Генриху государство тут же снисходительно разрешило взять другую фамилию – Роден. Вместе с именем думали искоренить инцидент из памяти города и страны, но все тщетно – когда бы Стефан Цвейг ни думал об афере вокруг полковника Редля, он каждый раз чувствовал «ужас в горле». Лишь Эгона Эрвина Киша, разоблачителя, эта афера превратила из репортера в легенду. За это он получил одну из высших гражданских наград, которые могла присудить Вена: в кафе «Централь» для него всегда был свободен лучший столик.
Еще одна сноска, и страшная. 24 мая, то есть в ночь перед тем как застрелился полковник Редль, Артуру Шницлеру снится, что застрелился он сам: «Укусила бешеная собака, левая рука, к врачу; говорит, ничего серьезного; иду, в отчаянии – хочу застрелиться – в газете напишут: „как более великий до него“, какая наглость!»
Гитлер и его друг Рудольф Хойслер, с которым он жил в венском общежитии, ранним утром 25 мая сбежали поездом из Австрии – скорее всего, чтобы избежать грозящего призыва в армию. Тогда они еще не догадываются, что у армии сейчас другие заботы.
В первый же день они обходят весенние улицы Мюнхена в поисках комнаты. Они наслаждаются обозримостью города: всего 600 000 жителей вместо 2,1 миллиона в Вене, тишь и благодать. На Шлейсхаймерштрассе, 34 у портного Йозефа Поппа они вдруг замечают невзрачную табличку: «Сдается небольшая комната». Гитлер стучит в дверь, Анна Попп открывает, показывает комнату на третьем этаже слева, Гитлер сразу же соглашается. Судорожным почерком он вписывает в регистрационный формуляр: «Адольф Гитлер, художник архитектуры из Вены». С этой бумажкой Анна Попп идет к детям Йозефу и Элизе, двенадцати и восьми лет, и говорит им, чтоб играли теперь потише – отныне у них новый квартирант.
Три марки в неделю платят Гитлер и Хойслер за убогую комнатушку. Гитлер живет как и раньше в Вене: никаких пьянок, никаких женщин, каждый день по одной акварели – иногда и по две. Вместо церкви Святого Августина он рисует теперь церковь Девы Марии. В остальном – все как было. Уже через два дня он нашел мольберт и установил его в центре города.
Закончив пару видов города, он обходит крупные мюнхенские пивные и вечером в «Хофройхаусе» пытается продать туристам свои ведуты. Ювелир Пауль Кербер тоже иногда продает свои рисунки и парфюмерию фирмы «Шнель» на Зендлингерштрассе.
Едва продав-таки акварельку, он обменивает выручку в 2 или 3 марки на брецли и сосиски, потому что часто бывало, что он ничего еще не съел за день. Но на эту сумму даже можно кое-что себе позволить: литр пива стоит в 1913 году 30 пфеннигов, одно яйцо – 7 пфеннигов, полкило хлеба – 16 пфеннигов, а литр молока – 22 пфеннига.
Каждый день ровно в пять часов Гитлер заходит в булочную «Гейльман» недалеко от квартиры и покупает ломтик плетенки за 5 пфеннигов. Потом прямо напротив забегает к молочнику Хуберу и берет поллитра молока. Вот и весь его ужин.
Как и в Вене, проваливший экзамены в Художественную академию живописец Адольф Гитлер никак не соприкасается с художественным авангардом города. Неизвестно, чтобы он ходил на выставки «дегенеративного искусства» Пикассо, Эгона Шиле или Франца Марка, которые в 1913-м произвели в Мюнхене фурор. Художники его поколения, сделавшие карьеру, были ему, отверженному, чужды всю жизнь, и он посматривал на них с подозрением, завистью и ненавистью.
Вернувшись домой, он стучится к госпоже Попп, чтобы взять у нее кипятка для чая. «Позволите?» – говорит он каждый раз, бросая добродушный взгляд на свой чайничек. Портному Поппу это несколько действует на нервы, однажды он не выдержит и скажет: садитесь с нами за стол, съешьте чего-нибудь, вы кажетесь совсем оголодавшим. Но это пугает Гитлера, он берет свой кипятильник и юркает к себе в комнату. За весь 1913 год к нему никто ни разу не придет. Днем он рисует, ночью, к досаде своего соседа Хойслера, до трех или четырех часов читает подстрекательскую политлитературу и руководства о том, как стать депутатом баварского парламента. Однажды это замечает жена портного и советует ему бросить читать бессмысленные политические книги и продолжить рисовать прекрасные акварели. Тогда Гитлер ей говорит: «Дорогая госпожа Попп, разве знаешь, что в жизни нужно, а что не нужно?»
«Сам Берлин мне глубоко неприятен, – пишет Эрнст Рейтер родителям. – Пыль, и ужасно много людей – они все носятся, будто минута 10 марок стоит». Человек, так быстро раскрывший тайну города, станет позже его бургомистром.
Стефан Георге в конце мая приезжает в Гейдельберг и как всегда останавливается в пансионе на Шлоссберг, 49. На Троицу он думает собрать там всех своих учеников А пока – жарко очень, Георге идет в бассейн. Не в целях купания, разумеется, – пророк, который уже при жизни был, словно скульптурный бюст, никогда бы этого не сделал. Нет – с целью увидеть прелестного юношу с вьющимися волосами: Перси Готейна, того самого, едва ли семнадцатилетнего гимназиста и профессорского сына, который станет прототипом «последователей Георге». Тремя годами ранее Георге зорким глазом обнаружил его на мосту через Некар и поведал братьям Гундольфам, что у него «имелось сходство с архаическим рельефом, и стоило его запечатлеть». Немногим позже снимок действительно был сделан. Вскоре после этого он навещает Георге у матери в Бингене, тот учит его – психологические клише милостивы – завязывать галстук и одалживает ему свои бархатные брюки. Но когда Перси в один майский день 1913 года без галстука и бархатных брюк приходит на пляж у реки Некар, перед одной из кабинок он обнаруживает лежащего в траве Стефана Георге. Разговор, как прямодушно сообщает Перси, скоро «возвратился к древнему греческому народу, который любил представлять себя в такой или еще большей наготе». И так далее. По вечерам Стефан Георге продолжает работать над своей большой книгой, «Звездой союза» – над скрытою мерцанием тайны и воспетой под тяжестью мифов в сомнамбулических строках любовью к юношам.
Альберт Швейцер в 1913 году записывает в дневник: «Если бы все оставались тем, чем они были в четырнадцать лет». Ах, может, лучше и не надо! В начале 1913-го Бертольту Брехту четырнадцать. Читаешь его дневники и радуешься, что он стал чем-то другим, чем был в четырнадцать. На роль адепта Георге он в любом случае не тянул: слишком некрасивый, слишком вспыльчивый, слишком плаксивый.
Брехт, ученик Королевской реальной гимназии в Аугсбурге, в своей тетрадке в тонкую голубую клетку причитает об «однообразии» и «блеклости» бесконечных весенних дней. Справиться с ними ему помогают пешие прогулки, езда на велосипеде, игра в шахматы и – чтение. Он прилежно записывает прочитанное: Шиллер, Ницше, Лилиенкрон и Лагерлёф. А затем молодой человек жмет на газ и доверяет дневнику свою восхитительную пубертатную лирику. Луна и лес, тропинка и закат. А потом наступает 18 мая 1913 года. Он переживает – а между тем ему исполнилось пятнадцать – «скверную ночь». Точнее: «До одиннадцати часов сильно колотилось сердце. Потом я уснул, до двенадцати, и опять проснулся. Сердце колотилось так сильно, что пошел к маме. Это было ужасно». Но все быстро проходит. Уже на следующий день он принимается писать стихи. Так как май в Аугсбурге выдался теплым, он назвал свои строки «Лето»:
Лежу в траве, в тени, в прохладе под старой липой вековой, среди залитой солнцем глади качают травы головой.[18]Стало быть, в 1913-м он пока еще лежит под липой один. Скоро он будет лежать уже не один под сливовым деревом, как мы узнаем из брехтовского стихотворения века «Воспоминание о Мари А.» – свидетельства самой первой аугсбургской любви. Воспевание деревьев уже в 1913-м оказывало на Брехта крайне успокаивающий эффект. Спустя день после того как он ночью забрался в постель к маме, то есть 20 мая, он пишет: «Сегодня мне лучше». Но уже на следующий день сообщает: «Утром совсем хорошо. Сейчас, днем, рецидив – колющая боль в спине». В случае Брехта сложно различить свирепствующую ипохондрию от настоящей сердечной аритмии. Тем не менее, врач, к которому он обратится, диагностирует «нервный недуг». Уже в пятнадцать лет Брехт с гордостью может страдать от тех же симптомов, что Франц Кафка и Роберт Музиль.
В отношении жизненной установки также обнаруживаются неожиданные параллели с обоими нервическими страдальцами, как дает понять его стихотворение «Подруга» из той весны.
Спроси, что такое любовь, спрошу в ответ: «Ты о чем?» Спроси, что такое дружба, я с нею, друг, не знаком. А вот спроси о заботе — ее я видал не раз, она у меня в почете каждый день и час![19]Сплошные заботы в Аугсбурге. Неужели ни у кого нет хорошего настроения в мае 1913 года?
Видимо, нет. Тем не менее, 31 мая рождается Петер Франкенфельд.
Выходит замечательная книга Рудольфа Мартина «Знатные миллионеры Северной Германии в 1913 г.». В ней приводится 917 дворян из Померании, Силезии, Старой Пруссии, Саксонии и Бранденбурга, имеющих в свободном распоряжении свыше одного миллиона рейхсмарок. Большая и самая богатая их часть живет в Силезии. Список возглавляет князь Хенкель фон Доннерсмарк в замке Нойдек административного округа Оппельн с состоянием в 250 миллионов марок при годовом доходе свыше 13 миллионов марок.
«Мост» рушится. В мае 1913 года художественное объединение окончательно распадается. Написанная Эрнстом Людвигом Кирхнером хроника «Моста» провоцирует Эриха Хеккеля и Шмидт-Ротлуфа. Кирхнер изображает себя предводителем группы, создателем экспрессионистской ксилографии и экспрессионистической скульптуры и вообще движущей силой всего течения. Для первой страницы «Хроники» Кирхнер создал гравюру с портретами членов группы, свою собственную голову в левом верхнем углу он, кроме шуток, окружил маленьким лучезарным венцом. Графическая арка ворот, «Мост», покоилась на его подписи: «Э Л. Кирхнер». С точки зрения других членов группы, это было эгоцентрично и неверно. Однако с точки зрения истории искусства все верно: Кирхнер – гений среди группы больших мастеров. И в свои светлые периоды, когда депрессии, наркотики и лекарства не затуманивали его разум, он об этом знал. Разгорается крупный конфликт: 27 мая 1913 года Шмидт-Ротлуф и Эрих Хеккель сочиняют письмо, в котором извещают пассивных участников художественного объединения «Мост» о его роспуске. Пехштейна исключили годом раньше: за то, что он без согласия остальных выставлялся в Берлинском сецессионе, что Кирхнер воспринял как «обманутое доверие».
«Сим сообщаем Вам, что нижеподписавшиеся решили распустить художественное объединение „Мост“ как организацию. Куно Амье, Эрих Хеккель, Э.Л. Кирхнер, Отто Мюллер, Шмидт-Ротлуф. Берлин, 27 мая 1913». Далее следуют четыре подписи. Не подписался только Кирхнер.
Разослав письмо, Карл Шмидт-Ротлуф собирает чемодан. Прочь из Берлина, этого города, который ему, сохранившему в своем искусстве какую-то чудесную неотесанность, всегда был чужд; который наседал на него и его чувство прекрасного. Совсем не как у Кирхнера. Тот лишь в этом городе себя обрел. Искусство Кирхнера городское. Шмидт-Ротлуфа – загородное. Он хочет на море и как можно дальше отсюда, поэтому едет в Ниду на Куршской косе. А именно – на постоялый двор Германа Блоде, единственного жителя деревни, кто сдает комнаты. Вскоре Шмидт-Ротлуф находит скромную заброшенную рыбачью хижину на пляже, в которой до этого два лета провел Макс Пехштейн. Распаковав принадлежности для рисования, он пишет 31 мая открытку одному другу: «Кажется, я на некоторое время обоснуюсь здесь, в Ниде. Удивительная местность!» Шмидт-Ротлуф, истощенный ссорами из-за «Моста» и несущимся вперед, отнимающим все силы Берлином, обретает себя на этой косе. Бор, сосны, за спиной залив – а потом: песок, песок, песок, бесконечная дюна, которую он в акварелях и полотнах превращает в свой рай, в котором первые люди невинно рассматривают друг друга. «Лето в сосновом бору» называется одна из картин: ощущение, будто ты на тихоокеанских островах. Первым делом он создает большие картины обнаженной натуры, группы женщин в дюнах, рисунки тушью, гравюры по дереву: это – художественное освобождение. Он рисует жен и детей рыбаков, обнаженных и непринужденных. Возможно, искусство Шмидт-Ротлуфа никогда не было столь чувственным, как этим набирающим ход летом на морском берегу. Лица он рисует словно вырезанные головы из Океании, зато тела полны жизненной силы. Лишь когда он пишет про наготу в своих работах, его вновь сковывает рассудок. «То же самое с грудью. Это эротический момент. Но мне хочется высвободить его от мимолетности переживания, установить в какой-то мере связь между космическим и земным мгновением».
Какое там «расколдовывание мира»! Космическая грудь! До сих пор совершенно упущенное исследователями анатомическое открытие 1913 года.
В мае Берлин наряжается на самое крупное общественное событие молодого столетия: свадьбу принцессы Виктории Луизы Прусской с герцогом Эрнстом Августом Ганноверским 24 числа. Жених с невестой едут по улице Унтер-ден-Линден, заполненной тысячами ликующих людей. И потом наступает, как сообщает «Берлинер Тагеблатт», особенный момент: демократия и монархия в неодновременной одновременности. Или: «Душераздирающая картина, как сначала демократический автобус останавливается перед проезжающей в карете аристократией, а потом уже карета останавливается, чтобы пропустить автобус». На свадьбу в Берлин и Потсдам приезжают и русский царь Николай II, и английский король Георг V – а помимо них бесчисленные главы европейских государств, с коронами и без. Свадьба была прежде всего дипломатическим событием. «Берлинер Тагеблатт» так прокомментировала приезд короля Англии и русского царя: «Разумеется, визит не был политическим. Но после неспокойных политических событий прошедшей зимы хочется думать, что одновременный визит властителей России и Англии, определяющих монархов Антанты, к немецкому кайзеру свидетельствует о желанном разряжении международной обстановки. Такова природа вещей: личные встречи налагают отпечаток и на политическую позицию кабинетов, пусть даже лишь в том смысле, что все стороны еще больше подчеркивают свою волю к миру».
Так 24 мая монархи всего света уникальным образом собрались в пять часов на венчание в освещенной сотнями свечей дворцовой капелле. Одного только Франца Фердинанда, австрийского престолонаследника, не пригласили – его и в самой Вене-то при каждом удобном случае избегали и осмеивали из-за невесты, не соответствующей его сословию, а это публичное унижение на европейской сцене стало для него новым подзатыльником. Все остальные празднуют до утра. Но затем, еще до завтрака, секретные службы сообщают своим королям и царям новость из Вены: полковник Редль изобличен и застрелился. Но царь и виду не подает, что лишился своего главного информатора. Он отсекает макушку у вареного яйца и ведет непринужденные беседы. Приличия соблюдены.
Напряженная весна для Райнера Марии Рильке в Париже. Он опять практически ничего не может писать. Ему надо жить. По крайней мере, что-то вроде этого. Его хотят видеть друзья и знакомые, он ходит на завтраки, обеды, ужины, встречается с Андре Жидом, Анри ван де Вельде, издателем «Инзеля» Антоном Киппенбергом, Роменом Роланом и Стефаном Цвейгом. Рильке жалуется: «Мне от людей только хуже». В первую очередь он запутался в разногласиях со своим старым другом и героем Огюстом Роденом. Своей книгой он когда-то сделал его в Германии богом скульптуры, теперь же громоздкий скульптор не поддается мольбам Рильке позировать его жене Кларе Рильке-Вестгоф для бюста. Клара уже давно вместе с дочерью живет отдельно от Рильке, но он имеет по отношению к ней обязательства и хочет этой просьбой помочь ей пробиться в художественный мир. Но Роден непреклонен, что глубоко расстраивает Рильке. А когда Рильке с Киппенбергом приезжают к нему обсудить новые фотографии для нового издания книги в «Инзеле», Роден, поразмыслив, забирает у них снимки.
Клара в Париже, в отчаянии, без денег (близкая Рильке Ева Кассирер помогает ей удержаться на плаву) и все поставила на то, что сможет портретировать Родена. Тогда Рильке просит Сидони Надерни, бывшую любовницу и дорогую подругу, которую как раз разместил в «Отель дю ке Вольтэр» позировать своей жене – кажется, один Рильке не находит в таких затеях ничего предосудительного, ему удобней залепить раны прошлого пластырем гармонии. Сидони гордо держит голову, чтобы камень запечатлел ее красивые черты. Но потом, 28 мая, в Мюнхене застреливается ее любимый брат Иоганнес фон Надерни. Сидони впадает в депрессию, и Рильке вместе с ней:
своєму издателю Киппенбергу он пишет, что с ним случился «маленький нервный срыв» из-за смерти Иоганнеса, которого он хорошо знал по визитам в сказочный замок рода Надерни в Богемии, «а до этого как раз новая размолвка с Роденом, столь же неожиданная, как и восемь лет назад, но раз уж случилась, то, видимо, окончательно и бесповоротно».
Сидони в панике бежит из Парижа, Клара, оставшаяся без дела, убегает обратно в Мюнхен, а Рильке от облегчения, что может теперь вновь жить на расстоянии, берет их обеих за ручку: письмами, словами, утешениями – это он умеет. Клара продолжает в Мюнхене работать над бюстом, еще не познавшим горе. Сидони впервые увидит бюст осенью, когда навестит Клару уже со своим новым другом. Имя его – Карл Краус.
Чтобы представить себе, как работают культурные сети Парижа 1913 года и как живет немецкий кутила, эстет, денди, посредник культур и автор дневников граф Гарри Кесслер, достаточно pars pro toto[20] бросить взгляд на него 14 мая 1913 года: допоздна он спит, потом в начале дня встречается с Андре Жидом и Игорем Стравинским в «Ритце», после чего они все вместе идут на репетицию нового балета легендарных русских танцоров и хореографов Нижинского и Дягилева – на музыку Клода Дебюсси. С ним и Жаном Кокто они болтают в перерыве. Затем посреди перерыва вдруг случается ссора: Стравинский кричит, Дебюсси кричит, Дягилев кричит. После чего все мирятся и выпивают по бокалу шампанского. Кесслеру, как доверит он ночью своему дневнику, музыка Дебюсси представляется «скудной». Еще скверней ему представляется танцевальный костюм великого Нижинского: короткие белые штанишки с черной бархатной тесьмой и зелеными подтяжками – даже графу Гарри Кесслеру это кажется «немужественным и нелепым». Как хорошо, что у Нижинского, русского с дурным вкусом, были культурные немецко-французские советчики по стилю: «Мы с Кокто уговорили его успеть купить завтра перед премьерой спортивные брюки и рубашку в „Вилликс“». Так и случилось.
Ровно две недели спустя – следующая генеральная репетиция в этом особенном мае в Париже: «Весна священная» Стравинского в Театре Елисейских Полей. На этот раз граф Гарри Кесслер даже не идет сначала на репетицию, а приходит сразу на ее празднование в «Ларю» – с Нижинским, Морисом Равелем, Андре Жидом, Дягилевым, Стравинским, «где преобладало всеобщее мнение, что завтра на премьере разразится скандал». Так и случилось. Премьера музыкально-танцевального гезамткунстверка «Весна священная» стала событием, наэлектризовавшим Париж и ударной волной дошедшим до Нью-Йорка и Москвы. Вечером 29 мая между восемью и десятью часами вечера происходит один из тех крайне редких моментов, когда сами зрители чувствуют, что становятся свидетелями исторического события. Изумлен даже граф Гарри Кесслер: «Совершенно новая хореография и музыка. Внезапно возникло абсолютно новое видение, нечто доселе неведанное, захватывающее, убедительное; новый род дикости одновременно в искусстве и не-искусстве: всякая форма разорена – и из хаоса рождается вдруг новая». В три часа ночи Кесслер записывает в дневнике одну из самых выразительных и убедительных формулировок модернистического сдвига, охватывающего в 1913 году весь мир. Публика в тот парижский вечер 29 мая собралась самая знатная и культурная во всей Старой Европе: в одной ложе сидит Габриэле Д'Аннунцио, сбежавший из Италии в Париж от своих кредиторов. В другой – Клод Дебюсси. В зале присутствуют Коко Шанель и Марсель Дюшан. На всю жизнь, скажет он потом, в его памяти остались «крики и визги» этого вечера. Музыка Стравинского перенесла на сцену всю мощь архаических сил – та самобытность жителей Африки и Океании, прообразы которых уже вносил в искусство экспрессионизм, пробудились теперь к пульсирующей жизни и в самом центре цивилизации – в Театре Елисейских Полей.
С первых звуков экстремально высокого соло фагота слышен прыскающий смех в зале: Это еще музыка или уже весенний ураган либо гул самого ада? – вопрошает себя изумленная публика. Всюду барабаны, на передней части сцены нагие танцоры в экстатическом движении; парижане смеются, но когда понимают, что все это всерьез, – кричат. Приверженцы современного аплодируют с дешевых мест, неистовство музыки растет, танцоры сбиваются, так как от поднявшегося шума перестают слышать музыку, Морис Равель откуда-то беспрестанно кричит в зал: «Гениально!». Нижинский, написавший для балета хореографию, отбивает пальцами ритм – против обезумевшего свиста публики.
Волнения достигают апогея на отрывке номер 13 – как и предвидел Стравинский (какая была бы радость для Арнольда Шёнберга, сторонника теории заговора во власти числа 13). Танцоры словно в дурмане, посреди представления менеджер театра выключает свет, дабы избежать эскалации, но танцоры на сцене продолжают работать, и когда свет вновь загорается, у людей в зале возникает странное чувство, будто это они – сцена, а танцоры – публика. Лишь благодаря стоическому спокойствию дирижера Пьера Монтё, продолжавшему, как и танцоры, работать, удается довести постановку до последнего такта. На следующее утро «Фигаро» пишет: «Сцена изображала человечество. Справа сильные молодые люди собирают цветы, в то время как трехсотлетняя старуха безумно пляшет. На левом краю сцены старый человек изучает звезды, в то время как то тут, то там приносят жертву богу света. Такое публика не стерпела. Она освистала пьесу. Несколько дней назад она, может быть, еще аплодировала бы. Русские, не особо разбирающиеся в приличиях и обычаях стран, в которые приезжают, не знали, что французы без церемоний начинают протестовать, когда глупость достигает предела». Эти слова приводят Стравинского в ужас. Вечер оставил его в расстроенных чувствах.
Но чутье подсказывает ему, что он сотворил произведение века. Чутье, должно быть, подкрепила и Коко Шанель, которая своим магазинчиком шляпок вызывает в Париже сенсацию и этим вечером впервые видит великого русского композитора. Позже она станет его любовницей.
Два путешествия к сердцу земли. В Лардерелло, Тоскания, Пьеро Джинори Конти удается использовать воду из земляных глубин для производства электричества. Геотермия открыта. В то же время Маршалл Гарднер пишет книгу, в которой доказывает, что в недрах земли все еще живут мамонты. Они отнюдь не вымерли – всего лишь ушли туда, где теплее.
В Вене Оскар Кокошка продолжает рисовать на холсте, повторяющем размеры постели его возлюбленной Альмы, вдовы Густава Малера. Он несет в себе огромную боль, потому что Альма как раз сделала аборт. Он не может простить ей, что она разрушила плод их любви. Он не устает рисовать жалобные портреты Альмы с их общим ребенком, жизнь которого он представляет себе художественным зрением. Он присутствовал в Венской клинике во время аборта и забрал окровавленную вату с собой в мастерскую, снова и снова бормоча себе под нос: «Это останется моим единственным ребенком» (трагичным образом он оказался прав).
Но сексуальная одержимость Альмой не уходит, работать он может, только если она к нему благосклонна. Так он изо дня в день стоит в мастерской в кричаще красной пижаме Альмы, которую отнял у нее в начале их связи и которую надевает всякий раз, когда рисует. В 1913 году он чуть ли не сотню раз рисует Альму. Эта любовь – словно приключение: она полна безумия, исступления, счастья, в ней «столько ада, столько рая», как говорит Альма. Он хотел, чтобы Альма била его во время занятий любовью, что ей, однако, не нравится, но Оскар умоляет ее каждодневными письмами: «ударь меня своей красивой дорогой рученькой».
Между поцелуями он выкрикивает планы ее убийства и накопленный гнев. Какой, должно быть, светлой была эта радость.
Ревность Кокошки столь колоссальна, что, покинув ночью квартиру Альмы, он иногда до четырех часов караулил на улице, не поднимется ли другой мужчина к его возлюбленной. «Я не терплю посторонних богов подле себя», – пишет он красиво и до глупости честно. Особенно страстно он ревновал к Густаву Малеру, умершему мужу Альмы Малер. Поэтому они то и дело занимаются любовью прямо под его посмертной маской. И Кокошка умоляет Альму, которую безошибочное чутье на художественных гениев и genius loci[21] в этом особенном мае, конечно, привело в Париж: «Прошу, моя сладкая Альми, оберегай себя от назойливых взглядов и укрепляйся в мысли, что всякая чужая рука и всякий посторонний взгляд будут хулой на святыню твоего прекрасного тела». В конце мая богослужение становится магией. Оскар Кокошка шлет свои мольбы письмами в парижскую гостиницу: «Ты должна вскорости стать мне женой, иначе мой огромный талант плачевно сгинет. Ты, словно эликсир, должна оживлять меня по ночам». Медленно, но верно в душу Альмы закрадывается страх. Она решает задержаться в Париже еще на неделю.
В пьесе «Сноб», над которой летом 1913 года работает Карл Штернгейм, скрыты дюжины намеков на Вальтера Ратенау, видного председателя наблюдательного совета AEG[22], романтика, писателя, политика, мыслителя. И вместе с тем одного из самых видных нарциссов своего времени. Во время премьеры «Сноба» жена Штернгейма Тея сидит прямо возле Ратенау и опасается, как бы тот не заметил, что как раз его изображают на сцене. Но нарциссизм оберегает. Ратенау и бровью не ведет. Лишь в конце говорит, что хотел бы повнимательней перечитать пьесу.
Двадцатисемилетний Мис ван дер Роэ возвращается в Берлин и становится свободным архитектором.
Макс Бекман пишет в дневнике: «И все же человек был и остается свиньей первого сорта».
Июнь
В этом месяце становится ясно, что до войны не дойдет. Георг Тракль – в поисках сестры и спасения от проклятия, Томас Манн – лишь своего покоя. Франц Кафка делает своего рода брачное предложение, которое идет наперекосяк. Он перепутал его с дачей показаний. Д.Г. Лоуренс публикует «Сыновей и любовников» и вместе с Фридой фон Рихтхофен, матерью троих детей, удирает в Верхнюю Баварию – она станет прообразом леди Чаттерли. Нервы у всех на пределе. В кино Аста Нильсен уничтожает неизвестный шедевр. Немецкая армия продолжает расти. Сухое вино «Хенкель» празднует немецко-французскую дружбу.
Эгон Шиле. Боец (частная собственность).
До очередной войны не дойдет – в этом Норман Энджелл был уверен. Его книга «The Great Illusion» («Великая иллюзия»)[23] 1911 года стала мировым бестселлером. В 1913 году он пишет известное «Открытое письмо к немецкому студенчеству», благодаря которому его тезисы получают еще большее распространение. Параллельно выходит четвертое переиздание его книги. Таким образом, пока с Балкан то и дело доносится странный шум, интеллигенция Берлина, Мюнхена и Вены в начале этого лета спокойно углубляется в чтение книжки британского публициста. Энджелл изложил теорию, согласно которой мировые войны в эпоху глобализации невозможны, так как все страны чересчур тесно связаны друг с другом экономически. И Энджелл говорит, что помимо экономических схем международные связи в коммуникации (и в первую очередь в мире финансов) лишают войну смысла. Энджелл аргументировал так: даже если немецкие войска надумают помериться силой с Англией, то не найдется «ни одного значимого учреждения в Германии, которое не понесло бы существенных убытков». Война будет предотвращена, потому что «вся немецкая финансовая система оказала бы воздействие на германское правительство, чтобы покончить с губительной для немецкой торговли ситуацией». Положения Энджелла убедили интеллектуалов всего мира. Дэвид Старр Джордан, президент Стэндфордского университета, прочитав Энджелла, произносит в 1913-м громкие слова: «Большая война в Европе, угроза которой всегда существует, никогда не начнется. У банкиров не хватит на такую войну денег, ее не потянет промышленность, на нее не способны государственные деятели. Большой войны не будет».
Параллельно чествуют крупное трехтомное произведение Вильгельма Бёльше «Чудеса природы», которое в английском переводе, изданном в 1913 году, носит прекрасное название «The Triumph of Life» [24]. Бёльше, этот стилист благодати, стремился сгладить современность, вернее, достижения современных естественных наук, присыпать их сахарной пудрой, чтобы они и дальше приходились по вкусу крупной буржуазии. Вместо того чтобы подтверждать Дарвина, он изображал «мистерии вселенской роскоши». Так возникала не одна диковинная теория на стыке биологии и морали. Публика в 1913 году с воодушевлением приняла доказательство Бёльше, что все высшие живые организмы в основе своей не желают друг другу зла. Что борьба в животном мире возникает, только если намеренно раздразнить противника. То есть, не только между государствами больше не будет войн, но и между животными. Таково было утешительное послание Бёлыпе. Поэтому неудивительно, что он занял привилегированное место на тщательно подобранной книжной полке кайзера. Курт Тухольский описал стандартную комплектацию библиотеки крупного бюргера: «Гейзе, Шиллер, Гёте, Бёлыпе, Томас Манн, старенький альбом для поэзии…». В принципе, Бёлыпе и сам был таким альбомом: он вписывал миролюбивые куплеты в памятную книгу модернизма, воображая себе природу, в которой звери движутся так же ласково и мирно, как на полотнах Франца Марка.
Беспокойный, вспотевший морфинист Георг Тракль мотается в июне 1913-го между Зальцбургом и Инсбруком, словно преследуемый безумием Ленца. Он хочет наконец-то повидаться с Гретой, возлюбленной своей плоти, кровной сестрой, но не застает ее; хочет увидеть Адольфа Лооса, кумира, врага орнамента, но не застает и его. Он мчится в Вену, устраивается в Военном министерстве на неоплачиваемую подсобную работу, два дня спустя подает рапорт о болезни. Его терзает смутное подозрение, может даже уверенность, что Грета, с которой только он имеет право быть вместе, изменяет ему с его другом Бушбеком. Он пишет ему: «Может, ты знаешь, не в Зальцбурге ли моя сестра Гретль». Тракль забывается в наркотиках, печали, алкоголе и спускается «в ад сотворенных собою мук». Он сочиняет и уничтожает, его правки кажутся порезами, зарубцевавшимися на бумаге, как на живой плоти. Он пишет стихотворение «Проклятые», в нем есть строфа:
Черна еще… Ночь сонная черна. Невзрачный мальчик плачет над рекой, И, мертвая, касаешься рукой Его щеки. Родная, ты нежна.[25]Людвиг фон Фикер, его отеческий друг и меценат, в домах и замках которого он обретает в этом году пристанище, немедленно печатает стихотворение в июньском номере своего журнала «Дер Бреннер». Но Тракль уже ничем не гордится. Он падает в пропасть все глубже и глубже.
Эдвард Мунк пишет картину «Ревность».
Тем временем Томас Манн у себя в загородном доме в Бад-Тельце собирается начать писать. В нем зародилось представление о новой крупной повести, действие будет происходить в Давосе, в санаториях, с которыми он познакомился, навещая там Катю. Отдельная вселенная. Это станет контрастом «Смерти в Венеции», которая уже лежит на прилавках книжных магазинов, на этот раз, как выражается он в одном письме, вещь будет «приятной и остроумной (хотя без любви к смерти опять не обойдется)». Рабочее название – «Заколдованная гора».
Он думает начать, дети играют на поляне в салочки, за ними смотрит няня. Но он не может начать. Взгляд то и дело падает на ковер в кабинете, и его охватывает злость на торговца Шёнемана, который его облапошил. Здесь у него был другой мюнхенский торговец, который оценил купленный ковер лишь в треть уплаченной суммы. Но господин Шёнеман отказывается возвращать деньги, и Томас Манн подает в суд. Он смотрит из окна на вершины гор, откладывает перо. Заколдованная гора подождет. Он пишет адвокату, чтобы тот, наконец, заставил торговца все выплатить.
Граф Гарри Кесслер, как всегда в белом костюме-тройке, отправляется поездом из сверкающего Парижа в бурлящий Берлин и пленяется красотой Вестфалии. «Проезжаю Вестфалию, – записывает он 3 июня в дневнике, – всюду полевые цветы в зеленеющей ржи; мягкой зыбью бегущие линии холмов, дымкой темного золота солнце заливает горы и долины. Нечто пышное, тяжелое, просторное, материнское отзывается во всем настроении – поразительный контраст с интимной грацией французских пейзажей. Это немецкое в пейзажах Германии точно так же найдет себе стиль, как французский пейзаж нашел себе импрессионизм». Вот как говорит граф Гарри Кесслер – ровно неделю спустя после того, как в Берлине распалась художественная группа «Мост», восемь лет кряду схватывавшая всю пышность, тяжесть, простор и материнство германского пейзажа в немецком экспрессионизме. Который он не понимал.
Немецко-французские отношения 1913 года в журнале «Симплициссимус»: выходит реклама сухого «Хенкеля»: «С виноградной лозы в бочку Реймса. Из бочки в бутылку в Бибрихе. Такой путь проходит вино наших марок „Хенкель сухое“ и „Хенкель приват“. Мы единственный немецкий производитель игристых вин, стоящий на абсолютной высоте организации как в производстве шампанского, так и в дистрибуции по Германии». Перелистываешь страницу. На следующей – карикатура на совершенно офранцузившегося немца в изысканном платье, листающего иллюстрированное чтиво. И подпись: «Эти нескончаемые пограничные инциденты довольно надоедливы. Наши мужчины еще подивятся, когда придут французы со своими модными ухищрениями».
Рейхстаг 29 июня принимает в третьем чтении предложенный правительством воинский законопроект. Тем самым он одобрил увеличение численности военнослужащих в мирное время на 117 267 человек – до общей численности в 661 478.
В один вовсе не прекрасный день 1913 года Франц Марк вдруг берет в руку кисть и рисует картину, контрастирующую, словно антитело, со всем его творчеством. Здесь больше нет рая, где звери кротки, как ангелы, а люди свободны. Нет. Здесь теперь – ад. Франц Марк, напуганный вестями из Южной Европы о тамошней кровавой, лютой резне, создает жуткую кровожадную картину. Он называет ее «Волки (Балканская война)».
20 июня 1913 года в обеденное время, увешанный огнестрельным оружием, тридцатилетний безработный учитель Эрнст Фридрих Шмидт из Бад-Зюльце входит в Бременскую школу Святой Марии. Для задуманной бойни у него с собой не меньше шести заряженных револьверов, с ними он штурмует классные комнаты. Израсходовав обойму одного револьвера, он берет следующий. Пять девочек семи-восьми лет погибают, восемнадцать детей и пятеро взрослых тяжело ранены. Потом его задерживают прохожие. Для протокола он заявляет, что пытался выразить свое несогласие с тем, что его не взяли на работу учителем.
В 1913 году выходит не только первый том «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Но и революционное для философии двадцатого века произведение: «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» Эдмунда Гуссерля. Большая смена парадигм Гуссерля развернула философию от позитивистских реалий окружающего мира к фактам сознания. А 1913-й был годом, когда внутренний мир повсеместно превращался в реальность: в картину, книгу, здание, безумие.
А также – в красную книгу. К.Г. Юнг в этом году начинает записывать свои сны и внутренние переживания в переплетенную красной кожей книгу – и самого себя по ней анализировать. В начале года он, президент «Международной психоаналитической ассоциации», совершил акт отцеубийства по отношению к Зигмунду Фрейду. Он не только отверг теорию либидо как центральный догмат современной психологии, но и в первую очередь, как он сам выразился в одном письме, «дернул пророка за бороду». Однако отцеубийство выбивает из колеи не только отца, но и убийцу. Пока Фрейд тонет в депрессии и подавленном гневе, Юнга также настигает тяжелый кризис – ему не хватает фигуры отца, которой он так долго восхищался. Он бросает преподавательскую деятельность в университете Цюриха и – как и Фрейд – боится новой встречи, а она все ближе. В сентябре на конгрессе психоаналитиков в Мюнхене сойдутся два враждующих лагеря.
Юнг плохо спит, его терзают ночные кошмары. Один из них ляжет в основу «Красной книги». Он проснулся в холодном поту от видения, что всю Европу накрывают волны гигантского потопа. Всюду смертоубийство, трупы и разорение. Днем он читает доклады о шизофрении, а ночью, в тревожных сновидениях, боится стать шизофреником сам. Это апокалиптическое видение не отпускает его так долго, что он пытается записать его, чтобы преодолеть. В остальном все тоже понеслось кувырком, с тех пор как ему удалось установить в своей жизни весьма необычную треугольную конфигурацию: как жену Эмму, так и любовницу Тони Вольф он заставил поладить с menage a trois[26]. По воскресеньям вечером Тони даже приходит на ужин в семейную виллу в Кюснахте на Цюрихском озере. Как потом протекает ночь, об этом свидетельств нет. Известно лишь, что и Эмма, и Тони работали аналитиками, и любовный треугольник сохранялся десятилетиями. И что Юнг в своих сновидениях перекапывал события дней и ночей вдоль и поперек, а потом прилежно фиксировал их лихорадочным пером в своей «Красной книге». «Разбором подсознательного» назвал он этот эксперимент над собой. И словно водные массы, затопившие в его снах 1913 года Европу, из Юнга вырвался штормовой прилив: «Вся моя дальнейшая деятельность состояла в том, чтобы переработать то, что в те годы вырвалось из подсознания и накрыло меня с головой. Исходный материал для дела всей жизни».
Элиас Канетти, которому скоро исполнится восемь, переезжает с матерью в Вену и учит немецкий язык.
В 1913 году Д.Г. Лоуренс станет «любовником леди Чаттерли». Его леди Чаттерли тридцать четыре года, и он увез ее из Англии после короткой, едва ли на пять недель, интрижки. Вообще-то ее звали Фрида фон Рихтхофен – а теперь Уикли, но ее муж, профессор Ноттингемского университета и учитель Лоуренса, не может усмирить ни ее прусскую знать, ни ее темперамент. Двадцатисемилетнему шахтерскому сыну Лоуренсу, только что отправившему в издательство рукопись «Сыновей и любовников», импонирует, что она «дочь барона из древнего и знаменитого рода Рихтхофенов». У Фриды зеленые глаза, светлые волосы, она умна и любит жизнь. Она верит, что рай на земле достижим лишь через свободную любовь. Лоуренс, поймав ее на слове, бежит с ней с острова в Европу. Весной 1913 года они обретают пристанище в любовном гнездышке сестры Фриды – Эльзы, в Иршенхаузене в Верхней Баварии. В уютном деревянном летнем домике Эльза, супруга мюнхенского профессора Жаффе, всегда уединялась со своим любовником Альфредом Вебером, братом Макса Вебера, у которого Эльза некогда писала диссертацию. К переезду она подарила вернувшейся из Англии сестре лихой баварский дирндль[27], чтобы в полной мере проявились ее женские прелести. В таких делах сестры всегда умели между собой договориться, даже когда обе были любовницами ученика Фрейда, кокаиниста и великого совратителя Отто Гросса. Правда, лишь одна из них, Эльза, родила от него сына, но звали его Петером, как и сына, родившегося у Отто Гросса в том же году в браке с законной женой, которую звали Фрида, как и его вторую любовницу. Сплошная неразбериха в этом раю свободной любви.
Лоуренсу и Фриде Уикли, в девичестве Рихтхофен, приходится и после побега бороться за свою любовь – их соединят, как напишет однажды Лоуренс, «узы симпатии, скрепленные чистой ненавистью». Однако в начале этого лета в Иршенхаузене они переживают свой лучший период. Отрезанные Изарской долиной от остального мира – пихты да горы за спиной, взору открывается простор – они отдыхают после бегства, набираются сил. Уже скоро Лоуренс восхваляет «гениальную одаренность к жизни» своей Фриды. Очевидно, с не меньшим наслаждением он вкушает ее гениальную одаренность к любви. Потому что когда он однажды издаст свою знаменитую книгу, эротические истории «Любовник леди Чаттерли», то у знатной соблазнительницы обнаружится множество схожих черт с Фридой фон Рихтхофен. Только местечко Иршенхаузен в книге не называется: как место действия такого романа – название не больно романтичное. И все же в июне 1913 года обоих охватывает беспокойство. Д.Г. Лоуренс хочет в Англию – наслаждаться триумфом, который вызвала публикация его книги «Сыновья и любовники». А любовница хочет вернуться повидать детей. Ибо трех своих отпрысков, тринадцати, одиннадцати и девяти лет, она оставила ради того, чтобы удрать с молодым писателем. А теперь у нее разрывается сердце. В конце июня они отправляются в Лондон. Теперь ее почти не оторвать от любимых детишек. Они решают встретиться в Италии. Но Фрида не верит его любовным клятвам. Тогда Лоуренс обещает ей бежать до Италии через всю Швейцарию. И так и делает. И она ему верит – пока.
Журнал «Дер Бреннер» из Инсбрука проводит «опрос о Карле Краусе». К этому событию Арнольд Шёнберг пишет в июне прекрасные слова: «В посвящении, с которым я отправил Карлу Краусу свое учение о гармонии, я сказал примерно следующее: „У Вас я научился, возможно, даже большему, чем может позволить себе человек, желающий остаться самостоятельным“. Это указывает, разумеется, не на объем, но на степень уважения, какое я к нему питаю». Крайне редкое свидетельство робкого восхищения, уважения и ладно сложенных слов в этом перевозбужденном году.
В июне Германская империя празднует двадцатипятилетний юбилей правления кайзера Вильгельма П. Странный кайзер: на уме одни кораблики и декорум. Он лично заботился о расширении придворного церемониала и новом обмундировании. В преддверии юбилея своего вступления на престол он берет планирование в свои руки – сценографию события, равно как и выбор подарков, он хочет определять сам. Даже прославление его в речах как «кайзера мира» было его идеей – несмотря на то, что две недели спустя рейхстаг решает увеличить численность армии. И пусть даже во время парадного обеда сохранился старый порядок размещения гостей – то есть рейхсканцлер был усажен позади императорской семьи и союзных монархов, а прочие парламентарии оказались далеко позади каких-то незначительных придворных чинов, – соотношение сил в империи давно уже не было столь однозначным. Когда размещение за столом не задавало иерархии, Вильгельму II приходилось тягостно бороться за свою политическую позицию в рамках конституционной монархии. Настоящим инстинктом власти он не обладал. Он предпочитал выступать на публике, и это он хорошо умел: такой непринужденный и близкий народу, любитель армии и охотник до простых радостей, противник современного французского искусства. Он любил корабли, север, флот. Колонии прельщали его больше всего тем, что добраться до них можно было только на корабле. Даже в сезон охоты на глухарей в Гессенских горах, у своей любовницы, графини Герц, по ночам, пока не протрубил рог, он меланхолично вырезал военные кораблики на деревянных стенах охотничьей хижины.
В Берлине в 1913 году насчитывается уже больше двухсот кинотеатров. В большинстве из них показывают продукцию основанной год назад киностудии в Бабельсберге – к примеру, фильм Асты Нильсен «Грехи отцов». Фильм повествует о музе одного художника, с которой восхищенный отеческий герой рисует аллегории красоты. Потом он ее бросает, она становится алкоголичкой. Художник встречает ее вновь, очаровывается ею, но не узнает. Он предлагает ей пойти с ним в мастерскую, он хочет нарисовать аллегорию пьянства, которая должна стать его шедевром. Она становится его шедевром. Но когда муза видит, что она сама, ее любовь и красота были принесены в жертву на алтаре искусства и карьеры, то в неповторимом акте протеста уничтожает холст. Вспышка гнева Асты Нильсен делает ее лицо иконой.
Когда выжившие участники экспедиции «Терра Нова» возвращаются в 1913 году на родину, научным открытиям корпуса оказывают много внимания. Хотят отвлечь от того, что провозглашенный национальным героем Скотт в действительности оказался на Южном полюсе вторым. Когда последние участники экспедиции в 1912 году наконец-то добрались до Южного полюса, там уже красовался свеженький норвежский флаг. Руаль Амундсен оказался на пару дней быстрее в этой безжалостной гонке против времени и льда. Это сломило британских участников экспедиции. Погиб не только Скотт, возвращаясь по вечным льдам, но и капитан Лоуренс Оутс. По сей день его чествуют как мученика, так как он пошел на добровольную смерть, дабы не быть обузой своим товарищам. Легендарны его последние слова, сказанные перед тем, как покинуть палатку: «Пойду выйду, может, вернусь не скоро». После таких слов в Англии делаешься бессмертным. Неплохое название дал Черри-Гаррард своему отчету о катастрофичном ходе экспедиции: «Самое ужасное путешествие на свете». Так британцы пусть и не открыли Южный полюс, зато не утратили чувство юмора.
«Самое ужасное предложение на свете»: 8 июня Франц Кафка в Праге начинает просить руки Фелиции. Но свое предложение он обрывает на середине, лишь 16 июня он соберется с силами, чтобы закончить письмо. В итоге оно вырастет до двадцати страниц. Кафка начинает с подробных пояснений, что ему необходимо к врачу; что конкретно тот должен засвидетельствовать – способность ли к оплодотворению, ясность ли мысли, или что все это лишь предлог оттянуть неизбежное, женитьбу, исполнение супружеских обязательств – совершенно неясно: «Между мною и тобой прежде всего прочего стоит врач. Что он скажет, это еще весьма сомнительно, в таких вопросах решает не столько медицинский диагноз, если бы все свелось только к диагнозу, возможно, не стоило бы все дело и затевать. Как уже сказано, я, в сущности, ничем не болел – и, тем не менее, я болен». Хм. Затем следует пассаж, в котором Кафка, этот замечательный, тонкий стилист, утверждает форму письменного заикания: «А теперь, сама посуди, Фелиция, перед лицом такой неопределенности трудно вымолвить слово – да и прозвучит оно странно. Неудобно, вроде бы еще не время об этом говорить. Ну а потом, после, будет поздно, тогда будет уже не время для обсуждения подобных вещей, хоть ты в последнем письме и упоминаешь о такой возможности. Но для слишком долгих колебаний тоже времени нет, по крайней мере, я так чувствую, поэтому спрашиваю: готова ли ты с учетом вышеуказанных, к сожалению, неустранимых предпосылок обдумать вопрос, хочешь ли ты стать моей женой? Ты хочешь этого?» Видимо, это должно было означать: ты правда этого хочешь????? И вместо одного вопросительного знака он мог бы минимум пять поставить.
Затем, в момент редкого просветления, он составляет для Фелиции смету прибылей и убытков при вступлении в брак: «А теперь подумай, Фелиция, какие перемены принесет каждому из нас брак, что каждый приобретет и что потеряет. Я потеряю свое по большей части ужасное одиночество и приобрету тебя, кого я люблю больше всех на свете. А вот ты потеряешь свою прежнюю жизнь, которой в целом была почти довольна. Ты потеряешь Берлин, работу, которая так тебя радует, подружек, множество маленьких удовольствий, виды когда-нибудь выйти замуж за здорового, веселого и доброго спутника жизни, родить пригожих и здоровых детей, к которым тебя, если ты к себе прислушаешься, буквально тянет. И вместо всех этих поистине невосполнимых потерь ты заполучишь больного, слабого, необщительного, молчаливого, печального, упрямого, по сути, почти пропащего человека». Разве можно не сказать «Да»? Предложение руки и сердца как дача показаний под присягой.
Кафке все же не по себе, потому что он догадывается, что зашел весьма далеко, хоть и пытался замазать, заглушить свой вопрос Фелиции сотнями и сотнями слов. Но он знает, что где-то в середине письма он его-таки задал. Он долго копошится, но в итоге запечатывает письмо в конверт, пройдя сперва через тягостные поиски конверта размером побольше, потому что письмо оказалось таким толстым. Затем он выходит на улицу, не может никак решиться, тянет до тех пор, пока не закрылись все официальные почтовые отделения. И вдруг на него находит: письмо непременно должно лежать на столе у Фелиции завтра же утром. Он несется на вокзал, где срочную почту можно передать со скорым поездом в Берлин. По дороге, вспотевший и в панике, он встречает старого знакомого. Кафка пытается извиниться, дескать, спешит, письмо надобно срочно к поезду. Что же за письмо такое особое, что он хочет отправить, спрашивает позабавленный знакомый. «Предложение делаю», – говорит Кафка, слыша вдогонку хохот.
8 июня, в день, когда Кафка начинает работать над своим предложением, в присутствии кайзера Вильгельма II торжественно открывается построенный для Олимпийских игр 1916 года Немецкий стадион. Немецкие рабочие закончили строительство на три года раньше запланированного. Так может, все-таки раньше все было лучше?
К двадцатипятилетнему юбилею правления кайзера пятнадцатилетний Бертольт Брехт записывает в дневнике следующие стихи: «И если в бою мы смелом, / геройской смертью умрем, / то черно-красно-белым / пусть вспыхнет знамя огнем». И еще одна строфа: «Пусть ветер споет над нами: / „Ты выполнил долг бойцов! / Прошел ты сквозь смерти пламя / И честь сохранил отцов“» [28]. Любопытно.
В Вуперталь-Эльберфельде уже в 1913 году на стенах висит пять картин Пикассо. Два натюрморта 1907 года у художника Адольфа Эрбслё, «Мать и дитя» 1901 года у Юлиуса Шмитса, а также «Человек в плаще» того же года и одна акварель «розового периода» у банкира Августа фон Хейдта.
Война роз в двух супружеских парах Вены. Между Артуром и Ольгой Шницлер только клочья летят, своему дневнику Шницлер доверяет, что лежит на балконе, словно парализован. А Роберт Музиль 10 июня пишет после кошмарной прогулки с женой: «Марта, настроенная скверно, делала мне ненужные упреки, от которых я простыл. Ты уйдешь от меня. Я останусь одна. Я убью себя. Я уйду от тебя». Она не ушла.
Зато ушел Лео Стайн. После длящихся месяцами ссор он покинул квартиру на улице Флёр, 27, которую делил в Париже с сестрой Гертрудой и которую сделал ключевым салоном авангарда. Сюда наведывались Пикассо, Матисс, Брак, а журфикс по субботним вечерам был главным собранием парижской креативности. Но прежде всего: по прошествии лет салон стал первым в мире Музеем современного искусства. На маленьком пространстве теснились шедевры Пикассо, Матисса, Сезанна, Гогена и всех прочих крупных французских мастеров – проницательное чутье Стайнов очень рано собрало их под одной крышей. Гертруда, по обыкновению одетая во что-то вроде коричневой мешковины, сидела в темном кресле в стиле ренессанс ближе к камину – она как всегда мерзла. Рядом стоял брат Лео и объяснял десяткам и десяткам гостей свое понимание современного искусства. Гости: английские аристократы, немецкие студенты, венгерские художники, французские интеллектуалы и где-то Пикассо с новой любовницей.
Но потом – скандал. Лео Стайн больше не может терпеть кубистские предпочтения сестры – а также то, что на живущую вместе с ними Алису Токлас она, очевидно, смотрит не только как на кухарку, редактора и секретаря, но и как на любовницу. Все это чуждо Лео Стайну. Он берет прекраснейших Ренуаров, Сезаннов, Гогенов и бежит из Парижа в землю обетованную, оседает близ Флоренции. На голые стены Гертруда тут же вешает кубистские полотна Пикассо, Жоржа Брака и Хуана Гриса, написанные в 1912 и 1913 годах. А место Лео Стайна на вечерах субботнего салона занимает Алиса Токлас. Брат с сестрой, общими усилиями которых возникла самая значительная коллекция современного искусства, какая только собиралась за столь короткое время, больше не сказали друг другу ни слова. Лео не раз шлет из Флоренции предложения перемирия. Но Гертруда игнорирует их. Спустя какое-то время она пытается переработать этот разрыв тем образом, каким интеллигенция обычно пытается со всем справиться. Она пишет об этом книгу. И называет ее «Двое: Гертруда и брат». Она уверена, что черным по белому доказала ею свою самодостаточность. Но, конечно, тем самым она прежде всего доказала, что так и не справилась с расставанием с братом.
В июньском номере «Нойе Рундшау» выходит текст двадцатипятилетнего последователя Манна – Бруно Франка. Тема: «Томас Манн – мысли на „Смерть в Венеции“». Прекрасной подробной интерпретации новеллы сопутствует ужасающая диагностика современности: «Когда еще существовала метафизика, быть героем оказывалось недостаточно. Но теперь, когда под ногами лишь бесчувственный грунт, а над головой пустое небо, когда от веры осталось лишь томление по ней, когда мы ничем не связаны и брошены самим себе, как, вероятно, ни одно поколение до нас не было, – в этот самый момент появляется Томас Манн: этот поэт отважно и бодро врывается в мир, лишенный божеств». Что ж. Густав фон Ашенбах в роли последней геройской смерти в эпоху модерна.
16 июня этот бодрый отважный поэт вместе с женой Катей, только вернувшейся с очередного лечения, отправляется на трехнедельные каникулы в Виареджо на тосканском побережье. Там, в отеле «Регина», он откладывает «Феликса Круля», над которым усердно бьется, в сторону и берется за «Волшебную гору», что, как ему казалось, не удалось в Бад-Тёльце. Лишь на море взору открыты и душа, и горы на горизонте.
Июль
Отпуск! Эгон Шиле и Франц Фердинанд, австрийский престолонаследник, играют в железную дорогу. Прусские офицеры голышом купаются в водохранилище Сакровер. Франк Ведекинд едет в Рим, а Ловис Коринт и Кете Кольвиц – в Тироль (но в разные гостиницы). Альма Малер бежит в Мариенбад, потому что Оскар Кокошка объявил о помолвке. В поисках утешения тот пьет с Георгом Траклем. Постоянно идет дождь. Все сходят с ума в своих гостиничных номерах. Но как бы то ни было: Матисс приносит Пикассо букет цветов.
Генрих Кюн. Четверо детей Кюна, 1912/13 (Австрийская национальная библиотека, Венский фотоархив).
10 июля в Долине Смерти в Калифорнии задокументирован температурный рекорд: 56,7 градусов. 10 июля в Германии идет дождь. Столбик термометра едва доходит до 11 градусов тепла.
В этом июле в Бонне крепнет дружба между Августом Маке и его юным поклонником Максом Эрнстом. Маке даже использует тетрадь Эрнста с парой записанных лекций в качестве альбома для эскизов; вместе они устраивают выставку «Рейнских экспрессионистов», которую из-за отсутствия подходящей галереи открывают 10 июля в боннском книжном магазине Когена. Из окна магазина на втором этаже свешивается огромный плакат, расписанный участниками выставки. Макс Эрнст успел позаботиться и о необходимом эхе: под вымышленным именем он пишет рецензию в боннский «Фольксмунд», нахваливая в ней искусство своего друга Маке, чьи абстракции «одной только формою выражают психические состояния». Так в 1913 году все повсеместно борются за бессознательное.
Психологизм, трансцендентность витают в воздухе. Итальянец Джорджо де Кирико рисует в 1913 году свой первый настоящий «метафизический пейзаж», как называет его Гийом Аполлинер. Он носит название «Итальянская площадь» и изображает – пустоту.
Если знать, что де Кирико долгое время учился в Мюнхене, то в желтом цвете домов и ширине улиц чувствуешь, что вся метафизика в искусстве этого причудливого, рожденного в Греции итальянца, является делом сугубо мюнхенским. Так, классицистическая архитектура Лео фон Кленце между Придворным садом и площадью Виттельсбах оказалась в 1913 году в самой гуще модерна. Бёклин и Клингер были для де Кирико художественными отцами, Шопенгауэр и Ницше – духовными, и для постижения одиночества одинокого человека они де Кирико больше не нужны. Ибо в бессмысленность нового столетия неминуемо втягивается сам зритель. Или, как скажет сам де Кирико: «Современные философы и поэты освободили искусство. Ницше и Шопенгауэр первыми научили глубокому значению не-смысла жизни и как этот не-смысл можно превратить в искусство. Хорошие новые художники суть философы, преодолевшие философию». Поэтому де Кирико выводит перспективу, точку опоры, ad absurdum[29]. И быстро завоевывает уважение в Париже, Берлине и Милане – как фигура, на которую можно опереться на все более шатком фундаменте.
С 16 июля Эгон Шиле проводит отпуск у своего мецената и покровителя Артура Рёслера в доме семейства Гайг в Альтмюнстере на Траунском озере. В длинном письме он сообщил о намерении приехать: или 3-го, или 4-го, или 5-го, или 6-го. Но не приезжает. Встречавший его хозяин возвращается с вокзала к себе домой и, успев замерзнуть во время получасовой дороги, пьет чай с ромом, потом ром с чаем. На улице льет как из ведра. Наконец, Шиле стучится в дверь террасы – он приехал в другое время и с другого направления. И не один, а с Валли Нойциль, которая сегодня нам известна по великолепной акварели «Валли в красной блузе с поднятыми коленями» – но тогда ее не знал никто.
Завтра утром надобно забрать с вокзала багаж. Рёслер: а что в багаже? Шиле: да самое необходимое. В итоге с вокзала забирают: немного одежды, битые глиняные кувшины, глазурованные красками крестьянские чашки, увесистые фолианты, альбомы по искусству, деревянные куклы, обломки пней, принадлежности для живописи и рисунка, распятие. Все это Шиле размещает в комнате – для вдохновения, чтобы работать. И не работает потом ни минуты. С большей охотой он проводит время на восхитительной природе Зальцкаммергута. Наслаждается обществом своей подруги и обслуживанием персонала Рёслера. Хозяин лелеял надежду, что Шиле будет рисовать, и он сможет использовать одну из картин в интерьере гостиной своей летней резиденции. Но Шиле просто-напросто не рисует. Одним утром Рёслер входит в комнату Шиле и застает того на полу пускающим по кругу игрушечный паровозик на стальных рессорах. Шиле меняет пути, прицепляет, отцепляет, сочно имитируя каждый звук. Он в совершенстве подражает свисту локомотива, сцеплениям, маневрам, скрипу и лязгу. Он упрашивает Рёслера присоединиться. Ведь кто-то должен читать оповещения на крохотном вокзале.
Лондонская «Таймс» сообщает, что австро-венгерский престолонаследник Франц Фердинанд капризно уединился в богемском замке Конопиште и лежит там на полу в детской. Каждому гостю он велит лечь на пол и помогать ему прокладывать новые рельсы. Говорят, император тайком приставил к нему психиатров под видом лакеев, чтобы те незаметно за ним приглядывали. Франц Фердинанд все лето прячется у себя в замке, он хочет быть как можно дальше от Вены: странного старого императора и в первую очередь начальника Генерального штаба, Конрада фон Хётцендорфа, который все время пытается нанести превентивный удар по Сербии.
Франц Фердинанд больше не может выносить и издевательств со стороны двора. Там все были против его связи с графиней Софией Хотек, потому что та была ниже его достоинства и, естественно, сословия. Двор дал добро, лишь когда женщина и дети отказались от любых притязаний. Так София была обречена на существование в тени: она хоть и подарила Францу Фердинанду троих детей, в Вене ее избегали – ей даже не дозволялось сидеть рядом с мужем в императорской ложе Бургтеатра или оперы. Дозволялись ей совместные прогулки вокруг замка Конопиште. Их любимый совместный маршрут он поэтому вскоре переименовал в «Верхний Крестный путь». С женой и тремя детьми Франц Фердинанд испытывал, очевидно, то, что принято называть счастьем. Раз в Вене он, по сути, не нужен, то эрцгерцог, слывущий в столице вспыльчивым неконтролируемым тираном, позволяет себе быть любящим мужем и отцом. Часами он играет с детьми в садах богемского замка, и нет ему большей радости, чем дети, которые знают названия всех цветов, по-летнему пышно распустившихся над самшитовым бордюром. По соседству, в замке Яновиц, скорбит Сидони Надерни.
Пикассо был тяжело болен. Но 22 июля Ева Гуэль пишет Гертруде Стайн: «Пабло идет на поправку. Каждый день он встает после полудня. Анри Матисс каждый раз заходит справиться о нем. Сегодня он зашел передать ему цветы и до вечера пробыл у нас». Как чудесно и утешительно представлять себе, что один из двух главных художников эпохи навещает второго и приносит ему букет цветов. Неудивительно, что пару дней спустя Пикассо выздоровел окончательно.
Роберт Музиль не страдает тяжелым заболеванием, но берет больничный – не для того, чтобы отлынивать от библиотекарской службы в Венском техническом университете, а чтобы было время писать. Поэтому 28 июля доктор Пецль составляет для Музиля, который уже полгода лечится у него от «тяжелой неврастении» (мы помним), новое заключение. Пецль пишет: «Высокая степень непреходящего нервного истощения требует отдыха более продолжительного, нежели предполагалось изначально; с невропатологической точки зрения пациенту в обязательном порядке необходимо приостановить профессиональную деятельность минимум на шесть месяцев». И Музиль, ссылаясь на медзаключение, просит «отпуск продолжительностью в шесть месяцев». Университет направляет его к окружному врачу, и некто доктор Бланка постановляет: «Он страдает общей неврастенией тяжелой степени с осложнением на сердце (невроз сердца)». Неврастения с осложнением на сердце – недуг модерна лучше не сформулировать.
Граф Гарри Кесслер в конце июня отправился из Парижа в Берлин принять участие в крупных военных сборах старых сослуживцев в Потсдаме. Большой эстет безропотно смирился с такой необходимостью. Он любил жизнь в офицерском клубе и знатном офицерском корпусе в Потсдаме, званые вечера и ужины, сопровождавшие военные учения. Вот как получилось, что в июле он гостит у принцессы Штольберг в Потсдаме, которая, однако, признается ему, что она, «выросшая в окруженном лесами замке», к сожалению, все еще не способна различать прусские мундиры. «Я сказал: но ведь определенно ей не составит труда отличить гусара от гардекора. Да, сказала она, но ведь так чудовищно сложно различить генерала и унтер-офицера». Так Кесслер без обиняков и пишет, чтобы мы могли понять, как возмутительно, что в Пруссии anno 1913 действительно еще имелась принцесса, не способная отличить генерала от унтер-офицера.
Некоторые из тех, кто весьма хорошо осознает, в чем их отличия по духу, морали и обмундированию, выехали с Кесслером 25 июля, когда наконец-то прекратился дождь, на водохранилище Сакровер. Точнее: господа майор граф Фридрих фон Клинковстрём, с 1905 года в 3-м гвардейском уланском полку, 1884 года рождения; лейтенант Тило фон Тротта, 1882 года рождения, оттуда же; и ротмистр барон Эберхард фон Эзебек. «Прибыв на место – одинокий, огражденный лесом луг, где мы хотели купаться, пред нами из озера и камышей поднялся вдруг Крозиг, в чем мать родила». Граф Фридель фон Крозиг потом еще нагишом бегал по лугу наперегонки с господами. «Наискосок, на другом берегу, бледная фигура, которая тоже купалась». Бледная фигура. Кто это мог быть? Принцесса Штольберг, задумавшая обследовать различия между генералами и унтер-офицерами? Аста Нильсен, в перерыве между съемками в Бабельсберге?
Мужские фантазии, часть вторая: два видения от путешествия поездом. Освальд Шпенглер, старый шовинист, отнюдь не в отпуске – он размышляет над закатом Европы и над всеми этими женщинами повсюду. «Интеллектуальный контакт с женщиной мне выносим лишь в малых дозах. Даже если девушка ограниченна, как какая-нибудь феминистка, или безвкусна, как какая-нибудь рисовальщица». Он опять сидит дома в мюнхенской квартире, и она ему отвратительна, в первую очередь мебелью: «Всякая мебель должна выдерживать строгость, с какой мы оцениваем Моне или ренессансное здание. Старая мебель ее выдерживает. Глядя на новую, кажется, будто дилетант упражнял на эскизах пальцы». Затем он вспоминает, как ехал на поезде, и добавляет: «Единственное, в чем эти выжившие из ума стилетворцы не дали волю своему „умению“, так это локомотивы и проч.». Готфрид Бенн этим летом тоже едет поездом. И женщины в купе у него тоже вызывают всплеск тестостерона. О своих переживаниях в экспрессе между Берлином и Балтийским морем он пишет в маленькую записную книжку – эти великие строки: «Нагая плоть / С загаром до зубов». И затем: «Мужской загар сидит верхом на женском: / Разовые пересыпы разнообразны. / А приятные – подлежат повтору. / Но потом! Какое одиночество!» [30] Стало быть, Бенн, как и Шпенглер, выносит женщин лишь в малых дозах. После них и он рад спуститься в подвал одиночества.
Император Франц Иосиф ищет «одиночества вдвоем». Взяв под ручку госпожу Катарину Шратт, он идет по раскинувшемуся парку Бад-Ишля, своего давнего места отдыха. Госпожа Катарина Шратт – тоже его давняя спутница: они знакомы с тех самых пор, когда еще была жива Сисси.
И все же (и такова его воля) ей нельзя приходиться ему любовницей, – только спутницей. Разделенные тридцатью годами разницы в возрасте, они вместе коротают дни. Но ночью кайзер хочет быть один. Зато с утра пораньше, около семи, он покидает императорскую виллу и идет на другую сторону к госпоже Шратт, на ее виллу «Феличита», где они вместе выпивают по чашечке кофе. Затем он смешивается с отдыхающими на курорте. Чаще всего его не узнают – без орденов и охраны он больше похож на старого угрюмого офицера на пенсии. Он очень хочет быть обычным. Но вот незадача – он император. Приходится с этим мириться. И все же госпоже Шратт он пишет письма прелестнейшей повседневности. Ах, сетует он однажды, как же заболели мои мозоли, когда пришлось на банкете встать, чтобы произнести тост за короля Болгарии.
У болгарского короля в это время совсем другие заботы: 3 июля между Сербией и Болгарией разгорается спор за территории Македонии. Сербия объявляет войну – и турки, греки и румыны также выступают против Болгарии. Вторая Балканская война началась. К императору в Бад-Ишль неустанно летят депеши. Но он не хочет, чтобы эти дебоширы на Балканах тревожили его покой. Он идет к госпоже Шратт выпить чаю.
13 июля Фрейд с любимой дочерью Анной отправляется в Мариенбад отдохнуть и набраться сил к большому сражению. К IV Международному конгрессу психоаналитиков в Мюнхене в начале сентября, где ему предстоит вновь встретиться лицом к лицу с К.Г. Юнгом и прочими цюрихскими предателями. Мариенбад Фрейду, естественно, нисколько не помогает. Ни от ревматизма в правой руке, ни от депрессии. Он пишет: «Практически не могу ничего писать. Время мы здесь провели скверно, было холодно и сыро».
В конце июля Рильке наведывается в Берлин и видит там в музее обнаруженную давеча голову статуи Аменхотепа: «Настоящее чудо, я тебе расскажу», сообщает он взволнованно Лу Андреас-Саломе. Это находки с раскопок в Тель эль-Амарне из финансированной Джеймсом Саймоном экспедиции. Красота скульптур накрывает весь город волной египетской лихорадки. «Берлинер Тагеблатт» взволнованно пишет об Аменхотепе: «Модернист в самом смелом смысле слова». Авангарду советуют: «Футуристы, склоните голову!» Эльза Ласкер-Шюлер приходит в музей, преклоняет от восторга колени, ее образы царевича Юсуфа скоро будут нести в себе черты Аменхотепа IV, именуемого также Эхнатоном. А самое главное чудо, голову Нефертити, его супруги, еще даже не доставали из музейного подвала. Археологическая экспедиция решила пока не выставлять самый прекрасный экспонат. Устроители выставки подозревают, что Египет не замедлил бы заявить претензии, если бы разом увидел все, что было тогда, в январе 1913 года, вывезено из страны. Поэтому Нефертити покоится на складе.
Кто пролежал под египетской землей тысячу лет, тот потерпит еще пару – тогда весь мир падет к его ногам.
Итак, июль, все отдыхают. Рильке в египетской лихорадке, у него есть немножко денег, и заняться ему нечем. Следовательно, можно сказать, что «вполне естественно» у него возникает желание устроить себе в августе пару дней отпуска на море. Но человеку, которому изо дня в день приходится оправдываться перед всеми своими меценатшами и своим Сверх-Я за собственную холеную праздность, «отпуск» кажется дурным словом. Поэтому можно понять, что Рильке в итоге кажется «легкомысленным» (!) ехать в августе на побережье. Он оставляет Лу в Гёттингене и тут же пишет ей из Лейпцига: «Меня посетила легкомысленная идея: отправиться отсюда в конце недели к морю дней на восемь (Хайлигендамм, где Ностицы). Буковые леса там, говорят, прекрасны, и всей душой меня нежданно потянуло на море. Вполне возможно, поеду».
Франк Ведекинд в Риме, там 8 июля он заканчивает своего «Самсона», которого начал 26 января. В Рим он уехал с целью побыть одному и отдохнуть от неурядиц в связи с запретом своей пьесы «Лулу». Нимфоманка, разрушающая мир мужчин – так же нельзя. Но Ведекинд подозревает, что своей «Лулу» создал новую героиню двадцатого века. Героями прошлого он утешает себя перед лицом бесславия настоящего и читает в Риме «Итальянское путешествие» Гёте, «Культуру Ренессанса в Италии» Буркхардта, осматривает Сикстинскую капеллу. Органы цензуры в Мюнхене терли бы от удивления глаза, увидев столь буржуазные амбиции этого смутьяна. Так, он пишет жене Тилли Ведекинд: «Самое прекрасное, что мне до сих пор удалось здесь пережить, была прогулка по руинам Монте-Палатино». Но тут же предупреждает: дескать, Рим – абсолютно сонное царство, ни театров, ни варьете. «Для моих целей не могу вообразить себе ничего лучше Рима. Если же мы хотим доставить удовольствие нам обоим, то лучше было бы отправиться в Париж». Ибо надо, находясь непременно в Риме, пояснить раз и навсегда: «Париж – самый красивый город в мире, затем идет Рим, а сразу после него – Мюнхен».
Ловис Коринт сидит на вилле «Лунный Свет» в Тироде, с детьми, женой и матерью. Он еще не совсем оправился после удара, но здесь, в Санкт-Ульрихе в Грёднертале, медленно, но верно идет на поправку. Дождь так разошелся, что рисовать на природе практически невозможно. Поэтому членам семьи приходится позировать для портрета. Сначала он рисует себя, в типичном местном наряде: льняной тужурке и шляпе с пером (вот он уже и прежний радостный брюзга). Затем жену Шарлотту, также в образе тирольки. Краску он кладет на холст толстым слоем, будто демонстрируя, что вернулся к жизни. А если мир за окном погружается в дождь и туман, то цветом костюмов он наверстывает в своем искусстве сияние красного с зеленым. Сын Томас не хочет, чтобы его рисовали, ему холодно, и скоро грипп сваливает его в кроватку пансиона.
Утреннюю почту Коринт принимает «как манну небесную». Почти все письма об одном и том же: Берлинский сецессион обрастает скандалами, с тех пор как председателем был выбран торговец Пауль Кассирер. Из следующей выставки он исключил всех из тринадцати художников, его не выбравших, что вылилось в большую ссору. Объединение теперь хоть и принадлежит оставшимся сецессионистам вокруг Коринта, но вот акционерное общество, которое владеет выставочным домом на Курфюрстендам, 208/09, контролируют Кассирер и Либерман. Так что объединению вокруг Коринта приходится построить новое здание, чтобы вновь обрести пространство и признание. Когда Коринт узнает из писем, что строить его будет Петер Беренс, архитектор и дизайнер, проектирующий дома, лампы и столы для AEG, то признается, что хоть и не любит его, но чувствует возможную выгоду в плане имиджа, потому что Беренс «модернистский». Но на самом деле здесь, в Тироле, где без конца льет дождь, ему не до всех этих розней на далекой родине. Он думает «с ужасом о Берлине» и дни напролет читает «Туннель» Бернгарда Келлермана, тот самый научно-фантастический бестселлер года, описывающий подземное соединение между Европой и американским континентом. Коринт сочиняет к этому самую краткую и самую точную рецензию: «Хорошая книга, тоже хочу в Америку». Но все напрасно: в конце августа пора обратно в Берлин.
Кете Кольвиц с мужем Карлом тоже в Тироле: постоянно какие-то ссоры, дождь льет как из ведра, они не могут выбраться на спасительную природу, просиживают в своих пансионатских креслах и глубоко несчастливы друг с другом. После летних каникул она впадает в «большую депрессию». Ее посещают мысли о самоубийстве, жизнь и собственное художественное творчество приводят ее в отчаяние, она недовольна своими первыми пробами в скульптуре. И потом она спрашивает у своего дневника: «Я и Карл?» Ответ: «Такой уж безумной любви я не познала».
Карл больше ей не интересен. «Всегда одинаков, знаешь каждый его нюанс – такое не разбередит чувств. Нужна пища совсем иного рода, чтобы проснулся большой аппетит». Так Кете Кольвиц летом 1913 года признается в своем томлении и выкликивает свободу. Она ищет утешения у Стриндберга, без конца читает его драмы: дикая ненависть полов, просиживание бок о бок; это помогает ей, она чувствует, что не одна такая. Она рассказывает об этом сыну, говорит, что Стриндберг пишет о том, как пары себя «терзают, ненавидят». Кольвиц угрюмо сидит у окна, вглядываясь в дождь, и записывает в дневник: «Лето проходит, а я его даже не ощущаю».
В Вене Оскар Кокошка объявил о помолвке с Альмой Малер. Свадьба назначена на 19 июля, в ратуше Дёблинга, в районе, где живут родители невесты. Он ходил на Хоэ-Варте к Карлу Моллю просить руки Альмы. Тот не возражает. Но когда Альма 4 июля узнает о планах Оскара, она впадает в панику, собирает чемодан и думает сбежать в Мариенбад. Кокошка устремляется за ней следом, застает ее на вокзале, кричит, весь сотрясается, ей приходится еще раз открыть окно, Кокошка втискивает ей автопортрет в купе, наказывает повесить его в номере гостиницы, чтобы отогнать других мужчин. И едва та уехала, он посылает ей первое письмо вдогонку: «Прошу, моя Альмили, не смотри ни на кого, мужчины там будут без конца пялиться». И затем: «И почему ты смеялась, как я сказал: выздоравливай! Я так хотел тебя спросить, но ты уж уехала». И правда, почему она засмеялась?
Вероятно, в те редкие светлые моменты их отношений (которые были самыми темными) Альма чувствовала, что вместе они не могли выздороветь, так как были больны от любви. Или как Кокошка два дня спустя напишет в очередном письме: «Мне неловко от мысли, что к тебе прикасается какой-нибудь мерзостный врач, что горничная видит тебя в неполном туалете или даже еще в постели и так далее». Она терпит все эти письма, может даже, получает от них удовольствие, однако пишет ему из Франценсбада, что вернется, лишь когда будет готов его шедевр. Она пишет, что он стал «тряпкой» и – «оеврейчился», это тоже. Кокошка в гневе срывается во Франценсбад: когда он приезжает в гостиницу, Альмы там нет. И над постелью не висит его портрет, как он ей наказывал. Когда она возвращается с прогулки, в номере поднимается ураган. Кокошка ругается на Альму, барабанит кулаками по постели и уносится ближайшим поездом назад, в Вену. Дата свадьбы проходит. И когда запах пота Кокошки еще не успел выветриться из ее номера, Альма, безупречный тактик, пишет в Берлин. Она хотела бы знать, какими шансами она еще располагает у Вальтера Гропиуса, серьезного и строгого бывшего любовника, который в разочаровании капитулировал, увидев на выставке Сецессиона двойной портрет Альмы и Кокошки. И вот ему Альма пишет 26 июля: «Возможно, я выйду замуж: за близкого нам Оскара Кокошку, но с тобой я останусь связана навеки. Напиши мне, жив ли ты и стоит ли того эта жизнь».
Кокошка еще не подозревает, что Альма давно закинула новую удочку. В Вене он еще рисует в борьбе за свою жизнь. Но тоже задает себе вопрос, стоит ли того эта жизнь. Он сидит за двойным автопортретом перед огромным холстом. Он сидит за своим шедевром. Возможно, от отчаяния его удерживает лишь один посетитель в этом венском июле. Потому что по сравнению с Георгом Траклем, душевное состояние Кокошки еще относительно сносно. Тракль живет преимущественно в Вене, на Штифтсгассе, 27, в перерыве между алкогольным и наркотическим дурманом он поступил на неоплачиваемую должность в Вене – не куда-нибудь, а в расчетный центр Военного министерства.
Профессии для Георга Тракля абсурдней не найти. Он и выдерживает там только пару дней. Но и в этот период, едва рабочий день закончен, он укрывается в мастерской Кокошки. Тот стоит перед холстом, беспокойно раскачиваясь, погруженный в дикие фантазии о неверности Альмы, с сигаретой во рту и с красками на ладони, рисуя кисточкой и правым указательным пальцем. Позади него на пивной бочке сидит Тракль и часами катается на ней вперед-назад, вперед-назад. Любого другого это свело бы с ума. Но Кокошку, и без того безумного, – успокаивает. Время от времени из закутка Тракля доносится глухое бормотание – тот начинает читать свои стихи, говорит о воронах, проклятии, гниении, гибели, в отчаянном крике зовет свою сестру, затем вновь погружается в вечное молчание и молча перекатывается вперед-назад, вперед-назад. Тракль приходит к Кокошке каждый день, когда тот рисует двойной портрет. И это Тракль дает картине название: «Невеста ветра». В стихотворении Тракля «Ночь», возникшем в эти венские дни, есть такие слова: «Вокруг золотые огни / Зажег человек. / По черным утесам / Летит опьяненная смертью / Шальная невеста ветра» [31]. Так невеста ветра Альма вспыхивает огнем в мастерской и на мольберте, но в реальной жизни она начинает остывать. Или, может даже, наоборот: именно потому, что Кокошка воспаленными нервами чувствовал, что Альма от него ускользает, отдаляется, именно потому, что их симбиотическая любовь познала горький осадок, – он вообще в состоянии нарисовать их портрет, который станет искусством, а не доказательством любви. Лишь назвав Альму «невестой ветра», лишь придав своей невесте быстротечность и беглость ветра, – он способен создать ее портрет. На «невесте ветра» нельзя жениться. Ее можно только нарисовать.
Макс Либерман рисует портрет Петера Беренса. Великий дизайнерский гений своей эпохи похож на нем на солидного радушного адвоката.
Август
Это – лето целого века? В любом случае, это месяц, в котором с Зигмундом Фрейдом случается обморок, а Эрнст Людвиг Кирхнер счастлив. Император Франц Иосиф отправляется на охоту, а Эрнст Юнгер в зимнем пальто часами сидит в жаркой теплице. «Человек без свойств» Музиля начинается с ложной информации. Георг Тракль пытается провести отпуск в Венеции. Шницлер тоже. Райнер Мария Рильке в Хайлигендамме принимает у себя даму. Пикассо и Матисс решают прокатиться верхом. Франц Марк получает в подарок ручную косулю. Никто не работает.
Георг Тракль на Лидо в Венеции (Университет Инсбрука: Исследовательский институт, архив Бреннер).
В Хайлигендамме на террасе отеля Рильке медленно стягивает темно-серые перчатки и вяло берет руку Хелены фон Ностиц, попивающей рядом с ним мокку[32], в свои. Она смотрит в его глаза, эти мягкие синие глаза, глубина которых заставляли женщин забывать об остальном его лице. Рильке как раз был в Геттингене у Лу Андреас-Саломе, когда к нему пришло письмо от Хелены, просившей его приехать. К удивлению всех задействованных лиц, связанных тесным, необозримым сплетением симпатии и ревности, Рильке отвечает согласием. Из Геттингена, когда Лу однажды прилегла, устав вместе с ним молчать, говорить, спорить, вздыхать, читать и снова молчать, Рильке пишет, что у него появилась «сильная потребность в морском бризе». Но, прибыв в Хайлигендамм, Рильке оказывается в эпицентре лошадиных скачек: ипподром на маленьком холме между Хайлигендаммом и Бад-Добераном приглашает на большое традиционное дерби. Гостиница в Хайлигендамме переполнена городской светской публикой и толстыми владельцами конных заводов, животы которых всякий раз при вставании грозят разорвать камзолы. Всюду коневозки, женщины в огромных шляпах, все хлопочут по делам, обсуждают ставки, ходит слух, что Беппо нынче фаворит. Ошарашенный Рильке просит у администратора бумагу для письма.
Он подумывает, как пишет он в спешке Хелене фон Ностиц, снова уехать, самое позднее через полчаса. Когда посыльный передает ей в номер письмо, она как раз спорит с мужем по поводу того, зачем пригласила этого поэта. Она пробегает глазами жалобы Рильке, быстро одевается и спешит к нему, находит его в курзале, одетого в белый летний костюм, но в первую очередь «бледного и потухшего». На улице бушуют облака и нагромождаются в неистовое черное нагорье. Мощный ветер задувает с моря, дамы придерживают шляпы, с высоких буков срываются первые поблекшие листья.
Хелена фон Ностиц берет Рильке под руку и энергичным шагом ведет его из курзала, затем по маленькой тропинке мимо новых коттеджей, приветствуют справа, приветствуют слева, все идут, слегка наклонившись против штурмового ветра, и вот уже Хелена и Райнер дошли до букового леса. Они идут дальше, ветер начинает стихать. Позади, над Брунсгауптеном, солнце пробивается из-под облаков и окунает побережье в играющий бликами свет. Буковые деревья здесь величаво вздымаются ввысь над Балтийским морем, соленый ветер отполировал их стволы и ввинтил кроны в небо. Хоть им уже много десятков лет, они все еще кажутся такими невинными. И как им это удается? Рильке чудится, что он бродит меж гигантских ходулей. Деревья, влекущие взгляд в высоту, прочь от земных обомшелостей и пеньков. Он опирается о ствол, глубоко дышит. Хелена фон Ностиц смотрит на него ободряюще, но он видит только синее море, просвечивающее между стволами буков, кое-где вдруг мелькнет пенистый гребень, а в остальном – синева, синева, синева.
Позже, придя в себя, он садится писать Лу Андреас-Саломе: «Здесь старейший морской курорт Германии, вызывающий симпатию своим лесом на море и клиентурой, по сути ограничивающейся местным дворянством». На удивление прохладное письмо, с точки зрения вспыхнувших вновь отношений между Рильке и Лу, которые совсем недавно в Геттингене взялись в саду за руки, словно в знак возобновления их прежнего союза. И потом – расстались: Лу решила открыть в Геттингене психоаналитический кабинет. Рильке решил попытаться устроить себе отпуск. Но, как всегда, кажется, что на Рильке навалилась большая тяжесть, и он немного страдает, словно чтобы Лу не подумала, будто он может быть счастлив, не будучи с ней. На этом зиждутся все его тысячи и тысячи писем своим покровительницам и почитательницам. Еще пару строк пишет он в духе Бедекера о Хайлигендамме anno 1913: «У великого герцога здесь вилла; кроме того, единственное лечебное здание курорта с красивой колоннадой, гостиница и около дюжины вилл – все довольно хорошо сохранилось в добром вкусе начала девятнадцатого века. Люди приезжают из своих владений на превосходнейших упряжках, перед морем возникают чудесные, волнительные рельефы. При этом в лесах и на пляже много тишины; в общем и целом…» – тут читатель решит, что в конце у Рильке проскользнет восторженное или хотя бы положительное прилагательное, но ему, этому управляющему рисками в вопросах счастья, удается в последний момент вписаться в поворот и закончить фразу: «в общем и целом сносное местечко».
Как жаль, что и здесь он не может дать себе волю. Для Рильке, так страстно любящего кроткое несчастье, для этого первосвященника невыразимости, вероятно, сам рай оказался бы лишь «сносным местечком». Но он не может не признать: ему все больше начинает нравиться в Хайлигендамме, что связано и с тем, что погода здесь лучше, чем на остальной территории страны, ветер с моря то и дело прогоняет облака, и перед глазами Рильке на пляже разыгрываются прекраснейшие действа трепещущих платьев и импрессионистских групповых портретов. Сидеть в шезлонге, закинув ногу на ногу, читать стихи Гёте или Верфеля, юного сорвиголовы, которым он сейчас целиком поглощен, – это Рильке по душе.
Стало быть, ему все больше здесь нравится, и дело тут не в Хелене фон Ностиц, которая, как и все его женщины, на расстоянии выглядела заманчивой, а вблизи оказалась требовательной и действовала на нервы. Но он знает, как от нее сбежать, не запутавшись в корсете ее ревности, и объясняет: «Мне надо к Незнакомке, дело срочное». Господин фон Ностиц, у которого препирательства между собственной женой и этим причудливым поэтом уже бельмом на глазу стали, был, наверное, рад. И Рильке поднимается к себе в номер и старается – на полном серьезе – установить экстрасенсорный контакт со своей «незнакомкой».
С этой дамой он познакомился на сеансах у Марии фон Турн-и-Таксис в Дуино: тогда она дала ему поручение бросить ключи или кольцо с моста в реку в Толедо. А так как он и без того уже хотел наконец-то съездить в Испанию, то воспринял поручение со всей серьезностью и позволил княгине оплатить ему поездку первым классом. Беспокойный и расточительный образ жизни Рильке опирался на постоянные ассигнования определенного круга состоятельных дам: чтобы поддерживать в них настроение, с каждой он выстраивал интенсивную переписку, ежедневно рассылал сизо-голубые письма по замкам и гостиницам Центральной Европы. Он взыскует денег, понимания, расположения, супруги. Но и бежит этого – не денег, не понимания или расположения, все это он принимал с охотой. Только – женщин. Ему было удобнее держать их на нежном эпистолярном расстоянии. В этом он однозначно добился мастерства. Вот и сейчас, в Хайлигендамме, 1 августа он пишет одно из своих больших писем Сидони Надерни, которая чуть ли не задыхается в скорби по застрелившемуся брату. Пером он утирает слезы с ее души, словно расшитым платком, и советует заняться практической работой скорби: пусть сыграет Бетховена, это поможет, – «сегодня же вечером».
Затем он вновь обращается к своей экстрасенсорной связи. К сожалению, неизвестно, что «незнакомка» поручила Рильке в Хайлигендамме. В любом случае, он остается, даже когда Хелена фон Ностиц уже уехала. Но причины здесь скорее естественные, нежели сверхъестественные: он повстречал Эллен Дельп, одну из избранных дочерей Лу Андреас-Саломе, юную актрису Макса Райнхарда, отдыхающую неподалеку, в Кюлюнгсборне. Только Хелена успела сесть в поезд на Бад-Доберан, как он пишет ближе к вечеру 14 августа: «Дорогая дочерь Лу, я приехал протянуть Вам руку». И он это делает: похоже, вдали от знакомых и условностей, Рильке хватило на авантюру с Эллен Дельп без особых осложнений. После первой прогулки под высокими буками он сочинит:
За безвинными деревьями За безвинными деревьями медленно древний рок маску немую растит. Образуются складки… И что здесь прокричала птица, станет горя морщиной там, у сурового рта пророка. О, здесь двое влюбленных улыбаются, неразлучные, а за ними, над ними встают звезды судьбы грядущей, стражи ночные их. Жизни им кажется мало, позже еще проснется в тихом небесном движенье легкая чья-то фигура.[33]«Неразлучные»! Не то чтобы Рильке очень нравилось это состояние. Состояние «разлучившихся» ему больше по вкусу. Тогда нет нужды прилагать усилия – можно просто сочинять письма. Состояние в промежутке, которое обычно именуют настоящим, любовью, неопределенностью, – как раз с ним он не может справиться. Но похоже, что здесь, в Хайлигендамме, под невинными деревьями, даже он чувствует себя свободнее обычного.
В основном он читает своей «утренней Эллен» стихотворения вслух, прежде всего Франца Верфеля; они идут на пляж, Рильке тонкими пальцами перебирает мелкий песок Балтийского моря. А потом они, видимо, поднимаются к нему в номер. На следующий день Эллен посылает поэту в номер цветы. И он благодарит, чернилами на сизо-голубой бумаге: «Розы прекрасны, так прекрасны, роскошны, и как услаждают они, когда смотришь на них, твое сердце безмерно. Райнер».
В целях повышения численности войск по всей Австро-Венгрии проводятся поиски беглых призывников. Так, 22 августа полиция дает объявление о розыске: «Хиттлер (!), Адольф, до недавних пор проживал в мужском общежитии, Мельдеманнштрассе, Вена, настоящее местопребывание не установлено, розыскные действия продолжаются».
Прекрасный августовский день 1913 года. Точнее говоря: «Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем отношении к среднегодовой, к температуре самого холодного и самого теплого месяца, а также к непериодическому месячному колебанию температуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы Луны, Венеры, колец Сатурна и многие другие значительные явления соответствовали прогнозам в астрономических календарях. Водяные пары в воздухе совсем рассеялись, и влажность воздуха была невелика. Короче говоря, – и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно определит факты, – стоял прекрасный августовский день 1913 года» [34]. Этими словами Роберт Музиль начинает своего «Человека без свойств». Третий, помимо Пруста с его «Поисками утраченного времени» и Джеймса Джойса с «Улиссом», классик модернизма, впитавший взрывную силу 1913 года.
Но какая на самом деле стояла погода в эти августовские дни 1913 года в Вене? В «Нойе фрайе прессе» от 15 августа выходит подробная статья с прекрасным названием «Устойчивая непогода». В ней барон О. фон Мирбах, значащийся ассистентом Венского гидрометцентра, не может сообщить ничего утешительного: «Как и следовало ожидать, летняя погода в этом году в основном осталась верна характеру, который приняла в самом начале. Конечно, погода несколько ослабила хватку. Но это мало что значит, потому что начало лета выдалось столь из ряда вон скверным, что и остальной период, несмотря на улучшение, следует назвать скверным». То есть: не было прекрасного августовского дня 1913 года. Нет, средняя температура в Вене колебалась около 16 градусов. Это был самый холодный август всего двадцатого века. Хорошо, что в 1913 году об этом еще не знали.
Франц Марк съездил с женой в имения шурина в Гендрине в Восточной Пруссии. После дюжины картин и зарисовок лошадей Марк и сам садится в седло. Из этого августа сохранилась прекрасная фотография, на ней Марк едет верхом со своим зятем Вильгельмом. Смотрите, какая смирная лошадь сивой масти – ведь на ней сидит он, заклинатель лошадей! И как нерешительно касается он ее бедрами – благоговея перед элегантностью животного. В день отъезда Вильгельм дарит Францу Марку ручную косулю. Косуля отправляется поездом в Зиндельсдорф, переносит поездку хорошо и живет с тех пор в саду, нареченная именем Ханни (не путать с одноименной зиндельдорфской кошкой). Чтобы не было одиноко бродить перед мастерской Марка, Ханни скоро получает спутницу, косулю по имени Руфь. Без устали рисует Марк, пораженный коричневой пугливой красотой, двух животных как символы рая.
16 августа на автомобильных заводах «Форд» пущен первый конвейер. За отчетный 1913 год «Форд» выпустит 264 972 автомобиля.
Пока Альма сидела во Франценсбаде и оттягивала день свадьбы, Кокошка продолжал рисовать «Невесту ветра». Он в отчаянии взялся за черную краску, чтобы превратить всю мастерскую в гроб. Но потом возвращается Альма, они влюбляются по-новому. 22 августа, день ее рождения, они отмечают в гостинице «Тре Кроци» в Доломитовых Альпах, недалеко от Кортина-дАмпеццо На следующее утро они спозаранку отправляются в дремучий лес и на поляне обнаруживают играющих жеребцов. Несмотря на панический страх одиночества, Кокошка отсылает Альму, достает карандаши и рисует лошадей, как в дурмане. Юные лошади подходят к нему, едят у него с ладони и трутся красивыми головами о его плечи.
А чем же занят Голо Манн? Его мать Катя делает запись в своей книжке о «Юности в Германии»: «Голо теперь болтает больше Аисси. Часто он целыми днями не говорит практически ни единого разумного слова, но несет вздор один пуще другого, о разных своих друзьях, о Гофманстале и Ведекинде, о войне на Балканах, смешивая услышанное с выдумкой, так что не выдерживаешь и делаешь ему замечание… Этим летом много выступал военный оркестр, так что дети полюбили играть в дирижеров. И не описать, как смешно это делает Голо: корчит страшные рожи, извлекая мягкие пиано, – так как он никогда еще не видел настоящего капельмейстера, для меня это непостижимо». Голо, сыну Томаса Манна, четыре годика. И откуда у него это?
Каков отец, таков и сын: ius sanguinis[35], происхождение, становится в 1913 году в Германии основанием для нового права получения гражданства.
Эрнсту Юнгеру скучно на летних каникулах в Ребурге на озере Штайнхудер на родительской вилле на Брунненштрассе. В вышине шелестят кроны дубов, взгляд простирается вдаль. Но Юнгер чувствует себя запертым в этом доме с башенками и эркерами. Вся усадьба отделана темным деревом, витражи почти не пропускают свет. На дверных рамах восседает пышная резьба. В трофейной комнате нескончаемые сумерки, окна полностью разрисованы ревущим оленем и притаившейся лисой, здесь отец сиживает с друзьями, курит толстые сигары и надеется оставить весь мир за дверью. Эрнсту Юнгеру кажется, что еще немного, и он задохнется. Он лежит на своей постели наверху, под самой крышей, и перечитывает истории из экспедиций по Африке. Идет дождь. Но солнце, едва показавшись, со всей мощью лета вмиг накаляет воздух на улице. Юнгер открывает окно, родители отправились на прогулку. С плотных листьев гигантских рододендронов в саду вода еще минуту скатывается на землю. Он слышит: кап, кап, кап. В остальном – мертвая тишина в этот августовский полдень. Тогда восемнадцатилетний Эрнст спускается по темно-коричневой лестнице с широкими пролетами в гардероб и ищет в его глубине свое самое толстое зимнее пальто, драпированное мягким мехом. С полки он берет еще меховую шапку и выбирается из дома. На улице душно, 31 градус. Юнгер идет по узкой тропинке, ведущей сквозь кусты рододендронов к парникам. Здесь отец выращивает тропические растения и овощи. Юнгер открывает дверь теплицы для огурцов, на него обрушивается тяжелая жара. Он захлопывает дверь, надевает меховую шапку и шубу и садится на деревянный табурет рядом с цветочными горшками. Побеги огурцов жадно облизывают воздух зелеными языками. Два часа дня. Столбик термометра внутри парника показывает 42 градуса. Юнгер улыбается. В Африке, думает он, будет не намного жарче.
3 августа в берлинском Юнгфернхайде артист задохнулся в песке. Его искусство заключалось в том, чтобы до пяти минут быть похороненным заживо.
Однако сегодня директор художественной группы о нем забыл, потому что углубился в беседу и, к несчастью, начал откапывать его лишь десять минут спустя.
Зигмунд Фрейд 11 августа отправляется вместе с женой, невесткой и дочерью Анной из Мариенбада в Сан-Мартино-ди-Кастроцца. В этой горной деревушке в Доломитовых Альпах располагается филиал легендарного санатория доктора фон Хартунгена из Ривы.
Здесь, в горах, Фрейд хочет еще четыре недели черпать силы, до того как в начале сентября придется ехать в Мюнхен на проклятый конгресс Общества психоаналитиков. Фрейд вызвал в гостиницу своего друга Шандора Ференци – тот охотно приезжает, вместе они разрабатывают стратегию для Мюнхена. А ближе к вечеру он прогуливается с Анной: под руку они идут по прохладному лесу. На одной фотографии этого времени Анна в национальном костюме кокетливо смотрит в камеру, уверенная в себе, рядом отец, гордый, но невеселый, даже встревоженный. В горном санатории он лечит мигрень и хроническую простуду. Кристл фон Хартунген назначает Фрейду строгое воздержание от табакокурения и алкоголя и много свежего воздуха. Но прилива сил у Фрейда не наблюдается. Чем ближе Мюнхен, тем больше страх. И потом, за день до отъезда, доктор Фрейд посылает за доктором фон Хартунгеном: с ним случилась потеря сознания, и на визитной карточке он спешно просит медицинской помощи.
В начале августа, оправившись после смерти отца и собаки Фрики, Пикассо едет в Сере. Но он уже настолько знаменит, что 9 августа местная газета «Индепендант» сообщает: «Городок Сере ликует. Приехал мастер кубизма – позволить себе немного заслуженного покоя. В настоящее время в Сере вокруг него собрались художники Эрбен, Брак, Кислинг, Ашер, Пичот, Грис и скульптор Дэвидсон». Пикассо не в восторге от всей этой шумихи. В первую очередь его приводит в ужас Хуан Грис, который между тем владеет техникой кубизма почти так же хорошо, как он сам, и умеет виртуозно складывать новый мир из обломков, обоев и обрывков газет. Да еще и старый друг Рамон Пичот приезжает в Сере уговаривать Пикассо дать его последней любовнице Фернанде денег. Пикассо ненавидит подобные притязания. Начинается сущий балаган. Пикассо и Ева, которая тогда отбила его у Фернанды, в панике уезжают. «Обретать покой» они едут назад, в пульсирующий Париж, как справедливо извещает Пикассо своего арт-дилера Канвайлера в Риме. Ева и Пикассо въезжают в новую квартиру с мастерской на Шельшер, 5 на Монпарнасе.
Оттуда всего десять минут по новой железнодорожной линии до Иссиле-Мулино, где живет теперь Анри Матисс. Едва вернувшись из Сере, Пикассо с Евой выбираются за город и скачут верхом с Матиссом по летним просторам. И какое незаурядное событие: на адрес штаб-квартиры модернизма, Гертруде Стайн, дважды приходит сообщение. Сначала 29 августа от Пикассо: «Катаемся с Матиссом верхом по Кламарскому лесу». И в тот же день от Матисса: «Пикассо оказался хорошим наездником. Мы скачем вместе, чего никто не ожидал». Известие о примирении двух героев быстро сделалось главной темой на Монпарнасе и Монмартре, а стало быть – во всем мире.
«Каждый из нас проявляет страстный интерес к проблемам техники другого. Без сомнения, мы извлекли для себя много пользы из такого художественного братства», – пишет Матисс о своем бывшем сопернике. А Максу Якобу Матисс говорит: «Если бы я не делал то, что делаю, то рисовал бы как Пикассо». На что Макс Якоб ему отвечает: «Безумие какое-то, то же самое мне как раз сказал о тебе Пикассо».
Георг Тракль вне себя от ярости. Он хочет видеть сестру Гретль, но не может ее найти. Его работа в расчетном отделе Военного министерства была, конечно же, шуткой. Он больше туда не ходит, выпивает первые пять бокалов красного еще до обеда. Принимает наркотики. Его друзья, Адольф Лоос с английской женой Бесси, прописывают ему лекарство незамедлительного действия: отпуск, отдых от своего Я. Путь лежит в Венецию. 14 августа он пишет своему другу Бушбеку: «В субботу отправляюсь с Лоосом в Венецию, что в некоторой степени внушает мне необъяснимый страх». На следующий день второе письмо – в нем редкий порыв эйфории в предчувствии первого в жизни отпуска: «Дорогой! Земля круглая. В субботу я сорвусь в Венецию. И дальше – к звездам». Конечно, ничего не выходит из этого смелого предприятия. Досадной выдалась поездка, угрюмой. Хватавший звезды лишь ожегся о медузу. Даже почитаемый Карл Краус, поехавший с ним на Лидо, даже Адольф Лоос и Людвиг фон Фикер, вместе с женами окружившие его заботой, не добавляют света его настроению, которое к тому же омрачает Петер Альтенберг, также принявший участие в этом профтуре австрийской интеллигенции. Середина августа, и Георг Тракль бесцельно бродит по венецианскому Лидо. Светит солнце, вода теплая, а поэт – самый несчастный человек на свете. На одном августовском снимке он бредет неуверенной поступью по песку, волосы взъерошенные и ломкие, кожа бледная как у тритона, живущего в пещере глубоко по землей. Левая рука бутоном, губы дудочкой. Он стоит к морю спиной, чувствует себя ущербно жалким в своем купальном костюме, потерянный в тоске по дому; кажется, будто он бормочет себе стихи под нос. Ночью в гостинице он их потом запишет: «Мухи темным роем / Затмевают каменные своды, / И муками золотого дня / Полнится глава / Безродного».[36]
Венеция, этот гибнущий город, летом 1913 года неодолимо притягивает всю венскую интеллигенцию, питающую слабость ко всякого рода тлению. Так, помимо Тракля, Петера Альтенберга, Адольфа Лооса с женой и четы Фикеров, 23 августа в Венецию прибывает Артур Шницлер и его жена Ольга. Они приехали поездом из Бриони и остановились в «Гранд Отеле». На пляже они встречают ближайшего старого знакомого – Германа Бара, бородатого витязя, с женой. Уже на следующий день, после совместной прогулки в гондоле с Ольгой, Шницлер договаривается о встрече со своим издателем Самуэлем Фишером, с которым обсуждает вопросы новой публикации. Фишеры с лучшими своими друзьями отмечают в Венеции девятнадцатилетие сына Герхарта. Присутствует Рихард Бер-Хофман и актер Александр Моисси, бокалы за здравие поднимает также Герман Бар и Альтенберг. О Тракле речи не идет. К сожалению, всем нездоровится: Герхарт, именинник, исхудал и мучается температурой, а у Самуэля Фишера случилось воспаление среднего уха. Тем не менее, собравшиеся празднуют, поднимают бокалы за молодую перспективную жизнь. В конце августа Шницлеры едут обратно, без неудобств и спешки, через Санкт-Моритц и Сильс-Мариа, где 28 августа в «Лесном домике» отмечают день рождения Гёте и немножко – десятилетнюю годовщину своей свадьбы.
Не забыть бы о Кафке с невестой! Как же отреагировала Фелиция Бауэр на самое странное предложение всех времен? Озадаченно. Но даже она, весьма к тому времени опытная, не рассчитывала, что Кафка способен превзойти катастрофу своей явки с повинной, замаскированной под брачное предложение. Но Кафка пишет «Письмо отцу». Оно не стало таким знаменитым, как то, которое он написал собственному отцу. А жаль. Оно невероятно. Итак, 28 августа, в день рождения Гёте, Кафка спрашивает отца Фелиции, согласен ли тот доверить ему свою дочь. Говоря ближе к тексту, он, заламывая руки, остерегает доверять ему свою дочь: «Я молчалив, нелюдим, сварлив, своекорыстен, я ипохондрик и действительно человек болезненный. В семье своей, среди лучших, милейших людей на свете, я живу чужак чужаком. С матерью за последние годы я не сказал в среднем и двадцати слов на дню, с отцом редко обмениваюсь чем-то еще, кроме слов приветствия. С замужними сестрами и зятьями не разговариваю вовсе, хотя нисколько ни на кого из них не обижен. Жизнь в семье не вызывает во мне никакого сопричастного отклика. Разве подле такого человека сумеет жить Ваша дочь, всей своей натурой здоровой, жизнерадостной девушки прямо-таки созданная для подлинного супружеского счастья? Это ей-то выносить тяготы почти монастырского заточения подле человека, который хоть и любит ее так, как он никого больше полюбить не сможет, но который в силу неодолимости своего призвания большую часть времени торчит у себя в комнате или в одиночестве бродит по округе?»
Замужество как удар судьбы. На эту тему периодическое издание «Садовая беседка» сообщает в 21-м номере: «В некоторых местностях нашей родины существует еще прекрасный, но в остальном позабытый уже обычай. Согласно нему, невеста, отправляясь на венчание, в последний раз девушкой переступает порог отчего дома и получает от матери полотняный платок. Этот платок невеста держит в руке во время торжественной церемонии, чтобы осушать им подвенечные слезы. В свадебный вечер молодая жена убирает платочек в комод, и там он хранится – не зная применения и стирки, – пока не накроет собой застывший в смерти лик своей хозяйки и не последует за ней в могилу. Платочек этот зовется слезным».
Так написано в «Садовой беседке». Словно короткий рассказ Франца Кафки.
Марсель Дюшан едет с восемнадцатилетней сестрой Ивонной в Англию: в Херн-Бэй на Северном побережье Кента она учит английский в языковой школе. Дюшан только и занят, что отпуском, и пишет: «Отличная погода. Как можно больше тенниса. Пара французов, и английский учить мне надобности нет никакой». Заниматься искусством его все еще не тянет.
Макс Либерман, как и каждый год, отправился в конце августа на голландское побережье Северного моря. На этот раз он остановился в фешенебельной гостинице «Хайс Тер Дайн» на берегу моря. Но ему невдомек, зачем отдыхать. Он хочет только рисовать. В дюнах морского курорта он снова рисует охотников, наездников в воде, дамочек, играющих в теннис. Небо на этих картинах лета 1913 года всегда серое, но Либермана это меньше всего смущает – с серым так хорошо контрастирует белизна одежд и песочный беж.
18 августа он пишет своему другу и меценату Альфреду Лихтварку в Гамбург: «Уже неделю я снова здесь, где знаю каждого человека, каждый дом, практически каждое дерево, да и нарисовал уже почти все. Словно на курорт выбрался мой внутренний человек – несколько недель я пробуду здесь в одиночестве». День за днем он берет краски и мольберт и покидает пределы курорта. Сегодня он хочет вместе с Паулем Кассирером, своим другом, арт-дилером и тогдашним председателем Берлинского сецессиона, посетить одного табачного магната в его летнем доме в Нордвейке. Вернее: его псарню. Состоящий у магната на службе егерь открывает хижину, и тут же появляются восемь небольших лохматых спаниелей, серых или белых, истошно тявкающих наперебой, так что их обвислые уши беспокойно болтаются из стороны в сторону. От владельца Либерман узнает, что со спаниелями превосходно охотиться на кроликов. Вместе они отправляются в дюны. Либерман берет с собой мольберт, чтобы запечатлеть охотника в сопровождении собак, а воздух уже сотрясает первый выстрел. Либерман всякий раз пугается и злится, что его модели производят столько шума. Он хочет быстренько нарисовать собак, силуэты которых обозначились на гребне дюн на фоне заходящего розоватого солнца. Потом Либерман зарисовывает, как охотник перекидывает ружье через плечо и собирает собак на привязь, но солнце уже опускается в море. Либерман вынужден бросить работу на середине. Он договаривается на следующее утро – и охотник обещает тогда не стрелять, а только позировать. Так рождается «Охотник с собаками в дюнах».
28 августа император Франц Иосиф принимает участие в облавной охоте, последней в охотничьем сезоне угодий Хохлайтена, на горе Штайнкогль близ Бад-Ишля, и подстреливает козла.
Гуго фон Гофмансталь распсиховался в письме Леопольду фон Адриану от 24 августа 1913 года: «Этот год раскрыл мне глаза на Австрию, как никогда не раскрывали мне глаза прошедшие тридцать лет. Доверие к высшему сословию, к аристократии, которое у меня было, веру в то, что именно в Австрии оно может что-то дать и значить, – я совершенно утратил. Вена во власти абсолютного сброда, самого скверного, какой только бывает – злобного, тупоумного, мерзкого мелкого бюргерства».
Новый персонаж выходит на сцену 1913 года – Генрих Кюн. Бюргерский интеллигент, родившийся в доме «К девяти музам». Благодаря пособиям от отца он живет в Инсбруке в качестве рантье и полностью посвящает себя фотографии. Кюн – рассудительный эксцентрик: он носит национальный тирольский костюм или классический английский, а поверх, когда фотографирует, просторное мятое пальто – именно последнее можно видеть на его экслибрисе, на котором и не понять, где больше складок: на пальто или на складной камере. Его окружала аура чего-то старомодного и наивного. Но именно ему удаются фотографии потрясающей современности. Полные свежести, невинности, обаяния и силы, смотрят на нас его снимки 1913 года. С одной стороны – композиция: экстремальный ракурс снизу. С другой – техника: совместными экспериментами с американским фотографом Альфредом Стиглицем он совершенствовал автохром, благодаря чему уже в эти годы у него всегда выходили превосходные цветные фотографии тирольских лугов и пастбищ. После смерти жены, встретившей его увлечение с большим скепсисом, у него были одни и те же пять моделей: четверо его детей с няней, Мэри Варнер, ставшей его партнершей. Вилла в Инсбруке превратилась в «Дом пяти муз».
В 1913 году деньги у семьи незаметно закончились, апанажи из Дрездена были растрачены, зять проиграл семейное состояние, и Генрих Кюн лихорадочно искал заработки. В Инсбруке он решает открыть государственную школу художественной фотографии – все к тому располагало. Но в августе после двух лет переговоров Кюн узнает, что соответствующее министерство не располагает средствами и отказывается подписывать документы – дескать, все деньги расходуются на военные нужды, война на Балканах, сами понимаете.
Но Кюн не отчаивается и продолжает фотографировать свой родной актерский состав, то есть детей Вальтера, Эдельтруду, Ганса и Лотту. И Мэри. На одной из фотографий этого периода, как раз видно, как Мэри юркает через горный хребет со старшей дочерью Кюна; сверху давят тяжелые облака августа. Белый – один из возможных цветов одежды, а еще синий, красный и зеленый – отец специально покупает детям «фотоодежду», подходящую под чистые оттенки трех слоев автохромной пластинки.
В репертуаре есть неизменно меланхоличный Вальтер, с никелевыми очками на носу, рано начавший рисовать; интровертная Эдельтруда, которая выглядит так, будто неимоверно страдает от всего мира, а в особенности – от своего имени; наконец, Лотта, самая жизнерадостная и сияющая из всех; и Ганс, самый маленький и терпеливый мальчуган. Генрих Кюн – любящий отец, но радикальный художник. Если кого-то из детей оказывается на снимке слишком много или кто-то нарушает строй изображения, того он жестоко заретушевывает, пусть даже не один час потратил на то, чтобы правильно разместить всех детей. В своих снимках Кюн хочет изобразить ни больше, ни меньше, но рай. Играющие дети, спящие дети, женщины в развевающихся платьях, девственная природа. «У грехопадения, – пишет он в одном письме, – двоякий лик: социал-демократия – и кубизм».
Император Франц Иосиф назначает престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда «генеральным инспектором общих вооруженных сил», расширяя тем самым его полномочия. От требуемой начальником генерального штаба, графом Францем Конрадом фон Хётцендорфом, превентивной войны с Сербией и Черногорией престолонаследник отказывается.
В Гааге в сентябре будет торжественное открытие Дворца мира, построенного на пожертвования со всего света, из них около 1,25 миллиона долларов поступили от американского мультимиллионера Эндрю Карнеги. Начинаются приготовления к новой Гаагской конференции мира, которая в 1915 году должна разрешить все открытые вопросы между народами.
«Мост» развалился, и Эрнст Людвиг Кирхнер бежит по обломкам на остров Фемарн в Балтийском море. Желание оставить позади шумный Берлин гонит его до самого юго-восточного закутка острова, в одинокий домик смотрителя маяка Лютмана, и в нем – на последний этаж в «мансарду с фронтоном», где он уже бывал прошлым летом. Маяк, пустынный пляж, восемь детей смотрителя – вот что послужит ему мотивами на это лето. На картинах видно плохую погоду, темные облака стягиваются на горизонте. Внизу на пляже кроны деревьев свешиваются в воду, почти как на тихоокеанских островах, а вверху кричит желтым цветом ракитник, который Кирхнер целыми днями рисует во всей его роскоши. На этот раз Кирхнер отправился в путешествие не только с Эрной, которая здесь зовется «госпожой Кирхнер», хоть и бегает почти все время голышом, ему также составляют компанию Отто Мюллер с женой Машкой: они рисуют друг друга во время купаний, наслаждаясь свободой и подступающей славой. Даже дети Лютманов и смотрителей маяка принимают Кирхнеров в круг семьи, полной тепла и доверия. Возможно, летние недели на Фемарне – самые счастливые дни из всех, которые довелось испытать Кирхнеру «О Штаберхук, как ты великолепен, в укромном счастье мир здесь и покой!» – кричит он ветру, снова и снова. Стиль Кирхнера достигает новых высот: женщины уже не укладываются вширь, но стремятся ввысь, к небу; мазки более нервные; стройные продолговатые фигуры, нагие Эрна и Машка на пляже доминируют на рисунках и картинах. Таким зависимым сделался он от контуров тела, жалуется он в шутку, абсолютно зависимым. Если он вдруг недоволен получившейся картиной, то в ярости швыряет ее в море – но лишь затем, чтобы броситься доставать ее из пучин, водружать обратно на мольберт и рисовать заново, лучше. То и дело на берег выбрасывает прекраснейшие брусья – годом ранее, синхронно с «Титаником», близ Фемарна опрокинулся корабль. Шхуна «Мари». Ее древесина стала частью истории искусства, потому что Кирхнер частенько доплывал до песчаной отмели, где лежал остов судна, чтобы набрать особенно красивых кусков дерева, годившихся для резьбы. 12 августа он пишет гамбургскому коллекционеру и меценату Густаву Шифлеру: «Голова, которую я Вам послал, это резьба по дереву (дуб), я сделал здесь несколько подобных фигурок». А своему ученику Гансу Гевеке он напишет в сентябре: «К сожалению, скоро возвращаться. Вы не поверите, насколько нам это тяжело. Я не знаю, когда море красивее, летом или осенью. Я рисую, сколько могу, чтобы хоть что-то увезти с собой из тысяч вещей, которые хотел бы нарисовать. К тому же дуб с осевшего на мели судна становится все более заманчивым материалом для скульптур. Надо непременно взять с собой пару необработанных кусков – время поджимает, а дни делаются все короче». Как бы ни завораживало его судно, как бы он его ни потрошил для своей работы – оно не появится ни на одном из его рисунков, гравюр или картин с Фемарна, хотя в одном только 1913 году он создал их здесь целые сотни. Выброшенный к берегам Балтийского моря корабль: перед ним воочию был классический мотив романтизма, идеальнейшая композиция в духе Каспара Давида Фридриха. Но Эрнст Людвиг Кирхнер надменно отказывает судну в каком-либо месте в своем творчестве. Едва ли найдется примета более однозначная, что в 1913 году немецкий романтизм завершился окончательно.
«Мона Лиза» все еще в числе пропавших без вести. В Лувре на осиротевший гвоздь повесили Коро.
Шокированная письмами Кафки, Фелиция Бауэр едет в августе на остров Зюльт. Бесконечные письма курсируют между ней и Прагой, приедет ли наконец-то Кафка или нет, пойдет ли ему на пользу тонизирующий климат или нет. В итоге он, конечно, не приедет. Ах, а какие бы получились дневники: Кафка в Кампене! Но – не судьба.
Сентябрь
Смерть в Венеции сотрясает Берлин. Вирджиния Вулф и Карл Шмитт хотят покончить с собой. 9 сентября положение звезд не сулит ничего доброго. Дуэль в Мюнхене: Фрейд и К. Г. Юнг скрещивают шпаги. Рильке надо к зубному врачу, поставить пломбы из амальгамы, а Карл Краус по уши влюбляется в Сидони. Кафка едет в Венецию, не умирает, но влюбляется в Риву. Стартует «Первый немецкий осенний салон», а Рудольф Штайнер закладывает первый камень в Дорнахе. У Луи Армстронга первое выступление на публике. Чарли Чаплин подписывает свой первый контракт. Остальное – молчание.
Зигмунд Фрейд с дочерью Анной (Ullstein Bild).
Герхарта, сына издателя Самуэля Фишера, день рождения которого как раз отпраздновали в Венеции и который уже там был нездоров, бледен и температурил, 9 сентября настигает «смерть в Венеции» – совсем как название крупного издательского успеха его отца в 1913 году. Срочным образом врачи доставляют его в Берлин, но там недуг уносит его жизнь: можно сказать, «итальянский недуг», так как его история болезни очень похожа на историю Густава фон Ашенбаха, героя Томаса Манна, жизнь которого уносит в Венеции тиф. И как нельзя кстати Гуго фон Гофмансталь узнает в Венеции о смерти сына издателя и 17 сентября соболезнует Самуэлю Фишеру с женой: «Там, именно там, где сильнее всего пульсирует боль, именно на самой вершине поразившей человека боли, там, кажется мне, обитает и утешение – только там, а не где-то рядом».
Смерть Герхарта – тяжелый удар для издательства «С. Фишер» и всего культурного Берлина: Герхарт был горячо любимым, нежным человеком, после продолжительных баталий с родителями он только-только встал на собственный путь в качестве студента консерватории. Устраивают пышные похороны на еврейском кладбище в Вайсензее, солнце некстати ложится на убитые горем лица. Самуэль Фишер, оглушенный болью, от потрясения теряет слух на одно ухо. Герхарт Гауптман, в честь которого назвали мальчика, будучи в пятьдесят один год на вершине славы, спешит на похороны, чтобы потом лаконично отметить в дневнике: «В три часа похороны Герхарта Фишера. В пять часов большая репетиция „Вильгельма Телля“ в костюмах: это Берлин, это жизнь».
Сильная зубная боль вынуждает Райнера Марию Рильке обратиться к врачу в берлинском Западном хосписе на Марбургерштрассе, 4. Оттуда он пишет Еве Кассирер, своей дорогой подруге и покровительнице его жены Клары, что как раз прочитал «Смерть в Венеции» Томаса Манна: «Многое в первой части меня удивило – мне кажется, прекрасно придумано; впечатление от второй части было, скорее, обратным, в результате чего я не знал, что делать со всем целым, которое где-то сложилось у меня внутри». Потом Рильке снова нужно на стоматологические процедуры. Им занимается доктор Чарльз Бедекер, немецко-американский эксперт по металлическим вкладкам: пломбами из амальгамы он пытается устранить обширные повреждения зубов.
Мюнхенская галерея «Гермес» возвращает на адрес Ловиса Коринта в Кляйн-Ниндорф на Балтийском море картину. Он нарисовал ее в июле в Тироле, когда сын пошел на поправку и его решили искупать. Называется она «Голый ребенок в ушате для мытья» – и на обратном пути Коринт сразу оставил ее в Мюнхене у антиквара Оскара Гермеса на Променаденплатц. Но тому не понравился нос няни. Поэтому 2 сентября он отправил картину на Балтийское море на косметическую операцию. Корин смотрит на картину, смотрит на нос, зовет няню, смотрит на ее нос – и исправляет нос на картине. Затем полотно отправляется назад в Мюнхен. Такие вот преимущества у галеристов современного искусства. Рекламации удовлетворяются непосредственным путем.
В сентябре, в королевской реальной гимназии Аугсбурга выходит первый номер школьной газеты «Урожай», тиражом в 40 гектографированных экземпляров. Цена составляет 15 пфеннигов. Большая часть материалов поступает от ученика шестого «А» класса по имени Бертольт Брехт. Остальные – от Бертхольда Ойгена. Ойген – третье по счету имя Брехта после Фридриха и Бертхольда и вместе с тем – псевдоним Бертольта Брехта. Под этим именем он также посылает стихотворения в «Аугсбургер нойесте нахрихтен». Там они остаются погребены под большой стопкой бумаг на столе редактора литературного отдела. Брехту пятнадцать. Мари Розе Аман двенадцать: к сожалению, они еще не знакомы, и он еще не вместе с нею, как с чистою и светлою мечтой, как напишет потом в стихотворении «Воспоминание о Мари Α.».
А в тот сентябрьский день 1913 года как с чистою и светлою мечтой Брехт направляется в кабинет директора лишь с ними – первыми экземплярами своей новой школьной газеты.
Где-то 10 сентября танцор и хореограф Вацлав Нижинский, у которого были продолжительные отношения с Дягилевым, руководителем «Русского балета», и с которым он совсем недавно еще праздновал триумф «Весны священной» Стравинского, неожиданно женится на танцовщице Ромоле де Пульской во время турне по Южной Америке. Дягилев испытывает шок и тотчас увольняет обоих.
В сентябре 1913 года рождаются Бертольд Бейц, Роберт Лембке и Ганс Фильбингер.
Марсель Дюшан, к которому все еще не вернулась охота к искусству, записывает на клочке бумаги свои мысли по вопросу, что вообще еще представляется возможным. Итак:
«Возможное.
Фигурация возможного.
(не как противополагание невозможного.
и не как имеющее отношение к правдоподобному,
и не как подчиняемое вероятностному).
Возможное есть лишь
физическая „вытравка“ [вид купороса],
которая выжигает всякую эстетику или каллистику».
20 сентября Рудольф Штайнер закладывает фундамент нового центра антропософии – Гётеанума в Дорнахе близ Базеля. На листе бумаги, который опустят в закладываемый фундамент, он пишет: «Заложено О.И.З. (Обществом Иоаннова Здания) для антропософской деятельности, 20-го дня сентября месяца 1880 года до М.Г (до Мистерии Голгофы), т. е. 1913 года от Р.Х.». Затем приводится положение звезд в этот день: «Когда Меркурий перешел в созвездие Весов вечерней звездой». Меркурий соответствует гласному «I», а Весы – звуку «СН», так что положение Меркурия в созвездии Весов образует слово «ICH» [37]. Очевидно, Рудольф Штайнер выжидал день, когда на небосводе установятся эти космические руны. Кроме того, выбор дня был не случаен, видимо, еще и потому, что именно в этот день Меркурий был вечерней звездой. Конъюнкция Солнца с Меркурием составляет отклонение в 03°26 45. (Но все тщетно: через десять лет Гётеанум сгорит.)
8 сентября в кафе «Империал» тридцатидевятилетнего Карла Крауса, издателя «Факела» и самого острого на язык автора Вены, представляют двадцатисемилетней баронессе Сидони Надерни фон Борутин, близкой подруги Рильке. Его они и принимаются обсуждать. Они говорят и говорят, завороженные друг другом. Вечер перетекает в ночь, фиакр везет их по парку Пратер, сверху сияют звезды, и Карл говорит ей: «Если бы было возможно оказаться там, куда устремлен Ваш взгляд». Затем их тянет в бар какой-то гостиницы, она рассказывает ему о смерти брата, ушедшего теперь вслед за родителями, о своей депрессии, о душевной пустыне, в которой она живет. И Карл Краус, очарованный ее красотой, взволнованный ее печалью, берет ее руку в свои. Он хочет увести ее из этой пустыни. «Он чувствует саму мою суть», – заключает Сидони после их бесед в ночном Пратере. Она даже разрешает ему погладить Бобби, своего леонбергера, касаться которого не дозволяется никому.
На день общества Odd Fellows Луи Армстронг, которому только исполнилось тринадцать, впервые выступает на публике в качестве джазового музыканта. А именно – вместе с музыкальной группой исправительного дома, название которой красовалось на большом барабане: «Municipal Boys' Home, Colored Dept. Brass Band». Ha фото группы этого года Луи гордо стоит возле барабана, рядом с ним его первый учитель Питер Дэвис, в январе подсунувший ему в руки инструмент. Сам Армстронг в старой полицейской форме. Такова была традиция Нового Орлеана: полисмены отдавали бедным подросткам свои пришедшие в негодность куртки и брюки, чтобы те могли носить их в оркестре. Группа выступает по всему городу, Армстронг с восторгом играет на своей трубе, следует за мелодиями, задает тон. Вечером, когда счастливая и уставшая группа возвращается в приют и все уже сдали свои инструменты, Луи Армстронг еще раз берет в руки трубу, вопросительно смотрит на учителя. «Ну ладно, – бурчит Питер Дэвис, – в порядке исключения». В его комнате на несколько человек тепло, остальные еще на улице, курят жаркой летней ночью и грезят об учительнице физкультуры, издалека доносятся звуки с празднования дня Odd Fellows. Армстронг снимает старую полицейскую форму. И когда муха пролетает по пустой комнате, он, сидя на кровати, пытается звуками сымитировать ее полет, он следует за ней, жужжа, прерываясь, жужжа. А когда муха найдет окно и улетит, он просто продолжит играть. И уже никогда не остановится. Луи Армстронг станет величайшим джазовым трубачом в истории.
Особый случай проявления заботы о семье: 4 сентября, в Дегерлохе, Эрнст Август Вагнер убивает жену и четверых детей, чтобы избавить их от последствий задуманной им бойни. Затем он едет на велосипеде в Штутгарт. Там он садится в поезд до Мюльгаузена, где, как только на город опустилась ночь, поджигает четыре жилых дома и ждет, пока люди не начинают выбегать на улицу, спасаясь от дыма и огня. Тогда он стреляет по спасающимся из ружья: двенадцать человек убиты, восемь тяжело ранены. В итоге его задерживает полиция. В его дальнейшие планы на эту ночь входило убить сестру с ее семьей, затем поехать в Людвигсбург, чтобы сжечь дотла замок, а самому умереть в горящей постели герцогини.
9 сентября Альберт Эйнштейн читает во Фрауэнфельде доклад перед Швейцарским обществом естествоиспытателей и объясняет свои новые положения к теории гравитации и относительности.
9 сентября около семи часов вечера первый немецкий военно-морской дирижабль LI падает в море близ острова Гельголанд, попав в смерч.
9 сентября, в день, когда умирает Герхарт Фишер и звезды явно говорят о катастрофе, два невролога обследуют тридцатиоднолетнюю Вирджинию Вулф, жалующуюся на «неспособность чувствовать». С августа, когда она сдала свой первый роман «По морю прочь», она начала так стремительно терять в весе и буквально таять на глазах, что оказалась нетранспортабельной и зависела от постоянного ухода двух медсестер. Обследование у неврологов столь унизительно, а ее ощущение бессмысленности столь велико, что спустя несколько часов после осмотра – у медсестер как раз перерыв – она пытается покончить собой с помощью снотворного веронал. Муж Леонард спасает ее в последнюю минуту, в клинике ее реанимируют.
Он посылает ее отдохнуть в Далингридж-Плейс, поместье ее сводного брата Джорджа Дакворта. Что само по себе абсурдно, так как срыв Вирджинии Вулф, очевидно, не в последнюю очередь ведет к непреодоленному домогательству к ней в детстве со стороны того самого сводного брата. Надо быть совсем слепым, чтобы не видеть этой проблемы, но, тем не менее, муж Леонард еще в сентябре пишет о своем шурине: «В юности он, должно быть, был Адонисом». Вирджиния Вулф не находит иного способа себя обезопасить, кроме как выздороветь. Она начинает снова есть, так что может осенью покинуть Далингридж-Плейс.
7 и 8 сентября в Мюнхене, в гостинице «Баварский двор», проходит IV Международный конгресс психоаналитиков. Та самая встреча, которой боялись Фрейд и Юнг с тех пор, как разорвали отношения. Напряженная атмосфера угнетает, все настороже. В первый день собралось восемьдесят семь участников, на второй день осталось лишь пятьдесят два. Когда К.Г. Юнг выдвигает свою кандидатуру на перевыборы президента, двадцать два члена общества воздерживаются от голосования. Фрейда уговорили сделать 7 сентября небольшой доклад «О проблеме выбора невроза». К.Г. Юнг читает на следующий день «К вопросу о психологических типах». Атмосфера, сообщает Фрейд, «утомительна и малоприятна», главным событием оказываются не доклады, а порядок размещения участников. «Стол Фрейда» на одной стороне, «стол Юнга» на другой, в промежутке – ледяное молчание. Фрейд (отец) и Юнг (отцеубийца) практически не смотрят друг на друга – после 8 сентября 1913 года они больше никогда не увидятся. Фрейд нарадоваться не может, когда в зале заседаний появляется Лу Андреас-Саломе, да еще и приводит с собой Райнера Марию Рильке – поэта, которого он знает только по стихам. Фрейд бросается в объятия обоих, чтобы сбежать от царящего на конгрессе настроения; едва закончился последний доклад, как все трое, не переставая говорить и даже пошучивать, уходят вместе ужинать. Лу парит над вещами, Рильке находится по ту сторону добра и зла. Фрейд, сверх-отец, великий археолог бессознательного и вытесненного, внимает каждому слову из уст Рильке. Узнав об этом, Анна, дочь Фрейда, в эйфории пишет отцу: «Ты действительно познакомился в Мюнхене с поэтом Рильке? Но как? И какой он?»
И правда, какой он? На следующий день после разговоров о бессознательном, в которые Рильке с Фрейдом углубились во время совместной прогулки, Рильке отправляется с Лу, женщиной, в преклонном возрасте лишившей его девственности, а теперь вновь ставшей ему материнской защитой, сперва к своей матери Фие, живущей в Мюнхене, а потом к Кларе и Руфи, забытой жене и забытой дочери, помочь им обустроиться в новой квартире на Трогерштрассе, 50. Затем Лу Андреас-Саломе и Рильке садятся в поезд, чтобы поехать в горы, и она анализирует его сны. Со всей серьезностью они обсуждают символические различия между фаллосом и обелиском.
Гуго фон Гофмансталь лежит в постели своего номера в «Четырех сезонах» и видит сон, в котором его дом стал тюрьмой Французской революции – «и я осознаю, что это последний день моей жизни: я приговорен к смерти». Вокруг него писари, занятые оформлением смертных приговоров. Тут появляется жена: «Но лица этого создания я никогда не видел, однако во сне оно мне было так хорошо знакомо, как может быть знакома лишь женщина, с которой прожил десять лет. Мы быстро говорим друг другу, что больше нам не обняться». Жена оставляет его с писчими, приводящими в исполнение смертный приговор. «Я чувствую, что не могу посмотреть ей вслед, отворачиваюсь от окна, через которое проникает резкий солнечный свет». Гофмансталь просыпается. Измученный, он одевается и думает оправиться ото сна прогулкой по Английскому саду. Но образы не выходят у него из головы, телу все еще кажется, что оно приговорено к смерти. Еще очень рано, в парке едва ли встретишь гуляющих. Теплое осеннее солнце сияет над деревьями. Он идет по мостику через Айсбах, как навстречу ему – и это уже не сон – движется человек, с виду напоминающий великого толкователя сновидений Зигмунда Фрейда. Это и есть Зигмунд Фрейд. Он любезно приветствует венского знакомого, интересуется самочувствием, хорошо ли тот спал, а то вид у него какой-то изможденный. «Все как нельзя лучше, уважаемый доктор», – говорит Гофмансталь. А когда из-за угла появляется Рильке, договорившийся с Фрейдом здесь о прогулке, у Гофмансталя окончательно складывается ощущение, будто он все еще грезит. Но это, как и все в этот особенный год, реальность.
В статье об оказании первой медицинской помощи венская «Нойе фрайе прессе» пишет 6 сентября 1913-го как ни в чем не бывало: «Как от качества первой перевязки на поле боя зависит судьба раненого, так и оказание первой помощи при бытовых несчастных случаях имеет решающее значение для клинического прогноза».
Клиническую картину неврастении, синдром «бёрн-аута» 1913 года, включают в одиннадцатитомный труд «Специальная патология и терапия внутренних заболеваний». К.Г. Юнгу поручают написать о неврастении, но он отказывается, потому что «я слишком мало в ней понимаю и даже вовсе в нее не верю».
В начале сентября Франц Кафка уезжает из Праги лечить отчаяние и «неврастению». Его цель – санаторий Хартунгена в Рива-дель-Гарда. Вообще-то он хотел ехать вместе с Фелицией, но ее отец еще не ответил на его брачное письмо, так что он отправляется в дорогу, потому что сначала надо в Вену, по делам. Там с 9 по 13 сентября вместе со своим начальником Кафка посещает Второй международный конгресс по спасательному делу и предотвращению несчастных случаев. Затем поездом в Триест, портовый город Австро-Венгрии на Средиземном море, в те годы переживающий неслыханный расцвет. Порт способствует неповторимому смешению народностей на улицах и в кофейнях, и это город, в котором Джеймс Джойс ведет уединенную жизнь учителя английского и день за днем сидит над материалами к «Улиссу». Итак, 14 сентября Франц Кафка и Джеймс Джойс в Триесте. Роберт Музиль в эти дни тоже здесь, по пути из Рима в Вену. Можно представить себе, как все они после обеда выпивают в порту по чашке кофе перед тем, как продолжить путь.
Кораблем Кафка отправляется в Венецию, там, в отеле «Пляжный», после более чем двухсот писем и открыток этого года, он пишет свое пока последнее письмо Фелиции Бауэр. Он понял, что не сможет творить великое искусство, если отдастся любви и жизни. В дневнике он пишет: «Коитус как кара за счастье быть вместе. Жить по возможности аскетически, аскетичней, чем холостяк, – это единственная возможность для меня». И двумя днями позже: «Я запрусь от всех и до бесчувствия предамся одиночеству. Со всеми рассорюсь, ни с кем не буду разговаривать» [38]. А 16 сентября на фирменном бланке отеля с видом на канал он, в бесчувственном состоянии и «бесконечно несчастный», пишет Фелиции: «Но что мне делать, Фелиция? Нам надо расстаться».
Кафка, внезапно освободившийся от груза необходимости становиться супругом, продолжает путешествие, а когда 22 сентября прибывает в Риву, то чувствует в себе пустоту, смущение, но и облегчение. Братья Эрхард и Кристль фон Хартунген, еще совсем недавно лечившие Фрейда в своем филиале в горах, берут на свое попечение следующего великого пациента. Проводится вступительная терапевтическая беседа, врачи советуют диету, много воздуха и много гребли. В первую же неделю – тепло, солнечно – Кафку переводят в одну из «воздушных хижин» на пляже, чтобы кислород окружал его со всех сторон. Кажется, что терапия начинает действовать, и 28 сентября он совершает небольшую вылазку в Мальчезине, откуда шлет сестре Оттле веселую открытку: «Был сегодня в Мальчезине, где с Гёте случилось приключение, о котором ты знала бы, если б читала „Итальянское путешествие“, что советую тебе в скором времени сделать».
В тот же день – стало прохладнее, на вершинах гор показывается первый снег – Кафка перебирается из пляжного домика в главный корпус санатория. За столом, как сообщает он своему другу Максу Броду, «сижу между старым генералом и маленькой швейцаркой, похожей на итальянку». Эта маленькая швейцарка возвращает Кафку к жизни. Они придумывают перестукиваться между комнатами, а в парке играют в салочки. Вместе они выходят на веслах на озеро, и их времяпрепровождение в лодке составляет: «Сладость печали и любви. Ловить на себе ее улыбку в лодке. Это было самым прекрасным. Желать лишь умереть, но еще держаться, одно это – любовь». Обоим ясно, что на любовь у них только десять дней. Потом они разъедутся. Кафка – в Прагу, швейцарка – в Геную, где живет ее семья. Впервые Кафка не думал о Фелиции ежечасно. На десять дней он отдал себя на волю ни к чему не обязывающей простодушной влюбленности.
Курт Тухольский, пылкий и чуть пухленький аспирант юридического факультета Йенского университета, за короткое время ставший самым язвительным критиком берлинской «Шаубюне», в мечтах вынашивает план всякого пылкого, язвительного журналиста. Он хочет основать собственный журнал, который должен называться «Орион». Тухольский хочет дотянуться до звезд. Журнал должен стать «годичным кругом в письмах». То есть представлять величины своего времени в их аутентичных жизненных свидетельствах. Странная идея: три раза в месяц подписчики должны получать «факсимиле письма одного из выдающихся европейцев». Из затеи ничего не выйдет. Скоро Тухольскому придется сообщить девяноста четырем потенциальным подписчикам: «Орион останется тем, чем был: созвездием, далеким и недостижимым». Райнер Мария Рильке и Герман Гессе, эти большие любители эпистолярного жанра, согласились участвовать (Рильке уже 21 сентября посылает стихотворение), Томас Манн тоже. Но этого мало. И все же из стадии основания журнала сохранился необычный и достижимый документ, а именно – письмо Тухольского, в котором он 26 сентября из своей комнаты на Находштрассе, 12 пытается привлечь видных деятелей к сотрудничеству и составляет удивительный в своей полноте и точности список лиц, которые представляются ему с немецкой точки зрения «выдающимися европейцами», проводя диагональ через весь 1913 год. Из области литературы он хочет, чтобы участие приняли «Демель, Гофмансталь, Брод, Бляй, Моргенштерн, Верфель, Рильке, Гауптман, Вассерман, Т. Манн, Генрих Манн, Гессе, Шницлер, Альтенберг, Роберт Вальзер, Штерн-гейм, Шоу, Ведекинд, Келлерман, Фридель, Кайзерлинг, Гамсун и (!) Кафка». Но рядом с ними и «Минона, Угласс, Хольц, Шефер, Вилли Шпайер, Вид, Хохдорф (Брюссель), Ирэн Форбс-Моссе» – то есть имена, стоявшие в 1913-м в одном ряду с великими первыми, но сегодня больше никому не известные. Впечатляет также список живых философов, которых Тухольский хочет просить о содействии: «Маутнер, Честертон, Ратенау, Зиммель, Вундт, Мах, Бубер, Фламмарион, Бергсон». И, наконец, из «Изобразительного искусства»: «Мейер-Грефе, Лихтварк, Беренс». Что касается иллюстраций и рисунков, то среди прочих Тухольский упоминает следующие имена: «Климт, Барлах, Кольвиц». Как все-таки жаль, что ничего из этого не вышло.
Еще одна диагональ через 1913 год – художественная. «Первый немецкий осенний салон» в Берлине, открытия которого с весны добивались прежде всего Франц Марк и его друг Август Маке в Бонне, открывается 19 сентября в легендарной галерее Герварта Вальдена «Штурм». За год до этого он превратил отданную под снос виллу на Тиргартенштрассе, 34а в сенсационный выставочный дом.
Список художников, представленных на выставке салона, созданного по образу парижского «Осеннего салона», содержит все, что в 1913-м было авангардом – за исключением берлинских художников «Моста», которые после своего болезненного майского распада еще зализывают раны на Балтийском море и о новом групповом движении пока не помышляют. «Если они не станут участвовать, – пишет Марк к Маке в Бонн, – большой трагедии не случится, жаль мне будет только по поводу Нольде и Хеккеля». О Кирхнере ни слова. Обоим «Синим всадникам» он абсолютно чужд по своей сути. В итоге экспонировано триста шестьдесят шесть картин, в целом девяносто художников из двенадцати стран: вторая после Арсенальной выставки в Нью-Йорке выставка года, задающая тон. Для «Осеннего салона» Вальден арендовал огромный зал на 1200 квадратных метров на Потсдамерштрассе, 75. Бернхард Кёлер, крупный меценат, выделяет на организацию 4000 марок, в конечном счете ему приходится выложить дополнительные суммы на транспортные расходы. Но «Первый немецкий осенний салон» производит сенсацию. На открытие из Парижа прибывают Робер и Соня Делоне, а также Марк Шагал, почти целиком представлен «Синий всадник», и даже итальянские футуристы специально приезжают в галерею «Штурм». Все знают, что присутствуют на событии исторического масштаба. Англичане, французы, немцы, русские, австрийцы, венгры, итальянцы, чехи – всех объединяет жажда нового искусства. Эстетический альянс за пределами границ, демонстрация единства авангарда по ту сторону политических баталий.
Можно увидеть произведения Архипенко, Делоне, Леже, Северини, Карра, Боччони, Явленского, Марка, Маке, Мюнтер, Клее, Шагала, Кандинского и Пикабии, рядом с ними, впервые в кругу авангардистов, картины молодых художников Лионеля Фейнингера и Макса Эрнста. Франц Марк показывает три эпохальных полотна, на которых еще не высохла краска: «Башню синих лошадей», «Волков (Балканскую войну)» и, наконец, ту картину перекошенных друг в друга созданий, для которой он не подобрал названия, пока Пауль Клее в итоге не назвал ее «Судьбами животных». Параллельно читаются доклады, на которые в лице Гийома Аполлинера, давшего кубизму его имя, и Томмазо Маринетти, озвучившего итальянских футуристов, в галерею «Штурм» пришли два самых блестящих теоретика искусства.
Общественность реагирует возмущением и негодованием. В газетах выставку ругают на чем свет стоит, что после всех немыслимых сил, затраченных на организацию, больно ранит Августа Маке. Он в гневе от этого «собачьего отродья» и «газетного свинства», не понимающего, что происходит в Берлине. «Франкфуртская газета», к примеру, пишет: «Выставка делает вид, будто представляет что-то прогрессивное. Никогда еще претензия не была такой самонадеянной, такой необоснованной». А «Гамбургские новости» подводят итог: «Какое поистине неслыханное безобразие, все это скопление смехотворной дурацкой мазни. Впечатление, будто сходил в музей сумасшедшего дома». Франц Марк доказывает в письме Кандинскому: «Вывешивая полотна, я руководствовался одной идеей: показать колоссальную глубину духа и подвижность художника. Посетитель уйдет с выставки с бьющимся сердцем и полный приятных сюрпризов. Для меня лично итог тоже стал неожиданностью: значительное преобладание (также и по качественным критериям) абстрактных форм». Затем Марк, Маке и Герварт Вальден печатают листовку, которую раздают на Курфюрстендамм и в зоопарке. В ней прекрасные слова: «Ходить на выставки искусства надо против воли художественных критиков!» Но все тщетно. Почти никто не приходит. Выставка оборачивается финансовой катастрофой: меценату Кёлеру пришлось вместо 4000 марок выложить в итоге 20 000, чтобы покрыть аренду и перевозку.
Помимо Рильке с Фрейдом в Мюнхене в эти первые дни сентября находится также Артур Шницлер, он остановился в гостинице «Континенталь» и ходит на репетиции своей пьесы «Игра в любовь». По воле прекрасного совпадения, его бывшая любовница Мари – или просто Мици – играет в постановке главную роль. Эта Мария Глюмер – в дневнике «Мц» – бывшая пациентка и одна из тех «прелестных барышень» Вены, которых Шницлер всю жизнь любил, которые знали, как держать свою совесть в узде, с которыми можно было на ужин сходить или за город съездить, но не больше, и которые умели ловко вписываться в бюргерскую жизнь своих любовников. Однако теперь в Мюнхене, где он пребывает с Ольгой, своей женой, держать все под контролем затруднительно. 9 сентября он получает приглашение на Леопольдштрассе к такому же любителю женщин, как и он сам: «Лизль сопровождает нас к Генриху Манну, живущему здесь со своей возлюбленной, одной пражской еврейкой. Он представляет ее как свою жену и настаивает, чтобы с ней обращались должным образом. Герцог и фрейлейн Морена также здесь. Кофе на террасе. Сносная беседа. Не нахожу госпожу Манн столь ужасной, как остальные мне ее изображали. – Все вместе на озеро». И как ему, весело? «Скучно».
В Дюссельдорфе юрист Карл Шмитт ежедневно ждет своего открытия. Вечером он отправляется со своей любовницей Кари в постель и, как доверяется он дневнику, «восхитительно резвится»; «шаловливые пальчики ночью».
Так проходит день за днем, в суде дел нет, а издатели отклоняют его книгу «Ценность государства», содержащую большую анти-индивидуалистическую программу Шмитта. Но вот 20 сентября – свершилось: издатель Мор хочет напечатать книгу Шмитта, и автор вырастает на целый метр: «Восхитительная осенняя погода. Я вновь ощущаю себя большим человеком, слоняющимся по улицам с невидимым чуждому глазу тайным превосходством».
К сожалению, длится это недолго. 30 сентября он записывает после концерта: «Музыка разбередила все мои комплексы. Мне хотелось покончить с собой. Какой во всем прок? Никому ни до чего нет дела, никому нет дела до меня, мне нет дела ни до кого. Вот бы только книга моя вышла». Тогда – чудесная наивная надежда – все будет хорошо. Но такой закон не может обосновать даже доктор юридических наук Карл Шмитт.
25 сентября 1913-го Чарли Чаплин подписывает первый контракт с киностудией «Кистоун». Он получает 150 долларов в неделю за съемки в своем дебютном фильме «Зарабатывая на жизнь».
Вальтер Ратенау публикует свою книгу «О механике духа», в которой он – председатель наблюдательного совета AEG и одна из ключевых фигур немецкой экономики в принципе – настойчиво предупреждает об опасности, которую таят в себе техника и механизация по отношению к чистоте и «царству души». Книгу он посвящает «юному поколению».
Октябрь
В этом месяце Томаса Манна настигает прошлое. В Хеллерау близ Дрездена авангард собирается на мистерию. Немецкая молодежь восходит на Мейснер, который с тех пор называется Высокий Мейснер. Эмиль Нольде покидает Берлин, чтобы в составе экспедиции отправиться к тихоокеанским островам. Август Маке обнаруживает рай в Швейцарии, на солнечном Тунском озере. Большой вопрос: позволительно ли питать отвращение к лицу Франца Верфеля? А также: сколько авангарда может вынести Берлин? Людвиг Майднер ни с того ни с сего рисует поле боя и называет его «Апокалиптическим пейзажем». Император Вильгельм II торжественно открывает памятник Битве народов. Фрейд снимает шляпу – и набрасывает на гриб.
Август Маке. Гуляющие по улице (частная коллекция, Северная Рейн-Вестфалия).
На 753-метровой горе Мейснер в Кауфунгенском лесу на севере Гессена с 11 по 13 октября проходит слет юных реформаторов жизни. После слета гора получает имя «Высокий Мейснер». Немецкий Вудсток последнего поколения, рожденного в девятнадцатом веке, представляет собой попытку собрать под открытым небом движение «Вандерфогель» [39] и союзы свободной немецкой молодежи. Это – протест против помпезной немецщины на параллельном праздновании лейпцигского памятника Битве народов. Все выливается в огромный палаточный лагерь на Хаузенер-Хуте с двумя тысячами участников. Все бродят по лесам, поют, ведут дебаты и слушают различных докладчиков. К примеру, Людвига Клагеса, объясняющего подросткам, что модернизм – самая большая опасность. Ибо угрожает немецким лесам и тем самым – самой эссенции немецких жизненных правил. Клагес предостерегает от техники, разрушающей природу, и выступает за возвращение к естественной жизни. «Человек и земля» – так называется его пламенная речь, предостерегающая от прогресса и разрушения окружающей среды. Другой реформатор жизненного уклада, Фидус, со своими земными и переходящими в небесное акварелями, патетической иллюстрацией «Высокая служба» в «Памятном издании» создал логотип мероприятия на Высоком Мейснере: нагие юноши с мечами на поясах гордо смотрят ввысь. Перед этими мужами и состоится первое публичное выступление юного студента Вальтера Беньямина, который как раз перевелся из Фрайбургского университета в Берлинский и взошел с друзьями на эту гору. В качестве одного из ораторов фестиваля он объясняет, что говорить о действительно свободной немецкой молодежи можно будет лишь тогда, когда утратит значение антисемитизм и шовинизм. А педагог и реформист Густав Вюнекен, соучредитель Свободной школьной общины в Викерсдорфе и учитель Вальтера Беньямина, обращается к примерно трем тысячам подростков: «Неужели дойдет до того, что достаточно будет лишь бросить вам слова „Германия“, „национальный“, чтобы вы рукоплескали и ликовали в ответ? Неужто всякий назойливый сможет взимать с вас пошлину восторга, лишь облачившись в нужную униформу фраз? Смотря на сияющие долины нашего отечества, могу пожелать лишь одно: да не придет тот день, когда военные полчища их растопчут. И да не настанет никогда день, когда нам самим придется вести войска в долины чужих народов». В заключительном заявлении, «Мейснерской формуле», которой присягают все участники, уже гораздо меньше патетики. В ней говорится, что «свободная немецкая молодежь формирует свою жизнь с внутренней правдивостью». Принимается решение проводить все «мероприятия свободной немецкой молодежи без алкоголя и курения». Неудивительно, что революции из этого не вышло. Без алкоголя и курения! Аналогично сформулировал и Герберт Ойленберг в рифмованном предисловии: «Приветствую юность, что больше не пьет, / Германией дышит и ею живет». Спустившись с горы обратно в долины отчизны, все быстро приходят в себя. Как и Вальтер Беньямин, под псевдонимом «Адор» делающий в берлинской газете Фритца Пфемферта «Акцион» следующий вывод: «В турпоходах, торжественных одеяниях, народных танцах нет ничего экстремального и – в 1913 году – ничего духовного. Эта молодежь еще не нашла родившегося врага, которого должна ненавидеть». Беньямину не хватает восстания против отцов поколения грюндерства. Ему не хватает отцеубийства. Эти красивые строки он, кстати, пишет, да простят ему беньяминовцы, из дома своих родителей на Дельбрюкштрассе, 23 в Берлине, где наш студент вновь поселился после семестра во Фрайбурге.
Однако возвращение Беньямина из Фрайбурга обратно в Берлин не вызывает никаких вопросов. Или, как в 1913 году сказала Эльза Ласкер-Шюлер: «Потому художник всегда возвращается в Берлин, что здесь часы искусства не отстают и не спешат».
После промозглых дней вновь засветило солнце, да так, что всюду из земли полезли грибы. У Зигмунда Фрейда отлегло от сердца – встреча психоаналитиков выдержана с честью и достоинством (да и К.Г. Юнг голосов не набрал), – в воскресенье он с домочадцами идет по грибы. У всех с собой по лукошку, устланному клетчатой скатеркой, все пристально вглядываются в мшистую землю венского леса. Иногда они едут и в Земмеринг, где все давно шепчутся, будто вдова Малера Альма вьет здесь себе со скандальным художником Кокошкой любовное гнездышко. Но Фрейда с семьей тянет в леса, а не в летние домики. Дети шмыгают в свои дирндли и короткие штанишки, Фрейд надевает кожаные брюки до колен, зеленую тужурку и шляпу с кисточкой – теперь все готовы к поискам. Фрейд идет во главе грибников – и именно он своим орлиным взором первым обнаруживает лучшие грибы в самых потайных местах. Тогда он пробегает пару шагов, снимает шляпу, бросает ее на гриб и пронзительно дует в серебряный свисток, так что все сбегаются из подлеска. Когда семья в торжественном сборе, отец приподнимает шляпу, чтобы все восхитились добытым трофеем. Честь положить гриб себе в корзину достается по обыкновению Анне, любимой дочери.
Как раз когда в Берлине футуризм провозглашается движением эпохи и Томмазо Маринетти произносит речь на «Первом немецком осеннем салоне», доктор Альфред Дёблин, видный врач, писатель, друг Эрнста Людвига Кирхнера и Эльзы Ласкер-Шюлер, публикует свое «Письмо к Ф.Т. Маринетти». В нем великолепные слова: «Занимайтесь своим футуризмом. Я же занимаюсь своим дёблинизмом». Дёблин не готов пойти на поводу у провозглашенного в «Футуристическом манифесте» Маринетти разрушения синтаксиса как основы новой литературы и нового искусства. Вместо этого Дёблин требует от поэтов: творить не разрушая, а подходя к жизни вплотную.
Если писатель подходит к жизни вплотную, то может запросто случиться столкновение. В «Любекских новостях» 28 октября выходит объявление следующего содержания: «За двенадцать лет, с тех пор как вышли „Будденброки“, написанные моим племянником, господином Томасом Манном из Мюнхена, у меня возникло множество неприятностей, имевших для меня печальнейшие последствия, к которым теперь добавилась книга Альбертса „Томас Манн и его долг“. Посему я вынужден обратиться к читающей публике Любека и просить о том же: оценить упомянутую выше книгу надлежащим образом. Когда автор „Будденброков“ втаптывает в грязь образы ближайших родственников и вопиющим образом разглашает их судьбы, то всякий здравомыслящий человек согласится, что сие дурно. Плюющий в родной колодец достоин лишь жалости. Фридрих Манн, Гамбург». Вот что думает шестидесятисемилетний дядя Фридель, носящий в «Будденброках» имя Кристиан. Томас Манн не без забавы реагирует на это в письме брату: «Ему вдруг перестали указывать на Кристиана Б., и он решил о себе напомнить? Жалко его, правда. Мой Кристиан Будденброк не стал бы писать это дурацкое объявление».
После пятнадцати лет строительства 18 октября в Лейпциге к столетию сражения с Наполеоном торжественно открывается грандиозный памятник Битве народов. Император Вильгельм II славит боевую мощь немецкого народа. Монумент, возвышающийся на девяносто один метр, обошедшийся в 6 миллионов рейхсмарок, напоминающий о том, как пруссаки вместе с русскими и австрийцами разбили французов, был полностью профинансирован из благотворительных и лотерейных средств. Темный камень – гранитный порфир – был добыт в Бойхе близ Лейпцига. На воздвижение ушло 26 500 гранитных блоков и 120 000 кубометров бетона. В торжественном открытии памятника Клеменса Тиме помимо германского кайзера и саксонского короля принимают участие также все князья немецких государств и представители Австрии, России и Швеции. Открытие становится воинственным национальным торжеством с большим парадом. Сановники трех стран-победительниц возлагают венки к пьедесталу монумента. В завершение состоялся званый обед на четыреста пятьдесят гостей. Ни один тост не поднимался за мир – только лишь за незыблемое братство по оружию между Пруссией и Австро-Венгрией.
Испытывать братство будут сперва на фазанах, в течение пяти дней с 23 октября. Франц Фердинанд, австрийский престолонаследник, побывавший в Лейпциге на открытии памятника Битве народов, ловкой дипломатической инициативой добился того, чтобы сербы покинули Албанию. Это приносит немецкому кайзеру такое облегчение и настолько его впечатляет, что тот навещает престолонаследника в его замке в Конопиште. Между двумя господами царит полное взаимопонимание. Франц Фердинанд организует двухдневную охоту, на которой кайзер Вильгельм II подстреливает ни много ни мало тысячу сто фазанов. Но за ужином съедает из них, к сожалению, лишь одного.
В мастерской Людвига Майднера на Вильгельмсхоерштрассе, 21 в районе Берлина Фриденау в среду вечером на журфикс собирается круг избранных: Якоб ван Ходдис – знаменитый поэт конца света, Пауль Цех, Рене Шикеле, Рауль Хаусман, Курт Пинтус, Макс Герман-Найсе. Сперва хозяин показывает гостям свои последние работы. Он называет их «Апокалиптические пейзажи». Они следуют его девизу: «Выноси на полотна всю свою тоску, проклятость и святость». На пейзажах Майднера все взлетает на воздух. В 1913-м он рисует «Я и город» – картину, на которой его голова будто взрывается, как и город за ней. А где-то наверху болтается солнце, словно готовое рухнуть.
Майднера не устают одолевать видения ужаса. Он работает, как одержимый, денно и нощно, в маленькой мастерской во Фриденау, и пишет: «Что-то мучительным образом заставило меня сломать все прямолинейно-вертикальное. Расстелить все пейзажи руинами, клочьями, пеплом. Мой мозг кровоточил чудовищными видениями. Тысячи скелетов приплясывают в хороводе. Равнина изгибается вереницей могил и сгоревших дотла городов».
Города горят, лица людей, как и собственное, лишь корчатся от боли, пейзаж перепахан бомбами и войной. Надо всем блуждают жуткие огни. Кажется, будто кистью Майднер борется со зловещими силами, угрожающими ему. Он пытается преодолеть свои кошмары, раскладывая их на слоги. Он не шутит с экспрессионизмом и кубизмом. Свои травматические полотна он называет «Видение окопа» или, снова и снова, «Апокалиптический пейзаж». Он живет, напомним, в идиллическом Фриденау. Теплые и мирные октябрьские дни. Идет год 1913-й. Друзья, пришедшие к нему в среду вечером, видят картины и беспокоятся об их авторе. Не сошел ли он с ума?
Спустя месяц после того, как дирижабль LI рухнул в море перед Гельголандом, 17 октября взрывается военный дирижабль L2 во время летных испытаний в Йоханнистале близ Берлина. Двадцать восемь членов экипажа погибают при ударе горящего судна о землю, сосновый лес занимается огнем, от тел солдат на борту остаются лишь угли. Граф Цеппелин, чьим именем были названы дирижабли, в тот же день пишет гросс-адмиралу фон Тирпицу: «Кто может быть потрясен и скорбеть с флотом больше меня?».
Как обстояли дела с репутацией Пикассо и всего модернизма, рассказывают рецензии на вновь открытую осенью 1913 года «Новую галерею» Отто Фельдмана на Леннештрассе, 6а в Берлине. Выставка в честь открытия проливает свет на то, почему великих французов Пикассо и Брака не было на проходящем параллельно «Первом немецком осеннем салоне». Канвайлер, их парижский агент, хотел больше продавать, чем выставлять, и отправил их в Берлин на меркантильное конкурирующее мероприятие. На обе выставки надо смотреть вместе – на них представлен весь художественный репертуар 1913 года, в первую очередь его герои. Помимо великих французов Фельдман показал «негритянские скульптуры», пластическое искусство эллинизма и «Восточную азиатику». Ранние творения далеких культурных кругов, оказавшие в то время огромнейшее влияние на художников, были смешаны с европейскими работами – а Карл Эйнштейн, которому суждено было прославиться своей книгой о «негритянской пластике», написал предисловие. Короче говоря, удивительная демонстрация статус-кво французского искусства около 1913 года. Но для журнала «Искусство» Курт Гласер подводит следующий неожиданный итог новых художественных салонов в Берлине: «У Матисса выставлен натюрморт, скудноватый по цветовому эффекту. У Пикассо целая стена, и такое впечатление, что его здесь провозгласили идолом. Возможно, несколько запоздало, ибо стоит надеяться, что весь шум, поднятый вокруг этого изящного, но все же слабоватого художника, скоро уляжется». Фельдман не дал сбить себя с толку. Непосредственно после выставки, уже в декабре, он показал шестьдесят шесть работ Пикассо, опять-таки в качестве комиссионера Канвайлера. Немецкая критика продолжала издеваться. В «Цицероне» писали, что Пикассо, выставивший свои кубистские работы, «все еще кажется не особенно сильным и не вполне самостоятельным». Великий Карл Шеффлер высказал свое мнение для «Искусства и художника»: «От Пикассо толку мало». А в журнале «Искусство» подвели уничижительный итог – а именно, что «вряд ли теперь можно сомневаться, что Пикассо зашел в тупик».
В хороводе отсутствует лишь один – Эрнст Людвиг Кирхнер. Ни на одной из двух выставок он представлен не был: в то время он собирался создать нечто совершенно новое и великое. В конце сентября он, счастливый и сновыми работами, вернулся с Фемарна в Берлин. Одних только полотен за месяцы на море он создал шестьдесят. Былое, распад «Моста», квартиру на Дурлахерштрассе он хочет оставить в прошлом. Вместе с Эрной Шиллинг он ищет новое логово, которое они находят на Кёрнерштрассе, 45. Они снова в Берлине, в этом «безвкусно сконфуженном и довольно бессмысленно разрастающемся городе», как прекрасно называет его в эти дни Рильке. Кирхнер нашел на Фемарне новый тип женщины, отлитый по Эрне и Машке, выходящими нагими из мягких волн Балтийского моря. Это те готические тела, которые суживаются кверху, те лица, в которые черты врезаны, словно в дерево. Пока Эрна хлопочет о том, чтобы превратить мастерскую на Кёрнерштрассе в очередной гезамткунстверк из скульптур, живописи, драпировок и вышивок, с большими подушками на полу, на которых смогут удобно расположиться модели и друзья. Кирхнера снова тянет на Потсдамскую площадь.
Его нервы после месяцев на море еще так обострены, восприятие и поры так открыты, что город с его шумом, насилием и лицами с могучей силой врываются к нему в душу. И только сейчас, очистив зрительный нерв о суровый морской воздух, он видит совершенно новые образы. Он начинает со «Сцены на улице Берлина» – первой картины из серии о Потсдамской площади. Сконцентрированный в тесном пространстве, здесь виден городской модерн, большой город и его главные актеры, кокотки в кричащих расцветках и с мертвецкими лицами, обещающие мужчинам счастье, в которое сами клиенты больше не верят. Кирхнер чувствует, что та телесность женщин и детей, которую он впитывал и рисовал на Фемарне как чистую естественность, в городском пространстве нового времени, среди платьев и шума, среди иных взглядов и ожиданий, уже невозможна. Единственная движущая сила города заключена в его скорости, в рвении вперед, в забвении настоящего. Но Кирхнер в картинах Потсдамской площади нажимает на паузу. Все вдруг замирает. Сам зритель превращается в клиента, которому кокотки, как и город, предлагают себя в бессмысленной доступности и безрассудной вере, что завтра все переменится и наладится, – и вот тогда из-под его кисти выходят неповторимые образы модерна, в котором тело города состоит уже не из плоти и крови, но из одних сухожилий и нервов.
Эмилю Нольде стало невыносимо в Берлине. И вот 1 октября он с женой Адой пакует принадлежности для рисования и одежду в большие чемоданы. Ранним вечером 2 октября они прибывают в дом коллекционера Эдуарда Арнхольда на Принцрегенгартенштрассе, 19 в районе Берлина Тиргартен.
Арнхольд в 1913 году на пике общественного признания: сколотив состояние на торговле углем, он теперь уже член наблюдательного совета Дрезденского Банка и становится в 1913 году первым и единственным евреем, которого Вильгельм II пригласил в прусский господский дом – ему и дворянский титул предлагают, но Арнхольд отказывается. Деньги он почти без исключения вкладывает в художников и искусство, наряду с Джеймсом Симоном он – крупный буржуазный меценат искусства, в 1913 году учредивший для прусского государства культурный институт в Риме – Виллу Массимо. Его собственный дом на Тигартенштрассе служит суверенной демонстрацией вкуса и власти одного из «кайзеровских евреев», как презрительно назвал израильский президент Хаим Вейцман группу авторитетных берлинских евреев, в которую входили Джеймс Симон, Альберт Баллин и Вальтер Ратенау – из-за их приближенности к Вильгельму П. В доме Арнхольда висели Менцель, Либерман и «Прометей» Бёклина, а рядом с ними – портреты Вильгельма I и Бисмарка.
Вечером 2 октября в доме Арнхольда собирается блестящая компания путешественников. Эмиль и Ада Нольде взволнованы. Гости сидят за обеденным столом, едят и пьют, без четверти двенадцать группа отправляется на вокзал Цоо Когда они под хмельком добираются до вокзала, на путях уже стоит ночной поезд до Москвы через Варшаву. В 00:32 он отправляется по расписанию. Руководитель экспедиции Альфред Лебер занимает купе, а по соседству с четой Нольде располагается молодая медсестра Гертруда Арнталь, которая будет заниматься пошатнувшимся здоровьем Ады Нольде. Медико-демографическая экспедиция в Германскую Новую Гвинею началась.
5 октября поезд экспедиции, с помощью которой Нольде проще всего было попасть на свои далекие вожделенные тихоокеанские острова, прибывает в Москву. 7 октября путь продолжается по транссибирской магистрали через Урал и Сибирь до Манчьжурии. Будучи представителями экспедиции немецкого правительства, все они путешествуют первым классом. От Маньчжурии путь пролегает дальше, через Шэньян и Сеул. А там путешественники пересаживаются на корабль до Японии. Туда они прибывают в конце октября. Холодно, сыро и неприятно. Ни тени намека на тихоокеанские острова.
Вечером 5 октября 1913 года в Хеллерау близ Дрездена состоится премьера «Благой вести Марии» Поля Клоделя. Привлеченная реформаторскими веяниями танцевальной школы Хеллерау по системе Далькроза и новым Фестивальным дворцом Генриха Тессенова, собралась избранная публика: здесь и Томас Манн, и Рильке с обеими ближайшими подругами, то есть Лу Андреас-Саломе и Сидони Надерни, тут и Анри ван де Вельде, и Эльза Ласкер-Шюлер. Макс Рейнхардт этим вечером тоже в Хеллерау, а также Мартин Бубер, Аннетта Кольб, Франц Бляй, Герхарт Гауптман, Франц Верфель, Стефан Цвейг и оба самых важных молодых издателя – Эрнст Ровольт и Курт Вольф.
В то время как Рейнхардт и Гуго фон Гофмансталь ставят в Дрезденском придворном театре «Кавалера роз», новый Фестивальный дворец становится точкой пересечения авангарда. Эмиль Жак-Далькроз преследовал цель выявить новое единство тела, души и музыки. Ритмические упражнения и импровизации в соединении с музыкой должны были снять с тела обусловленную цивилизацией блокаду. Эрнсту Людвигу Кирхнеру это бы понравилось. Эптон Синклер, американский писатель, который, видимо, тоже был 5 октября в Хеллерау, написал потом в романе «Конец мира»: «В Хеллерау учили алфавиту и грамматике движения. Ритм отбивался руками; двигались тактом в три четверти, в четыре и так далее. Ноги и тело задавали долготу нот. Это была своего рода ритмическая гимнастика, устроенная так, что тело тренировалось реагировать на внутренние впечатления быстро и точно».
Эта новая форма выразительного танца покорила всех. Однако комбинация с «Благой вестью» Поля Клоделя не оказалась убедительной. Ошарашенный Клодель этим вечером пишет в дневнике, что аплодисментов почти не было. Далькроз даже открыто говорит о фиаско. Рильке двумя письмами – Гуго фон Гофмансталю и Хелене фон Ностиц – наилучшим образом резюмирует вечер и свое замешательство: «В Хеллерау люди, словно большие дети, любят ввязаться в то, что не понимают, но, может, бог даст, они всему научатся, и вместо того чтобы сперва бросаться во что-то мутное, как сегодняшний театр, будут сразу проникать в нечто прозрачное и чистое, тогда всем стало бы легче». Рильке, в принципе, распознает в этих экспериментах в Хеллерау шанс приблизиться к тайне, которую ищут все авангардисты, уставшие от модерна. Но «Благая весть» Поля Клоделя, Рильке совершенно в этом уверен, здесь не поможет. Или, как он написал Гофмансталю: «Благая весть, Клодель, не знаю даже, что сказать. В целом терпимо, было над чем подумать, но все было смешано с экспериментами Хеллерау, в которых тоже есть над чем подумать. Так что и не понять, чем вызвано тревожное чувство, с которым разошлись по домам, – одним или другим».
Стало быть, сама постановка не войдет в анналы культурной истории. Но войдет антракт – и тревожное чувство, с которым некоторые участники вернутся домой. В антракте состоится первая встреча Рильке и его круга, в котором он уже месяцами нахваливал поэтическую силу Франца Верфеля, – с самим поэтом Верфелем, самым что ни на есть реальным, совсем молодым, чуть за двадцать. Должно быть, для Рильке это был шок. Ошарашенный, он пишет Марии фон Турн-и-Таксис в Дуино, что при первом взгляде на Верфеля он почувствовал «фальшь еврейского менталитета», «этот дух, который просачивается в вещи, словно яд, что проявляется всюду из мести за то, что не может быть частью общего организма». Но потом Рильке перечитывает «восхитительные стихи» Верфеля в «Белых листках», «которые заставили меня одним махом стряхнуть с себя все, что смутило и стеснило при личной встрече, и я опять готов за него пойти и в огонь, и в воду».
Но в антракте в Хеллерау Рильке, неспособный (видимо, от потрясения) начать разговор, представляет Верфеля своей подруге Сидони Надерни – и та реагирует таким же смущением и отторжением. Рильке сообщает, будто, взглянув на Верфеля, она прошептала: «Жиденок!» И тот, возможно, услышал. Как бы то ни было, баронесса обращается с юным поэтом презрительно. Чудовищная история берет свое начало. Но постепенно.
Пражанин Франц Верфель, при содействии доверенного лица Кафки Макса Брода, получает место редактора в расцветающем издательстве Курта Вольфа в Лейпциге – авангардная роль которого в 1913 году была связана с тем, что средний возраст сотрудников издательства составлял около двадцати трех лет. Верфелю удалось протолкнуть в это издательство Карла Крауса – в амплуа писателя, и летом 1913 года он напечатал прекрасный анонс: «Все еще необходимо указывать на то, что в лице Карла Крауса живет среди нас один из величайших европейских мастеров. Ныне же потрясающее сочинение сего выдающегося сатирика, „Китайская стена“, будет выпущено монументальным изданием, украшенным рисунками Кокошки. Пробил час, когда вся новая молодежь, все умники и праведники погрузятся в апокалиптическую мощь этой риторической фуги, дабы грядущим поколениям не было стыдно за нынешнее». Чудесные слова. Вместе с тем они показывают, с какой одержимостью и тотальностью двадцатитрехлетний Верфель преклонялся перед тридцатисемилетним Карлом Краусом. При встрече он мог часами ловить каждое его слово, его письма полны благоговения и преданности. В июне на опрос журнала «Бреннер» о Карле Краусе он послал Людвигу фон Фикеру такую фразу: «Я люблю этого человека со всей мучительностью». Карл Краус ответил на эту любовь признанием: он регулярно печатал стихи Верфеля в «Факеле» и писал восторженные рецензии.
Когда же 5 октября Франц Верфель и Сидони Надерни фон Борутин встретились в Хеллерау, никто не знал, что Карл Краус вот уже несколько месяцев практически не отходил от нее, и оба пылали друг к другу большой любовью. Сидони же ничего не знала о том, как высоко ее Карл ценит юного поэта. Поэтому оба вели себя совершенно непринужденно: Сидони демонстрировала свою неприязнь, а задетый Франц Верфель пустил слухи про Сидони. Среди прочего и о том, что Рильке пылает к Сидони безумной любовью, а сама она когда-то разъезжала с цирковой труппой. Когда эти слухи однажды доходят до Сидони и потом до Карла Крауса, последний впадает в ярость и чувствует ледяной гнев. Он порывает с Верфелем, ни одного живого места не оставляет от его лирики, поносит их в «Факеле» и выносит Верфелю смертельный приговор: «Стихотворение хорошо до тех пор, пока не узнаешь, кто автор».
Неизвестно, узнал ли еврей Краус, что именно слово «жиденок» из уст его боготворимой Сидони так задело Верфеля, что тот надумал пустить в ответ злобные слухи. И что Рильке в итоге, узнав о тесной связи своей дорогой Сидони с Краусом, в искренних письмах предостерегает ее от замужества, потому что их разделяет «крайнее, неискоренимое различие» – все это окончательно превращает антрактные события 5 октября в Дрездене в печальную дату в истории немецкой культуры. Во время того антракта, кстати, Эльза Ласкер-Шюлер, великая поэтесса «Иудейских баллад», только и делала, что кричала: «Плохо, плохо», потому что так сильно не понравилась ей постановка – и это опять-таки смутило Рильке, и он посчитал это варварством.
Краткий эпилог на тему «Любовь приходит и уходит»: 16 октября в Хеллерау Эмиль Жак-Далькроз и ученики еще раз демонстрируют Райнеру Марии Рильке, в чем именно заключается их метод активизации тела. В зале пустого Фестивального дворца рядом с Рильке сидит по правую руку Лу Андреас-Саломе, по левую – Эллен Дельп, та самая вожделенная «утренняя Эллен» из августа в Хайлигендамме, которую Лу называет своей «избранной дочерью». Рильке, на самом деле проживающий в Дрездене на Сидоништрассе (в гостинице «Европейский двор»), пишет потом вместе с Лу Андреас-Саломе письмо Сидони Надерни, в котором оба советуют ей непременно обратиться к доктору Фридриху Пинельсу в Вене – тому Пинельсу, который больший успех имел не как психолог, но как соблазнитель, и ранее как «простой смертный» обучил Лу Андреас-Саломе радостям плотской любви. Какая дивная неразбериха. Возможно, что даже для Рильке это уже слишком. Следующим днем он сломя голову отбывает назад в Париж. Оттуда 31 октября он пишет, что хочет подать на развод с Кларой.
Молодой Арнольт Броннен пишет яростную драму «Право на молодость» о восстании молодого поколения против старого. А Готфрид Бенн – которому год назад пришлось смотреть, как его отец Густав Бенн, сельский пастор Морина в Ноймарке, из этических соображений запретил дать его смертельно больной матери морфий, которым он, сын и врач, хотел смягчить ее муки, и та умерла, крича от боли? Боль тоже, читает священник проповедь жене и сыну, послана Богом. Это последний раз, когда Готфрид Бенн повинуется миру отцов. В 1913-м, год спустя, он казнит отца в стихах. «Сыновья» будет называться его сборник, который уже названием дает понять, у кого теперь право голоса. Знак самоутверждения перед всесильными отцами. Отцам брошен мучительный вызов, пока еще только мысленно, но скоро он обретет слова. А пока еще немного рановато. Георг Тракль этой осенью пишет «Превращения зла», где вопрошает себя в отчаянии: «Зачем ты стоишь безмолвно на ветхих этих ступенях, в доме своих отцов?» Кафка напишет «Письмо отцу». А Бенн воспевает в стихах память о матери. И много позже в своем стихотворении века «То так, то этак», он скажет: «Отец побывал однажды в театре, / На „Жаворонке“ Вильденбруха» [40]. В его глазах это было ультимативным отцеубийством, иным, чем у Фрейда, а именно – одетым в культурный снобизм.
Томик Бенна «Сыновья» посвящен, кстати, Эльзе Ласкер-Шюлер. «Приветствую Эльзу Ласкер-Шюлер: бесцельная рука из игры и крови», пишет он на титульном листе – по-видимому, последний, краткий налет сентиментальности перед тем, как бегство чувств у этого патологоанатома окончательно сделалось патологичным. А Эльза с матрасов своего склепа, выносить который она может только благодаря каждодневному опиуму и приемам врача и терапевта Альфреда Дёблина, пишет своему «синему всаднику» Францу Марку в Зиндельсдорф отчет об актуальном положении дел в любви: «Циклоп доктор Бенн посвятил мне свои новые стихи „Сыновья“, они такие красные, как луна, такие жесткие, как земля; дикие сумерки, бой молотков в крови». Большая любовь заканчивается, как и началась: громкими фразами.
Людвиг Витгенштейн 16 октября со своим другом Дэвидом Пинсентом отправляется кораблем из Англии в Норвегию и продолжает работать над «Логико-философским трактатом». Свои мысли он бережно записывает в блокнот. Но перед тем на первой странице он делает пометку: «После моей смерти отправить госпоже Польди Витгенштейн, Нойвальдеггерштрассе, 38, Вена, и Б. Расселу, Тринити-колледж, Кембридж». Университетский учитель и семья служат опорами, поддерживающими его, когда он пытается воздвигнуть новое здание логики. Еще будучи в пути, он посылает Расселу письмо с центральными вопросами, но забывает его на борту. 29 октября он пишет Расселу повторно: «Получили ли Вы мое письмо? Я оставил его в ресторане корабля, чтобы отправить Вам – но, по-видимому, забыл».
Карл Шмитт, надеющийся обрести счастье с выходом из печати своей книги «Ценность государства», пишет, полный отчаяния, в дневнике: «Ни от кого нет ни единого письма». Еще хуже: у него насморк. 2 октября он не знает, переживет ли «отвратительный этот катар; о боже, и однажды настанет смерть».
До тех пор Шмитт еще хочет жениться, а именно на любовнице Кари, которой он посвятил свою первую книгу. Даже тайный советник Гуго фон Ценгофф, отцовский персонаж Шмитта из этого периода, время от времени подбрасывающий ему юридические мандаты, дает добро. Ценгофф – второе центральное созвездие 1913 года. Шмитт предан ему в страхе и симпатии, взывает к его благосклонности, пьет и курит с ним до глубокой ночи. Ценгофф предостерегает его от «танцулек» Кари, но потом требует, чтобы она хотя бы обратилась в католичество, чтобы можно было жениться в аббатстве Мария Лаах.
Кари покупает себе шляпку, а Карл покупает кольцо – они обручаются. Потом Кари теряет вдруг паспорт, что делает свадьбу невозможной, Карл – вне себя от гнева. Но Кари странным образом сохраняет спокойствие. Раз они теперь не могут въехать супругами в новую квартиру при консерватории, да и с деньгами туго, так как у Карла до сих пор нет постоянной работы, Кари приходится пожить у родителей Шмитта в Плеттенберге, пока они не смогут пожениться и жить вместе. Шмитт отвозит ее на поезде и возвращается в Дюссельдорф, терзаемый уверенностью, что оставил свою любимую в логове чудовищ: «Она в Плеттенберге в окружении отвратительной злой матери и избалованной маленькой Анны». Скоро, пишет Шмитт, он намерен вызволить драгоценную Кари из ада своей родни и повести к алтарю.
С испанской танцовщицей Кари он познакомился в 1912 году в одном варьете. И совершенно потерял голову. Она сказала, что ее зовут Пабла Карита Мария Изабелла фон Доротик. Ее паспорт так никогда и не найдется. И ясно почему. В будущем, во время бракоразводного процесса, он узнает, что его жена была не испанкой благородного происхождения, а внебрачной уроженкой Мюнхена по имени Паулина Шахнер.
И все же есть одно место, полное солнце и счастья, в этом октябре 1913 года. Август и Элизабет Маке с двумя сыновьями въезжают в дом «Розовый сад» в Хильтерфингене, расположенный прямо на Тунском озере, с видом на воду и на высокие, покрытые снегом вершины Штокхорнской цепи на горизонте. Луг перед домом мягко сбегает к берегу, где семейство Маке пьет четыре чашки свежезаваренного кофе на увитой розами веранде.
Впервые Август Маке не взял с собой старые картины: здесь, в Швейцарии, он хочет начать все заново. Он еще несколько истощен развеской «Первого немецкого осеннего салона» и огорчен провалом и негативной критикой. Но здесь, на далеком Тунском озере под теплым октябрьским солнцем, мрачное настроение спустя несколько дней полностью проясняется. Он покупает принадлежности для рисования и берется за дело: такое страстное вдохновение его еще не посещало – за четыре октябрьских недели на Тунском озере он создает свои важнейшие полотна. Его без конца тянет на набережную, он без конца рисует элегантных прогуливающихся женщин, мужчин в шляпах, свет, мягким теплом пробивающийся сквозь деревья на аллее. А за ними, на синем покрывале моря, то и дело показывается белая лодка. «Солнечный путь», например, возникший в самом начале октября: на нем ствол дерева пылает наравне с платьем женщины, она вглядывается в глубокую темную синь воды, неба совсем не видно от вспыхивающей светло-зелеными и желтыми красками листвы. С краю играют дети. Здесь, на Тунском озере, Август Маке рисует свои актуальные образы рая.
У семьи Маке есть небольшая лодка; с женой Эленой в гости приезжает Луи Муалье, друг художника, с которым он скоро отправится в легендарное путешествие в Тунис. А сейчас они пока что путешествуют по Туну, выплывают на озеро, причаливают к маленькому острову, разводят костерчик, и Элен варит изысканный арабский кофе в турке, которую привезла с собой из Туниса.
В будние дни жизнь также похожа на идиллию. С самого утра, как распахиваются зеленые ставни, взгляду открывается мерцающая синева бабьего лета.
Весь октябрь так жарко, что обедают на открытом воздухе; лишь во второй половине дня, когда через поляну начинает пробираться прохлада с озера, Маке надевает любимый свитер грубой вязки и выкуривает первую трубку. Потом он носится с обоими мальчиками, Вальтером и Вольфгангом, по саду.
Август Маке обустроился на самом верху, в комнате с балконом и широким видом на озерную гладь, там он переносит на холст все, что насобирал на променадах, в шляпных магазинах, витринах. Элизабет Маке рассказывала потом, как ее муж выносил в полдень картины из мастерской в сад, «в сияющих осенних красках пронизанный солнечным светом, и ставил их в самый центр этого зноя: они не теряли ни капли яркости, в них было собственное сияние. Потом он спрашивал меня: „Как думаешь, это действительно что-то или просто китч? Я сам понять не могу“». Элизабет понимала, что это. И мы понимаем. Это картины столь настоящей, убедительной красоты, что вынести ее можно, лишь повесив на них клеймо китча.
Ноябрь
Адольф Лоос заявляет, что орнамент – преступление, и строит полные ясности дома и салоны мужской моды. Все кончено между Эльзой Ласкер-Шюлер и доктором Готфридом Бенном: она впадает в отчаяние, от которого доктор Альфред Дёблин, как раз позирующий Эрнсту Людвигу Кирхнеру, колет ей морфий. Выходит «По направлению к Свану» Пруста, первый том «В поисках утраченного времени», который Рильке незамедлительно читает. Кафка идет в кино и плачет. Прада открывает в Милане первый бутик. Эрнст Юнгер, восемнадцати лет, пакует вещи и отправляется с иностранным легионом в Африку. Погода в Германии неприятная, но Бертольт Брехт уверен: насморк бывает у любого.
Салон мужской моды Книже, Вена (Ullstein Bild).
7 ноября рождается Альбер Камю. Позже он напишет драму «Одержимые».
Передовой журнал года: в Вене – какое совпадение – 7 ноября выходит первый номер «Одержимых». На обложке: автопортрет Эгона Шиле. Подзаголовок издания: «Журнал страстей».
7 ноября Адольф Гитлер рисует акварелью мюнхенскую Театинер-кирхе и продает ее коммисионщику на Виктуалиенмаркте.[41]
Жизнерадостная графиня фон Шверин-Лёвиц, супруга президента ландтага, приглашает в середине ноября на tango-tea[42] в прусский ландтаг. На паркете: танцовщицы в тесных объятиях представителей власти и высоких военных чинов. Кайзер Вильгельм II, считающий танго вульгарным, принимает решительные меры. 20 ноября выходит императорский указ, впредь запрещающий офицерам в униформе танцевать танго.
От «Моны Лизы» до сих пор ни слуху, ни духу.
У Адольфа Лооса начинает подходить к концу его самый значительный год. «Орнамент и преступление» – так он назвал свой гневный вопль против опасности задохнуться в кондитерском стиле венской Рингштрассе. И вот теперь, в 1913-м, появилось еще больше желающих очистить планировку своих залов, домов и лавок свободным духом и ясным взглядом Лооса. Уже готовы его дом Шоя на Ларохегассе, 3 и дом Хорнера на Нотхартгассе, 7. Открытие празднуют также два внутренних помещения, которые он оформил со всей своей неподражаемой минималистической и все же добротной элегантностью: кафе «Каупа» на Йоханнесштрассе и салон мужской моды «Книже» на Грабене, 13.
Именно потому, что Лоос со своей американской женой Бесси тесно общается со многими персонажами художественного авангарда Вены, то есть с Кокошкой, Шёнбергом, Краусом и Шницлером, для него существует колоссальная разница между искусством и архитектурой: «Дом должен нравиться всем. В отличие от произведения искусства, которое не обязано нравиться никому. Произведение искусства хочет вырвать человека из его удобства. Дом – должен удобству служить. Произведение искусства революционно, дом – консервативен».
Его шедевр 1913 года – дом Шоя в Хитцинге, первый в Европе террасный дом, своей белой строгой элегантностью и арабской ступенчатостью взбудораживший венские нравы еще в год создания. Но застройщики – друг Лооса адвокат Густав Шой и его жена Хелена – были счастливы. «При проектировании дома у меня и отдаленной мысли не было о Востоке, – говорил Лоос. – Мне просто показалось, что очень приятно было бы из спальных покоев, расположенных на втором этаже, выходить на большую общую террасу». И все же дом Шоя действует на всех словно фата-моргана. Жилые и спальные помещения открываются наружу – можно выйти на террасу, весь дом пронизан светом и воздухом. Соседи и органы власти долго протестуют, и Лоос в итоге идет на компромисс – озеленяет фасады. Ведь Лоос прежде всего думал о воздействии пространства на человека: «Мне как раз хочется, чтобы люди в моих комнатах чувствовали вокруг себя материал, чтобы он воздействовал на них, чтобы в закрытом помещении они могли ощутить дерево, воспринять фактуру зрительно, тактильно и вообще чувственно, могли удобно сесть и почувствовать кресло на большой поверхности периферийного осязания своего тела и сказали: сидеть здесь идеально».
Адольф Лоос никогда не шутил и всегда был до ужаса серьезным. И, тем не менее, располагал к себе невероятно. Каждое помещение, каждый дом говорили, что созданы строго по индивидуальной мерке. И что Лосс бы предпочел не строить вовсе, чем строить что-то неуместное.
Или, как он сам выразил свое основное кредо: «Не бойся прослыть несовременным. Менять старый архитектурный стиль допустимо, лишь если это что-то улучшит, – в противном случае стоит остаться верным традиции. Потому истина, пусть ей уже и сотни лет, нам ближе лжи, шагающей рядом». Продуктивный новатор как вдумчивый традиционалист: Лоос опережал современную ему публику. Его не смущало прослыть немодерным (что бы на самом деле ни значило это слово). Но мы-то сегодня знаем, насколько он был именно таким. Вероятно, больше любого другого архитектора, работавшего в 1913 году.
8 ноября в 22:27 после восьми часов пути в поезде Франц Кафка прибывает в Берлин на Анхальтский вокзал. Грета Блох, подруга Фелиции Бауэр, в конце октября подключилась как посредник между Прагой и Берлином. Она пыталась добиться нового сближения двух несчастных влюбленных, словно парализованных после никудышного предложения Кафки.
9 ноября[43], в судьбоносный для Германии день, состоится их вторая встреча в Берлине. И вновь – трагедия. Поздним утром они больше часа гуляют по Тиргартену. Потом Фелиции надо на похороны, после она обещает связаться с Кафкой в гостинице «Асканийский двор». Она этого не делает. Медленно и бесконечно идет дождь. Вновь, как когда-то в марте, Кафка сидит в гостинице и ждет сообщения от Фелиции. В 16:28 он садится в поезд до Праги. И Грете Блох, посреднице, он сообщает: «Так я и уехал из Берлина – как человек, который совершенно непонятно зачем туда приезжал».
Того же 9 ноября в Берлине в квартире Франца Юнга прусская полиция арестовывает известного психоаналитика и писателя Отто Гросса и высылает его в Австрию. Там отец объявляет его сумасшедшим, лишает дееспособности и помещает в Тульнский санаторий. Макс Вебер из Гейдельберга решительно выступает в поддержку своей подруги Фриды Гросс, жены Отто. Берлинский журнал «Акцион» готовит протестный спецвыпуск. Здесь борьба отцов и сыновей и конфликт поколений совершенно иного рода. Обуздание необуздываемого сына через лишение его дееспособности.
В зале Минервы в Триесте, самом значимом портовом городе Австро-Венгрии, Джеймс Джойс читает курс лекций о «Гамлете». До этого он пытался заработать денег в кинематографе в Дублине и подумывал импортировать твидовую пряжу из Ирландии в Италию. Но ничего из этого не получилось. Попытки заработать на собственных книгах также не увенчались успехом. Теперь он по утрам перебивается преподаванием английского, а после обеда дает частные уроки, в том числе будущему писателю Итало Звево. А по вечерам он рассказывал о «Гамлете». Местная газета «Пикколо делла Сера» в восторге: со своими «плотными, но ясными мыслями, формой, одновременно торжественной и строгой, своей остроумностью и живостью» лекция оказалась «поистине блестящей».
«Погладивший тебя / сорвется в пропасть», – так написала мудрая, дикая Эльза Ласкер-Шюлер, познакомившись с Готфридом Бенном. Теперь он ее бросил. И она ужасно страдает: ее мучают невыносимые боли внизу живота. Доктор Альфред Дёблин, совсем недавно позировавший Эрнсту Людвигу Кирхнеру, выезжает в Груневальд и колет ей морфий. Ничем другим он ей помочь не может.
13 ноября выходит «По направлению к Свану», первая часть романной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». После того как, вслед за издательствами «Фаскель», «Оллендорф» и «Нувель ревю франсез», печатать книгу отказался и Андре Жид, бывший тогда редактором в издательстве «Галлимар», Пруст издал книгу на собственные средства у Грассе. Но едва он получает в руки первый экземпляр, как от него уходит его шофер и любовник Альфред Агостинелли. Зато все остальные влюбляются в автора. Рильке читает книгу уже спустя пару дней после выхода. Она начинается золотыми словами: «Давно уже я привык укладываться рано» [44]. Пруст задел этим самый нерв переутомленного авангарда, который от Кафки до Джойса, от Музиля до Томаса Манна всякий раз хвалился в дневниках, когда удавалось лечь спать до полуночи. Лечь спать пораньше: вечно не высыпающимся первопроходцам модернизма это казалось самой большой отвагой в борьбе с депрессией, алкоголем, бессмысленными занятиями и несущимся вперед временем.
Освальд Шпенглер лихорадочно продолжает писать в Мюнхене свой гигантский труд «Закат Европы». Первая часть уже готова. Эмоциональное состояние Шпенглера: аналогично состоянию Европы. Его дневник: трагедия. Он пишет: «Ни одного месяца я не прожил без мысли о самоубийстве». И тем не менее: «В душе я пережил, возможно, больше, чем кто-либо моей эпохи».
Альма Малер всегда так закалывала волосы, что в беседе или танце они с легкостью распускались. Этой техникой она владела в совершенстве: в нужный момент темные локоны падали на лицо, лишая мужчин рассудка. Сегодня этой радости она наконец-то вновь удостаивает Кокошку. Потому что он завершил их совместный портрет – картину, с начала года стоявшую на мольберте и изображающую его и Альму в бушующем море. Сначала он хотел назвать ее «Тристан и Изольда», по опере Вагнера, из которой она ему пела во время их первой встречи. Но потом Георг Тракль дал картине название «Невеста ветра» – оно и осталось. В ноябре погрязший в долгах Кокошка сообщает в Берлин своему галеристу Герварту Вальдену: «У меня в мастерской стоит большая работа, над которой я трудился с января, „Тристан и Изольда“, 21/2 на 31/2, 10 000 крон, я закончил ее несколько дней назад. До 1 января мне надо получить за нее залог в 10 000 крон, потому что сестра моя обручена и в феврале выходит замуж. Картина станет событием, когда будет представлена публике, это моя самая сильная и большая работа, шедевр всех экспрессионистских устремлений. Возьмете ее у меня? С ней Вы обретете всемирный успех».
Скромностью Оскар Кокошка никогда не отличался. Но вот в чем сюрприз: Альма Малер действительно признает в «Невесте ветра» требуемый шедевр Кокошки. «В своей масштабной картине „Невеста ветра“ он изобразил, как я доверчиво прильнула к нему среди бури и вздымающихся волн – ожидая от него помощи, в то время как он, с деспотическим лицом, излучая энергию, смиряет волны». Ей это понравилось, такой она видела себя: энергия, покой, усмиренные волны мира. Альма, мировая владычица. Таким она и представляла себе шедевр своего любовника. Как слепое преклонение. Свое обещание выйти за него замуж в обмен на шедевр она старательно обходит стороной. Но в качестве вознаграждения ему можно приехать в Земмеринг, так как ее новый дом готов. И там ему можно рисовать новую картину.
В Брайтенштейне Альма начала строить летом странный дом – на участке, который Малер купил тремя годами раньше. Дом похож на крупногабаритный камин: темный, крышу как раз укладывают лиственницей, обегающие кругом веранды делают все помещения темными и мрачными. Храм печали. В гостиной висит портрет Альмы, на котором Кокошка нарисовал ее в образе отравительницы Лукреции Борджиа. А рядом под стеклянной витриной – неоконченная 10-я симфония Малера, раскрытая на странице, куда умирающий записал крики своей души: «Альмши, любимая Альмши».
Лишь в качестве вознаграждения за «Невесту ветра» Кокошке было дозволено расписать гостиную в Земмеринге – фреской в четыре метра шириной над камином. Тема фрески – неожиданная: Альма Малер и Оскар Кокошка. Или, как сказала Альма: «Изображая, как я в призрачном свете указываю на небо, в то время как он, казалось, стоял в аду, среди логова смерти и змей. Все задумывалось как продолжение огня из камина. Моя маленькая Гуки стояла рядом и сказала: „Да, а ты что-нибудь кроме мамочки рисовать можешь?“» Хороший вопрос. Ответ: нет.
Рильке в Париже растерянно вспоминает лето и осень в Германии. Как он беспокойно ездил туда-сюда между всеми своими женщинами и сверхматерями, между Кларой, еще-супругой, и своими уже-не-любовницами Сидони и Лу, своей летней любовью Эллен Дельп, своей матерью и очарованными им дамами Кассирер, фон Ностиц и фон Турн-и-Таксис. Держать все открытым, не идти однозначным путем – куда все это приведет, думает Рильке 1 ноября. Как образ жизни – это катастрофа. Как поэзия – откровение:
Пути открыты Больше нет преграды предо мной, что меня в томлении держала: все пути открыты, пеленой с глаз земная увлеченность пала. Боль от всех любовных ожиданий мучила меня и день и ночь: боли той от встреч и расставаний я не мог доселе превозмочь.В Аугсбурге Бертольт Брехт сетует на ноябрьские простуды. И чем только еще ни страдает пятнадцатилетний школьник, как свидетельствует его дневник: голова болит, насморк, катар, резкие боли в спине, кровь из носа. Каждый день знаменуется краткими бюллетенями о его «самочувствии», он смакует собственные боли и накручивает вторичную выгоду от болезни: «Утром был доктор Мюллер. Сухой бронхит. Интересная болезнь. Насморк у любого бывает».
Выражение «An apple a day keeps the doctor away» [45] впервые всплывает в 1913 году – в книге Элизабет Райт «Деревенская речь и фольклор».
Эмиль Нольде все ближе и ближе к тихоокеанским островам. 5 ноября удается приплыть через Желтое море в Китай. За пять дней пароход «Принц Эйтель Фридрих», пройдя мимо Тайваня, добирается до Гонконга. Из Гонконга экспедиционная группа теплоходом «Принц Вальдемар» отправляется через Южно-Китайское море в Германскую Новую Гвинею. Но ступив на землю далекой немецкой колонии, он приходит в недоумение. Вместо девственного рая он обнаруживает рынок. В ноябре 1913 года Нольде пишет на родину: «Дорогой друг, горько наблюдать, как целые земли здесь заполонены наихудшими галантерейными товарами из Европы, от керосиновой лампы до простейшего хлопка, выкрашенного неестественной анилиновой краской». Чтобы увидеть это, жалуется он, не было нужды отправляться в путешествие. Он оставляет свои принадлежности для рисования в чемоданах и чертыхается.
2 ноября рождается Берт Ланкастер.
Когда Георг Тракль возвращается из Венеции в Австрию, тонущий город запускает ему вослед машину вдохновения. В последние месяцы 1913 года поэзия охватывает его со страшной силой, и вместе с тем чуть не проламывает ему череп. Дурман языка рассказывает о преисподней, творящейся у него внутри.
«Все раскалывается надвое», – пишет он в ноябре. Так никогда и не выяснится наверняка, что же случилось, но можно предположить, что его любимая сестра Грета беременна. И совершенно неясно, от кого: от своего мужа (который был у нее в Берлине), от него самого или от его друга Бушбека, которого он подозревает в связи с ней. Мы знаем только, что в одном из ноябрьских стихотворений Тракля появится «нерожденное», и через три месяца он напишет, что у сестры был выкидыш. Но кто знает. Его душа настолько истерзалась, что и самой жизни хватило бы расколоть его пополам.
В благодарность своему покровителю и спасителю Людвигу фон Фикеру он, несмотря на безутешное состояние, после долгих уговоров соглашается на публичное выступление. Он читает на четвертом литературном вечере фикеровского журнала «Бреннер» в Филармоническом зале Инсбрука. И, судя по всему, поэт говорил так, будто все еще бродил, бормоча себе под нос, по венецианскому пляжу Лидо: «Поэт, к сожалению, говорил очень слабо, словно из какой-то сокрытости, из жизней прошлых или будущих, и лишь с течением времени удавалось в монотонно-молитвенном языке этого уже даже внешне своеобразного человека уловить слова и фразы, а за ними – образы и ритмы, которые составляют его футуристическую поэзию». Так написал Йозеф Антон Штойрер для «Тирольских ведомостей».
Между обоими провальными выступлениями – на Лидо и в филармонии – возникает одна из центральных глав немецкоязычной лирики двадцатого века. В ней всего 49 стихотворений, среди которых главные произведения «Себастьян во сне», «Песня Каспара Хаузера» (одно посвящено венецианскому путешественнику Адольфу Лоосу, другое – его жене Бесси) и «Превращения зла». На самом деле возникает 499 или 4999 стихотворений, потому что стихи Тракля всегда не окончены: существуют бесчисленные версии, заглавия, редакции, правки и варианты. Он не устает хвататься за карандаш и переделывать рукописи, не устает писать издателям журналов, где печатаются его стихи, и просить поменять это слово на другое, а другое на это. «Синий» может превратиться в «черный», а «легкий» в «далекий». Он таскает за собой мотивы, пытается уместить их в строфу за строфой и, если не удается, переносит их в следующее стихотворение, в следующий год. «Неисправимый в высоком смысле слова» – сказал о Георге Тракле Альберт Эренштейн. Но это не так. Самого его еще можно было исправить. Но лишь через него самого. Его стихотворения – монтаж из того, что он слышал, читал (Рембо в первую очередь и Гёльдерлин), чувствовал. Но бывает и так, как, например, в стихотворении «Просветление» из ноября 1913 года: начинавшееся «источником голубым, бьющим в ночи из отмершего камня» оно превращается в итоге в «цветок голубой, тихо звенящий в камне замшелом» [46]. Романтизм всегда предстает исходной точкой, но вместе с тем и томительной целью тихо звенящего Тракля. Одной только осенью 1913 года голубой цветок расцветает в стихотворениях Тракля девять раз. В эпитафии Новалису он увядает уже в ранней редакции текста. Но едва «голубой» увял и был вычеркнут, начались новые опыты над словами. Цветок может быть каким угодно: сперва «ночным», потом «сияющим», в итоге «розовым». Чтобы производить впечатление пророческих, стихам Тракля не хватает точности. Здесь скорей успевает блеснуть немецкий словарный запас во всей своей роскоши, силе, в зальцбургском позднем барокко, пока Тракль не откроет, наконец, дверь в производственный цех вдохновения и надо всем не повеет чумной дым исхода и ледяное дыхание его души. Всюду умирают цветы, темнеют леса, прячутся лани, смолкают голоса.
Мертвый приходит к тебе.
Истекает сердце захлебывающейся кровью,
под черными бровями гнездится невысказанный взгляд;
темная встреча.
Ты – пурпурный месяц, вот он сияет в зеленой тени олив.
Следом идет непроходящая ночь.[47]
Это непреходящее переживание vanitas кажется слишком экзистенциальным, чтобы Тракля можно было уличить в словесном опьянении или даже китче. Тракль умел выражаться только лирически, его правки и редакции суть его автобиография. Он узрел темноту, уловил мимолетность, потребовал объяснений от непостижимого. Он всматривался в себя и становился свидетелем незримого, с фантазией, обретающей окончательную свободу лишь в интроспекции.
В борьбе с языком он шлифует слова до тех пор, пока не поймет, что может отпустить их в мир. В мир, где самому ему не выжить. Его стихи – пусть даже они повествуют о последних днях человечества – не возвещают беды. В них история давно приняла – в дюрренматтовском смысле – «наихудший оборот», именно потому, что уже оказалась подумана и записана в стихах.
3 ноября рождается Марика Рекк.
Роберт Музиль устал и ложится раньше жены. Но не может заснуть. Спустя какое-то время он слышит, как она идет в ванную готовиться ко сну. Он берет блокнот, всегда лежащий на прикроватном столике, карандаш и просто записывает все, что происходит: «Я слышу, как ты надеваешь ночную сорочку. Но это еще далеко не все. Опять совершаются сотни мелкий действий. Я знаю, что ты торопишься; во всем этом, очевидно, есть необходимость. Я понимаю: мы наблюдаем за безмолвным поведением зверей, удивляясь, как у них, не обладающих, по-видимому, душой, действия следуют одно за другим, с утра до вечера. Здесь то же самое. Ты не осознаешь всех бесчисленных действий, которые совершаешь, всего, что кажется тебе важным и остается незначительным. Они на каждом шагу в твоей жизни. Я случайно это осознаю, пока жду тебя». Любовь кажет себя и в чувствующем, изумляющемся, воодушевленном, нежном вслушивании и наблюдении.
1 ноября баварского короля Отто официально объявляют сумасшедшим. Врачи диагностируют «финальную стадию продолжительного психического заболевания». Таким образом юридически возможным становится восхождение на трон принц-регента Людвига под именем Людвиг III.
У сумасшедшего Войцека галлюцинации: «Над городом зарево! Все небо горит! И словно трубный глас сверху» [48]. 8 ноября в мюнхенском театре Резиденции, после многолетних настаиваний Гуго фон Гофмансталя, состоится премьера возникшей в 1836 году и оставшейся фрагментом драмы «Войцек» Георга Бюхнера, рожденного в 1813 году. Постановка чудесно вписывается в этот год: идеальный момент, чтобы вторгнуться в сознание. Какая пьеса, какой язык, какой темп! Уж почти восемьдесят лет, а кажется, будто написана сегодня. Эта история параллельна «Верноподданному» Генриха Манна, только в ней гораздо больше насилия, в ней глубже архаика. Врач использует Войцека для экспериментов, капитан – для унижений. После того как любимая Мария изменила ему с симпатичным «Тамбурмажором», он не сдерживает агрессию и закалывает ее. Жертва оборачивается преступником. «Ключевым моментом, – как говорит Альфред Керр, – становится мучающее человечество, а не замученный им человек». Это драма пролетария, пьеса о мятеже и протесте. Рильке вне себя от восторга: «Спектакль бесподобен, как этот покалеченный человек там стоит в своей куртке посреди мироздания, malgre lui[49], в бесконечности звезд. Это театр, таким театр мог бы быть». Но прежде всего это торжество языка, который бьется меж галлюцинацией и сказкой, канавой и поэзией и набрасывается на тебя ястребом. В конце пьесы есть сказка об одиноком ребенке: «А не нашедши на земле, решил он поискать на небе – там месяц такой ласковый светит. А как пришел к месяцу, смотрит – ан это гнилушка. Пошел он тогда к солнцу, а как пришел, смотрит – ан это вялый подсолнечник. А как к звездам пришел, смотрит – это маленькие золотые жучки, насаженные на булавки. Захотелось ему обратно на землю – глянь, а вместо земли – горшок перевернутый. Так он и остался один-одинешенек».[50]
Эта сказка полностью соответствовала вкусам 1913 года. Безутешная, по ту сторону всякой утопии, но наполненная поэзией.
Возможно, в тот день, 8 ноября, он был среди гостей на премьере «Войцека», от его квартиры на Айнмиллерштрассе до театра рукой подать: Эдуард фон Кайзерлинг, самый крупный и самый забытый антиутопист своего времени. Он и без того лицом не вышел, а тяжелый сифилис и болезнь спинного мозга внесли дополнительную лепту, и вот теперь обедневший балтийский граф делит с двумя сестрами Генриеттой и Эльзой один этаж в Швабинге. Между тем, он уже почти совсем ослеп, но диктует сестрам богатые красками рассказы и романы. В принципе, в своих книгах, выходящих год за годом, он рассказывает одну и ту же историю. Но с точки зрения языка, это ни на что не похожее певучее заклинание природы, которым он хочет облегчить дворянскому роду его кончину. Отсутствующую рефлексию он рассматривает как самый ее большой отличительный признак. От его книг исходит волнительный покой: расточительство чувств, слов, прилагательных, к которым он обращается, лишь бы скрыть бессмысленность, на которую модернизм обрек этот мир. Никто, за исключением Штифтера в «Бабьем лете», не умел описать роскошь нордического лета с такой страстью и разнообразием. Вместе с тем Эдуард фон Кайзерлинг демонстрировал, что ностальгией не справиться с настоящим. Когда его персонажи говорят, он просто слушает их – с недоверием, улыбкой и смущением. Он верит только природе, ее росту, цветению, увяданию. Довольно гениально. Как раз вышли «Волны», его самый крупный антиутопический манифест, а в 1913-м он работал над новеллой «На южном склоне», своим шедевром. Над главным героем Карлом Эрдманом фон Вест-Вальбаумом, владеющим имением в Прибалтике, как некогда и сам автор, нависла угроза дуэли, «с хрупкой явственной оболочкой, словно плод, созревший на южном склоне». Вся новелла движется к этой дуэли. Вместе с тем дворяне в этой истории иронизируют по поводу первых брешей в отношении полов, когда, например, обожаемая всеми Даниэла фон Бардов говорит своему поклоннику Карлу фон Эрдману: «Зачем вы тоже хотите быть сложным, всем сейчас надо быть сложными и загадочными, и все думают, будто смогут тогда нам понравиться». Немного позже, когда он написал ей любовное письмо, наполнив его чувствами, она в садовой беседке тщательно проходится по нему, словно скальпелем, и говорит о нем: «Китч». «На южном склоне», таким образом, представляет собой еще и монумент языкового скептицизма. Но больше всего подкупает, как Кайзерлинг держит всю историю в напряжении, ведет все к большой роковой дуэли. Чья же песенка спета: Карла Эрдмана, высокопарного пошлого любовника, или его бравого противника, который того оскорбил? Что делает Кайзерлинг в кульминационный момент: оба стреляют мимо, дуэлянты собирают вещи. Все разваливается. Названное новеллой таковой не является – нет никакого «события». Врач, присутствующий на дуэли, явно разочарован: он, как иронично отмечает Кайзерлинг, «внутренне слишком много готовился».
Все участники (и с ними читатель) чувствуют, что сама угроза дуэли и возможная смерть были предвещанием. Редко современная литература оборачивается таким исследованием менталитета, как здесь. 1913-й или: год на южном склоне Истории.
Эрнст Юнгер тоже «внутренне слишком много готовился». Жажда опасности гонит его прочь из Бад-Ребурга – курорта, где пахнет коровами, торфом и стариками – и из отчего дома, через круглые окна которого почти не проникает свет.
В августе он, одетый во все зимнее, зашел в отчий парник подготовить свое тело к экстремальным условиям. Теперь он чувствует, что созрел для Африки. Годами он под школьной скамьей зачитывался захватывающими путешествиями в сердце тьмы. «В один слякотный пасмурный осенний день я, трясясь от страха, зашел в комиссионный магазин приобрести шестизарядный револьвер с патронами. Он стоил двенадцать марок. Из магазина я вышел с чувством триумфа и прямиком направился в книжную лавку, где приобрел толстую книгу „Тайны черного континента“, казавшуюся мне необходимой».
И потом, с книгой и револьвером в багаже, 3 ноября он отправляется в путь, никого не поставив в известность. Но как на поезде добраться из Ребурга в Африку? К сожалению, в географии он силен никогда не был. Эрнст Юнгер покупает себе трубку, чтобы чувствовать себя взрослее и подбодрить сердце искателя приключений, берет билет четвертого класса и едет от вокзала до вокзала в юго-западном направлении. Он едет все дальше и дальше, сначала в Триер, потом через Эльзас-Лотарингию – Юнгер продирается к цели: в один прекрасный день, после бесконечной одиссеи, 8 ноября он оказывается в Вердене, где вступает в иностранный легион. Его распределяют в 26-ю учебную роту под номером 15308 и увозят в Марсель, там он садится на корабль до своей земли обетованной: Африки. Местная газета сообщает: «Бад-Ребург, 16 ноября. Приманер[51] – иностранный легионер. Унтерприманер Юнгер, сын горнопромышленника доктора философии Юнгера, был завербован во Французский иностранный легион и находится сейчас на пути через Марсель в Африку. Отец горемыки обратился за помощью в Министерство иностранных дел в Берлине. Германское посольство вынуждено связаться с правительством Франции по поводу освобождения Юнгера».
После сыгранной в мае свадьбы Виктория Луиза Прусская и принц Эрнст Август Гамбургский уезжают в ноябре в Брауншвейг. Впервые за последние почти пятьдесят лет правящим герцогом Брауншвейга вновь стал один из рода Вельфов. Молодая пара счастлива. У них будет пятеро детей.
В гарнизонном городке Цаберн в Эльзас-Лотарингии, с 1871 года принадлежащем Германской империи, 28 октября происходит нечто ужасное. Вечером перед казармой германской армии появляется несколько десятков демонстрантов, протестующих против того, что командир полка барон Гюнтер фон Форстнер объяснил своим рекрутам, что все французы «вакес» [52] и: «На французский флаг можете наложить». Эти слова попали на первые полосы местных газет и привели население в ужас. Когда демонстранты поднимают плакаты и агитируют за большее уважение, по приказу командира полка на них выдвигаются три вооруженных пехотных взвода. Среди демонстрантов возникает паника, но немецкие солдаты обрушиваются на них с побоями и задерживают свыше тридцати человек, среди которых и непричастные прохожие. Их запирают в подвале для угля без света и туалета. На это командир полка барон Гюнтер фон Форстнер произносит следующие слова: «Если польется кровь, то, мне кажется, весьма кстати. Командование лежит на мне, и мой долг перед армией – добиться ее уважения».
Пять дней спустя его замечают с труппой солдат, и несколько рабочих обувной фабрики кричат ему «вакес-лейтенант», на что он теряет самообладание и дает одному сапожнику-инвалиду, который не смог убежать, саблей по голове, так что тот оседает, обливаясь кровью.
Уже на следующий день рейхстаг в Берлине обсуждает события в Цаберне. Цабернский инцидент угрожает миру между Францией и Германской империей как никакое событие раньше. Военный министр Германии Эрих фон Фалькенхайн не дает сбить себя с толку открытым правонарушением немецких военных. Он утверждает, будто «галдящие скандалисты» и «подстрекательские печатные органы» виноваты в обострении ситуации. В ответ на это разгораются скандалы в ландтаге, оппозиция возражает против оправдания действий военных вне рамок закона и порядка. Депутат от партии Центра Константин Ференбах: «Военные также подчиняются закону и праву, и если мы дошли до того, что ставим военных вне закона и отдаем гражданское население на произвол военных, тогда, господа: Finis Germaniae!… Это катастрофа для Германской империи». Но настоящая катастрофа еще впереди, потому что главе германского государства Вильгельму II ухарский выпад немецких военных вообще-то по вкусу, и в так называемом Цабернском инциденте он не видит ничего поистине драматичного. Зато воплем реагирует европейская пресса, когда вынесенный командиру Форстнеру приговор, изначально предусматривавший сорок три дня тюремного заключения за умышленное телесное повреждение, высший военный суд в апелляционном порядке заменяет на оправдательный вердикт. Форстнер, как заявили судьи, действовал в «мнимо необходимой обороне», а, следовательно, невиновен. Либеральная «Франкфуртская газета» понимает ужасающий посыл этого оправдания: «Бюргерство потерпело крах. Это подлинный и очевидный знак Цабернского процесса… В конфликте между властью военной и властью гражданской военный суд признал неограниченное господство первой над второй».
В 1913 году основывается фирма «Прада», а в галерее Витторио Эммануэле в Милане открывается их первый магазин элегантных кожаных товаров.
Император Вильгельм в середине ноября едет поездом в Хальбе на Императорский вокзал, затем на каретах путь продолжается до Дубровских лесов. Там в половину второго дня начинается охота, на окруженной сетями территории. Дичь гоняют прямо перед стрельбищем его величества. Два ружейника только и успевают перезаряжать. Когда в 14:45 охота сворачивается, добыто в общей сложности 560 штук дичи. Один император Вильгельм II подстрелил десять ланей и десять кабанов. Вечером, за охотничьим ужином, он выступает с инициативой, что нужно все-таки установить какой-нибудь памятник в честь его меткости.
Ноябрь 1913 года ознаменован самой интимной, самой чуткой и, возможно, самой честной перепиской между Томасом и Генрихом Маннами. Дела у Томаса Манна в этот момент идут не самым лучшим образом. Его жена Катя никак не поправится: кашель, который она месяцами, если не годами пыталась вылечить в санаториях, вновь охватил ее, с большей, чем когда-либо, силой. Кроме того, он впервые залез в долги, не подрасчитал со строительством дома на Пошингерштрассе, который почти готов. Он просит своего издателя Самуэля Фишера об авансе в 3000 марок за следующий роман. А своему брату Генриху он пишет: «Меня всегда в первую очередь занимал упадок, и, вероятно, именно он не дает мне интересоваться прогрессом». И потом: «Но что за болтовня. Плохо, что все невзгоды эпохи и отчизны лежат на человеке, не имеющем силы их выразить. Но и это, надо полагать, тоже часть этих невзгод. Или их удастся выразить в „Верноподданном“? Я радуюсь твоим работам больше, нежели собственным. Ты духом крепче, это главное». И потом, в редком порыве любви к брату: «Конечно, абсолютная бестактность, что я пишу тебе так – ведь что тебе отвечать на это». Но Генрих Манн, который в ближайшие месяцы закончит свой эпохальный роман «Верноподданный», очевидно, знает, что ответить. Его реакция нам неизвестна. Зато известна – Томаса Манна: «За твое умное, нежное письмо благодарю тебя от всего сердца». И затем своего рода внезапное объяснение в любви всем братьям и сестрам: «В лучшие свои времена я уже давно мечтаю написать еще одну большую правдивую историю жизни, продолжение Будденброков, историю всех нас пятерых братьев и сестер. Мы того стоим. Все». Никогда больше он не даст брату так глубоко заглянуть в свою измученную усталостью и сомнениями душу.
Никаких следов «Моны Лизы».
У Марселя Дюшана все еще нет охоты к искусству, зато есть идея. «Можно ли, – спрашивает он себя, – творить произведения, которые не были бы произведениями искусства?» А потом осенью в его новой квартире на улице Сент-Ипполит в Париже появляется вдруг переднее колесо велосипеда, которое он прикручивает к обычной табуретке. Марсель Дюшан рассказывает об этом совершенно ненавязчиво: «Мне просто хотелось, чтобы это было у меня в комнате, как бывает у человека камин или карандашная точилка, разве что только никакой пользы от этого предмета нет. Это приятное устройство, приятное в силу движения, которое оно производило». Дюшана это так успокаивает – вращать колесо рукой. Бесконечное вращение вокруг своей оси доставляет удовольствие. Пока в Париже, Берлине и Москве художники все еще спорят о том, по какому пути должно идти искусство – кубизм, реализм, экспрессионизм или абстракционизм, – молодой Дюшан просто ставит на кухне велосипедное колесо и создает тем самым первый реди-мэйд. Самая ненавязчивая смена парадигмы в истории искусства.
20 ноября Кафка пишет в дневнике: «Был в кино. Плакал».
Безудержность эмоций в кинозалах активизирует в 1913 году поборников прав молодежи. Педагог Адольф Зельман пишет в предисловии к своей книге «Кино и школа»: «Призываем учителей обратить внимание на всю опасность, исходящую от дурного кино, и оградить от нее нашу молодежь. Задача школы – просвещать, чтобы в ней и за ее стенами человек понимал, что за дурную моральную пищу предлагают нынче в кино. Она должна заниматься просвещением в прессе, на родительских собраниях и конференциях. Она должна добиваться законодательных мер и полицейских распорядков, чтобы оградить нашу молодежь от всего пагубного влияния, исходящего от кино». В Фульде Германская конференция епископов устанавливает для духовенства специальные нормативы для предотвращения негативных последствий от посещения кинотеатров. Впредь никто не должен плакать перед лицом сентиментальной пошлости! Требуют не допускать к просмотру детей младше шести лет. Кроме того, взрослые должны отказаться от морально негодных фильмов.
Это называется благим намерением.
Какое красивое имя: граф Альберт Менсдорф-Пули-Дитрихштейн. Благодаря женитьбе одного из своих предков на Саксен-Кобургской принцессе в далеком девятнадцатом веке, Альберт Менсдорф, или просто граф Али, оказался в родстве почти со всеми европейскими дворами, что каждый день вдохновляло его по-новому. Двоюродному брату британского короля и австро-венгерскому послу в Лондоне в ноябре 1913 года удается собственный шедевр. Британский король Георг V пишет ему в надежде, что «эрцгерцог и герцогиня смогут на несколько дней в ноябре приехать пострелять в Виндзор». Еще бы они не смогли! Это первое официальное приглашение для австрийского престолонаследника и его замученной протокольными унижениями супруги, герцогини Софии. Граф фон Мендельдорф-Пули-Дитрихштейн знает, что ему удалось, и пишет эрцгерцогу Францу Фердинанду: «Как Вы знаете, все эти официальные мероприятия со зваными обедами, тостами, приемами, театрами и т. д. и т. п., на которых тебя загоняют до полусмерти, – для меня сущий кошмар (sic)». Плохая шутка. Потому что граф, вероятно, самый видный светский лев австро-венгерской дипломатии: с каждого званого обеда он сохраняет меню и рисует на следующий день схему, на которой отмечает, с кем он сидел. Зачем же так наговаривать на общественную часть визита эрцгерцога? Это объясняется тем, что с престолонаследником его связывает взаимная сердечная неприязнь. Но эрцгерцогу до этого нет ровно никакого дела. Для начала он доволен возможностью совершить с женой официальный визит за границу. И доволен, что уже спустя две недели после охоты с кайзером Вильгельмом может теперь пойти на охоту вместе с королем Георгом V рядом с Виндзорским дворцом. Франца Фердинанда и короля сопровождают три английских герцога, в то время как дамы в Виндзорском дворце ведут беседы и слушают концерты. Во вторник, 18 ноября, охотники подстреливают тысячу фазанов и четыреста пятьдесят диких уток, которых облавщики загоняют им под ружье. В среду, 19 ноября, они при свете восхитительного солнца отстреливают тысячу семьсот фазанов. А в пятницу, когда ветер и дождь хлещут охотничье общество в лицо, убивают еще восемьсот фазанов и четыреста диких уток. Резня.
Декабрь
Все открыто: будущее и уста красивых женщин. Казимир Малевич рисует черный квадрат. Роберту Музилю очень темно в Германии. «Мона Лиза» обнаруживается во Флоренции и становится самой важной картиной в мире. Райнер Мария Рильке жалеет, что он не еж. Томас Манн уточняет: я пишу не про волшебную подкову, а про волшебную гору! Эмиль Нольде находит в тихоокеанском раю лишь подавленных людей, а Карл Краус в Яновице – счастье. Эрнст Юнгер найден в Африке и празднует Рождество в Бад-Ребурге. А как расположились звезды?
Марсель Дюшан. Велосипедное колесо (из: Марсель Дюшан, Остфильден-Рунт, 2002).
В декабре 1913 года, пока в Париже первый реди-мэйд, велосипедное колесо на табурете, вращается в руке Марселя Дюшана, в Москве появляется первый «Черный квадрат» – и это две точки отсчета современного искусства.
3 декабря 1913 года в санкт-петербургском театре «Луна-парк» – премьера футуристической оперы «Победа над солнцем». Эскизы к костюмам и декорациям создает Казимир Малевич, на занавесе он рисует черный квадрат. Это – предтеча картины, которая станет олицетворять «начало новой цивилизации», или, как назовет Малевич эту цезуру, «супрематизм». Два года спустя, в декабре 1915 года на выставке «0,10» в Санкт-Петербурге он представит тридцать пять новых работ, «Супрематический манифест» и свое неслыханное произведение: «Черный квадрат на белом фоне». Картина – сплошь провокация и откровение. Квадрат олицетворяет для Малевича «нулевую форму», опыт чистой беспредметности. А из элементарного контраста белого и черного для него возникает универсальная энергия. Это конечный продукт искусства – и вместе с тем начало чего-то совершенно нового. Это отказ от всех претензий к художнику и искусству – и вместе с тем одно из величайших самоутверждений художественной автономии. Думая о 1913 годе, нельзя не вспомнить о «Черном квадрате».
Второму шедевру, формирующему 1913 год, уже порядка четырех сотен лет, и нарисован он на деревянной панели 77 на 53 сантиметра из ломбардского белого тополя. «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. С тех пор, как два года назад она была похищена из Лувра, так и не удалось напасть на ее след.
Но в начале декабря флорентийский антиквар Альфредо Джери получает письмо. Упитанный господин, широкоплечий и веселый, его антикварный магазин на виа Борго-Огниссанти обслуживает все высшее сословие Флоренции. Среди его клиентов числятся также Элеонора Дузе и ее любовник Габриэле Д'Аннунцио. Письмо, которое он держит в руках, сбивает с толку. Это правда или письмо сумасшедшего? Он читает еще раз: «Украденная работа Леонардо да Винчи находится у меня. Очевидно, она принадлежит Италии, так как художник был итальянцем. Я хочу вернуть этот шедевр стране, в которой она родилась и которой была вдохновлена. Леонардо».
В переписке Джери удается договориться с подозрительным отправителем «Леонардо» о встрече в Милане 22 декабря. Но когда 10 декабря в половину восьмого вечера Джери собирается закрывать свой салон, ему представляется господин, смешавшийся перед этим с последними посетителями: «Меня зовут Леонардо». Джери растерянно смотрит на человека: смуглое лицо, напомаженные черные волосы, в целом он кажется каким-то елейным со своими закрученными усиками. Он-де все же приехал пораньше и под именем Леонардо Винченцо остановился в гостинице «Альберто Триполи-Италиа» на виа Панцани. Стало быть, всего лишь через квартал от Борго-Сан-Лоренцо, где четыреста лет назад Лиза дель Джокондо позировала Леонардо.
Завтра в три часа дня, говорит Леонардо, синьор Джери может взглянуть в гостинице на «Мону Лизу». Джери мобилизует директора Уффици, Джованни Поджи, и втроем они идут от антикварного магазина в невзрачный пансион. По дороге Джери и Леонардо договариваются, что тот получит 500 000 лир, если картина окажется настоящей. Это мило, говорит Леонардо, но дело не в деньгах – он просто хочет вернуть Италии украденное сокровище искусства. Поджи и Джери недоуменно смотрят друг на друга.
Господа поднимаются в «Альберто Триполи-Италиа» по крутой лестнице на второй этаж в скудный номер Леонардо. Он достает из-под кровати чемодан, бросает все содержимое, включая нижнее белье, инструменты и принадлежности для бритья, на кровать. Затем открывает в чемодане двойное дно и берет в руки обернутую в красный шелк доску. «Перед нашими глазами предстала божественная Джоконда, невредимая и прекрасно сохранившаяся. Мы поднесли ее к окну, чтобы сравнить с принесенной фотографией. Поджи ее исследовал», – рассказывал потом Джери. Сомнений нет, на оборотной стороне у нее инвентарный номер Лувра. Но, несмотря на возбуждение, Джери и Поджи обуздывают нервы – они говорят Леонардо, мол, его картина, возможно, и та, которую ищут, однако необходима дополнительная экспертиза. Леонардо, изнуренный поездкой и перспективой получить 500 000 лир, ставит картину к стене и ложится вздремнуть.
Поджи поднимает на ноги полицию – когда карабинеры открывают дверь, Леонардо все еще спит, а возле кровати разбросано все содержимое его чемодана. При аресте он не оказывает сопротивления. Под охраной полицейских «Мону Лизу» доставляют в Уффици. Затем, осознавая значимость своей находки, Поджи звонит не только министру культуры Коррадо Риччи в Рим и французскому послу Камалю Бареру, но и просит соединить его с королем Виктором Эммануилом III и папой Пием X.
В итальянском парламенте как раз дрались два депутата, когда кто-то вошел в пленарный зал и провозгласил: «La Gioconda ha trovato». Джоконда вернулась! Послание было понято. Дерущиеся обнялись и обменялись поцелуями восторга.
С этой минуты вся Италия была охвачена лихорадкой «Моны Лизы». А Леонардо? Леонардо звали Винченцо Перуджа, ему было тридцать два года, и на момент кражи он работал в Лувре помощником стекольщика. Он помещал тогда «Мону Лизу» в вызвавшую споры стеклянную раму. А так как он ее туда помещал, то он же и знал, как проще всего ее оттуда достать. На ночь он спрятался в музее, вытащил картину, завернул ее в холст, а утром спокойно вышел из Лувра – охранники, хорошо его знавшие, ему лишь кивнули.
Творился полный абсурд. У всех, у каждой уборщицы, каждого историка искусства, каждого архивариуса в Лувре полиция взяла отпечатки пальцев, чтобы поймать вора, потому что тот оставил следы на картинной раме. Но про помощника стекольщика все забыли. К нему, как и ко всем остальным сотрудникам Лувра, полиция даже приходила домой, в его бедняцкую комнату на улице Лопиталь Сен-Луи, 5. Но полицейские не заглянули под кровать.
Именно там, в километре по диагонали от Лувра, целых два года лежало самое разыскиваемое произведение искусства в мире. История обернулась шоком: для Лувра и для парижской полиции. Но вместе с тем она стала и счастливой рождественской вестью. Перуджа в тюремной камере получал бесчисленные письма благодарности, сладости и подарки от признательных итальянцев.
Габриэле Д'Аннунцио написал: «Он, мечтавший о славе и чести, он, мститель Наполеоновых краж, вернул ее через границу назад во Флоренцию. Лишь поэт, великий поэт, способен на такую мечту».
Уже 13 декабря государственные чиновники Франции и историки искусства были во Флоренции, чтобы удостовериться в подлинности «Моны Лизы». Итальянский министр культуры Риччи произнес красивые слова: «Как бы я хотел, чтобы французы признали картину копией, тогда бы „Мона Лиза“ осталась в Италии». Но французы тоже признали в картине оригинал.
Альфредо Джери получил от Лувра вознаграждение за находку, а от французского государства – Орден Почетного Легиона. Леонардо, он же Винченцо Перуджа, был приговорен к семи месяцам тюремного заключения.
14 декабря «Мона Лиза», охраняемая небывалым международным почетным караулом из жандармов и карабинеров в парадной форме, висела в Уффици. В роскошной золоченой раме из орехового дерева ее пронесли по залам, словно во время торжественного шествия. Посмотреть на нее пришло тридцать тысяч человек; итальянских детей освободили на один день от школы, чтобы съездить во Флоренцию и полюбоваться национальной святыней. Затем, 20 декабря, картину салон-вагоном, полным почетных гостей, увезли в Рим к королю Виктору Эммануилу III. На следующий день в Палаццо Фарнезе он передал ее посольству Франции во время символической церемонии. За рождественское время картина еще раз выставлялась в Вилле Боргезе – министр культуры Риччи лично сидел в часы работы возле картины: он обещал ни на секунду не спускать с нее глаз. Ночью за ней смотрела дюжина полицейских. Затем «Мона Лиза» салон-вагоном отправилась в Милан – после того как были приняты строжайшие меры по обеспечению безопасности, картину в течение двух дней можно было видеть в музее Брера. Поездка «Моны Лизы» по Италии была триумфальным шествием, которому не было равных. Мимо какого вокзала ни проезжал бы вагон, народ ликовал и махал ему вслед. Из Милана «Мона Лиза» получила частный вагон в экспрессе Милан – Париж. С ней обходились как с королевой. Поздним вечером 31 декабря «Мона Лиза» пересекла французскую границу. Она покинула Лувр картиной, а вернулась туда мистерией.
В декабрьском номере «Нойе Рундшау» на рекламном вкладыше без номера страницы появляется краткое сообщение Оскара Бие, накануне посетившего Томаса Манна дома: сообщается, что Манн работает над новой новеллой под названием «Волшебная подкова». У Бие настолько неразборчивый почерк, что он его и сам зачастую не может расшифровать. Поэтому Томас Манн весь декабрь занимается тем, что информирует всех написавших ему по этому поводу друзей и знакомых: «Не думайте, будто (новелла) готова. Она, кстати, называется „Волшебная гора“ (Бие неверно прочитал)».
15 декабря Эзра Паунд, великий поэт и один из центральных и наиболее активных культуртрегеров Лондона, пишет письмо Джеймсу Джойсу в Триест. Он просит обедневшего учителя английского прислать ему несколько своих последних стихотворений для журнала «Эгоист». «Уважаемый господин! – начинается это дружелюбное письмо. – После того что рассказывает мне Йейтс, я в силах предполагать, что нас объединяет то или иное отвращение». После этого письма Джойсу кажется, будто он восстал из мертвых. Вот уже и второе письмо пришло от Паунда, он получил от Йейтса стихотворение Джойса «Я слышу: мощное войско…», которое его восхитило. Неимоверно воодушевленный, Джеймс Джойс в тот же день садится и правит обе рукописи. Спустя две недели готовы первые главы «Портрета художника в юности» и рассказы «Дублинцы» – он отправляет их экспрессом Эзре Паунду в Лондон. A star is born.
Ночи напролет доктор медицины Альфред Деблин, пишущий невропатолог и сотрудник журнала Герварта Вальдена «Штурм», торчит в мастерской Эрнста Людвига Кирхнера на Кёрнерштрассе. В который раз Деблин пишет о мужчине и женщине в условиях совместного бытия, о борьбе полов. Например, когда любовница родила от него сына: «Брак – не специализированный магазин сексуальности. Столь же нелепо требовать удовлетворять все сексуальные отношения лишь в рамках своего брака – словно требовать испытывать голод лишь к обеду и только в определенных ресторанах». Кирхнеру это очень понравилось. Летом он сделал гравюры для дёблинского рассказа «Послушница и Смерть», которые в ноябре 1913 года выходят в «Лирических листках» маленького вильмерсдорфского издательства А.Р. Майера. В том же издательстве, в котором в 1912-м выходил «Морг» Готфрида Бенна и в 1913-м его новый сборник «Сыновья». В декабре Кирхнер начинает работать над иллюстрациями к одноактной пьесе Дёблина «Графиня Мицци» – пьесе о кокотках, за которыми Кирхнер наблюдал жадными глазами художника: как они курсируют по Фридрихштрассе и по задворкам Потсдамской площади. Деблин говорит о кокотках: «Сексуальные органы – промышленные инструменты». Это теория той практики, которую расписывает Кирхнер. В этом декабре он предпринимает все новые попытки перевести на язык искусства Потсдамскую площадь, ее обаяние и холод, суетливость и безотнесенность. Меховые воротники кокоток, их розовые лица в бледном инее воротников, эти кричащие зеленые боа – и рядом безликие безвольные мужчины. Кирхнер рисует и рисует, а однажды даже записывает в альбом три слова: «кокотка = женщина эпохи».
Рождественский сочельник на берлинской Клопштокштрассе у Ловиса Коринта.
Его творческое наследие обогатилось еще на один год. Главным образом в Тироле он расширил палитру, нашел оттенок для гор, который доведет потом до мастерства, рисуя озеро Вальхензее. Но сейчас он пока еще набирается сил. Когда рождественский ужин наконец-то позади и пора раздавать подарки, папа Коринт просит детей еще чуточку потерпеть. Он достает мольберт, подрамник и краски. Шарлотта тоже ненадолго выходит, чтобы поискать Деда Мороза. На самом же деле – чтобы в Деда Мороза переодеться. Затем появляется Дедушка Мороз, то есть Бабушка Мороз, и можно начать раздавать подарки. Но свои Ловис Коринт не распаковывает, а только смотрит, не отрываясь, на холст. Энергичными мазками он воссоздает рождественское дерево, теплым светом на нем горят красные свечи. Рядом видно Томаса: он целиком погрузился в изучение своего нового кукольного театра с красными шторками. Малышка Вилыельмина в белом платьице уже распаковала куклу и тянется к следующему подарку. Шарлотта, слева, все еще в костюме Деда Мороза. В переднем левом углу на картине стоит марципановый торт, еще не надрезанный. Но когда Коринт закончил его рисовать в нежнейших коричневых тонах, он вытирает пальцы о тряпку и отрезает себе кусок.
Иосиф Сталин мерзнет в сибирской ссылке.
Эрнст Юнгер наконец-то добрался до Африки. Свежеиспеченный иностранный легионер сидит с сотоварищами в пыльной палатке в Северной Африке близ Сиди-Бель-Аббес. Вместо бескрайней свободы – одна бесконечная муштра. До полного изнеможения в палящую жару – военные сборы, учения, пробежки. И что заставило его наняться сразу на пять лет? Юнгер вновь пытается сбежать – на этот раз из иностранного легиона. Он прячется в Марокко. Но его хватают и сажают на неделю в гарнизонную тюрьму. Как-то он себе совсем иначе все представлял в Африке. И вот 13 декабря посыльный доставляет ему телеграмму: «ГОРОД РЕБУРГ, ОТПРАВЛЕНО 12:06 ЧАСОВ. ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСПОРЯДИЛОСЬ
ТВОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ СФОТОГРАФИРУЙСЯ ЮНГЕР». После дипломатического вмешательства отец Юнгера добился его освобождения и возвращения. 20 декабря Эрнст Юнгер покидает штаб иностранного легиона в Северной Африке, в его увольнительном листе значится: «Возражение отца на основании несовершеннолетия». Загорелый, пристыженный, сконфуженный, Юнгер отправляется поездом в долгий обратный путь от Марселя до Бад-Ребурга. На Рождество он возвращается в родительский дом. Так что сочельник он проводит не под звездным африканским небом, а под рождественской елкой, несколькими днями ранее срубленной в ребургском лесу. Подают карпа. Юнгер обещает отцу усердно готовиться к окончанию школы. Затем он приносит извинения и отправляется спать. Перед сном он больше не читает «Тайны черного континента».
Эмиль Нольде добрался до цели своих мечтаний. 3 декабря, спустя два месяца после отъезда, он с женой Адой и экспедиционным обществом проезжает на пароходе «Принц Вальдемар» компании «Северогерманский Ллойд» мимо островов Палау. На маленьком западно-каролинском острове Яп случается первый контакт с туземцами, которые швартуют свои лодки к их теплоходу и поднимаются на борт. Затем путь продолжается к экватору, они также проплывают мимо острова Германской Новой Гвинеи, на котором Август Энгельгардт основал свою империю. У немецкого реформатора жизни, к тому моменту успевшего основательно исхудать, здесь набитая книгами хижина на пляже и толпа адептов его кокосовой религии. Кокосовый орех он принимает за божественный плод (потому что он растет так высоко) и проповедует, что люди смогут выздороветь, только если будут питаться исключительно молоком и мякотью кокоса. Он любит этот чудесный божественный треск в момент, когда кокосовый орех раскалывается.
Нольде в эти дни тоже ест много кокосовых орехов, но ему их мало, каждый раз ему нужна свежая куриная тушка. 13 декабря экспедиция добирается до Рабаула, столицы протектората Новой Померании[53]. Там к каждому приставляется туземный бой. Тули и Матам – так зовут двух мальчиков, которые заботятся об Эмиле и Аде. Чтобы все смогли акклиматизироваться, группа на четыре недели остается на небольшом холме, возвышающимся над Рабалом, под названием Наманула, где располагается в отстроенной, но еще не используемой колониальной больнице. Спустя недели ожидания Нольде охватывает жажда творчества. Он берет бумагу для акварелей, наливает в чашку немного речной воды и рисует с раннего утра и до позднего вечера: сперва Матама и Тули, потом хижины туземцев, женщин, детей, покой, пальмы. Также он изготавливает деревянное клише и вырезает на дереве обоих мальчиков. Видны тончайшие линии глаз и ушей на темных головах, можно узнать особенный нос Тули и выступающую верхнюю губу Матама, на заднем фоне разбухает тихоокеанская растительность.
Но Эмиль Нольде не только очарован, но и отрезвлен. Здесь, в Палау, больше нет нетронутых южных островов, которые некогда рисовал Поль Гоген и воспевали европейские поэты. Колониальные туземцы печальным образом европеизированы, «их упрямство сломлено, волосы коротко острижены», как он пишет. Всех их привозят в Рабаул, чтобы обучить немецкому или английскому, а потом возвращают в родные деревни, дабы в будущем они работали переводчиками для туристов. На лодке Нольде отправляется к полуострову Газели, где надеется еще обнаружить исконные структуры жизни – он видит, что встретился с культурой в момент ее заката, и воспринимает свои акварели как фиксацию ее следов. Он ищет рай во вспыхивающих красно-розовым цветах бугенвилий и гибискуса и в голых телах туземцев. Но на лицах Нольде обнаруживает ужасающую апатию. Вместо изначальной радости жизни его картины с южных островов повествуют о серьезности модерна. На далекую родину он пишет: «Я рисую, пишу и пытаюсь удержать что-то от первобытной сущности. Что-то, может статься, удалось, в любом случае мне кажется, что мои картины туземцев и некоторые акварели настолько правдивы и грубы, что их невозможно будет повесить в парфюмированных салонах».
В Новой Померании в этом декабре он создает дюжины акварелей, меланхоличные этюды, изображающие агонию сломленной европейским натиском культуры. Матери и дети жмутся друг к другу, словно на тонущем корабле. Вот он какой, этот рай, о котором он мечтал столько лет и к которому ехал шестьдесят тягостных дней.
23 декабря почтовым теплоходом из Рабаула Нольде отправляет своему другу и спонсору Гансу Феру в Халле двести пятнадцать рисунков и акварелей. 24 декабря Эмиль Нольде пишет в дневнике, как сильно ему не хватает белого Рождества, потрескивания поленьев в камине и наряженной елки: «Практически невозможно было ощутить рождественское настроение, при таком-то тепле. Через моря и континенты наши мысли переносились в родные дома в Германии, где мерцали горящие свечи. На рождественский стол я поставил свои фигурки, которые во время морского перехода вырезал карманным ножом».
В 52-м номере «Шаубюне» от 25 декабря выходит стихотворение «Рождество в большом городе» Курта Тухольского под псевдонимом Теобальд Тигер. Рождество в нем представлено бюргерской постановкой, в которой у людей вместо чувств остались одни лишь роли:
Рождество в большом городе (…) Грядет Младенец! Мы у граммофона с надеждой кроткой тихо чуда ждем. Грядет Младенец! Верим непреклонно, что куклу, книжку, галстук обретем. Милейший бюргер у своих встречает — за карпом, у стола, под вечерок. Ему так хорошо, он восклицает: «Чичастлив, кто чичас не одинок!» Болтает о «рождественской погоде», неважно, дождь идет там или снег. Он знает, кто и что сегодня в моде, читать газеты будет он вовек. Так сходит счастье на юдоль земную. Судачат, будто ангел пролетел. Весь мир подобен этому буржую… «Весь мир – игра. Кто понял, тот прозрел».[54]Цитата в последнем четверостишии взята из Артура Шницлера. «Весь мир – игра. Кто понял, тот прозрел». Это что-то вроде пароля 1913 года. Шницлер мог бы гордиться, что молодой авангард понял его так хорошо, что мог цитировать – и все знали, кто имеется в виду.
Но Артур Шницлер не испытывает гордости. В декабре он записывает в дневник, что окончательно утратил надежду на то, что кто-то действительно его поймет: «Доктор Розиу прислал обо мне брошюру; довольно мило, и – в принципе, то же, что и везде. Я сдаюсь и не жду больше от современной критики какого-либо понимания».
18 декабря 1913 года в Любеке на свет появляется Герберт Эрнст Карл Фрам, который позже будет называть себя Вилли Брандтом.
Любимые имена 1913 года: Гертруда, Марта, Эрна, Ирмгард, Шарлотта, Анна, Ильза, Маргарета, Мария, Герта, Фрида, Эльза.
А для мальчиков: Карл, Ганс, Вальтер, Вильгельм, Курт, Герберт, Эрнст, Гельмут, Отто, Герман, Вернер, Пауль, Эрих, Вилли.
Оскар Кокошка отмечает Рождество с Альмой, ее матерью и дочерью в новом доме в Брайтенштейне. Свет все еще не работает, поэтому с наступлением сумерек все сидят перед камином. Пылающий огонь и множество свечей озаряют все праздничным светом. Кокошка дарит Альме большой веер, который разрисовал для нее: в центре крупная рыба уводит у мужчины Альму. Кокошка уверен: «Со времен Средневековья не было ничего подобного, ибо ни одна влюбленная пара еще не вдыхала друг в друга столько страсти». (Позже, когда Альма уже давно будет вдыхать страсть в Вальтера Гропиуса, Кокошка закажет куклу по образу и подобию Альмы, в натуральную величину. С чучельницей он детально обсудит каждый изгиб и каждую складку в области бедер. И в итоге он проживет с куклой дольше, чем с самой Альмой. Но это только в скобках).
Д.Г. Лоуренс, отмечающий успех романа «Сыновья и любовники», согласно которому мужчина может быть либо сыном, либо любовником (тоже своего рода отцеубийство), уже в этой книге обозначил большой темой конфликт между разумом и инстинктом. Осенью он, чтобы любовница Фрида фон Рихтхофен ему поверила, объехал всю Швейцарию, теперь оба празднуют теплое Рождество в портовом кабачке на Средиземном море. И в Рождество Лоуренс сочиняет символ веры совершенно особого рода: «Основу моей религии составляет вера в то, что кровь, плоть сильнее разума. Мы можем ошибиться в своем духе. Но что чувствует, думает и говорит наша кровь – всегда верно».
Его бы слова да Кафке в уши. Фелиция Бауэр больше не отвечает. Он пишет ей заказным, он пишет ей срочным, он отправляет своего друга Эрнста Вайса с посланием к ней в офис компании «Линдстрём», но она не отвечает. Потом Кафка получит телеграмму, объявляющую о скором письме. Но письмо не приходит. Они многократно говорят по телефону. Фелиция просит его не приезжать на Рождество в Берлин и уверяет, что скоро напишет. Но так и не отвечает. Когда к полудню 29 декабря письма все еще нет, Франц Кафка садится за новое письмо – свое второе предложение. Он мучительно пишет, мучительно думает, пишет и думает, пишет и думает. В новогоднюю ночь он уже добрался до двадцать второй страницы. В итоге письмо разрастется на тридцать пять листов. Кафка пишет: «Я люблю тебя, Фелиция, люблю всем, что есть во мне по-человечески хорошего, всем, что во мне есть ценного, ради чего я и мыкаюсь еще среди живущих». Когда в двенадцать часов с Градчан вновь доносится бой колоколов, Кафка привстает и выглядывает из окна. В ноябре семья переехала, Кафка теперь смотрит не на реку с мостом и парками, а на Староместскую площадь. Снег идет тихо, идет без конца, приглушая выстрелы пушек с крепости; там, на площади, люди празднуют начало нового года. Кафка снова садится и продолжает писать: «Даже то, что тебя многое во мне не устраивает и ты хочешь это изменить, – я люблю в тебе даже это, просто хочу, чтобы и ты это осознавала».
Кете Кольвиц, уставшая от жизни с мужем и не знающая, куда развивать свое искусство, подводит в новогоднюю ночь черту: «В любом случае 1913 год прошел весьма безобидно, не был пустым и сонным, довольно много внутренней жизни».
Довольно много внутренней жизни – похоже, так и есть. Роберт Музиль темной декабрьской ночью сидит над записями, из которых намного позже родится его роман «Человек без свойств». Сейчас он записывает прекрасное предложение: «Ульрих предсказывал будущее, не подозревая о том». Неплохо. Он делает очередной глоток красного вина и закуривает сигарету (по крайней мере, так это себе представляют), затем, повествуя об Ульрихе, он приближается к Диотиме, желанной красавице, женщине, полной свойств, – все время у него стояла в голове эта фраза. И вот он пишет: «И что-то открылось – наверно, будущее, но немного, во всяком случае, открылись и ее губы».[55]
Есть несколько счастливых людей в этот рождественский день 1913 года. Карл Краус и Сидони Надерни фон Борутин – одни из тех, перед которыми все открыто. Ударные волны от ссоры с Верфелем еще не добрались до их идиллии. Они еще наслаждаются друг другом, тайком, но в любви. Краус поражен прелестным замком Борутинов в Яновице, где светят только керосиновые лампы, его сказочным парком с чудесным пятисотлетним тополем – тем самым парком, который успел навсегда пленить Рильке. Даже сейчас, в декабре, на тополе еще осталось несколько растрепанных листьев на самой верхушке кроны, принимающихся шуметь, когда ветер проносится по склону. Краус целиком отдался во власть этого волшебного места, здесь, где его возлюбленная Сидони является хозяйкой всех лошадей, собак и свиней. Здесь его рай. Все здесь как есть – доброе, естественное, истинное. Сидони и Яновице, это высвобождение из Вены и интеллектуального корсета, превращают Крауса в другого человека. Брат Сидони мечтает о надлежащей сословию свадьбе для сестры, но когда Краус по ночам, как только брат уснет, прошмыгивает по темным холодным коридорам замка и юркает в теплую постель к своей Сидони, они не думают о такой старомодной сословной спеси. Карл Краус прибыл в Яновице уже 23 декабря, а 24-го к ним присоединяется его друг Адольф Лоос, они хотят отпраздновать Рождество вместе. Лоос (наверное, чтобы не докучать влюбленным) намерен посетить замок престолонаследника в Конопиште, расположенный прямо возле замка Борутинов. Он пишет письмо и просит разрешения. Но Франц Фердинанд не хочет, чтобы ему мешали. Жаль, а то замечательная вышла бы встреча двух крайних полюсов Австро-Венгрии: Лооса, холодного как лед борца с орнаментом, и Франца Фердинанда, горячего как огонь военнокомандующего.
Из Парижа приходит письмо для Сиди, отправитель – Рильке. «Карл Краус у Вас?» – спрашивает он, потому что Сиди ему открылась. И затем он просит именно Сиди, испытавшую такое отвращение, передать Карлу Краусу эссе о Франце Верфеле, под названием «О молодом поэте». Ничего менее подходящего он не мог отправить Краусу, который скоро узнает, что Верфель пускает по миру слухи о его любимой – это разъярит его, как неистового быка.
Но сейчас письмо Рильке не нарушает любовную идиллию в Яновице – Сиди откладывает его в сторону: к чему спешить, думает она и выходит с Карлом и любимой собакой Бобби в парк. Они кружат среди снежинок, нежно падающих с неба.
Краус, никогда не покидавший свой рабочий стол дольше, чем на два дня, продлевает отпуск до Нового года и сочиняет лирические стихи о природе. Сиди, гордая красавица, дарит ему свой мечтательный фотоснимок, на оборотной стороне она напишет синими чернилами: «Карлу Краусу / в память о совместных днях от Сиди Надерни / Яновице 1913-14». В Вене он сразу же повесит карточку над своим письменным столом и никогда больше ее не снимет. А однажды, где-то в другой жизни, уже после этой, он напишет Сидони открытку из Санкт-Морица: «Прошу сегодня вечером вспомнить Рождество 1913 года». Похоже, он удался на славу, этот рождественский праздник.
27 декабря министерство в Вене продлевает больному неврастенией библиотекарю второго класса Роберту Музилю отпуск еще на три месяца. Он тут же едет в Германию вести переговоры с Самуэлем Фишером, немногим позже он станет редактором его газеты «Нойе Рундшау». В поезде из Вены в Берлин он ошарашенно записывает в блокнот: «Примечательно в Германии: большая темнота».
Новогодняя ночь 1913 года. Освальд Шпенглер пишет в дневнике: «Помню, каково мне было в детстве, когда в новогоднюю ночь разоряли и убирали рождественское дерево, и все становилось таким же прозаичным, как и раньше. Всю ночь я плакал в постели, а долгий-долгий год до следующего Рождества был таким долгим и безутешным». И дальше: «Сегодня меня угнетает бытие в этом веке. Все, что было когда-то в культуре, красоте, цвете, – все разоряют».
В конце 1913 года выходит неожиданная книга. Она называется «1913 год» – своего рода попытка подвести итог в настоящем, которое «изобилует культурными ценностями», но вместе с тем и «предрекает растущее притупление и легкомыслие масс». Венчает книгу статья Эрнста Трёльча о религиозных явлениях современности: «Это старая, знакомая всем нам история, какое-то время ее называли прогрессом, потом – декадентством, а сегодня любят обнаружить в ней подступы к новому идеализму. Социальные реформаторы, философы, теологи, бизнесмены, психиатры, историки сигнализируют о ней. Но пока ее нет». Старая история, которую когда-то называли прогрессом – вот как мудро говорили в декабре 1913-го Но кто понимал этот язык в гуле голосов этого года?
В Вавилоне обнаруживают храмовое сооружение Этеменанки: это – легендарная Вавилонская башня.
Как же без него: в 1913 году, а именно 14 декабря, рождается изобретатель синхроноптической историографии Вернер Штайн. С 1946 года его «Хронология мировой цивилизации» будет пытаться расписать всю историю человечества по годовым поперечным сечениям.
Что носить женщине в новогоднюю ночь? «Мир женщины», приложение «Садовой беседки», в 52-м номере дает советы под лозунгом «Мода на рубеже лет». «Радость цвета, присущая этому сезону, проявляется и в туалетах для маленьких празднеств. Большинство форм, благодаря свободному покрою, несет на себе отпечаток того изящества, которое привлекательно для стройных созданий. Но и к дамам покрепче нынешняя мода благосклонна своим намеренным сглаживанием отдельных линий, если уметь выбирать». Через страницу напечатано стихотворение Мари Мёллер с безобидным названием «Канун Нового года». В нем такие неожиданные строки:
Трудиться будем всякий час, Чтоб год удачным был! Чтоб мир и свет сошли на нас, Не пожалеем сил. Нам войн не надо мировых, Сирен противен вой, Хотим мы, чтоб навеки стих, Часов военных бой.[56]Райнеру Марии Рильке плохо в эти последние дни декабря в Париже. Он пишет: «Не вижу ни одного человека. Сначала были морозы, был гололед, теперь идет дождь, все течет – это здесь называется зимой, без конца то одно, то другое. Хватит с меня Парижа, на нем какое-то проклятье». И затем: «Вот самая суть моих пожеланий на 1914 год, на 1915, 1916, 1917 и т. д.» Эта суть звучит так: покой и природа с родным, как сестра, человеком. Одной из таких «сестер», мысли которой в этот момент, правда, заняты совсем другим, то есть Сидони Надерни, он затем пишет: «Мне бы сейчас хотелось быть словно без лица, словно свернувшийся еж, который раскрывается лишь вечером в городской канаве, выбирается из нее осторожно и упирается мордочкой в звезды».
Впервые в 1913 году на небе целиком наблюдается созвездие Стрелы. Южнее Лисички и севернее Орла, четкая, ярко сияющая Стрела летит прямо в Лебедя. Все взгляды прикованы к небу. Созвездие получило свое имя от опасной стрелы, которую, согласно мифологии, выпускает Геракл. Но Лебедю опять повезло: Стрела пролетает мимо.
31 декабря 1913 года. Артур Шницлер записывает пару слов в дневнике: «Утром продиктовал до конца „Новеллу безумия“». Днем он читает книгу Рикарды Хух «Большая война в Германии». В остальном: «Нервничаю весь день». Затем вечернее общество: «Играли в рулетку». В полночь они поднимают бокалы за 1914 год.
Избранная библиография
Эта книга основана на многочисленных биографиях и культурно-исторических исследованиях. Ниже приведены избранные работы, которым автор благодарен за важные ссылки.
Altenberg, Peter: Extrakte des Lebens. Gesammelte Skizzen 1898—1919. Wien und Frankfurt a.M. 1987.
Bauschinger, Sigrid: Else Lasker-Schüler. Eine Biographie. Göttingen 2004.
Berenth-Corinth, Charlotte: Lovis Corinth, Die Gemälde. Werkverzeichnis. München 1992.
Berger, Hilde: Ob es Hass ist, solche Liebe? Oskar Kokoschka und Alma Mahler. Wien 2008.
Bernauer, Hermann: Zeitungslektüre im «Mann ohne Eigenschaften» (Musil Studien). München 2007.
Bourgoing, Jean de (Hrsg.): Briefe Kaiser Franz Josephs an Frau Katharina Schratt. Wien 1964.
Brandstätter, Christian (Hrsg.): Wien 1900. Kunst und Kultur. Fokus der europäischen Moderne. Wien 2005.
Bülow, Ulrich von (Hrsg.): «Sicherheit ist nirgends». Das Tagebuch des Arthur Schnitzler, Marbacher Magazin 93. Marbach 2001.
Decker, Kerstin: Lou Andreas-Salome. Der bittersüße Funke Ich. Berlin 2010.
Dorrmann, Michael: Eduard Arnhold (1849—1925). Berlin 2002.
Dyck, Joachim: Benn in Berlin. Berlin 2010.
Ellmann, Richard: James Joyce. Biographie. Frankfurt a.M. 1994.
Feininger, Lyonel: Gelmeroda. Ein Maler und sein Motiv. Wuppertal / Halle 1995.
Fest, Joachim: Hitler. Eine Biographie. Frankfurt a.M. / München 1973.
Franz, Erich (Hrsg.): Franz Marc: Kräfte der Natur. Werke 1912—1915 Katalog zur Ausstellung in München und Münster. Ostfildern 1993.
Freedman, Ralph: Rainer Maria Rilke. Der Meister 1906—1926. Frankfurt a.M. 2002.
Freud, Martin: Glory Reflected. Sigmund Freud – Man and Father. London 1957.
Freud, Sigmund / Jung, C. G.: Briefwechsel. Hrsg. von William McGuire. Frankfurt a.M. 1974.
Fühmann, Franz: Vor Feuerschlünden – Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht. Rostock 2000.
Gay, Peter: Sigmund Freud. Frankfurt a.M. 1988.
Gay, Peter: Das Zeitalter des Doktor Arthur Schnitzler. Frankfurt a.M. 2002.
Gebhardt, Miriam: Rudolf Steiner. Ein moderner Prophet. Stuttgart 2011.
Grochowiak, Thomas: Ludwig Meidner. Recklinghausen 1966.
Grosz, George: Ein kleines Ja und ein großes Nein. Frankfurt a.M. 2009.
Güse, Ernst-Gerhard (Hrsg.): August Macke. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. München 1986.
Gumbrecht, Hans Ulrich: 1926. Ein Jahr am Rande der Zeit. Frankfurt a.M. 2001.
Henkel, Katharina / März, Roland (Hrsg.): Der Potsdamer Platz. Ernst Ludwig Kirchner und der Untergang Preußens. Berlin 2001.
Hilmes, Oliver: Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel. München 2004.
Hof, Holger: Gottfried Benn: Der Mann ohne Gedächtnis. Eine Biographie. Stuttgart 2011.
Hoffmeister, Barbara: S. Fischer. Der Verleger. Eine Lebensbeschreibung. Frankfurt a.M. 2009
Husslein-Arco, Anges / Kallir Jane (Hrsg.): Egon Schiele. Selbstporträts und Porträts. München 2011.
Jasper, Willi: Der Bruder: Heinrich Mann. München 1992.
Jasper, Willi: Zauberberg Riva. Berlin 2011.
Jauß, Hans Robert: Die Epochenschwelle von 1912. Heidelberg 1986.
Joachimsthaler, Anton: Hitlers Weg begann in München 1913—1923. München 2000.
Jünger, Ernst: Kriegstagebuch 1914—1918. Hrsg. von Helmuth Kiesel. Stuttgart 2010.
Jünger, Ernst: Afrikanische Spiele. Stuttgart 1936.
Kafka, Franz: Briefe an Feiice und andere Korrespondenzen aus der Verlobungszeit. Hrsg. von Erich Heller und Jürgen Born. Frankfurt a.M. 1967.
Kafka, Franz: Tagebücher, Kritische Ausgabe. Hrsg. von Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcom Pasley. Frankfurt a.M. 1990
Karlauf, Thomas: Stefan George. Die Entdeckung des Charismas. München 2007.
Kerr, Alfred: Mit Schleuder und Harfe. Theaterkritiken aus drei Jahrzehnten. Hrsg. von Hugo Fetting. Berlin (Ost) 1981.
Kerr, Alfred: «Ich sage, was zu sagen ist». Theaterkritiken 1893—1919 Hrsg. von Günther Rühle. Band VII. 1, Frankfurt a.M. 1998.
Kessler, Harry Graf: Das Tagebuch 1880—1938, Band 4: 1906—1914. Hrsg. von Jörg Schuster, Roland S. Kamzelak und Ulrich Ott. Stuttgart 2005.
Klingsöhr-Leroy, Cathrin / Schneider Katja (Hrsg.): Franz Marc – Paul Klee. Dialog in Bildern. Wädenswil 2010.
Kokoschka, Oskar: «Briefe 1905—1919», in: ders.: Briefe in 4 Bänden: 1905—1976, Band 1, Hrsg. von Olda und Heinz Spielmann. Düsseldorf 1984.
Kraus, Karl: Briefe an Sidonie Nädherny von Borutin 1913—1936. Hrsg. von Friedrich Pfäfflin. Frankfurt a.M. 1973.
Küchmeister, Kornelia / Nicolaisen, Dörte et al. (Hrsg.): «Alles möchte ich immer»: Franziska von Reventlow (1871—1918). Lübeck 2010.
Kühn, Heinrich: Die vollkommene Fotografie. Ostfildern 2010.
Kussmaul, Ingrid / Pfäfflin, Friedrich: S. Fischer Verlag. Von der Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil. Eine Ausstellung des deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum, Marbacher Kataloge Nr. 40 Marbach 1985.
Kutscher, Arthur: Wedekind. Leben und Werk, München 1964.
Mächler, Robert: Robert Walser. Biographie. Frankfurt a.M. 1992.
Mann, Golo: Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland. Frankfurt a.M. 1986.
Mann, Thomas: Briefe 1889—1913. Hrsg. von Thomas Sprecher, Hans R. Vaget und Cornelia Bernini. Grosse Kommentierte Frankfurter Ausgabe: Briefe und Tagebücher, Tl. 1. Frankfurt a.M. 2002.
Matisse, Henri: Radical Invention 1913—1917. Chicago 2010
Matuschek, Oliver: Stefan Zweig. Drei Leben. Eine Biographie. Frankfurt a.M. 2006.
Mehring, Reinhard: Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie. München 2009
Mendelssohn, Peter de: Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Erster Teil 1875—1918. Frankfurt a.M. 1975 Moeller, Magdalena M. (Hrsg.): Karl Schmidt-Rotfluff. Ostseebilder: Katalog zur Ausstellung in Lübeck, Kunsthalle St. Annen und Museum Behnhaus Drägerhaus – Galerie des 19. Jahrhunderts. Brücke-Museum Berlin, 11.02.2011-17.07.2011. München 2010.
Moeller, Magdalena M. (Hrsg.): Emil Nolde in der Südsee. München 2002.
Moeller, Magdalena M. (Hrsg.): Emil Nolde. Expedition in die Südsee. Brücke-Archiv 20/2002. München 2002.
Moeller, Magdalena M. (Hrsg.): Ernst Ludwig Kirchner in Berlin. Katalog zur Ausstellung im Brücke-Museum, Berlin 2008/2009 München 2009
Montefiore, Simon Sebag: Der junge Stalin. Frankfurt a.M. 2007
Morton, Frederic: Wetterleuchten 1913/1914. Wien 1990
Musil, Robert: Tagebücher. Hrsg. von Adolf Frise, 2 Bände. Reinbek bei Hamburg 1976.
Nebehay, Christian M.: Egon Schiele. Leben und Werk. Wien 1980.
Ott, Ulrich / Pfäfflin, Friedrich (Hrsg.): Karl Kraus. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller Nationalmuseum Marbach 8. Mai – 31. Oktober 1999. Marbacher Kataloge Nr. 52. Marbach 1999.
Pinsent, David Η.: Reise mit Wittgenstein in den Norden. Tagebuchauszüge, Briefe. Wien / Bozen 1994.
Rabate, Jean-Michel: 1913. The Cradle of Modernism. Oxford, 2007.
Richardson, John: Picasso. Leben und Werk, Band 2. 1907—1917. München 1997
Rilke, Rainer Maria: Briefe aus den Jahren 1907—1914. Leipzig 1939
Rilke, Rainer Maria / Cassirer, Eva: Briefwechsel. Hrsg. und kommentiert v. Sigrid Bauschinger. Göttingen 2009
Röhl, John C.G: Wilhelm IL Der Weg in den Abgrund. 1900—1941. München 2008.
Roters, Eberhard / Schulz, Bernhard (Hrsg.): Stationen der Moderne. Die bedeutendsten Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Berlin 1988.
Rubin, William (Hrsg.): Picasso und Braque. Die Geburt des Kubismus – Mit einer vergleichenden biographischen Chronologie von Judith Cousins (Katalog zur Ausstellung im Kunstmuseum Basel 25.2.-46.1990). München 1990
Sarason, David: Das Jahr 1913. Ein Gesamtbild der Kulturentwicklung. Leipzig/ Berlin 1913.
Savoy, Benedicte: Nofretete. Eine deutsch-französische Affäre 1912—1931. Köln 2011.
Schmitt, Carl: Tagebücher. Oktober 1912 bis Februar 1915. Hrsg. von Ernst Hüsmert. Berlin 2005.
Schwilk, Heimo (Hrsg.): Jünger, Ernst: Leben und Werk in Bildern und Texten. Stuttgart 1998/2010.
Schnitzler, Arthur: Tagebuch 1913—1916. Wien 1983.
Schnitzler, Arthur: Briefe 1913—1931, Hrsg. von Peter Michael Braunwarth, Richard Miklin und Susanne Pertlik. Frankfurt a.M. 1984.
Schuster, Peter-Klaus / Vitali, Christoph et al.: Lovis Corinth. München 1996.
Scotti, Rita: Der Raub der Mona Lisa. Die wahre Geschichte des größten Kunstdiebstahls. Köln 2009.
Simplicissimus, Jahrgang 1913, München.
Sinkovicz, Wilhelm: Mehr als zwölf Töne. Arnold Schönberg. Wien 1998.
Spengler, Oswald: Ich beneide jeden, der lebt: Die Aufzeichnungen «Eis heauton» aus dem Nachlass. Düsseldorf 2007.
Stach, Rainer: Kafka. Die Jahre der Entscheidungen. Frankfurt a.M. 2002.
Tomkins, Calvin: Marcel Duchamp. Eine Biographie. München 1999
Tucholsky, Kurt: Briefe. Auswahl 1913 bis 1935. Berlin (Ost) 1983.
Wagenbach, Klaus: Franz Kafka. Bilder aus seinem Leben. Berlin 2008
Wagenknecht, Christian / Willms, Eva (Hrsg.): Karl Kraus – Franz Werfel. Eine Dokumentation. Göttingen 2001.
Weidinger, Alfred: Kokoschka und Alma Mahler. Dokumente einer leidenschaftlichen Begegnung. München 1996.
Weinzierl, Ulrich: Hofmannsthal. Skizzen zu einem Bild. Wien 2005.
Welt der Frau, Jahrgang 1913, München.
Wolff, Kurt: Briefwechsel eines Verlegers 1911—1963. Hrsg. von Bernhard Zeller und Ellen Otten. Frankfurt a.M. 1966.
Zweig, Stefan: Die Welt von gestern. Stockholm 1944.
Благодарности
За важные советы и замечания автор благодарит: Хольгера Хофа – за Готфрида Бенна, Леонарда Хоровски – за вопросы прусского двора, Райнера Штаха – за Франца Кафку, и Вилли Яспера – за Генриха Манна. Особая благодарность – Эрхарду Шютцу, первому критическому читателю универсальной эрудиции.
Список иллюстраций
Январь: Эрнст Людвиг Кирхнер и Эрна Кирхнер (Шиллинг) в мастерской на Дурлахерштрассе, 14 (Музей Кирхнера, Давос) (фрагмент).
Февраль: Франц Марк. Башня синих лошадей (akg-images).
Март: Людвиг Майднер. Апокалиптический пейзаж (Еврейский музей Франкфурта-на-Майне, архив Людвига Майднера).
Апрель: Марчелло Дубович. Опасность в костюме (из: «Симплициссимус», 5 мая 1913).
Май: Коко Шанель с юношей Шапелем (коллекция Эдмонды Шарль-Ру).
Июнь: Эгон Шиле. Боец (частная собственность).
Июль: Генрих Кюн. Четверо детей Кюна 1912/13 (Австрийская национальная библиотека, Венский фотоархив).
Август: Георг Тракль на Лидо в Венеции (Университет Инсбрука, Исследовательский институт, архив Бреннер).
Сентябрь: Зигмунд Фрейд с дочерью Анной (Ullstein Bild).
Октябрь: Август Маке. Гуляющие по улице (частная коллекция, Северная Рейн-Вестфалия).
Ноябрь: Салон мужской моды Книже, Вена (Ullstein Bild).
Декабрь: Марсель Дюшан. Велосипедное колесо (из: Марсель Дюшан, Остфильден-Руит, 2002).
Примечания
1
Здесь и далее письма Кафки к Фелиции цитируются по изданию: Кафка Ф. Письма к Фелиции и другая корреспонденция. 1912—1917. Пер. с нем. М. Рудницкого М.: Ad Marginem, 2004. – Здесь и далее – примечания переводчика.
(обратно)2
Пер. с нем. С. Городецкого
(обратно)3
Пер. с нем. К. Свасьяна
(обратно)4
Пер. с фр. А. Франковского
(обратно)5
На самом деле, небоскреб Вулворт-билдинг (241 м) не превзошел Эйфелеву башню (300 м), но стал самым высоким зданием Нью-Йорка до 1930 г
(обратно)6
С широко закрытыми глазами (англ.)
(обратно)7
Пер. с нем. В. Топорова
(обратно)8
Пер. с нем. В. Топорова
(обратно)9
Игра слов: «Мусульманин: проблемные сигареты» (нем.)
(обратно)10
Gesamkunstwerk (нем.) – синтез искусств, универсальное произведение искусства
(обратно)11
Цит. в пер. с англ. Артема Осокина по изд.: Вулф В. По морю прочь. М.: Текст. 2011
(обратно)12
Burn out (англ.) – синдром эмоционального выгорания
(обратно)13
Цитата в пер. с нем. Н. Славятинского
(обратно)14
В архив (лат.)
(обратно)15
Шедевр (фр.)
(обратно)16
Форма подчиняется функции (англ.)
(обратно)17
Пер. с нем. С. Городецкого
(обратно)18
Пер. с нем. С. Городецкого
(обратно)19
Пер. с нем. С. Городецкого
(обратно)20
Часть вместо целого (лат.)
(обратно)21
Гений места (лат.)
(обратно)22
AEG (нем. Allgemeine Elektricitдts Gesellschaft – рус. Всеобщая электрическая компания) – немецкая компания, специализировавшаяся в области электроэнергетики машиностроения, а также товаров для дома. До и во время Первой мировой войны – один из крупнейших производителей оружия
(обратно)23
На немецкий название книги было переведено как «Неверный расчет» («Die falsche Rechnung»)
(обратно)24
«Триумф жизни» (англ.)
(обратно)25
Пер. с нем. В. Топорова
(обратно)26
Любовь втроем (фр.)
(обратно)27
Дирндль – женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов; верхняя часть костюма состоит из блузы с корсетом или облегающим лифом, нижняя – из широкой юбки с обязательным ярким фартуком
(обратно)28
Пер. с нем. С. Городецкого
(обратно)29
До абсурда (лат.)
(обратно)30
Пер. с нем. В. Топорова
(обратно)31
Пер. с нем. О. Бараш
(обратно)32
Mokka (Мосса): в Германии – черный кофе, сваренный в турке, в Австрии – маленький крепкий кофе, аналог эспрессо
(обратно)33
Пер. с нем. С. Городецкого
(обратно)34
Пер. с нем. С. Апта
(обратно)35
Право крови (лат.)
(обратно)36
Пер. с нем. М. Белорусца
(обратно)37
«Я» (нем.)
(обратно)38
Пер. с нем. Е. Кацевой
(обратно)39
«Wandervogel» – «Перелетные птицы» (нем.), немецкий аналог движения скаутов
(обратно)40
Пер. с нем. В. Топорова
(обратно)41
Продовольственный рынок в центре Мюнхена (от лат. victus – продукт, запас)
(обратно)42
«Чайные танцы» или «танго во время чаепитий» – ставшая модной в первом десятилетии двадцатого века традиция совмещать чайную церемонию и танцевальный вечер
(обратно)43
9 ноября 1918 года входе Ноябрьской революции в Германии император Вильгельм II отрекается от престола. В 1938 году в этот день случается «Хрустальная ночь» – массовые еврейские погромы в Берлине, что стало началом Холокоста. А в 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября пала Берлинская стена
(обратно)44
Пер. с фр. Η. Любимова
(обратно)45
Яблоко на ужин – и доктор не нужен (англ.)
(обратно)46
По пер. с нем. С. Аверинцева
(обратно)47
Пер. с нем. И. Болычева
(обратно)48
Пер. с нем. Е. Михелевич
(обратно)49
Вопреки его воле (фр.)
(обратно)50
Пер. с нем. Е. Михелевич
(обратно)51
Primaner (лат.) – находящийся на последней ступени обучения, Unterprimaner – ученик предпоследнего класса
(обратно)52
Вакес – презрительное обозначение эльзасцев, также означает «пентюх» «болван»
(обратно)53
Новой Померанией остров назывался в период с 1884 до 1920 гг., пока не был переименован обратно в Новую Британию
(обратно)54
Пер. с нем. С. Городецкого
(обратно)55
Пер. с нем. С. Апта
(обратно)56
Пер. с нем. С. Городецкого
(обратно)
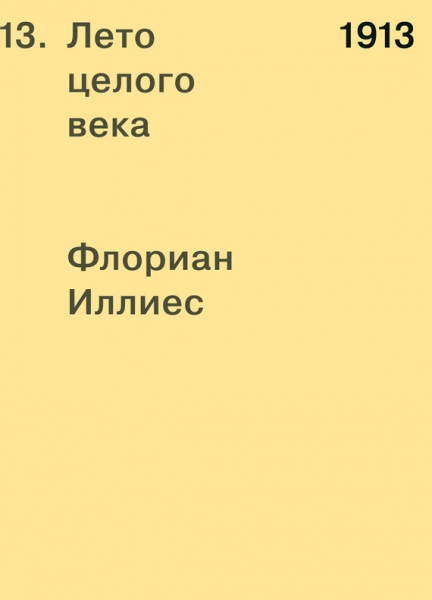



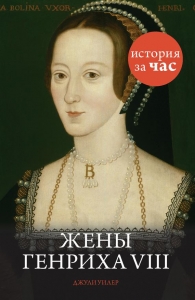


Комментарии к книге «1913. Лето целого века», Флориан Иллиес
Всего 0 комментариев