Роза Эпштейн Книга Розы
Введение
Началась эта история моей семьи без малого сто лет назад.
…В то утро село Межеричи облетела взбудоражившая всех новость о ночном происшествии.
– Слыхали, Соломон ночью Пелагеину дочь украл?
– Який Соломон? Эпштейн? Соньку? Та ни може быть! Вин же старый!
– Да не старый он. Только вдовец, и ребятишки его мал мала меньше.
Долго еще судили да рядили односельчане, почему молодая дивчина пошла за вдовца с шестерыми детьми. Ведь и мать Софьи Пелагея, и братья Яков и Михаил были против этого брака. Соседи рассказывали, что Яшка с Мишкой долго гнались за подводой, в которой увозили их сестру, и бросали вслед камни. Но так и не остановили беглецов.
Теперь уже трудно ответить, почему на самом деле моя мама Софья Полякова приняла предложение моего отца Соломона Эпштейна тогда в 1915 году. Может, нравился он ей давно, хоть и был мужем соседки. А, может, пожалела деток, оставшихся после смерти матери сиротами. Не зря же говорят: без отца дитя – полусирота, а без матери – круглый сирота. Умерла соседка-подруга Маруся после родов, которые принимала моя мама. Она, окончив медицинские курсы, работала в деревне земским фельдшером. Девочку, появившуюся на свет, назвала Беллой. Ее, крошку, маме особенно было жалко. А поскольку Соломон в то время в окопах находился, на войне с немцами, то забрала всех шестерых к себе. Отозвали новоиспеченного вдовца домой. Вернувшись и увидав, как привязалась детвора к молодой соседке, предложил ей:
– Выходи за меня замуж. Куда ж их теперь?
Мама согласилась сразу. Отец первым делом работу и жилье подыскал, правда, в другом селе. У них, Эпштейнов, по мужской линии все какими-то ремеслами владели. Отец мой был кровельщик-жестянщик. На новое место жительства – в село Степановку Гуляйпольского района Запорожской области – и перевез своих малых и молодую жену. А через три года мама родила ему дочку Раю, еще через два – Феклу, затем, также с разницей в два года, Бориса и меня. Я появилась на свет в 1924 году. К тому времени из шестерых детей от первого брака моего отца Соломона остались лишь четверо: Исай, Леня, Груня и Белла. Двое умерли от оспы в Гражданскую войну.
Сегодня из всех десятерых осталась только я – последняя из живых очевидцев истории моей семьи, тесно переплетающейся с историей нашей страны, в которой было все: и революции, и строительство общества новой формации, и коллективизация, и репрессии, и защита Родины в годы Великой Отечественной войны, и восстановление народного хозяйства. Каждый из моих родных и близких вписал свою страницу в эту великую историю. Бабушка, руководившая колхозом в сложные годы коллективизации. Братья Леонид и Исай – офицеры Красной Армии, орденоносцы, прошедшие войну. Сестра Рая – военврач, сложившая голову на чужбине за полгода до Победы. Сестра Аграфена, испытавшая на себе ужасы фашистской оккупации. Сестра Белла – участница строительства Московского метрополитена. Сестра Галя и брат Борис – простые советские граждане, честно работавшие и служившие. И каждый достоин отдельного рассказа.
Глава 1 Бабушка Пелагея и ее семья
В селе Межеричи (район Большого Токмака Запорожской области) Пелагею Полякову (отчества бабушки я не пом ню) очень все уважали. Не случайно головой (председателем) колхоза избрали. В 1935 году ее даже на съезд колхозников в Москву возили. В Кремле медаль за ударный труд вручили. Только награду ту бабушка прятала в сундуке. А на вопросы односельчан, почему не носит свою медаль, отвечала так: «А чего ее тереть без толку?»
Глаза у бабушки были выцветшие или по-украински «очи засмученные». Усталость, озабоченность, невзгоды – все отражалось в них. Радостей в те годы случалось гораздо меньше. На плечах этой женщины лежала огромная ответственность за колхоз, за тысячу людских душ. А проблемы зачастую требовали неотложного волевого решения головы. Как-то встал остро вопрос нехватки молочных продуктов в детских яслях. Что делать? Закрыть ясли? Но тогда сотни молодых женщин, чьи ребятишки там находились, не смогут выйти на поле. Голова принимает решение: вместе с ребенком родители должны приносить в ясли молоко, а за тех, у кого коров нет, будет возмещать колхоз молоком с фермы. Но тут, как на грех, колхозам увеличили план сдачи молочной продукции. Чему ж радоваться?
В 1930 году, когда пошла волна раскулачивания, собирает голова колхоза сход. На нем постановили: имеющие две коровы одну должны отдать тем, у кого нет ни одной, а за это новые хозяева скотины расплатятся трудоднями. Может, и не очень выгодное решение, но в результате никто не был раскулачен и выселен из села. И сколько разных комиссий ни приезжало, подкопаться под это решение сельсовета не смогли. Так полуграмотная крестьянка спасла не одну семью колхозников.
Когда на Украине свирепствовала эпидемия тифа, а о мыле можно было только мечтать, опять Пелагея взяла ситуацию под контроль. Комиссия из числа колхозников-активистов следила за тем, чтобы в каждой хате имелся глечик (кувшин) с золой, которую использовали и для мытья рук, и для стирки белья, чтобы все колодцы закрывались крышками, а ведра отмывались добела. Благодаря тому убереглись сельчане от страшной заразы.
В колхозе выращивали лен и свеклу. Это сейчас льноуборочные машины все делают. А тогда вручную убирали. Вторая дочка бабушки, Лиза, бригадиром льноводческой бригады работала, так на ее руки смотреть было страшно – на копыта походили – огрубевшие пальцы не сгибались. Все в семье Поляковых выросли работящими. И нам, внукам, бабушка прививала по-своему уважение к сельскому труду.
Помню, отец отправлял нас, ребятишек, к бабушке на лето. Как только к дому подъедем, соседка, тетя Феня, нас увидит и кричит:
– Ой, яка радость для бабки Пелагейки – жидовнята приихалы.
И посылает кого-нибудь за бабушкой на поле. Та придет и сразу яишню приготовит – большую сковородку нажарит, полведра яичек набьет. А как поедим, спрашивает:
– Уси поили? О, це добре! Галька (так Феклу все звали за смоляной цвет волос), возьми той чайник и иди по этой стежке. Там жинки полют свеклу. Отнеси им воды напиться. Рая, ты вот той чайник возьми, вот по той стежке иди. Там тоже жинки полют.
Мы, бывало, заноем:
– Бабушка, мы устали – на грузовике ехали.
А она:
– Ну и что устали? А воны как устали, знаете? Затемно вышли и, не разгинаясь, робят.
А нам с Борькой, как самым маленьким, велела «перевяслы» вязать из травы, чем потом снопы обвязывают. Сидим, вяжем. Зато как обед подходит, бабушка курице башку отрежет зараз и большой чугун борща для нас наварит.
В памяти сохранилось доброе морщинистое лицо бабушки Пелагеи и теплые интонации в голосе, когда она разговаривала с нами, внуками:
– Розка! Ты у погреб полезешь, сметану бери учерашнюю.
– Галька, шо ты, не бачишь – яичко у траве? На-ка, выпей его.
А еще запомнилась другая бабка Пелагея – рассерженная, напористая, которая приехала к нам в Сталино и рассказывает, что творится в ее голодной деревне:
– Кат прошел по дворам, и посеять нечего – все выгреб.
Кат, пан – это плохой человек.
Отец пытается урезонить тещу:
– Тихо ты.
А бабушка свое гнет:
– Вы ж, коммуняки, какие? Вы коты, як тот кат. Он все выгреб, а дети плачут и хозяйки плачут: «Шо ж вы робите? Мне ж годувати нечем».
В то время по четверо-пятеро детей у всех было. Заплачешь, пожалуй, если кормить их нечем.
Не только за трудолюбие уважали односельчане мою бабушку. Кстати, фамилию она носила по прихоти помещика Полякова, который всем своим крестьянам свою фамилию давал. Так вот, с именем Пелагеи Поляковой в Межеричах была связана одна удивительная история.
Был у бабушки брат Виктор. Несмотря на русскую фамилию, брат и сестра принадлежали к еврейской национальности. Поэтому в 1914 году, когда царь разрешил евреям свободный выезд в Америку, Виктор туда и уехал. А через двадцать с лишним лет бабушке вдруг приходит денежный перевод из Америки – в бонах. На боны тогда через Торгсин можно было все купить. А куда девать эти деньги в деревне? Вот бабушка и по ехала за советом к моему отцу. Мы тогда жили уже в городе Сталино (ныне Донецк). Приезжает к нему и говорит:
– Соломон! Ось, дывись, Витька прислал мне гроши, только не нашенские, а заморские.
Отец мой от этой новости пришел в отчаяние. 1937 год. В партии шли чистки. И он, коммунист с 1918 года, в анкетах всегда писал, что родственников за границей нет. И тут вдруг объявляется родственник в Америке, хоть и не кровный.
– Мне колхозники велят вложить гроши в школу, – продолжила теща.
В Межеричах семилетки тогда не было. И с пятого класса ребятишкам приходилось ходить в школу за пять километров от села. А зима накануне выдалась суровой. Ну и встал вопрос о своей семилетке.
– Ну, я построю, а дальше что? Учителя нужны, парты нужны, скамейки нужны… А где ж я все это возьму? – размышляла вслух бабушка. – Соломон, а прораб мне сказал, что тех грошей и на десятилетку хватит. Як в городе есть десять классов, так и у нас может быть.
– Ты мне голову не морочь. Я тебе не помощник. И меня не приплетай сюда. Иначе ты мою семью всю кинешь в ад кромешный, – снова попытался урезонить ее отец. Но остановить бабушку Пелагею было невозможно. Добилась-таки, что школу в Межеричах тогда построили. Но как учиться в ней ребятам, если даже сидеть не на чем? И снова бабушка поехала к моему отцу в Сталино, уже как к директору мебельной фабрики:
– Соломон, нужны парты, нужны доски, где учителям писать, скамейки…
– Ты понимаешь, что я не хозяин фабрики? Я директор, чиновник. Мне план сверху нужен, деньги нужны, – объяснял ей отец.
– А ты мне тогда скажи, куда пойти? – настаивала бабушка.
Отец отправил ее в горсовет. А там ответили, что Межеричи к ним никакого отношения не имеют, поскольку в другой области. Они свою-то, Донецкую, обеспечить не могут. В общем, куда ни обращалась бабушка Пелагея, везде получала отказ. Дошла до обкома партии, попала к секретарю по сельскому хозяйству. Объяснила тому, что на строительство школы «свои гроши дала», что хороший человек прораб построил в селе десятилетку.
– Десять рокив теперь наши дети могут учиться. А сесть-то им не на что. Кто стоя, кто на корточках, кто табуретку свою принесет. Разве ж так учатся?
Перед тем, как пойти в обком, бабушка заглянула в городскую школу, и все хорошенько рассмотрела: как парты стоят, как доски висят, какие цветы на подоконниках. Это была украинская школа. Остановила в коридоре учительницу, стала спрашивать, чему она учит.
– А вы чья, бабушка? – поинтересовалась женщина.
– Та тут уси мои внуки повыучились, – отвечала та.
И правда, все мои братья и сестры окончили эту школу, поскольку она находилась неподалеку от нашего дома.
Бабушка к тому времени уже немолодая была. Но все ее интересовало. Вечером сядет рядом с Феклой на лавочке у дома и спрашивает ее про всех проходящих мимо: кто это да как он живет, сколько получает, женат ли? В деревне ведь все про всех знают. А тут большой город, вот сестра моя и возмущалась:
– Да откуда я, бабушка, знаю?! Это ж прохожий.
Секретарю обкома партии бабушка Пелагея рассказала и про своего зятя – директора мебельной фабрики, который отказывается мебель для школы делать, потому что он на предприятии не хозяин.
– Правильно говорит. Выполнить заказ он может, если план сверху спустят, – заметил секретарь и набрал телефон мебельной фабрики:
– Соломон Борисович! Тут одна бабушка всем головы заморочила. Приехала аж с Запорожья.
– Это моя теща, – ответил отец.
– Так ты что-нибудь сделай ей.
– План дадите – обязательно сделаю. Это ж моя деревня.
В результате голова колхоза Пелагея Полякова и на этот раз своего добилась. И в сентябре, когда на район обрушились проливные дожди, а машины увязали колесами в грязи намертво, привезли мебель для школы. Так колхозники от самой железнодорожной станции много километров тащили на себе парты, скамейки, доски и прочую мебель. Но занятия в тот год начались практически вовремя.
Оставшихся от постройки школы «грошей» бабушке хватило еще на то, чтоб в ее доме настелить доски вместо земляного пола и сменить соломенную крышу на черепичную. А на школу потом стали возить делегации, показывать: мол, у нас и в деревне десятилетки есть. Учителями в ней работали вчерашние выпускники школы или те, кто окончил рабфак.
Когда немцы заняли Межеричи, то в школе разместились на постой их солдаты и, говорят, сильно испоганили ее, а уходя, когда наши войска выбили фашистов из села, здание сожгли. Бабушка Пелагея этого уже не увидела. Ее немцы расстреляли в 1942-м. За то, что заранее, когда оккупанты Мариуполь заняли, отправила весь скот с гуртовщиками до Саратова. И войдя в Межеричи, фашисты не обнаружили там ни коров, ни коз, ни другой живности. Нашлись, однако, предатели, донесли оккупантам на голову колхоза, за что те сразу поставили бабушку к стенке. Скот же вернулся в 1946 году. И это было такое счастье для сельчан! В то время на Украине свирепствовал голод. Так колхозники на тех спасенных лошадях и коровах в поле пахали.
Шестьдесят шесть лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, но до сих пор кровоточащими ранами в душах живет память о жертвах этой страшной трагедии. В нашей семье война собрала богатую жатву. Покосила косой и старых, и малых.
У бабушки Пелагеи, кроме моей мамы, были дочки Феня, Лиза и Тая. Тая в Мариуполе умерла от рака перед войной. А Лиза вышла замуж за ее мужа, потому что у него осталось двое пацанов. У евреев так принято. Если умирает жена, а муж остается и есть дети, то незамужняя сестра жены выходит за него. У Лизки своих детей не было. И она очень привязалась к племянникам, а они к ней. Мальчишки шустрые – один рыжий, другой чернявый. Тетя Лиза, несмотря на тяжелую работу (смолоду на льняных полях), была полной с крупными заскорузлыми руками. Отец мой нередко подшучивал над ней:
– Лиза, с чего ты такая толстая?
– С буряков, Соломон. Буряки ем.
– Лиза, да буряки не сало, с них не растолстеешь.
– А кто ж про сало говорит? – удивлялась тетка. – Буряки само собой, а сало само собой.
В начале войны тетя Лиза работала на конюшне. Там и застала ее страшная весть, когда в Межеричи вошли немцы.
– Лизка! Лизка! Беги скорее до хаты! Там твоих хлопцев рушат!
Услышав это, тетка кинулась бежать домой, но опоздала. Ее мальчиков уже расстреляли. Одному было двенадцать, другому – четырнадцать лет… И когда Лиза увидела своих мальчишек, расстрелянных немцами, то сошла с ума. Кричала, билась головой об стенку, кидалась на тела детей. Ночью ее уложили на подводу и увезли в другое село. Муж, узнав о случившемся, обвинил во всем ее:
– Это ты моих детей немцам отдала! Ты их угробила. Знать тебя не хочу!
Ведь он, уходя на фронт, умолял ее эвакуироваться вместе с ребятами. Дети без нее не хотели уезжать.
Когда после войны в Мариуполе судили предателей, то Лизу вызвали в суд в качестве свидетельницы. И она рассказала, как погибли ее сыновья. Тогда уже было известно, кто донес немцам на мальчиков, что они евреи.
Куда потом исчезла тетя Лиза, не знаю. Но точно известно, что она лишилась рассудка.
Память сохранила и историю, рассказанную мне двоюродной сестрой Ритой – дочерью брата мамы Якова. Он перед войной работал главным бухгалтером на шахте Рутченковка. А его жена, еврейка, была учительницей физики и математики. Наши, когда оставляли Сталино, затопили шахты вокруг. В эти затопленные шахты немцы сбрасывали евреев. Не только евреев, но и коммунистов, комсомольцев. Риту вместе с матерью и сестрой Лидой вели к шахте, но в какой-то момент мать сумела выбросить ее в толпу людей, стоявших вдоль дороги. А Лида ухватилась за руку матери:
– Я с тобой. Как ты, так и я.
И не отпустила ни на секунду. Так их, держащихся за руки, немцы в шахту и сбросили…
Глава 2 Мои родители и наш дом
Моего отца бабы любили всегда. Потому и мама, вопреки воле своей матери и братьев, пошла за него, вдовца с шестерыми ребятишками. Тогда она и предположить не могла, что будет у Соломона второй, но не последней женой и что присказка «они жили долго и счастливо и умерли в один день» – не про них.
И все-таки мама моя прожила свою недолгую жизнь счастливо. Хотя трудностей, тягот и лишений на ее долю выпало немало, но она любила и была любима. Хотя рядом с ней отец находился недолго. Он, в силу своего характера, не мог жить как все, потому что до мозга костей пропитался большевистскими идеями справедливости и равенства. И готов был сражаться за эти идеи до последнего вздоха. А потому, обустроив свою семью на новом месте, в селе Степановка, снова отправился воевать – началась Гражданская война. На фронте в 1918 году получил и свой партбилет.
Воевать, правда, довелось недолго. Отец рассказывал нам, как он в составе одного из отрядов Ковпака попал в засаду какой-то банды где-то на территории Запорожья.
…Захваченного красноармейца бандиты привели в одну из хат ближайшего села. Допросив пленного и поняв, что никакой секретной информацией он не владеет, решили его расстрелять. Два полупьяных бойца далеко отца не повели, поставили возле хаты. Прицелились.
– Получай, коммунист! – одна пуля пробила правую ключицу.
– А это тебе, морда жидовская! – вторая пуля вошла в левую ключицу.
После второго выстрела отец рухнул как подкошенный. И бандиты ушли в полной уверенности, что застрелили его. Насмерть перепуганная хозяйка хаты, убедившись, что никого нет, прокралась вдоль стенки к тому месту, где лежал убитый. А тот возьми и застони.
– Живой? – удивилась женщина. И волоком потащила раненого в подвал. Как смогла, обработала раны. Травами лечила, настойками, примочками. В общем, выходила отца. Красноармейцу, которого расстреляли у соседней хаты, повезло меньше, вернее, совсем не повезло – первая же пуля вошла ему в сердце.
На том участие в Гражданской войне для отца закончилось, ибо руки его после ранения не поднимались, а шрамы на плечах остались на всю жизнь. Вернулся он к жене, к детям, которых уже прибавилось – в 1918-м, уже после его ухода на фронт, родилась моя сестра Раечка.
Сколько помню, отец всегда с благодарностью вспоминал свою спасительницу и, когда мама, спустя несколько лет, предложила ему навестить одинокую пожилую женщину и помочь подготовиться к зиме: дров наколоть, угля запасти, – так и сделал. И до самого начала Великой Отечественной войны приезжал в то село. Помогал то забор починить, то колодец почистить.
Каково было моей маме одной справляться с хозяйством и оравой ребятишек, да при этом еще работать фельдшером, знала только она. Когда отец вернулся, хоть и израненный, вздохнула с облегчением. Но радость была недолгой. Отец вскоре опять уехал – теперь уже в Юзовку Донецкой области. Устроился на работу заведующим в скобяную лавку, подыскал какое-никакое жилье – комнату в полуподвальном помещении. Туда и перевез Сонюшку, как он называл маму, с детьми. К тому времени родилась еще одна моя сестра – Фекла, прозванная за смоляной цвет волос Галкой. Из-за отсутствия нормальных условий рожать следующих детей, Борю и меня, мама уезжала в прежний дом в Степановку. Неизвестно, сколько бы продолжались мучения многодетной семьи, если бы однажды не пригласили отца в уездный комитет партии и не предложили:
– Знаешь что, Эпштейн? Ты – старый большевик. Иди на должность председателя горжилсоюза и вытягивай шахтеров из подвалов и землянок в барские дома.
Дома эти в Юзовке стояли опечатанными. Отец давал ордера шахтерским семьям на заселение в них. Но себе он квартиру не брал. И вот, когда мама после очередных родов вернулась из Степановки, кто-то из партийных руководителей зашел к нам посмотреть, как живут Эпштейны. И ужаснулся, увидев, в какой тесноте и нищете они существуют. Спросил:
– Софья Леонтьевна, почему муж вас не переселит?
– Так еще Рутченковку не расселили, Сохановку. Он говорит, когда все переедут, тогда, может, и нам жилье дадут.
Визитер, выслушав маму, сказал:
– Завтра я вам ордер пришлю. Не переживайте: ваш муж к этому отношения не имеет.
И правда, на следующий день родителям дали ордер, аж на три комнаты в бывшем доме помещицы Бухтияровой на Третьей линии, 80. Улицы первоначально назывались линиями. Потом ее переименовали в улицу Красноармейскую. Первая линия стала улицей Ленина, вторая – Сталина. Одну комнату с отдельным входом отец сразу отдал Хехелю и его семье. Сам глава семьи все больше по тюрьмам сидел, а жили в комнате его жена, дети и мать. Поскольку отца моего очень уважали за справедливость, то старуха Бухтиярова попросила:
– Соломон, отдай мне флигелек во дворе. Я там буду жить.
Отец согласился:
– Ладно, бабушка, занимай!
Дом наш был огромный, красивый, в полтора этажа. Печки в нем кафельные. В нашей комнате, помню, картина висела с голландским пейзажем: мельница, речка. И проживало в том доме ужас сколько семей. Половина из них – еврейские. В основном на каждую семью приходилось по комнате. Мы занимали полторы: хороший чулан и большую залу. Потом в этом чулане пробили окно на улицу – получилась комната. Полуподвальный этаж – до революции предназначался для прислуги. Теперь в нем жили заводские: в большой комнате – тетя Маруся с дочками-близнецами, рядом – мадам Хехель, у которой сын все по тюрьмам да по ссылкам. Помню, сядет у парадного и делает вид, что читает, а газету держит вверх ногами, потому что неграмотная была. Ее немцы потом в ее же комнате повесили. Сын Бухтияровой Леня жил с семьей. Жена у него была красавица, он ее из Воронежа привез. А сам Ленька был настоящий бандит. И когда вернулся с Гражданской с орденом Красного Знамени, как будто воевал в Красной Армии, то отец мой сказал:
– Это Ленька какого-то комиссара убил, а орден себе повесил.
На первом этаже жили Грамберги, старуха Грамберг (их однофамилица, которая торговала водой), Стукаловы (он главный хирург города, а она – заведующая физиолечебницей, и у них была дивная библиотека) и Гугели (муж – осавиахимовец, жена – аптекарша).
Здание походило на букву «П», поэтому двор был огорожен стенами дома с трех сторон. А во дворе стояла большая плита. Ее все жильцы по очереди топили, и на ней все готовили в теплое время года. Зимой приходилось готовить дома. Да что там особо варили в те годы – в основном каши да борщи. Помню такой эпизод. Жили в нашем доме Малицкая с дочерью. Обе маленькие, щупленькие. И стряпали в маленьких кастрюльках. Вышла Малицкая-старшая с такой посудинкой во двор, видит, мужик идет, и предлагает ему:
– Ты не покушаешь борща? У меня остался – хороший, жирненький.
– Давай, если не жалко, – соглашается мужик.
Она ему выливает в мисочку, ложку дает. А мужик, съев все вчистую, говорит:
– Тьфу, проклятые жиды, в хороший борщ сахару насыпали! Зачем?
С чего он решил, что Малицкая еврейка? А та и не нашлась что ответить, только пролепетала:
– Для вкуса.
В прежнем каретном сарае у жильцов дома был общий подвал. Все тогда запасали картошку в ларях, консервировали овощи. Огурцы, помидоры, капусту солили в бочках. А крышку своей бочки закрывали на замок, «чтоб не лазили чужие грязными руками». И все же без казусов не обходилось.
Двери из комнат Стукаловых, Гугелей и Грамбергов выходили на большую веранду, где у этих семей имелась общая кладовка. И с этой кладовкой связана одна забавная история, произошедшая в канун Нового года. К этому празднику каждая семья заготовила к приходу гостей продукты. И вот 31 декабря кто-то сунулся в кладовку, а дверь изнутри заперта на крючок. Второй раз сунулись – заперто. Стали ходить по квартирам и спрашивать. Никто ничего не знает. Снова стали стучать в дверь. Из кладовки послышались странные звуки – не то рычание, не то рыдание. На требование открыть немедленно, однако, никто не отреагировал.
Тогда соседи позвали Леньку Бухтиярова, дали ему топор, и он сумел отжать дверь и сбросить крючок. Заходят в кладовую. А там на полу сидит здоровенный дядька в тулупе и мохнатой волчьей шапке. И на полках все перепачкано, перемешано, рассыпано и раскурочено. Хозяевам стало плохо. Через полчаса придут гости – а на стол ставить нечего. Бухтияров в запале вытащил дядьку на улицу, швырнул в сугроб и стал его бить. Думаю, если б дядька не был в тулупе, Ленька его здорово бы покалечил. Повыскакивали на шум все соседи. В этот момент пришел отец. Я ему рассказала про случившееся.
Отец выбежал на улицу и накинулся на Бухтиярова:
– Ты чего тут бандитствуешь? Ты за что его убиваешь? Думаешь, тебе от барского стола харчей достанется? Отойди. И вызывайте милицию.
Тут подоспел начальник НКВД с женой. Он и вызвал милицию. Милиционеры приехали на мотоцикле, погрузили вора в коляску. И только мотоцикл тронулся, раздался истошный крик. Оказалось, на одной из полок стояли новые чесанки Ольги, служанки Грамбергов. Этот дядька надел их на себя, а старые оставил. Остановили мотоцикл. Ольга стащила с вора свои чесанки, а старые сунула ему.
Представляете, какой шок испытали пострадавшие? Гости на пороге, а на стол ставить нечего. Остается разве что рассказывать как анекдот эту историю.
Жили мы с соседями дружно. Маруся, у которой двойняшки, дружила с нашей мамой. И когда та заболела, не давала ей стирать, забирала наше белье:
– Соня, давай я постираю.
Постирает, развесит. Люди говорят: чистое белье – это Эпштейнов, Маруська настирала.
Помогали друг другу безвозмездно. Когда моя мама заболела белокровием, то все жалели ее, старались поддержать. А до болезни мама ликбез вела до четвертого класса. Неграмотных много было. Идут друг к другу: почитай то письмо, то газету. В Сталино выходил «Социалистический Донбасс» – хорошая газета. Вот мама и учила грамоте первой ступени – расписываться, складывать буквы, читать.
Глава 3 Мое детство в Сталино
В детстве я почему-то больше дружила с мальчишками. Предоставленные сами себе, мы целыми днями носились по улицам, бегали к кондитерской фабрике, находившейся неподалеку от нашего дома, и клянчили под ее окнами:
– Дядь, кинь пряничка!
Добрые дяди и тети кидали нам в окна пряники, печенья, сушки. А мы как коршуны бросались на добычу, пока Вовка, вечный второгодник, сын Леньки Бухтиярова, порядок не навел. Установил очередь, придерживаясь которой мы могли подбирать угощение, и строго следил за ее соблюдением.
Из воспоминаний раннего детства сохранилось еще, как я бизнес на воде делала. Хотя такого слова, как «бизнес», в то время мы и не знали. Мне лет пять тогда было. У нас во дворе дома находился ледник. Зимой вырубали большими глыбами лед и в него опускали. А летом оттуда лед доставали те, кто торговал мороженым и водой. Наша соседка – старуха Грамбергша просила ребятишек:
– Принесите мне льда.
– А воду сладкую нальете? – спрашивали мы.
– Обязательно налью, с сиропом.
А когда лед принесем, то даст нам простой воды и канючит:
– Ребята, да сироп же дорогой. Я же его покупаю.
Мы рассердимся:
– Больше не проси. Не принесем! И никого не присылай – в ледник не пустим!
А потом решили сами водой торговать. Наберем из-под крана, бросим туда кусок льда. А напротив находился колхозный рынок. Бегаем по нему с кружками и кричим:
– Три копейки не беда, есть холодная вода.
А на базар приезжали колхозники из сел.
Лето у нас сухое, жаркое. Пить охота. А мы за три копейки предлагали большую кружку. Знали, что всю не выпьют – зубы заломит от ледяной воды. Потом другому продадим ту же кружку.
И однажды кто-то донес моему отцу:
– Розка бегает с пацанами, торгует ледяной водой.
Он меня позвал:
– Розка, подь сюды!
– Шо, батька?
– Значит, три копейки не беда? Что это ты водой с крана торгуешь? Ты ее что, сробыла эту воду? У тебя совесть есть? Вин колхозник, приехал, чтобы продать пати (поросенка), а ты с него три копейки берешь!
– Та разве ж то богато, три копейки? Вон у Грамбергши три копейки стакан воды с сиропом.
– Як еще побачу, что ты там торгуешь водой, побью!
И хоть не бил отец нас никогда, больше я этим делом не занималась.
Училась я, как и мои сестры, в украинской школе. А преподавала нам украинский язык классная руководительница Галина Семеновна. В торце нашего дома каменная лестница вела на второй этаж, где в большой комнате размещался детский сад. Наша «классная» водила туда своих двух девочек. И когда не могла их забрать, просила меня.
Галина Семеновна мне запомнилась тем, что знала идиш. В классе из 40 человек 15 были евреями. И они между собой на идише говорили. А она порой заглянет в класс на перемене, скажет им что-то, а мне не понять. Я спрошу:
– Что Беспьятая вам сказала?
А они мне:
– Сказала: «Уберите свои задницы с парт, кобылы».
И вот как-то привела я девочек из садика, а Галина Семеновна позвала меня зайти, чаю попить, и рассказала, как она выучила еврейский язык. Полюбила еврея, замуж за него собралась, а мать жениха условие поставила:
– Выйдешь за Семку, если выучишь еврейский.
Вот и пришлось ей освоить.
После того скажет мне что-нибудь Беспьятая на идише. А я ей:
– Не расповидаю.
– Тебе б мою свекровь! За два дня б выучила.
Видно, понравилось партийному руководству, как справился мой отец с расселением шахтерских семей. Через несколько лет снова пригласили его в уездный комитет партии:
– Соломон Борисович, табуретки в городе негде купить. Организуй мебельную фабрику.
Если партия говорила: «Надо!», коммунист Соломон Эпштейн отвечал: «Есть!» И взялся отец за новое для него дело. Сначала это было крошечное предприятие по производству табуреток и стульев. К началу войны оно выросло до мебельно-кроватного комбината. Отец знал, где в городе есть брошенный металл. Из него и стали делать кровати.
В то время руководителями назначали за знание технологии и умение организовать работу. Отец на фабрику набрал пожилых людей: столяров, плотников, кто мог мебель делать. Много рабочих было из числа инвалидов – глухие, немые, слепые. Для них он добивался то прибавки зарплаты на десятку, то выдачи пайка. Но поскольку за плечами у самого директора было лишь четыре класса начальной школы, то таких, как он, заставляли учиться. К ним домой присылали учителей. А репетиторами становились родные дети.
– Розка! – кричал отец. – Нам же задание дали. Иди быстро порешай, бо скоро придет Фарбер, а у меня задание не выполнено.
– Як же так? – удивлялся он, разбирая решение задачи вместе со мной. – Это одна четвертая, прибавить надо одну шестую, а ты кажешь, шо общий знаменатель двенадцать. Иде ж тут двенадцать? Тут не написано.
Отец все время на работе пропадал. Столовых тогда на производстве не было. Мама соберет что-нибудь на обед:
– Сбегайте до батьки. Отнесите ему покушать.
И я бегу на фабрику. Это и не далеко и не близко от дома. У него такой маленький уютный кабинетик был. На производстве делали мебель и для рекламы ею кабинет обставляли. Периодически мебель меняли. Как-то увидела там разноцветные стекла, спрашиваю:
– Папа, а зачем тебе такие стеклышки?
– Тебе нравится? – спросил отец. – Тогда и людям понравится.
Оказывается, глухонемые рабочие придумали буфет с цветными витражами. Через год такой у нас дома появился. Кто ни придет, восторгается: какая красотища! Как прибегу к отцу, он меня расспрашивает: а как мама?
– Хворает, – говорю.
– Береги ее, – просит отец.
А я сейчас думаю: и ему бы нелишне было поберечь ее. Нас – орава большая. Чем-то можно было помочь. А он уходил часов в шесть-семь утра, когда за ним приезжала линейка – повозка такая с сиденьем и скамеечкой под ногами. И возвращался затемно.
Мама же до болезни так и продолжала работать фельдшером. На вызовы нередко брала с собой меня. Запомнился случай, когда мать позвали к председателю горсовета Сталино по фамилии Кинель, у которого случился инсульт.
Когда мы пришли, Кинель уже бурого цвета стал. И вокруг него врачей целая толпа. А его жена Регина Исаевна говорит им:
– Так, побыли, посмотрели, не помогли – все. Не обижайтесь на нас. Быстро Софью Леонтьевну сюда!
Мама врачей попросила:
– Оставьте меня с больным.
А меня куда-то в угол приткнула. Я присела на корточках и играю с пуговицами разноцветными. Их мне Регина дала. Мама осмотрела больного, послушала пульс и говорит:
– Регина, надо, чтобы домработница срочно сбегала на второй ставок к деду и попросила у него пиявок.
Она написала на бумажке, какие нужны пиявки, и дала домработнице:
– Почитаешь деду, а то он неграмотный.
А врачи не уходят – попросили разрешить им остаться. Для каждой конкретной болезни надо знать точки, к которым пиявок прикладывать. Мама ставила пиявок, а они смотрели. А больной спрашивал:
– Сонь, ты мне кровь выпьешь всю?
– Не беспокойся, для работы оставлю. А Регина обойдется и без тебя.
По мере того как пиявки напивались крови и отваливались, Кинель белел.
– Ну, все, пойду к своему Соломону. Больше здесь делать нечего, – собрав в миску всех пиявок, заявила мама.
– Сонюшка, посиди трошки еще, – попросил больной.
– Тогда еще пару пиявок на ноги поставлю, – предложила она.
– Не, хватит. А то всю кровь выпьешь.
– Тогда пойду к Соломону.
– Иди к своему Соломону. Ты ему пиявку на жопу поставь, пусть знает, что цэ таке, а то все на мне, да на мне, – засмеялся Кинель. Он уже совсем посветлел лицом.
Тут Регина докторов позвала чаю попить. А я подумала: они ж пустой чай пить не будут, наверное, с печивом и бубликами. И попросила:
– И нам чаю.
А мама говорит:
– Сейчас домой придем, нам папа чаю сделает.
Мама заболела лейкемией, когда я была еще маленькой. Болела долго. Отец возил ее в частную клинику на обследования. С бойни для мамы привозили свежую кровь. Она морщилась, но пила. Но с каждым днем становилась все слабее и слабее. Последний год уже почти не поднималась с постели.
Односельчан, приезжавших в Сталино, по возвращении в деревню, где фельдшерицу Сонюшку хорошо помнили, все расспрашивали:
– Как там Соня?
– Хворает. Лежит.
– А кто ж там готовит на такую ораву, убирает?
– То Райка, то Фекла, то Беллка с мужем приедут. А то Аграфена с ребенком.
Деревня всколыхнулась, решили кого-то послать маме в помощь. А кого? У той муж, у другой дети, у третьей хозяйство. Остановились на шестнадцатилетней Маруське, здоровой дева хе с бельмами на обоих глазах. Привезли ее в Сталино:
– Соломон, вот тебе в помощники Маруську.
– Да вы что, с ума сошли? Мне такую ораву годувати нечем, а вы еще Маруську привезли! – возмутился отец.
Тут Маруська голос подала – уж очень в городе ей хотелось остаться:
– Дядечка, да мне много не трэба. Я и сварю, и помою, и постираю, я все умею.
– Маруся, ты бачишь, яка семья? Ты бачишь, яка квартира? А готовить на примусе сможешь?
– Не, я примуса не знаю. Пусть мне кто зажгёт, а я приготовлю, – стояла на своем девка.
Так Маруська и осталась в нашей семье. Потому что деревенские постановили, а те, кто ее привез, наотрез отказались:
– Мы обратно ее не возьмем. Сказали, чтоб помощь Соне была.
Маруська и правда хорошей помощницей оказалась. Моторная, она все успевала.
Мама совсем уже плохая была – лежала на диване в большой комнате. Отец, приходя домой, садился рядом, гладил ее руку, приговаривал:
– Похудела ты, моя Сонюшка, похудела. Ты сегодня что ела? Маруська, чем ты годувала тетю?
Мне исполнилось тринадцать лет, когда мамы не стало. Похоронив свою Сонюшку, отец второй раз остался вдовцом. А мое счастливое беззаботное детство тогда и закончилось – в 1937 году. Впрочем, закончилась пора спокойного существования и для большинства советских граждан. В страшные 1937–1938 годы арестовывали людей по ночам. И если опечатывали чью-то квартиру, значит, всю семью забрали. Поутру старуха Бухтиярова ходила и сообщала:
– Четвертую квартиру заклеили, девятую заклеили.
Глава 4 Сестры, родные и сводные
Рассказ о жизни моей семьи в довоенные годы будет неполным, если не поведать о самых близких родственниках – братьях и сестрах. Только тогда станет понятно, какой груз заботы и переживаний лежал на плечах родителей – мамы, пока она была жива, и отца.
Старшая сводная сестра Груня была, пожалуй, самой красивой из нас и абсолютно непохожей на типично еврейских девушек. Белокожая, с серо-голубыми глазами и светло-русой косой ниже пояса, Груня покорила бы, наверное, немало мужских сердец. Да, вот беда, в семнадцать лет полюбила соседского парня Гришу. Встречались, гуляли допоздна, держась за руки, целовались в парадной. А когда Григория призвали на службу во флот, плакала Грунечка и клялась ждать любимого долгие четыре года.
Время летело незаметно, потому что сразу по окончании школы сестра пошла работать на кондитерскую фабрику, где делали бублики, пряники, печенье. Сама была сыта и домой нам что-нибудь приносила. Одновременно поступила учиться на энергетический факультет индустриального института, где познакомилась с белорусским пареньком Володей Шиммелем. Володе сразу приглянулась скромная девушка с русой косой. Она же видела в нем только приятеля-сокурсника, который помогал делать контрольные и курсовые. И не придавала значения тому, что нередко однокурснику оказывалось по пути, когда возвращались поздними вечерами с лекций. Кто-то из друзей, приметив это, написал Григорию, что его невеста гуляет с другим. Когда Груне вдруг перестали приходить письма из армии, она забеспокоилась и решила узнать у матери возлюбленного, не случилось ли чего плохого.
– И ты еще спрашиваешь, бесстыжая! – возмутилась мать Григория. – Думаешь, никто не знает, как ты с другим спуталась? Даже и не надейся, что Гришенька мой тебя простит и примет.
Так и случилось. Вернулся Григорий со службы, возмужалый, подтянутый, но к ней и близко не подошел. Красовался в своей парадной форме и бескозырке, залихватски сдвинутой на самый затылок, перед знакомыми девицами, а встретив Груню, смотрел сквозь нее.
Только наша мама знала, как тяжело переживает моя сестра разрыв с любимым. Хотя виду сестренка старалась не подавать, но мы слышали, как плакала тихонько по ночам в подушку. Похудела сильно, потемнела лицом и почти перестала улыбаться.
– Что ж поделать, Грушечка, жизнь по-всякому складывается. И злые люди всегда находились и находятся. Ты еще встретишь свое счастье, – успокаивала мама. Только она называла сестрицу Грушечкой. И хоть не нравилось той уменьшительное имя, терпела, но просила:
– Мама, ты хоть при всех не называй меня Грушей.
Тем временем однокурсник Володя переехал в Харьков к сестре. Устроился на танковоремонтный завод. Получил комнатку, маленькую 13-метровую, но свою, на улице Сахарозаводской. И приехал за Груней, просить ее руки. Отец не возражал – дочери за двадцать перевалило, как бы в перестарках не осталась. Свадьбы не устраивали, молодые просто расписались и уехали в Харьков.
С Володей Груне жилось спокойно. Видимо, благодарна была она мужу за то, что помог пережить любовную драму, не напоминая и не упрекая за прошлое. Оба окончили заочно институт. Получили дипломы и специальность инженера-электрика. Володю избрали секретарем парткома цеха. Сестра же в партию вступать не стала. Вскоре у супругов Шиммель родилась девочка, которую назвали Светочкой. Жизнь, кажется, начала налаживаться.
Светочке шел шестой месяц, когда Груня получила письмо от отца. Он сообщил дочери, что «мама тяжело больна, и врачи говорят: жить ей осталось недолго».
Груня с Володей и малышкой Светочкой примчались в Сталино, бросив все дела. Маму уже привезли из больницы, где ей ставили капельницы, домой. Она выглядела измученной. На осунувшемся бледном лице глаза смотрелись как темные бездонные озера. Груня рассказывала, как заныло в груди при виде угасающей матери, вернее, женщины, которая с двух лет заменила ей мать.
Помню, как, сдерживая слезы, она повторяла: «Мамулечка, я все для тебя сделаю» – и остервенело отмывала в квартире полы, потолки и стены. Покончив с уборкой, села рядом с кроватью мамы, прижалась щекой к ее руке:
– Мама, тебе легче дышать? – спросила.
– Легче, Грушенька, легче.
И впрямь, приезд Груни с дочкой словно вдохнул в мать новые силы. Она даже смогла понянчить Светочку. Соседям, наведывавшим больную, мама с гордостью показывала малышку:
– Посмотрите, какая прелесть моя внучка!
И действительно, Света уродилась белокурой и светлокожей, и было в кого: отец и мать оба светловолосые.
Замужество другой моей сводной сестры, Беллы (по метрике – Буни), надолго дало пищу для пересудов не только обитателям нашего дома.
Возможно, трагедия, связанная с появлением на свет этой сестренки, наложила отпечаток на ее характер. Напомню, рождение Беллы стало причиной смерти ее настоящей матери – Маруси. Растить же и воспитывать сиротку первые три года взялась бабушка Хая-Рейзл – мать отца. И все три года места себе не находила ее мачеха, моя мама. Женщина с большим и добрым сердцем, взявшая на себя заботу о детях умершей подруги и, по сути, заменившая им мать, очень переживала о малышке.
– Ну что ей может дать бабушка? – спрашивала мама отца. – Она сама уже нуждается в помощи и заботе. Давай, Соломон, вези дочку домой. Пусть живет вместе с нами. Где шестеро по лавкам, там и седьмому место найдется. Не пропадем.
К тому времени, кроме родных братьев и сестер Беллы, на свет появилась сводная сестренка – Раечка. Не выдержав натиска жены, отец забрал Беллу у своей матери и привез в село Степановка Гуляйпольского района Запорожской области, где проживала на тот момент вся его большая семья.
В общем, не знала малышкой Белла, что такое прижаться к теплой материнской груди, не впитала с молоком матери ощущение нежности и любви, так необходимое ребенку в первые дни и месяцы жизни. Да и позднее, в семье чувствовала свою некую обделенность вниманием. Поскольку моей маме управиться с такой оравой было непросто, а родной отец то с беляками воевал, то советскую власть устанавливал в отдельно взятом населенном пункте Донецкой области, до 1924 года носившем название Юзовка, а затем переименованном в Сталино, куда со временем перевез и всю семью. Видимо, поэтому из всех дочерей его Белла выросла самой независимой, немного скрытной и со стороны казалась высокомерной. Или такое обманчивое впечатление производила ее внешность? Длинная, гордо изогнутая шея, точеный профиль, изящный тонкий стан – такой запомнилась мне сестра в тот день, когда сбежала из родительского дома. В моей памяти случившееся запечатлелось как кадры художественного фильма в жанре мелодрамы.
– …Это все ты! Ты виновата! Это ты ей все позволяла! И кого вырастила? Кого – я тебя спрашиваю? – кричал отец.
– Соломон! Успокойся! Я ничего не знала! Разве не ты ее привез домой из Ленинграда? Разве не Ленина жена писала, что Белка с парнем гуляет?
– Да, Соня! Я привез! Но я отец! А ты, как мать, почему ты не знала, что в голове твоей дочери? Это ж надо! Так опозорить родителей! Так выставить на посмешище жениха! И какого жениха? Уважаемого человека! Декана!
Весь двор, притихнув, второй день с интересом внимал скандалу в нашей семье. Время от времени в диалог двух хорошо знакомых голосов вступал третий – молодой мужской:
– Соломон Борисович? Где ваша дочь?
– Это я у тебя должен спросить: где твоя невеста? Ты – жених!
– А вы отец! Вот и скажите: где ваша дочь? И что делать моей маме? У нее макитра теста пропадает? А гости? Что я скажу гостям?
Телеграмма, пришедшая к вечеру второго дня из Баку, расставила все по местам:
«Фамилия Соболева. Направляюсь в Узбекистан по месту жительства мужа. Муж Анатолий Соболев. Простите меня. Ваша дочь Белла».
– Ой, лышенько! Ой, стыдоба какая! – причитала мама.
А мы с Борькой, притаившись в соседней комнате, тихонько хихикали:
– Так и надо этому Слипченко!
Мы с братом не только знали обо всем с самого начала, но и стали соучастниками похищения сестры.
Мне сразу понравился дядька, с которым сбежала из дома Белла перед самой свадьбой. Это я первой увидела накануне днем шикарную черную машину «ЗИС-101», въехавшую в наш двор, и подлетела к вышедшему из авто мужчине с приятным открытым лицом, когда тот спросил:
– А вы не знаете, где здесь живет Эпштейн?
– Я Эпштейн! – поспешила ответить ему.
– А у тебя есть сестра Белла?
– Есть. Она сейчас в университете, получает диплом – с отличием! – Мне не терпелось вывалить на незнакомца то, чем гордилась сейчас наша семья. И почему-то без всякого опасения я согласилась сесть в его машину и показать, как проехать до университета. А по дороге продолжила завоевывать симпатию гостя новой порцией информации:
– А Беллка замуж выходит за Слипченко. Он в университете декан. Его мать тесто на пироги поставила. А наша мама холодец готовит.
Слипченко я невзлюбила тоже сразу – за жадность. Как-то принес он яблоки. Мы с Борькой дома были, но жених не угостил нас. Положил фрукты на рояль, а они скатились на пол. Так он под роялем ползал, ползал, собирал, но два яблока не заметил. Когда ушел, мы достали их и стали грызть с большим удовольствием. Белла пришла, спрашивает:
– Откуда яблоки?
– А это твой Слипченко весь пол вылизал языком, чтоб нам не дать. Но нам два яблока досталось. А твои – на рояле.
К готовящейся свадьбе сестры я относилась с недоумением: зачем такой красавице и умнице выходить за такого жадобу и зануду? Потому, поняв, что могу расстроить планы Слипченко, с охотой взялась помочь сестре и ее симпатичному похитителю. Подъехав вместе с ним к университету, я разыскала сестру и заговорщически зашептала ей на ухо:
– Иди, к тебе на шикарной машине приехал какой-то дядечка.
Белла хоть и удивилась, но вышла:
– Толя?! – похоже, появление этого человека было для нее полной неожиданностью. Сев в машину, Белла о чем-то тихо переговорила с Анатолием, а затем позвала меня:
– Роза, сейчас мы подъедем домой, ты зайдешь и потихоньку вынесешь мне белое платье и темно-синее. Возьмешь также туфли, чулки, белье. Но чтоб никто не видел, особенно мама.
Анатолий достал три рубля – целое богатство:
– На тебе, Розочка, на конфетки.
Меня хоть и подмывало взять деньги, но гордо отказалась. А в голове моей роились вопросы: «В чем вынести столько одежды, чтоб мама не увидела? Мама же дома, готовит к свадьбе».
Белла словно подслушала:
– Розочка, ты три рубля возьми и возьми мою сумку, сложишь все в нее. А туфли потом вынесешь.
Первый заход домой прошел благополучно, когда же я вернулась за туфлями, мама заподозрила неладное:
– Что ты бегаешь взад-вперед?
– Ничего я не бегаю, мама. Просто водички попить зашла, – постаралась я усыпить бдительность матери.
В общем, уже через полчаса простыл и след того автомобиля, что Беллу увез. А вечером начался скандал. Пришел официальный жених Слипченко:
– Где ваша дочь, Соломон Борисович?
– Это мне у тебя надо спросить. Ты жених.
И дальше по кругу – крики, обвинения, слезы, пока телеграмма не пролила свет на случившееся. Анатолий оказался тем самым парнем, с которым Белла в Ленинграде гуляла. На самом деле он преподавал в том строительном институте, в котором училась Белла, и как мальчишка влюбился в свою студентку. Встречались с ней, гуляли белыми ночами по улицам и набережным прекраснейшего города, любовались творениями великих зодчих, о которых Анатолий мог увлеченно рассказывать часами. А когда отец по совету невестки – жены старшего сына, Леонида, у которого жила Белла, – увез дочь назад в Сталино, влюбленный мужчина не смирился. Получив назначение в Москву, он рванул за возлюбленной и украл ее буквально «из-под венца», хотя, естественно, в семье коммунистов ни о каком венчании не могло быть и речи. А машину одолжил у друга – тот в Горловке был большим начальником.
Из Баку Анатолий повез Беллу в свой родной город Коканд. А уж потом на место назначения – в Москву. Его, как специалиста-фортификационника высокой квалификации, пригласили на работу в Главное военно-инженерное управление по оборонительному строительству. Дали отдельное жилье в столице, положили хорошую зарплату. Сама Белла устроилась в Метрострой и за короткое время вышла в начальники участка. Поэтому хоть и упорхнула из родного дома с двумя платьями (белым свадебным и темно-синим деловым), скоро с нарядами у нее проблем не стало. Приехав как-то перед войной в Сталино и увидев, в каком ветхом пальтишке я ходила, Белла сняла свое шикарное бостоновое и накинула его мне на плечи:
– Носи на здоровье! А я и в куртке доеду.
Пальтишко, правда, оказалось узковато мне, пятнадцатилетней, пришлось его расставить по бокам – образовались светлые полосы в местах прежних швов. Но это мелкое недоразумение отошло на задний план, когда я вышла на улицу и ощутила, насколько тепло и уютно в новом пальто. Позднее, в Коканде, в эвакуации, Белла также широким жестом одарит меня крепдешиновым платьем абрикосового цвета и еще какими-то шмотками из своего богатого гардероба. Как же благодарна я была ей и как хотела живого тепла и участия от этой царственно красивой женщины. Но Белла для меня оставалась снежной королевой. При встрече – равнодушное:
– А, Роза? Привет! – И все! Ни тебе объятий, ни поцелуев, ни расспросов: как живется тебе, малая, без мамы? Мамы не стало, когда мне и тринадцати не исполнилось. И только Раечка понимала мои переживания, старалась, как могла, заменить маму: расспрашивала, выслушивала, советовала.
Раечка (Раси-Голда – по метрике) была первым совместным ребенком моих отца и мамы. Бог наделил ее не только умом, красотой, но и многими талантами. Блестяще закончила школу, затем с отличием – рабфак. Без экзаменов ее приняли в индустриальный институт. Но через месяц, после первой же экскурсии на сталелитейный завод имени В. И. Ленина, вместе с другими девушками забрала документы и отнесла их в медицинский институт.
В то время в Сталино было только два института – индустриальный и медицинский, так что выбирать не приходилось. Одновременно Раечка поступила на заочное отделение Московского лингвистического института, на факультет немецкого языка. И окончила его в один год с медицинским – в 1941 году.
Жизнерадостная, любознательная сестра находила время на все: и на учебу, и на домашние дела (Раечка хорошо готовила), и на рукоделье, и на занятия живописью. Диван в большой комнате, где спали родители, украшали подушечки из разноцветных тонких ленточек, сделанные ее руками. Все диву давались: какая красота!
А еще Раечка любила рисовать, поэтому, когда узнала о конкурсе молодых художников на премию имени Бродского, то отправила в Ленинград свою самую любимую работу – полотно, на котором запечатлела голову лошади. Неподалеку от дома, где жили Эпштейны, находился конный двор. Так часами она сидела на конюшне и рисовала. И морда лошади получилась как живая – с печальным выражением блестящих карих глаз.
Настолько красивая, что управляющий конным двором предлагал Раечке большие деньги за картину. А еще говорил:
– Да я тебе живую лошадь отдам – давай обменяемся. А портрет повешу на конном дворе. Пусть знают, какие у меня кони!
Но сестренка к тому времени уже отослала эскиз картины в конкурсную комиссию и получила из Ленинграда ответ: можете присылать. Одновременно ее предупредили, что работы призеров не возвращаются, а переходят в собственность организаторов конкурса.
Раиса Эпштейн стала победителем и получила премию 600 рублей. Большие деньги для 1940 года. Отец получал в то время 450 рублей. Но он долго ворчал:
– Ты зачем отдала такую красу за гроши? Тебе что, хлеба не хватает или борща? Яки гроши!
А сестренка посмеивалась:
– Батька, картина же где-то будет висеть и людей радовать, а не в подвале лежать. Пусть люди смотрят.
На премию она купила отрез ткани на пальто, а часть денег отдала в неврологическую больницу, где лежали ее друзья. Ребята учились вместе с ней в медицинском, а по ночам работали на «скорой помощи» – на одну стипендию не проживешь. От перегрузок и нервного переутомления сильные здоровые парни заболели. У Павлика ноги отнялись. У Лазаря случился инсульт. По знакомству удалось положить их в психбольницу. А есть-то им нечего. Вот Рая и подсоберет что дома, да по соседям пройдет:
– Вам нечего передать больным? Ничего не осталось от обеда?
А среди наших соседей были и люди состоятельные: врачи, энкавэдэшник, осавиахимовец, аптекарша. У них всегда что-то оставалось. Собрав провизию, Раечка бежала в больницу, кормить ребят. Один из них, Павел, до болезни за ней ухаживал. Я даже шантажировала сестру, когда молодой человек принял меня за нее, подойдя сзади, и чмокнул в щечку. После этого я стала требовать:
– Райка, дай десять копеек, а то батьке скажу, что ты с Пашкой целуешься.
Сестру Гальку, записанную при рождении в 1920 году Феклой, сначала дразнили Галкой за ее жуково-черный цвет волос. И только Белла звала ее Фешкой. В школе Галька училась средне, никакими талантами не блистала. Поэтому отец отправил ее после восьмого класса в музыкальный техникум. И угадал! Руководитель Гальки профессор Шепелевский сказал: если у вас будет инструмент, то из нее выйдет хороший музыкант. Отец всем нам определил, кто кем должен стать: Райка – врач, Галька – музыкант, Розка – бухгалтер (почему?), Беллка – строитель, Грунька – электротехник, Исай и Ленька – военные. Он купил где-то подержанный рояль, дешевый и плохой. Играть на нем можно было, но звучал он не в той тональности.
И Шепелевский заметил, что, когда Галя у него в классе на фортепиано играет, ее что-то сбивает. Профессор не поленился прийти к нам домой, сел за рояль, попробовал что-то сыграть, а потом сказал отцу, который приехал на обед:
– На дрова этот рояль!
С деньгами у нас было плохо. Но кто-то отцу помог купить пианино, нормальное ростовское. И Галька стала всерьез заниматься музыкой. Профессор пообещал ей направление в Киевскую консерваторию. Так она нас всех замучила, разучивая отрывок из балета Хачатуряна по программе для поступления в консерваторию. Это был такой тарарам и по шесть часов в день. Мы чуть с ума не сошли, орали:
– Ты заткнешься сегодня или нет?
Учась в техникуме, Галька подружилась с Нинкой Мхеидзе. Нинкина мать боготворила Гальку. Во-первых, пианистка, во-вторых, нравственная, в-третьих, красивая. И приваживала ее. Мхеидзе жили на Второй линии. Отец Нинки имел свой винный погреб, и жили они богато. Потом, правда, его посадили. Галька у них вечно ошивалась. Олимпиада Савельевна, Нинкина мать, уже с утра звонит:
– Галочка, а ты уже завтракала? А что ты ела? А обедать к нам придешь? Приходи обязательно. Мы с Ниночкой будем тебя ждать.
Нинка – красавица, ухоженная – одевалась шикарно. И Галька с ней охотно дружила.
Мать боялась, как бы Ниночка с ее красотой не пошла налево. Хлопцев за ней много ухаживало.
Вскоре Галька стала работать в детском саду аккомпаниатором. Зарплату тратила исключительно на себя и свои наряды. Помню ее черное платье с красной розой, белое в мелкий красный горошек с бантом красным с белым горошком. Я как-то в Коканде даже надела это платье, хотела понравиться призывной комиссии, чтобы меня взяли на фронт.
Глава 5 Братья
Леонид и Исай – мои сводные братья по отцу, – как я уже говорила, родились с разницей в два года. Вообще-то, в метрике старшего сына моего отца было записано имя Лев, но с детства все звали его Леней. Карьеру военного Леонид избрал для себя в пятнадцать лет, сбежав из дома на фронт. Прибился к какому-то отряду, выдав себя за сироту, у которого отец воюет, а мачеха злая. Хорошо, что это оказался один из отрядов Котовского. Ведь в то время на территории Украины много всяких банд ошивалось. Мог брат и к ним угодить. Отец с мамой разыскали, конечно, беглеца. Командир, увидев маму, строго так спросил: «Что ж вы, мамаша, так плохо за сыном смотрите?» Леня же, когда его позвали к родителям, расплакался. Но от мечты стать боевым офицером не отказался.
После десятилетки брат поступил на курсы младшего командного состава. В те годы Красная Армия в ускоренном порядке обучала командиров младшего звена. В составе маневренных групп Рабоче-крестьянской Красной Армии Леонид участвовал в ликвидации басмаческих формирований в Средней Азии, где и заслужил свой первый орден – Боевого Красного Знамени, которым страшно гордился. Я была еще маленькой, когда Леня приехал домой в отпуск из Средней Азии и рассказал нам, за что получил свою первую высокую награду. Но эта история потом столько раз пересказывалась старшими, что хорошо запомнилась мне.
…Это происходило на территории Узбекистана летом 1928 года. Бандиты держали в страхе целый район. Переодевшись в красноармейскую форму, басмачи вырезали целые кишлаки, не щадя ни стариков, ни детей, чтобы настроить население против советской власти. Особенно нагло действовала одна банда. Командиру Леониду Эпштейну и его отряду поставили задачу – поймать главаря и обезглавить банду. А как поймать? Красный командир переоделся в национальный узбекский халат и тюбетейку и стал бродить по городу, внимательно приглядываясь к тому, что происходит вокруг. Бывая возле мечети, Леонид приметил странное поведение некоторых женщин. Входя в мечеть, они приоткрывали лица, хотя Коран им запрещает это делать. Продолжая наблюдение, он увидел еще одну странность: у одной из женщин из-под подола паранджи выглядывали сапоги 44-го или 45-го размера. Хотя общеизвестно, что у узбечек размер ноги маленький. И офицер понял, что под паранджой скрывается мужчина. Леонид расставил в районе мечети своих бойцов, также переодетых под узбеков. Войти в мечеть неверному нельзя – поднялся бы страшный скандал. Поэтому, оставшись снаружи, красноармейцы внимательно осматривали обувь выходящих. Так удалось захватить неуловимую банду вместе с главарем. Судили басмачей принародно. И сами узбеки, чьи родственники погибли от их рук, требовали бандитам смертной казни. За эту операцию Леня и получил свой первый орден.
Леонид, как успешный офицер, был замечен командованием, и по возвращении из Средней Азии направлен на учебу в военно-политическую академию в Москву. С окончанием академии характер службы теперь уже майора Эпштейна круто изменился. Зная в совершенстве английский и польский языки, брат получил направление в качестве военного советника сначала в посольство СССР в Лондоне, затем – в Варшаве. В феврале 1938 года заслуги Леонида были отмечены еще одной наградой, которой он тоже очень гордился, – медалью «ХХ лет РККА». И в этом же году брата вызвали из Варшавы в Москву. Поселили в гостинице «Москва», дали отдельный номер. И велели ждать, пока вызовут. Так как выйти из гостиницы Леонид не мог, то он вызвал в Москву отца, с которым виделся последний раз лет десять назад, когда приезжал в Сталино из Узбекистана. На вопросы отца, почему он не покидает гостиничный номер, отвечал коротко: ждет звонка. Леня понимал, что его проверяют из-за возможных связей с легендарным комдивом поляком К. К. Рокоссовским, арестованным в августе 1937 года по ложному обвинению в связях с польской и японской разведками. О выводах, к которым могли прийти органы, думать не хотелось. К тому времени репрессиям подверглись многие из высшего комсостава армии. Когда же злополучный телефон зазвонил, на том конце провода довольно сухо сообщили, куда надо зайти за направлением на новое место службы – в посольстве СССР в Китайской Народной Республике. И уже через день «Восточный экспресс», в котором ехал старший брат, отстукивал километры пути по КВЖД.
В нашей семье в предвоенные годы хранилась, как реликвия, книга, изданная в Пекине на китайском языке. Имя автора на обложке начертано иероглифами, а на фото – утонченно-красивое лицо брата Леонида. Куда потом делась эта книга? Не найти мне ответа на этот вопрос спустя столько лет. Война многие вопросы оставила без ответа.
Санька был моим самым любимым братом, потому что опекал меня с самого детства и до конца своих дней. Исай по паспорту, для всех он был Санькой. И это имя очень подходило ему, неугомонному и жизнерадостному. Такие люди становились комсомольскими вожаками, потому что умели собирать вокруг себя молодежь и зажигать ее. Исай поначалу и пошел по комсомольской линии – работал в Сталинградском крайкоме ВЛКСМ. Вспоминается такой эпизод, связанный с характером моего брата.
Одевались мы, чего греха таить, бедно. С шестого класса я ходила в мамином темно-синем репсовом платье. Вначале мне его подшили, подвернув несколько раз, а по мере того, как я росла, отпарывали одну «заложку» за другой и утюгом отпаривали, чтоб белой полосы не было видно. Часто это делала бабушка Бухтиярова. Она же мне к обтрепанным рукавам старенького пальто синие манжеты надставляла. Мама ведь слегла, когда мне было девять лет. И вот как-то, в октябре 1936 года вызывает меня директриса школы и говорит, что сегодня в 17 часов во Дворце пионеров состоится встреча с Алексеем Стахановым. А поскольку я отличница и активистка, то мне доверена высокая честь повязать Стаханову пионерский галстук.
– Та шо вы, Раиса Михайловна, мне нечего одягнуть, – испугалась я.
А она на своем стоит:
– Як есть, так и пидешь!
Иду я домой и плачу.
Рая дверь мне отворила и спрашивает:
– Розочка, что случилось?
Я ей рассказываю про Стаханова, которому должна галстук повязать (мне уже и галстук шелковый с зажимом дали), и про то, как стыдно на сцену в старом платье выходить. Рая успокаивает:
– Я тебе отутюжу это платье через мокрую тряпку – будет как новенькое.
Надо сказать, что не все у нас в классе бедно одевались, хотя таких, конечно, было большинство. Несколько девиц из богатых семей ходили в шерстяных платьях в рубчик, а одна – в шелковом платье с шикарным кушаком. За ними и хлопцы припухали (ухаживали).
У сестер моих, конечно, с нарядами было получше. Рая преподавала ГСО («готов к санитарной обороне») в универмаге, а Фекла в детских садах аккомпанировала детям. На свои заработанные деньги они одевались, а кормились на отцовские. Но Фекла вообще своих тряпок никому не давала. А Раечка с удовольствием предложила мне:
– Вот, надень эту кофточку!
И надо ж тому быть, в это время домой приехал Исай из Сталинграда (он там работал секретарем крайкома комсомола). Исай меня всегда опекал и очень чутко относился к моему настроению. Рая ему все рассказала. Он осмотрел меня критически и говорит:
– Это ж большая честь – повязать галстук самому Стаханову!
– Честь честью, но как на сцену выйти в этом платье? Стыдно же! – продолжаю я плакать.
– Ну-ка, пойдем со мной в универмаг, – предлагает Исай.
Вообще-то, в то время люди с ночи в очереди записывались, чтобы там что-то купить. Но я соглашаюсь, брат берет меня за руку, как в детстве, и мы идем. В универмаге посмотрел он прилавки и – к продавщице. Наклонился, что-то тихонько нашептывает ей, улыбается. А Исай у нас был мужчиной интересным. Очи черные, голос приятный. Видно, обаял продавщицу – та на меня посмотрела и вынесла юбку в складочку из плотной ткани, кофточку беленькую с вышивкой и шелковый галстук. Я нарядилась в обновки, и брат повел меня в обувной отдел. Выбрали там прюнелевые (матерчатые) туфельки черные на каблучке и белые носочки, в галантерее – воротничок белый. А потом Исай мне купил маленькие часики «Зифик» за 400 рублей.
И когда я пришла во Дворец пионеров, наши девки глаза вытаращили. Ну а я загордилась. Потом в школу пошла в этом же наряде. И соседка говорит:
– Ой, Розочка! Как ты хорошо стала выглядеть! А что ж ты каждый день так не ходишь?
– Так это Исайка приехал и накупил мне добра.
– Какой же молодец твой братик.
А сестрицы мои как часики увидели, так и стали просить. То Райка: «Дай поносить, а то у меня лабораторная – боюсь опоздать», то Фенька: «Мне нужно на концерт успеть». Я, конечно, в позу: «Не дам!» Тем более что Исай предупредил сестер: «Только ее тронете, бошки поотрываю!» Куда там! Отлупят меня сестрицы, а часики заберут.
Что же до Стаханова, то, когда на сцене Дворца галстук ему повязывала и зажимом крепила (в то время галстуки не завязывали на узел, а скрепляли зажимом, на котором был изображен пионерский костер), увидела вблизи его лицо. Все как оспой побитое и в черных точках от угольной пыли, а глаза бесцветные.
В 1937 году, когда арестовали весь Сталинградский обком партии, в опалу попали и комсомольские вожаки. Исая обвинили в том, что он был вхож в семью второго секретаря обкома, потому что знал, какие платья у его жены. Не арестовали, правда, но комсомольский билет забрали и с работы уволили.
Санька приехал домой в Сталино в растрепанных чувствах. Молодой, горячий и все еще наивный, он верил, что все случившееся какая-то ошибка, просто надо куда-то обратиться, все рассказать – и справедливость восторжествует. Отец, коммунист с почти двадцатилетним стажем, выслушав эмоциональный рассказ сына, сказал:
– Сашк, я дам тебе двести рублей. Больше нет. Езжай в Москву и попробуй найти правду.
Исай поехал в Москву. Остановился у Беллы и Анатолия. Анатолий хоть и работал в серьезном учреждении и связи имел в высоких кругах, узнав цель приезда брата жены, посоветовал:
– Ты, Сань, сам иди в ЦК, без блата. Я тебе не помогу. Если пошлют, тогда и будем думать, как тебе помочь.
По совету зятя Исай пошел в ЦК партии. Но войти не успел. Навстречу ему из дверей выскочил молодой парень в военной гимнастерке, выхватил из кобуры пистолет и прямо на ступеньках пустил себе пулю в лоб. Исай понял, что делать там нечего. И вернулся к Анатолию. Тот выслушал и посочувствовал:
– Да, дела плохи. Сейчас столько комсомольцев вышвыривают. Но ты не опускай руки – иди опять и постарайся записаться на прием.
Исай опять пошел в ЦК. И ему повезло – записался на прием к Кагановичу, как советовал Анатолий. Когда Каганович услышал, что молодой человек из Сталинграда, то призадумался, а потом велел ему через день прийти за ответом. Какова же была радость Исая, когда в назначенный день ему возвратили комсомольский билет. Анатолий же восторгов не разделил:
– Учиться тебе надо, Саня! Митинги, трибуны – это все хорошо. Но нужны образование и настоящая профессия. А что у тебя? Пока только рабфак.
По совету зятя Исай поступил в юридический институт. Но до июня 1941-го оставалось три года. С третьего курса, не успев сдать последнюю сессию, он и уйдет на фронт.
Борька был старше меня на два года. Но так получилось, что опекать его приходилось мне. Потому что все, что могло произойти плохого, обязательно происходило с ним. Такое вот невезучее существо уродилось в нашей семье.
В младенческом возрасте, едва начав ходить, Борис упал на плиту (это случилось в деревне у бабушки Розы) и получил ожог бедер и икроножных мышц. В результате мама вынуждена была до девяти лет носить его на руках. Потом, видно, мышцы наросли, и Борька пошел сам.
С речью у него тоже были проблемы. Помню, приходила к нам какая-то тетя Лиза, шить простыни, наволочки, потому что у мамы на все сил не хватало с такой оравой. Машинка у нас была зингеровская. И нам с Борькой нравилось смотреть, как она строчит. И вот однажды стоим рядом, наблюдаем и вдруг видим, как тетя Лиза снимает с головы волосы и кладет на машинку. Я – бежать из комнаты, а Борька как стоял, так и оцепенел от испуга.
– Мама, тетя голову сняла! – ору я.
Мама влетела в комнату:
– Лиза, как же так?! – Мама-то знала, что портниха носит парик, но не думала, что та снимет его при детях.
Борька бледный как стена, мама его давай целовать и сплевывать. Испуг так снимала. После того случая Борька долго не разговаривал. Мама с ним упорно занималась. И только начал отходить после Лизки, как новая напасть.
К нам во двор приходил один нищий, мальчик, видимо, немой. Милостыню он просил так:
– Ма, па, дай!
И нас им всегда пугали:
– Не слушаешься? Придет «ма, па, дай», и я скажу, чтобы он к тебе подошел.
Мы и правда его боялись. Мальчишка был грязный, вшивый. Потому Маличиха, которая борщ с сахаром варила, решила его как-то помыть в корыте, в котором стирала белье. Он так орал, отбивался. Но она его вымыла. Три раза воду меняла, и потом еще волосы ему обкорнала, чтоб от вшей избавить. И вот мальчишка гладит свое тело, которое вдруг стало белым, и причитает:
– А-а-а, ма, па…
Соседи Маличиху ругают:
– Что ж ты так мальчишку? Он и так пуганый!
Мы с Борькой стояли в кухне. И вдруг заходит этот мальчишка и говорит:
– Ма, па, дай пе.
Чего он хотел, не знаю. В ужасе я закричала и мимо него – бежать. А Борька остался в кухне. И опять онемел с перепугу. Мама в больнице уже лежала. На крик мой Маруська пришла:
– Ще таке заразу занесет.
И выгнала парнишку, но кусочек хлеба дала. А на Борьку не обратила внимания, что тот сидел на полу и раскачивался. Пришла другая соседка и спрашивает:
– Борь, ты чего?
Я говорю:
– Та вин испугався вот этого «ма, па, дай пе».
– Вот сволота какая, каждый раз он в наш двор заходит! – возмутилась соседка. – Вот Маличиха его поймает, искупает опять – долго не придет.
И вдруг Борька спрашивает:
– Правда?
А потом опять замолчал надолго. Поэтому родители и отдали его в школу для дефективных. Говорил он плохо, хотя считал и писал нормально. После семи классов отец устроил его в парикмахерскую учеником. Как-то одна соседская девчонка, зная, что он парикмахер, попросила подстричь ее.
Боря посадил ее на табуретку и стал стричь. Она ему говорит: хватит. А он:
– Сейчас еще подровняю.
И до того доподравнивался, что испортил ей всю прическу. Девчонка в зеркало глянула и завопила:
– Я ему морду набью.
Тут я встряла:
– Только попробуй! Ты сама напросилась, а он не парикмахер, а ученик.
Глава 6 Сталинская родня
Наша семья, когда мы жили в Сталино, считалась устроенной. А другой брат отца с кучей детей был бедным. Жили они в деревне. Помещиком до революции там был Бормашенко. И все село носило фамилию Бормашенко. Кроме Эпштейна. А имя у брата было еврейское – Шемейр, но все звали его, как и моего отца, Соломоном. И отправил тот Соломон своего сына к нам и написал: «Зямку тебе отправляю, хай вин учится». И стал Зямка по паспорту Эпштейном Зиновием Соломоновичем.
Зиновий, пока жил у нас, окончил школу, в армии отслужил, получил направление на учебу в Москву в танковую академию. Там он женился на своей двоюродной сестре Маньке. Ее мать, тетя Маня, жила в Москве, была ярой коммунисткой и депутатом Моссовета. Зиновий приходил к ним, когда учился в академии. Ну и понравилась ему Манька, ладненькая, пухленькая, черноглазая, косы длинные черные. Они поженились. Это еще до войны.
Еще в Сталино жила тетя Феня, младшая из маминых сестер, – мать Марьяны, которая потом уехала в Израиль. Тете Фене все помогали, потому что она одна без мужа двоих детей поднимала. Муж ее, кровельщик, упал с крыши и разбился. Брат Яшка, который работал главбухом шахты, на зиму привозил ей уголь. А другой брат Мишка – дрова. Зимы в Сталино были холодные. Мама помогала тете Фене деньгами. Пойдет на рынок и в форточку ей бросает, когда пять, когда десять рублей. Иногда тетя Феня приходила к нам и орала:
– А, буржуи недорезанные! Живете, жрете, а у меня дети голодные.
В Сталино жила и тетя Цива – родная сестра отца и очень колоритная личность. Она была замужем за Гришей Макаревичем. Сама тетушка – мощная, крупная, а муженек – щуплый. Макаревичи держали кузню при доме – в глинобитной халупе. Причем сама Цива работала кузнецом. Основными клиентами ее были цыгане, которым надо подковать коня или узнать, почему конь прихворнул. По ночам ей в окно стучали путники. Тетушка вставала, надевала свою широченную юбку, кофту и шла открывать кузню. Цива легко управлялась с лошадьми. Задерет коню ногу, осмотрит копыто. И если увидит, что подковы стерты и копыта сбиты, то хозяину достанется по первое число:
– А если б меня здесь не оказалось? Как бы твой конь шел дальше на трех ногах?
Клиенты тетушки, как правило, просили попить. Во дворе дома муж ее много лет назад выкопал глубокий колодец. Цива черпала из него воду только своим ведром, дабы не испоганить, а уж потом разливала по кружкам жаждущим. Под утро, удостоверившись, что в кузне огонь погашен, запирала ее и возвращалась в дом. Но соседи возмущались, потому что на улице порой оставались разбросанная солома и лошадиный помет:
– Цива, иди убери за лошадьми.
Хотя такое случалось не часто – тетушка следила, чтоб клиенты за собой убирали.
Перед войной муж Цивы Гриша ушел от нее к другой женщине на соседнюю улицу. Причем не к молодой, а практически к ее ровеснице. Пережить это тетушка не могла. Оскорбленная до глубины души, она каждую субботу выжидала время, когда в доме соперницы открывали ставни, и била стекла. Ее увещевали все. И Гриша приходил, уговаривал:
– Ну что ты делаешь? Ты же добрая женщина. Пойми: я ушел навсегда. Не надо хулиганить.
Добрая женщина на уговоры не поддавалась:
– Вы вместе с ней уйдите с моих глаз, тогда я успокоюсь. А пока живешь рядом, била ваши окна и буду бить. Пусть меня за это посадят. Но я тебя в покое не оставлю.
Оставшись одна в доме, Цива стала привечать у себя старых евреев. В Сталино в то время не осталось церквей – их разрушили, синагогу закрыли. И по пятницам вечерами к тетушке приходили евреи с Торой и читали талмуды в длинной комнате. Когда про это узнали власти, к Циве пришли серьезные люди и спросили:
– Почему ты идешь против воли государства? Если государство закрыло храмы, то ты тоже должна подчиниться.
На что тетушка возразила:
– Это мое личное дело – кто ко мне приходит и кто со мной чаи распивает.
Сообразив, что чаепитие может служить оправданием сборищ, она ставила на стол большой самовар. Ну, а по горбушке хлеба каждый приносил с собой. И все пили чай и читали Тору.
Ничего не добившись от Цивы, серьезные люди вызвали в горком партии моего отца и настойчиво попросили:
– Соломон Борисович, повлияй на свою сестру. Что она творит? Вся улица знает, что по пятницам в ее дом на шабат приходят евреи и молятся там.
Отец, не раз вступавший с Цивой в дискуссии по поводу необходимости платить налоги, предложил:
– Вы лучше ее сюда пригласите, потому что меня, как коммуниста, она не признает.
Но все-таки пошел к сестре и попытался объяснить, что своим поведением та может сломать жизнь и детям и внукам.
– Ах, коммуняка, как ты заговорил! – перебила брата Цива. – А почему вы не тряслись от страха, когда церкви взрывали и когда иконы валялись на улицах, как мусор? Иди отсюда! Молись на свой партбилет. А евреи, которые приходят ко мне, будут молиться на Тору, и ты им не запретишь.
Бывший муж тоже не одобрял эти «чаепития». Но она и ему рот заткнула:
– Тебе не нравится, что ко мне ходят старики? Так ты иди и молись на свою лярву. А ко мне ходили и будут ходить, молиться Богу.
На еврейскую Пасху Цива пекла целый сундук мацы для семей нищих евреев. Ведь на еврейскую Пасху хлеб есть нельзя – только мацу. По преданию, когда евреев изгнали и они шли в Землю обетованную через пустыню, с неба посыпалась манка. Они собрали ее и на раскаленных камнях испекли мацу. Тетушка нас всех отправляла по адресам, кому отнести мацу. Кроме Раи, все дети и племянники были задействованы в этой благотворительной акции. Она заставляла и других зажиточных евреев печь мацу и раздавать бедным.
Во дворе у Цивы росли вишня и жердела – абрикос. Вот тетушка нарвет вишни и выставит за двором на скамейке, покличет:
– Дети, идите, вишенки покушайте.
Те налетят и, наевшись, просят:
– Тетя Цива, а можно я маме и бабушке отнесу? Они чай пьют с вишней.
– Возьми. Благое дело, – скажет тетушка. Это была ее любимая присказка. И на благое дело она ничего не жалела.
Кроме кровной сталинской родни после смерти мамы у нас появилась мачеха. Мы ее сразу прозвали Шуркой.
Александра Ивановна Гаврилова была главврачом той больницы, в которой месяцами лежала мама, заболев лейкемией. Невзрачная, сухопарая – типичная старая дева по внешности и привычкам. Она приметила отца, мужчину видного, когда тот ходил навещать больную жену. Каждый раз Гаврилова, словно невзначай, оказывалась рядом и проявляла участие. Мы тоже были знакомы с этой врачихой, но симпатий к ней не испытывали. И уж конечно никак не ожидали, что через два года после смерти мамы, отец приведет ее в дом и скажет:
– Александра Ивановна будет у нас жить.
Шурка принесла с собой тканевые одеяла и застелила ими постели. На поручни кровати навязала банты. Поначалу она старалась выглядеть культурной. Мне подарила креп-жоржетовую кофточку. А потом началось.
– Маруся, почему у тебя пыли много? – строго вопрошала мачеха.
– Дэ вы ее тут бачили? – удивлялась Маруся.
– Много разговариваешь. Возьми и вытри пыль с мебели! – приказным тоном командовала Гаврилова.
Маруська молча вытирала. А потом тайком плакала.
– Маруся! Ты знаешь, сколько пыли в дорожке? Ты когда ее выбивала? – цеплялась новая хозяйка.
– Раньше выбивала, а сегодня не було времени.
– Как это не было времени? – возмущалась Шурка.
Рая, нетерпимая к грубости и хамству, как-то сделала замечание мачехе:
– Вы Марусей не командуйте. Она не служанка, а член нашей семьи. И относитесь к ней с уважением. А если пыль где увидели, возьмите тряпочку и вытрите.
– А ты не можешь вытереть? – вскинулась Шурка.
– А я утром ухожу на лекции, а после лекций иду на лабораторные работы и на практику. Возвращаюсь поздно. Но Марусе мы все помогаем, и стирать, и убирать. Так что вы над ней не мудруйте.
После этого Шурка еще пуще на Марусю взъелась. Обедать садятся, она – в крик:
– Это что за еда такая? Ты кому варила? Хозяину или свиньям?
Рая недолго терпела такое. И однажды, когда отец на два дня уехал в командировку в Краматорск за лесом, они с Галькой собрали все Шуркины вещи: одеяла, банты, постельное белье, одежду. Соседи знали, что Маруська плакала, и тоже возмущались: ведь эта девчонка вывезла такую ораву, и в доме всегда было чисто. Рая с Галькой попросили соседей:
– Если Гаврилова приедет, скажите, чтоб она своего Ивана не отпускала, потому что надо ей вещи погрузить.
Соседи согласились помочь. И когда та приехала на фаэтоне с персональным кучером, соседки сказали:
– Рая просила вас не отсылать Ивана.
Шурка же решила, что Рая хочет куда-то доехать:
– Обойдется, не барыня – добежит до трамвая.
Тогда Свидлерша взяла ее за руку:
– Нет, вам придется погрузить свои вещи. Девочки их собрали. И они не хотят, чтобы вы с ними дальше жили.
В общем, когда через два дня вернулся отец, то сразу почуял неладное, увидев незастланные постели. Спросил Марусю, что случилось. Она говорит:
– Не знаю, то ж Рая с Фенькой что-то торбувались. Зараз Фенька на занятиях, и Рая в институте.
Тогда он позвонил Гавриловой на работу.
– Спасибо тебе, Соломон Борисович, твои детки меня вышвырнули из хаты, – прояснила она ситуацию.
– Шура, давай встретимся, и ты мне все расскажешь, – предложил отец.
– Видеть тебя не хочу, и чтоб ноги твоей у меня не было, – категорически отказалась оскорбленная женщина.
Я находилась дома, все слышала и увидела, как у отца глаза кровью налились. Он стал таким злым и так прикрикнул на нас с Борькой, что только нас и видели. Вскоре на обед пришла Рая. Я ее предупредила:
– Рая, лучше не заходь. Он там як зверюка.
И пересказала ей все, что слышала.
– Иди скажи Марусе, пусть разогреет суп и поставит на стол, я приду, быстро похлебаю и уйду, – решила Рая. Она сидела и ела, когда на кухню зашел отец и гневно спросил:
– Вы что тут взялись командовать?
– Папа, можешь говорить что хочешь, но Маруську мы в обиду не дадим. Она член нашей семьи. Девочка в шестнадцать лет вывезла нашу семью из грязи, из нищеты. И за это твоя мадам смеет ее тыкать в пыль? Может, и не вытерта где-то пыль. Ну и что? Я на занятиях, Фенька на занятиях, а от Розки чего ты хочешь?
Рая спокойно выслушала обвинения разъяренного отца и ушла. Следом пришла Галька, папина любимица. Он гордился, что дочь пианистка. Ей, однако, тоже досталось:
– Бесстыжая! Я тебе рояль купил – твой профессор сказал: звуки не такие. Я купил пианино, мы голодали. А ты, такая стервоза…
Галя выслушала отца молча. О Шурке в семье больше не вспоминали. Отец ее не звал, да она и не пошла бы – ведь девчата ее при соседях выгоняли. Стыдно было. Тем более что некоторые из соседей в ее клинике работали.
Глава 7 А завтра была война
Четвертую жену отец привез из Киева за год до начала войны. Красивая, холеная Берта-модистка была подругой хозяйки квартиры, где он останавливался, приехав в Киев. Там они и познакомились. Не влюбиться в Берту было невозможно. Вернувшись домой, отец рассказал нам о своей новой жене. Выслушав, Рая решила:
– Папа, цыплят по осени считают. Посмотрим.
Однако на сей раз новая мачеха нам понравилась. Не только красивая, но и спокойная, доброжелательная, Берта Абрамовна по приезду сразу взялась за хозяйство. Утром приготовила из манки какие-то необыкновенные котлетки. Она вообще хорошо готовила. Отцу велела купить белой ткани, из которой настрочила простыней и наволочек. Мне сшила голубое шелковое платье с воланчиками. Увидев меня в нем, подружки ахнули:
– Роза, ты как артистка!
А красивый парень в сквере предложил проводить меня до дома и подарил букет белых роз.
Покорила новая жена отца и соседей по дому. Вначале соседки у плиты во дворе дома осуждающе перешептывались: какую молодую жену привез Соломон. Тогда Берта вынесла им свой паспорт:
– Женщины, посмотрите мой паспорт и не говорите, что я молодуха. Я чуть-чуть младше его.
Ей действительно тогда было уже под пятьдесят.
А я в сентябре 1940 года получила свой первый паспорт. В паспортном столе белобрысый паренек в милицейской форме, посмотрев мое свидетельство о рождении, предложил взять фамилию матери – Полякова. Но я отказалась:
– Нет, отец заругает.
Потом возник вопрос с именем. Дело в том, что у меня, как и у всех детей нашей семьи, в метрике было записано еврейское имя, которое дал раввин в синагоге, – Хая-Рейзл. Паренек не стал ничего переспрашивать, куда-то вышел, а вернувшись, сказал мне:
– Фамилия пусть будет Эпштейн, а имя запишем – Розалия.
Так и сделали. Получив паспорт, дома показала его отцу. Тот расстроился:
– Зря тебя не записали Хаей-Рейзл. Была бы как бабушка.
Он имел в виду свою мать, на которую я, говорили, очень похожа. А Рая возразила:
– Правильно, Розочка, тебе сделали. Скажи спасибо тому милиционеру. А то бы как Белла с таким именем мучилась.
Нашей сестре в паспорт записали ее имя из метрики – Буня. Так она с ним действительно мучилась, пока не вышла замуж и не сменила вместе с фамилией и имя – стала Беллой Соболевой.
Известие о нападении фашистской Германии на СССР совпало с моим выпускным в школе. Некогда было радоваться окончанию десятилетки и мечтать о выборе жизненного пути. Молодежь рвалась на фронт, у военкоматов выстраивались длиннющие очереди. К Берте из Киева приехала дочь Соня, прима-балерина Театра Франко, попрощаться. Они с братом – театральным художником – приняли решение не эвакуироваться, а пойти в ополчение. А старшая дочь эвакуировалась вместе с предприятием и просила Берту ехать с ней вместе в Казань. Но Берта отказалась:
– Я не могу. У меня муж, семья.
Очень уж любила она отца. Да и как его было не любить? Высокий, стройный, обаятельный. И в городе авторитетным человеком слыл.
Я бы тоже, не задумываясь, записалась в добровольцы, но годами не вышла. Поэтому, откликнувшись на призыв обкома комсомола помочь с уборкой урожая, в первых рядах записалась и очень переживала: возьмут ли. Направили меня в зерносовхоз «Горняк», где я познакомилась со студентами Киевского университета. Ледик – моя первая любовь – был с филфака, а Франк – его товарищ – с мехмата. Ледик в совхозе на лобогрейке работал, приходил измочаленный. Я ему всегда готовила ведро воды. В колодце вода очень холодная. Поэтому ставила ведро на солнце греться, и он умывался уже теплой.
По ночам нас посылали зерно на току охранять. А зерно то воровали цыгане. Их два табора в тех местах обитало. Вот цыгане из этих двух таборов и приезжали поочередно ночью на ток за овсом для лошадей. Насыплют в торбы сколько надо и уедут. А мы не то что защищать доверенное добро, боялись пикнуть – себя обнаружить. Зароемся в зерно – а там тепло, оно горит – и сидим тише воды, ниже травы. Потому как цыгане и побить, и убить могли. Если же их совхозные мужики ловили, то заставляли зерно возить с тока на элеватор.
Днем же мы с цыганами дружили. В одном таборе девочка была – настоящая кукла: глаза огромные, ярко-голубые, лицо словно фарфоровое, волосы смоляного цвета, кудри из кольца в кольцо, а вшей в них немерено. Придет она к нам в барак, мы с девчатами воды в ведре нагреем, и моем девочку в нескольких водах, пока волосы не станут как шелк.
Очень любила малышка ко мне ходить книжки читать.
– Тетя Роза, почитай мне книжечку, – просит.
Возьму я в руки какую-нибудь тетрадку или журнал, раскрою и делаю вид, что читаю. А сама на память рассказываю что-то из Маршака, Михалкова, детские сказки – я их много знала. И в таборе все знали про нашу с Асей дружбу. За это одна цыганка научила меня гадать. Не по-настоящему, а так – показала, как раскладывать надо, какое значение у какой карты и масти.
Цыгане – народ загадочный. Можно верить или не верить в их пророчества и гадания. Но что-то в этом есть. Нередко во время ночных бдений я оказывалась в паре с Зоей – дочерью стоматологов. Ее родителей забрали на фронт. Заводная, отчаянная девчонка все время искала приключений на свою голову.
Один из старых цыган умел предсказывать будущее по руке. Увидев как-то ночью старика возле тока, Зойка сказала мне, что пойдет и спросит его, вернутся ли живыми с войны ее родители.
– И не вздумай! Моли Бога, чтобы цыгане нас не заметили. Мало ли что они могут сделать! Изнасилуют или убьют как свидетелей.
– Нет, я все-таки спрошу, – отмахнулась Зойка и направилась к старику.
– Дед, скажи мне по ладони, вернутся ли живыми мои родители? – спрашивает.
А цыган лишь мельком взглянул на ее ладонь и говорит:
– Тебе самой-то жить чуть-чуть осталось.
Зойка прибегает ко мне и смеется:
– Представляешь, что старик мне напророчил? Что мне жить осталось вот столько.
И показывает самый кончик пальца. Я разозлилась и отчитала сумасбродку:
– Дура ты, дура, ты зачем к нему поперлась?! Еще раз увижу, что к цыганам цепляешься, сама прибью!
Отдежурили мы ночь. Утром повозка конная за нами пришла – в барак ехать. Я на повозку села, а Зойка – верхом на запряженную лошадь. Доезжаем до места, девчонка спрыгивает с лошади и попадает ногой на металлический обруч, который там почему-то оказался. Другая сторона обруча резко поднимается и ударяет ее прямо по виску – Зойка падает замертво.
Это жуткое предсказание и ужасная смерть цветущей юной девушки потрясли нас всех. Потому и сохранилось в памяти.
Друг Ледика Франк, по национальности немец, страшно боялся, что его не возьмут на фронт. Немцев же высылали на лесоповал. Моя соседка Тамара Христиановна рассказывала (она там работала), что среди ссыльных были и студенты, и медики. Ледик привел к нам Франка и попросил поговорить с отцом: может, что присоветует. И отец спросил:
– Франк, ты комсомолец?
– Да.
– А можно ли тебе доверять?
– Соломон Борисович, можно.
– Тогда вот что: спрячь документы. И пусть твои друзья, человека четыре, покажут, что их украли. У вас там, я слышал, цыгане возили на лошадях зерно из-под комбайна на элеватор и воровали. Могли и документы украсть. Пойдешь к военкому и скажешь, что фамилия твоя Франков, а зовут, к примеру, Петром. А ребята пусть это подтвердят.
Отец вначале сам позвонил военкому и попросил:
– Выслушай ребят внимательно. Дочка клянется, что все это правда, она тоже с ними была там, в зерносовхозе «Горняк». Помоги – не в тюрьму же парень просится.
Военком был в курсе, что в этот совхоз посылали молодых. Поверил и дал парню направление в армию.
Киев к тому времени наши уже сдали, и проверить достоверность заявления Петра Франкова не смогли.
В 1945 году Франк приехал в Сталино, нашел отца:
– Соломон Борисович, я пришел вам поклониться.
На груди у него была медаль «За отвагу».
Ледик был единственным, кто меня по-настоящему любил. И понравился мне порядочностью – интеллигент в лучшем смысле слова. Потому и храню семьдесят лет его фотографию. И я перед ним очень виновата, тем, что не разрешила ему себя поцеловать. Ну не идиотка? Мне ведь уже исполнилось шестнадцать лет. Мы сидели в скверике, он спросил:
– Роза, можно я тебя поцелую?
А я говорю:
– Ледик, ты что? Посмотри, сколько людей кругом! Нет, конечно!
Это было уже после возвращения из зерносовхоза «Горняк». Ледик и Франк вернулись вместе с нами в Сталино, так как Киев уже заняли немцы. В это время Белла прислала отцу письмо из Коканда. Писала, чтобы мы ехали к ней, что обеспечит комнату для всей семьи. И я сказала про это Ледику и адрес дала: город Коканд, улица Жданова, 65. Забегая вперед, скажу, что, когда мы эвакуировались, Ледик пошел на фронт. Писем от него не было. Но однажды я зашла на Главпочтамт и вдруг получаю там письмо «до востребования» – треугольник от Ледика. Он писал: «Розик, не знаю, получишь ты мое письмо или нет, но на всякий случай пишу, для того, чтобы ты знала мой обратный адрес…» Послание было очень теплое, нежное. И я тут же на почте написала ему ответ. Призналась в любви: «Ледик, ты прости, что не позволила себя поцеловать. Но сейчас я тебя мысленно целую…» Хорошее письмо получилось. Он ответил также на «до востребования»: «Читали всем взводом твое письмо. И все за меня радовались…»
Служил Ледик где-то в пехоте рядовым, поскольку забрали его с третьего курса и отправили сначала в зерносовхоз, а потом – в армию. Видимо, он погиб на войне. Иначе бы обязательно меня разыскал, даже по адресу в Сталино.
С эвакуацией мы задержались, потому что отец отвечал за организацию эвакуации предприятия. Когда же пришло время нам эвакуироваться, отец меня отправил попрощаться с Серафимой Ивановной, женой Леньки Бухтиярова, и ее детишками. После смерти моей мамы она меня пригрела: накормит, кусок мыла даст. Я дружила с их дочкой Галей, а с сыном Вовкой-второгодником училась. К тому времени их семья жила в Гладковке (маленький шахтерский поселок, названный по фамилии трагически погибшего директора шахты) в своем доме. Полдома занимала семья, полдома – пивнушка, где торговала пивом жена Лени.
Ну, я и поехала. Приезжаю в поселок, иду и вдруг слышу крик-шум. Смотрю: в канаве сидит пьяный дядя Леня, его лупят шахтеры, а он только руками прикрывается и кричит:
– Бей жидов – спасай Россию!
Ну, думаю, убьют. И давай просить:
– Дяденьки, не бейте, пожалуйста!
Упросила. Помогла соседу вылезти из канавы, кое-как довела до дома – весь в грязи, на ногах еле держится – он беспробудно пил. А Серафима Ивановна увидела нас и сердито так спрашивает:
– Что ты эту мразь ведешь сюда?
– Так это ж дядя Леня!
– Подлец он, а не дядя Леня.
Но рубашку с мужа сняла, бросила в таз с замоченным бельем.
– Дай ей денег, они эвакуируются, – сказал ей дядя Леня. – И дай продуктов.
И Серафима Ивановна дала мне 400 рублей, десять кусков черного мыла хозяйственного и три куска туалетного. Сложила все в торбочку. Очень нам это все пригодилось, пока добирались до Коканда.
Глава 8 «Вставай, страна огромная»
Осенью 1941-го, когда началась эвакуация из Сталино, сестра Рая, узнав, что больницу, где находились ее друзья, не собираются вывозить, а хотят разместить где-то в деревне, пошла на железнодорожную станцию к начальнику. Уговаривала, слезно просила отправить немощных студентов-медиков, которые из-за болезни даже ходить не могут. И уговорила ведь – посочувствовал начальник станции парням, в какой-то эшелон их пристроил.
Сама же Раечка вместе со всем своим курсом выпускников-медиков отправилась на фронт. 144-й медсанбат 124-й стрелковой дивизии, в котором ей предстояло служить ординатором, формировался на станции Ясиноватая. Оттуда она прислала отцу письмо с просьбой:
«Папа, попробуй мне достать сапоги хотя бы 37-го размера. А то я два шага делаю в сапоге, а третий уже с сапогом. Ноги растираются». Дело в том, что у миниатюрной Раечки ножки были 33-го размера. Отец, конечно же, выполнил просьбу дочери. Дядя Гриша, сапожник, стачал ей сапоги, которые пришлись впору. А наша мачеха Берта Абрамовна предложила:
– Я схожу на базар и попробую купить Раечке шелковую комбинацию. Вши не держатся в шелке, а она же врач – ей нельзя завшиветь.
Берта купила две комбинации: розовую и белую. Стали мы на семейном совете решать, как отвезти сапоги и белье в Ясиноватую. Рая в письме прислала справку: «Эпштейн Р. С. находится в Ясиноватой по месту службы». Инициалы совпадали полностью только с моими. А в автобусах шли проверки. Поэтому и поехала к сестренке я. Это был последний раз, когда я ее видела. А в 1942 году с ней встречалась сестра Груня в Харькове.
Белла с Анатолием в предвоенные годы жили в Москве. Сестра, став начальником участка Метростроя, вся ушла в работу. Она готова была дневать и ночевать на участке. Ее высоко ценили как специалиста и потому вынужденно мирились с ее беспартийностью. В то время стать даже самым маленьким начальником имел шанс только член Компартии. Но Белла, дочь убежденного коммуниста с 1918 года, категорически отвергала любой намек на вступление в партию:
– Некогда мне на ваших собраниях часами лясы точить.
И не только мирились, но и присвоили звание почетного железнодорожника СССР. Строительство метро требовало серьезных знаний, опыта и смелости, взять ответственность на себя при согласовании прокладки того или иного участка тоннеля. Ведь Москва стоит на территории, под которой располагаются водные залежи (пласты), выходящие в иных местах близко к поверхности. И не учитывать это при строительстве нельзя. Ибо следствием станет оседание домов и обрушение тоннелей. Белла всегда на первый план ставила принципы безопасности и надежности вводимого объекта, а не сроков, о которых рапортовали партийные руководители. Видимо, в определенной степени такое независимое поведение сходило с рук и благодаря авторитету мужа. Анатолий Михайлович был коммунистом и в самый канун войны в составе группы специалистов-фортификационников, в которую входил и генерал Д. Карбышев, участвовал в выработке рекомендаций по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма.
Начало войны капитан второго ранга Анатолий Соболев встретил на главном острове Моонзундского архипелага Сааремаа (Эзель), который в срочном порядке требовалось укрепить инженерными сооружениями с востока. Поскольку ранее, ожидая вторжения противника со стороны моря, укрепляли западную часть острова. Оборона этого архипелага осталась поистине героической страницей в истории Великой Отечественной. Я много раз слышала от зятя и читала в мемуарах участников тех событий, как обстояло все на самом деле. Никто не думал, что столь стремительно произойдет отступление наших войск на суше. 8 сентября 1941 года началась оборона острова Сааремаа. А уже 9 сентября начавшаяся артподготовка немцев вывела из строя до 50 процентов инженерных сооружений и нанесла значительные потери личному составу обороняющихся.
Больше месяца длилась героическая оборона острова. Лишь 16 октября начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии генерал-полковник Гальдер записал в своем служебном дневнике: «Остров Эзель занят нашими войсками». Хотя остатки защитников Сааремаа продолжали отчаянно драться с фашистами на полуострове Сырве. Многие бойцы и командиры попытались уйти с Сырве в море, на остров Хийумаа, на оккупированный материк, пробиться к своим, поскольку организованного сопротивления уже не было. Очень обстоятельно описана оборона островов Моонзундского архипелага в мемуарах генерал-лейтенанта С. И. Кабанова «На дальних подступах» (Воениздат, 1971).
Группу защитников Сааремаа на плотах течением занесло на шведский остров Готланд. В этой группе оказался и мой зять Анатолий Соболев. Тяжело раненный, с простреленным легким, он вынужден был взять принятие решения на себя, сумел дозвониться в Москву своему высшему руководству и доложить о ситуации на острове. Более половины попавших сюда защитников Сааремаа имели тяжелые ранения и нуждались в срочной медицинской помощи. Руководство связалось с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым, а тот по своим каналам договорился со Швецией, соблюдавшей нейтралитет в войне, об интернировании этой группы советских моряков. Так Анатолий Михайлович попал в шведский лагерь, откуда был экстрадирован в СССР только в 1943 году.
Белла же в самом начале войны уехала в Коканд вместе с новорожденной дочкой Юлей. Работу нашла быстро. На военкома произвела впечатление справка о должности мужа, он устроил ее в строительную контору города. У Беллы эта работа хорошо получалась. Сразу же отправила письмо отцу, чтобы он с нами и мачехой эвакуировался в Коканд.
Получив это письмо, мы стали собираться в дорогу. Отцу дали повозку с тремя лошадьми. Погрузили мы свой скарб немудреный и по ехали: я, Борька, Фенька, Берта и отец. Кое-как до Чистяковки доехали, потому что попробуй удержать лошадей, когда со всех сторон машины. А дорога – сплошное бездорожье: осень, грязь страшенная. Отец нашел в Чистяковке какой-то колхоз и под расписку сдал скотину.
А ехали мы по направлению к Ворошиловграду (сейчас Луганск). Добрались наконец и там еще сутки сидели в вагоне с углем. Черные все, грязные, замученные. А поезд все не отправляют.
Обходчик с палкой идет, отец к нему:
– Не знаешь, когда отправят?
– Не знаю. Узнаю – приду скажу. Десять рублей готовь.
Куда деваться? Отец отдал. Опять ждем. И тут на соседний путь подходит поезд, весь закамуфлированный, закрытый – одни классные вагоны. Вижу в одном окошечке – голова дядьки низко так, а потом он вдруг стал выше ростом. Оказывается – в туалете сидел. Я как закричу:
– Дядечка! Возьмите нас, пять человек. У меня один брат майор, второй – старший лейтенант, сестренка – военврач. Все на фронте. И документы у отца есть.
Дядька сжалился:
– Ну, идите сюда! Вещи громоздкие?
– Нет.
Из вещей у нас были подушки и чемоданы. В один Фенька ноты свои положила – она второй курс Киевской консерватории закончила, а я – томик Есенина и другие любимые книги. Отправил он нас в комнатку для отопления рядом с тамбуром. Закрыл там и забыл. Едем-едем. Грязные. Стоять уже сил нет.
Отец спрашивает:
– Розка, куды мы едем? Ты ж договаривалась!
– Да шо я? Я попросила дядьку взять нас – он и взял. Спасибо.
– Иде той дядька?
– Батька, отщепись от меня!
Отец из-за тесноты даже рукой взмахнуть не мог, чтобы дать мне по шее, – впритык стояли. Так и ехали сутки. Куда ж деваться? Оказалось, что в том поезде Тбилисская военная академия эвакуировалась в Куйбышев. Когда у отца терпение лопнуло, он стал стучать в дверь. И нас наконец выпустили.
Тот дядечка Коля был в поезде единственным русским, остальные – грузины.
Нам полку одну сразу освободили. И мы наконец смогли сесть.
У грузин вино лилось рекой, везде были понатыканы и бутылки, и бочонки. Они и отцу дали несколько бутылок: пейте! А мы ж голодные. Нам бы поесть, а они не предлагают, хотя себе кашу приносят.
И тут приходит начальник эшелона и видит нас грязных. Тогда не разрешалось брать гражданских – вшивость была, зараза всякая.
– Это что такое? – спрашивает строго.
Отец показывает ему справки, которые одновременно прислали Леня, Исай и Рая о том, что они члены семьи такие-то с указанием их воинских званий. А сверху справок специально кладет свой партбилет. И говорит:
– Извините, что такие грязные – сутки в вагоне с углем сидели.
Начальник эшелона принимает решение:
– Взять на довольствие и пропустить через санпропускник.
В поезде имелись и вагон-баня, и вагон-ресторан. Отправили нас в баню. Я, Галька и Берта зашли первыми. На нас с Галькой платья были вельветовые в рубчик: у меня зеленое, у нее коричневое. Так мы их выбросили в окно. Где б их стирать и сушить? Намылись от души горячей водой, а мыло и полотенце у нас свои. Потом пошли мыться отец с Борькой. А мы отправились в свой вагон. Представляю удивление грузин, которые вдруг видят, как идут по вагону две девы. Симпатичная кучерявая черноволосая Галька в сиреневом свитере. И русоволосая Роза в белом свитере. Зря, конечно, его надела – замызгала в пути.
– Откуда вы? – спрашивают курсанты.
– Из бани. Нам начальник поезда разрешил.
Дежурный по вагону принес нам котелок с пшенной кашей. Пахучая, горячая. Наелись до отвала.
Не помню, куда нас довезли, но прощались мы тепло. Нас с Галькой расцеловывали. Гальку какой-то Шота всю дорогу обжимал по углам. Но отец за нами все время следил и ребят просил: «Вы девчат не трогайте!»
Долгой получилась наша дорога в Коканд. Но к концу осени мы добрались до места. Белла помогла нам снять проходную комнату в квартире с соседями. Отец устроился мастером на тукосмесительный завод, я – на одеяльную фабрику. А Борька упорно, как на работу, каждый день ходил в военкомат, просился на фронт. Но он был «белобилетчик» из-за ног. Его ноги на две палки походили, и суставы очень болели. В сырую погоду ночи напролет на раскладушке крутился. Берта Абрамовна ему все примочки какие-то делала. Тем не менее Борька рвался на фронт. Тогда ему уже восемнадцать исполнилось, а призывали с семнадцати лет. Придет к военкому, а тот ему говорит:
– Куда ты годишься? Там же переходы, марш-броски. И все на ногах.
Военком его выгонит, а Борька пойдет на базар, косточек абрикосовых наберет много-много, вернется и сидит под окном военкомата, кирпичом косточки разбивает. Стучит. Солдат выйдет:
– А ну пошел отсюда, или сейчас пристрелю!
– Стреляй! – соглашается Борька и продолжает сидеть.
В общем, надоел он военкому хуже горькой редьки.
– Пусть отец твой придет, – говорит.
Отец пришел.
– Слушай, до того твой сын мне надоел, – рассказывает ему военком. – Я гоню, а он опять идет, просится на фронт. Ну куда я его с такими ногами отправлю?
– Это же нормально – война идет. Было бы мне поменьше лет, я и сам бы пришел к тебе проситься на фронт. Что же делать? Может, куда-нибудь в санитарный поезд его определить, где не надо в атаку ходить, – предложил отец.
– Знаешь, для него специальную дивизию еще не сформировали, – не поддержал идею комиссар.
Вернувшись домой, отец Борьку предупредил:
– Еще раз пойдешь до военкома, я тебе голову откручу.
На работу брата в Коканде тоже не принимали. И все-таки он добился: в какой-то момент его призвали в армию. Сначала отправили в Казахстан, он оттуда свою одежду прислал, потом – на фронт.
Я тоже первое время в Коканде не оставляла попыток отправиться Родину защищать. Как-то даже Галькино платье, белое в мелкий красный горошек с бантом красным с белым горошком, надела – хотела понравиться призывной комиссии, чтобы меня взяли на фронт. Я даже окончила курсы медсестер и курсы Ворошиловского стрелка, снайперские. Но меня не взяли, спросили: с кем ты живешь?
– С папой и с мачехой, – ответила я честно.
А они решили, что я из-за мачехи из семьи бегу.
В комиссии был один лейтенант, который с Галькой шуры-муры крутил и меня знал. Не взяли меня на фронт, хотя ходила во все три комиссии. Галька, хоть и имела уже два курса Киевской консерватории, в Коканде смогла устроиться лишь в какую-то артель учетчицей. Там вязали для фронта свитера, варежки, носки. И там ее приглядел следователь транспортной прокуратуры. У него жена жила в Ташкенте с дочкой. А он был без ума от Гальки.
Глава 9 В эвакуации
Еще до отправки Бориса в армию произошел такой случай. Из всей нашей семьи карточку иждивенца получала только мачеха. Берта Абрамовна вела хозяйство и выкраивала время для шитья. Когда однажды отец не вернулся с тукосмесительного завода, где работал мастером, Берта всю ночь не находила себе места – сходила с ума от всевозможных предположений. Наутро послала меня к Белле:
– Скажи, что папа не пришел. Пусть узнает, что случилось.
Белла, к тому времени работавшая инженером в строительной организации, первым делом отправилась на завод.
– Эпштейн задержан за хищение куска кожемита, – сказали ей там. Белла попросила разрешения поговорить с отцом. Ей разрешили. Отец рассказал, что увидел тот кусок лежащим в грязи на территории завода и поднял его, подумав, что пригодится ботинок Борьке отремонтировать – сын давно уже ходил с оторванной подошвой. Нес находку, не скрываясь, поскольку на заводе кожемит не производили, и был задержан.
– Борька босиком практически ходит. Неужели, лучше пусть в грязи тот кожемит сгниет? – возмущался отец.
С завода Белла помчалась к начальнику своего стройуправления Кадырову. Чуть не плача, изложила все и попросила помочь.
– Не плачь, – успокоил Кадыров. – Сейчас поедем, и выпустят твоего отца.
И действительно, через двадцать минут после их приезда на завод нашего отца отпустили. Но он никак не хотел уходить, все требовал, чтобы партком вмешался:
– Это же бесхозяйственность! Почему нельзя выставить отходы для людей? Глядишь, кому-то бы еще пригодились для дела.
Как я уже говорила, вначале отец устроил меня через райком комсомола на одеяльную фабрику «Итифак». Потому что надо было где-то получать хлебную карточку. На иждивенческую карточку давали 400 граммов в день.
– А вона кака кобыла. Яки четыреста грамм? Накормишь ее? – рассуждал отец.
Да еще и не каждый день хлеб давали – день есть, день нет. Приходишь в магазин, очередь занимаешь в ночь, на ладони пишешь чернильным карандашом номер. А утром магазин открывают и объявляют:
– Считайте на шестьдесят человек.
А очередь уже человек двести. Счастливцы хлеб получали. Прямо в магазине им нарезали пайки по 400 граммов. И если тебе повезло – деньги заплатил, пайку взял, – то дай бог ноги.
На фабрику я ходила через переезд. А там находился отдел кадров железной дороги. Я внимания не обращала на него. Попадалась иногда навстречу русская девочка, я с ней здоровалась. Оказалось, она инспектором в отделе кадров работала. А начальником у нее был военный летчик после ранения. И вот иду я как-то на работу и вижу возле дверей отдела кадров четырех женщин. Из любопытства подошла и спрашиваю:
– А что вы тут стоите? На работу устраиваитесь?
А сама уже вижу на дверях объявление: «Требуется диктор на вокзал Коканд. Знание узбекского языка обязательно». У этих женщин, оказывается, была привилегия – мужья на фронте, а дети – с ними в эвакуации. Но никто из них не знал узбекского языка. Стоят они, впечатлениями обмениваются.
– У меня хозяйка-узбечка так противно разговаривает, – делится одна. – Пренеприятнейшая баба.
А я слушаю и про себя думаю: «Раз ты считаешь, что хозяйка противно разговаривает, то тебя на работу не примут. Надо с уважением относиться к чужой культуре – ты же живешь здесь».
А меня женщины спросили:
– Ты узбекский знаешь? Видишь, что тут написано?
– Узбекча бересам, – ответила я.
– Что это? – удивились они.
– Узбекский знаю.
Дело в том, что в Коканде я очень быстро на училась базарной речи – усвоила отдельные слова на узбекском языке. В общем, решила я тоже встать в очередь. Одна кандидатка зашла и быстро вышла, вторая – тоже, третья – в слезах. Она надеялась, раз муж на фронте и трое детей, то обязательно возьмут.
Пока я ждала своей очереди, читала развешанные распоряжения, подписанные начальником железной дороги. Подумала тогда, что начальник дороги – это начальник над рельсами. И вот захожу в помещение и хулиганисто так говорю:
– Селям алейкум. Якши месыз? («Здравствуйте. Как поживаете?»)
Инспектор хоть и русская, но из местных – училась в узбекской школе. Спрашивает меня по-узбекски, знаю ли я их язык.
– Азмас, – отвечаю. – Немножко.
Начальник ее попросил:
– Поговори с ней еще о чем-нибудь.
И девчонка опять мне что-то стала говорить, а я ей – отвечать. А в узбекском языке есть такая особенность. Можно два часа с узбеками разговаривать и произносить только «а» с разной интонацией:
– А?
– А!
– А-а…
И наговоришься вдоволь.
Ну, я и стала в ответ акать. Поговорив так со мной, инспектор заверила начальника, что я знаю узбекский. Начальник посмотрел на меня внимательно. По всему было видно, что ему не по себе из-за отказа последней женщине. Это я поняла, как только вошла и поздоровалась. Лицо его мне показалось расстроенным. Но дело в том, что диктор должен объявлять поезда на узбекском языке. Например: «Уртакляр пассажирляр поездга “Джалалабад – Ташкент” кеты урта путь». Что я и стала делать, потому что меня приняли диктором.
У диктора была своя радиорубка. Из аппаратуры – микрофон, адаптер и маленький радиоприемник, я по нему слушала все выпуски Совинформбюро и концерты. Попасть в радиорубку можно было, пройдя через справочное бюро, в котором работали местные женщины. У них я и спросила, правильно ли объявляю?
– Нет, садись, пиши, – сразу сказали они, послушав мою речь, и помогли правильно написать тексты объявлений и расставить ударения. Я им по три раза прочитала. На третий раз женщины одобрили:
– Теперь правильно. Можешь объявлять.
Поездов через Коканд проходило немного – пять-шесть за сутки, но два из них днем и три – ночью. Ночью, значит, нужно ночевать там. Работа мне нравилась. Зарплата была 400 рублей и карточка на 600 граммов хлеба в день.
На перроне стояло три ларька для обеспечения паровозных бригад, когда они уходили в рейс. Продавщицы выдавали машинистам пайку хлеба, кусочек сахару, кусочек колбаски и соли щепотку. Хлеб сразу солью посыпали. Отпуская продукты, они вырезали из карточки талончики на 100 граммов мяса, на пять граммов жиров, на 50 граммов сахара. Хотя за точность цифр уже не ручаюсь. И эти талончики надо было наклеивать для отчетности на тетрадный лист. Для этого продавщицы нанимали какую-нибудь девчонку из работающих на вокзале. И вот у одной в ларьке не хватило хлеба. Оказалось, девчонка не все талончики наклеивала на бумагу, часть тайком лепила на грудь себе. И когда продавщица обнаружила недостачу двух буханок хлеба, то сразу приперла помощницу:
– Раздевайся!
Та стала возмущаться:
– Зачем это? Отцепись от меня.
Продавщица рванула за ворот ее платье и увидела наклеенные на грудь талончики.
– Представляете, сколько времени она меня обворовывала? – жаловалась тетка девчатам из справочного. Она была сытая, гладкая, к ней летчик ходил местный. Как ему улетать, так она ларек закрывает и табличку вешает: то «Учет», то «Переучет». В ларьке ведь и постели были. Женщины из справки подсказали этой продавщице:
– А ты Розу возьми. Такая девочка хорошая. Воспитанная, грамотная, порядочная. Она у тебя никогда ничего не украдет.
Поэтому она мне и предложила эту работу. И пообещала:
– А я тебе за это буду хлебные корочки отдавать.
Хлеб привозили горячим, и корки у него отваливались. Их на усушку-утруску списывали. Я тогда подумала:
– Что это за работа? Наклеивай себе да наклеивай. Мясо к мясу, хлеб к хлебу, жиры к жирам.
И согласилась, но уточнила:
– А сколько корочек дашь?
– Сколько отвалится, столько и дам. Не волнуйся – голодной не будешь.
Я так обрадовалась! Приносила эти корочки домой. Берта их просушит на солнце, потом разомнет и делает нам затируху (суп такой). Вся семья была довольна.
Уходя из ларька, я каждый раз говорила продавщице:
– Проверяй, что я у тебя ничего не взяла, и ты меня не обидела.
Продавщица бросала эти корочки на пол, а мне обидно было, как это хлеб бросать на пол? Ведь ты ходишь не только по ларьку, но и в туалет, и по перрону. И на этот грязный пол она складывала даже буханки. Я и скажи ей:
– Ты почему с хлебом так обращаешься?
– А куда я его дену – в задницу что ли? – огрызнулась тетка.
– Зачем так? Вот у тебя мешки есть из-под сахара, из-под соли, еще какие-то. Я пол промою хорошо, расстелю мешки. Сюда и будем складывать.
– Санэпидстанция еще выискалась! Мало мне той, – взъелась продавщица.
– Не обижайся на меня, – говорю. – Но людей уважать надо.
Куда там! Бывало, сахар просыплет, соберет вместе с пылью и выдает машинистам. Что такое 50 граммов сахара? В кулечек из газетного обрывка насыплет горсточку, да еще хоть чайную ложку, но украдет.
От поезда до поезда у меня времени хватало. Принесет мне продавщица два-три кулька с талонами. Я запираюсь, сижу и клею гуммиарабиком (клей так назывался). А хлеб теперь я поднимала не с пола, а с чистого мешка. Она увидит, как я грызу корочку, и скажет:
– Объела всех мышей. То хоть мыши жрали эти корочки.
– Чем мышам, лучше детям, – говорю. – Знаешь, сколько эвакуированных детей голодает?
– Ты мне сейчас еще про комсомол начни рассказывать!
В это время я познакомилась с курсантом авиаучилища связи Володей. Он приходил к окну моей дикторской, хотя вход был воспрещен. Симпатичный такой. У нас не было с ним ни поцелуев, ни признаний. Встречались на перроне, потому что я боялась, что начальник вокзала увидит. Он писал стихи по три листа. Мне запомнилась одна строфа:
Прости, мой друг, коварство тех цветов, Которые тебя моею называют. Ведь каждый в жизни ищет то, Чего никто и никогда не получает.Потом он уехал в Москву учиться в Академии имени Жуковского.
В общем, объявляю я поезда день за днем – работаю. А тут начальник станции Серенко, как-то услышав новый голос, поинтересовался:
– А кто там у нас объявляет?
Ему женщины в справочном сообщили:
– Это Роза. Такая дивчина хорошая.
И чем я им так понравилась? Я ведь с ними только «здравствуйте» и «до свидания».
Тогда Серенко заходит ко мне и спрашивает:
– А что ты тут делаешь?
– Я диктор, – говорю. А сама отмечаю, что в петлицах у него три гайки – значит, начальник.
– И давно ты работаешь?
– А кто вы такой, дядечка? – задаю встречный вопрос.
– Я – начальник станции.
Когда я в отделе кадров оформлялась, меня спросили:
– Кем ты хочешь стать?
Прочитав только что в приказах подпись «начальник дороги», я, не задумываясь, ответила:
– Начальником дороги.
Кадровик посмотрел на меня и одобрил:
– Плох тот солдат, который не хочет быть генералом.
А девчонка-инспектор засмеялась.
– Такая здоровая девчонка и сидишь тут, ничего не делаешь, – заметил Серенко и увидел мою подработку – я талончики прикрыть не успела. – Понятно, хорошее место выбрала.
Потом начал он меня обо всем расспрашивать. А поскольку Тоня из справки меня предупредила, что это самый большой начальник, то отвечала я ему честно.
– В общем, так, Роза Эпштейн, завтра в восемь утра на третий путь идешь стрелочницей, – в завершение беседы сказал начальник станции.
– Я же не умею и не знаю, – растерялась я.
– Там тебе все расскажут. Пойдешь младшей стрелочницей. Потом станешь старшей стрелочницей. А потом я тебя заберу к дежурному по станции оператором. Вырастешь у меня в хорошего движенца.
– А что такое движенец? – спросила я потом у Тони.
– Движенцы – это те, кто работают на путях.
Пока между поездами было время, пошла я искать, где этот третий пост. Нашла. Старшим стрелочником там работал узбек. Он маршруты, куда какие стрелки направить, задавал по-узбекски, а матом крыл на чистом русском. У него в помощниках были младшие стрелочники: Сильва, студентка филфака Ташкентского университета, и хроменький мальчик, у него одна нога короче другой. Сильва в Коканд с семьей перебралась и за возможность получать 800 граммов хлеба бросила университет и пришла работать на станцию. Через неделю я уже работала вместе с ней. Стерва первостатейная, она и по-узбекски, и по-русски говорила хорошо, ничего не боялась, знала свои права – могла и матом послать. Для меня же все это было ужасно. Старший стрелочник, узбек, приносил с собой в какой-то чаплыжке вареный рис и лепешку. Что это за еда для мужика на двенадцать часов? Теперь-то понимаю, он же голодал, как и мы. Но Сильва на него злилась:
– Пошел жрать, зараза! Еще и в столовку пойдет.
– Ну и пусть идет – он же мужик, – урезонивала я напарницу.
Старший стрелочник заметил мой интерес к работе. Я искренне старалась узнать, что к чему. Стрелочная улица, которую я обслуживала, насчитывала 49 стрелок. Потом я читала, что на крупнейшей станции Южной железной дороги стрелочная улица имела 31 стрелку. А тут 49! Побросай-ка эти стрелки – у каждой противовес чугунный весит больше пуда. И надо ж – стрелку к стрелке, чтобы маршрут был правильный. Этот узбек издали все видел. Бывало, что и ошибешься – не на тот путь перевернешь, а это приведет к крушению. Он тут же заметит, скажет:
– Ну-ка беги, тридцать четвертую быстро сделай правильно!
– Двенадцатую ты как поставила? Неприлегание к главному рельсу!
Если стрелка не совсем прилегла, так надо еще и придавить, чтобы абсолютное прилегание было, иначе при движении поезда она отойдет под колесом. Чтобы все это усвоить, я все руки себе расписывала номерами стрелок, какая к какой должна выставляться. А жара стояла такая, что чернила с потом расплывались – ничего не разберешь. Так у меня и ляжки исписаны были номерами стрелок. Старший все это видел и оценил. И когда начальник станции как-то спросил у него: «Ну, как там девки? Справляются?» – похвалил:
– Уж больно Роза хорошая.
И месяца через четыре приходит к нам Серенко и говорит:
– С завтрашнего дня, Роза, выходишь к дежурному по станции оператором.
– А я сумею?
– Сумеешь, но дежурства два попрактикуешься.
Глава 10 На пути к профессии
Оператор ведет учет поездов: сколько поездов прошло, их номера, количество вагонов. Натурный лист, в который все записываешь, – большая книжка на ту и на другую сторону – на четное и нечетное направления.
Я сразу спросила у Серенко:
– А сколько хлеба там положено?
Он улыбнулся:
– Ты остаешься младшим стрелочником по штату, и твои восемьсот граммов с тобой будут.
Я тогда посчитала это несправедливым. Со мной работала молодая женщина, которая значилась оператором и получала 650 граммов, а я – 800. Мне стало стыдно. Пошла к заместителю начальника станции:
– Вы знаете, товарищ Ратовский, конечно, мне жалко, но ничего не сделаешь. Оля получает шестьсот пятьдесят граммов хлеба, а я восемьсот.
– Так чего тебе, мало что ли?
– Нет, наоборот.
Ратовский посмотрел на меня внимательно и отправил:
– Иди, работай!
Тогда я отцу рассказала про такое неравенство. Отец меня поддержал, а Берта стала кричать:
– Что ты лезешь в эти дела? Дали – бери!
Но отец не согласился с ней и посоветовал:
– Нет, Роза! Ты сказала Ратовскому, а теперь еще скажи Серенко. Чтоб тебя никто не упрекнул.
Это потом я узнала, что такое «подснежники». В парткомах у нас кто сидел? Слесари да токари. И получали за слесаря и токаря, которые работали в грязи и чаду.
Дежурным по станции был Михеич – мужик грамотный, умница невозможный, но пьянь. Когда я с ним работала оператором, он придет утром, разбросает станцию: это туда, это сюда. Мне даст заданий сорок и уходит. Вышел и пропал. Поезд прибывает, запрашивает путь. Но я не имею права принять поезд. Я же оператор, а не дежурный по станции. Тогда включаю посты – первый, второй, пятый – всех, кто участвует в приеме поезда:
– Девочки, тут вот Наманган запрашивает. Какой у нас путь свободный?
– А что, Михеича нет?
– Да он сейчас придет, – говорю.
– Все понятно. Роза, не беспокойся, у нас четвертый путь свободный. Будем гонять только по четвертому пути с Намангана. Все сделаем!
– Пожалуйста, девочки! Только никому не говорите, ладно?
Михеич утром часов в пять приходит, посмотрит по моему журналу, сколько поездов отправила, сколько приняла:
– Корова, ты чего это сюда приняла этот поезд? Ты его должна была туда принять. А почему?
Я соображала быстро:
– Сюда надо было принять потому, чтобы потом уже не переставлять его. А тут пришлось вторую маневру делать.
– Вторую маневру! Корова! Думать надо.
Меня так это обижало. Где поплачу, где проглочу.
Обидит он меня, а я отойду в сторону и сглотну. Когда водой горячей запью обиду в кубовой. Оператором проработала месяца два. И опять приходит начальник станции и интересуется у Михеича, как новенькая справляется.
– Нормальная девка, – говорит Михеич. – Ей бы еще жениха хорошего.
Тогда Серенко направляет меня на новый участок:
– Роза, пойдешь в списчики.
Я уже знала, кто такие списчики. Вот идет поезд с сокращенной скоростью, допустим, три километра в час. А на этот поезд нужно заполнить натурный лист. С первого вагона записываешь до последнего. Берешь железку, на нее натурный лист, на него копирку и на копирку другой лист. И вот я пишу. А когда дошла до последнего вагона, то передаю натурный лист главному кондуктору, который стоит на тормозной площадке последнего вагона. Бывает так – прошел вагон, какую-то цифру не дописала, но не побежишь назад – уже следующий вагон наступает. Уже надо этот номер вагона писать. В паре со мной Сильва работала. Она один поезд списывала, я другой. Посетую:
– Сильва, я три номера не дописала.
– Х… с ним! Допишут, найдут – был бы вагон.
Когда мы с Сильвой работали, она предложила как-то:
– Давай поспим.
Между поездами у нас два с половиной часа. Но в то время заснешь на посту – засудят. Я не согласилась:
– Нет, я не буду. А ты хочешь – спи.
– Да посмотри, у тебя уже глаза слипаются. А нам еще сколько поездов писать! – продолжила уговоры напарница.
– А где ж ты ляжешь поспать? На путях – тебя прирежут.
– Идем, я знаю место.
И привела меня в конец перрона, где лежала перевернутая ванна. Мы приподняли ее, подложили два кирпича с одной стороны, два кирпича – с другой.
– Лезь быстрей! – скомандовала Сильва.
Дни в Коканде жаркие, а ночи холодные. Прижмемся друг к другу, согреемся. Но Сильва предупреждала кубовщицу:
– Смотри, как только объявят поезд, ты нас разбуди. Постучи по ванне.
Кубовщица знала, где мы спали. Но, когда подметала перрон, то мусор заметала под эту ванну. И вот я вылезла оттуда – кошмар – вся в пыли, в грязи. Стала ругаться на тетку. А она говорит:
– Куда ж я мусор вынесу?
– Как же мы выйдем отсюда к людям? – возмущаюсь я.
А Сильва, стерва, не унывает:
– Какая проблема? Умыла рожу? Ну и пошли писать.
Сильва же однажды предложила и дельное:
– Роз, давай знаешь, что сделаем. Ты пишешь первый вагон, я – второй, ты – третий, я – четвертый. То есть через один вагон. Тогда мы успеем. Раз мы успеем, то отдаем кондуктору два натурных листа. Они их потом совместят на стоянке.
– Надо у начальника станции спросить, – говорю.
– Какого ты черта будешь ходить к начальнику станции?
– Но это ж нарушается технология. Так нельзя.
– Сиди и не гавкай. Давай попробуем, – настаивала на своем Сильва.
Короче, этот наш метод приняла вся Ташкентская железная дорога. В газете «Ташкентский железнодорожник» рассказали про него. Правда, меня не назвали, написали: «Сильва со своей списчицей Розой».
К этому времени я практически хорошо знала работу дежурного по станции. Потому что Михеич постоянно смывался, а я постоянно выполняла его работу. Стрелочники ко мне доброжелательно относились, слушались меня, никаких заторов не возникало, и о том, что Михеич постоянно пропадал, начальник станции ничего не узнал. Про меня как про дежурного по станции теперь говорили:
– Розка, ты у нас шишка на ровном месте.
Так и начался мой путь в профессию железнодорожника. Начальник станции Серенко не обманул, когда пообещал сделать из меня хорошего движенца.
Все это время, пока мы жили в Коканде, я, переживая за зятя Анатолия, ходила к военкому и просила узнать, где он и что с ним? Беллка с Фенькой меня ругали, чтоб не высовывалась. А я уговорила как-то отца пойти со мной в военкомат и вытащить из кармана партбилет, где значится стаж в Компартии с 1918 года. Это помогло подтвердить мое ходатайство об Анатолии Соболеве. Сыграло роль и то, что два брата Анатолия были в Коканде знатными людьми. А его сестра, врач-фронтовик, организовала санитарный поезд.
Глава 11 В оккупации
Из истории известно, что, когда в октябре 1941 года наши войска сдали немцам Харьков, этот город уже лишился своего стратегического значения важного промышленного центра Украины, так как оборудование почти всех крупнейших предприятий было вывезено. В том числе были эвакуированы и производственные мощности танкостроительного завода, перепрофилированного из тракторостроительного в первые дни войны. Но наступление вражеских войск было настолько стремительным, что не все предприятия успели вывезти эшелоны с оборудованием. В частности, это коснулось танкоремонтного завода, где работали Володя и Груня Шиммель. Как секретарь партийной организации цеха, Володя наравне с директором отвечал за эвакуацию станочного оборудования в тыл. Они уже погрузились в эшелон с оборудованием, когда немцы отрезали все отходы из Харькова. И эшелон остался на территории, занятой врагом. Что делать? Оставалось возвратиться в свои дома. И Володя вернулся.
Первые же дни пребывания в оккупации наполнили жизнь кошмарами и страхами. Казалось, все затаились по домам в ожидании чего-то ужасного и непоправимого. По городу были расклеены листовки, призывающие евреев и коммунистов сдаться новым властям.
Сестра рассказывала, как каждый день в страхе ожидала, что за ними придут. Прислушивалась к каждому шороху и скрипу. И когда однажды ночью в дверь негромко постучали, сердце оборвалось: это конец! Но слабый стук перешел в еле слышное поскребывание. Сердце Груни забилось так, что, казалось, заглушало все иные звуки. И все же она тихонько на цыпочках прокралась к двери, прислушалась и осторожно отодвинула защелку замка. За дверью на полу лежал парень с огненно-рыжей спутанной шевелюрой.
– Олежка, ты? – удивленно воскликнула Груня. – Ты разве не в армии?
Олег был сыном их друзей. Родители оба темноволосые, а сын – рыжий и веснушчатый – типичный еврей. Его отец, главный инженер завода, ушел на фронт. Мать за родителями в деревню уехала. Дом, где жила их семья, разбомбили.
– Тетя Груня, я это. Мы в окружение попали. Я ушел. Дайте мне попить и поесть.
«Куда ж его теперь?» – в смятении думала Груня. Но завела мальчишку в комнату, напоила, накормила и побежала к соседке Гале.
– Галя, там Олежка пришел.
– Ой! Несчастье-то какое! Давай тете Фросе скажем, – предложила Галя.
Побежали вместе к Фросе, мудрой старой женщине со сморщенным лицом, похожим на обезьянью мордочку, и большим добрым сердцем.
– И куда его? – размышляла вслух Фрося. – Его на улице первый же немец пристрелит. Вот что, девки, давайте его в голубятне спрячем.
Голубятня в их дворе стояла с незапамятных времен. Голуби обитали в ней и сейчас, их подкармливали. К ним в соседи определили и рыжего Олежку, дав еды и воды и строго-настрого наказав не высовываться. Парнишка согласился, не понаслышке знал, что евреев расстреливают. Но уже через день его кто-то высмотрел и донес оккупантам. Груня видела, как во двор вошли немецкие солдаты, и слышала автоматные очереди. Напуганные голуби выпорхнули из верхнего оконца и долго кружили в небе над домом, все жильцы которого в страхе затаились за закрытыми дверями. Лишь глубокой ночью какой-то отчаянный голубятник прокрался в строение и вытащил труп парня.
– Этот ужас пережить было невозможно, – рассказывала Груня мне два года спустя, когда я приехала в Харьков и стала работать на станции «Харьков-Сортировочный».
После этого происшествия леденящий ужас, кажется, навечно поселился в душе Груни. Немцы развесили новые объявления, что тех, кто скрывает евреев и коммунистов, будут расстреливать. И нашлись ведь «доброжелатели», стали ей намекать:
– Что ты, Груня, нам глаза мозолишь? Не хватало еще из-за тебя пострадать.
Больше всего сестра переживала не за себя, а за близких. Поэтому объявила мужу, что пойдет сдаваться. Но Володя твердо сказал:
– Погибнем вместе и Светочку с собой возьмем.
К этому времени он устроился на железную дорогу путевым рабочим – шпалы таскал. В чем его потом обвинят наши: как это коммунист работал на немцев? Но надо ж было кормить семью! И однажды утром, когда Володя ушел на смену, Груня оставила дочку тете Фросе, а сама с вещами отправилась на тракторный завод, где фашисты устроили сборный пункт евреев. По пути встретила институтскую подружку.
– Ты куда это? – удивилась подружка.
– А куда все евреи, – безучастно ответила Груня. – Лучше я сама сдамся. Зато Светка с Володей останутся живы.
Посмотрела на нее подруга и резко выхватила из рук сумку с вещами:
– Ты никуда не пойдешь! Я тут живу и слышу: сутками там строчат пулеметы, расстреливают людей. И куда девают трупы, неизвестно. Я тебя туда не пущу!
– Скажи спасибо – никто не видит, что ты со мной разговариваешь. А то и тебя заберут. Пусти! – стала дергать сумку к себе Груня.
– Хорошо, я тебя держать не стану. Но пойдем ко мне, чаю попьем, поговорим напоследок, – пустилась на хитрость подруга. Она знала, что муж сейчас дома и вдвоем они справятся с неразумной. Так и сделали: накормили, напоили гостью, а потом затолкали в чулан и заперли там. А муж подруги вечером сходил на Сахарозаводскую и сказал Володе, где сейчас его жена. Когда Володя пришел за Груней, она потемнела лицом от переживаний и вся как-то сникла. Но идти домой отказалась. Тогда муж жестко заявил:
– Не пойдешь – Свету застрелю, сам застрелюсь. А тебя пусть немцы расстреляют, раз ты так решила.
Вернулась Груня домой – на ней лица нет. Чтобы как-то поддержать жену и устранить причину ее страхов, Володя нашел знакомого полиграфиста и попросил стереть в паспорте в пятой графе запись «еврейка» и написать «белоруска», поскольку сам был белорус, и отчество с «Соломоновны» исправить на «Самойловна». Полиграфист выполнил все очень аккуратно. Но при тщательном рассмотрении об исправлении можно было догадаться. А если б немцы и не догадались, то, как всегда, нашлись бы «доброжелатели», которые подсказали, где, что искать и кого. И вот однажды опасения сбылись – за Груней приехали, повезли ее в гестапо. Но то ли внешность нетипичная для еврейки помогла, то ли не очень внимательно паспорт изучали, первый раз отпустили – поверили ей, а не доносчику. Правда, потом наши органы долго тягали: как это тебя выпустило гестапо? Припомнили ей потом и работу на немцев – за пайку хлеба взялась вместе с соседками стирать на немецкий госпиталь…
Когда за Груней приехали во второй раз, стало ясно: кто-то «стучит». Забрали вместе с ней и Володю. Когда поднимались по лестнице на второй этаж здания, где находилось гестапо, Володя ей тихо шепнул:
– Пусть хоть режут на куски, не признавайся. Так ты спасешь себя для Светочки.
Когда сестру с мужем забирали, тетя Фрося (святая женщина) сразу взяла их дочку себе:
– Груня, не торбуйся – Светочка у меня.
Но Володя не собирался щадить чувства жены:
– Учти, Фрося старая и больная. Она всю оставшуюся жизнь на нашу дочь не положит. И Светка пройдет все круги ада, пока вырастет. Помни это. Я тебе не прощу, если сознаешься.
Супругов развели по разным комнатам. Володе выбили десяток зубов и сказали, что жена призналась в том, что она еврейка. А ей – что муж признался. Гестаповцы таскали Груню за косу по грязному полу, били ногами. Но она упорно твердила: «Нихт юден!»
Вдруг из коридора послышался топот многих ног. Немцы, которые ее пытали, выскочили в коридор и выстроились вдоль стен по стойке «смирно». Оказывается, это шел их генерал в сопровождении свиты. Груня поднялась с пола и, когда процессия поравнялась с дверью кабинета, кинулась генералу под ноги:
– Пан, я нихт юден!
– Вас ист дас? – спросил генерал подчиненных. Ему доложили, что эта женщина не сознается, что еврейка, хотя человек им написал уже второй раз, что он точно знает: мадам Шиммель – еврейка.
Генерал помог Груне встать, взял ее за подбородок, изучающе оглядел лицо, растрепанные светлые волосы и сделал вывод:
– Нихт юден!
Свита двинулась дальше. А Груню опять потащили в комнату. Но она уже осмелела:
– Слышали, что вам сказал генерал: «Нихт юден», вот так и пишите.
Этого в канцелярии гестапо не написали. Но дали справку, что Аграфена Шиммель может проживать на территории Харькова. Уже какой-то документ к паспорту.
После второго «посещения» гестапо Груня превратилась в комок нервов. А на втором этаже их дома жила некая Дуська, которая зарабатывала на жизнь проституцией. Ее потом немцы повесили за то, что позаражала их сифилисом. И вот как-то вечером Груня в окно увидела, что в подъезд зашел немецкий офицер, и услышала, как он кого-то спрашивает: «Где жид?» Смертельно напуганная сестра, не раздумывая, сиганула в окно (благо квартира находилась на первом этаже) и распласталась в картофельной ботве. В то время каждый сажал свой огородик под окном. На самом деле немец хотел спросить: «Где живет Дуся?», но исковерканные русские слова прозвучали как: «Где жид?» Вот Груня и решила, что это опять за ней пришли. Так и пролежала в картофельных зарослях до поздней ночи, пока не выяснилось, что приходили не к ней.
И все же третьего раза сестра не избежала, в начале августа 1943 года ее опять забрали в гестапо. В госпитале давно уже приметили, что постиранное ею белье очень чистое, хорошо отутюженное, накрахмаленное. И один из военврачей стал отдавать свое белье в стирку лично ей. Видимо, немец тот с сочувствием отнесся к молодой симпатичной женщине. Он и предупредил ее, что ему велели не отдавать ей больше белье. Это означало, что ее арестуют. Узнав об этом, Груня прорыдала весь день. Володя, как мог, успокаивал. Обещал, что пойдет в гестапо вместе с ней. А в это время тетя Фрося обошла весь поселок и собрала восемьдесят одну подпись жителей под письмом, в котором заверяли немецкие власти, что знали родителей Аграфены, что те были белорусами, поэтому и их дочь белоруска. Восемьдесят один человек подставил свои головы, защищая Груню. Ведь если бы немцы узнали, что это ложь, расстреляли бы всех. Почему люди пошли на такой риск? Тетя Фрося по наитию поступила как психолог. Первые подписи поставили настоящие друзья семьи Шиммель, а когда другие видели, что подписались многие, то и они соглашались присоединиться. Когда Груню увезли, тетя Фрося поставила Свету на колени перед иконостасом в своей комнате и сказала:
– Молись, как можешь, чтобы маму твою отпустили.
И девочка весь день так и простояла, повторяя нехитрые слова молитвы:
– Боженька, сохрани и помилуй мою мамочку.
Владимир же пошел к зданию гестапо и стал ждать там. Проходивший мимо немецкий солдат окрикнул:
– Ты чего тут болтаешься? Иди отсюда, а то заберут.
Володя честно признался:
– Жену забрали.
– Эту? – немец жестами изобразил косу. – Живая еще – не расстреляли.
К вечеру тетя Фрося принесла в гестапо письмо с подписями жителей. Но в паспорте-то смывка была видна, и там просматривалось написанное раньше. Поэтому отпускать несчастную гестаповцы не торопились. А потом им стало не до нее. Груня увидела, как ее мучители засуетились, стали таскать какие-то мешки и рассовывать по ним архивные документы. Она даже начала им помогать, надеясь, что ей доверят вынести мешок, и тогда она сбежит. Оказалось, фашистов во второй раз выбили из Харькова. И наши войска уже входили в город. Но сбежать Груне не удалось – покидая кабинет, немцы привязали ее за косу к батарее.
Володя тоже видел, как немцы рассаживаются по машинам и уезжают, но боялся зайти в здание – вдруг Груни уже нет в живых. Ну а Груня, увидев мужчин в форме Красной Армии, не поверила своим глазам. И рискнула позвать на помощь, лишь услыхав русскую речь. Солдаты подошли, спросили:
– Ты чего здесь?
– Немцы меня забрали, пытали, хотели расстрелять, потому что я еврейка.
Один из бойцов толкнул ее в грудь:
– Чего ж не расстреляли?
Тут уж Груня не выдержала и горько заплакала:
– Спасибо, освободитель!
Случайно заглянувший в кабинет офицер, увидев зареванную, растрепанную и жутко грязную женщину (гестаповцы опять ее таскали по полу за косу), приказал:
– Освободите ее!
– Куда ж я пойду? Вдруг меня опять схватят? Я уж около вас посижу пока. – Груня не знала, что Володя рядом. А он, убедившись, что это действительно наши зашли, стал искать жену, заглядывая во все кабинеты. И вдруг увидел ее сидящей на грязном заплеванном полу. Кинулся к ней:
– Грунечка, родная, поднимайся!
– Кто это? – спросили ее красноармейцы.
– Это мой муж, – ответила.
– Предатель? – подозрительно посмотрел на Володю сержант, похожий на татарина.
Володя огрызнулся:
– Помолчи, найдутся и постарше тебя званием, кто будет разбираться, предатель я или нет.
Разбирательства потом все же были. Володю исключили из партии за то, что жил в оккупации, и приняли на завод чернорабочим. Груню по специальности никуда не взяли. Направили бухгалтером в какой-то цех, где сестра и проработала до пенсии.
А про доносчика правда всплыла. Сами же гестаповцы, когда пытали Володю, сказали, что про его жену им писал такой-то (назвали фамилию). Этот гад до войны был секретарем парткома танкоремонтного завода. Информация подтвердилась и тем, что жена этого предателя выгребла из шифоньера Шиммелей все постельное белье и скатерти, когда Груню в третий раз забрали. А соседи увидели, пристыдили:
– Что ты выгребаешь? Груня еще вернется.
И она вернулась вместе с Володей затемно, как раз гудок возвестил об окончании второй смены. Соседи сразу сообщили:
– Эта сука забрала твое белье.
– Да пусть подавится, – устало махнула рукой Груня, увидев открытый пустой шкаф.
Но Володя решил рассчитаться с предателем и позвал заводских работяг. Встретив гада, указал на него:
– Вот эта сволочь писала доносы в гестапо!
Он стал бить доносчика. А один из рабочих замахнулся ведром с чем-то тяжелым и ударил предателя по голове. Удар оказался смертельным. Но никакого расследования и уголовного дела возбуждать не стали. Все решили единодушно:
– Собаке собачья смерть.
Глава 12 Возвращение
В августе 1943 года наши войска окончательно выбили немцев из Харькова. А уже в октябре в составе тысячи двухсот человек я была откомандирована на освобожденную Южную железную дорогу. По пути наш эшелон расстреляли немецкие самолеты, и в живых осталось чуть больше половины. В том артналете пострадала и я – металлический осколок вонзился в спину в районе позвоночника. Фельдшер, который сопровождал эшелон, осколок тот вытащил и щедро залил рану зеленкой. Зеленки у него была трехлитровая банка, и она заменяла, при отсутствии других медикаментов, и обезболивающее, и антисептик. Это ранение еще аукнется мне много лет спустя тяжелым недугом.
Понятно, что грамотных специалистов на железной дороге в то время катастрофически не хватало. Я, отправляясь на станцию Лозовая, знала, как принять, как отправить поезд, как стрелку открыть, но организацию движения поездов не знала. По прибытию на место назначения меня вызвал начальник отделения, у которого при той бомбежке в том эшелоне погибла дочь, и говорит:
– Роза, я тебя назначу военным диспетчером. Это очень ответственная работа, но ты грамотная девочка, освоишь. А учить тебя будет Абрамов.
Мало что я дежурила свою смену, так оставалась и на смену Абрамова. Сидела рядом с ним, слушала, как он командует на участке. И он мне все это объяснял. Он закончил Ташкентский институт инженеров транспорта и был опытным движенцем. В Самарканде осталась семья Абрамова – жена и шесть или восемь детей. Все почему-то звали его по фамилии, поэтому имени и отчества своего учителя я не запомнила.
Если с работой все сразу определилось, то с размещением возникли проблемы. Железнодорожных домов на станции не было. Но остались после немцев блиндажи с двойным и тройным накатом. Мы проветрили их, прожгли там солому, чтобы фашистский дух вытравить. Дух-то вытравили, но осталась зараза, чесотка, мы называли ее «немецкая пошесть». Когда начали чесаться, вначале никто ничего не понял: какие-то красные высыпания появились между пальцев. Потом люди постарше догадались: это чесотка. А зараза эта такая переходчивая, что вскоре зачесались даже те, кто жил не в блиндажах, а в близлежащих домах.
А меня как раз в это время выбрали секретарем комсомольской организации. И, как всегда, мне до всего было дело. Пошла к начальнику отделения и рассказала ему про напасть эту. Надо, говорю, из блиндажей уходить – условия жизни там невыносимые. И хотя в некоторых блиндажах имелись буржуйки и предполагалось, что в них можно будет перезимовать, начальник отделения решил иначе. Вызвав военного коменданта, он велел ему взять двух автоматчиков и расселить всех железнодорожников в поселке, а блиндажи – выжечь к чертовой матери.
И вот пошли два солдата с офицером по городу. Заходят в первую попавшуюся хату. Осматривают и сообщают, что здесь будут жить еще два или три человека. Хозяйка давай голосить:
– Та вы шо? У мене вон скильки детей! Дивись, иде ж тут спати, иде ж тут жить?
А все знали, что некоторые жители Лозовой встречали немцев хлебом-солью. И лейтенант Федька Белоглазов сразу пресекал эти вопли:
– Что, для немцев хватало места, а для своих нет? Если нет места, то тебя выселим, а железнодорожников поселим.
Меня военные знали, поскольку имела отношение к комендатуре. Жалели, подкармливали остатками каши от обеда. Я догадывалась, что приносили они собранные в один котелок объедки. Но все равно ела и понемножку с другими делилась. Голодали все страшно.
Вот и тут, зайдя в один дом, чистый, с льняными портьерами, хорошим диваном, бойцы по доброте душевной решили поселить в этих хоромах меня. Хозяйка, конечно, возмутилась:
– Еще чего! И на дух не пущу!
– У тебя немец хорошо жил? – поинтересовался Федька и попал в точку.
– Та вин был поп немецкий!
– А теперь будет жить наша диспетчер Роза. И попробуй только не пустить ее или обидеть! И чтоб вода была горячая – ей помыться после смены.
Как ни вопила хозяйка, а пришлось смириться. Оказывается, сын ее при немцах был бургомистром Лозовой. А невестка ушла от сына к немецкому офицеру. Когда наши выбили немцев из села, сына хозяйки забрали, потом сообщили, что умер от дизентерии. Невестку отправили в лагерь на Северо-Печерскую сторону, а с ней и двенадцатилетнего внука бабки. Хоть та и криком кричала:
– Оставьте мне внука.
К тому времени как я заселилась в этот дом, зараза настигла и меня. Хотя руки и лицо оставались чистыми, тело страшно чесалось. И вот одна пожилая женщина («добрая душа») подсказала мне народный способ лечения: раствори, мол, кусочек нафталина в керосине и этой смесью намазывайся – все как рукой снимет. А у моей хозяйки, я видела, был старинный сундук, от которого несло нафталином. В общем, открыла я его потихоньку и стащила кусочек нафталина. На стрелочном посту налила в баночку керосина – мы им фонари заправляли. Нафталин в нем быстро растворился, и этим раствором я намазалась. А ночью все тело огнем стало печь. Я встала, взяла воды и смыла насколько смогла. Но к утру все волдыри превратились в язвы. А мне на суточное дежурство заступать. Прихожу в диспетчерскую в полуобморочном состоянии, не представляя, как буду работать. Тут как раз заходит комендант участка. И, увидев меня такую, спрашивает:
– Розочка, что ты плохо выглядишь?
А комендант этот за мной ухлестывал, но был женат и пьянь страшенная.
– Ой, Иван, яко бы ты тильки знал, яка у меня беда, – заплакала я и, набравшись смелости, расстегнула китель. А под ним жуть – вся шкура разъедена. Я рассказала ему про «немецкую пошесть» и про то, как лечила ее.
– Боль адова, голова ничего не соображает. Не знаю, что мне делать? – я была в полном отчаянии.
А комендант знал, что мне приходят письма от брата Исая, который тогда имел звание капитана, и от Раи, военврача. И говорит:
– Напиши сестре. Может, она что посоветует.
– А что она посоветует и где я ту мазь возьму, которую она посоветует?
Помолчав, Иван спросил:
– Ты меняешься утром? Не бойся, что-нибудь придумаем.
На следующее утро он подгоняет служебный автомобиль «студебеккер» и говорит:
– Садись. Поедем к врачам. Тут госпиталь есть на станции Тройчатое.
Я обрадовалась. Без задней мысли запрыгнула в машину. Села рядом с дверью, Иван – ближе к шоферу и чуть-чуть от меня отодвинулся. Я его понимала: смотреть на эти язвы было невозможно.
В Тройчатой находился засекреченный госпиталь, в котором лежали раненые без рук, без ног. Иван заходит в госпиталь и рассказывает медперсоналу про мою проблему, интересуется: есть ли у них врач-кожник? По счастью, такой специалист там оказался – старичок-одессит. Позвали его. Он подходит к машине, просит водителя выйти, сам садится на его место и спрашивает:
– Что, красавица, у тебя стряслось?
– Вы точно врач? – недоверчиво осматриваю старичка. И решаюсь:
– Тогда лучше я вам покажу, – и я расстегиваю китель.
Доктор выскакивает из машины как ошпаренный и кричит водителю:
– Немедленно отгони машину подальше!
Ивану тоже досталось:
– Ты знаешь, какие у нас раненые лежат? И привез сюда такую заразу?! Чтоб через минуту духу твоего здесь не было.
Но с Ивана где сядешь, там и слезешь. Он, как комендант, ведал продпунктом и снабжал этот госпиталь продуктами по литере «А». И Иван уперся:
– Никуда не поеду, пока не поможете ей!
Врачи посовещались и согласились:
– Ладно, мы ей поможем. Пусть отправляется вон в тот сарай.
В этот дощатый сарай во дворе сваливали окровавленные матрасы. На гору этих матрасов постелили чистые простыни, положили меня, а сверху накрыли другой простыней и завалили матрасами. А на улице мороз – минус тридцать. Врачи ко мне не заходят. Обслуживать меня приставили уборщицу, которая мыла туалеты. Врач-одессит приготовил какую-то мазь. И эту мазь передавали мне через уборщицу, а я мазала себя сама. Чтобы я не замерзла, два раза в сутки давали мне по 50 граммов спирта. Еду – ту же, что и всем раненым. Вот я спирту «кирну», каши наемся, накроюсь с головой, надышу там сколько возможно. И сплю целыми днями. Уборщица из-под меня убирала. Два ведра стояли – для большой и малой нужды.
Примерно на пятый день язвы стали затягиваться. Еще через пару дней я занервничала: кто вместо меня работает? Мы же трое дежурили в три смены. А теперь как они? Через сутки заступают на сутки? Еще через пару дней кожа стала шелушиться и слазить как старый чулок. Я попросила уборщицу найти врача, маленького, старенького, с бородкой, на Калинина похож, и сказать ему, чтобы он подошел к дверям. Скажи, говорю, что с меня шкура слазит. Но врач не пришел, а через бабку мне передал спирту, чтобы я протерлась. Я протерлась – стало легче. Пить я уже опасалась, чтобы не втянуться, – понимала, как опасно, хоть и было мне лет девятнадцать. Еще пару дней прошло, опять через бабку докторам передаю, что мне уже легче, и пора на работу.
Переодели меня первый раз, когда шкура зашелушилась. Передали рубашку, кальсоны, штаны ватные, гимнастерку, ватник, шапку-ушанку и валенки. Я к тому времени такую ряху наела! Ведь в Лозовой, если тыквы пареной кусочек на обед дадут, и то радости полные штаны. А тут суп, каша, трехразовое питание и на свежем воздухе. Вот и разжирела. Через некоторое время опять передаю врачам, что, если не отпустят, сама уйду. Мне уборщица приносит новый комплект одежды. Я переоделась, она помогла мне портянки намотать. Медсестры выскочили во двор, поглазеть на меня. Хотя им категорически запретили даже приближаться. Вышла я краснощекая, цветущая и – к воротам.
А возле калитки стояли автоматчики.
– Ребята, посторонитесь, я пройду, – попросила.
Они осмотрели меня, один даже руку протянул: какая дивчина! Я резко пресекла:
– Назад! Лучше скажите, в какую сторону Лозовая? Далеко?
– Километров двадцать.
Поскольку я была в валенках, в теплой одежде, в ушанке, которую уборщица помогла завязать и поверх нее одну из новых портянок вместо шарфа повязала, то решила – пойду, а там, может, попутка какая-нибудь попадется. Иду, иду. И никого: ни машины, ни лошади. Вижу, впереди большой сугроб. Думаю, если в сарае том не замерзла, то в сугробе точно не замерзну. Села, подремала. Однако надо идти – скоро ночь. И тут слышу, машина урчит. Оказывается, из госпиталя дозвонились до военного коменданта, и он послал за мной «студебеккер». Приехала. Прихожу к начальнику отделения. Он глаза вытаращил: стоит перед ним цветущая девка. Я ведь в сарае большей частью спала. Ни газет, ни журналов, ни книг не было. И как ни просила, чтоб передали что почитать, мне не давали. Потому что книжку от меня нельзя было взять назад. Перво-наперво я ставлю на стол литровую банку с мазью, которую мне дали с собой. Я ж сообщила, что в Лозовой много больных. И врач понимал, что такое «немецкая пошесть». А начальник отделения тоже чесался, но никому не рассказывал. Я ему и говорю:
– Вот это от той гадости, которой болеют все, – «немецкой пошести».
И он банку сразу в сейф прибрал. Спрашивает:
– Совсем выздоровела?
– Совсем. Чуть не спилась, Никита Васильич.
– Мне говорили, ты в каком-то сарае жила?
– Да, в собачьей будке дощатой, как воткнули, так и жила. Ни радио, ни газет. Ничего не знаю.
– Ну и как вылечилась?
Я задираю рубаху и показываю тело – чистенькое.
Он даже потянулся потрогать. Я остановила:
– Вы до меня не дотрагивайтесь. Я-то вылечилась, а вы больны, – и показываю на его руки в красной сыпи. Подсказала ему, как намазывать.
– Ну, Розочка, нет худа без добра. Двое суток будешь дежурить, – подытожил наш разговор Никита Васильевич.
– Буду, раз надо.
Иду в диспетчерскую, а меня там девки площадным матом встречают:
– Ты, твою мать, курорт себе устроила. Расцвела, блядина такая. Это ж надо, жидовская морда, курорт себе организовала!
– Не ругайтесь, девчата, – не обиделась я. – Теперь двое суток дежурю.
– Начинай сейчас.
– Приказ будет – начну сейчас.
Они тут же побежали к дежурному, тот приказ накропал и к начальнику отделения – на подпись.
Единственное, о чем жалела, – что еды с собой из госпиталя не попросила. Потому что вместе с дежурством подоспел и голод. Хоть и хорошо кормили в госпитале, а на всю жизнь не наешься. Зато благодаря мази, которую передал мне старенький доктор, справились мы на станции с «немецкой пошестью». Каждое утро начиналось с того, что все приходили к начальнику отделения, и фельдшер каждого мазал палочкой с бинтом. И все сетовал:
– Роза, а что ж ты не спросила: из чего та мазь? Может, и мы бы сделали.
В сентябре 1943 года был освобожден от фашистских захватчиков и мой родной город Сталино, которому немцы на два года оккупации вернули его первое название – Юзовка. В городе к тому времени осталось только два полностью уцелевших здания – гостиница «Донбасс», где располагалось гестапо, и Театр оперы и балета. Пострадал от бомбежки и наш дом. Поэтому отцу после возвращения из оккупации дали комнату в бараке, где-то около Смолянки. И поставили на очередь на жилье. Пол в бараке был цементный, его застилали соломенными половиками. Спали отец с Бертой на двух раскладушках.
Вернулся в 1943 году в Москву из Швеции (точнее, был интернирован) и Анатолий Соболев.
А еще поздней осенью 1943-го произошла последняя встреча Раечки с родными – семьей сестры Груни в Харькове. А случилось это так.
Студеным вечером Аграфена мыла крылечко дома, поскольку подошла ее очередь.
– Извините, пожалуйста, вы не знаете, где Груня Шиммель живет?
Услышав тоненький голосок, Груня обернулась и увидела девочку в военной форме.
– Я Шиммель Груня, – откликнулась она.
Девочка вскрикнула и помчалась к железнодорожным путям, где стоял воинский эшелон:
– Рая! Рая! Есть Груня. Она вон там живет.
Рая знала довоенный адрес Груни и, убедившись, что сестра по-прежнему там, хотела сразу бежать к ней.
– Ты хоть спиртягу возьми да поесть чего. Там же голод, – притормозили ее девчата. Побросали ей в сумку брикеты каши, кофе, чекушку спирта налили, две простыни желтоватые положили. А в это время Володя, муж Груни, со смены пришел. И они тоже кинулись искать Раю. Встретили ее на путях, позвали к себе. Их дочь Светочка уже рассказала соседке тете Фросе, что сейчас Рая придет. И тетя Фрося – ангел-хранитель этой семьи – зарубила единственного престарелого петуха и поставила варить его жилистое мясо. Провожать Раю Володя с Груней поехали на подножке попутного состава на «Харьков-Южный», куда перекочевал эшелон. И тут началась бомбежка. Часа три провели супруги Шиммель в выстуженном здании вокзала, пока не убедились, что эшелон Раечки отправился.
Глава 13 Мера ответственности
Не зря говорят: и на старуху бывает проруха. Я бы могла сказать и по-другому: на войне невозможно предусмотреть все «если».
Я уже говорила, что моим учителем на станции Лозовой был диспетчер Абрамов. Случившееся с ним – наглядное подтверждение тому.
Это произошло в начале февраля 1944 года, когда из Харькова пришел состав из восемнадцати цистерн белого налива (авиабензин), закомуфлированный под лесок. В тот день дежурил диспетчер Абрамов. В Панютино (это станция перед Лозовой) машинист паровоза затребовал набора воды. Немцы взорвали водокачку в Лозовой, в Тройчатой. Они взрывали их в шахматном порядке, а не все подряд, потому что им требовалось и свои паровозы снабжать водой и углем. Я бы в силу своей малограмотности не разрешила – это «неграфиковый» набор воды. А каждое продвижение состава по участку имело свое время и фиксировалось на графике. Должен состав прийти в 11.15 – и не дай Бог, чтобы дежурный по станции дал прибытие 11.16. Абрамов на требование машиниста тоже ответил:
– Здесь набора воды я тебе не дам.
– А у меня уже пробка плавится в котле! – возмутился машинист.
В котле же держат определенную температуру. Если нагрев выше, то пробка расплавится, и паровоз не пойдет. Абрамов, понимая это, спросил:
– Сколько времени тебе надо?
– Дай мне минут десять.
– Даю восемь.
Отцепить паровоз от состава, подогнать его под башню, набрать воды, опять вернуть под состав, откачать тормоза, соединить, откачать тормоза – на все это ушло 18 минут. Тогда не было радиосвязи, как сейчас, диспетчера с машинистом, но машинист Абрамову пообещал: две минуты на каждом перегоне я сэкономлю. Дежурный по станции напомнил машинисту его обещание, когда передавал жезл кочегару. Тот ответил:
– То я так сказал, но это не тот участок, где можно нагнать. Много времени уходит на подъем и замедление.
Понятно, участок сложный – много спусков и подъемов. Но Абрамов не знал, какой именно груз был в цистернах. Если б знал, что это авиабензин, дал бы на набор воды четыре минуты. В Павлограде был военный аэродром, с которого самолеты не взлетали из-за отсутствия горючки. Поэтому за продвижением этого состава следил нарком и иже все причастные. Была такая служба – называлась «З» – по фамилии начальника передвижения войск Юга Зверева. Он и был зверь. И наверное, должен был таким быть. Служба Зверева постоянно звонила и следила за продвижением состава с авиабензином поминутно.
Не доезжая до Павлограда две станции и шесть перегонов, немцы подхватили этот состав. Прямое попадание бомбы, и цистерны загорелись. Это случилось в 7.45 утра. Я шла на дежурство, когда заполыхали земля с небом – столб огня был виден за много километров. Вбегаю в отделение на второй этаж и кричу Абрамову:
– Там что-то так горит! Боже ж мой, небо горит!
– Все-таки горит? – переспросил Абрамов, выскочил посмотреть, вернулся бледный, глянул на часы и записал в журнале дежурств: «Сдал в 8.15. Принял в 8.15». Я удивилась:
– Что ты пишешь «8.15»? Сейчас восемь часов.
Он попросил:
– Не стирай, пусть так и остается.
Абрамов еще не ушел домой, в столовой ел тыквенную кашу, когда за ним пришли. Он спокойно доел, встал и пошел на выход в сопровождении автоматчика. Только когда вышли, спросил:
– Куда меня?
– К Оратовскому, – картавя, изобразил сопровождающий своего начальника.
– Тогда автомат закинь за плечо – я не собираюсь бежать.
Оратовский возглавлял службу НКВД в Лозовой и сидел в так называемом «желтом доме», рядом со зданием нашего отделения.
Он сразу сказал Абрамову:
– Пятьдесят две станции и сто пятьдесят перегонов сохранили этот состав, а ты его угробил.
Абрамов разложил график, на котором были записаны фамилии машиниста, потребовавшего заправки водой, помощника машиниста и кочегара. Пояснил, что ситуация сложилась критическая – в котле расплавлялась пробка. Но Оратовский продолжил обвинение:
– С твоей помощью немцы расстреляли пятнадцать самолетов – весь аэродром. А если б они вовремя получили бензин, то заправились и взлетели бы. И повоевали.
Абрамов не возражал. Тут же его отвели в другую комнату. Там сидела пресловутая «тройка». Ему сказали:
– Мы не можем сохранить тебе жизнь, потому что слишком большие потери, и потому, что сверху слишком много знают об этом. Уже и наркому доложили.
Я в это время продолжала дежурство. И вдруг заходит начальник отделения Коваль. Посмотрел график и говорит:
– Дежурь и никуда не выходи, никого не расспрашивай и не слушай.
Я посмотрела удивленно, потому что такого раньше не случалось.
Начальник трижды проверял через секретаря, запрашивая цифры, не вышла ли я из диспетчерской. Когда подошло время обеда, Симка, секретарша, принесла мне из столовой горячую тыквенную кашу прямо в диспетчерскую:
– Коваль сказал, чтобы ты тут поела.
Утром на планерку пришли все четыре диспетчера: с Харьковского, Конградского, Славинского и Павлоградского направлений. Обычно я докладывала первой, а тут получилось – последней. За эти мои полсуток никаких происшествий не было. Но все почему-то стоят и не уходят. И тут Коваль приглашает к себе всех остальных сотрудников: заместителей, старших диспетчеров – и сообщает о случившемся и о том, что Абрамова расстреляли за водокачкой.
Когда я вышла из кабинета, со мной случилась жуткая истерика. И первое, что захотела сделать, – пойти за водокачку и убедиться, правда ли, что Абрамова расстреляли. Пошла, увидела небольшую воронку и лежащее в ней тело, накрытое шинелью. Охранял его боец заградотряда. Это у коменданта участка был такой отряд – мужики старше 50 лет, которые на фронт не призывались, а должны были ловить шпионов. Охранник участливо спросил:
– Хочешь посмотреть?
Спустился, откинул шинель. Видно, стреляли Абрамову в грудь, потому что лицо осталось таким же красивым, как при жизни. Я только спросила:
– А что ж не хоронят?
– Нет приказа, – ответил боец.
Трое суток я ходила к Оратовскому, требовать приказ на захоронение моего учителя. Оратовский злился:
– Сейчас скажу, чтоб тебя туда отвели и тоже пристрелили.
– Говорите, но Абрамова надо похоронить.
На третьи сутки энкавэдэшник не выдержал:
– Вышвырните ее к е…ней матери! Хорони!
Я сразу кинулась к коменданту станции, нашли фанерный ящик, кажется, из-под папирос. Уложили тело, шинелью накрыли. Ящик забили и прямо за водокачкой зарыли в землю. А водокачка стоит на холме. Поставили вокруг могилы четыре колышка, вокруг колючую проволоку в два ряда натянули. И на куске фанеры по моей просьбе Олежка из военной комендатуры написал: «Абрамов (имя, отчество)», месяц и год смерти. И маленькими буквами ниже: «Хороший человек».
На месте моего учителя я бы не разрешила машинисту набор воды, я бы поменяла у состава паровоз. Но у него на тот момент все паровозы были распланированы. И он не представлял важности продвижения этого состава. Это стало известно позже. Если б какая-то сволочь не просигналила немцам и если бы немцы не взорвали паровоз… Но на войне нельзя предусмотреть все «если». И случается принимать решения самому и самому нести за них ответственность. Вскоре я убедилась в этом и на собственном опыте.
…Я только что возвратилась на Лозовую из поездки – сопровождала состав с танками. В это время немецкие самолеты разбомбили мост на станции Тройчатое, и остановилось движение на Харьков. Вхожу в диспетчерскую, а диспетчер Колос мне сообщает:
– Слушай, тут твой однофамилец из санитарного поезда так нас трясет – ему на Харьков надо. Там ждут его раненых, и в госпитале места приготовили.
– А я что сделаю? Не буду ввязываться – устала как собака.
Колос была отличным поездным диспетчером, но лишнюю ответственность в военное время на себя не брала. Поэтому пообещала начальнику военно-санитарного поезда (ВСП):
– Вот придет диспетчер Эпштейн и чем-нибудь вам поможет.
Видимо, узнав, что я приехала, начальник ВСП влетел в диспетчерскую с криком:
– Когда мы поедем?
Я, конечно, удивилась:
– Чего вы от меня хотите?
– Отправлять нас надо немедленно на Харьков, девочка. Перевязочные материалы кончились, раненым немедленно операции нужны, в Харькове уже готовы места в госпиталях.
Я уже знала, что мост разбомбили. Там и мост-то метров тридцать. Но немцы понимали значимость Лозовой. Достаточно разрушить такой маленький участок, чтоб застопорить движение поездов в направлении Харькова. А участок «Лозовая – Харьков» был мой. Я предложила майору медицинской службы успокоиться и стала вызывать Тройчатое. И тут вдруг ответили:
– Я – Тройчатое.
– Что у тебя там? – спрашиваю.
– Мост разбомбили. Ремонтируют.
– А начальника восстановительного отряда нет?
– Есть. Как раз воды пришел попить.
– Дай-ка его к селектору.
Тот представился:
– Старший лейтенант Коновалов. Слушаю вас.
Я, хоть и не имела права, стала говорить открытым текстом:
– Товарищ Коновалов, у нас санитарный поезд, который надо пропустить хотя бы на минимальной скорости – три километра в час – по участку, который вы восстанавливаете. Потому что положение с ранеными отчаянное. Можем мы его пропустить?
Коновалов съязвил:
– Как? По воздуху?
– Но вы же что-то сделали?
– Из тридцати метров – восемь.
– А бросить на временное скрепление? – предлагаю вариант. Временное скрепление – это если вместо трех костылей забить один или два.
– И пустить под откос раненых? Извиняй! – не соглашается старший лейтенант.
– А сколько времени будете еще восстанавливать? – уточняю.
Он вздохнул:
– Часа четыре-пять.
Услышав это, начальник ВСП завопил дурным голосом. Я рассердилась:
– Сейчас выставлю вас за дверь, товарищ майор.
Коновалов услышал и насторожился:
– А кто у тебя там? Кто тебе мозги полощет?
В общем, ничего утешительного я не услышала. Сижу, думаю. И вдруг озарило: а пошлю-ка я этот поезд «кружностью» через Константинград (Конград). Звоню туда. И надо же, сам начальник станции оказался на круге «Константинград – Лозовая». Я чуть не подпрыгнула от радости. И говорю опять открытым текстом о возникшей проблеме с отправкой санпоезда. Начальник станции соглашается сразу:
– Роз, я могу пропустить этот состав. Но кто-то должен спросить разрешения у немцев.
– Ради бога! Сможешь ты сейчас остановить все и по «зеленой» – на Харьков?
В этом случае я выгадывала в прибытии поезда больше трех часов.
– Надо – сделаем! – ответил начальник станции.
– Катька! – кричу диспетчеру. – Быстро перегоняй паровоз в хвост!
– Чего орешь? – удивляется Катька.
– Поорешь, если майор по твоей милости меня трясет.
– А он не твой родственник? Спроси у него, пока я перегоню, – предлагает напарница.
Майор оказался всего лишь однофамильцем. Отправила я состав на Конград, бросила фуфайку в угол на лавку, привалилась к стене и уснула – ночь, устала, голодная. Утром влетает ко мне замначальника отделения Рыков. К тому времени о прибытии состава в Харьков я уже знала, запросила и мне ответили: прибыл, уже перегружают раненых в машины и развозят по госпиталям.
Рыков рвал и метал:
– Ох уж эти девки! Что мне с вами делать? Прибить что ли?
– Рыков, ты что? – недоумеваю я.
– Тебя вызывает Оратовский с графиком движения.
А у меня на графике состав еще не проходил – отправила, и ладно.
– Рыков, ты умный? Сядь за селектор и быстренько проведи мне по минутам до Конграда этот состав, – прошу. – А я немножко отдышусь.
– А где ты спала? Дома?
– А в углу на лавке не хочешь?
– Эх, не знал, а то бы пришел, пощупал тебя, – перешел на шутливый тон Рыков.
Все в тот момент встревожились – это ж Оратовский! Он с «тройкой» уже Абрамова к расстрелу приговорил. Но виду не подают. Рыков все на графике провел хорошо. Кстати, когда мне Тройчатое назвало фамилию старшего лейтенанта Коновалова, я машинально на графике в пометках записала ее. Беру графики и иду в соседнее здание, «желтый дом», к Оратовскому. Тот пригласил полковника, который кончал ЛИИЖТ (Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта) и разбирался во всех тонкостях железной дороги. Оратовский, как всегда резко картавя, спросил:
– Ну, что у тебя с санитарным поездом?
– Прибыл в Харьков на сорок минут раньше, чем если б я его отправляла по нашему направлению.
– А он же у тебя на станции стоял?
– Это не моя станция. Это станция Лозовая. Стоял. Но меня тут не было. Я сопровождала танковую колонну.
– Это я знаю. Но кто тебе давал приказ отправить поезд «кружностью»?
– Единственно, у кого я не спросила разрешения, – это у немцев. Выхода не было. Руководитель восстановительных работ старший лейтенант Коновалов мне сказал, что ему еще нужно не меньше четырех-пяти часов.
Оратовский посадил капитана, вызвонить Коновалова по полевой связи. И тот подтвердил информацию про время ремонта. А по «зеленке» движение пустили через пять с половиной часов.
– Твое счастье, что немцы тебя не подхватили на перегоне «Конград – Харьков», – заметил энкавэдэшник.
– Почему это меня? Они и вас могли подхватить. А вы какое решение приняли бы? Что бы вы могли предложить лучше? – закусила я удила. – Я спасла жизнь целому эшелону раненых.
Вышла я от Оратовского и вижу: на крылечке стоят начальник отделения, три его зама и старший диспетчер. Они-то думали, что меня выведут с автоматчиком.
Потом мне рассказали, что начальник поезда, мой однофамилец, попросил диспетчера Харькова, когда уже разгрузили раненых, передать диспетчеру Эпштейн, девочке, что он хотел бы иметь такую дочечку. А мужик-диспетчер заметил:
– А я бы и от такой невесты не отказался.
Третий раз довелось испытать судьбу уже весной того же 1944 года. Когда формировали составы на Лозовой, то согласовывали это со службой «З». Из «З» нам пришел приказ отправить восемь вагонов с мукой. Все это отражалось в амбарной книге: сколько вагонов, под какой груз, на какой пакгауз отправляем. А направление, куда отправлять груженый состав, давали из «З» из Харькова. Последняя графа в книге – подпись «ЗКРС», таково было аббревиатурное название коменданта станции. В конце смены он приходил расписываться. Отказов не случалось. А под погрузку продуктов вагоны необходимо промыть. Промывали их горячей водой, подключали к инжектору и просто ошпаривали изнутри. Потом надо было просушить. Это делали мужики из заградотряда – протирали мешковиной изнутри. Потом вагоны ставили под погрузку. Только приготовили два крытых вагона под муку, как ЗКРС Белоглазов и командует:
– Вагоны все подавать на двадцать пятый пакгауз. Комендатура получила приказ.
В моем понимании, боеприпасы – самый важный груз. И я отдаю два уже промытых вагона на тот пакгауз. И вижу в окно: останавливается американская машина, выходит из нее генерал, а из других четырех машин высыпались капитаны, майоры, полковники – свита. Подумала: «К коменданту приехало какое-то начальство».
Но заходит ко мне комендант участка Ванька Чайка и говорит:
– Роза Соломоновна, тебя приглашает генерал Кабанов.
– А на хер он мне нужен? – удивляюсь. – Разве генералы еще могут на девок заглядываться?
Ванька посмеялся и посерьезнел:
– Вообще-то не до смеху, Розочка. Комендатура моя выстроена впереди печки. А ты встань впереди моих ребят. Тогда он не посмеет стрелять. А то пристрелит еще.
– Вань, ты че, охренел? Зачем я пойду туда?
– А ты зачем забрала два вагона из-под погрузки муки под боеприпасы? – вопросом на вопрос ответил Чайка.
Схватила я амбарную книгу, где записано, сколько вагонов, куда перегнать, фамилия «Белоглазов» и стрелкой показано, с пакгауза 19 на пакгауз 25. Пошли мы в комендатуру. Свои волосы длинные я всегда подхватывала тонкой желтой ленточкой – бархоткой. Если б знала, берет надела бы форменный со звездочкой. Чайка открыл дверь и первым зашел. Я – за ним. Встала за его спиной, выглядываю из-за него и громко докладываю:
– Товарищ генерал, военный диспетчер Лозовского отделения Эпштейн Роза Соломоновна прибыла по вашему указанию.
Генерал грозно так спрашивает:
– Что это за детский сад?
– Я военный диспетчер, – отвечаю.
– Поэтому солдаты сидят без хлеба? – продолжает тот гневаться.
Я продолжаю очень серьезно докладывать по книге:
– Приказ на погрузку муки поступил в девять часов пять минут. Два вагона погружено, а оставшиеся промытые два вагона переподали на пакгауз двадцать пять под боеприпасы.
– А ты знаешь, что полевые пекарни остались без муки и поэтому солдаты сидят без хлеба? Почему ты передала эти четыре вагона на двадцать пятый? – Тон генерала не предвещает ничего хорошего.
– По заданию коменданта станции Белоглазова.
– Кто Белоглазов? Почему давали такое распоряжение?
Белоглазову бы сказать:
– Из Харькова приказ пришел из «З».
Но он, струхнув, ответил:
– Я такого приказа не давал.
Хоть стой, хоть падай! А о генерале Кабанове среди железнодорожников ходила такая молва, что он начальника Купинского отделения табуреткой шарахнул по голове, и тот теперь ходит со свернутой шеей. Все это в мозгу у меня промелькнуло, глянула по сторонам – табуреток нет. Стою я впереди комендатуры, как Чайка велел. Но Кабанов только слегка кивнул головой, и два офицера встали по обе стороны от Белоглазова и увели его. Больше о нем мы ничего не слыхали.
Наш начальник отделения Коваль тоже сильно струхнул. Генерал же сразу в комендатуру зашел. Зачем он приехал? Поскольку меня туда повели, Коваль понял, что это связано с направлением юга. Сразу затребовал у диспетчеров информацию по всем поездам этого направления. Кабанов меня отпустил и стал разговаривать с Чайкой. А я побежала на станцию.
– Сколько есть крытых вагонов? – спрашиваю.
Оказалось еще четыре непромытых.
– Быстро под промывку! На каждый вагон три минуты. И – на склад.
Промыли, просушили и – на погрузку. В общем, восемь вагонов загрузили минут за двадцать-тридцать. Чайка встретился мне по дороге, спрашиваю:
– Ваня, куда отправлять-то? Уточни, а то я паровоз ИС велела под эти вагоны поставить и соединять. Сейчас отправлять будем.
А я пошла к Ковалю, сказать, что восемь вагонов загружены, и жду направления. Поднимаюсь по лестнице и слышу, как он кричит на генерала:
– Этот детский сад работает через сутки – сутки, ест одну тыквенную дресню. А твои бездельники оптом и в розницу продают продсклады, и жрут. Не зря девчонка говорит: в окопы их!
Я остановилась, зайти боюсь. А потом думаю: а что, зайду и скажу. Так и сделала. Коваль поднял на меня глаза, спрашивает генерала:
– Направление кто даст?
Тот назвал какого-то подполковника. Я кубарем скатилась по лестнице, а Чайка стоит, ждет. Ему уже сообщили направление. Я передаю информацию по селектору дежурному по станции. И стою у окна, а меня дрожь бьет – волнуюсь за Коваля. Ванька сзади подошел, обнял меня и поцеловал в макушку.
– Ну что, успокоимся? Пошел состав, я сам его проводил, – говорит.
– Честно? А доклада еще не было. Вань, Кабанов не прибьет Коваля? Я не переживу.
– Не должен, – успокоил Чайка. – А кто ж будет командовать?
– В Купинске же оставил отделение без руководства. Ты, Ванечка, пойди, встань там, и мне скажешь, если что случилось.
Чайка все хотел на мне жениться. Но жена у него была – какая-то студентка мединститута где-то на Урале. Все письма слала, чтоб он ей ковры привез и пианино. Он уже погиб, а она все писала.
Глава 14 Жизнь продолжается
Когда наши вернулись, то жителей Лозовой, встречавших немцев хлебом-солью, лишили огородов. Вот моя бабка-хозяйка, у которой сын в бургомистрах при немцах ходил, и придумала выход:
– Розка, ты бы попросила в сельсовете земли под картошку выделить. Тебе не откажут. А сажали бы пополам. Я тебе и картошки дам на посадку.
«Это ж какое Груне подспорье будет», – подумала я и согласилась. В сельсовете и впрямь мне не отказали. Выделили шесть соток. Я еще попросила для подружки. В общем, получилось двенадцать соток. И весной 1944 года посадили мы с бабкой картошку. Она – отборную, белую крупную сорта «элла», а мне мелкоту сморщенную дала – «репанка» называется.
Подошла пора картошку от сорняков полоть. Бабка мне все уши прожужжала:
– Надо ж полоть, а у тебя там бурьяну столько, что волки воют.
– Ладно, – говорю, – завтра сменюсь и пойду прополю.
Отдежурив, наутро отправилась на поле. Сухариков с собой взяла. Смотрю: бабкина картошка как картинка стоит, вся окучена, прополота, а моя – вся в бурьяне.
– Где ж тут сил хватит с такими зарослями справиться? Провались ты пропадом, бабка, со своей картошкой. Какая вырастет, такая вырастет!
Рассудила я так, постелила фуфаечку в этих зарослях с мыслью, что полежу немного, а потом с новыми силами встану и хоть что-то прополю. Прилегла, только на миг глаза сомкнула, открываю – уже вечер. Целый день проспала – с суток же. Вскочила, оглянулась, слава богу, – никого. Там ведь все могло случиться: и изнасиловать могли, и убить. Лозовая есть Лозовая. Подхватила я фуфайку под мышку, и дай бог ноги. Наутро же опять на дежурство. А бабка меня ждет.
– Ну, как? – спрашивает.
– Не так, как у тебя, бабушка, но хорошо прополола, – говорю, чтоб ее не расстраивать.
Утром, только заступила на дежурство, слышу через окно:
– Розка! Розка!
Выглядываю – бабка с улицы зовет. Ну, думаю, может, случилось что, может, телеграмму какую принесли. Попросила дежурного по отделению сесть вместо меня за селектор. Выхожу:
– Что случилось, бабуля?
А она мне вопрос:
– Ты чей огород прополола?
Оказывается, рядом еще чей-то огород был прополот очень хорошо, и я на это обратила внимание. А хозяйка моя решила, что я перепутала и чужой участок прополола. И давай причитать:
– Ой, лышенько, так и знала! Хиба ж тебя надо было одну пускать. То ж надо было мэни с тобой!
Я поохала для виду, но говорю:
– Не знаю, бабка, может, и так, но больше не пойду. Черт с ней, с той картошкой! Хватит! Надоело!
Подошел сентябрь. Дожди начались. Пришла пора копать картошку. Бабка уже две ходки сделала с тачкой. Вот я и говорю подружке:
– Галь, надо картошку выкопать. Давай сходим, ты себе накопаешь, я – себе.
Приходим, начинаем копать. Как копнем – ведро с куста. Картошка круглая, крупная. По два ведра набрали. А сколько мы на себе унесем? Говорю:
– Галька, копай сколько хочешь, а я больше не буду. Пойду отнесу.
– А я что, сильнее тебя? Я тоже пойду.
Только отошли немного, видим – неподалеку солдаты копают картошку. Галька и говорит:
– Подойди, попроси, может, они нам накопают? Пусть в бурт сложат, а мы потом перевезем. У бабки тачку возьмем. Посмотри, какая картошка – мыслимое ли дело оставлять такую в земле?
Я была в форме, три гайки в петлицах. Подхожу к старшему лейтенанту. Честь отдала. Говорю:
– Неудобно просить. Но не поможете ли нам выкопать картошку? Хоть немного. А то мы по два ведра нарыли, так ее еще надо в Лозовую отвезти. Потом тачку возьмем, перевезем потихоньку.
Лейтенант командует:
– Иванов, Петров, Сидоров – в распоряжение старшего лейтенанта.
Привели мы солдат на свой участок, показали, где копать. У них свои штык-лопаты. Сначала мы какое-то время посидели рядом, а потом говорим:
– Ребята, нам надо отнести эту картошку в Лозовую.
– А чего вы будете носить. Вон «студебеккер» придет, прогрузим и сбросим вас в Лозовой. Все равно мимо поедем.
Бойцы копают, а мы вываливаем ведра в бурт. Бурт уже огромный, а выкопана одна треть. Я предлагаю:
– Ребят, может, уже хватит? Вы устали – себе еще будете копать.
Солдаты отшучиваются:
– Командир отправил нас в ваше распоряжение. А вы поступили в наше.
Галя заерзала:
– Роза, мы чем расплачиваться будем?
– Так нам и не сказали, что надо платить! Откуда у нас деньги? Скажем спасибо – и все.
Мы уже к тому времени и выбирать картошку перестали – устали. А у меня спина болела – уже тогда был травмирован позвоночник. Галька подошла опять к бойцам, постояла рядом и говорит:
– Ребята, вы не особо старайтесь. Нам же платить нечем.
– Договоримся, – отвечают. – Иди, не мешай!
Галя опять ко мне:
– Роза, нам плохо придется. Их четверо. Как бы они нас не изнасиловали.
Я не поверила:
– Если кричать начнем, то рядом копают – услышат. Они побоятся. Им же служить.
Галя возмутилась:
– Тебе так картошка нужна? Ну и оставайся, а я пойду.
– Иди. Тебе же в ночь. Они сказали, что «студебеккером» довезут. Так ты свою картошку рядом сложи, а я привезу.
Галька ушла. Ей в ночь, она на Конградском направлении диспетчером работала. А я осталась и думаю: «Не может быть, чтобы они вчетвером на одну набросились».
А спать хочу. Чтоб не заснуть, беру ботву и лицо ею тру – она ж влажная. Пить хочу, есть хочу. А ничего нет. Решила пойти к лейтенанту – спросить, нет ли воды с собой. Лейтенантик был белобрысый, с раскосыми глазами. Подхожу:
– Извини, но вашим ребятам пить хочется, может, я хоть кружку воды им отнесу?
– Там бочка стоит, – показал лейтенант. – Бери.
Смотрю – и впрямь бочка с чистой водой. Первую кружку сама выпила, вторую им отнесла. А солдаты, оказывается, уже два раза сами бегали пить. Отошла я на свою горку. Умылась немного. Свернулась в калачик в бурьяне – у кого-то такой же, как у меня вырос. И уснула. Проснулась от того, что кто-то меня тормошит:
– Девочка! Девочка!
Открываю глаза – пожилой мужчина стоит:
– Ты чего тут разлеглась?
– Так мне картошку солдаты копают.
– Это тебе? Тогда вставай! Машина приехала.
Оказалось, это водитель. Картошки накопали двадцать два мешка. В каждом – по три-четыре ведра. Мешки мне водитель дал и предостерег:
– Ты, девочка, так больше не делай, – наверное, знал: солдат есть солдат. И один ушлый среди многих порядочных всегда найдется.
– Ой, дядечка, да я с суток. А тут огород.
– А зачем тебе столько картошки? – спрашивает.
– А у меня сестра в Харькове голодает страшно.
– Что у нее – семья большая?
– Небольшая. Но они в оккупации были. Теперь бедно живут. С работой плохо. Пайки не дают.
Пошли мы к машине. Нашу картошку уже затарили. Подъехали к Лозовой, они сгружают мои двадцать два мешка. А бабка бегает вокруг, квохчет:
– Сюда сгружайте, поближе к клуне тащите. Розка, как же ты выдержала?
– Бабка, дай пожрать что-нибудь, – прошу. – Умираю, как жрать охота.
А солдаты спрашивают:
– Что ж ты нам не сказала? У нас же с собой пайки были.
Наутро, когда пришла на работу, передала с нашего ВЧ на телеграф телеграмму: «Володя. Приезжай картошкой. Двадцать мешков картошки увезете». Два мешка я решила оставить себе. Груня телеграмму получила, всполошилась:
– Какие двадцать мешков? Он что, на себе повезет?
Володя с работы пришел, прочел текст, успокоил:
– Ничего, она на паровозе меня добросит.
Так и вышло. На тачке в несколько рейсов доставил он картошку на станцию к водокачке.
– У меня еще один мешок есть. Может, мы угля наберем? – спросил меня Володя.
– Не сейчас, а когда будешь ехать, машиниста попросим. Кто откажет?
– Роза. Если можно! А то ведь нам и взять негде. На пути пойдешь, там нерусские черти стреляют в упор. Охрана.
– Володя, не беспокойся. Надо будет два мешка, дадут два.
Я только заступила. Коля Коротков согласился меня подменить. У него картошка возле дома росла. Тоже три мешка накопал. Земля там такая – чернозем – плюнь, и все растет. Все знали про Груню, про зятя. Я сама подошла к машинистам, попросила забросить картошку на тендер и дать пару мешков угля.
– Сколько тебе угля? – переспросили они Володю.
– Пару мешков.
– А пять не возьмешь? Мы тебе пять дадим.
– Спасибо, я Розе скажу, – растрогался Володя.
– Она у нас Роза Соломоновна, – поправили его машинисты.
– Да она ж еще маленькая!
– Эта маленькая так задаст жару, что впереди паровоза бежим.
Володя только сожалел тогда, что не догадался взять пару бутылок самогона – машинистов отблагодарить.
В жизни, как известно, грустное и смешное порой соседствуют так близко, что отделить одно от другого нельзя. Один такой случай произошел со мной в период работы на Лозовой. На право занятия перегона мне нужен был ключ-жезл с соседней станции, а до нее – три километра. Для молодой девушки – не расстояние. Я и побежала. А дежурный той станции бежал мне навстречу. Встретились на полпути, передал он мне ключ. А сам как-то встревоженно на меня смотрит, но не говорит, в чем дело. А все пытается меня другим путем назад направить: по тропинке, а не по шпалам. Я, ничего не подозревая, поворачиваю голову направо и вижу: вдоль леса бежит волк, здоровый, матерый. Сердце оборвалось: что делать?
Дежурный успокоил:
– Сейчас добегу, позвоню, чтоб за тобой прислали маневровый паровоз.
Он бегом на свою станцию, я – в Лозовую. Я бегу – волк бежит. Я останавливаюсь – волк останавливается. И уже на границе станции вижу: едет мне навстречу «овечка», паровозик маневровый. Я обрадовалась: «Если они успеют, то успеют. Они же не могут не видеть волка. Да и дежурный должен передать про волка».
И тут машинист сделал глупость – дал оповестительный длинный сигнал. Волк мог кинуться в мою сторону, и тогда бы мне несдобровать. Но он бросился в лес. А я стою и не могу сделать ни шага. Опустилась на рельсы, сижу. Подбегают ко мне машинист с кочегаром, подхватывают меня и затаскивают на паровоз.
– А як бы вин на мене прыгнул? – выговаривала я потом машинисту.
– Розочка, я уж потом понял, что сделал глупость. Но у нас были лопаты и лом, мы бы не дали тебя съесть.
Окончательно оправилась я от шока уже в диспетчерской, когда отправила поезд в направлении Сахновщины, для которого жезл брала, и разревелась. Дежурный, чтобы отвлечь меня, спрашивает:
– Что ж ты такая бледная? Может, голодная?
– Не, – отвечаю.
– А я и бачу: у тебя в руках лепеха да картохи.
А в руках у меня правда оказались зажаты лепешка и две картошины, которые мне дал тот дежурный вместе с жезлом. Вот и думай, смеяться мне или плакать от того происшествия?
Глава 15 Не было бы счастья…
Я Кагановичу, наркому путей сообщения, благодарна за многое. Это ведь благодаря ему появился первый краткосрочный институт для железнодорожников в Люботино под Харьковом, где я получила специальность инженера службы движения первого ранга. Один только выпуск и состоялся. Железнодорожники всегда были малограмотными. Четыре-пять классов образования. Десятилетка – уже много. А Каганович еще и техникумы железнодорожные открыл – в Днепропетровске, например, в Харькове и под Харьковом.
Я Кагановичу благодарна и за то, что в 1943 году, когда форма старая у всех поизносилась, выдали железнодорожникам новую: девчатам юбки и китель, мужчинам рубашки, брюки и ремни. А то ведь до того дошло, что идет впереди машинист, а у него задница голая – штаны разлезлись. Кто похихикает, а кто посочувствует.
И вот еще до того, как новую форму нам получить, собирают нас в Харькове на партийно-комсомольскую конференцию. Выходит на сцену девица. Кожаные сапожки. Юбочка до середины колена, китель ладный. И кубанка лихо заломлена. Я на нее глянула, и такое зло меня взяло: мы ходим в кирзовых сапогах, портянок нет, носков нет.
«Вот б…дь, – думаю. – Она спит с командирами и как картинка. А мы в чем ходим?»
А девица соловьем заливалась: мы, комсомольцы, мол, должны то, должны это, подавать пример…
– Кто еще хочет выступить? – спрашивают из президиума.
«Эх, была не была!» – думаю и кричу:
– Можно мне?
– Проходите!
– А я с места, можно?
И пока все во мне кипит, с места в карьер начинаю:
– Станция Лозовая, Эпштейн Роза Соломоновна, секретарь комсомольской организации отделения ТН-2. Как приятно было смотреть на выступавшую до меня. Дивитесь, девчата, ибо нет у вас таких сапожек красивейших и одежки такой. Стояла як картиночка. А ее бы в Лозовую к нам. От бы она выглядела! Но она бы и там, наверное, сумела бы выглядеть так.
Понеслась у меня смесь украинского с русским. Девки потом сказали: ты только по-еврейски не говорила. А я продолжаю:
– Вот мне сказали: выдь на сцену. Ну як я пиду на сцену в кирзовых сапогах? Воны ж хлюпают. Портянок не дают. Форма – ось бачте яка. Шинелька – тэ ж така. Як на рынок пидешь, хочешь купить шо себе, а бабы сразу спрячут – думают, милиция идет. От так мы живемо. Еще и лозунги кидаем, что нужно нравственность блюсти.
Девка та с места заверещала:
– Я не говорила слово «нравственность»!
– Не говорила, потому что ты его не знаешь. Если б ты это слово знала, ты бы перед нами не красовалась так – застеснялась. Не я тебя, а ты меня должна стесняться.
Девки меня тянут за хлястик:
– Хватит, а то посадят.
А я была так горда, что ее осадила. Надо же – она при штабе кем-то работала. Тому даст – сапожки получила, другому даст – форму получила.
Так что спасибо Кагановичу, что в том тяжелейшем 1943 году нашли возможность нам форму новую выдать. Звонят со склада, говорят: приходите и подбирайте по размеру. Мы были в эйфории. Девчонки юбку пошире выбирали, чтоб складки заложить. Я шить никогда не умела. Взяла что дали. Но мне соседка квартирной хозяйки помогла. И складки на юбке сделала, и китель подогнала.
В конце 1944 года перевели меня на станцию «Харьков-Сортировочный» диспетчером воинских перевозок. Первое время у Груни жила. В одиннадцатиметровой комнате ютились сестра с мужем и дочкой и я. Понимая, насколько стесняю я семью Груни и сочувствуя их бедственному положению, помогала, чем могла, отдавала и половину своей зарплаты. В это время в Харьков направили Зиновия, того самого Зямку, что жил в нашей семье, пока учился в школе, и тоже носил фамилию Эпштейн. Направили его главным инженером на танковоремонтный завод, где работал Володя, Грунин муж. А завод этот, как и танкостроительный, обслуживала наша станция. И вот этот Зиновий однажды приходит к нашему начальнику отделения просить под погрузку танков 60-тонные платформы.
Начальник отделения полковник Колесников вызывает меня. А кузен мой у него в кабинете сидел вполоборота к двери. Колесников спрашивает:
– Можем мы дать эти платформы?
– Выбили только две, – отвечаю.
А через «Харьков-Сортировочный» шли регулировочные составы под погрузку угля на Донбасс и руды – на Кривой Рог. Но мы не имели права взять оттуда 60-тонную платформу. И вдруг Колесникова озаряет: он разговаривает с Эпштейном Зиновием Соломоновичем, а диспетчер – Эпштейн Роза Соломоновна. Не родственники ли? И спрашивает Зиновия:
– А вы не знакомы?
Тот посмотрел на меня:
– Нет, не знакомы.
А я его узнала. Он походил на моего отца.
– А мне кажется, родственники, – говорю. – Я дочь Соломона Борисовича Эпштейна.
– Ты Феня? – удивился Зиновий.
– Нет, я Роза.
– Роза была маленькой девочкой.
– Была, – улыбнулась я, вспомнив анекдот: «“Гапка, чего ж ты говорила, что ты девка? А ты не девка!” – спрашивает парень девку после первой ночи. “Да ты что? – удивляется Гапка. – А была! Ей богу, была!”»
Колесников снова пытает:
– Так родственники или нет?
– Это мой двоюродный брат, – утверждаю я. – Вы же в Москве учились в танковой академии?
– Правда, было.
Это «была» и «было» Колесникова рассмешили.
– Давайте по-родственному разберитесь, Роза Соломоновна, – решает он.
– Какие тут родственные связи, товарищ полковник, когда я с регулировки ничего не могу взять? А порожних шестидесятитонников нет.
– Разберись, найдешь для родственника!
– У мене такой родни богато. Дэ ж тильки усим возьмешь? Немае вагонов!
Выхожу из кабинета, а Зямка за мной:
– Роз, а ты как тут оказалась?
– Да так же, как и ты.
– Ну, меня после фронта главным инженером сюда направили.
– А знаешь, кто на этом заводе работает и здесь живет? Груня.
– Да ты что? – удивляется Зиновий.
А Груня приходилась двоюродной сестрой и ему, и Маньке, его жене. Я рассказала кузену про то, как сестра пережила оккупацию, как они голодают. Володьку приняли в чернорабочие, хоть он и инженер-электрик с высшим образованием, Груньку отправили в бухгалтерию в какой-то цех. Я езжу в Лозовую, где служила, когда выпадают два выходных, за картошкой. Привезу ей два ведра, и это все, что могу. Хлеба у меня пайка 800 граммов. Только самой хватает, если еще Светочке кусочек дам.
– Зиновий, если можешь, помоги им, – прошу.
Он достает из кармана 300 рублей трешками:
– Дай ей на первый случай. А я попробую что-нибудь сделать с пайками. Я ж паек получаю. А Маня отправляет половину своего пайка сестрам. Они из эвакуации в Москву вернулись и тоже голодают.
– Будешь Груньке помогать – будешь с вагонами, – предлагаю. – Зяма, я в отчаянии. Как помочь Груне?
– Что-нибудь придумаем. Я Марии сегодня же скажу, – пообещал Зиновий.
Короче, две платформы я еще ему достала. Две у меня было. То есть четыре платформы с автосцепкой под четыре танка подала.
Через какое-то время Зиновий мне позвонил:
– Роза, тебя ждет Мария. Ты как завтра работаешь?
– В ночь.
– Тогда днем к ней сможешь зайти? Пиши адрес.
У него в Харькове была роскошная трехкомнатная квартира. Когда я собралась идти, Грунька сказала, что ничем он не поможет:
– Он же знал, что я тут живу. Ему говорили.
Я предложила вдвоем пойти к Маньке. Но Груня отказалась. Прихожу в роскошную крупногабаритную квартиру. Манька сразу начинает жаловаться:
– Как я замучилась тереть и мыть эти стены, полы, потолки. Я все сама убираю. Сейчас люди хоть и голодают, а домработницу не найти. Да и опасно, если узнают – Зяма партбилет может положить. Роз, а ты мне поможешь? Окна помоешь?
А я ей про бедственное положение Груни рассказываю и плачу.
– Что ты так расстраиваешься? Поможем, – обещает Маня.
– Маня, я завтра с ночи приду и помогу тебе окна помыть, – воодушевляюсь я.
Когда утром пришла, у нее все было наготове: ведра, тряпки, газеты.
А окна высоко – на табуретку надо вставать. Но Маня принесла от соседки лестницу. Я два окна вымыла до блеска. И когда мыла, увидела за одной дверью целые штабеля банок тушенки, а за другой – брикеты каши. Меня с утра Маня покормила завтраком – фасолью с томатом. А обедать, пообещала, будем днем. Убедившись, что никто не видит, я взяла одну литровую банку тушенки и выбросила в окно. Внимательно посмотрела, куда она закатилась. Обеда не дождалась. А перед уходом напомнила Маньке:
– Ты там обещала что-то Груне дать.
Она дает мне две двухсотграммовые баночки свиной американской тушенки.
– Мария, не заставляй меня воровать. Не пожалей еще каши! – набралась я наглости.
– Ну, возьми там за дверью пару брикетов.
Я штук шесть взяла и добавила еще две банки тушенки. Все в газеты завернула. А как вышла, сразу под окна кинулась, искать большую банку. Все облазила – не нашла. Хотя окно, в которое кидала, пометила снаружи красной тряпкой.
Теперь понимаю: никогда нельзя лукавить с Богом, нельзя воровать. Груньке об этом решила не рассказывать, чтобы не расстраивать. Сестра радовалась:
– Какое же это богатство! Я на супы растяну надолго. Вон сколько сала в банках!
– Володя придет со смены, свари ему с салом картошки.
Володька то пюре жидкое, салом приправленное, ел – за ушами трещало. Я ему рассказала про потерю. Так он меня матом крыл еще долго. На следующий раз я домыла Маньке третье окно – в кухне, натерла паркет. Она еще меня поучала, как правильно. Представляете, каково это в трех комнатах полы надраить, да еще после ночной смены?!
Много лет спустя, уже из Волжского, собиралась я как-то в командировку в Вильнюс, где Зиновий с Марией в то время жили. Белла предложила узнать его адрес. А я рассказала ей про ту давнюю историю. Ох как она возмущалась:
– А ведь он жил у нас! Его ж, говорят, не прокормить было. Маруська (помощница из деревни) криком кричала: «Зямка, як придет, все сожрет, сволочь!»
Со станции «Харьков-Сортировочный» в Лозовую я при возможности ездила за провизией. Бывшая квартирная хозяйка картошки мне даст, не очень хорошей, конечно, но и на том, спасибо! Соседи принесут: кто початки кукурузы, кто молотую, кто зерна какого. Все брала, чтоб Груне помочь. А у меня билет служебный был в мягком вагоне, в пятом. На перрон приду, дежурный по станции увидит:
– Ой, Роза Соломоновна приехала.
– Помоги сесть, – прошу. Глядь – а пятый вагон закрыт. Тогда я встала на ступеньки, думаю: поезд пойдет, проводница и откроет дверь.
Мне бы дежурным сказать: ребята, доведите до паровоза, на паровозе поеду. Не догадалась. А ноябрь. Руки застыли. Но держусь. Впереди меня узлы – чувалы с картошкой и всем, что набрала. Причем состав идет через «Харьков-Сортировочный», и диспетчер обещал притормозить там, чтоб я спрыгнула. А на подножке другого вагона тоже ехала женщина с картошкой. Я в шинели, она – в темно-синем пальто. Едем-едем, я стучу – никто не открывает. Она тоже стучит – не открывают. Промерзла я насквозь – ветер ледяной. Но не прыгнешь же на ходу! А поезд идет без остановки несколько станций. Вдруг с крыши вагона свешивается здоровая такая ряха и требует:
– Давай твой сидор!
– Как я тебе его подам? Ты что, с ума сошел?
А парень угрожает:
– Давай, а то убью.
Я говорю:
– Попробуй только, увидишь, что будет.
И женщину успокаиваю:
– Не бойтесь – он только пугает.
Приехали на станцию, остановились. Мы с попутчицей спрыгнули. Смотрим на крышу.
И в это время открывается дверь пятого вагона. Я – к проводнице:
– Ах ты, тварь такая! Ты почему не открыла, не пустила меня?
Показываю ей служебный билет.
– Ну, погоди, работать проводником ты больше не будешь. Вот приеду в Харьков, сразу к начальнику пассажирской службы. Найдут тебя.
А проводница оправдывается:
– Ну чего ты? Знаешь сколько хулиганов! Забежит – а у меня начальство едет. Я не могла открыть.
Глава 16 Они сражались за Родину
Есть в румынском городе Топлица (область Трансильвания) в одном из скверов мемориал. Словно солдаты в строю, встали в ряд серые гранитные обелиски. На одном из них надпись на русском: «Гвардии старший лейтенант медицинской службы Эпштейн Раиса Соломоновна. 1944».
А в моей комнате на стене – фотография сестры, красивой молодой девушки в гимнастерке. Волнистые русые волосы, счастливая улыбка, лучистый взгляд карих глаз. Раечка – это моя вечная боль. Я храню, как реликвию, и ту фотографию, где Рая запечатлена с однополчанами из 42-й гвардейской стрелковой орденов Богдана Хмельницкого и Красного Знамени Прилукской дивизии – военврачами и офицерами разведки. Один из них, статный красивый майор, застыл позади счастливо улыбающейся девушки с погонами старшего лейтенанта. Это фронтовой муж Раечки Зима И. П. Именно так, инициалами, обозначал он себя и в своих посланиях. На обратной стороне своего фото подписал: «Защитнице земли русской Рае от И. П.»
Любил ли Иван Зима ее? А разве можно было не любить мою сестренку, такую обаятельную и жизнерадостную? Сослуживцы мне рассказывали, что Рая бралась за любые операции. И когда другие хирурги отказывались, она отвечала: «Сделаем». Работала словно устали не знала. Медсестра Зинаида Сироткина, которая ей ассистировала, бывало, скажет:
– Раиса Соломоновна, ну зачем нам опять пять часов на ногах стоять? Сутки ведь без отдыха!
– Затем, чтобы людей спасать, а не за своим здоровьем следить, – отвечала Рая.
Другая сослуживица – медсестра Лида Раппопорт вспоминала:
«Когда наша дивизия шла через Южные Карпаты, все умирали от нехватки кислорода. Дышать нечем, есть нечего. Перевязочных материалов не хватает. Такие тяжелейшие условия, а Рае хоть бы что – ходит между ранеными, каждому доброе слово скажет, пошутит:
– У тебя невеста будет голубоглазая.
– Так надо ж дожить! – отвечает боец.
– Доживем. Обязательно доживем. И на свадьбе попляшем. Ты знаешь, как я умею плясать? Даже барыню.
Мы удивлялись Райке. Надо же, барыню собирается плясать, когда нет сил даже жить».
А на самом деле Рая чувствовала то же, что и все. В одном из писем она мне писала: «Розочка, когда у нас был переход через Карпаты, я думала, что это последние дни моей жизни».
С медсестрой Сироткиной я встречалась в 1945-м уже после гибели Раи. Встреча на вокзале вышла недолгой. В Харькове Зинаида была проездом, о чем известила меня телеграммой. Но меня задержали обстоятельства – вызвали в канцелярию округа, стенографировать прием чешского короля Михая. Он начальнику округа тогда матриссу подарил – передвижную железнодорожную скоростную единицу, отделанную с королевской роскошью. На ней только Кривонос ездил, начальник Донецкого округа, бывший машинист, который вторым после Стаханова рекорд поставил – провел тяжеловесный двойной состав.
В общем, когда я добралась до вокзала, до отправления поезда у Сироткиной оставалось двадцать минут. Я спросила Зинаиду, кто посылает отцу по аттестату 800 рублей? Рая, пока жива была, высылала 400. Но ее больше нет, а деньги приходили, да еще вдвое больше.
– Да Ванька, наверное, – ответила Зинаида.
Эту версию чуть позже подтвердила и другая сослуживица Раи – Лида Раппопорт.
Иван Зима находился на задании, когда Раиса погибла и когда ее хоронили. А вернувшись, спросил как-то буднично:
– Что, Раиса погибла? – словно речь шла о совершенно постороннем для него человеке.
А на расспросы сослуживцев: «Почему так спокоен?» отвечал: «Война есть война».
И хоть не давал Иван выхода своим эмоциям, видимо, эта трагедия не прошла для него бесследно, раз взял на себя участие в судьбе нашей семьи. Знал, как Рая переживала за своих близких, за меня. Рая всегда просила врачей, которые ехали через Харьков: «Поучаствуйте в судьбе Розы». В письмах мне писала: «Надеюсь, что у тебя такие же скромные подружки, какие были до войны?»
Иван Зима тоже написал мне после гибели Раечки и предложил встретиться. Но, посмотрев на фото красивого офицера со звездой Героя Советского Союза на груди, я отбросила снимок и не ответила на письмо. Не смогла простить того, как равнодушно воспринял он гибель сестры.
Подробности того нелепого трагического случая я узнала от Лиды Раппопорт и ее мужа Константина, на руках которого умирала Раечка.
…Это случилось 12 октября 1944 года на территории области Трансильвания в Румынии. Разведчики захватили немецкого генерала. Когда доложили об этом в штаб армии, пришел приказ срочно доставить пленного самолетом в Бухарест.
Раисе, хорошо владеющей немецким языком, предстояло сопроводить генерала до самолета.
Перед поездкой немец попросил его побрить. А у парикмахера, которого к нему пригласили, не оказалось безопасной бритвы. Намылив пеной лицо клиента, цирюльник начал брить. И в это время генерал перехватил его руку с опасной бритвой и полоснул лезвием себе по горлу. Кровь хлынула фонтаном. Этого Рая не видела. Ее привезли, когда Сироткина уже остановила кровотечение.
– Трахея перерезана, – доложила она.
Рая осмотрела пациента, размотав бинты, похвалила медсестру и дала большую дозу наркоза. Операция предстояла сложная, важно было не только жизнь генералу сохранить, но и связки, что б он смог говорить.
Сироткина вспоминала:
– Рая сделала уникальную операцию. Руки у нее были золотые. Она чувствовала кончиками пальцев жизненную нить. Чувствовала, сможет вернуть пациента к жизни или нет. Мы все затаили дыхание.
Это был адский труд – операция длилась четыре часа. Вот как это запомнилось Лиде Раппопорт:
– Мы просто рядом стояли и то падали от усталости. А она делала сложнейшую операцию. Мы на нее смотрели, как на божество. Ассистировала ей одна Сироткина.
После операции немец захрипел.
– Рая, сможет он говорить? – спросил подъехавший в это время генерал из штаба нашей дивизии.
– Сможет! – заверила Раиса.
– Но ты довезешь его до аэродрома. Погрузите его в самолет. А там пусть он хоть сдохнет – мы за него уже не будем отвечать, – распорядился представитель командования.
– На машине его везти нельзя. От тряски кровотечение откроется, – предупредила Рая.
Решили транспортировать в повозке, запряженной парой лошадей. Навалили побольше сена. Накрыли стерильными простынями и уложили немца. Впереди – возница. Рая села рядом с раненым и, наклонившись к нему, о чем-то разговаривала с ним по-немецки. Позади находились Сироткина и автоматчик. Ехали медленно, но Рая периодически притормаживала возницу, поскольку размытая осенними дождями дорога была вся в колдобинах. Тогда тот спрыгивал с повозки и вел лошадей за поводья. А вдоль дороги по обе стороны таблички понатыканы: «Осторожно, мины!» Это наши саперы предупреждения понаставили. Ничто не предвещало трагедии. Как вдруг навстречу выехала колонна мотоциклов. Треск моторов буквально взорвал осеннюю тишину, и лошади, испугавшись, понеслись прямо на минное поле. Всего в сорока метрах от дороги прогремел взрыв. Раю подбросило в воздух и со всего маху ударило об землю. Генерала разорвало в клочья, автоматчика и возницу – тоже. Военврач Константин, сопровождавший повозку на машине, прополз эти сорок метров по минному полю до места, где лежала Рая. Она была еще в сознании и тихо прошептала:
– Костя! Никакой операции – у меня все отбито.
Он выполз назад по своему следу и вытащил на себе уже терявшую сознание Раю. Все время по пути в ближайший населенный пункт – а это был городок Топлица – Константин держал Раечку на руках и молил Бога, чтобы она выжила. Но через два часа моей сестренки не стало. В свидетельстве о ее смерти скупые строки заключения: «Общая тяжелая контузия с внутренним кровоизлиянием, несовместимая с жизнью».
В отличие от Раечки, братьев моих смерть обошла стороной. Все трое дошли до Берлина и вернулись живыми. Где и на каких фронтах воевал Леонид, о том не знали даже мы, самые близкие. В армейских хрониках мне удалось найти упоминание фамилии полкового комиссара Л. С. Эпштейна. О нем ли шла речь? На послевоенном фото Леня запечатлен в военной форме с погонами полковника без эмблемы рода войск. На груди – фронтовые награды: ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Красной Звезды и орден Ленина и довоенные: орден Красного Знамени и медаль «ХХ лет РККА». Правда, очередное звание генерал-майора брат по каким-то причинам так и не получил. Вероятно, по-прежнему его личность в определенных кругах вызывала политическое недоверие. Но это только мои догадки. Ничего не знали мы и о реальной миссии Леонида на дипломатическом поприще.
Санька ушел на фронт с третьего курса юридического института, не успев сдать последнюю сессию. Это и определило выбор его будущей профессии – Родину защищать. За годы войны Исай дослужился до командира полка артиллерии. Пройдя пол-Европы, из каждой освобожденной столицы присылал он мне, своей любимой сестренке, свое фото на фоне исторических памятников. На последнем – из Вены – китель широко улыбающегося брата украшают три ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны II степени. Всего несколько дней отделяют Исая на этом снимке от получения ордена – Отечественной войны I степени и четвертого ордена Красной Звезды.
Это случилось в 1945-м на территории Австрии. Часть полка под командованием моего брата вместе с артиллерийскими орудиями попала в окружение. Что делать? А из штаба армии передают приказ: «Майор Эпштейн, верни артиллерию!»
Как вернуть, если они окружены? Исай оценил ситуацию и принял решение. Скомандовал:
– Надеть всем плащ-палатки! Приготовиться к прорыву!
На первую машину командир водрузил какой-то флаг – он нашел его на земле. И пояснил:
– Мы под этим флагом на большой скорости рванем к нашим. Пока немцы очухаются, мы уже проскочим. Главное, чтоб наши стрелять не начали. Поэтому, как только через немцев прорвемся, снимайте флаг.
Немцы действительно пропустили транспортную колонну с орудиями под этим флагом, потому что в составе немецкой армии были и соединения союзников: мадьяр, румын, итальянцев и т. д. А через некоторое время вызывают брата в штаб, а там, в углу, он видит знакомый флаг.
– Вот твой трофей, можешь забирать, – говорят ему.
– Та на грэт свиной он мене трэба? А шо за флаг? – интересуется Исай.
– Флаг бельгийской королевы.
– Да ну? О то ж надо такое!
Посмеялись все. А потом начальник штаба говорит:
– За то, что ты вернул артиллерию, тебя к ордену представили.
Так получил Исай орден Отечественной войны I степени. А ордена Красной Звезды, как известно, офицерам давались за личные подвиги, за пролитую в бою кровь. Последний из четырех орденов для брата мог стать посмертным, если бы…
Это тоже случилось на территории Австрии в самом конце войны. Когда раненного в живот осколком снаряда командира бойцы несли на плащ-палатке в госпиталь, он, зажимая рваную рану, буквально в руках держал свой желудок. По счастью, госпиталь оказался неподалеку, а там дежурил хирург-гастроэнтеролог. Морщась от боли, Исай попытался шутить:
– Что – сразу на стол? Может, дашь отдохнуть немножко?
Хирург был немногословен:
– Нет!
– А попить дашь?
– Нет!
– Пить не дашь? Ребята, несите меня обратно! – скомандовал, уже почти теряя сознание, Исай. Бойцы в полной растерянности переводили взгляды с командира на доктора. Тот решительно заявил:
– Здесь командую я. Быстро несите вон в ту палату. Дверь открывайте. Кладите.
Исай думал, что его положат на кровать. Оказалось, внесли в операционную и положили на стол. А хирург уже моет руки и говорит:
– Давай знакомиться. И рассказывай, как это тебя угораздило?
– Дай глоток воды – все расскажу, – взмолился Исай.
– Я тебе обещаю, после того, как с тобой повожусь, дам тебе бутылочку боржоми, если пить будешь по глоточку.
Операция прошла успешно, но не бесследно для Исая. Желудок и раньше был его слабым местом. Петька, ординарец, зная про больной желудок командира, всегда доставал для него минеральную воду. Брат шутил:
– У Чапая был Петька, и у меня такой же.
С минеральной водой связан один не очень приятный для Исая инцидент. Он произошел в марте 1944 года, когда наши войска, освобождая от захватчиков территорию Украины, форсировали реку Южный Буг. На одном из участков реки за организацию переправы отвечала часть, которой командовал мой брат. Исай рассказывал мне, как сложно было навести понтонный мост – мешали быстрое течение в этом месте и беспрестанные налеты вражеской авиации. Решение оказалось под поверхностью воды – установив понтоны под водой, наши сумели скрыть переправу от противника. Брат сидел в своей штабной землянке, когда в нее ворвался какой-то генерал и сразу на повышенных тонах стал требовать срочно переправить на другой берег его часть. Исай спокойно попытался объяснить, что у него есть приказ высшего командования, какие части и в каком порядке необходимо переправлять, а без приказа он никого переправить не может. На столе перед ним стояла бутылка с нарзаном. Увидев ее, генерал рассвирепел:
– Нам надо срочно на тот берег, а ты, сволочь, тут водку пьешь сидишь! Да я тебя сейчас сам – к высшей мере!
Он выхватил револьвер и уже взвел курок, когда Исай, схватив бутылку с водой, швырнул ее в генерала. Тот получил сотрясение мозга, а Эпштейна посадили под арест до выяснения. На допросе генерал заявил, что это майор выхватил у него револьвер и хотел в него выстрелить. Но свидетели не подтвердили эту версию. Отпечатков пальцев Исая на оружии подполковника не обнаружили. К тому же у брата, как у всякого командира, имелся свой пистолет, из которого он бы и выстрелил, если б хотел. Приезжал туда и командующий дивизией. Тот, когда ему рассказали о происшествии, пошутил:
– Нечего разбрасываться нарзаном. Посмотрите, может, у майора найдется лишняя бутылка – я тоже люблю минералку. Додумался тоже – в такую падаль бросать бутылки.
Борис тоже воевал и был ранен. В госпитале в Конотопе хирург посмотрел его и поинтересовался:
– Эпштейн? А у тебя нет сестры Раи?
– Есть. Раца на фронте.
Он Раю почему-то Рацей звал.
– Не Раца, а Раиса Соломоновна, – поправил врач.
– Это и есть моя сестра. А я Борис Соломонович.
В общем, убедил доктора, что он брат Раечки.
А ему в госпиталь прислал письмо командир части. Мол, если сможешь, просись обратно в свою часть, а мы тебе обеспечим условия, чтобы смог дослужить до конца войны. Война уже шла к концу. Боря и стал проситься назад в воинскую часть. А ему говорят: ты свое уже отвоевал! Тогда он за поддержкой – к тому врачу, который вместе с Раей работал. Добился-таки возвращения в часть. Там и дослужил до конца войны.
Глава 17 На круги своя
Мужа Беллы по возвращении из Швеции долго проверяли. Тем, кто побывал в плену или был интернирован, как правило, не разрешали жить в областных городах. Соболеву же после проверки даже вернули его довоенное жилье – деревянный флигель во дворе МИИТа (Московский институт инженеров транспорта), как он писал на конвертах. Но пенсию по инвалидности как участнику войны не назначили, а работать Анатолий Михайлович больше не мог по состоянию здоровья – из-за простреленного легкого. Но ум, интеллект, понимание происходящего – все это сохранилось. И каково было жить с этим пониманием человеку? Осознавать, что он больше не опора, не глава семьи, поскольку материальное благополучие теперь держится на хрупких плечах его жены. Белла по возвращении в Москву снова пошла работать в Метрострой инженером. Уходила рано, возвращалась затемно. Работы было много. Проблем тоже. По ее предложению пригласили для консультации специалистов из Венгрии, чтобы избежать вибрации почвы и строений в тех местах, где прокладывалась подземка. Возвращаясь, измотанная за день Белла не пыталась объяснить мужу причин своей задержки. А он бешено ревновал ее, начинал обвинять:
– Ты гуляешь! Любовника завела.
Белла в ответ огрызалась и продолжала жить своей жизнью, в которой не было места переживаниям и страданиям Анатолия.
Когда Белла получила вызов в Москву, она взяла с собой Гальку, потому что они меж собой очень дружили. И стала Галька жить у Соболевых. В это время в Москву вернулся наш старший брат Леня. Он получил квартиру в Москве и стал работать в Наркомате обороны. Леня устроил Гальку в отдел кадров какого-то завода и снял ей комнатушку, темную такую, узенькую, метров на десять, и платил за нее 700 рублей в месяц. Большие деньги по тем временам. А через некоторое время Леня Гальке сказал:
– Шагом марш в консерваторию! В этом году не поступишь, в следующем поступишь. Что ж ты вечно будешь в кадрах работать?
Галька послушалась. И ее с первого захода приняли. Помогли и документы об окончании двух курсов Киевской консерватории.
У Лени в это время была уже вторая семья. Первый брак с военным корреспондентом Кноповой, окончившей вместе с ним военно-политическую академию, распался довольно быстро. Вторая жена Маруся познакомилась с Леонидом, когда он еще был женат и жил в Минске. Маруся в то время училась на химфаке Минского университета. В отличие от первой жены, вторая красавицей не слыла, но подать себя умела. На фото, присланном нам, она запечатлена с розой в волосах, коса ниже пояса.
Родила Маруся Леониду двух дочерей: Галину и Веру. Все складывалось хорошо: квартира в Москве, престижная работа, но дало знать о себе подорванное за годы службы здоровье. Шалило сердце. Оказывается, первый инфаркт Леня перенес еще на фронте. Но отлеживаться в госпитале не стал – через четыре дня вернулся на службу.
Я встретилась с Леней зимой 1946 года, когда приезжала в Москву и останавливалась у Гальки. (Он Гальку опекал всю жизнь, как меня Исай.) Когда он пришел и увидел меня, то очень удивился:
– Ты – Розочка? Тебе было три годика, когда я приезжал домой из Средней Азии.
Действительно, в Сталино он приезжал в 1927 году, еще лейтенантом, когда мне было три года. И больше я его не видела. Помню только, что отец всегда страшно гордился Леней.
Наша встреча у Гальки происходила накануне отъезда Лени в санаторий на лечение. Он меня долго обо всем расспрашивал, в том числе и о работе на железной дороге. А потом дал Гальке тысячу рублей и военторговскую карточку:
– Купи сестре одежду.
Мы поехали в военторг на Калининском, купили мне черное платье тонкой шерсти с серым воротничком, туфли на каблучке. Помню, ноги в них на улице мерзли.
А еще Леня спросил меня:
– В какой театр ты хочешь пойти?
Я ответила:
– В еврейский.
– Ты знаешь еврейский язык? – удивился брат.
– Не знаю. Но там Меерхольд, Зускин.
– А почему не в Вахтангова? Не в МХАТ?
– Ты спросил, я ответила.
Тогда Леня меня предупредил:
– Ты не понимаешь по-еврейски, и я тебе не помощник, поэтому сиди тихо и не мешай старикам слушать и смотреть.
Мы смотрели «Тевье-молочника». Зускин играл Тевье. Я никого не беспокоила, но очень внимательно смотрела. Леня хоть что-то понимал и шепотом спрашивал:
– Тебе что-то пояснить?
Но мне и так все было понятно. И когда мы вернулись домой, я вся сияла. А Галька Леню расцеловала:
– Спасибо, что ты Розке удовольствие доставил.
Леня заметил, как я поджимала замерзшие в новых туфельках ноги, и на следующий день снова повез меня в военторг – купил мне теплые сапожки. И когда мы вышли на улицу, я с благодарностью воскликнула:
– Какой же у меня хороший брат! Ты не представляешь, как тепло и удобно мне в этих сапожках.
На обратном пути мы разговаривали обо всем. Леня прихрамывал, сказал, что повредил ногу в первые дни войны, неудачно приземлившись после прыжка с парашютом из самолета. Мне хотелось услышать о каких-то геройских подвигах брата, но он переводил разговор на другие темы. Помню, только обмолвился, что лично знал Абеля и Зорге.
Борис после демобилизации вернулся в Сталино. Там ему как инвалиду войны дали комнату. На работу устроился вахтером в управление Совнархоза. Как раз по нему – сидеть в теплом помещении, в вестибюле. А вот личная жизнь у Бори не сложилась. Познакомился с одной девушкой. Она окончила финансовый институт. Девчонка представила его родителям. И он им не понравился. Во-первых, Борька был некрасивый, с типично еврейским лицом. Во-вторых, родители воспротивились мезальянсу:
– У тебя высшее образование, а ты за вахтера замуж собралась?
Они все-таки поженились. У них родилась дочка. Но как только молодая жена сходит к родителям, возвращается змея змеей. Борис терпел, терпел эти скандалы и обвинения, что он неуч и вахтер. Пытался вразумить жену:
– Ты же знала, за кого замуж шла. Разве я что-то скрывал от тебя?
Жена парировала:
– Я думала, ты потом выйдешь в начальники.
Ну, он от нее и ушел. Оставил ей с дочкой комнату, которую получил как инвалид. А сам остался без жилья.
Не повезло с жильем и нашему отцу. Они с Бертой продолжали жить в подвале и спать на раскладушках. А очередь на комнату все не подходила.
– Роза, мне не светит жилье. Они мне его никогда не дадут, – посетовал мне отец, когда я приехала их навестить.
У отца были основания так думать после одного инцидента, произошедшего после возвращения из эвакуации. Шел он как-то по городу, сильно сдавший, плохо одетый. И встретился ему такой же старый коммунист, с которым вместе воевали в Гражданскую.
– Соломон, а что ты так одет плохо? – поинтересовался товарищ.
– А кто сейчас хорошо одет? – удивился отец.
– А ты приходи ко мне в подвал. Я тебя хорошо одену.
– В какой подвал? – заинтересовался отец.
Товарищ назвал ему адрес. Оказалось, что в тот подвал после войны привозили американскую гуманитарную помощь. И жены секретарей обкома, райкомов приходили туда и распаковывали, сортировали «подарки». Хорошее пальто себе забирали, а плохой воротник отпарывали и оставляли. Если воротник хороший, то забирали его. Нахапали себе много добра. А помощь предназначалась шахтерам. Все это рассказал тот старый коммунист, который работал в этом подвале.
– И как же ты с этим живешь? – спросил его отец.
– Так и живу. Вон трех котов завел – от крыс спасают. А на этих крысятниц и котов нет.
Отец ничего не взял из хранящегося здесь добра. Берта Абрамовна позднее тайком сходила в этот подвал и взяла ему там какие-то штаны и пиджак. Отец же, старый коммунист, позвал четырех таких же убежденных большевиков и, рассказав об увиденном, предложил:
– Идемте в обком партии и спросим: почему эти вещи не попадают в шахткомы?
Пришли в обком, а к первому секретарю их не пускают.
– По какому вопросу? – спрашивают.
– Есть у нас к нему вопрос, – отвечают старые большевики и достают свои партбилеты. Один в Компартии Украины с 1918 года, другой – с 1919-го, третий – с 1920-го. А женщина воевала вместе с Ковпаком и хорошо его знала. Тот после войны стал членом Верховного суда УССР, заместителем Председателя Президиума Верховного Совета УССР, членом Президиума. Она и предупредила:
– Если вы нас не пропустите, поеду к Ковпаку. Он меня примет.
В конце концов доложили первому секретарю обкома о делегации. Он выделил для визитеров десять минут, но слушал их полтора часа. Следствием этой беседы стало создание комиссии из представителей шахткомов. «Гуманитарку» стали распределять по шахтам и давать самым нуждающимся. Товарищ отца, который продолжал заведовать подвалом, рассказывал:
– Знаешь, Соломон, опустело все. Приходит представитель шахткома с постановлением, и я по этому постановлению предлагаю вещи, а он выбирает и забирает. И грузовиками в мешках отправляем все на шахту.
Другим следствием визита в обком стало то, что всех визитеров взяли на учет. Подходит очередь отца на жилье, а ему говорят: вы знаете, очередь-то ваша, но у нас есть семья туберкулезника. В другой раз вне очереди надо дать многодетной семье. И так до бесконечности. Пришла к отцу как-то та женщина, которая Ковпака лично знала, посмотрела комнатку и сказала:
– Ой, Соломон, як же ты живешь тут погано. А напишу-ка я про все это Ковпаку.
И написала.
К тому времени в личной жизни моего отца назрели большие перемены. Вернувшись из эвакуации в Киев, старшая дочь Берты Абрамовны приехала за ней и заявила:
– Ты двоих детей уже похоронила, иди хоть внуков спасай. Но что б Соломона твоего и близко не было. Если не вернешься – прокляну. Ты Соньку с Мишкой отправила умирать мученической смертью, так моих детей спаси.
И Берта уехала жить к дочери. Но гордый отец и виду не подал, как тяжело ему было.
Марьяня, дочь тети Фени, младшей из маминых сестер, которая потом уехала в Израиль, вернувшись с войны, обнаружила, что их двухкомнатную квартиру занимают две шлюхи – немецкие овчарки, как про них соседи сказали. Они, оказывается, выгнали тетю Феню на улицу, и она жила какое-то время в будке из-под газводы. Марьяня, узнав, что случилось, пошла к военкому и добилась, чтобы этих немецких овчарок выгнали.
А Зиновий после войны командовал дивизией. Их дивизия расформировывалась в Вильнюсе, потому что много местных удрало с немцами, и осталось много свободных квартир. Отдельное жилье мало кто имел. Но у Зиновия была трехкомнатная квартира. В одной комнате жил сын, в другой они с Манькой. А сын у них был приемный. Когда из Испании привезли осиротевших детей, то им достался болезненный замухрышка. Его под расписку отдали, что они вылечат мальчонку. Вылечили, вырастили Димку. А в третью комнату поселили комбата дивизии. Тот вначале от жилья отказался, поехал домой, а там его никто не ждал – жена, оказывается, уже замужем за другим. Вернувшись, комбат опоздал под распределение квартир. Вот Зиновий и предложил ему поселиться с ними – в третьей комнате.
Глава 18 Молодо – не зелено
Весной победного 1945 года мне было полных двадцать лет. И хотя война сделала нас взрослее, молодость все же брала свое. А молодости свойственны дерзость и излишняя самоуверенность. Потому я и не робела перед авторитетным начальством, если чувствовала свою правоту. Даже если говорить приходилось с самим Кагановичем, наркомом путей сообщения. У него, оказывается, была такая причуда – разговаривать с диспетчерами, с исполнителями. А потом он проверял у начальников отделения, в курсе они или нет.
Это случилось весной 1945 года, когда я работала на станции «Харьков-Сортировочный», где моя должность называлась «диспетчер воинских перевозок». Станция обслуживала два танковых завода: танкостроительный и танковоремонтный. Только я пришла на дежурство, и вдруг – длинный телефонный звонок. Беру трубку:
– Слушаю.
Телефонистка просит:
– Ответьте Москве.
– Чего это я буду отвечать Москве? Звоните начальству на два-один. Чего ты звонишь на два-одиннадцать?
А у нас в здании был ремонт. Поэтому в моей комнате кроме меня работал Коля Коротков на другом направлении. И вдруг слышу в трубке бархатистый голос с барскими интонациями:
– Харьков, здравствуйте.
– Харьков, – отвечаю. – Дежурный диспетчер воинских перевозок Эпштейн Роза Соломоновна.
– Здравствуйте, товарищ диспетчер. С вами говорит Каганович.
– Здравствуйте, Лазарь Моисеевич, слушаю вас.
Сказать, что я шибко испугалась – нет. Это же не генерал Кабанов, а нарком путей сообщения.
– Какие у вас трудности? – спрашивает нарком.
– Есть трудности. Можно открытым текстом? – уточняю.
– Можно.
А дальше у нас состоялся такой диалог:
– Мы обслуживаем два танковых завода. И катастрофически не хватает шестидесятитонных платформ на погрузку танков.
– Ваше предложение?
– Мы могли бы отцеплять с головы состава, потому что голова состава – автосцепочные вагоны, и заменять их.
Эти регулировочные составы и по сей день есть. И по сей день никто без начальника дороги не имеет права отцепить. Первая регулировка шла под уголь в Донбасс, вторая регулировка – под руду в Кривой Рог.
– И что, начальник дороги не может решить этот вопрос?
– Отцепку от регулировки имеет право решить только нарком путей сообщения.
– Вы ж говорите, можно заменить. Значит, по весу ничего регулировка не потеряет?
– Конечно. Поэтому мы и возмущаемся, что в стесненных обстоятельствах при обслуживании танковых заводов, когда бы могли это решить таким путем.
Сама говорю, а Коле Короткову показываю жестами: иди зови начальство.
– Понятно. Еще какие трудности? – доброжелательно расспрашивает Каганович.
– Есть еще трудности. У меня направление – станция Основа, а паровозы «ФД» и «ИС». «ФД» не вписываются в кривую, и нам приходится давать по четыре предупреждения о снижении скорости и бдительности, чтобы проехать до Основы. А составы идут и полновесные и полногрузные.
– И этот вопрос не может решить начальник дороги?
– Мы к нему не обращались. Я не знаю.
А происходил наш разговор в канун 1 мая.
– Как вы снабжаетесь? – поинтересовался нарком.
– Нормально. По карточной системе. Отовариваем карточки.
– Передайте привет всему коллективу и поздравление с наступающим Первомаем.
– От имени коллектива разрешите поздравить и вас, Лазарь Моисеевич! Здоровья вам.
– Спасибо, Роза Соломоновна.
Я повесила трубку, обернулась, и мне стало плохо. Стоят позади меня начальник отделения полковник Колесников и все его заместители, дежурные по отделению.
Я заплакала:
– Каганович спрашивал про трудности…
– Так, товарищи, разойдитесь! – скомандовал Колесников. – Ну, все правильно ты сказала. Особенно за шестидесятитонные платформы.
– Конечно, правильно. Потому что, как только надо подавать, где-нибудь находим эту платформу, а она груженая. Скорей-скорей под выгрузку, а они не сразу выгружают. Такая кутерьма.
– Все правильно, успокойся и работай.
Старшему диспетчеру велел стать рядом и ушел. Старший диспетчер подошел: что у тебя?
– Сядь, пожалуйста, попропускай составы. У меня все на графике правильно.
– Только рядом сядь и проконтролируй, – согласился тот.
И вдруг заходит уборщица с большой чашкой чая и двумя кусочками сахара:
– Колесников сказал, чтобы ты выпила чаю.
Я подумала, что сахар Светочке отнесу, а чаю выпила с удовольствием.
Дальше работаю. Через 45 минут приходит телеграмма с красной полосой: «Разрешается отцепка от регулировки с головы поезда в каждом составе до четырех включительно платформ целевым назначением для отгрузки танковым заводам» – и дальше идут их номера.
– Все, можешь отцеплять. Регулировка будет через час, – говорят мне.
– Как я буду отцеплять? Состав прибывает на двенадцатый путь, разрешения на маневр с двенадцатого на четырнадцатый путь у меня нет. Пусть техотдел напишет это разрешение.
Дежурный по отделению возмутился:
– Тебе морду набить сейчас или потом? Ты что?
– А случись авария, кто будет отвечать? Телеграмму пришлешь? А в ней не написано, что разрешается изменение технологических маневров. Дальше что? – Но наш техотдел заявил, что не имеет права давать такое разрешение. Только техотдел управления дороги. – Не буду отцеплять до тех пор, пока не согласуют в управлении дороги, – уперлась я. – Там что, такие загруженные сидят? Пусть выдают разрешение.
Короче, через 15–20 минут получили мы разрешение. А Колесникову уже доложили, что Эпштейн вообще оборзела. Но он меня поддержал:
– Она правильно потребовала.
Такая же телеграмма за подписью Берии (он курировал танковые заводы) поступила на заводы: «Во исполнение недогруза вам будут подавать от трех до четырех платформ сверх суточной нормы». Директора заводов, генералы, схватились за головы и – к начальнику дороги:
– Кто тебя просил? Почему мы от Берии получаем такую телеграмму?
Начальник дороги удивился:
– Я с Берией не разговаривал.
– А кто разговаривал?
– Не знаю. Спросите у Берии.
Начальник отделения тоже понял ситуацию:
– Я с Берией не разговаривал.
– А может, с Кагановичем?
– Нет. И с Кагановичем не разговаривал, – открестился Колесников. Потом он собрал всех и сказал:
– О звонке Кагановича никто не должен знать. Забудьте. И кто с ним разговаривал, забудьте.
Уборщица услышала и мне сообщила:
– Роза, тебя будут расстреливать.
– За что?
– За то, что с Кагановичем разговаривала и сказала ему про платформы.
Я призадумалась: а почему этот разговор стал таким значимым? Но меня тоже предупредили: никогда никому не говори о звонке Кагановича, что ты ему говорила и о чем он тебя спрашивал. Я никому и не рассказывала. Только генералы все равно трясли начальника отделения. Это я от Зиновия знала.
– У нас-то еще ничего, мы ремонты делаем. Двадцать пять танков суточная норма. А вот у танкостроительного завода большой недогруз. Как они будут восполнять? – риторически спрашивал Зиновий, в то время работавший главным инженером на танковоремонтном.
– Это их дела, – отвечала я с деланным равнодушием.
– Роза, а кто же все-таки доложил Берии?
– У нас что, есть телефон Берии? Наверное, кто-то по военной линии доложил.
Но Груне я призналась. Ведь этот разговор с Кагановичем для меня стал настоящим событием, запомнившимся на всю жизнь.
А осенью 1945 года меня направили на учебу в ускоренный институт железнодорожников в Люботино (кстати, создание этого института тоже заслуга Кагановича). Учеба там была делом нелегким, потому что за год мы должны были усвоить такой объем знаний, на который в нормальном вузе отводится три года.
Жили мы вдвоем с однокурсницей Тасей на квартире у хозяйки, вернее, в частном доме. В свободное время, хоть его и немного выпадало, я любила гадать на картах. Это цыгане меня на учи ли в зерносовхозе «Горняк». Всерьез это занятие не воспринимала. Считала развлечением. Но моя соседка Тася сделала вывод, что гадание может приносить нам вполне ощутимый приварок. У многих тогда мужья да сыновья с фронта не вернулись. И все хотели получить хоть какую-то надежду. Просили погадать. А Таська стала с них плату требовать. Мол, почему Розка вам должна за так гадать? Вы ж цыганке ручку золотите? Кого яблок попросит принести, кого сальца. И когда я пробовала возмущаться, то она мне про Груню напоминала:
– Ты ж сестре хочешь помочь?
А Груня в то время самогон на продажу гнала, и ей хмель требовался. А взять его в Харькове негде. В селе же у одной бабки этого хмеля было – завались. Вот Таська ей и говорит:
– Хочешь про сына узнать? Давай хмеля.
А от сына вестей с начала войны не было – думали, летчик погиб в самом начале войны. Много их тогда пропало без вести. Но мать ждала и надеялась. А потому согласилась, только поинтересовалась:
– Та зачем вам хмель?
Таська наплела ей с три короба про его лечебные свойства. Бабка поверила.
– Идите, – говорит. – Рвите сколько хотите.
Мы набрали целую торбу.
Пришла женщина вечером на сына своего гадать. Я карты разложила. Вижу – гость на пороге.
– Иди, – говорю, – бабка, домой, ставь пироги – утром сын в окно постучит.
– А хиба ж вин в окно? – спрашивает. – Шо ли дверь у хату забыв?
– Ну, не знаю, про то карты не говорят.
Поахала та и – домой бежать. А я спать легла – утром на занятия. А занимались мы очень напряженно, чтобы институтскую программу за три года пройти. Так я дома, повторяя записанное на лекциях, голову мокрым полотенцем стягивала, чтоб не лопнула от такого объема знаний. Сидим на занятии. Вдруг слышу, за окном детский голосок меня зовет:
– Роза! Беги до хаты, тебя кличут.
Не стала я обращать внимания. А Таська выскочила после пары и домой побежала, узнать, в чем дело. Прибегает, а у соседки в саду столы накрыты с разносолами. Оказывается, и впрямь к ней сын приехал. Таська – бежать до меня.
– Идем скорей!
Не пошла я, досидела последнюю пару. А дома стала заново конспектировать пройденный материал, поскольку не скажу, что учеба мне легко давалась на вечно голодный желудок. И тут бабка со своей радостной вестью приходит:
– Роза, пидем до нас. Там мой Мишка приихал.
– Не, не пойду. У меня голова болит, – показываю на обмотанную полотенцем башку.
– Та ты хмелю возьми, он уси болести лечит! – посоветовала соседка. – Таська ж говорила.
Но я упорно отказывалась. Неудобно было идти в чужой двор да за стол садиться. Чтоб все пальцами показывали – вот она, гадалка. Какая я, на хрен, гадалка? Комсомолка, активистка, студентка.
И тут в дверь постучались. Вошел мужчина, молодой, круглолицый, невысокий, плотный с приятной улыбкой. Спрашивает:
– Вы и есть та самая гадалка Роза?
– Я и есть.
– А на цыганку не похожа.
– Я и не цыганка.
– А я Михаил. Сын вашей соседки.
– Что ж вы за всю войну матери ни одной весточки не прислали? Она ж с ума сходила.
– А я там служил, откуда вестей не подают.
Оказывается, служил Михаил в полку бомбардировщиков, которые летали бомбить Берлин еще в самом начале войны, в 1941 году. И все летчики этого полка находились в обстановке полной секретности. Ни о каких весточках родным и близким не могло быть и речи. Только после войны их рассекретили. Вот Михаил и явился сам. Но я-то как это в картах разглядела?
По выходным из Люботино, как всегда, я ехала в Харьков к Груне, везла что-нибудь из продуктов. Сама, бывало, недоедала, а ей старалась помочь. Ведь у Груни с Володей уже было двое детей. В конце войны Витя родился. И вот приезжаю однажды, вижу, у сестры лицо все синее. Спрашиваю:
– Что случилось?
– В погреб полезла, – говорит, – а там лестницы не оказалось. Упала прямо лицом на бочку.
Через год опять как-то заглянула к Груне в гости, а у той опять лицо – сплошной синяк.
– А это, – говорит, – на базар поехала в кузове грузовика. Там бочки стояли. Машина резко затормозила…
– И ты опять лицом на бочки полетела? – спрашиваю. А сама уже заподозрила неладное.
– Хорошо еще из кузова не вылетела, а то бы разбилась, – продолжает сестра.
Зашла тогда я к их соседке тете Фросе, сказала про свои подозрения насчет бочек, об которые сестра так неловко бьется каждый раз. Тетя Фрося и просветила меня:
– Это ж Володька ее так отделал. Он ей доктора немецкого простить не может – раз в год напивается до беспамятства и бьет ее смертным боем.
И такая злость меня взяла. Ведь знала я про того доктора, который предупредил Груню о готовящемся аресте. Всего-то и было меж ними, что попросила его однажды сестра дочку Светочку спасти. Девочка болела ангиной, горела от высокой температуры и уже задыхалась. Доктор пришел, осмотрел горлышко ребенка, намотал на палец бинт и, засунув его в горло, стал вскрывать фолликулы. Потом засыпал в горло порошок какой-то, а уходя, оставил банку сгущенного молока для девочки. Уж так ему Груня была благодарна, что Светочка задышала и пошла на поправку после этих процедур! Она и Володе об этом рассказала, разве что умолчала, как в знак благодарности в щеку доктора поцеловала.
Все во мне кипело, когда я вернулась в комнату сестры. Володя как раз был дома. Со злости я так хлобыстнула дверью, что она захлопнулась, и с порога накинулась на зятя:
– Ах ты, гад, сволочь ты последняя. Ты что же творишь, скотина? Немцы Груньку не добили, так ты теперь добиваешь? Да я ж тебя, гада, пришибу самого.
Сама не помню, как у меня в руках скалка оказалась. И ну давай его этой скалкой обхаживать. А он-то мужик! Силы с моими не сравнить. И в ответ в меня чем попало швыряет. Кричит:
– Не твое собачье дело! Что ты лезешь в нашу семью?
Груня снаружи в дверь колотит, умоляет:
– Откройте! Что вы делаете? Вы ж поубиваете друг друга!
А я к двери прорваться не могу, там позицию Володька держит. И тогда пустила в ход последний аргумент:
– Если еще раз хоть пальцем Груньку тронешь, Лене напишу – приедет и пристрелит тебя, как собаку.
С тех пор, как бабка отшептала. Ни разу больше Володя Груню не тронул, да еще прощения всю жизнь у нее просил.
Глава 19 Комсомолка, активистка и юмористка
Ну и, конечно, как все молодые, я жила ожиданием любви. Я уже рассказывала про кавалера, который в Коканде посвящал мне стихи. Потом он уехал в Москву учиться в Академии имени Жуковского. И вдруг в 1944 году перед тем, как мне переехать из Лозовой в Харьков, приходит «кадровичка» Заварзина и говорит:
– Роз, у меня второй день лежит телеграмма для тебя.
Отдает мне телеграмму. А в ней: «Жив. Здоров. Люблю. Целую. Владимир».
Мы с ним больше переписывались, и раза два он приезжал ко мне в Харьков. Под Харьковом жили его сестра с матерью. Я тогда после института в техотделе работала. Помню, он заходит и – прямиком к начальнику отдела Нестерову. Отдает ему честь и докладывает: «Для прохождения отпуска прибыл! Разрешите представиться – Талалаев Владимир Федорович, майор авиасвязи». Все сотрудники рты пораскрывали. А Нестеров не растерялся.
– Какое отношение это имеет к нашему отделу? – спрашивает.
– Прямое. Я вас попрошу отпустить на час мою невесту Розу Соломоновну Эпштейн, – отвечает Вовка.
Нестеров на меня через очки смотрит. А я готова провалиться сквозь землю. Только промелькнула мысль: «Ледик такого себе никогда бы не позволил».
– Два часа в вашем распоряжении, – разрешает Нестеров.
Выскочила я в коридор впереди Володьки и – к окну. А он меня приподнял и посадил на подоконник.
– Вовка. Ты что себе позволяешь? И кто это твоя невеста? – возмутилась я.
– Ты!
– Хорошо, что сказал. Буду знать.
Два часа мы гуляли по городу. Поехали к моей подружке Клаве. Такой был парень. Но за четыре года ни разу не сказал, что он на мне женится. Я и решила: «Молчишь, и черт с тобой! Найду себе жениха».
Два года за мной ухаживал еврей Сашка Спиваков. Он прорабом работал, звал знакомиться с родителями. Но я отказывалась, потому что это уже обязывало. А сестра у него была замужем за директором велозавода в Харькове. И вот Сашка берет шесть билетов на «Русский вопрос» в Театре русской драмы: матери, отцу, сестре, зятю, себе и мне. И когда мы сели на свои места, представляет:
– Знакомься, Роза, – моя мама.
Мама, грассируя «р», громко восклицает:
– Ой, Розочка, какая ты красавица!
И так он всем меня представил. Сестра выглядела как ювелирная лавка – вся увешана золотом. Я подумала: «Боже мой, вот это натуральная жидовня!»
Ее мужа звали Зямой. Он всем дамам купил по большой шоколадке. Но хоть я и забыла вкус шоколада, есть не стала. Поблагодарила Зяму и плитку Сашке в карман положила. А вскоре наши отношения с ним прекратила.
Впрочем, от отсутствия любви я особо не страдала, поскольку жизнь моя всегда была насыщенной общественными делами и обязанностями. Например, во время выборов агитатором была. Обычно я брала на себя общежитие, в котором жила после окончания института. В шесть утра приду с гармошкой, всех растормошу. Все пошли, проголосовали – и я свободна. А как-то раз на выборах в Раду (Верховный Совет Украины) мне дали дом больших начальников. В нем жил и Петр Федорович Кривонос, начальник Донецкого железнодорожного округа. В руководители он выбился из простых машинистов. Он вторым после Стаханова всесоюзный рекорд поставил – провел сдвоенный тяжеловесный состав. Ну, его и стали продвигать по службе. И вот все проголосовали, а семья Кривоноса не идет. Я, как ни приду к ним, жена отвечает:
– Воны едять.
Раз пришла, другой пришла…
– Ну, все – я больше ходить не буду! Это что такое? «Воны едять», а я голодная – с ног валюсь! Он что, не знает про выборы?
А секретарь избирательного участка успокаивает:
– Да придет он!
– Тогда поставьте мне, что проголосовали все сто процентов.
– Ну еще раз сходи.
А шел уже четвертый час. Я опять звоню в дверь. Снова открывает жена Кривоноса и говорит:
– Тише, воны спять.
– А вы почему не проголосовали?
– А шо тебе даст, шо я проголосую? Хай вин проголосует, тогда и я с ним. А одна – ни. Як он встанет, так пидемо.
– А если он встанет в восемь вечера? – закипаю я.
А она мне:
– Не журись! Подь на кухню!
Я зашла, а там на столе остатки обеда. Но все чисто разобрано.
– Да не боись, проголосуем, – миролюбиво продолжает жена.
– Мне надо, чтоб до двенадцати все проголосовали. А уже четвертый час. И обидно, что именно семья Кривоноса подвела.
– Та я скажу, чтоб поставили, что мы проголосовали в одиннадцать.
– Какие вы сообразительные! Не надо! Теперь уж как придете, так придете.
– Ага. Я тебе сейчас скажу, какая я сообразительная. Як он знатный машинист, то нам поставили телефон. Вот вин все тренькает, тренькает. А до мене соседка зашла. Я посуду мыла. А вин звонит. Взяла я трубку и слышу голос: «Здравствуйте, Евдокия Ивановна!» – «Здравствуйте, я Евдокия Ивановна». – «А Петра Федоровича?». – «Вин в поездке». Там извинились и положили трубку. А я и говорю соседке: «Шо он тренькает, мне понятно – то электричество в проводах. А вот як он побачив, что я Евдокия Ивановна?» Соседка объяснила, что раз трубку взяла женщина, то это жинка Петра Федоровича, а жинка у него одна – Евдокия Ивановна. «Ни, – говорю, – он так сказав “Евдокия Ивановна”, будто меня бачив».
Я посмеялась. А она положила мне на тарелку снеди и говорит:
– Сидай – ешь!
Я подумала, что если заберу эту еду в свою комнату, то всех накормлю. Но не могу ж тарелку с собой попросить! И отказалась:
– Спасибо. Но вы ж знаете, что у нас сегодня праздник – выборы. А девчата мои голодные.
– А как же – общежитие, кто ж вам сварит? – посочувствовала Евдокия Ивановна.
– Сварил бы каждый, да нечего варить! – отвечаю.
– А я продуктов дам.
– Нет-нет, нам нельзя.
Мне потом девчата сказали:
– Надо же, такую сучку, как ты, послали к Кривоносу! Нас бы послали. Мы бы не только продукты взяли, но еще и шмотье какое-нибудь.
Скромность, конечно, украшает, но голод, который не тетка, делал нас изобретательными и находчивыми. У меня, например, семь знакомых семей имелось, куда мы раз в неделю ходили поесть. Говорю «мы», потому что со мной обязательно кто-то из общежитских увязывался. С этой «традицией» ходить в гости, чтобы набить желудок, у меня связан один комичный случай.
Когда мы были в Коканде в эвакуации, по соседству с нами жила певица Харьковской оперы Марина Днепровская – меццо-сопрано. А муж ее был администратором оперы. Уехав из Коканда, я, естественно, почти и не вспоминала про свою соседку. И вот уже в Харькове случай снова свел нас. В то время как было: если Сталин сидит в своем кабинете до четырех утра, то и все наркомы сидят. Если Каганович, наш нарком, сидит, то и начальник дороги сидит. И начальник службы, и начальник отдела сидят. И мы сидим, потому что вдруг начальнику отдела понадобится какую бумажку вышестоящему руководителю отнести. Я тогда в техотделе работала. И про это наше бдение кто-то доложил начальнику округа Гришину. А у него была своя ложа в каждом театре. Вот он и приказал референту Жорке Кирилюку:
– Отдайте девчонкам, которым пришлось работать ночью, мои контрамарки. Пусть выберут только, что хотят посмотреть.
В газете мы прочли, что в Харьковском оперном в тот день давали «Чио-Чио-Сан». Я и предложила:
– Давайте поедем в оперу.
В театре нам дали программку с либретто. Смотрю – в главной роли Днепровская. Я написала ей на программке: «Марина, пришла тебя послушать. Мой телефон… Роза». И через гримерную попросила передать. Когда Марина позвонила, я ей сказала, что слушала оперу, затаив дыхание.
– А как ты сюда попала? – поинтересовалась певица.
– Да я живу в Харькове.
– А что ж ты меня не нашла?
– Но ты меня тоже не искала.
– Тогда записывай, где меня найти, и мой телефон. Когда ты придешь?
– Маринка, а пожрать что будет? – набралась я наглости.
– Будет, – успокоила она.
– А если нас придет двое? – продолжала наглеть я, зная, что со мной обязательно кто-то увяжется.
Детей у Марины не было. Муж Абрам, как она его звала – личный еврей, на сторону глядел постоянно. Бывало, она достанет у него из кармана носовой платок в губной помаде и бросит какой-нибудь женщине:
– На, свою помаду сама стирай.
А ему потом дома разгон устроит.
В общем, пришли мы в гости с Нинкой Ивановой. Маринка встретила нас нарядная, красиво причесанная. Личный еврей где-то в командировке в Прибалтике, а она, похоже, куда-то тоже намылилась на свидание. Однако обрадовалась мне искренне:
– Розочка, ты пришла? Я рада до смерти. Еду оставлю в моей комнате. Вы ходите тихо, чтобы вас соседи не видели.
– А в туалет можно будет? – спрашиваю.
– Можно, но только ночью, когда соседи заснут. А то они моему Абрашке все докладывают: когда я ушла, когда не ночевала. И мне тогда точно будет выволочка. Вы разговаривайте потихоньку, чтобы они слышали, что кто-то есть, но голоса женские. Чтобы думали, что я дома. Он там, скотина, точно гуляет. А мне, видите ли, нельзя.
Принесла Марина нам еды в комнату. А воды не принесла. Мы селедочки поели, помидорчиков-огурчиков солененьких. Включили радио негромко. Потом захотели писать. Но слышим, соседи всё ходят и ходят туда-сюда.
– Нинка, – говорю, – раз Марина сказала, не надо ходить при них, значит, будем терпеть.
Терпели, терпели, но Нинка не выдержала:
– Все, Роза, я больше не могу – из меня уже льется.
И она берет бокал для шампанского, писает в него и в окно выплескивает. Тогда и я решаюсь – беру второй бокал и тоже писаю и выплескиваю в окно.
– Ух как здорово! – вздыхаю с облегчением.
– А теперь давай шампанского выпьем, – предлагает Нинка и берет со стола уже початую бутылку. И тут до меня доходит:
– А откуда я знаю, в какой бокал ты писала? Нет, не буду.
Тогда Нинка нашла какую-то вазочку для цветов, тщательно ее вытерла. И мы из нее стали пить шампанское.
Маринка, уходя, предупредила, что постучит тихонько в стенку, чтобы мы ей открыли. И мы всю ночь прислушивались. А пришла она только под утро, пьяная в стельку. Повалилась кулем на кровать, попросила только снять с нее блузку – нельзя помять какой-то тонкий шелк. Мы ее раздели, все повесили, сложили аккуратно. И пока соседи не проснулись, перемыли всю посуду тщательно. Маринке же про наш конфуз рассказывать не стали – она же дива, хоть и пьяная. Спросила только ее:
– Маринка, зачем ты пила? Тебе же нельзя.
– Под «Чио-Чио-Сан» можно и под «Тоску» можно, – заверила дива и отключилась.
Глава 20 Деревенские страдания
Это уже после войны было, когда я работала в Харькове в техотделе. Нас послали с шефской помощью в один из колхозов Купинского района. Меня в тот год поставили скирдовать сено в паре с дедом из местных. Приходят возы с сеном, мне его с возов подают, а я на свои вилы подхватываю и через себя перебрасываю. А дед уж там скирдует. Хороший дед оказался. Ему жена давала с собой маленький бочоночек квасу, лепешки и картошку. Он со мной обедом делился и много шутил.
А бабка его рядом стоит, слушает и смеется.
– Ох, бабка, счастливая ты – сама давно не молодуха, а дед у тебя еще бравый, – говорю ей.
– Який он бравый, Розк? – удивилась бабка. – Трухля трухлей. Только языком чесать и может.
На следующее лето мне предложили поехать с шефской помощью в колхоз, который якобы находится на берегу моря. Я, конечно, обрадовалась:
– На Черное море? Поеду. Это ж не сено в степи скирдовать.
– Роз, только ты там пригляди за людьми, чтобы они не голодали. И чтобы работали, – предложило руководство.
– А почему я? – удивилась.
– А мы тебя бригадиром пошлем.
– Не надо бригадиром. Я тоже хочу как все.
В общем, поехали мы по два человека от каждого отдела в колхоз Дарьевка Одесской области, как было написано в путевке. Приезжаем на какую-то станцию, спрашиваем у местных:
– А где тут Дарьевка?
– Вон, выходите на шлях, там гужевой транспорт ходит, с ним и доедете.
– А куда доедем? На море?
– Какое еще море? Дарьевка за сто верст от моря. До него ще поездом скильки ехать, потом ще машиной скильки.
Добрались мы наконец до этой Дарьевки. Нам сразу выделили первый этаж школы и овчарню. Бабы там известкой стены побелили, успокоили нас:
– Блох немае, девчата, от блох мы полынь постелили. Вы тоже, как увидите полынь, рвите и – сюда.
Разместили мужчин в школе, а нас – в овчарне. Пять часов утра, мы еще спим, а к нам в окно уже заглядывают.
– Эй, лядащи, молочка попейте! – Это колхозница уже подоила корову и принесла нам ведро молока.
Парное молоко теплое, сытное. Кружку выпьешь – вот тебе и завтрак. И опять бы – в дремоту. А тетка не унимается:
– Лядащи, вы бы, пока не жарко, пошли на прополку. Наши бабы уже полют.
– Девчата, а и правда, пока не жарко, пойдем, прополем. А потом вернемся, поспим тут, – предложила я. Так и стали делать. По утреннему холодку поработаем, в самое пекло в тенечек спрячемся, а вечером – опять на поле, пока не стемнеет. С утра самое время раздеться да позагорать. А в чем? О купальниках мы и не мечтали. Трусы у всех стираные-перестираные, латаные-перелатаные. О бюстгальтерах и речи не могло быть – откуда? Поэтому раздевались на поле на счет «три» все дружно догола. Сбросим с себя все, наполощемся в воде, под солнышком просохнем. На поле одни женщины работали.
А наших мужчин колхозные бабы сразу под опеку взяли – своих-то в колхозе почти не осталось. Вот они их и варениками с творогом кормят, и сметаной, и курицу зарежут. Мужики наши стали справными, гладкими. А что б мы их женам не заложили, они и нас подкармливали. Приходит к нам председатель колхоза и спрашивает:
– Кто у вас тут старший?
– А вон Роза. Она за всех тут, – указывают на меня.
Он – ко мне:
– Ты старшая? Мне нужен строитель – на току крышу покрыть камышом.
– Борис Иванович, иди сюда, – зову одного из наших. – Будешь старшим у строителей в распоряжение председателя колхоза.
– А сколько трудодней запишут? – интересуется Борис Иванович.
– Это ты с ним сам договаривайся.
Он – к председателю. Тот пообещал два трудодня.
– За два трудодня я буду ходить с бабами, их щекотать и смеяться, – отказывается Борис Иванович. – Роз, он что, дураков ищет – по такой жаре маты из камыша плести, наверх поднимать их, укладывать, да еще стропила делать?!
– Борис Иванович, я в этом ничего не понимаю. Ты будешь старшим, вот и договаривайся. Но совесть тоже имейте – баб они будут щекотать!
– Четыре трудодня запишут – тогда пойдем, – постановляет строитель.
Подхожу я к председателю:
– Что ж ты, голова? У тебя рабочая сила бесплатная.
– Яка ж бесплатна? Вон – четыре трудодня просит.
– Ну и отдай четыре, – говорю.
Эти трудодни в Харькове на базаре можно было обменять на продукты: муку, крупу, семечки, яйца. Я трудодни свои Володьке отдавала, он шел и менял. Даже мыло раз дали черное хозяйственное. Груня радовалась:
– Я хоть его робу отстирала.
Мужики поэтому за трудодни торговались. А девки – что дадут, тому и рады. Я голове тогда предложила:
– Ты мужикам напиши побольше, а девкам можно и поменьше. Они не очень за трудодни-то бегают.
В конце концов договорились. Начали наши хлопцы сооружать навес на току. Как половину накрыли, так тень образовалась. И девчата полегли в эту тень отдыхать. Как мы загорали в такую жару, я уже рассказала. У мужиков с этим сложнее было. Трусов тогда никто не имел, носили кальсоны. Подвернут, насколько возможно, – срамота одна. Вот им одна девка и предложила:
– Давайте, я вам из маек трусы сделаю. Посередке зашью, наденете – и за трусы сойдет.
Так и сделала. На поток шитье поставила – мужики ей майки, она им – трусы. Все довольны.
И вот как-то веду я волов на водопой и слышу со стороны тока крик, шум, гогот.
Оказывается, дядя Сережа, крупный мужчина, наверху сидел, когда эта середка у самодельных трусов расползлась, и все его хозяйство наружу вывалилось. А девки снизу смотрят и смеются:
– Ой, как не стыдно!
А одна бухгалтерша прямо глаз не отводит и громче всех кудахчет:
– Я в партком пойду, скажу. Как вам не стыдно? Что это творится?
Я подошла и спрашиваю:
– Что случилось?
– Да у дяди Сережи трусы лопнули, – хохочут девчата.
Тогда я бухгалтерше посоветовала:
– Ты, когда в партком пойдешь, не забудь сказать, что глаз от него не отводила. И пусть там решают, правильно это или нет.
Дядя Сережа, как меня увидел, майку спустил, насколько возможно, чтоб срам прикрыть, и говорит:
– Роза, ось бачь. Что ж та сучка, которая шила, так меня опозорила?
– Да нитки, наверное, гнилые.
– А ты хорошо подметила, как та бухгалтерша с меня глаз не спускает?
– Так я смотрю, что она наверх глядит, и думаю, что ж она там увидела?
– Да хрен мой и увидела. Теперь вот и облизывается, что ей он не достался.
Вот уж насмеялись все от души!
Глава 21 А надо жить дальше
Уже много лет спустя моя сестра Галя с мужем побывали в румынском городке Топлица, нашли могилу Раечки и узнали, что похоронили военврача Раису Эпштейн со всеми воинскими почестями и за могилой ухаживают местные жители.
А еще раньше, сразу после войны, я узнала подробности гибели нашей любимой сестренки, разыскав медсестру Лиду, которая вышла замуж за того самого Константина, вытащившего Раю с минного поля. И вот как это произошло.
Лида прислала открытку, написав, что они с мужем живут в Харькове и приглашают меня прийти к ним, познакомиться. Без труда я нашла нужные улицу и дом, осталось найти квартиру под номером 21. Захожу в какой-то подъезд. Лестница длинная вверх ведет. Вижу, на площадке выше этажом возле двери табурет, на нем примус горящий, на примусе – чайник. И тут выходит на площадку мужчина в военном галифе и нижней рубахе. Я спрашиваю у него:
– Скажите, пожалуйста, двадцать первая квартира не здесь?
Мужчина смотрит на меня и вдруг резко бросается за дверь. Табурет отлетает в сторону, чайник с кипятком летит вниз. Я еле успеваю отскочить в сторону. Потом Константин мне признается:
– Роза, поверь мне, я храбрый офицер. Но когда я увидел, что в подъезд входит Рая и ее голосом спрашивает, мурашки пробежали по телу – я вздрогнул.
Костя действительно был храбрым офицером, награжден орденом Красной Звезды и орденами Отечественной войны первой и второй степеней. Когда он пришел в себя, то снова выглянул на площадку и понял, кто перед ним в шинели. Потом предупредил меня:
– Лида беременна, ей волноваться нельзя. Так что я сначала скажу, а потом ты зайдешь.
В шинеле сестры и своей синей беретке со звездочкой я вхожу в комнату:
– Здравствуйте!
Лида смотрит на меня и охает:
– Господи! Бывает же такое! Вы же не можете быть двойняшками?!
– Я могу быть только родной сестрой Раи Эпштейн, – отвечаю.
– Она мне говорила, что вы похожи. Но что настолько…
Так состоялась эта встреча, на которой друзья и сослуживцы сестренки Раечки рассказали обстоятельства ее гибели. А в памяти моей Раечка осталась навсегда такой же молодой, красивой и счастливой, как на последней фотографии, датированной 1944 годом.
Но жизнь продолжалась. И у каждого из моих родных и близких в этой послевоенной жизни был свой крестный путь.
В семье Беллы продолжались ссоры и выяснения отношений, вызванные ревностью Анатолия. Однажды, устав от бесконечных выяснений отношений, Белла написала письмо отцу, в котором жаловалась на грубость и ревность мужа. Отец ответил очень быстро:
«Дочка! Сохрани тебя Бог от того, чтобы ты оставила Анатолия или плохо с ним обращалась. Помни: ему война столько на плечи и на душу навалила, что не каждый вынесет – на целый полк хватило бы того горя, которое перенес твой муж. Обращайся с ним, как с самым дорогим человеком».
Белла рассказала мне об этом письме отца и посетовала:
– Надо же, пожалел Анатолия! Он бы меня пожалел.
Со стороны наблюдая развитие отношений в семье сестры, я тоже была на стороне зятя. Он стал для меня кумиром еще в детстве – этакий романтический герой, который мог украсть невесту из-под венца, мужественно защищать рубежи Родины, перенести скитания на чужбине… А еще я восхищалась поразительными знаниями Анатолия Михайловича в области архитектуры и градостроения. Он с увлечением рассказывал об истории архитектурных памятников и шедевров зодчества Москвы. Даже в Большой театр водил меня на экскурсию как архитектор. После войны я нередко ездила в командировки в Москву и останавливалась у Гальки. Белла обижалась:
– Что, я живу далеко от Большого театра? Почему ты ко мне не едешь?
Но, думаю, это было не искренне. Анатолия же я любила. Я видела его мудрость. Видела, как много вокруг душевно пустых людей, безграмотных и глупых. А тут – образованность, ум, интеллект. Исай тоже очень уважал и понимал Анатолия. Когда он приезжал в госпиталь Бурденко, то останавливался у Беллы и ночи напролет беседовал с зятем.
Выручало Анатолия знание английского и фортификационного дела. Его иногда приглашали для консультаций. И это еще как-то помогало сохранять самоуважение. Случалось, приглашали бывшего военспеца и на торжественные приемы. На одном из них – в Наркомате морского флота – Соболев встретил человека, лицо которого он запомнил на всю жизнь. Этот человек был в парадном кителе с адмиральскими нашивками и держался очень уверенно. Однако, увидев приближающегося к нему капитана второго ранга, адмирал побледнел и мягко начал сползать со стула. Подойдя, Соболев сжал кулаки и с размаху врезал ему по физиономии, сначала с правой, а потом с левой руки. Все вокруг застыли как в немом кино. Воспользовавшись тишиной, Анатолий Михайлович произнес слегка осипшим от волнения голосом:
– Подлый, и ты еще смеешь приходить к морякам?! Товарищи! Этот человек бросил полторы тысячи раненых и скрылся с острова на единственной подводной лодке! Якобы за помощью. Но помощи мы не дождались!
Этот инцидент не имел последствий для Анатолия Соболева. Слишком высок был авторитет этого человека. А вот в семье продолжала расти трещина непонимания.
Гале после окончания консерватории единственной дали направление в радиокомитет аккомпаниатором. Но, поработав там немного, она взбрыкнула:
– Безголосая курица поет, и ее объявляют, а меня – нет. Мне это надо?
Обиделась и ушла с радио. И кто-то ей посоветовал юридический институт, заочный. Галька туда пошла со своими документами об окончании консерватории. Ее приняли с первого раза – умела себя подать. В этом институте сестра познакомилась и с будущим мужем Анатолием. Он овдовел к тому времени и стал за ней ухаживать. Сам Анатолий был юристом. Поженившись, они с Галькой сначала жили у Анатолия в коммуналке на пятерых соседей. Дружно все жили, как одна семья. Потом получили двухкомнатную квартиру в хорошем месте в Москве.
В 1947 году я приезжала в Сталино, навестить отца. Зашла и в наш прежний дом, уже восстановленный, где жили незнакомые мне люди. Но, оказалось, остались и прежние жильцы. Когда я поднялась на веранду, меня окликнула Ольга, которая работала служанкой у Грамбергов:
– Розочка, ты зайдешь к нам?
Ольга, немка, бывало, откроет окно и кричит:
– Ицек, а Ицек, иди, выпей стакан молоко и кусочек сахара.
Ицеком звали сына Грамбергов, мальчишки дразнили его: «Ицек, ты выпил свой стакан молоко и кусочек сахара»? Он смущался, краснел. А во время войны, так как Ицек очень хорошо знал немецкий с берлинским диалектом, то его заслали к немцам. Он был нашим резидентом. После Победы вернулся Героем Советского Союза. Об этом я уже знала от своего отца.
Ольга провела меня в злополучную кладовку, в которой когда-то хорошо угостился перед Новым годом какой-то бродяга. Теперь здесь стояли лавки и большой круглый стол. Ольга его накрыла, сказала:
– Сейчас Ицек придет, и будем обедать.
Пришел Ицек, холеный, важный. На груди – орденские планки, звездочка. Я его обняла, спросила:
– Помнишь, как Ольга тебя звала?
– Да, «выпей стакан молоко и кусочек сахара», – повторил он с Ольгиными интонациями.
Ничего конкретного о своей службе Ицек мне не рассказал. Намекнул лишь, что сложно было, но контора им довольна. И что он был предельно осторожен, а берегли его очень достойные люди.
– А они живы? – наивно поинтересовалась я.
– Вот этого мне знать не дано.
В тот приезд навестила я и тетушку Циву. После войны она жила тем, что пускала студенток на постой. Гриша к ней так и не вернулся. Он уехал в эвакуацию со второй женой, и больше о них мы не слыхали. У тети Цивы, как всегда, в доме было чисто.
– Ой, Розочка, сначала девчата попались такие лядащие, неумехи, грязнухи. Я их отправила. Взяла деревенских девчонок, так они все делают.
Дочь Цивы Алта, которая при этом разговоре присутствовала, пояснила мне:
– Правильно. Они все делают. Потому что платят ей двадцать рублей в месяц, а она им потом дает – той на чулки десять рублей, той на что-то еще и без отдачи. За это они и моют в доме, и по хозяйству помогают. А она их еще и супом кормит.
– Алта, побойся бога! Девочки же учатся, – возразила Цива. – Пусть они в своей деревне будут учителями. Что же я должна с них драть последнее? Они же не пойдут босиком и раздетые. Все надо купить. А на что они купят? Стипендия двадцать рублей, и мне за постой надо двадцать рублей.
У Алты был визгливый голос. Когда я заходила, она визжала:
– Ой, баба Риза приехала.
Я очень была похожа на отцову мать. И Цива соглашалась:
– Что уж бабушка Рейза, то бабушка Рейза. С того света спустилась к нам.
По-еврейски Рейза – это Роза.
– Розочка, чем тебя угостить? – всегда спрашивала тетушка. И отказа не принимала:
– Я тебе вареников с вишнями сделаю.
Налепит быстро вареников, сварит. Сок вишни с сахаром вскипятит и зальет сверху. Очень вкусные вареники получались у тетушки Цивы!
В Сталино доживала свой век и тетя Фрума, жена Шемейра, брата моего отца, и мать Зиновия – моего кузена. С ней вместе жили две дочери, одна – медсестра, другая – агроном. У них на Одиннадцатой линии был глинобитный домик с садиком. Зиновий все время помогал матери и своим сестрам. Тетя Фрума в девяносто лет любила читать Илью Эренбурга. Я ей даже высылала третий том его собрания сочинений, причем библиотечный. А она мне вернула потом второй том. Их я тоже навестила в тот приезд.
Уже после моего посещения Сталино отцу пришел ответ от Ковпака. Бывший комдив, который знал отца по Гражданской войне, написал ему:
«Соломон, в Киеве я тебе хату не дам. Но мой комбат в Тальном первый секретарь горкома партии. Я скажу Кольке, он тебе даст».
С этим письмом отец и поехал в Тальное, зеленый городишко под Черкасами. Очень тихий и спокойный. Пришел к бывшему комбату. Тот рассудил:
– Дядя Соломон, ну, дам я тебе маленькую хатеночку, брошенную. Так ее надо ремонтировать, а ты уже старый. Я тебе вот что предлагаю: у меня тетка тут живет одна в хате, хорошая хата, ремонта не надо, и тетка хорошая – фельдшерица.
Отец недолго думал, пошутил только невесело:
– Везет мне. Соня моя была фельдшерица, и на краю жизни – опять фельдшерица.
– Дядя Соломон, она тебе понравится, такая добрая.
Анна Антоновна была женщиной с морщинистым лицом и добрыми глазами, тоже любила моего отца и заботилась о нем до последнего. И привечала его родных. Дочка Беллы Юлька девчонкой ездила к деду в Тальное. Зная, что внучка очень худенькая, он писал Белле: «Пришли Юльку, нагодуем ей. Тут коза у хозяйки Анны Антоновны, молоко козье жирное, хорошее, я Юльку им отпою».
Глава 22 О любви и замужестве
Летом 1948 года всех, кто мог работать диспетчерами, выдергивали из отделов и «сажали» на хлебные перевозки. Урожай зерновых в тот год выдался богатый. Юго-восточная дорога была просто завалена зерном. Гнали эшелон за эшелоном на Москву, на Ленинград. Митя Лазутин работал диспетчером в Сталинграде, а я – в Харькове. Донецкий округ имел шесть дорог: Южная, Южнодонецкая, Северодонецкая, Юговосточная (Воронеж), Сталинская (Днепропетровск) и Сталинградская (Сталинград). Мне очень нравилось, как Дмитрий справлялся с обязанностями диспетчера. Если сказал, что эшелон отправляет, то отправит строго по графику. И когда одна сотрудница коммерческого отдела Нинка поехала в командировку в Сталинград, то я попросила ее зайти и посмотреть в диспетчерской Лазутина. Симпатичный или нет. А Нинка стеснительная была. Знаю, вернулась из командировки, а ко мне не идет. Я нашла ее и спрашиваю:
– Лазутина видела?
– Видела, заходила, разговаривала, привет от тебя передала. Он беленький такой, приятный.
Я ей поверила. Когда прошел бум зерновых перевозок, я в техотдел вернулась. И, как-то задержавшись на работе, слышу, звонит телефон. Беру трубку, а там голос приятный с легкой картавинкой:
– Роза Соломоновна? Это Сталинград. Лазутин говорит.
– Дмитрий Иванович? Слушаю вас. Но я больше не занимаюсь хлебными перевозками.
– Знаю, мне сказали. Я тут в отпуск к маме на Украину еду, в село Казанка. А по пути хочу за ехать в Харьков – я там воевал. Найдется где мне переночевать?
– Найдем, только вы из Поворино (там пересадка) дайте мне телеграмму с номером вагона. А я договорюсь в мужском общежитии, чтобы вам койку дали.
– Буду признателен. Мне очень хочется побывать у Холодной горы. Там шел наш последний бой за Харьков.
Я слышала про Холодную гору, но где она, не знала.
У нашего начальника округа референтом был Жорка, красивый и седой. В оккупации на его глазах немцы расстреляли трех сестренок и братишку маленького за то, что отец служил командиром в Красной Армии. А его не тронули, потому что в кузнице работал с каким-то дядькой. И вот этот Жорка услышал, как я рассыльной сказала:
– Придет телеграмма из Поворино бегом неси мне.
– А что ты мне дашь?
– Талончик на сахар, а ты купишь себе халвы.
У нас тогда халву на сахарные талоны продавали.
И вот через какое-то время она приносит мне телеграмму. В ней Дмитрий пишет, что его обокрали в поезде и встречать не надо. В то время такое случалось. За день до этого я сама видела, как по коридору шел мужчина в плаще и в туфлях на босу ногу, спрашивал, где кабинет начальника округа. Оказывается, ехал из Москвы в Крым, и его, пока спал, обокрали. А плащ лежал свернутый под подушкой. Мужчина оказался работником Московского наркомата. У нас имелась своя швейная мастерская, и его быстро приодели. И вот собралась я Дмитрия встречать. А перед самым приходом поезда Жорка мне сообщает:
– У Кривоноса немцы. Иди стенографировать.
– Жора, я не могу. Мне поезд надо встретить.
– Да знаю я про твой поезд.
Оказалось, что, услышав мой разговор с рассыльной, он пошел на телеграф и пробил эту телеграмму. Но я этого не знала и столько пережила за эти сутки!
– Я что, должен сказать Кривоносу, что ты жениха встречаешь? Извини, но этого я не могу – знаешь, как ему важно фасон держать.
Я тогда попросила подругу Лиду узнать у проводника, кого ограбили, и найти Дмитрия. Сижу, как на иголках, на встрече с немцами, стенографирую. Что-то помнила еще в пределах школы. После встречи побежала в отдел, спрашиваю:
– Анна Романовна, никто не звонил?
Потом бегу к Лиде. А та – с порога:
– Роза, это какая-то провокация. Я весь поезд прошла – никого там не ограбили.
Возвращаюсь в отдел, и вдруг звонят с вахты:
– Тут Эпштейн спрашивают два парня.
«Надо же, сразу два, – думаю, – мне б и одного хватило».
Передо мной по лестнице спускалась какая-то женщина, задрала юбку и поправила чулки. Дмитрий потом рассказывал, как подумал: это не Роза. И тут спускаюсь я в красивом голубом крепдешиновом платье и вижу двух мужчин – один темноволосый, другой блондин. И хотя мне Нинка говорила, что Лазутин беленький, я подошла интуитивно к темноволосому и говорю:
– Здравствуйте, Митя.
А он улыбнулся приветливо и спрашивает:
– Поможете пройти на службу пути моему попутчику?
Митя пришел с чемоданом. Я уже договорилась с комендантом Евдохой, что она поселит его на любое место. Оставив чемодан в комнате, мы отправились к Холодной горе. Я уже узнала, где это. Пришли. Митя осмотрелся, увидел большую глыбу, накрытую ржавым железом. Сбросил железо. В углублении лежал чернильный карандаш и виднелась надпись: «Я тут был». Под ней двенадцать фамилий. Дмитрий написал тринадцатую – Лазутин. А потом встал на колени, облокотился на эту глыбу и заплакал. У меня все внутри перевернулось.
– Извини, Роза, меня за слабость. Но здесь погиб мой взвод. А чуть дальше, правей, полегла вся рота. Не думал, что эта глыба сохранится – здесь был наш пулеметный расчет.
Он как-то почернел весь. Стал каким-то растерянным.
«Надо же, как глубоко чувствует этот мужчина!» – удивилась я.
Потом мы пошли в сквер, к фонтану «Комсомольская струя». Я ему рассказываю, что комсомольцы его строили. И тут поднимаю глаза, а напротив вижу крупными буквами: «ЗАГС». Мне стало неловко: «Может, он подумает, что я его сразу привела к ЗАГСу?»
– Идем дальше, посмотрим парк, – предлагаю.
Пришли на другой конец парка, сели на скамейку. Поднимаю голову и опять вижу «ЗАГС».
Мне стало неприятно, но он улыбнулся – все понял. Потом на скоростном трамвае поехали ко мне в общежитие. Кормить особо нечем было, но моя соседка по комнате Шурка накануне напекла плюшек и нам оставила штук пять.
Евдоха, старуха-гренадер, чаю приготовила с мятой, сахару из своих запасов поколола. А что дальше делать? Пошли еще погуляли.
– Ты меня знаешь на какую позицию своди? Там не то улица Куйбышева, не то памятник Куйбышеву, – попросил Дмитрий.
– Есть и улица, и там же памятник, – отвечаю.
– Поведи меня на эту позицию. Мы там тоже стояли.
Сходили и туда. А потом? Я бы его к Груньке свозила. Но у нее всегда жрать нечего. А если и есть, то все поделено: «Это Светочке, это Володе, это мне, а это если ты придешь». Решила не ставить сестру в неловкое положение. А на следующий день Мите надо было ехать к матери – на Днепропетровск. Я вышла проводить его. Он берет мою сумочку и спрашивает:
– Роза. А у тебя паспорт с собой?
– Я всегда ношу его с собой.
– Покажи мне, пожалуйста.
– Штампа о замужестве нет. Можешь мне на слово поверить.
– Верю. Но все-таки покажи.
– Сумочку открой, там сбоку лежит, – говорю.
Он достал, полистал, положил обратно.
– Роза, мне дали отпуск, чтобы привезти мать. Они с отцом продали дом. Я их в Сталинград возьму.
– А где ты живешь в Сталинграде? – спрашиваю.
– У сестры. Муж у нее начальник строительного управления. А она – главный инженер Металлургстроя. У них свой дом. А у меня в нем маленькая комнатушка.
Этим он меня купил. Я подумала: «Неужели смогу уйти из общежития?» Так надоело приноравливаться к соседкам по комнате: та хулиганка, та матерщинница, та проститутка…
И еще меня подкупило то, что сестра Мити замужем за Аркадием (Ароном) Ефимовичем Пивоваровым. Значит, он еврей, и родня не будет возражать, что и Дмитрий женится на еврейке. А он словно прочитал мои мысли.
– Выходи за меня, давай распишемся, – предлагает. – Пока я езжу за матерью, ты оформи перевод в управление Сталинградской железной дороги. Это ж наша дорога.
– Митя, мы знаем друг друга меньше суток. Кто так замуж выходит? Не думай, что ты мне не понравился или что-то меня удерживает. Я бы рада выйти замуж – мне надоело общежитие и хотелось бы иметь семью, – попыталась я воззвать к здравому смыслу. Но Дмитрий был настойчив.
В общем, мы пошли в ЗАГС и расписались. У Мити имелся транзитный билет. А тогда существовал порядок – транзитным пассажирам не надо ждать, их сразу расписывали. Потом я проводила Митю на поезд и попросила по возвращении дать телеграмму на адрес подруги. Сообщить только номера поезда и вагона и время прибытия. Но за день перед тем меня попросили подежурить за диспетчера Николая Лагунова (его с язвой желудка увезла «скорая») на Сталинской дороге. Я попыталась отказаться, так как знала только Сталинградскую и Юго-Восточную дорогу. К тому же аргументировала отказ:
– Я должна завтра встретить мужа и его мать. И сегодня готовится приказ об откомандировании меня на Сталинград, по месту жительства мужа.
Начальник канцелярии чертыхнулся и пообещал, что все уладит. Работай, мол, смена в 20 часов начинается. А сам пошел в отдел кадров и попросил до завтра задержать приказ о моем переводе. Задержали.
Утром, когда я сменилась, меня шатало от усталости. А мне уже соседка Шура Полякова позвонила:
– Приехал твой Митя с матерью. Там такая мадам. Все осмотрела, постель твою прощупала. Увидела Володькину фотографию над койкой. Спросила: кто это? Я сказала, что это родственник. А стерва Анька вылезла со своим языком: «Какой родственник. То ж ее друг с войны».
Иду я и переживаю: чем гостей кормить? А возле общежития стихийный базарчик был. Подхожу и вижу мать знакомого машиниста.
– Ты чего такая смурная? – спрашивает.
– Да, с дежурства. Ночь диспетчерила. А сейчас утопиться впору.
И рассказываю про новоиспеченных мужа и свекровь, про то, что потчевать их нечем.
– Как есть нечего? – удивилась женщина. – А ну-ка, держи торбу.
И насыпает в нее молодой картошки.
– Настя, у тебя осталось кислое молоко? – кричит товарке.
– Осталось. И даже с вершком, – отвечает та и наливает мне банку кислого молока, густого, как ряженка. Я до сих пор люблю картошку, политую кефиром или ряженкой. Женщины позвали еще одну знакомую, попросили сальца отрезать: до нее, мол, свекруха приехала.
– А что же она приехала без ничего? – удивилась торговка. – Так я дам еще творожку.
Я как во сне смотрела на все.
– Хватит, – говорю. – Я же не побирушка какая. А заплатить нечем – грошей нема.
– Розочка, что ты стесняешься? Что я, последнее отдаю? Что, у меня картошки в огороде нет?
Пришла я с торбой, потихоньку картошку высыпала в тазик. Выложила сало. Анька его порезала, вытащила у каждого по кусочку хлеба, почистила картошку, поставила варить на плитку.
Творожок ряженкой полила. Чайник закипятила. Я умылась. И тут идет мне навстречу приятная пожилая женщина. Я ей сразу, не задумываясь, говорю:
– Здравствуйте, мама!
– Здравствуй, дочка!
Глава 23 Время утрат
Я уже говорила, что старший брат Леонид был женат дважды. Он вообще очень нравился женщинам, такой красивый и обходительный, как лорд. А глаза у него, как у Груни, были серо-голубого цвета. Белла мне рассказывала, как однажды устроила встречу Лени с первой женой Кноповой. Они где-то с ней встретились. Белла взяла три билета в театр в ложу и позвала Леню. Он приехал, принес цветы сестре, но, увидев бывшую жену, сначала растерялся, потом расцеловал ее и вручил букет ей. В театре он нежно ухаживал за обеими, а потом вызвал машину и развез их по домам. Леня.
Видимо, даже будучи тяжело больным, Леонид продолжал оказывать на женщин магическое действие. Сестра моего мужа Софья, приехав как-то в Москву и договорившись о встрече, чтобы передать приветы родных, просто влюбилась в него, когда увидела элегантного мужчину с букетом белых роз.
– Мама, и почему же мне не встретился такой мужчина? – риторически вопрошала она, пересказывая впечатления своей матери – моей свекрови. На что та отвечала:
– Какая разница, что тот еврей, что этот – еврей.
Это она имела в виду мужа Сони, который тоже был евреем.
Второй встречи не случилось. Софью вызвали в Главк, предложили направление в Братск. И уже в Москве она узнала, что мой брат Леонид умер и что церемония прощания с ним проходит в Доме Советской армии. Взяв такси, золовка поехала в Дом Советской армии. Рассказывала нам потом:
– Там столько военных высокого ранга было, генералы. А я так громко плакала, что его жена Маруська оглянулась: кто же там так рыдает?
Умирал Леонид в госпитале имени Бурденко. Последствия войны оказались несовместимыми с жизнью. В 1955 году его, хорошо владевшего польским языком и работавшего в польском посольстве, направили в Польшу, где формировался Варшавский договор. Лететь предстояло самолетом. Лечащий врач ужаснулся:
– Какой самолет?! Вам по лестнице на второй этаж нельзя подниматься.
Но приказ есть приказ. И Леня полетел в Варшаву. Но уже в самолете над столицей Польши у него случился обширный инфаркт. Поездом его доставили в Смоленск в клинику в тяжелейшем состоянии. А потом перевезли в Москву в отдельном вагоне и положили в госпиталь имени Бурденко, где Леонид провел последние дни. Ухаживала за ним до последнего сестра Галина, которую он всегда опекал.
Сегодня вместе с Леней на Ваганьковском кладбище на участке № 42 покоится прах его жены и обеих дочерей: Галины – кандидата филологических наук, автора монографий по немецкой литературе и старинным германским диалектам, и Веры – преподавателя английского языка. Обе дочери умерли в довольно молодом возрасте и при очень трагических обстоятельствах.
А еще в той же ограде покоится и прах моего самого любимого брата – Исая. Он ушел из жизни через два года после Лени в том же госпитале имени Бурденко.
После войны Исай остался в рядах Советской армии. Последствия войны и тяжелого ранения настигли его уже в 1957 году. Брат служил в Арташате (Армения), командовал полком в звании подполковника. На каких-то полевых учениях ему стало плохо – потерял сознание. В Тбилисском госпитале, куда доставили Исая (Арташат входил в Тбилисский военный округ), ему откровенно сказали:
– Вам надо только в Москву. Мы ничего не можем сделать. Уже поздно.
Прежде чем отправиться в Москву, брат надел все свои награды и пошел к командующему округом, просить, чтобы жене дали квартиру за пределами округа. Ведь у него оставалась семья: жена Рита и двое детей, Вовка и Ленка. А квартира у них была в Арташате. До отъезда в Москву оставалось два дня. В приемной командующего округом попросил доложить, что подполковник Эпштейн просит принять по личному вопросу. Ординарец категорически отказался. Исай помнил, что такая же фамилия, как у командующего округом, была и у его комдива. И он настойчиво продолжал просить: «Доложи!» Когда же ординарец не выдержал и зашел в кабинет командующего, то через секунду вылетел пулей: «Проходите, товарищ подполковник!» А в кабинете навстречу Исаю из-за стола поднялся его бывший командир, тот самый, что тоже любил нарзан, со словами:
– Узнаю боевого офицера, который берет города!
В Москве Исая положили в тот же самый госпиталь имени Бурденко, где два года назад умер брат Леонид. И даже на тот же этаж. Узнав о тяжелой болезни брата, я примчалась в Москву, бросив троих малолетних детей на бабушку-няньку. Увидев меня, брат спросил:
– Ты приехала со мной проститься?
– Санька, ты с ума сошел? Я повидаться приехала.
Я ухаживала за Исаем почти месяц. Академик Тихомиров, который его оперировал, на вопрос: сколько еще осталось жить моему брату ответил честно:
– Это рак, а я не Бог.
Мне почему-то запомнилось, как Тихомиров, заходя в палату, говорил Исаю:
– Здорово, солдат!
Тогда я удивлялась: почему солдат, если он подполковник? И лишь спустя много лет поняла…
Ухаживая за братом, читая ему журналы и книги, оберегая его сон, я вспоминала, как часто Санька помогал мне в самых невероятных ситуациях. Думала, какой же он добрый, умный, заботливый. Как всегда чувствовал мое настроение и проникался моими переживаниями. Мы очень дружили.
В памяти всплыл такой эпизод. Дело было в Лозовой в ноябре 1944 года. Ночью к моей квартирной хозяйке постучали: «Открывай. Казаки пришли!» Постояльцы расстелили бурки и стали водку пить. А утром я обнаружила, что пропали мои ботики. На работу надо бежать, а не в чем – хоть босиком иди. Я – в крик и слезы: куда делись ботики?! Хоть тряпки какие навязывай. Соседка хозяйки, добрая женщина, предложила:
– Роз, у меня на подловке немецкие чоботы из дерева валяются.
Дала мне эти чоботы, тряпки, чтоб обмотать ноги, и щепку острую:
– Глину очищай, а то не поднимешь ноги.
Вот интересно. Хожу я по своему отделению, стучу своими деревянными башмаками – никто не обращает внимания. В тот же день я написала Сашке о том, что осталась босая. А их часть стояла где-то недалеко. И через три дня он прислал 800 рублей. Я бегом на рынок. Купила такие же ботики, только новенькие. А хозяйка достала из своего сундука хорошие поярковые носки шерстяные и отдала мне:
– На, дивчина, тебе теплее будет, а то ж як на мороз в резинке?
Еще один эпизод вспоминаю до сих пор, потому что очень красноречиво он говорит о характере любимого брата. В 1945 году я написала Исаю в письме: «Санечка! Всем присылают посылки из Германии. А ты почему нам с Груней ничего не пришлешь?»
Исай ответил: «Розочка, хочу, чтобы ты поняла. Чтобы собрать тебе посылку, я должен зайти в чужой дом, выставить из него хозяйку-немку, взломать ее сундуки и начать рыться в ее барахле. Ты можешь представить, чтобы я этим занимался?»
И вдруг через какое-то время приходит посылка, аж на двадцать два килограмма. Это Петька, ординарец, узнал о нашей просьбе и собрал. В посылке оказался какой-то тонкий и очень рыхлый белый шелк в полоску. Мы с Груней пошили из него платья. А они после первой же стирки сели настолько, что лишь малому ребенку впору.
Я уехала из Москвы, когда закончился отпуск, а на смену мне в госпиталь приехала жена Исая Рита с обоими детьми. И я увезла с собой в Волжский десятилетнего племянника, потому что мальчику нужно было учиться в школе. Вскоре Исай умер. Его также похоронили на Ваганьковском кладбище, на участке брата Леонида, потому что Рита очень просила об этом, а вдова Лени Маруся не возражала. А вскоре Рита прислала мне письмо, в котором писала: «Мне Володьку назад не присылайте. Я не смогу одна вырастить двоих детей». Муж мой Дмитрий Иванович, узнав об этом, постановил:
– Ребенок – не футбольный мяч. Не смейте мальчику рвать душу. Это сын Исая.
Так и остался племянник Вовка в нашей семье четвертым ребенком. Закончил школу, отслужил в армии, получил профессию газорезчика-газосварщика и 30 лет отработал на Волжском трубном заводе. Очень гордился знаком «Ударник 12-й пятилетки». Работает и по сей день. Только фамилия у него не отцовская, а жены – Жуковский. Дочь Исая, Елена, пианист-аккомпаниатор, живет в Израиле. Семьи и детей у Елены нет. Она, разъезжая по всему миру в качестве аккомпаниатора, как-то обнаружила в Австрии замок Эпштейнов. И кто-то ей сказал, что если предъявит в качестве доказательства фотографию отца, сделанную в годы войны в Вене, то ей дадут право на приставку «фон» к фамилии Эпштейн. И сейчас Елена озабочена поисками фотографии отца, сделанной в Вене на фоне памятника императрице Марии-Терезии. Приезжала даже в Волжский, но, перерыв все в моей квартире, фото не нашла. Снимок обнаружился недавно случайно, когда я сняла со стены портрет брата Леонида. А на обратной стороне увидела фото широко улыбающегося стройного парня с орденами на груди, того самого Сани-Исая, который прошел пол-Европы и так неистово любил жизнь!
Отец наш пережил старших своих сыновей. Сестра Галина с мужем по пути в Чехословакию заезжала в Тальное проведать его. Отец уже старенький был и все продолжал воевать. Недалеко от дома Анны Антоновны находилось ремесленное училище. И дед Соломон, как его там называли, сидя возле хаты, наблюдал за идущими на занятия и с занятий ремесленниками. Они его знали, здоровались. И вот заметил отец, что ребят шатает от голода. Спросил:
– Хлопчики, а что вы такие заморенные?
– Учимся, дедушка.
– А чем вас кормят?
– Пайку хлеба давали, супчику.
– А еще?
– Больше ничего.
Пошел тогда дед Соломон к секретарю горкома Кольке и с порога ему:
– Вы гроши отпускаете на ремесленное училище? А ты знаешь, что дети голодают? Кто-то себе их пайку забирает.
В общем, поручил ему секретарь возглавить общественную комиссию по проверке питания ремесленников. Выявила та проверка, что детей и впрямь обворовывали. Наказали виновных. Кормить стали лучше, и ребята повеселели. С дедом Соломоном уважительно здоровались.
Эту историю подробно описала в письме Анна Антоновна уже после смерти отца. Письмо это на шести листах, пронизанное теплом и любовью, я много раз перечитывала и плакала. В благодарность за заботу об отце мы не оставляли вниманием добрую женщину. Каждую осень сестра Галина посылала ей деньги на покупку угля.
С Бертой Абрамовной у нас тоже сохранились добрые отношения. Она, уже в преклонном возрасте, даже заезжала ко мне в Волжский. До конца своей жизни Берта продолжала любить моего отца и не могла простить, что тот и не вспоминал о ней после ее ухода. Впрочем, кто знает, какую из жен чаще вспоминал наш отец в 79 лет, готовясь к уходу в мир иной? И верил ли он, старый большевик, в этот иной мир?
С Зиновием Эпштейном, моим кузеном, последний раз я виделась, когда приезжала в Вильнюс в командировку. Остановилась тогда в дорогой гостинице «Дзинтарис» и разыскала через военного коменданта Зиновия Соломоновича Эпштейна. Его приемный сын Димка к тому времени жил отдельно с женой и дочкой Ларочкой. Как же Зиновий обожал эту Ларочку! Он уже был в отставке, не работал. Утром отводил внучку в садик, а вечером заезжал за ней на машине. Они с Маней на Ларочку просто молились. Соседи возмущались:
– Полковник сидит, чинит ботиночки Ларочке. Не доверяет, чтобы в мастерской подбили?
В той командировке я и узнала поближе их семью. А вскоре Маня умерла. И Зиновий остался один. И вот как-то получаю я из Вильнюса письмо: «Розочка, приезжай, помоги мне. Димка живет отдельно. Жена его беременная. Ларочка бывает у меня редко. Может, ты мне чем-нибудь поможешь. Не материально, конечно. Я одинокий».
Прочитав это, я написала письмо в Сталино сестрам Зиновия.
«В самое трудное время войны он вас содержал, маме вашей помогал. Так неужели сейчас вы не поможете брату? Как вам не стыдно? Он просит о помощи меня, мать троих детей, а с племянником Вовкой у меня их четверо».
Это письмо отнес сестрам Зиновия Борис. И медсестра поехала в Вильнюс. При ней он умер через месяц от инфаркта. Быстро, не мучился. Это мне Борька написал.
У Беллы продолжение было такое. Скандалы в семье участились. Но, что удивительно, в такой невыносимой обстановке выросла дочь Анатолия и Беллы – феноменально умная девочка Юля. Она окончила школу с золотой медалью, затем медицинский институт – с красным дипломом. В совершенстве овладела английским языком – заслуга отца. Защитила кандидатскую, докторскую диссертации в области генетики. Как ученый с именем, ездит по всему миру, ее приглашают читать лекции в медицинских вузах США.
Со временем скандалы стали невыносимыми для Беллы, Анатолий начал поднимать руку на жену. И она ушла от него. Получила комнату на себя и Юлю. А потом встретила человека, с которым связала свою дальнейшую судьбу. Иван был тоже фронтовиком, работал начальником планового отдела Метростроя. Воспитывал сына Михаила. Комнаты Ивана и Беллы они обменяли на хорошую квартиру. В новой семье Белла словно оттаяла, стала душевней. С приемным сыном у нее отношения наладились сразу. Я отметила это, побывав однажды в гостях в новой квартире сестры. Мишка в тот раз жаловался на предвзятое отношение к нему учительницы литературы. А Белла пояснила мне:
– Это он меня готовит к следующему родительскому собранию. Что на него будут жаловаться.
Она очень тепло относилась к Михаилу. Помогала ему в учебе в школе, а потом и в институте. Выйдя на пенсию, пошла работать в жилищное хозяйство. Как главный инженер ЖЭУ, вела приемы по личным вопросам. И люди очень ее уважали за то, что, пообещав им решить вопрос, всегда доводила дело до конца. Но в личной жизни все складывалось не самым удачным образом. Умер муж Иван, и опять Белла осталась одна.
Но недолго. Ее сосед по подъезду, тоже вдовец, Григорий стал наведывать Беллу, а потом предложил сойтись и доживать век вместе в ее квартире, поскольку сам жил с детьми. Так и сделали. Григорий прописался в квартиру новой жены, а когда Белла скоропостижно скончалась, стал полноправным хозяином в ее квартире.
Дочь Беллы, Юлия Анатольевна, унаследовав интеллект и ум отца и увлеченность делом от матери, передала эти качества своему сыну Арсену. Только внук Беллы носит фамилию уже своего отца – Ревазов.
У Гальки я бывала часто. Всегда останавливалась у этой сестры, приезжая в Москву, потому что она жила ближе к московскому институту «Резинопроект», куда меня направляли в командировки. В ее квартире очень красиво было. Горка с хрустальной посудой, пианино, телевизор. Большое кресло, большой диван. Ковер во весь пол. И все в тон. В другой комнате – кровать, столик и рабочий стол Анатолия, заваленный бумагами. Он не разрешал ничего на нем трогать.
Когда Галя вышла замуж за Анатолия, у него было двое детей. Сын Юра учился в десятом классе, дочка Нелли – в девятом. Она мне признавалась:
– Я Галю не воспринимаю.
Дети особых проблем не создавали, учились хорошо: Юра окончил школу с серебряной медалью, а Нелли – с золотой.
После окончания юридического института Галина устроилась на какой-то машиностроительный завод начальником юридического бюро и проработала там 35 лет. Она очень хорошо выглядела, так как следила за собой. Поэтому, когда директору завода подали список пенсионеров, он удивился: а Эпштейн тут при чем? Ему говорят:
– Она с двадцатого года, и ей пора на пенсию.
На заводе ее звали Галина Семеновна. Это Анатолий ей поменял имя и отчество в паспорте.
Когда приходило время возвращаться в Волжский, Анатолий надо мной шутил:
– Ты шкаф и диван не везешь с собой?
– Везу, – говорю. – У нас же ничего нет.
Действительно, в то время мы из Москвы везли все: колбасу, сыры, мясо, кексы, консервы, апельсины, конфеты, сервизы. Посылки на почте больше восьми килограммов не принимали. Поэтому, помню, прихожу в магазин и прошу:
– Дочка, взвесь мне всяких консервов не больше восьми килограммов.
Продавщица удивляется:
– Кто это вам консервы взвешивать будет?
– Дочка, я из Сталинграда, а у нас этого нет. Поэтому прикинь на весах, чтобы посылку на почте приняли.
Наберу полные сумки, а Анатолий мне не помощник – у него одного плеча не было и рука висела на сухожилиях. Так Юра, его сын, тут как тут:
– Теть Роз, когда поедешь, скажешь – отвезу.
Анатолий умер за шесть лет до кончины Галины. Моя дочь досматривала тетку.
Запомнилось мне, какая Галька экономная была. Готовила она не очень. Однажды после спектакля, когда ужинали, спросила про какое-то блюдо:
– Понравилось тебе?
Я ей по-еврейски отвечаю:
– Пусть большего горя у меня не будет.
В другой раз я перед отъездом домой приготовила курицу с черносливом. Беллкина дочь Юля заехала. Едим курицу, Юля нахваливает. Не успела я приехать домой, телефонный звонок. Звонит Галя:
– Розочка, ты как делала курицу с черносливом?
Стала ей по телефону рассказывать. Через десять минут опять звонок:
– Розочка, а томатную пасту когда класть?
Опять рассказываю. А Николай Иванович, мой второй муж, страшный матерщинник, удивляется:
– Что она тебе е…т мозги? Курицу не может приготовить?
Наверное, ее это не очень интересовало. Хотя, когда Галина умерла, пришлось выносить на мусорку огромные запасы крупы, потому что в ней шашеля было полно. Видно, нищеты Галя всегда боялась больше, чем одиночества.
Брат Борис доживал свои дни в одиночестве. Первое время после ухода от жены, которой он оставил свою комнату, снимал угол у хозяйки.
На наши вопросы, как живет, отвечал в письмах: «Живу хорошо, у хорошей хозяйки, там тепло». И вот как-то Галька приехала в Донецк (с 1961 года так Сталино уже назывался) к подружке Нинке Мхеидзе. Они все время переписывались, на курорты вместе ездили. И решила посмотреть, как братец живет.
Когда они с Нинкой пришли, Борьки не было дома. Посмотрели: кровать его за печкой. Застелена идеально – он аккуратист у нас. Нашел прачечную, где постельное белье стирали, крахмалили. А рядом с кроватью стоит помойное ведро. За эту кровать брат платил пять рублей в месяц. Галька спрашивает хозяйку:
– А вы в комнату не хотите его переселить?
– Пусть платит двадцать рублей в месяц и живет в комнате, – отвечает хозяйка.
Галька вытаскивает двадцать рублей, и Нинка достает сорок рублей.
– Вот вам за три месяца, – говорит сестра. – И, давайте, я вам буду каждый месяц присылать по двадцать рублей.
Хозяйка переселила Бориса, но потом они в чем-то не поладили, и он опять вернулся за печку. Мхеидзе пришла его проведать и видит: его кровать снова за печкой. Ну, Нинка Гальке написала, а та – мне. И вот сижу я как-то на работе, думаю про Борьку, и так обидно и горько стало за него. И родился-то рахитичный, и задницу в младенчестве сжег. И перепуганный. И речь терял. На память пришел еще один случай. Мы, как все дети, любили варенье. И вот, как родители гостей проводят, мы варенье из баночек скорей-скорей подъедаем. Так было и в этот раз. На столе остались две баночки. В одной баночке было черничное варенье, я из нее пару ложек съела. А Борька схватил банку с малиновым и навернул из нее от души. Я как увидела, испугалась:
– Ты ж полбанки варенья сожрал!
Видно, он объелся, и вечером ему стало плохо. Лег на диван, стонет:
– Ой, Роза, мне так плохо!
Я его предупредила:
– Смотри: скажешь, что мы ели варенье, я тебя удавлю.
Когда Рая пришла из института, я ей сказала, что Борьке плохо.
– Что случилось, Боря? Что ты ел? – спрашивает сестра.
– Ел, что и все, – отвечает брат, – только еще малинового варенья три ложки съел.
Рая напоила его крепким чаем без сахара, он два или три стакана выпил и начал оживать, сказал, что получше стало и что пойдет во двор.
– Не ходи, упадешь, – предупредила Рая.
Так и вышло. Дошел Боря до ступенек и упал.
Рая перенесла его опять на диван. Говорит:
– Не вставай, иначе расшибешься так, что в больницу попадешь.
А для него слово «больница» было самым страшным. Отлежался Борька. Я его по-своему предупредила:
– Еще увижу, что в варенье ложкой лезешь, прибью!
Сижу вот так, вспоминаю, чуть не плачу. Дмитрий Иванович, муж мой, тоже Бориса жалел. Он вообще к фронтовикам относился с глубочайшим уважением. Как-то позвонил мне и спросил Борькин адрес. Я подумала, может, кто в Донецк едет, и продиктовала. А дома муж мне сообщил:
– Я сегодня Борьке сто рублей послал.
– Ты что, зарплату уже получил? – удивилась я, поскольку дни аванса и зарплаты, как все жены, помнила.
– Нет, я смету одной организации составил. Они наличными заплатили. Вот я и подумал: нашей семье, сколько ни принеси, все мало будет. Поэтому решил Борьке послать – может, он себе что купит.
И приятно мне было от такого поступка мужа, и денег жалко. У меня на них свои планы нашлись бы.
Повспоминала я так, погоревала о Борькиной судьбе. А потом взяла и одним махом написала письмо председателю Совнархоза города Донецка. «В вашем городе, в вашей системе работает вахтером Эпштейн Борис Соломонович. Наш отец Соломон Борисович был первым председателем горжилсоюза вашего города (тогда Юзовки) в 20-х годах, член партии с 18 года. Семья не вернулась в город, потому что дом по улице Красноармейская, 80 в войну разбомбили. Брат Борис с фронта вернулся инвалидом войны, руки-ноги перебиты, поэтому не мог найти себе другой работы, кроме вахтера. Зарплата у него маленькая. На нее он не может снять комнату, живет у хозяйки за печкой. За кровать платит по пять рублей в месяц. Прошу, если найдете возможность, поселите его в комнату, где бы помещались стол, стул и койка. Больше он ни на что не претендует». Письмо это я послала в апреле. А в мае получаю ответ: «Уважаемая Роза Соломоновна! С удовольствием сообщаем, что вашему брату выделена комната 16 квадратных метров, и он уже заселился». Я, конечно, тут же дала телеграмму в Донецк с благодарностью за проявленную чуткость.
А вскоре я со своей больной спиной получила путевку в Славянский санаторий на грязи. После Славянска я приехала к Борьке. Комната светлая, паркетный пол – чистота стерильная. Квартира на три семьи. Брат мне посетовал на своих соседей:
– Понимаешь, Розочка, у них нет культуры. Я в кухне хожу в одних тапочках, а в комнате – в других. А они всюду в одних и тех же.
– Боря, но у меня тоже одни тапочки, в которых хожу по всей квартире, – отвечаю.
– А еще соседи инженеры, но у них всегда не хватает денег. Ко мне приходят занимать пять рублей до получки.
– Бывает, Боря, – говорю. – Когда нет денег, и пятерке рады.
Борька аккуратистом был до болезненности. В то время в Донецке жила наша двоюродная сестра Марьяня, она потом в Израиль уехала. У нее росли три девочки, одна краше другой и талантливей. Раньше они нищие были. Говорят, если и остались живы, то только благодаря тете Соне, то есть нашей маме. Она приносила то пшена, то картошки, то деньжонок даст. Поэтому и Марьяна стала заботиться о Боре, девчонок посылать, что-нибудь передать.
А у Бориса был патефон, и он собирал пластинки старых исполнителей. Бархоткой их протирает и жалуется мне:
– Эти дети Марьянькины пришли и залапали мне все пластинки. Я после них два дня оттирал.
– Боря, нельзя так к людям относиться, – говорю. В общем, прочесала я его.
Второй раз я посетила брата, когда ему дали однокомнатную квартиру. Властям понадобилась большая трехкомнатная, где он жил с соседями, и их расселили. Сестры помогли обставить новую квартиру. Галька прислала Нинке денег. И та купила в комиссионке шифоньер приличный, диван большой, гобелен к кровати и портьеры. Кровать Боря свою перевез еще от хозяйки. Беллка тоже какую-то сумму дала на мебель. Нинка выпросила у кого-то кресло-качалку, еще купила холодильник подержанный. Когда я приехала, то обратила внимание, что на холодильнике стоит телефонный аппарат. Спросила:
– Он работает?
– Сволочи! – закипятился Борис. – Я заплатил двадцать пять рублей. Пришел мастер, подсоединил все, номер дал, сказал: подключат станцию и вам позвонят. И не звонят уже три месяца. Я трубку поднимаю – тихо.
Захожу в ванную комнату и вижу: под ванной лежит толстый мешок, весь мокрый.
Спрашиваю:
– Боря, это что такое?
– А это ванна протекает. Я сантехников вызывал, а они сказали, что чугунные трубы не могут варить, когда я дома. Надо взять отпуск и уехать на несколько дней, чтобы они смогли работать.
И вот Боря наш каждое утро начинал с выжимания этого мешка, а потом на улице вывешивал его сушить.
Выслушала я это все и пошла к Марьяне, она тогда работала администратором в гостинице, а потому знала все телефоны. Первым делом я попросила ее соединить меня с начальником узла связи. Когда трубку на том конце подняли, представилась:
– Вас беспокоит Лазутина Роза Соломоновна, городской комитет народного контроля Волжского. Я приехала навестить брата. Он инвалид войны. Ему провели телефон и не подключают уже несколько месяцев, хотя номер дали.
– Такого быть не может, – не поверил мой собеседник. – Сейчас проверим.
Убедившись, что я не лгу, сообщил:
– Минуту. Сейчас включим.
И через минуту Марьянька мне Борькин номер набирает. Он так удивился:
– Оказывается, твой комитет народного контроля на весь Советский Союз действует!
Потом я дозвонилась до начальника ЖЭУ. Я опять представилась как представитель комитета народного контроля города Волжского и с места в карьер:
– Почему инвалиду войны, чтобы трубу заварить, надо отпуск внеплановый брать?
Начальником ЖЭУ баба оказалась. Она на меня наехала:
– Что за глупости мне говорите? Город Волжский при чем?
– Это мой родной брат инвалид войны. И я приехала к нему из Славинска, где лечилась на грязях.
– Как ваша фамилия?
– Лазутина Роза Соломоновна.
– Вас не долечили в Славинске, Роза Соломоновна.
– Давайте договоримся: не хамить. Но если сегодня ваши сантехники не устранят течь, то завтра градоначальник будет знать об этом.
Такой вот диалог у нас состоялся. А уже через час звонит Марьяньке Борька и жалуется:
– Розка позорит меня на весь город. Пришли сантехники, трубу заварили, но предупредили: еще раз пожалуешься, мы придем и все тебе тут разберем.
Марьяня его одернула:
– Ты лучше скажи Розе спасибо.
Борька в тот мой приезд выглядел очень плохо – худой, бледный. Разобравшись с первыми двумя проблемами, спрашиваю:
– Что с тобой?
– Да у меня грыжа была. Операцию сделали, но после нее все болит. Ночами не сплю. Я врачу говорил. А он перевязку велел сделать и сказал: до свадьбы заживет.
Я опять – к Марьяньке. А она мне говорит:
– Помнишь Нину Скаткову, с которой ты училась? Она сейчас главврач госпиталя.
Я позвонила Нине. Та обрадовалась. И велела назавтра к девяти утра привезти в госпиталь Борьку.
В общем, в госпитале брата разрезали и вытащили из живота целый клубок ниток. Нитки промыли, завернули в пакет. И Скаткова велела Боре швырнуть этот клубок в морду тому, кто оперировал ему грыжу. Когда мы возвращались из госпиталя на такси, брат притих, весь сжался, а потом вдруг заявляет:
– Твоя Нина хулиганка. И как держат таких на должности главврача? Как можно советовать бросить нитки в лицо?!
В эту ночь Борька наконец спал как убитый. Об этом мне Марьянька сообщила по телефону в Волжский. Я ее тогда попросила:
– Скажи ему, что он шлемазл. Это по-еврейски «невезучий».
– Он и сам это знает, – ответила Марьянька. – Надо ж было, чтоб ты приехала на два дня и решила все его проблемы.
Борька был честняга из честняг. И порядочный до крайности. Он так и прожил до конца жизни один. Как-то я увидела в одном журнале адрес еврейской общины в Донецке и написала туда, попросила навещать брата. А потом Нина Мхеидзе нашла русскую семью, которая за ним очень хорошо ухаживала. Им он и оставил свою квартиру. Умер Борис в 84 года.
Заключение Осталась только Роза
Сегодня из всех детей Соломона Эпштейна осталась только я. В моей жизни хватало всего: и горя, и радости, и любви, и ненависти. Я благодарна судьбе за то, что встретила на жизненном пути замечательного человека, отца моих детей Дмитрия Ивановича Лазутина. Я не жалею о том, что родила и вырастила троих детей, хотя достатка в семье никогда не было. Впрочем, иначе и быть не могло. Белла, помню, меня порой ругала:
– Какого черта ты нарожала троих?
На что я ей отвечала:
– Беллка, а из какого я семени? У кого в наших краях было меньше четырех детей? Мне б твой достаток, я бы еще пятерых родила.
И действительно, Донецкий край хоть и шахтерский, а нищий был в то время. В магазинах ничего не достать. Люди одевались бедно, питались плохо. Но жены шахтеров в большинстве своем не работали, и детей у всех было много. Батька мой всегда шутил:
– Чи у них гасло не хватае? Воны ж с шахты угля везут, скильки хочешь. Шо ж они клепают детей?
Это я как-то в командировку на линии ездила, еще когда в Харькове на железной дороге работала, поезд сопровождала. И по селектору на станцию передали: вы там Розу покормите, а то она голодная поехала.
Путейские казармы всегда по-над рельсами стояли. Нашла меня «путейская» на тормозной площадке:
– Ты Роза? Я там картошки отварила. Иди, пока горячая, погодую.
– А с чего ты меня будешь годувати? – спрашиваю.
– Дежурная велела.
Пришла я к ним в казарму. А у нее там шестеро детей и седьмым беременная. И страшная нищета. Спрашиваю:
– Куда ж ты клепаешь детей?
– Так гасло немае, а шо робить? Вот мы на печке и спим. Кожух постелим – а воны лезут и лезут.
Кроме своих детей довелось растить еще и племянника, сына Исая, и внучку. Трудно было, но ни о чем не жалею. Кому в то время жилось легко? Вот у золовки моей, сестры мужа Сони, вроде и достаток был в семье, а тоже жизнь не задалась.
Один сын трагически погиб, другой не удачно женился. Внук где-то в Америке, но связи с родственниками отца не поддерживает.
А вот по-настоящему жаль, что на мне и заканчивается фамилия Эпштейн. Есть, конечно, еще Елена Эпштейн, дочь Исая. Но и ей уже далеко за 50, то есть о кровных наследниках говорить не приходится. Что там фамилия – даже отчество в документах мои сестры поменяли. Галя стала Семеновной, а Груня – Самойловной. С этим связан даже такой казус. Когда внук Груни уехал в Израиль, а там для получения гражданства потребовалось подтверждение национальной принадлежности, оказалось, что даже бабушка Аграфена по документам белоруска. Меня же, так получилось с легкой руки начальника Лозовского отделения железной дороги, с 19 лет коллеги по работе звали уважительно по имени-отчеству – Розой Соломоновной. И национальности своей я никогда не скрывала, а даже гордилась принадлежностью к великому многострадальному и талантливому еврейскому народу. И еще всегда гордилась моей семьей – типичной советской семьей, члены которой свято верили в идеи и идеалы своего времени и служили им верой и правдой.
Фотографии
Отец – Соломон Борисович Эшптейн в последние годы жизни в городе Тайное
Мама – Софья Леонтьевна Эпштейн (урожденная Полякова) вскоре после замужества
На этом фото мне, Розалии Эпштейн, девять лет
Брат Исай и сестра Галя (Фекла) снялись на память в 1940 г.
Любимый брат Исай в 1944 г.
Мой брат Лев Соломонович Эпштейн (Леня) приехал в отпуск из Средней Азии, где сражался с басмачами
А это фото Леня сделал в августе 1944 г.
Лев Соломонович в звании майора с боевыми наградами
А так Леня выглядел в период дипломатической службы
Сестренка Раечка – студентка медицинского института
На обороте снимка надпись:
«Дорогим папе, Бэллочке. Фенечке, Юленьке фотоснимок, где я со своими фронтовыми друзьями.
Прошу хранить до моего приезда.
Целую крепко. Ваша Рая».
Фото сделано в Румынии незадолго до трагической гибели моей сестры (третья слева во втором ряду) – хирурга фронтового госпиталя Раисы Соломоновны Эпштейн
А здесь Раечка (посередине в первом ряду) со своими друзьями из конной разведки. Второй справа во втором ряду – ее фронтовой муж Герой Советского Союза Иван Зима
Здесь покоится прах моей дорогой сестренки Раечки.
Воинский мемориал в румынском городе Топлица (область Трансильвания)
Сестра Фекла – Галина Семеновна (по паспорту)
Здесь мне 19 лет. Такой я была, когда работала военным диспетчером на станции Лозовая и когда меня все уважительно звали по имени отчеству – Розой Соломоновной
Моя первая любовь Ледик.
Это фото я храню уже более семидесяти лет.
На обратной стороне надпись:
«Славной и милой, незаменимой в кругу дорогих друзей Розе, случайная встреча с которой останется в моей памяти как что-то светлое, радостное.
Буду надеяться, как и ты, Розик, что наша встреча не будет последней. До новой встречи, любимая девушка!
Ледик. 27/III-41 г. г. Сталино».
Мой любимый муж Дмитрий Иванович Лазутин (слева) в 1944 г.
Мой невезучий брат Борис прислал это фото из дома отдыха в 1969 г.




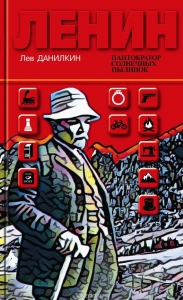
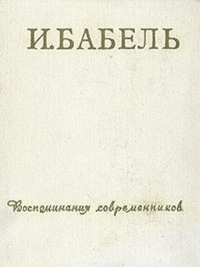

Комментарии к книге «Книга Розы», Роза Эпштейн
Всего 0 комментариев